Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2
Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2
Яна Анатольевна Седова
Книга посвящена одной из самых противоречивых фигур предреволюционной России – иеромонаху Илиодору (С.М.Труфанову), прошедшему путь от черносотенного идеолога до борца с монархическим строем. Опираясь на материалы шести российских архивов и дореволюционной периодической печати, автор восстанавливает биографию своего персонажа с точностью до отдельных дней, что позволяет разрушить сложившийся стереотип авантюриста и раскрывает Илиодора как личность, пережившую духовную катастрофу. Книга адресована историкам, преподавателям и всем, интересующимся русской историей.
Яна Седова
Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2
1911
Накануне битвы
Уход губернатора отнюдь не означал окончания борьбы светской и духовной власти в Саратове. Напротив, по словам еп. Гермогена, на прощание гр.Татищев завещал сослуживцам и преемникам продолжать бороться с преосвященным. Теперь руководство этим фронтом перешло ко второму из «озорных молодых людей» – вице-губернатору П.М. Боярскому, который, по мнению преосв. Гермогена, как раз и подстрекал гр. Татищева к борьбе с архиереем.
Уже первые шаги Боярского как управляющего губернией показали, что он еще менее настроен церемониться с преосвященным, чем уехавший «доить коров» губернатор.
Предстояло совещание по поводу грядущего юбилея освобождения крестьян. Боярский прислал (10.I) еп. Гермогену приглашение в губернское правление. Обычная ведомственная переписка? Нет, владыка был уязвлен тем, что его, «пожилого епископа», вызвали, «как простого чиновника», и ответил отказом, прося Боярского, наоборот, пожаловать к нему.
Второй конфликт тех же дней попахивал анекдотом. На вакантное место священника в храме саратовского исправительного арестантского отделения гр. Татищев прочил одну кандидатуру, а преосвященный – другую. После ухода губернатора еп. Гермоген предложил его заместителю избрать любого саратовского священника. Боярский избрал и… сам же его и назначил собственной властью, о чем сообщил архиерею в следующих выражениях: «На основании 28 ст. Устава о сод. под стражей мною вместе с сим священник Серафимовской гор. Саратова церкви о. Константин Попов назначен священником Николаевской церкви при местном исправительном отделении как заявивший отказ от священнического места при Серафимовской церкви». Боярскому, вероятно, и в голову не пришло, что с канонической точки зрения это «мною назначен» – чудовищное вмешательство в прерогативы епископа. Гражданскую власть просили лишь указать кандидатуру, а не назначать ее самостоятельно.
Эти два случая убедили преосв. Гермогена, что вице-губернатор нарочно старается нанести ему оскорбление. «Боярский в своем озорстве дошел уже до вопиющей крайности», – писал владыка. Вспомнив свою сентябрьскую встречу со Столыпиным, еп. Гермоген обратился к нему за защитой. Изложив (20.I) историю своих недоразумений с гр.Татищевым, вылившуюся в обвинительный акт против бывшего губернатора, владыка сообщил о возмутивших его последних поступках Боярского.
«Вы видите, Петр Аркадьевич, как безо всякого с моей стороны повода светская власть в гор. Саратове в лице бывшего губернатора и нынешнего вице-губернатора намеренно и сознательно вовлекает архиерея в какую-то совершенно неприличную и соблазнительную борьбу ведомств, чтобы потом хотя бы с призрачным основанием говорить: саратовский архиерей не ужился с одним губернатором, теперь не уживается с его временным преемником, значит, он вообще неуживчивый человек».
Усматривая в деятельности обоих «озорных молодых людей» – губернаторов «строго продуманную систему», еп. Гермоген выражал опасение, что и преемник гр. Татищева будет придерживаться этой системы и искусственно разжигать конфликт.
Встревоженный этим письмом Столыпин признал, что «Боярский взял неправильный тон», и распорядился указать вице-губернатору на его ошибку. Тот оправдывался: назначил тюремного священника по предложению самого же епископа. Тогда Столыпин пояснил: «Форма сношения его с архиереем была бестактная».
Эту мысль министр развивал в беседе с новым саратовским губернатором – Стремоуховым, прося при сношениях с еп. Гермогеном соблюдать «все внешние формы». «Можно писать епископу все, что угодно, можно с ним воевать, но формы нужно соблюдать. Раз вы формы нарушите, то он всегда окажется в выигрышном положении. Вице-губернатор не сумел этого сделать, и я был вынужден поставить ему это на вид». К устной инструкции прилагалось процитированное выше письмо еп. Гермогена, которое Столыпин распорядился показать новому губернатору перед отъездом в Саратов.
Таким образом, ни о каком повороте политики в отношении преосв. Гермогена речи не шло. Заботясь о соблюдении внешних форм, Столыпин, по-видимому, не возражал против продолжения борьбы.
Государь смотрел на это дело иначе. Принимая Стремоухова, он дал ему следующие инструкции по поводу преосв. Гермогена: «Вас я тоже прошу быть помягче и всячески щадить в нем его высокий духовный сан; если он в чем-нибудь и погрешит, то это падает на него, но совершенно недопустима какая-то драка между губернатором и архиереем, на общую потеху всех врагов порядка». Под «дракой» Государь, очевидно, подразумевал известные недоразумения между еп. Гермогеном и гр. Татищевым.
Оба диалога, подробно изложенные в воспоминаниях Стремоухова, характерны по тому значению, который оба высокопоставленных собеседника придавали отношениям губернатора с саратовским архиереем. По милости незадачливого гр. Татищева бюрократический мир стал видеть в еп. Гермогене едва ли не самое главное затруднение для губернаторской деятельности в Саратове. Один из друзей Стремоухова так и сказал по поводу его нового назначения: «спасибо там с Гермогеном и Илиодором возиться». Такова была первая ассоциация со словом «Саратов».
Преосв. Гермоген считал нового губернатора своим политическим единомышленником, что отразила телеграмма, сохранившаяся в памяти Стремоухова в следующем виде: «Приветствую в вашем превосходительстве назначение к нам, в Саратов, русского человека. Да ниспошлет Господь благословение свое на ваши труды в борьбе с крамолой и жидами». Отсюда видно, что гр. Татищев в глазах преосвященного был отнюдь не «русский», по духу, конечно, а не по крови, губернатор.
Подивившись «избытку темперамента» архиерея, Стремоухов смиренно ответил ему: «Застав глубоко тронувшую меня телеграмму Вашего Преосвященства, принося искреннюю благодарность и поручая себя Вашим святым молитвам, прошу благословения на служение Царю и родине в Саратовской губернии совместно с Вами». Эту телеграмму торжественно процитировал «Братский листок», радуясь случаю опровергнуть весьма правдоподобные газетные указания о том, что Стремоухов принял назначение лишь под условием удаления еп. Гермогена.
За прощальным обедом, устроенным гр. Татищеву в коммерческом собрании, последовал десятилетний юбилей архиерейской хиротонии еп. Гермогена. Фельетонист «Саратовского листка» усмотрел в этом совпадении демонстрацию, предположив, что второе празднование устроено назло первому, как будто дату произошедшего десять лет назад события можно было подогнать к текущему моменту.
Царицынские духовенство и паства заблаговременно подготовили подарок. Собрали деньги и командировали в Москву купца П.И.Чернова для приобретения панагии. Повезла эту панагию в Саратов делегация из трех лиц – о. Илиодор, прот. Каверзнев и тот же Чернов.
14.I.1911 после богослужения в саратовском кафедральном соборе о. Илиодор обратился к преосвященному с речью. Проповедник сравнил бесстрашного обличителя интеллигенции еп. Гермогена с пророками Елисеем и Исаией, а затем с обличавшим самого Царя митр. Филиппом. Правда, оговорился о. Илиодор, «ныне Помазанник Божий не гонит святителей», но его «опричники нагайками пролили невинную кровь православных при дверях храма царицынского». Еп. Гермоген заступился за свою паству и с тех пор неуклонно отстаивал ее интересы перед светской властью. «Покрывая своей мантией весь православный люд, он, владыка, тем спасает его от всех бед и напастей, и о мантию его притупились шашки и копыта». Ныне духовная власть наконец восторжествовала над светской, и о. Илиодору оставалось лишь пожелать юбиляру «бодрости духа и неустрашимости ни перед кем в правом деле защиты православной церкви и искоренении крамолы».
На следующий день о. Илиодор посетил окружной суд, где беседовал с прокурором по «очень большому делу», к нему, однако, не относящемуся.
16.I в зале местного музыкального училища состоялась традиционная религиозно-нравственная беседа. Присутствовали еп. Досифей и около 1500 слушателей. Вторым оратором выступил о. Илиодор. Он обличал православных людей, не почитающих святыни и священников, и обосновывал свое право как проповедника свободно говорить об этом.
Речь перекликалась с недавними царицынскими выступлениями о. Илиодора. Он вновь посетовал на неправедных судей, не преминув изложить свой проект их повешения на их же цепях: "Это, может быть, жестоко, но справедливо". Снова рассказал об известных ему по письмам мошенничествах царицынского купечества.
К этим старым темам прибавились новые, саратовские, впечатления – посещение окружного суда и последнее недоразумение между епископом и Боярским, причем о. Илиодор со свойственным ему грубым юмором заметил: «Ну, где это слыхано, чтобы губернаторы назначали священников. Остается только епископу Гермогену назначать околоточных и приставов, а на губернатора надеть мою или Гермогена ряску. Какое бы было чучело. (Общий смех)».
Как и прежде, о. Илиодор не удержался от похвальбы по поводу своей победы над влиятельными лицами. «Представитель здешней власти говорил: "я или он", и вот этот "я" ушел, а "он" остался. Гласные царицынской думы говорили – живы не будем, а Илиодора из Царицына выживем. Но вот, слава Богу, и гласные живы, и Илиодор в Царицыне. Богачи говорили – миллиона не пожалеем, а Илиодора из Царицына уберем. Не знаю, пожалели ли они миллион, но я в Царицыне, хотя я знаю, что мошной своей они тряхнули».
Из Саратова о. Илиодор отправился в столицу, чтобы продолжить свое расследование по делу о Казанской иконе. До отъезда у него произошел важный разговор с преосв. Гермогеном. Передавая о. Илиодору для Императрицы святыни, гомеопатические лекарства и письмо, преосвященный сообщил своему протеже последние придворные сплетни о Григории, самого грязного свойства. «Владыка! Да почему это оне так делают?» – изумился о. Илиодор. Собеседник объяснил дело «хлыстовской штукой».
Под этим впечатлением о. Илиодор отбыл в Петербург, где произошли такие события, что стало уже не до проступков Григория.
Саратовские речи о. Илиодора дали его врагам новое оружие против него.
Осмеянный иеромонахом Боярский аккуратно проверил полученные от полицмейстера сведения у Семигановского и, удостоверившись в совпадении двух отчетов, доложил (20.I) Столыпину о новых подвигах иеромонаха: «обязан подпиской о невыезде из Царицына, но отказался подчиняться распоряжениям судебной власти, бравирует этим в своих публичных речах», «под видом "пастырской беседы" произнес речь о своей деятельности в Царицыне» и т. д.
В тот же день прокурор Саратовской судебной палаты Миндер составил рапорт министру юстиции, предлагая возбудить против о. Илиодора дело по ст.129 угол. улож. (п.п. 3, 4 и 6) за призывы к повешению судей. «…доношу Вашему Высокопревосходительству, – писал прокурор, – что публичные выступления названного иеромонаха все более и более утрачивают характер духовно-нравственного учительства, а по содержанию становятся совершенно недопустимыми. Наглядным примером может служить указанная выше проповедь [19.XII.1910], которая заключает в себе не только безудержное глумление над судом и некоторыми его представителями, но даже возбуждение к неповиновению, к сословной вражде и насилию». Попутно прокурор обвинял и преосв. Гермогена в потворстве выходкам своего подопечного.
В тот же самый день 20.I «Саратовский листок» напечатал фельетон с выражением негодования по поводу второй саратовской речи о. Илиодора: «Он ругается, он поносит целые классы людей, но этого мало: он грубо издевается над судебными установлениями, он протягивает свои руки к судейским цепям…». Удивляясь безнаказанности иеромонаха, фельетонист заподозрил его в клерикализме:
«Точно, действительно, духовная власть намерена стать на место светской не только в вопросе о назначении тюремного священника, но и в делах правосудия и управления.
Монах Илиодор упраздняет суд и предлагает нам самого себя в… священные инквизиторы».
Таким образом, Саратов дал по о. Илиодору залп из трех орудий в один день, что заставляет предположить сговор его врагов.
Бунт 1911 г.
Положение в Саратовской губернии не давало Столыпину покоя.
«Я считаю самое направление проповеди Илиодора последствием слабости Синода и церкви и доказательством отсутствия церковной дисциплины, – писал председатель Совета министров Государю. –
Но при наличии факта, факта возвеличения себя монахом превыше царя, поставления себя вне и выше государства, возмущения народа против властей, суда и собственности, я первый нашел, что, если правительство не остановит этого явления, то это будет проявлением того, что в России опаснее всего, – проявлением слабости…».
Глава правительства не скрывал своего давления на Св. Синод в этом деле. Надавить было легко. Несколькими годами ранее Столыпин добился назначения обер-прокурором С. М. Лукьянова, доктора медицины, ничего в церковных делах не смыслившего, зато покорного своему начальнику. Кроме того, из Синода были удалены наиболее яркие и консервативные архиереи. Все это делалось ради проведения некоторых правительственных реформ, но пригодилось и в настоящем вопросе.
Собрав объемистую пачку донесений светских властей из Царицына, Лукьянов добился от Св. Синода очередного постановления о переводе о. Илиодора. Тщетно преосвященный Гермоген заступался за своего подопечного, опровергая приписываемые ему неблаговидные речи. Постановление состоялось 20.I.1911 и было представлено на Высочайшее утверждение ввиду вмешательства Государя в процесс предыдущего перевода о. Илиодора.
«…все чиновники вроде Столыпина и других надоели Государю, чтобы меня перевели из г. Царицына, и вот эти чиновники придумали меня перевести с повышением в Тульский мужской монастырь настоятелем и вот при таких случаях доняли Государя», – рассказывал о. Илиодор. Он даже предполагал, что именно было сказано: «Враги мои оклеветали меня перед Государем и наговорили, что у меня в здешнем монастыре происходит разврат и творятся всякие безобразия. Что у меня нет никаких поклонников»; «…министр доложил Государю, что иеромонах Илиодор учит делать погромы и убивать людей».
Донесенная к подножию престола, клевета на бедного священника имела самые плачевные последствия. «На этот раз Государь рассердился и сказал, что пора положить
конец его безобразиям». 21.I на всеподданнейшем докладе Лукьянова появилось заветное слово «Согласен». На следующий день Синод послал преосвященным саратовскому и тульскому соответствующие указы.
О. Илиодор подозревал, что в его катастрофе немалую роль сыграло царицынское купечество. Из уст в уста передавалась якобы произнесенная неким богатеем фраза: «Миллиона не пожалею, а Илиодора уберу!». Говорили даже о полутора миллионах. Этим слухам о. Илиодор придавал большое значение: «упорно говорят в городе, что на мое удаление из Царицына кое-кем истрачено полутора миллиона рублей. Последнему не хочется верить, но наш продажный, бесчестный век заставляет писать и эти слова горечи и скорби».
Новое место служения о. Илиодора – Новосильский Свято-Духов монастырь Тульской епархии – было выбрано по предложению епископа Тульского Парфения.
«Обитель эта находится в страшной глуши, – рассказывал сам преосвященный, – вдали от железных дорог и городских поселений и, благодаря целому ряду неудачных настоятелей, пришла в сильно запущенный вид. Между тем, у нее все данные, чтобы стоять в числе виднейших русских монастырей.
Имея свыше 500 десятин черноземной земли, она прекрасно обеспечена материально. С духовной стороны она также пользуется большим значением, так как хранит в своих стенах широко чтимый образ св. Николая, а среди братии ее живет старец Херувим, привлекающий к себе до 200–300 паломников в день».
В Новосили как раз недавно были обнаружены непорядки по хозяйственной части, так что имелся формальный повод для смещения нынешнего настоятеля. Синод тут же освободил его от должности.
Одновременно пошли слухи, что и преосвященный Гермоген скоро будет переведен в Иркутск. Таким образом, Саратовской епархии угрожали серьезные потери.
В роковой день постановления Св. Синода о. Илиодор случайно оказался в столице. По еще более странному совпадению, именно 20.I гр. Игнатьева познакомила его с товарищем министра внутренних дел Курловым, подробно описавшим эту встречу в своих воспоминаниях. О. Илиодор жаловался собеседнику на царицынскую полицию.
Вечером иеромонах навестил кого-то из своих влиятельных сторонников – то ли жителей «одного графского дома» (возможно, кружок графини Игнатьевой), то ли А. И. Дубровина. И там от осведомленных лиц получил тяжелое известие.
– Вас сегодня в Синоде судят.
– Пусть судят, – беззаботно отмахнулся избалованный вниманием Синода о. Илиодор.
Тогда ему объяснили все – и про министров, и про Тульскую епархию, и про предстоящий перевод преосвященного Гермогена.
Новости глубоко потрясли бедного настоятеля. Во-первых, ему предстояла разлука со своим детищем – монастырем: «здесь каждый кирпич облит моими потом, кровью и слезами». О. Илиодор подозревал, что враги намереваются «разорить» созданное им «христианское гнездышко», боялся, что без настоятеля его «монастырь, вместо людей, наполнится голубями, воробьями, галками и будет их жилищем».
Кроме того, бросалась в глаза несправедливость решения, вынесенного «заочно по клевете», «в угоду безбожникам и богохульникам», по приказу светской власти – «только потому, что хочется неверным чиновникам кушать», – да еще, пожалуй, в обмен на знаменитые полтора миллиона! О. Илиодор даже сочинил на этот счет горькую притчу: шел, дескать, мимо Синода и увидел рассыпанные деньги. «…я шел, торопился, и мне их, признаться, было не надо, деньги у меня были на проезд, поэтому мне их и не надо, я все-таки присмотрелся, деньги, а деньги наши, царицынские, и деньги даже именные, я хорошенько не рассмотрел – на них написано будто бы Масловы или Марковы или Максимовы» – то есть фамилии тех купцов, которые будто бы тряхнули капиталами для изгнания ненавистного проповедника из города.
Ярый монархист, о. Илиодор был уязвлен тем, что ему вменили в вину подстрекательство к беспорядкам, «как бунтарю и разбойнику». При этом наказание замаскировано под награду, поскольку в Царицыне священник был лишь «заведующим подворьем», а в Новосиль переводился полноправным настоятелем полноценного монастыря. «Если я виноват, сажай меня в тюрьму, ссылай в каторгу, но не повышай. За повышением я не гонюсь, почестей мне не надо, мне нужна правда Христова, а за нее меня везде гонят». Гнали, действительно, всюду – уже из третьей епархии за пять с лишним лет!
Наконец, предстоящий перевод и епископа Гермогена знаменовал форменную расправу светской власти с религиозно-патриотическим движением, которому посвятили себя о. Илиодор и его архиерей. Напрасно столыпинский официоз «Свет» расписывал новое послушание о. Илиодора как «высокое, истинно пастырское, живое, плодотворное дело». Всякому было ясно, что произошел не обычный перевод священника на другой приход, а грубое вмешательство чиновников в церковные дела.
В кулуарах Государственной думы правые с неодобрением говорили о «немецкой бухгалтерии», которой держалось правительство в этом деле, то есть об одновременном переводе и губернатора, и священника с намерением «сравнять итоги».
Узнав о своем переводе, о. Илиодор бросился к обер-прокурору и другим сановникам и «умолял именем святителя Филиппа, убиенного за правду, не приводить в исполнение этого несправедливого решения».
В то же время иеромонах попытался заручиться поддержкой всех своих доброжелателей. Послал телеграмму Государю (21.I). Посетил П.Ф. Булацеля. Протелеграфировал царицынским сподвижникам, прося ходатайствовать перед Их Величествами об оставлении его в Царицыне. Соответствующая телеграмма с просьбой не утверждать синодального решения была отправлена 21.I: «не оставьте нас сиротами». А на следующий день в Синод полетела телеграмма из села Покровского Тобольской губернии – от Григория Распутина. Потом расстриженный Сергей Труфанов будет утверждать, что не обращался за помощью к «блаженному старцу», но что-то очень уж быстро дошли петербургские новости до Сибири.
Ничего не добившись, о. Илиодор решил сопротивляться до победного конца. Телеграфировал в Царицын, что остается, и помчался к еп. Гермогену. Провожавшим лицам о. Илиодор заявил, «что из Царицына не уедет, что оттуда не взять его и воинской силе и что, возвратившись [в] Царицын, произнесет такую проповедь, каких еще никогда не говорил».
Не успел покинуть столицу, как полиция начала его розыски по просьбе митрополита Антония. Не торопись так о. Илиодор, возможно, дальнейшей беды удалось бы избежать.
Находившийся тем временем в устроенной им Сергиево-Алексиевской пустыни близ Сердобска преосвященный Гермоген был «как громом» поражен известием о переводе иеромонаха. Владыка только что (21.I) подписал третье по счету представление о награждении о. Илиодора наперсным крестом «за ревностнейшее и усерднейшее исполнение присущих ему по сану главнейших и ответственнейших обязанностей и пастырского долга, учительства и проповедничества, а также открытого исповедования веры православной и верноподданничества Российским Самодержавным Государям Императорам» – а тут такой оборот! К тому же преосвященный почувствовал и личную «тяжкую обиду»: «оказано полное презрение моему архиерейскому авторитету и моим церковноправовым полномочиям». Отринув все донесения владыки, доказывавшие невиновность о. Илиодора, Синод поверил газетным и полицейским сообщениям и пошел на поводу у обер-прокурора. «Горе и скорби, как шишки, валятся из Петербурга на мою голову, как бедного Макара», – писал владыка А.П. Роговичу в связи с этим. По словам почитателей о. Илиодора, после решения Синода владыка «очень от горя заболел».
Приехал о. Илиодор 24.I тайно и вместе с преосвященным засел писать телеграммы от его лица. Весьма абстрактное послание Государыне отправили немедленно. Для составления телеграммы Государю потребовались документы, поэтому из Саратова были вызваны секретари и эконом. С их помощью был разработан целый доклад по царицынскому делу, который вместе с собственно текстом прошения занял 9 телеграфных бланков. От лица своей паствы владыка просил освободить о. Илиодора от «неправильного и незаконного осуждения». Также просил об аудиенции. «такую телеграмму написали, что невозможно сказать», – рассказывал о. Илиодор. Сам он не дождался завершения работы над ней и уехал вечером 25.I.
Вернувшись в Царицын 26.I в 10 час. вечера, о. Илиодор собрал своих сподвижников на экстренный совет и рассказал им петербургские новости о себе и владыке, прибавив, что как он, так и владыка постараются остаться на месте. Затем отправил несколько телеграмм, в том числе Синоду: «Ваше святейшество! Преступления я не совершал. Ошибки простите. Труды мои помяните. Приговор отмените. Власть признаю. Святыню вашу почитаю. Правду ставлю выше всего. Из Царицына идти не могу: он жизнь моя, народ мой – дыхание мое». На рассвете поехал в Дубовку на исповедь к своему духовному отцу – заведующему архиерейским подворьем иеромонаху Антонию, от которого вернулся к вечеру.
Выйдя на балкон к ожидавшей пастве, о. Илиодор сообщил о решении Синода. «…не смущайтесь, возлюбленные братья и сестры, с нами Бог! У меня есть еще надежда на Господа Бога, на Царя-Батюшку, на Царицу-Матушку. Дело наше, мои и ваши молитвы даром не пропадут, и я останусь здесь!». Он не скрывал своего намерения отказаться от перевода: «Когда я получу официальную бумагу, то я отвечу на ней, что мне хорошо и в Царицыне и я из него не уеду, и там, где меня нет, там без меня тоже хорошо».
В этой же речи о. Илиодор призвал слушателей два дня поговеть, с тем чтобы в воскресенье приступить к Св. Чаше: «тогда только и может дойти молитва до Господа Бога, когда у человека чиста душа». На призыв отозвалось более 2000 человек, которые в субботу 29.I исповедовались, а в воскресенье причащались в течение 2? часов.
Почти всю ночь о. Илиодор провел в составлении телеграмм. Телеграфная картечь из Царицына осыпала Петербург четыре дня (27–30.I ).
Государю о. Илиодор написал, что не имеет сил оставить Царицын, «где каждый камень облит моими слезами и кровью. Я не сделал никакого преступления, а, напротив, этот город плутов и разбойников сделал смирным, безопасным местом. Я не хвалюсь, Государь, но говорю правду и верю также в Вашу правду».
Еще одна, лаконичная:
«Ваше величество, ожидаю вашей милости».
В Синод:
«Молю вас, богомудрые отцы, вступиться за правду за свободу Невесты Христовой Церкви Божией я готов умереть» (сложно восстановить тут знаки препинания!).
«Благоговейно почитая святыню вашу, не могу в кознях чиновников видеть волю Божию».
«Умоляю вас по примеру русских подвижников встать за правду, попираемую нашими врагами и неверными чиновниками».
О. Илиодор рассылал телеграммы и лично членам Синода, прося поддержать свое ходатайство.
«Есть искушение выше сил. Поддержите правду. Ожидаю милости» (митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию).
Высокопреосвященные Антоний и Флавиан ответили о. Илиодору советом проявить монашеское послушание. В том же смысле пришел ответ от товарища обер-прокурора Роговича: «Советую подчиниться тяжести обстоятельств, сложившихся несомненно не без попущения Божия. Больше отвечать не буду». А о. Илиодор писал ему: «Пришло время встать за правду. Господь Судья попирающим ее и молчащим».
Была, наконец, сделана попытка достучаться до совести Лукьянова: «За высоким чином я вижу в вас русского православного человека».
Подобные телеграммы рассылались из Царицына и за другими подписями – уполномоченных «отцов», «матерей», «молодежи» и даже «детей» г. Царицына. «Почему нет телеграмм еще от "теток", "внуков", "бабушек", "дедушек" и "дядей"?» – посмеивался саратовский публицист.
Рассылка велась ежедневно и равномерно. Синод, например, получил по 7 телеграмм от каждой категории. Адресаты были те же – Государь, Синод в целом и по отдельности, Лукьянов, Рогович. По-видимому, телеграммы отправлялись по какой-то схеме. Кто ее придумал? Сам гонимый инок или его царицынские единомышленники-«илиодоровцы»?
Имена изобретателей или, по крайней мере, исполнителей рассылки увековечены в повторяющихся подписях под телеграммами: окружной миссионер о. Михаил Егоров, казак Кузьма Косицын, младший брат о. Илиодора Александр Труфанов, известные сподвижники иеромонаха – Шмелев, Попов, Чмель, Жуков и др. Перечисленные лица составили своеобразный отдел по связям о. Илиодора с общественностью. В последовавшие дни все происходящее в царицынском монастыре записывалось и рассылалось широкому кругу адресатов – Государю, Синоду, газетам. Та же операция производилась с телеграммами о. Илиодора.
Широкая рассылка, недоступная карману такого аскета-нестяжателя, как о. Илиодор, велась на народные пожертвования. В храме то и дело шел сбор на оплату телеграфных услуг. По разным сведениям, всего было истрачено от 500 до 1000 руб.
Не дождавшись решения Синода, последовавшего 1.II и оказавшегося отрицательным, о. Илиодор решился на самую отчаянную меру.
За всенощным бдением в субботу и после обедни в воскресенье он сообщил молящимся, что в воскресенье вечером с 7 часов здесь будет Пасха, после которой он начнет «войну с диаволом». Утром 30.I в переполненном храме о. Илиодор подробно развил эту мысль. Министры, оклеветавшие его перед Государем, доложили, будто он учит народ бунтовать. «Но разве я возмущал вас против кого-нибудь?! Разве я учил вас проливать чью-нибудь кровь?! Вы все знаете, что это неправда. Ни при жизни моей, ни после смерти моей не прольется ни капли чьей-нибудь крови. Я вас всегда учил добру и теперь прошу, если мне придется скоро умереть, то никому не мстить за меня и пусть все они там знают, пусть знает полиция и все власти, что через меня никогда не прольется ни капли крови!».
Поэтому борьба будет вестись исключительно в духовной плоскости – только с диаволом, а не с людьми, поступавшими по его наущению. Оружием себе о. Илиодор избрал крест и молитву, походным маршем – пасхальные песнопения.
После такого интригующего объявления вечером явились не только богомольцы, но и любопытные, хотя о. Илиодор нарочно просил не приходить тех, кто посещает монастырь с целью послушать и посмотреть. В толпе заметно было много интеллигенции, купцов, мелькали мундиры гимназистов. Всего, по оценке полицмейстера, в монастыре собралось до 10 тыс. человек. Не помещаясь в храме, они заполнили также коридоры и двор.
После вечерни и молебна перед чудотворной иконой Божией Матери «Седмиезерная» о. Илиодор с крестом в руках объяснил мотивы своего непослушания, изложенные выше.
«Я вступаю в последнюю священную брань с дьяволом, я надеюсь на Бога и верю в Его правду. Многие подумают, что я не хочу подчиняться властям. Нет, властям я всегда подчинялся и подчиняюсь, но незаконному решению я подчиняться не стану и лучше умру за Веру, Царя и Отечество, а из Царицына не пойду», – так закончил о. Илиодор.
По его просьбе толпа запела пасхальные стихиры. Затем состоялся драматический спектакль.
При пении «Христос воскресе» о. Илиодор обернулся и в воцарившейся тишине спросил служку через всю церковь: «Телеграмм нет?». Тот ответил отрицательно. Тогда, благословясь, о. Илиодор прочел народу заранее заготовленную и запечатанную в конверте «предсмертную исповедь»: «я вижу, что воля Твоя состоит в том, чтобы я остался здесь и докончил свое священное дело».
Затем последовала клятва, прочтенная с другой заготовки: «Святейшим Именем Высокого и Правдивого Бога, Именем Пресвятой Богоматери, пребывающей в сей чудотворной иконе силой Своей благодати, Святых ветхозаветных пророков, Святого Крестителя Господня Иоанна, клянусь перед престолом Всевышнего Творца, пред святым Его Евангелием и Животворящим Крестом, клянусь на месте сем: не есть, не пить, не спать до тех пор, пока Святейший Всероссийский Синод не восстановит попранной правды в словах своих и не отменит своего постановления обо мне. Во свидетельство клятвы моей твердой и неуклонной призываю небо и землю, сие священное место и всех сих, мною возлюбленных, детей Божиих, собравшихся в этом храме в таком огромном количестве. В знак верности клятвы сей я умиленно преклоняюсь Престолу Твоему, Господи, очами веры зрю Тебя, восседающего на нем с Твоей Богоматерью, в иконе сей своей благодатию присутствующей, и целую Животворящий Крест Твой и драгоценные слова Твои в сем священном Евангелии. Аминь. Аминь. Аминь. Грешный монах Илиодор».
Прочтя телеграмму на имя Государя с извещением о клятве, о. Илиодор огласил свое завещание, которое, как и все предыдущие документы, вынул из бездонного кармана своего подрясника. Оно настолько характерно, что следует привести его целиком в добросовестной передаче полицмейстера:
«После моей смерти моим врагам не мстите, ибо они заслужат наказание от Бога; гроб сделайте из досок моей убогой постели; похороните в храме монастыря, по левую сторону; крест поставьте небольшой, дубовый и в него вделать мой крестильный шейный крест, кто будет спрашивать, кто здесь похоронен, говорите, такой-то священник, умер за Веру, Царя и Отечество; могилы моей венками и цветами не украшайте, так как жизнь моя была не красна и я их не видел; долг мой в сумме 5000 руб. [нрзб] заплатите; слышите? (Все ответили: слышим); имущество мое: карету, лошадей, шубу переведите на деньги и положите их в кассу Иоанновского братства, в неприкосновенный капитал, проценты с него раздавайте бедным; келью мою опечатайте и показывайте желающим посетить ее в течение недели после моей смерти; потом открываете на Рождество Христово и на Св. Пасху, входите в нее с священными песнопениями, в [нрзб] праздники она должна быть открыта для всех».
Следует прокомментировать, прежде всего, указание на «убогую постель». Дело в том, что о. Илиодор имел аскетическую привычку спать на голых досках. Огромный пятитысячный долг был, конечно, не его, а монастырский, за лес, взятый на постройку. Карету и лошадей подарили о. Илиодору его приверженцы, и он охотно пользовался этим подарком, оберегая горло от пыли царицынских немощеных улиц.
Любопытнее всего в этом завещании распоряжение относительно кельи. Какого же мнения надо быть о себе и о своей деятельности, чтобы приказать сделать из своей кельи святилище? Увы, скромность, присущая о. Илиодору в студенческие годы, давно его покинула!
Когда иеромонах, повернувшись лицом к алтарю, стал читать свою клятву с поднятой правой рукой, то все слушатели, как завороженные, последовали его примеру. Народ тоже дал клятву!
«Тяжело было смотреть на эти тысячи людей, мужей, жен и детей, которые все как один человек поклялись перед всемогущим Богом умереть вместе со своим любимым пастырем и не покидать о. Илиодора до тех пор, пока их наставник не будет оставлен в гор. Царицыне», – писал видный илиодоровец Д.М. Шмелев.
Сам о. Илиодор, будто не заметив произошедшего за его спиной, не постеснялся 2.II телеграфировать преосвященному Гермогену, что народ клятвы не давал.
Следует подчеркнуть, что богомольцы присоединились по собственной инициативе. Ни из каких документов не заметно, чтобы о. Илиодор изначально задумывал запереться в церкви вместе с паствой. Впрочем, еще утром после обедни он мимоходом сказал: «вы, если хотите, тоже вступайте в эту борьбу, если же нет, то я буду бороться один», получив дружный ответ: «за вами, батюшка, пойдем». Но, судя по телеграммам-извещениям, о. Илиодор отводил «многим тысячам» народа исключительно роль свидетеля. Однако пример пастыря оказался заразительным для овец.
Закончив свою речь, о. Илиодор пригласил народ подходить к нему прощаться. При общем плаче начался этот долгий скорбный обряд, затянувшийся почти до полуночи.
Заготовленный, по-видимому, заранее текст с извещением о клятве был около 9 часов вечера разослан Государю, Синоду и преосвященному Гермогену:
«Сердобск. Святителю Божию Гермогену. Драгоценный мой Владыка и Отец, сегодня я, Ваш преданный Вам до смерти послушник, пред престолом Всевышнего и чудотворной иконой Богоматери, в присутствии многих тысяч скорбящего, плачущего, обиженного Вашего возлюбленного простого, смиренного, кроткого народа поклялся именем Всемогущего Бога, в исповедниках Имени и правды Его пребывающего всегда, не есть, не пить и не спать до времени, когда Святейший Синод отменит свое неправедное постановление о мне. Святитель-ревнитель! Поступаю по своим убеждениям. Иначе поступить не могу. Я донской казак по плоти, а по духу – верный воин Христов. Герои не сдаются, но или умирают, или побеждают. Если мне в этой борьбе суждено умереть, то верьте, Божий избранник, я умру спокойно, умру за попранную наглыми опричниками драгоценную святыню – свободу чистейшей Невесты Христовой, Церкви Божией. На случай смерти я оставил народу моему духовное завещание. Смиренно прошу Вас оказать содействие детям моим возлюбленным, привести завещание в дело. Когда умру, помолитесь за меня, усердный Божий молитвенниче. Кланяюсь Вам до земли и целую святительские ноги Ваши. Покорный послушник убогий иеромонах Илиодор».
В 9 час. 4 мин. была отправлена телеграмма на имя Лукьянова: «Неужели же вы и теперь не откажетесь от своей ошибки».
На ночь о. Илиодор остался в алтаре, а богомольцы – в храме, телеграфировав преосвященному, что к исполнению клятвы приступили «десятки тысяч» человек. На самом деле, по оценкам властей, ночевать осталось от 400 до 1000 чел., то есть не более десятой части из тех, кто находился в церкви во время принесения обета.
Исполнение клятвы выглядело как молитвенное бдение. «Беспрестанно в храме служатся молебны, поются духовные песни, читаются жития святых. От большего числа молящихся воздух в храме ужасно спертый. Женщины и дети беспрестанно падают в обморок». С тех пор в монастыре почти круглосуточно продолжались богослужения при тысячах молящихся. Некоторые сходили с дистанции, другие оставались. До последней ночи (на 3.II) в храме продержались около 200 женщин.
Клятва о. Илиодора была понята всеми, кто плохо его знал, как объявление Синоду голодовки.
«Грозит самоубийством! – негодовал «Свет» в передовой статье. – Грозит смертным грехом, за который простые миряне лишаются церковного погребения, молитвы, поминовения и уходят из здешнего мира осужденными на вечную муку». Некий В. Скрипицын из Гатчины писал преосвященному Гермогену о «самоубийстве голодом», на которое будто бы решился о. Илиодор.
Но по существу в этот вечер о. Илиодор всего-навсего дал обет строгого поста и непрестанной молитвы. Только такую форму протеста могли бы разрешить священнику его духовные руководители, с ведома которых он, очевидно, действовал. Неспроста в самый день торжественной клятвы духовник о. Илиодора иеромонах Антоний из Дубовки перебрался в Царицын. Что до преосвященного Гермогена, то ходили слухи о благословении на это дело, данном им будто бы в Сердобске. Вероятно, благочестивый обет действительно был согласован с архипастырем заранее: из сохранившейся телеграммы владыки от 1.II видно, что он нисколько не удивлен фактом поста, зато потрясен голодовкой.
Сам о. Илиодор говорил то так, то эдак, – с одной стороны, возмущался клеветой газет, «что будто бы я, не желая подчиниться постановлению Св. Синода, объявил голодовку», с другой стороны, тут же отмечал, что вместе с ним «решили умереть голодной смертью семь тысяч православного простого русского народа», а позже напоминал пастве, как «клялся умереть за правду голодной смертью».
Вероятнее всего, замысел был глубоко благочестивый, но о. Илиодор, желая покрасоваться, так много говорил о своей близкой смерти, что пост приобрел все признаки демонстративной голодовки.
Простояв весь следующий день 31.I в алтаре на коленях без пищи и воды, вечером о. Илиодор отменил пост под предлогом того, что Государю об этом не известно, а потому принятый подвиг напрасен. Будто бы сделано распоряжение задерживать на телеграфе жалобные телеграммы царицынских прихожан на Высочайшее имя, лишь выдавая отправителям квитанции. Надуманный повод! Если бы местные власти и опустились до такого коварства, во что даже «Земщина» отказывалась верить, то неужели Государь оставался в неведении после масштабной кампании, проведенной «илиодоровцами» в печати?
Отказ от обета был обставлен так, чтобы не опозорить о. Илиодора. Предложение якобы шло от паствы, которая коленопреклоненно просила священника снять клятву с себя и с прихожан. «С великой печалью выслушавши нас, батюшка отец Илиодор, с великой скорбью на лице, при страшном стоне многих тысяч православного народа, согласился с нашими доводами и торжественно перед престолом Всевышнего снял клятву с себя и с народа». Однако тут же был дан новый обет, полегче, – строгий пост с вкушением хлеба и воды раз в 1–2 суток и непрерывная молитва.
Теперь сообщения из царицынского монастыря звучали вполне благочестиво. «День и ночь стою в алтаре пред престолом и молю Господа, чтобы Он смягчил сердца царских сановников и святейших отцов», – телеграфировал Св. Синоду о. Илиодор. «Монастырский храм, вмещающий семь тысяч человек, переполнен молящимися. Народ усиленно постится, денно и ночно молится, облекся во вретище, а дорогой батюшка о. Илиодор неотходно стоит в алтаре у престола Божия», – сообщали митрополиту Антонию уполномоченные от народа.
Неискушенным лицам даже показалось, что о. Илиодор отступил. Один саратовский публицист сравнивал его с синицей, которая «обещала зажечь море, а не зажгла и простой лужи», А.А. Столыпин – с пушкинской Людмилой, которая, собравшись было умереть в плену злодея, «подумала – и стала кушать». По мнению этого публициста, отказ о. Илиодора от голодовки показал, «что в нем нет даже безумного закала аввакумовской воли, а только непочатый край самомнения».
Однако царицынский инок был не так прост. Сообщая Св. Синоду о новом обете, он пригрозил, что дальнейшее упорство священноначалия приведет к смерти и священника, и прихожан: «я переселюсь, но только не в Новосиль, а на небо. Пойду жаловаться Богу на чиновников-гонителей, волю царскую не свято исполняющих. Со мной умрет и народ. Бог сему свидетель». Пророчество начало сбываться уже 3.II, когда о. Илиодор, отслужив половину литургии, упал в обморок от истощения. То же самое самоубийство! Методы изменились, но цель осталась прежней – победить или умереть.
Тем временем до преосвященного Гермогена дошли сведения о том, что о. Илиодор вместе с паствой «поклялись [перед?] Богом не выходить [из] храма, умереть голодной смертью». Потрясенный владыка не поверил, но, по совету Роговича, на всякий случай снял клятву: «Зачем Косицын, Шмелев, другие всюду рассылают телеграммы об установленной через клятву буддийской голодовке, которой будто подвергли себя Вы и все богомольцы подворья. Ожидаются-де вскоре случаи голодной смерти. Прочие такие телеграммы – плохая услуга делу, омерзителен их крик, вопль об ужасах, точно дело идет не о христианском благоуспешном посте и покаянии, а о самоубийстве голодом. Если такую безумную клятву дали, то я всех властью Христовой разрешаю совершенно».
О. Илиодор ответил лишь на следующий день (2.II), отрицая факт голодовки: «Дорогой Владыко! Это ложь. Народ никакой клятвы не давал. Подписавшие телеграмму неправильно выразились. Сейчас постимся, молимся усердно».
Преосвященный Гермоген успокоился и с тех пор протестовал против «подлейшей лжи» о голодовке, уверяя всех – Роговича, митрополита Антония, даже сотрудника «Речи», – что «никакой голодовки там не было, люди просто молились и постились».
Во всяком случае, гневный тон архипастырской телеграммы произвел должное впечатление и 2.II, по случаю праздника Сретения, о. Илиодор разрешил пить чай с хлебом, а также предупредил, что никого не обязывает поститься, так как не имеет права. «Я могу только на себя налагать обязательства, но не на других».
Впоследствии о. Илиодор не стеснялся объяснять прекращение своей голодовки архипастырским распоряжением, хотя порядок событий был обратный. «Я тогда не умер потому только, что владыка Гермоген скоро после клятвы снял с меня клятву. Я не могу ослушаться своего драгоценного отца, ибо верю ему, как Богу». На упрек в клятвопреступлении иеромонах ответил: «в прошлом году я клятву не нарушил, а с меня и народа ее снял святительским словом праведный еп. Гермоген».
Ультраправая часть общества горячо сочувствовала гонимому царицынскому проповеднику.
«Что нужно делать для спасения отца Илиодора. Господи, спаси и помилуй его», – телеграфировал преосвященному Гермогену архимандрит Макарий (Гневушев ).
К ходатайствам царицынцев перед священноначалием присоединились две крупнейшие монархические организации – Союз Михаила Архангела и Союз русского народа (и Главный совет, и провинциальные отделы), а также отдельные монархические деятели.
Крайние правые открыто выражали недовольство действиями Св. Синода. «Русское знамя» напечатало такую заметку, что ему запретили развивать эту тему под угрозой ареста газеты. «Земщина» обвиняла священноначалие в «черством равнодушии». Пуришкевич от имени Союза Михаила Архангела возлагал на епископат ответственность за печальный исход обета о. Илиодора, призывая Синод «поступиться своим формальным правом для сохранения в наши тяжелые годы истинного светоча и подвижника православной веры, заслуги коего в пережитые нами лихие годы крамолы неисчислимы».
Впрочем, самые ярые сторонники о. Илиодора, настаивая на его оставлении в монастыре, готовы были согласиться на назначение ослушнику епитимьи.
Но у инока нашлись и противники. Саратовское дворянское депутатское собрание постановило командировать в Петербург депутацию с ходатайством об удалении о. Илиодора из Саратовской губ. Некий самарский крестьянин Сомов прислал Синоду донос на непотребства, будто бы происходящие в монастыре «исчадия ада Илиодора».
«Свет» в передовой статье призвал Синод к твердости, охарактеризовав прошлогоднюю его уступку о. Илиодору как «непростительную ошибку». «…да не осуществится исполненное беспримерной дерзости домогательство обезумевшего монаха!».
М. Любимов писал в «Голосе Москвы», что противостояние с монахом наносит ущерб престижу власти и последней следует прекратить эту «единственную в своем роде» картину. «Илиодору полезно было бы успокоиться в монастыре под епитимией, а у Синода, департамента полиции, губернаторов, жандармов и полицеймейстеров, надо думать, нашлись бы и более важные дела, чем организация союзной армии для похода на бунтующего монаха». Некий Spectator в кадетской «Речи», издававшейся Гессеном, нападал на иеромонаха за ослушание, чем вызвал иронический комментарий сотрудника «Нового времени»: «Мы не будем удивлены, если после такой статьи г. Гессен получит место товарища обер-прокурора Св. Синода и очутится помощником д-ра Лукьянова».
Обсудив дело в заседании 1.II, члены Св. Синода признали голодовку о. Илиодора не исповедническим подвигом, а покушением на самоубийство. «За неимением оснований к отмене» принятого 20.I решения поступившие ходатайства были проигнорированы или, на бюрократическом языке, приняты к сведению.
Днем ранее в Саратовскую епархию был командирован еп. Парфений для содействия преосвященному саратовскому в приведении о. Илиодора к повиновению церковной власти. Не возлагая на эту поездку больших надежд, митрополит Антоний заранее совещался с обер-прокурором о мерах, которые предстояло принять в случае неудачи. Большинство иерархов полагало, что положить предел царицынской голодовке следует силами местной администрации.
Однако светские власти не имели прямых рычагов воздействия на о. Илиодора, поскольку никаких государственных законов он не нарушил. Попытка полицмейстера убедить прихожан покинуть храм осталась тщетной. Администрация заняла выжидательную позицию. У стен монастыря дежурили полиция и казаки. 3.II в Царицын прибыли саратовские власти во главе с управляющим губернией П.М. Боярским. Из Москвы приехал вице-директор департамента полиции Н.П. Харламов. Кроме того, еще 2.II Государь решил командировать в Царицын для расследования флигель-адъютанта А.Н. Мандрыку: «Народ должен знать, что царю близки его горе и его радости». Вероятно, выбор пал на это лицо ввиду того, что его двоюродная сестра была игуменией Балашовского женского монастыря Саратовской епархии. В тот же день из Петербурга пришла таинственная телеграмма без подписи: «Будет от нас следователь, клеветникам присяга».
В монастыре полагали, что и преосвященный Парфений едет для расследования событий, поэтому сообщение о его командировке сочли «утешительными вестями». «С Божьей помощью один зуб уже сломан у врага», – будто бы сказал о. Илиодор.
К появлению высоких гостей надлежало мобилизовать все силы, и потому 2.II он дважды объявлял общий сбор богомольцев в храме – сначала к 6 часам вечера, затем к 7 часам утра следующего дня ввиду предстоящего «сражения».
Преосвященный Парфений успел добраться только до Саратова (2.II), где получил телеграмму от еп. Гермогена с просьбой предварительно приехать к нему в Сердобск и немедленно выехал туда.
Маленький городок, куда саратовский епископ перебрался из пустыни и где оставался на протяжении всего «великого царицынского дела», прогремел на всю Россию. Впоследствии еп. Гермоген даже писал о «сердобском стоянии».
Гостя ждали долгие уговоры. Владыка Гермоген попытался склонить его на свою сторону.
«3 февраля я прибыл в г. Сердобск, – докладывал еп. Парфений, – и из продолжительных бесед с преосвященным узнал, что ему не по сердцу было распоряжение Святейшего Синода, и он не обнаруживал готовности отпустить из своей епархии иеромонаха Илиодора. Сперва преосвященный предлагал мне отправиться в Царицын и убедиться, насколько полезна деятельность иеромонаха Илиодора, чтобы потом я мог засвидетельствовать об этом пред Святейшим Синодом в видах отмены состоявшегося о нем решения».
Однако еп. Парфений не поддавался на уговоры. Тогда преосвященный Гермоген вместо того, чтобы отпустить гостя в Царицын, вызвал (3.II) оттуда о. Илиодора, обнадеживая его, что от этой поездки зависит его оставление в Царицыне и что помощь Божия близка и нельзя ее презирать. В той же телеграмме владыка просил адресата оставить пост и подкрепиться пищей.
Вызов в Сердобск показался монастырским богомольцам подозрительным, и они пытались предостеречь своего пастыря: «не ездий, батюшка, вас обманывают». Но о. Илиодор не мог не довериться преосвященному Гермогену, которого любил и которым глубоко восхищался. Телеграмма к тому же показалась, да и была, «ласковой и молящей». Поэтому за обедней о. Илиодор, прочтя телеграмму молящимся, объявил, что выезжает первым поездом, а Сердобску ответил: «Выезжаю немедленно». Действительно, уже в 2 час. 45 мин. пополудни выехал московским поездом.
Отъезд прошел при огромном стечении народа – писали о 10 тыс. человек. Окружив сани, в которых ехал о. Илиодор, толпа прошла за ним до вокзала. Там иеромонаха встретили жандармы. «Не провожайте меня, у меня много своего народа, меня проводят», – сказал он им.
Стоя на перроне, толпа пела духовные песнопения и гимн. «Я уезжаю, дети, – обратился к ней о. Илиодор с площадки вагона. – Вы же ослабьте пост, в монастырь ходите только к службам, а всенощные моления прекратите, Господь нами умолен».
Уверенность в благополучном разрешении вопроса подкрепилась некоей телеграммой, полученной непосредственно перед отъездом. «У меня уже есть доказательства того, что у врага сломлены зубы, перебито правое крыло и осталось добить только левое. Сейчас только я получил телеграмму, в ней говорится о наших врагах, и вот пусть рассеются даже и листочки с этими известиями по ветру». При этих словах о. Илиодор разорвал загадочную телеграмму и выбросил ее клочки.
Взволнованные приверженцы получили две гарантии возвращения своего пастыря – во-первых, его крестильный крестик, а во-вторых, слово о. Михаила Егорова.
Земляк и школьный товарищ о. Илиодора, о. Михаил по его просьбе недавно был принят в клир Саратовской епархии и назначен вторым священником строящейся церкви Французского завода возле Царицына. Когда же друг попал в беду, о. Михаил примчался его выручать, став одним из главных персонажей дальнейшей истории. Сейчас он решил сопровождать о. Илиодора, пообещав толпе, что без него живым не вернется.
Итак, победа казалась близкой. О. Михаил потом рассказывал, что «о. Илиодор, будучи в хорошем настроении духа, всю дорогу строил планы об улучшении и совершенствовании монастыря», в частности об устройстве пещер-катакомб.
На следующий день Лукьянов телеграфировал еп. Парфению: «Необходимо принять все меры к тому, чтобы иеромонах Илиодор не возвращался в Царицын [и] направился с миром в Тульскую епархию. Гражданские власти сообщают, что возвращение иеромонаха Илиодора в Царицын подаст повод к серьезным замешательствам. Прошу вас и преосвященного Гермогена оценить по достоинству ответственность положения и оказать всяческое содействие к устранению возникших затруднений. О поддержке со стороны гражданских властей распоряжение сделано».
Позже о. Илиодор негодовал, что его «выманили из Царицына», не преосвященный, конечно, а жандармы.
Прибыв в Сердобск вечером 4.II, друзья направились в дом местного благочинного, протоиерея А.К. Образцова, где остановились оба преосвященных.
Взяв о. Илиодора за руку, еп. Парфений увел его в отдельную комнату и стал увещевать. Но тот отказался: «Я не лошадь. Только лошадь можно перегонять с одного поля на другое, а со мной так поступать нельзя». Преосвященный обиделся и вышел. Еп. Гермоген потом выговаривал о. Илиодору за резкость.
Наутро из Царицына пришла телеграмма: «Имея высочайшее повеление ехать в Сердобск, прошу ваше преосвященство, епископа Парфения и отца Илиодора ожидать моего приезда. Флигель-адъютант Мандрыка». Оказывается, царский посланник разминулся с о. Илиодором и приехал в Царицын в тот самый вечер, когда иеромонах прибыл в Сердобск. Подождать-то можно, но при перенесении места переговоров в Сердобск о. Илиодор терял свой главный козырь – возможность провести для гостя экскурсию по монастырю. В Царицын на имя Косицына полетела отчаянная телеграмма: «Ради Бога, пользуйтесь случаем выяснить правду тому, кто приехал. Мы здесь выясним, иначе поступить нельзя. Адъютант сегодня выезжает нам, прислав телеграмму. Батюшка».
В тот же день игумения Мария, двоюродная сестра Мандрыки, получила от Распутина телеграмму с просьбой «повлиять на родственника». Ничего не поняла, но вскоре получила от владыки вызов в Сердобск.
Полтора дня до приезда Мандрыки прошли в переговорах. Преосвященный Парфений продолжал убеждать о. Илиодора, а тот, наоборот, приглашал собеседника к себе в Царицын «посмотреть чудеса», т.е. монастырь. Епископ Гермоген и о. Михаил заняли, конечно, сторону своего друга, так что силы были неравны.
Стоило о. Илиодору покинуть Царицын, как в город стали съезжаться петербургские гости. Официальным порядком прибыл Мандрыка, а частным – член Государственной думы С.А. Володимеров и писатель Родионов.
2.II, в тот день, когда стало известно о командировке Мандрыки, Володимеров подал председателю Государственной думы заявление: «Сим имею честь заявить, что, по встретившейся неотложной надобности, я должен уехать из Петербурга на 10 дней».
Позже, когда Володимерова справедливо заподозрили, что он ездил «спасать» о. Илиодора, депутат скромно ответил: «Мне не по плечу такая задача, потому что не могу я мечтать и воображать себя способным спасать человека, который в силах создать небывалое у нас, может быть, за несколько столетий патриотически-религиозное воодушевление среди сотен тысяч людей… Я ездил в Царицын не для этого, а чтобы полюбоваться теми мерами, которые принимал… г. обер-прокурор Святейшего Синода к тому, чтобы совершенно устранить… от. Илиодора».
В то же время Володимеров принял на себя обязанности специального корреспондента «Земщины», неустанно телеграфируя в редакцию с места событий. Однако вскоре газете было запрещено публиковать его телеграммы.
Что до Родионова, то он познакомился с о. Илиодором в мае 1910 г., «имел удовольствие несколько раз беседовать с ним и полюбил его всем сердцем». Поэтому, вероятно, тоже приехал «спасать», но «спасать» исключительно пером.
Мандрыка и Володимеров приехали на одном поезде, но затем направились в разные стороны.
Флигель-адъютант остановился в «Столичных номерах» – видимо, самой приличной гостинице этого захолустья. Дела отложил на утро, которое, как известно, вечера мудренее.
Володимеров прямо с вокзала направился в монастырь и провел там всю ночь, выясняя положение. Под утро вернулся отдохнуть в те же «Столичные номера», а через несколько часов уже очутился подле Мандрыки в гуще событий.
Утром, протелеграфировав преосвященному Гермогену, чтобы его ждали в Сердобске, флигель-адъютант принял депутацию от сторонников о. Илиодора. Тут же пристроился и Володимеров, очевидно, следивший, как бы наивные провинциалы не сболтнули царскому посланцу лишнего. На просьбы богомольцев Мандрыка ответил уклончиво: решать будет Государь, «противиться же воле Государя вы ни в коем случае не должны».
После молебна в монастырском храме илиодоровцы поднесли Мандрыке хлеб-соль и коленопреклоненно попросили поддержать их мольбу перед Государем. Затем, как и просил о. Илиодор, его приверженцы показали монастырь царскому посланнику, но экскурсия прошла в спешке, поскольку он торопился на поезд к 2 час. 45 мин. Вместе с Мандрыкой в Сердобск уехали Харламов, саратовские власти – вице-губернатор и прокурор, а также неугомонный Володимеров.
Проводив гостей, сторонники о. Илиодора доложили ему об исполнении его распоряжения: «Сегодня были у флигель-адъютанта. Он был на подворье, видел все. В нашем деле принимал горячее участие Володимеров. Все выехали в Сердобск».
На следующий день в Царицын приехал Родионов. До службы илиодоровцы показали ему монастырь, по той же программе, что и Мандрыке. Но, в отличие от флигель-адъютанта, Родионов никуда не спешил и все с любопытством осматривал. Его, как и Мандрыку, провели в кельи о. Илиодора, показали, как он живет и, главное, как он спит – на голых досках. Затем писатель отправился на вечерню с акафистом, где был изумлен общенародным пением, погрузившим этого «плохого христианина» в глубину богослужения.
Это было то самое воскресенье, в которое о. Илиодор обещал вернуться. Косицын телеграфировал в Сердобск: «Родионов приехал, телеграфируйте, когда вернетесь». Но священник ждал приезда Мандрыки: «После сегодняшнего вечера отвечу, когда вернусь».
Поезд с Мандрыкой и прочими его спутниками прибыл в Сердобск 6.II в 9 часов вечера. На перроне появился о. Илиодор, выхватил из группы пассажиров Володимерова и увез его на извозчике в город.
«Мандрыка приехал торжественно, в сопровождении вице-директора департамента полиции – Харламова и саратовского вице-губернатора Боярского, в полной парадной форме, при всех чинах и орденах». Явившись в дом благочинного, царский посланник прежде всего побеседовал с епископами и выяснил положение: о. Илиодор не желает подчиниться Св. Синоду.
Газеты уверяют, что сам священник вовсе не пожелал разговаривать с флигель-адъютантом, и потребовались продолжительные уговоры, чтобы беседа состоялась. Мандрыка отвел о. Илиодора в отдельную комнату и объявил, «что он приехал сообщить ему Высочайшую волю, что Государь Император недоволен его поведением и проповедями, в которых он должен проповедовать только кротость, смирение и любовь. Что воля Царская непреклонна и он должен немедленно отправиться к новому месту своего назначения».
Странное дело! Командированный, по словам самого Государя, для расследования и последующего доклада, Мандрыка слушает кого угодно, только не самого о. Илиодора, в беседе с которым ограничивается передачей Высочайшего приказа! Экскурсия по монастырю оказалась напрасной!
Потом Сергей Труфанов будет похваляться своим красочным ответом: «Я ответил, что готов и желаю повиноваться царю, но не желанию Столыпина, и что я покажу Столыпину, что он не может распоряжаться в Церкви так, как в Департаменте полиции», причем «Парфений заохал, повалился на диван и заговорил: "Ох, ох! У меня чуть разрыв сердца не случился! Да разве так можно отвечать? Ведь это вы самому царю так дерзко говорили?"». Однако владыка при беседе не присутствовал, а ответ о. Илиодора передавался разными лицами, включая его самого, в куда более скромной форме: «что он из Царицына никуда не поедет».
После этого краткого диалога в Царское Село пришли две телеграммы – всеподданнейший доклад Мандрыки и заявление о. Илиодора, что резкость его выражений от перевода на другое место не смягчится, а «если желают, чтобы он замолчал, то пусть прикажут отрезать ему язык».
Власти уехали на станцию, и духовенство решило, что переговоры кончены.
За ужином преосв. Парфений вновь попытался убедить о. Илиодора, но увещания имели обратный эффект – иеромонах «обрушился бранью на Синод». Свою фразу Труфанов передавал впоследствии так: «Вы там в Синоде не пляшите перед полицеймейстером Столыпиным, и не насилуйте Невесту Христову – Церковь Божию». По другой версии, было сказано, «что постановление Синода состоялось благодаря суду книжников и фарисеев, которые заседают там». «Услышав это, Парфений вскочил из-за стола, бросил половину вареника на вилке на стол, держа другую половину зубами на губах…». И ушел в свою комнату, отказавшись вовсе от ужина.
В 11 час. вечера явился Харламов. Оказалось, власти не покинули Сердобск, а просто уехали на станцию, потому что поселились в вагоне поезда.
Ночной гость пошептался о чем-то с преосв. Гермогеном. Известно лишь, что владыка спросил Харламова, не будет ли о. Илиодор арестован. «Помилуйте, что вы!» – воскликнул Харламов, пояснив, что-де «даже не думают» об этом.
Успокоенный этим ответом, о. Илиодор заторопился к ожидающей пастве и брошенным второпях монастырским делам. «Меня там ждет народ. У меня братии 40 человек. Она без меня голодает», – так он будто бы сказал преосвященному Парфению.
Второй преосвященный отговаривал о. Илиодора, но тот настоял на своем, однако дал владыке подписку, что не будет более произносить в монастыре никаких речей и в Царицыне не будет никакой смуты. После этого еп. Гермоген благословил своего подопечного ехать обратно.
По-видимому, ни Харламова, ни епископа Парфения не сочли нужным известить о предстоящем отъезде.
Владыка Парфений, несмотря на вчерашний скандал сохранивший смирение и рассудительность, ранним утром составил две телеграммы – митрополиту Антонию и Лукьянову – в одном и том же смысле. Вот вторая, более выразительная: «Иеромонах Илиодор отказывается ехать в Тулу, рвется в Царицын. Мне кажется, лучший исход такой: уволив от настоятельства, причислить к саратовскому архиерейскому дому под надзор любящего его и единомышленного епископа Гермогена. Если получу сегодня распоряжение, уеду». После согласования с Харламовым телеграммы полетели в Петербург (в 9 час. 10 мин. и 9 час. 18 мин. пополуночи). Сам преосвященный Парфений тем временем успел помолиться за ранней обедней, а когда вернулся, то узнал, что «священник Егоров увез иеромонаха Илиодора из Сердобска, направляясь в Царицын».
Обстоятельства отъезда породили легенду, будто бы о. Илиодор ночью бежал из Сердобска в Царицын. На самом деле бежать было не от кого. Выехали, по словам о. Михаила, «утром на глазах у всех».
Проект преосвященного Парфения встретил противодействие Боярского. В связи с этим или по другой причине на следующий день Синод предписал еп. Гермогену заставить священника ныне же выехать в Новосиль, «так как дальнейшее упорство иеромонаха Илиодора будет неизбежно сопровождаться тягостными последствиями». Еще ранее на преосвященного, по-видимому, стала давить светская администрация, поскольку 7.II он пообещал Боярскому вернуть о. Илиодора, телеграфировав ему на ст. Поворино, даже хотел лично поехать следом, но воспротивились некие петербургские власти, находившиеся в Царицыне.
Ввиду отъезда главного героя все власти, а также еп. Парфений покинули Сердобск. Особый интерес представляют перемещения Харламова: по словам еп. Парфения, вице-директор выехал вместе с ним и Мандрыкой 8.II в Петербург, а по словам Боярского и по газетным сведениям он предполагал, наоборот, ехать в Царицын 7 или 8.II. Затем Харламов, как и подобает деятелю политического сыска, оказался одновременно в двух местах – в Царицыне, откуда отправил телеграмму Боярскому, и с преосв. Парфением в поезде, следовавшем в Москву. Скорее всего, вице-директор избрал северо-западное направление, а телеграмму отправил через Царицын, чтобы ее там зашифровали.
Отъезд Харламова не в Царицын, а в Петербург ознаменовал его капитуляцию перед свершившимся фактом: переубедить упрямого иеромонаха невозможно, о. Илиодор едет только туда, куда хочет.
Но Столыпин не сдался. В самый день отъезда о. Илиодора из Сердобска (7.II) министр направился к Государю. «В 6 час. принял Столыпина по делу об Илиодоре, не желающем покинуть гор. Царицын», – гласит дневник Николая II. Очевидно, министр добился разрешения на крайние меры.
Всю ночь на 8.II в телеграфной комнате ст. Царицын дежурили жандармы, ожидая распоряжений из Петербурга. Наконец пришел приказ о перехвате бедного священника в дороге с тем, чтобы предложить ему отправиться в Сердобск или Тульскую губернию. Телеграмму подписал, очевидно, товарищ министра внутренних дел ген. П. Г. Курлов со ссылкой на распоряжение Столыпина.
Щекотливое поручение возлагалось на начальника Саратовского губернского жандармского управления полковника В. К. Семигановского, ввиду серьезности положения находившегося в те дни в Царицыне. В 4 часа пополуночи (3 по петербургскому времени) полк. Семигановский выехал экстренным поездом навстречу о. Илиодору.
Тем временем два священника и Володимеров, ничего не подозревая, спокойно ехали в Царицын. С Поворина телеграфировали в монастырь, что приедут в 9 часов утра, и легли спать, причем о. Илиодор в отдельном купе.
«Утром я проснулся раньше всех, – рассказывал о. Михаил. – Был совсем день. Вагон стоял. Вдруг вижу – в вагон входит старший жандармский чиновник очень высокого роста».
Это была станция Иловля (80 верст от Царицына), а вошедший был полк. Семигановский. Войдя в купе о. Илиодора, он разбудил его и сообщил, что вагон отцеплен, поэтому следует перейти в другой. Священник отказался.
«Тогда г. Семигановский, усевшись против меня, устремил на меня свои нахальные, бесстыжие глаза, которыми, казалось, хотел меня съесть». В дверях купе толпились другие жандармы, «любопытно, но ласково» глазевшие на легендарного священника. Он понял: это арест!
– Вы переведены в Тулу, – вновь заговорил гость. – Куда прикажете везти вас – в Тулу или Сердобск?
– Я арестован вами, везите меня, куда хотите.
– Нет, – рассмеялся полк. Семигановский, – мы вас не арестовывали, мы г. Царицын арестовали, мы изолировали вас от него.
И прибавил:
– И в этом случае делаю то, что мне приказано.
– А если бы вам приказали перевернуть святой престол в храме – вы бы и его перевернули?
– Нет, мы престолов не перевертываем.
– Если бы, г. Семигановский, я был на вашем месте, я сбросил бы с себя погоны и ушел от такой службы.
Попытка воззвать к совести полковника оказалась тщетной. «Я продолжал лежать, а жандарм – сидеть, и долго пришлось мне переносить и чувствовать на своем лице дерзкие и наглые взгляды этого солдатского лица». Вскоре он вышел из купе.
Так передавали исторический диалог о.о. Илиодор и Михаил. Полковник же Семигановский рассказывал сердобскому уездному исправнику, что пойманный священник «стал всех бранить и грозил предать проклятию».
Любопытен вывод, к которому пришел один из слушателей доклада Володимерова об этих событиях: полковник намеренно провоцировал о. Илиодора на скандал, чтобы развязать себе руки и применить физическое насилие.
Ввиду отказа арестанта покидать вагон жандармы объявили остальным пассажирам, что этот вагон «больной», и попросили перейти в другой. То же предложение было сделано спутникам о. Илиодора, но они отказались его оставить, заявив, что могут подчиниться только грубой силе. О. Михаил оставался верен обещанию, данному царицынцам, а Володимеров, вероятно, надеялся, что его депутатская неприкосновенность хоть отчасти защитит бедного узника. «Куда повезут его не знаю, но буду сопровождать его, пока это окажется возможным физически», – сообщил Родионову этот «истинный благородный русский дворянин», как именовал его о. Илиодор.
«Больной» вагон был прицеплен к экстренному поезду, который помчался в противоположную от Царицына сторону. Отправить телеграмму не разрешили. В проходах стояли часовые. В сопровождавших его жандармах о. Илиодор узнал своих прежних «прихожан» и оценил масштабы слежки за собой.
Остроумное заявление полк. Семигановского об арестованном городе Царицыне нисколько не меняет того факта, что на станции Иловля произошел арест. Именно так это событие воспринимали преосвященный Гермоген и сам о. Илиодор. Арест, конечно, незаконный: согласно ст. 177 Устава о предупреждении и пресечении преступлений изобличенные и упорствующие в неблаговидных поступках монахи сначала подлежат духовному суду, и лишь по лишении сана отсылаются в распоряжение гражданского правительства.
О. Илиодор с негодованием отмечал, что его обманули, – арестовали вопреки уверению Харламова. Справедливости ради следует отметить, что приказ об аресте оказался неожиданным для вице-директора, который успел уже выехать в столицу.
Сам же Харламов оправдывался, будто полк. Семигановский произвел арест «в свою голову», самовольно, хотя прекрасно знал, что задержание состоялось по распоряжению из Петербурга.
Арест грозил и «илиодоровцам» – Шмелеву, Косицыну, А. Труфанову и другим. Управляющий губернией осторожно представил об этой мере министерству 9.II, но получил отказ.
Итак, поезд поехал от Иловли назад, то есть на северо-запад, чтобы затем повернуть либо на запад в Тулу, либо на восток в Сердобск. Окончательный выбор власти оставили за о. Илиодором.
Отопление уже не работало, но арестант отказался перейти в другой, теплый вагон. Отказался и от пищи и высказал жандармам лишь одну просьбу – позвать священника со Св. Дарами. «Ведь этот обряд совершается только перед смертью?» – спросил полк. Семигановский, выказав свое полное невежество в делах, в которые он так бесцеремонно вмешивался. Удовлетворившись полученным объяснением, полковник пригласил священника с ближайшей станции Филоново. Вскоре в купе иеромонаха вошел о. П. Вилков. О. Илиодор исповедовался и причастился, а на прощание пожертвовал о. Вилкову свою шубу.
«…а потом, оставив свою шубу какому-то священнику, завещал ему раздать ее народу в память о нем», – докладывал сердобский исправник. Какая карикатура! Шуба стоила рублей 300, и о. Илиодор просил ее продать, а вырученные деньги раздать нуждающимся жителям Филоновской станицы. «От бедных людей я ее получил – бедным она и пошла».
Все это происходило во мчавшемся на всех парах поезде, так что о. Вилков поневоле отъехал от своей станицы верст на 60 и сошел на ст. Поворино. Пользуясь случаем, спутники иеромонаха передали с о. Вилковым несколько телеграмм. Володимеров телеграфировал на Высочайшее имя: «Мы арестованы, и я не оставлю иер. Илиодора, если не последует на то Высочайшая воля». Кроме того, сообщили преосв. Гермогену: «Жандармы везут нас в Тулу, сопровождать его или оставить – отвечайте Грязи».
Самая интересная из этих телеграмм была составлена о. Вилковым со слов иеромонаха и послана в царицынский монастырь: «О. Илиодор продолжает исполнение клятвы. Везут его господа жандармы, куда неизвестно. Мною исповедан и причащен св. Тайн между пролетом Филоново–Ярыженская. Шубу завещал Филоновскому станичному обществу. Спокоен. Свящ. ст. Филоново Вилков».
Таким образом, о. Илиодор вновь вернулся к своей клятве – не есть и не пить, пока его не оставят в Царицыне. Известил жандармов. Со слов полк. Семигановского, его узник «заявил, что он уморит себя голодной смертью». Впоследствии сам о. Илиодор объяснял свое решение, во-первых, горем, а во-вторых, боязнью быть отравленным: «Перевод мой в Новосиль, по слухам, стоит полтора миллиона рублей, а за такие деньги можно не только в Новосиль отправить, а куда-нибудь подальше – например, на тот свет». После ареста он готов был ожидать от жандармов чего угодно. Но телеграмма исповедовавшего его о. Вилкова выдает более глубокую подоплеку строгого поста. К тому же Володимеров телеграфировал Родионову: «О. Илиодор захвачен в пути на ст. Иловля и вновь решил не пить, не есть, пока вагон, его везущий, не будет доставлен в Царицын». А это и есть сущность клятвы, данной священником еще в воскресенье.
По словам полк. Семигановского, о. Илиодор «действительно все время лежал в своем купе и ничего не ел до гор. Сердобска». Видно, ждал скорой смерти, раз поспешил причаститься и даже расстался с шубой – в феврале-то месяце!
«Хотя ехали мы быстро, но дорога казалась мне необычайно долгой, – вспоминал о. Илиодор. – Я стал обдумывать свое положение.
Припомнились мне некоторые газетные публицисты, которые доказывали, что на Руси Православная Церковь играет служебную роль, что это есть … орудие для воздействия на народ в руках правящих лиц. Эти последние доказывали обратное. Церковь совершенно свободна, говорили они, никто не посягает на ее внутреннее устроение, не стесняет ее в способах воздействия на ее пасомых, как уверяло и наше правительство.
Но вот настало великое царицынское дело и заставило силу имущих открыть свои карты.
Теперь воочию все увидели, что все уверения поработителей Церкви не имеют под собой почвы.
Где же свобода церкви, когда крест проповедника выбивается у него из рук, звук его проповедующего голоса заглушается лязгом шпор и сам проповедник становится предметом бесцеремонного издевательства и насмеяния над его личностью.
В таких думах проходила моя дорога».
Эти мысли о. Илиодор высказывал и ранее, но теперь обстановка особенно располагала к ним.
Ввиду отсутствия отопления прочие пассажиры вагона сидели в шубах. О. Михаил и Володимеров поневоле присоединились к посту своего спутника: «Батюшка Илиодор не ел и не пил, и нам было совестно есть».
От Поворина поезд двинулся в сторону Тулы до Козлова (ныне Мичуринск), где простоял всю ночь. Здесь наконец-то прицепили отопление, но задержка была вызвана другой причиной. Вероятно, ждали Харламова, который, получив в пути известие об аресте иеромонаха, поспешил вернуться назад.
Любопытно утверждение газет, что на ст. Козлов иеромонах будет передан «другому начальству» для доставления в Петербург. Возможно, этим «другим начальством» и был Харламов.
Приехав в Козлов, вице-директор перебрался в поезд Семигановского, что было отмечено пленниками. Но оказалось, что ни Харламов, ни жандармы не знают дальнейший маршрут.
– Куда же вас везти дальше, – спрашивал полк. Семигановский о. Илиодора, – я положительно недоумеваю!
А тот вообразил, что остановка сделана для его убийства, и ответил невпопад:
– Зачем в таком множестве окружаете меня? Смотрите, во мне весу всего три пуда, а в вас в одном будет пудов 15. Вы легко можете задавить меня, и помощь ваших спутников вам совершенно не нужна.
Не добившись вразумительного ответа, полк. Семигановский связался с Петербургом. Положение было не из легких. Куда бы о. Илиодора ни привезли, в Тулу или в Сердобск, – он бы все равно лежал в купе, отказываясь от пищи. Но в Туле преосвященного Парфения сейчас не было, зато в Сердобске оставался преосвященный Гермоген. Вероятно, поэтому министерство приказало повернуть в Сердобск.
Потом о. Илиодор объяснял это решение чудом, произошедшим по молитве «доброго отца нашего епископа Гермогена» перед иконой Божией Матери «Одигитрия» – «Путеводительница»: «и вот Она-то повернула наш вагон обратно в г. Сердобск. Не случись этого – меня увезли бы в Тулу и вы теперь, может быть, видели бы в Туле одну мою могилу».
Там же на ст. Козлов о. Илиодор получил телеграмму от преосвященного Гермогена, просившего его оставить пост и приехать в Сердобск.
С дороги Володимерову удалось телеграфировать Косицыну о последних событиях.
«Харламов и Семигановский пять вечера привезли Илиодора Сердобск сдали Гермогену. Подробности рапортом», – телеграфировал местный исправник Боярскому 9.II. Это «сдали» как нельзя лучше показывает отношение властей к строптивому монаху. Впрочем, «сдать» оказалось непросто.
Предложив своему арестанту поехать к владыке, полк. Семигановский получил резкий ответ: «Я с вами разговаривать не желаю, а что мне нужно делать, это я знаю сам». Покинуть свой вагон о. Илиодор не только не хотел, но и физически не мог, поскольку остался без шубы. Поэтому отправил к преосвященному о. Михаила с приглашением пожаловать на станцию лично. Вскоре друг вернулся… с архиерейской шубой! Оказалось, что владыка сам не приедет, но зовет о. Илиодора к себе.
Лишь в 7 часов, после долгих уговоров Володимерова и о. Михаила, о. Илиодор надел шубу преосвященного и поехал к нему – все в тот же дом благочинного, который покинул двумя днями ранее. Но как несчастный священник изменился за это время от тяжелых мыслей, поста и приготовления к смерти!
«После двухдневной в разных направлениях поездки иеромонах Илиодор был возвращен жандармской полицией опять в гор. Сердобск, притом голодный, измученный и совершенно больной "в распоряжение Епископа" (??!!!).....», – писал преосвященный Гермоген.
«Встретив нас, епископ принял меня на свою грудь и громко, громко зарыдал», – вспоминал о. Илиодор.
Тем же вечером преосвященный Гермоген изложил подопечному свой проект, который обсуждал ранее с епископом Парфением, – двойное настоятельство. Перейдя в Тульскую епархию, о. Илиодор остается заведующим царицынским подворьем, навещает свой монастырь и сохраняет за собой общее руководство. Против поездок и участия в монастырских делах еп. Парфений не возражал, при условии добровольного подчинения священника распоряжению Св. Синода.
По словам о. Михаила, именно сохранение настоятельства заставило его друга дать свое согласие на переход в Новосильский монастырь. Сам о. Илиодор излагал свои мотивы иначе. Описав встречу с владыкой, он продолжает: «Это рыданье без слов, дальнейшая беседа с епископом и собственные размышления решили мою судьбу. Я понял, что дальнейшее сопротивление грубой физической силе будет бесплодно и мне, следовательно, необходимо ехать в Тулу. Принятое мною решение водворило мир в душе моей, и я спокойно и даже с иронией стал смотреть на те факты, которые прежде раздражали меня».
То же объяснение священник дал своей пастве, протелеграфировав в монастырь следующий трогательный текст: «Возлюбленные милые мои дети. Вы видели, что я все употребил, чтобы быть с вами. Я даже жизнью не дорожил. Я бы умер в Царицыне, если бы был там, но сему воспрепятствовала Сила. Против рожна прать трудно. Не отчаивайтесь. Я радуюсь, – радуйтесь и вы вместе со мной. Через неделю приедет Михаил, все-все вам расскажет. Вы тогда успокойтесь. Поверьте мне пока. Пребывайте в миру [так в тексте], спокойствии и радости о Духе Святом. Настоятель Свято-Духовенского Новосильского монастыря и заведующий Свято-Духовским Царицынским подворьем иеромонах Илиодор». Подпись свидетельствует, что проект двойного настоятельства был о. Илиодором одобрен.
Поздно вечером преосвященный Гермоген телеграфировал еп. Парфению в Москву: «Отец Илиодор, помолившись со мной, дал обещание и решительно согласился ехать в Тулу. Выезжает завтра вечером и в Туле будет в пятницу пополудни. Слава Богу. Он просит благословения и ваших святых молитв».
На следующий день о. Илиодор отправил покаянные телеграммы в Синод и Лукьянову: «Богомудрые отцы! Со слезами пишу. Еду в Тулу. Вашу святыню огорчать не думал непослушанием. Шел невольно против чиновничьего засилья. Простите и помолитесь за меня, грешного и убогого».
Обдумывая вопрос о том, как наладить заочное руководство царицынским монастырем, о. Илиодор продиктовал о. Михаилу письменный наказ из 39 глав. Своим заместителем иеромонах избрал Александра Труфанова, которого вызвал к себе в Тульскую губернию для дачи инструкций.
Понемногу о. Илиодор приходил в себя, становясь прежним – веселым молодым иеромонахом. Даже решил подшутить над полицией, которая продолжала за ним следить.
Недавно он сгоряча предсказал Харламову, что когда-нибудь революционеры будут так же преследовать его, Харламова, причем с бомбами. Тот отнекивался, утверждая, что наблюдение выставил не он. Действительно, это было сделано исправником. И вот этих агентов о. Илиодор решил подразнить, изобразив побег. Сел в сани вместе с прот. Образцовым, выехал за город, слез и побежал в лес. Агентура, конечно, их заметила, поэтому всю дорогу за ними мчался верхом казак, догнавший священника уже в лесу.
Кроме того, у о. Илиодора созрел план еще одной мистификации. Новоиспеченный настоятель решил поселиться в Новосильском монастыре тайно, под видом простого монаха, познакомиться с положением изнутри, а через несколько дней открыться. О. Илиодор взял у прот. Образцова старую рясу и мешок, вырубил себе в саду палку, положил в мешок три фунта кренделей, чай и сахар, снаружи привязал жестяной чайник. Сапоги и калоши пожертвовал «монастырской братии», а взамен надел валенки.
Простившись с преосвященным Гермогеном при взаимных слезах и объятиях, иеромонах в сопровождении друзей поехал на вокзал, где уже поджидал Харламов и другие власти: «А мы думали, что вы уехали из города». Для большего смирения о. Илиодор решил купить билет 3-го класса, о котором в какой-то проповеди сам говорил, что эдак только скот возить, а не людей. Когда же таких билетов не оказалось, то взял билет 2-го до Пензы, намереваясь оттуда ехать 3-м классом до Тулы. Простился с друзьями и поехал под наблюдением Харламова и сыщиков.
«Наконец, напутствуемый благословениями епископа Гермогена, я выехал в Тулу, не только оттрясая прах царицынский от ног своих, но даже и самые сапоги оставил в Сердобске. Одет был я очень бедно, имел вид странствующего богомольца, и царицынские безбожники лишились возможности сказать, что я что-нибудь увез из Царицына. В Царицын я приехал с тремя рублями и имел одежды рублей на 100, а уезжал имея денег только на билет до Тулы (и то данных епископом) и рублей на 15 одежды».
Следует еще раз подчеркнуть, что произошел не просто перевод священника в другую епархию, – хотя и перевод создателя настолько сплоченной общины выглядит несправедливо! – а расправа светской власти с неугодным лицом, причем и Государь, и священноначалие пошли у нее на поводу. О. Илиодор подчеркивал, что сопротивляется только чиновникам и никому иному:
«Я никогда не обижался и не обижаюсь на распоряжения Св. Синода о переводе меня в другой монастырь, но я глубоко обижен и оскорблен тем, что меня оклеветали напрасно, и преследовали незаслуженно. Я никогда не думал противиться Царской воле, но я противился только и восставал против чиновничьего насилия».
Неистовое сопротивление о. Илиодора то ли Св. Синоду, то ли водившему его рукой правительству встретило неодобрение даже в консервативных кругах.
Прот. Восторгов на собрании монархистов в Москве с большим сочувствием отзывался об о. Илиодоре, однако отметил, что за свою голодовку как революционный акт он должен быть предан духовному суду.
«Земщина» скорбела «по поводу слишком шумного протеста отца Илиодора», действия которого подорвали авторитет священноначалия. «Теперь же верующий инок создал такое положение, при котором принятие его под защиту государства явится как бы косвенным осуждением Св. Синода». С «большим облегчением» была воспринята газетой весть о подчинении о. Илиодора: «ослушание его производило соблазн и подготовляло раскол». Однако «Земщина» не упустила случая сделать выпад по адресу ненавистного Лукьянова, возложив на него ответственность за бунт царицынского монаха.
«Московские ведомости» благодарили Бога «за прекращение церковного соблазна».
Оппозиция говорила об о. Илиодоре очень резко. Гр. Уваров откровенно заявил с кафедры Г. Думы, что ему место в психиатрической лечебнице.
Официозный «Свет» назвал о. Илиодора «дерзким честолюбцем» и «аскетом-карьеристом». «Чувство жалости к нему поглощается негодованием за тот срам, которым он покрыл свой сан, явив пример неслыханного соблазна». «Неуравновешенный, совершенно не владеющий собой молодой монах закусил удила. Его опьянило поклонение невежественной толпы, которую он подстрекает то против урядника, то против судьи, то против губернатора. Теперь он добрался и до самого Св. Синода. Ничего не значит в его глазах и санкция Верховной Власти».
Впрочем, нашлись и сочувствующие. Например, некий М. И. Сухонин-Унжанин из г. Юрьевец Костромской губ. писал «священномученику иеромонаху Илиодору»: «Ты избранный Богом сосуд, который должен наполниться кровью мучеников до краев. Как только из краев сосуда потечет кровь, так тогда Царь Батюшка соизволит узнать, что стервятники насытились нашей крови чрезмерно…». Но сочувствующих оказалось немного, тем более что по газетам мудрено было понять правду.
В ночь на 12.II о. Илиодор приехал в Тулу. Вопреки желанию иеромонаха ехать как можно скромнее, власти привезли его в отдельном вагоне I класса.
В Туле было две железнодорожные станции, и о. Илиодор по ошибке сошел не на главной, а на Туле-Вяземской.
Ввиду позднего времени он не стал никого тревожить и, выпив стакан чая с хлебом, устроился ночевать прямо на вокзале, на деревянной лавке зала 3-го класса. Однако отдохнуть не удалось.
Вокруг знаменитого священника суетились жандармы. Сыщики, прибывшие вместе с ним, убеждали тульские власти, что вот этот нищий монах и есть тот самый о. Илиодор, о котором пишут все газеты.
Власти были немало озадачены его преждевременным выходом из поезда, подозревая какой-то подвох. Харламов, остававшийся в поезде, то и дело посылал узнать, что делает о. Илиодор. Наконец один из местных жандармов решился спросить о дальнейшем маршруте самого иеромонаха. «Не хлопочите обо мне, – резко ответил о. Илиодор, – я сам знаю, куда мне ехать и что делать».
Поняв, что он не вернется в поезд, власти отцепили его вагон.
Между тем на вокзале началось, по словам о. Илиодора, издевательство. «…окружили меня сыщики, жандармы, полицейские и целая стая газетных собак. Все они нагло и насмешливо смотрели на меня, как бы говоря глазами: "а, наконец-то ты, голубчик, попался!". Сколько мне приходилось переносить от них насмешек и оскорблений! Мне было так тяжело, что я готов был лучше умереть. Ворвался какой-то пьяный рабочий и стал так ужасно ругаться и безобразничать, что я не выдержал и заплакал. Он ругался, а я плакал, и окружающие меня надо мной смеялись, издевались. Но, должно быть, Сам Господь пожалел меня и заступился.
Вошел какой-то простой деревенский мужичок и обратясь к смеющимся надо мной сказал: "Как вам не стыдно, над кем вы смеетесь, ведь он теперь отец наш родной". Я не знаю, как назвать этого мужика, но вижу, что он меня понял потому, что назвал отцом родным. После слов этого мужичка мои оскорбители оставили меня в покое».
Если «мужичок» сразу заметил насмехательство, следовательно, оно производилось не только «глазами», но и вслух. Вероятно, именно об этом эпизоде о. Илиодор позже писал: «бесконечно издевались надо мною сыщики, громко называя меня клеветником всей России».
Уйти от насмешек было некуда. Он лежал без сна с закрытыми глазами и ждал рассвета, слушая, как жандармы пытаются получить сведения от его спутника – крестьянина Нестора. Тот, однако, отказался доносить на своего покровителя.
До утра агенты полиции и газет дежурили на вокзале, следя за бедным священником. Когда рассвело, он в сопровождении Нестора отправился к архиерейскому дому под эскортом все той же компании: «…за нами гужом посыпали сыщики, жандармы и газетные собаки». Дойдя до места назначения, о. Илиодор обернулся к ним и пригрозил пожаловаться Государю Императору. Эскорт мгновенно исчез.
Преосвященный Парфений, лишь накануне прибывший в Тулу из Москвы для встречи с о. Илиодором, принял гостя «особенно отечески ласково». «Меня пригласил в свои покои и Нестора послал в людскую и приказал его как можно получше накормить». Владыка немедленно сообщил митрополиту Антонию и обер-прокурору о приезде священника, который-де «настроен благодушно, горит желанием служить Новосильскому монастырю».
Это была родительская суббота, и с разрешения архиерея о. Илиодор тут же совершил панихиду. Затем служил в Туле еще трижды – в субботу всенощное бдение, а в воскресенье вместе с преосвященным Литургию и вечерню. За четыре службы произнес четыре проповеди – «не без свойственной ему резкости, но на слушателей в общем произвел хорошее впечатление», – докладывал в Синод еп. Парфений. Одна «разодетая дама» даже громко выразила свой восторг, на что проповедник потом сетовал: «эта дама только похвалила, а исполнять не будет». Вечером о. Илиодор избрал темой своей проповеди «великого богохульника и развратителя земли русской графа Л.Н. Толстого» – о чем же еще говорить возле Ясной Поляны! «Должно быть, проповедь моя понравилась, потому что когда я вышел из храма, то народ бежал за мной толпами, чтобы получить от меня благословение». Впрочем, корреспонденты либеральных газет сообщали, что «слушатели отнеслись к Илиодору как к маньяку и истерику», говоря, что «так кричат только на сцене»
Вообще богослужения, совершавшиеся знаменитым священником в Туле, привлекли очень много людей, как простонародья, так и интеллигенции. К радости о. Илиодора, и те, и другие охотно подходили к нему под благословение.
Но больше всего он был изумлен, когда то же самое не постеснялся сделать губернатор Д. Б. Кобеко. «Вы понимаете ли, – писал о. Илиодор, – сам тульский губернатор поцеловал у меня руку. … В Саратове и Царицыне власти мне руки не целовали». Вероятно, Кобеко опасался, как бы знаменитый проповедник не отправил и его доить коров вслед за бывшим саратовским губернатором. Как, оказывается, легко было найти с о. Илиодором общий язык! Гр. Татищев мобилизовал весь доступный ему полицейско-бюрократический аппарат для войны с несчастным монахом, а тульский губернатор обезоружил его одним-единственным жестом.
Впрочем, благочестивый маневр Кобеко не обманул о. Илиодора. Он понял: «губернатор поцеловал мне руку не из уважения, а просто из-за того, чтобы угодить этим высшим властям и зажать мне рот. Но он ошибается: рта этим он мне не зажмет, и я буду говорить и проповедовать так, как раньше проповедовал, и даже еще громче. Совсем напрасно он это сделал».
Беседа с губернатором, к которому о. Илиодора привез преосв. Парфений, продолжалась около часа. Иеромонах просил наладить точную запись его проповедей. «…по-видимому, оба друг другом остались довольны», – отметил владыка.
В воскресенье добрался до Тулы эконом саратовского архиерейского дома о. Востриков, командированный еп. Гермогеном вслед его подопечному, и доложил владыке: «Отец Илиодор несказанно утешен. Он ныне служил, проповедовал».
Словом, за исключением вокзального эпизода, Тула привела о. Илиодора в восторг – «тихая, нравственная и привлекательная» по сравнению с «развратным грязным и гадким» Царицыным. «Какие добрые люди в Туле, – говорил священник. – Никто не сказал мне дурного слова, а в Саратове и Царицыне многие травили меня, как дикого зверя». «После Царицына, где я находился как в котле с кипящей водой, Тула показалась мне приятной ванной». Тут о. Илиодор впервые подумал, что не хочет возвращаться в город, за право служить в котором столько боролся.
Ранним утром в понедельник о. Илиодор покинул привлекательную Тулу и направился к месту своего нового служения, сопровождаемый о. Востриковым, благочинным монастырей Тульской епархии иеромонахом Лазарем и верным Нестором. Надо думать, еще и жандармами. Как ехали высокопоставленные священники, неизвестно, а о. Илиодор с послушником ехали в вагоне 3-го класса.
Путь пролегал через Ясную Поляну. «Я раздумался тут. И думаю так: вот в этой земле жил великий учитель жизни Л.Н. Толстой, и если он светом своего ученья озарял весь мир, то, во всяком случае, Ясная Поляна должна быть озарена им лучше всех». О. Илиодор стал интервьюировать попутчиков – местных крестьян.
« – Ну, братцы, чему хорошему научил вас Лев Толстой?!
А они мне отвечают:
– Да ну его к шуту, он не учил, а только дурака ломал».
Пользуясь случаем, священник проверил несколько легенд, созданных газетами вокруг недавних похорон Толстого. Оказалось, что могилу ему выкопали не тысячи крестьян, а только двое, что за гробом шли не сто тысяч человек, а не более 3-х тысяч, «да и то не наши, а все больше жиды, да какие-то приезжие жители с Кавказа», а что касается торжественных обетов, будто бы произносимых на могиле, то, действительно, «приехал из Москвы какой-то один чудной такой господин», поклявшийся тут не пить, «но в тот же день к вечеру напился в селе пьян и скандалил». Далее собеседники якобы произнесли фразу совершенно в духе самого интервьюера: «По-нашему, следовало бы всех тех бездельников, кто только шляется на могилу Толстого, отодрать плетками, так у них ума и прибавилось бы».
Внезапно обнаруживший в себе талант репортера о. Илиодор тщательно все записывал, задумав издать путевые заметки отдельной брошюрой. Министерство же внутренних дел заблаговременно приняло меры, чтобы своевременно арестовать этот труд, если в нем найдется что-нибудь противозаконное.
Доехав до станции Залегощь, о. Илиодор сошел с поезда и на высланных навстречу санях преодолел оставшиеся до монастыря 12 верст. Потом Сергей Труфанов напишет: «В конце концов настоятеля Новосильского монастыря жандармы представили братии…». Это очевидное преувеличение, потому что с о. Илиодором приехал благочинный для формальной передачи монастырских дел. Явиться инкогнито, таким образом, не удалось.
Монастырь новому настоятелю понравился. «Новосиль – это край очень богатый, богат там и монастырь, много у него земли и денег. Это просто рай земной». Понравилась и братия, состоящая «из людей молитвенных, смиренных, целомудренных». Осмотрели хозяйство, огромное, но запущенное: 40 тыс. руб. неприкосновенного капитала, 400 десятин пахотной земли, 70 десятин строевого леса, имение с 500 десятин земли, мельница об 11 поставах (т.е. огромная – с 11 парами жерновов для перемола зерна), 50 лошадей, 50 коров, 100 овец, 10 свиней.
«Вот, теперь я поработаю и здесь», – решил о. Илиодор. В его голове носились планы не только подъема монастырского хозяйства, но и строительства нового храма, гостиницы для богомольцев и школы на 5000 крестьянских детей с 200 учителями!
Не забывал о. Илиодор и о своем царицынском монастыре, рассчитывая продолжать работу и там. Оттуда, между прочим, доходили дурные вести о притеснениях, которым подвергаются богомольцы подворья.
Настроение этих дней отражено в телеграмме преосвященному Гермогену 15.II: «Дорогой владыка! До Новосиля доехали, слава Богу, благополучно. Спаси вас Господи за молитвы и утешение. Мне хорошо, только скорблю за детей. Прошу вас поехать туда на один день. Детей моих гонят, лишают мест, смеются, оскорбляют. Батюшка отец Иоанн сегодня выедет. Я принимаю монастырь. Любящий вас послушник иеромонах Илиодор, послушник Александр».
Очевидно, именно Александр Труфанов, приехавший в Тульскую губернию по вызову брата и встретивший его в монастыре, привез эти грустные вести из Царицына.
Свой путевой дневник о. Илиодор закончил благословениями в адрес Императорской четы, Синода, а также всех своих врагов поименно.
«Благословляю я первого и главного врага моего Председателя совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина и желаю ему поскорее получить титул Графа. Благодарю его за то, что только его стараниями я удален из разбойнического и окаянного города Царицына. Теперь душа моя будет отдыхать в спокойствии и вместе с телом набираться новой силы для борьбы с врагами Царя и отечества. Пока и он, и я оба трудились, только не одинаково: он, получая огромное содержание, купил себе в Петербурге за 160.000 руб. дом, который будет принадлежать только его детям и внукам, а я, бедный и убогий монах, ничего не имеющий, в короткое время построил более чем за 300.000 прекрасный монастырь, который будет принадлежать и служить нравственной и религиозной поддержкой простому и темному русскому народу. Он старается, но не может уменьшить пьянство в России, а я спас от этого порока тысячи людей и говорю об этом с гордостью.
Я насаждаю православие, а г. Столыпин усиливает охраны, стоящие громадных денег. Я объединяю людей православных для защиты Веры, Царя и отечества, а Столыпин объединяет полицию, жандармов и охранников.
Придет время, когда и вы поймете, что я был во всем прав, но тогда это будет уже поздно, слишком поздно!
Благословляю я и обер-прокурора Св. Синода Лукьянова, но мне его жаль, очень жаль: зачем он взялся не за свое дело: он оставил свою докторскую трубку и взялся за обер-прокурорское перо. Это к нему совсем нейдет, и он может быть счастлив только тогда, когда вернется к своей специальности врача и вместо обер-прокурорского пера возьмет снова в руки свою докторскую трубку».
В том же духе полуиронически благословлялись Харламов, Боярский, гр. Татищев, полк. Семигановский, Бочаров, а также жандармы и даже пристав с тульского вокзала. Дойдя до фамилии бывшего саратовского губернатора, о. Илиодор вспомнил свою недавнюю шутку о дойке коров: «Тогда я над ним посмеялся, а теперь меня и самого послали в такой монастырь, где мне самому придется доить коров».
Наконец, черед дошел и до царицынского купечества: «Благословляю Максимовых, Воскресенских, Булгаковых, Лапшиных, Чернушкиных, Зайцевых, Филимоновых, Пироговых и других царицынских богатеев, пьяниц, развратников, клеветников и безбожников, так как благодаря их стараниям меня удалили из Царицына.
Теперь они смело могут продолжать свою преступную деятельность и им нечего бояться, что иеромонах Илиодор будет выводить их на чистую воду».
Подсчитав подлежащих дойке коров, священник заметил, что за ним по-прежнему следят. Он утверждал, что маленькая новосильская гостиница была переполнена газетными репортерами и сыщиками, причем последние для отвода глаз даже исповедовались у него.
Факт наблюдения косвенно засвидетельствовал сам товарищ министра внутренних дел Курлов:
« – Илиодор крепко засажен и убежать не может.
– Охотно верю, тем не менее, если бы он бежал, то я прошу…
– Повторяю Вам, он не убежит…
– Но если он убежит…
– Если товарищ министра, заведывающий полицией, говорит Вашему Превосходительству, что Илиодор не убежит, то он не убежит».
Проводив о. Илиодора в Тулу, преосвященный Гермоген передал (12.II) в Саратовскую консисторию следующую бумагу: «Согласно выраженному его преосвященством преосвященнейшим Парфением епископом Тульским и моему неизменному желанию иеромонах Илиодор по-прежнему остается заведующим царицынским Свято-Духовским подворьем; причем поручаю ему указывать, когда потребуется, официально особыми письменными донесениями лиц из числа братии подворья, которым можно поручить те или иные ответственные послушания по руководству делами подворья».
Ссылка на преосвященного Парфения сделана исключительно ввиду устного согласия, данного им ранее. При заключительных сердобских переговорах 9.II он не присутствовал, а по телеграфу его лишь известили о том, что о. Илиодор покорился, но об условиях не упомянули.
По-видимому, о. Михаилу Егорову была вручена копия архиерейского распоряжения, поскольку уже 13.II он прочел эту бумагу в монастырском храме и даже издали показал ее народу. Согласно донесению Пучковского, о. Михаил сказал, что бумага подписана обоими епископами и содержит ссылку на разрешение Св. Синода. Это либо ложь, либо ошибка агента. Как бы то ни было, сведения о таинственной грамоте дошли до Синода, в том числе до еп. Парфения, который был изумлен ссылкой на себя.
«Что-нибудь тут не так, – написал он преосвященному Гермогену 1.III. – Я ведь знаю, что занимать официально две должности в двух разных епархиях невозможно». Далее еп. Парфений напоминает, что он согласился лишь на неформальное участие о. Илиодора в начатом деле «сбором пожертвований, сочувствием, советом и проч.», и то при условии, что священник подчинится сразу и без скандала. Письмо заканчивалось советом отменить распоряжение, которое все равно будет отменено Синодом.
Предъявляя епископу Гермогену это требование, преосвященный Парфений не подозревал, что его собственная консистория уже получила из Саратова архиерейское распоряжение и в порядке бумажной волокиты послала (28.II) в Новосиль соответствующий указ.
Об отправке экстренного поезда и предполагающемся аресте о. Илиодора его паства узнала немедленно благодаря его приверженцам из числа железнодорожных служащих. «…как отправили поезд, так двое наших прибежали ко мне с вокзала», – говорил Косицын Родионову. Однако несколько сот человек все-таки пришли утром к вокзалу встретить поезд, на котором обещался прибыть их пастырь. Там дежурила полиция, оцепив туннель и железнодорожный проезд. От пассажиров опоздавшего на полтора часа поезда богомольцы узнали об отцепке вагона. Позже из телеграмм о. Вилкова и Володимерова поняли, что о. Илиодора куда-то везут жандармы. Обращались за сведениями даже к преосвященному Гермогену.
«Народ все эти дни собирается в большом количестве на подворье в храм Богу молиться и ходит как ошеломленный, как потерявший что-то драгоценное … – писал владыке мещанин Н.М. Попов 10.II. – Народ ходит в храм, как осиротелый и, несмотря на все непогоды, собирается тысячами, где при упоминании о. Илиодора сильно плачет до истерики, жаль им его, жаль и мне его, этого великого православного подвижника, монаха Илиодора, где он, дорогой наш, стоящий за правду Христову, за Самодержавного Царя и за русский народ. Батюшка Гермоген, откликнитесь на его несчастье, помогите ему, может быть, он голодный и холодный. … похлопочите об о. Илиодоре, о возврате его в Царицын, докончить начатое им дело. И нас, грешных, утешьте своим пастырским словом и сообщите, где он находится, о. Илиодор. Желаю вам от Господа Бога счастья».
Вскоре из телеграммы самого о. Илиодора стало ясно, что он едет в Новосиль. Обещавший без друга не возвращаться о. Михаил не сдержал слова и вернулся один, за что некие горячие головы пригрозили побить его камнями.
Воскресным вечером 13.II в монастыре состоялось большое собрание. Присутствовало около 5 тыс. человек. Сначала Максимилиан Труфанов произнес речь о своем брате и гонениях на него, а затем о. Михаил сделал народу целый доклад.
Передав слушателям поклон и пастырское благословение от преосвященного Гермогена и о. Илиодора, священник прочел распоряжение о сохранении за его другом настоятельства в царицынском монастыре. На словах пояснил, что о. Илиодор будет сюда наезжать, а со временем, может быть, его и совсем переведут обратно.
Затем о. Михаил подробно рассказал о своей поездке с ним в Сердобск, о попытке пробиться обратно, об аресте, двухдневных скитаниях, возвращении к преосвященному Гермогену, решении ехать в Новосиль и, наконец, обстоятельствах отъезда в Тулу.
Вечер завершился чтением письменного наказа о. Илиодора Царицынскому монастырскому подворью. Этот документ содержал разные мелкие распоряжения по монастырю, заведование хозяйственной частью которого поручалось Александру Труфанову. Как и ранее в своем завещании, о. Илиодор просил уплатить свой долг лесопромышленникам и продать его карету и лошадей, с тем чтобы вырученные средства отдать в неприкосновенный капитал Иоанновского братства. Тот крестик, который священник оставил в Царицыне перед отъездом, вделать в икону Благовещения. В келье поддерживать неугасимую лампадку. Богомольцам о. Илиодор наказывал посещать храм, поститься, молиться и приглашал их в мае к себе в Новосиль. Сам же обещал приезжать в Царицын на Рождество, на Пасху, на Троицу и летом. «Приеду на один день и проживу месяц, а то и два».
После этого паства послала в Синод телеграмму, в которой, отмечая, что с переводом о. Илиодора «замирает царицынская обитель», просила о его возвращении «ради торжественного дня 19 февраля».
20.II, в Прощеное воскресенье, в монастыре была прочитана новая трогательная телеграмма из Новосиля: «Дети мои, чего вы плачете? Не плачьте! Разве вы не знаете, что тело мое здесь, а душа присутствует с вами?! Кто не будет посещать то место, где присутствует моя душа, того не буду считать своим. Молитесь Богу. Скоро получится радостное известие и тогда возликуем над врагом. О дне моего прибытия получите известие. Ради сегодняшнего дня простите меня, если кого обидел или кого не призрел».
«Не плакать и не скорбеть нельзя. Слезы сами льются», – ответила паства, в свою очередь испрашивая прощения.
Таинственные намеки илиодоровской телеграммы несколько разъяснились, когда из Новосиля вернулся Александр, 26.II сообщивший богомольцам, что его брат скоро вернется в Царицын насовсем.
Навестил о. Илиодора и его келейник Емельян, с которым священник передал пространное письмо к пастве – толстую тетрадку в четверть писчего листа. Вечером 27.II приверженцы о. Илиодора, заранее извещенные членами «Братского союза», собрались в монастыре послушать это послание. Храм был переполнен. После вечерни и акафиста Божией Матери Емельян, выйдя на амвон, передал богомольцам благословение и низкий поклон о. Илиодора. Затем о. Михаил прочел его письмо, начинавшееся так:
«Мир и любовь шлю вам, возлюбленные мои дети. Любовь, это высокое святое чувство, шлю я вам, которое соединяет людей, разделенных далеким пространством, и которое никогда не поймут мелкие душонки и [нрзб] сердца».
Далее следовал подробный рассказ о недавних мытарствах о. Илиодора, переходящий в его путевой дневник. Рассказ о Туле и Новосиле сопровождался многочисленными сравнениями с Царицыным, всегда не в пользу последнего: народ благочестивее, монастырская братия духовнее, наконец, даже свиньи и собаки лучше, чем царицынские! «Я думаю, – писал о. Илиодор, – что теперь больше не буду жить в Царицыне, да и не хочу в нем жить». Однако письмо заканчивалось обещанием все-таки приезжать ради паствы: «полгода буду жить с вами, а полгода здесь в Новосиле. Останавливаться я буду не в монастыре, а у одной доброй и благочестивой женщины на Пушкинской улице».
Кроме того, он повторил своим «деткам» приглашение в гости: «Вы кормили меня в Царицыне почти три года, а я хочу угостить вас здесь. Я построю для вас бараки и палатки, угощу всякой едой, заколю тельца упитанного и угощу чудным монастырским квасом».
Снова заповедав «детям» усердно посещать храм и молиться, о. Илиодор подписался, по обыкновению, настоятелем Новосильского монастыря и заведующим Царицынским монастырским подворьем.
Внешне жизнь подворья стала устраиваться. Желание о. Илиодора о передаче хозяйственной части в руки Александра Труфанова было исполнено так: его назначили псаломщиком царицынского собора и откомандировали на монастырское подворье.
Но гораздо труднее было сохранить духовный ритм общины. Разлука с о. Илиодором повергла его приверженцев в большую скорбь. Многие с горя предались пьянству.
Почувствовав свою безнаказанность, лесопромышленники начали притеснять служащих-илиодоровцев – уменьшать заработную плату или увольнять. На головы несчастных богомольцев сыпались насмешки. «Знали безбожники, что вы долго постились и молились, прося Господа Бога оставить меня в Царицыне, и вот, когда меня от вас увезли, они и стали издеваться над вами и говорили вам в глаза: вот вы постились и молились по целым не только дням и ночам, – по целым неделям, умирали с голоду, изнуряли себя постом и молитвою – и что же из этого вышло?! Где же ваш Бог?!». Известно также, что чинились препятствия для сбора подписей под прошениями о помиловании о. Илиодора.
С другой стороны, в среде самих илиодоровцев возникло возмущение действиями жандармов, арестовавших о. Илиодора. Ротмистр Тарасов даже доложил об этом полк. Семигановскому и предупредил унтер-офицеров, чтобы они были осторожны.
Недолго о. Илиодор ликовал, что у него все так хорошо устроилось. Настроение быстро поменялось, что легко проследить по телеграммам и письмам.
Перед отъездом в Тулу (вероятно, 10.II) о. Илиодор обещает приезжать в Царицын на Рождество, на Пасху, на Троицу и летом.
15.II телеграфирует еп. Гермогену: «Мне хорошо, только скорблю за детей».
В те же дни заканчивает путевой дневник, где признается, что не хочет жить в Царицыне и будет приезжать только ради «деток» на полгода каждый год, причем останавливаясь не в монастыре. Впоследствии священник подтверждал, что действительно не хотел возвращаться в Царицын с его «богатыми и сытыми гадинами под видом людей» и совсем бы возненавидел этот город, если бы не паства.
Но уже 20.II о. Илиодор в туманных выражениях обнадеживает царицынцев, извещая их о предстоящей победе над неким «врагом».
Наконец, 26.II Александр Труфанов объявляет, что брат скоро вернется насовсем.
Перемена настроения была вызвана препятствиями, которые стали чиниться работе новосильского настоятеля. Задумав построить большой храм, он попросил у Государя 150 тыс., но не получил ответа: «вероятно, моя просьба, как и мои телеграммы, застряли в кармане какого-нибудь министра». Тогда о. Илиодор обратился к Синоду, прося разрешения взять из банка половину запасного монастырского капитала и продать часть земли местным крестьянам, но получил отказ. Окончательно новосильский настоятель был сражен перепиской с преосвященным, который разрешил ему ремонтировать монастырские храмы на сумму 500 руб. в год. 500 рублей! Только из банка о. Илиодор хотел взять 20 тысяч руб., не считая других источников! А тут 500 рублей! Что до строительства школы, то владыка прямо назвал этот проект неосуществимой мечтой…
«Безучастное и даже насмешливое отношение» преосвященного к «святым порывам» новосильского настоятеля его «убило». «…со мной епископ Парфений хочет сделать, как если бы большой пароход без руля пустили бы плавать по узенькой речке, и он только бы и делал, что пых об один берег, пых об другой берег, и больше никакого бы проку из него не вышло».
Запрет на стройку положил конец пастырской деятельности о. Илиодора в наиболее привычной для него форме, поскольку он, не имея в своем распоряжении большого храма и паломнической гостиницы, не мог снова собирать вокруг себя тысячи людей.
Местное население, по-видимому, не интересовалось речами нового настоятеля. «Мужики там (в Тульской губернии) живут грязно, ходят в лаптях, в избах телята…», – сокрушался тот, имея в виду не столько нищету, сколько непритязательность местных крестьян.
Таким образом, то, что о. Илиодор считал своим призванием – проповедь – в Новосиле пришлось оставить.
«…в академии меня не учили кирпичи класть, мертвые камни обделывать, маленькие храмы ремонтировать, напротив, меня тщательно учили нянчить бессмертные богоподобные души народные, меня учили пастырствовать, священствовать, пророчествовать, то есть проповедовать, учить, наставлять, обличать, запрещать, умолять людей. … руководить монахами нас, ученых монахов, к великому прискорбию в академии тоже не учили. … К созерцательной иноческой жизни я не способен, не искал ее, когда я шел в монахи. Я искал боевой монашеской жизни. Это мое призвание, это моя истинная жизнь».
Богатый монастырь оказался для о. Илиодора золотой клеткой: «В Новосиле много земного, но нет ничего такого, что бы напоминало о небесном». «Мне нечего там было делать», – рассказывал он впоследствии.
В разгаре неприятностей вдруг пришла бумага из Тульской консистории о сохранении за о. Илиодором настоятельства в царицынском монастыре, вследствие чего иеромонах счел себя вправе уехать обратно. И он задумал побег.
О. Илиодор утверждал, что толчком к побегу стали полученные утром 9.III из Петербурга известия о расследовании царицынского дела. «…полиция в таких случаях как делает: берет за горло – говори так, как ей нравится». Испугавшись, что следователи превратят тысячи приверженцев, постившихся в храме вместе с ним, в жалкую горстку, о. Илиодор «счел священным долгом немедленно приехать в Царицын собрать свое рассеянное стадо и воодушевить своих запуганных властями и начальствами птенцов».
Однако побег подозрительно совпал со знаменитым министерским кризисом марта 1911 г., когда Столыпин подал в отставку (5.III). Поэтому сигнал к бегству приписывали разным тайным силам обеих столиц. «О. Илиодора вызвали из Новосиля в Царицын, вероятно, петербургские люди, и не по сочувствию населению Царицына, а по несочувствию Столыпину и М. Антонию», – писал архиепископ Антоний Волынский «Голос Москвы» подозревал, что московские друзья инока дали ему сигнал: дескать, вперед, твой главный враг сокрушен! Однако, прочитав эту заметку, прот. И. Восторгов поспешил уверить обер-прокурора в непричастности своей и правых московских организаций к «безумному шагу Илиодора».
Как бы то ни было, путь беглеца на юг лежал через север. Газеты резонно предполагали, что конечной целью путешествия был Петербург.
По сведениям одного тульского публициста, «руководила побегом» некая дама. Несомненно, это была известная поклонница Распутина О.В. Лохтина, почитавшая о. Илиодора и в любых обстоятельствах сохранявшая преданность ему.
Чтобы ускользнуть от властей, иеромонах прибегнул к хитроумному приему: «Обманули меня они два раза, забрав меня, как разбойника, врасплох в пути, – дай и я их обману таким же образом». «Я послал в разные стороны телеграммы: в Петербург, Москву, в Тулу, что я уезжаю в монастырское имение на отдых. Смотрю, все стражники и сыщики сразу успокоились, а стражники так совсем и исчезли, будто бы сквозь землю провалились. Поверила этому и монастырская братия». Позже он похвалялся, как ловно «замел следы, так что его спохватятся через три дня».
Утром 9.III о. Илиодор в сопровождении брата и келейника отправился в имение, а оттуда – на станцию Мценск, где, по-видимому, его ожидала Лохтина. Вместе с ней иеромонах, надев большие синие очки и меховую шапку, поехал в Москву.
По приезде в Москву Лохтина отвезла о. Илиодора на Долгоруковскую улицу, в дом, принадлежавший, по одним сведениям, друзьям «генеральши», по другим – ей самой. Сюда же явился редактор газеты «Русская земля» М.Л. Плетнев. Оба принялись сочинять прошение Синоду о возвращении в Царицын, которое затем Лохтина передала в Петербург.
По-видимому, Плетнев принес несколько экземпляров им же отредактированной и только что отпечатанной брошюры «Правда об иеромонахе Илиодоре». Заглавный герой забрал их с собой, что оказалось очень удачно, поскольку через два дня весь остальной тираж был конфискован.
Для сохранения покрова тайны дезинформировали печать. Через «полицейских репортеров» (репортеров, дающих сведения о запротоколенных полицией происшествиях) все московские газеты получили опровержение слуха о бегстве иеромонаха. В Петербурге такое опровержение было продублировано «одним из видных монархистов, находящимся в личной дружбе с иеромонахом Илиодором». «Очевидно, в стане заговорщиков участвовал смелый вдохновитель, опытный в технике газетного дела», – писал «Голос Москвы».
Однако хитроумный план испортил сам о. Илиодор. Встретив в том же доме, где остановился, пятерых студентов, он вступил с ними в беседу. Надо сказать, что в те дни положение высшей школы было критическое. Всю зиму в ее стенах шла битва между революционными студенческими организациями и правительством. Власти запретили сходки и подвергли всех неблагонадежных студентов репрессиям, вплоть до высылки этапным порядком. Ответом стали забастовки и химическая обструкция. В университетах дежурила полиция, но студенты и почти открыто примкнувшие к ним профессора препятствовали возобновлению учебного процесса.
Пятеро молодых людей, с которыми встретился о. Илиодор, оказались забастовщиками. По своей привычке лезть ко всем встречным с советами он сделал собеседникам «отеческое внушение»:
– Надо сечь вас за то, что вы не учитесь.
– Как же нам учиться, когда мы окружены полицейскими сыщиками. Учишь ли урок, режешь ли труп, у тебя за спиной стоят сыщики.
Тут о. Илиодор не удержался и похвастался: «Я в свою очередь рассказал им, что и я окружен сыщиками и жандармами, но они меня не уследили и я уехал». Пояснил, что очки и шапку носит «от сыщиков». Собеседники поинтересовались, куда он едет, он ответил, что в Царицын.
«И что же из этого вышло? Оказалось, что эти студенты гораздо хуже сыщиков. Они отправились в жидовскую газету "Русское слово" и там напечатали, что о. Илиодор в синих очках и меховой шапке тайно возвращается в Царицын».
По сведениям газет, в Москве беглеца настигли дурные вести – то ли о возможном сохранении Столыпиным портфеля, то ли о невозможности аудиенции. Поэтому пришлось отказаться от намерения ехать в Петербург.
В час пополудни о. Илиодор покинул Москву. По его словам, он поехал в Орел, где ждал Максимилиан Труфанов с билетами, и затем вместе с братом направился в Царицын. Но все прочие источники умалчивают об этом пункте маршрута. Более того, в дальнейшем изложении Максимилиан исчезает, а через два дня безымянный студент Труфанов оказывается в Москве и участвует в совещании местных союзников.
Так или иначе, с братом или с келейником, через Орел или напрямик, о. Илиодор выехал в Царицын. «Ехал с великим смущением, боясь, что не доеду».
Тем временем власти спохватились. 11.III один из полицейских агентов в Царицыне получил телеграмму из редакции «Слова»: сегодня в 9 часов вечера в Царицын прибудет бежавший Илиодор. Кроме того, в Новосиле обнаружили исчезновение настоятеля. Начальники всех узловых жандармских железнодорожных отделений получили телеграфные распоряжения: не пускать беглеца в Царицын. На станции Грязи находилось «наблюдение» от Департамента полиции с «требованием воспрепятствовать дальнейшему следованию». По-видимому, сюда же лично выехал начальник Воронежского жандармского управления железных дорог ген. Кирсанов.
Миновать эту станцию о. Илиодор не мог: оттуда была прямая ветка на Поворино-Царицын. Поэтому жандармы правильно рассудили, что поджидать беглеца следует там.
Однако в Грязях произошло нечто странное. «На этой станции к нам в купе вошел какой-то человек, молча посмотрел на нас и записал что-то в записную книжку», – рассказывал о. Илиодор. Этим визитом дело и ограничилось. Путешественники беспрепятственно продолжили путь.
Оплошность или сострадание к гонимому священнику? Сам Труфанов утверждал, что ген. Кирсанов нарочно позволил ему ускользнуть под влиянием своей супруги. Как бы то ни было, Кирсанов упустил беглеца, за что был немедленно уволен.
После таинственного визита, почувствовав «что-то недоброе», путешественники заперли дверь и решили, что о. Илиодор будет изображать больного, а его спутник – врача, везущего своего пациента лечиться на Кавказ. Под этим предлогом никому не открывать.
Маскарад запоздал. В 5 час. вечера начальник царицынского железнодорожного жандармского отделения ротм. Ежов получил телеграммы от двух коллег одинакового содержания: Илиодор едет переодетый в Царицын. Через час явился уездный помощник начальника Саратовского губернского жандармского управления ротм. Тарасов, сообщивший Ежову свои сведения о предполагаемом приезде священника в 9 час. вечера.
Состоялся любопытный диалог между неопытным в таких делах Ежовым и давно наблюдавшим за о. Илиодором Тарасовым. Выяснилось, что у Ежова есть предписание не допускать беглеца в Царицын, но и не прибегать к мерам насилия. Очевидно, это распоряжение пришло из Петербурга, а не из Саратова, раз оно было неизвестно Тарасову. Ежов сознался, «что он не понимает, как можно такое предписание выполнить». Достойный помощник полк. Семигановского тут же изобрел решение: «на это я ему ответил, что раз Илиодор едет переодетым, то это можно использовать, а именно – арестовать его для установления личности, да и вообще, добавил я, с ним церемониться в случае надобности нечего». Затем Тарасов посоветовал принять меры, чтобы о. Илиодор не проделал остаток пути на лошадях, а Ежов возразил, что «гоняться за ним не может».
Словом, деликатная миссия, требовавшая чудес изобретательности, досталась ленивому человеку… если только он не был тайным сторонником о. Илиодора!
В 9 час. вечера ротм. Ежов выехал экстренным поездом навстречу поезду №6.
Тем временем о. Илиодор подъезжал к своему Царицыну. На печальной памяти станции Иловля к брату присоединился выехавший навстречу поезду Александр.
Оставались последние 20 верст. Тут, на станции Гумрак, священник и услышал этот звон…
«Вдруг слышу здесь по вагону знакомый мне звук жандармских шпор. Я сразу понял, что теперь все пропало».
Как же обострился слух у несчастного о. Илиодора!
В поезде ротм. Ежову указали, где едут подозрительные «двое, из которых один не выходит из купе и прячет лицо от кондукторов». Ротмистр постучал в дверь, назвал себя. Один из младших братьев отворил и начал лепетать о больном, которого нельзя беспокоить. Газеты живописали, как о. Илиодор лежал в синих очках, закутанный пледами и платками, и притворно стонал. Однако ни он сам, ни ротмистр впоследствии не упоминали о таких подробностях, за исключением очков. «Я был, как я раньше говорил, в синих очках и в шапке; я полулежал на диване, а в другой местной газете написали, что я лежал в углу, свернувшись клубочком, но врут они, клеветники проклятые!».
По-видимому, в купе было темно, потому что жандармы стали светить электрическим фонарем в лицо, прикрытое синими очками.
– Не вы ли о. Илиодор? – спросил Ежов.
Отпираться было бессмысленно, и священник ответил утвердительно.
– Вам в Царицын ехать нельзя. Не желаете ли перейти в другой вагон? И мы повезем вас, куда вам угодно.
– Нет, благодарю вас. Меня возили один раз по всей России, а теперь я желаю ехать только в Царицын и больше никуда не поеду.
Словом, повторялся февральский диалог с полк. Семигановским. Но ротм. Ежов не обладал его железной волей и вежливо продолжил уговоры:
– Так выходите, пожалуйста, на платформу, и мы с другим поездом скорее довезем вас до Царицына.
Конечно, в жандармский поезд о. Илиодор не пошел. Но, наученный горьким опытом, и в старом купе не остался. Потребовал открыть дверь, причем не на платформу, где «очень много любопытных», а по другую сторону поезда. Выпрыгнул и пошел пешком по шпалам, захватив часть багажа. На вопрос, куда он идет, ответил, что в Городище ночевать у местного священника. По-видимому, это была отговорка.
Итак, 20 верст до Царицына или 10 верст до Городища. Отчаянное решение! Ночь, март, мороз, ветер, а одет о. Илиодор, конечно, был не для такого путешествия.
По некоторым сведениям, расставание иеромонаха с жандармами сопровождалось перепалкой: его пытались удержать, вырывали посох, а он то ли «размахивал посохом», то ли даже ударил одного из нижних чинов. «Царицынская мысль» не постеснялась написать, будто о. Илиодор лег на рельсы перед паровозом, снаряженным, чтобы отправить его обратно. Иеромонах назвал это сообщение «ложью проклятой».
Газеты писали, будто бы остальные пассажиры таинственного купе скрылись в темноте. Но при полном отсутствии интереса к ним со стороны жандармов бежать куда-то в темноту морозной ночи за 20 верст от города было бы опрометчиво. Гораздо правильнее добраться до Царицына и оттуда выслать за о. Илиодором лошадей. А добраться легче всего на том же самом поезде №6, который после задержки был благополучно отправлен к месту назначения. Келейник так и сделал.
Следы спутников на время теряются, уступая место единственной в своем роде картине. По шпалам идет о. Илиодор, эскортируемый двумя жандармами, а следом медленно едет экстренный поезд. На ходу священник горько пошутил, обратившись к одному из конвоиров:
– Винтовка у тебя есть?
– Нет.
– А револьвер?
– Есть.
– Ну вот, я побегу, а ты стреляй.
«Жандарм насторожился и как будто приготовился».
Сколько прошел о. Илиодор? На следующий день он говорил о 10 верстах, днем позже – только о 4-х. Однако со слов ротм. Ежова известно, что путник миновал разъезд Разгуляевка и пошел дальше. Сейчас между станциями Гумрак и Разгуляевка ровно 10 км, т.е. 9,4 верст. Кроме того, поскольку Ежов уехал из Царицына в 9 часов, а вернулся в 1 час ночи, то можно считать, что шествие заняло 2–3 часа. Этот расчет подтверждается сведениями «Царицынской мысли».
У Разгуляевки вместо того, чтобы свернуть в Городище, о. Илиодор пошел дальше. Стало понятно, что он идет в Царицын. Тут путника нагнал экстренный поезд. «Офицер стоит на площадке вагона и просит меня садиться. Я отказался было, но он дал мне слово, что меня повезет, куда я хочу. Даже в Царицын». Продрогший и усталый, о. Илиодор согласился, но в вагон не вошел, а примостился на ступеньках, рассчитывая спрыгнуть на ходу, если поезд поедет обратно. Поехали в сторону Царицына, но очень медленно. Священник заподозрил, что его спутники ждут распоряжений от начальства, и потребовал ускорить ход: «у меня ноги зябнут», угрожая иначе спрыгнуть. «Тогда поезд полетел птицей».
Вскоре поезд поравнялся с Французским заводом, где жил о. Михаил Егоров. До Царицына оставалось три версты. По словам ротм. Ежова, здесь его пассажир потребовал остановиться и заявил, что пойдет на завод. Напротив, о. Илиодор утверждал, что поезд сам надолго остановился, очевидно, ожидая инструкций начальства. Заподозрив неладное, священник спрыгнул со ступенек и пошел пешком. За ним последовали вахмистр и унтер-офицер, а также кондуктора с багажом. Сам ротм. Ежов поехал в город вместе с Александром Труфановым.
Тем временем поезд №6 с большим опозданием достиг царицынского вокзала. Там уже находился ротм. Тарасов. Выяснив, что беглец был высажен на ст. Гумрак, ротмистр поехал домой писать телеграмму о задержании о. Илиодора. Отправить не успел. В час ночи явился Ежов и «взволнованным тоном» рассказал, что произошло.
«На мой вопрос, где же Илиодор и не пошел ли он в город, куда навстречу ему брат вышлет лошадей, ротмистр Ежов ответил, что не знает, но куда он придет – вахмистр доложит; на мое замечание, что если он даже пошел на завод, то ведь это предместье и все равно что город, что к нему немедленно соберутся, т.к. [нрзб] монастыре его сегодня ждали и там священник Михаил Егоров, – он ответил, что до города он все же не допустил, а остальное его не касается».
Вообще действия ротм. Ежова в этот день поразительно нелепы для жандарма. Имея предписание не допускать о. Илиодора в Царицын, он дважды предложил священнику доставить его именно туда и, пожалуй, доставил бы, если бы тот не спрыгнул возле завода. Это халатность или сознательная попытка помочь беглецу? Скорее всего, и то, и другое.
Трудно было не сжалиться над несчастным иеромонахом, бредущим к своей пастве пешком в морозную ночь. К тому же если бы о. Илиодор прошел все 20 верст и, чего доброго, простудился, то Ежов выглядел бы в глазах илиодоровцев убийцей их пастыря. Поэтому оставалось только помочь ему выйти из бедственного положения, в которое сами жандармы о. Илиодора и поставили.
Со слов самого Ежова Тарасов объяснял его действия так: «Дать обратный ход ротмистр Ежов опасался, т.к. Илиодор мог спрыгнуть на ходу, ввести же его в вагон не считал себя вправе, ссылаясь на предписание, где сказано, чтобы к насилию в отношении Илиодора не прибегать». Недаром Ежов с самого начала не понимал, как выполнить это предписание.
В сущности, ротмистр выполнил его буквально: не допустил беглеца в город (оставил в 3 верстах от города), не прибегая к насилию. О. Илиодор был совершенно прав, когда утверждал, что «ротмистр Ежов дело свое исполнил, только деликатно обошелся, как со священником». А пастве даже сказал: «Этот ротмистр Ежов обращался со мной очень вежливо. Спасибо ему, дай ему Господь здоровья и дай ему Господь дослужиться до большого чина».
Деликатность ротмистра тут же была наказана: через несколько дней Ежов был уволен за допущение о. Илиодора в Царицын. Сам того не желая, Ежов будто откликнулся на призыв, обращенный в Иловле к полк. Семигановскому, – поплатиться службой, чтобы не причинить вред священнику.
Когда царицынская история закончилась, о. Илиодор обратился за помощью к камер-юнкеру А. Э. Пистолькорсу: «Ротмистр Ежов дело свое исполнил, только деликатно обошелся, как со священником. Жена и двое детей захворали от скорбей, похлопочите». Однако, по-видимому, связи не помогли, поскольку 21.V при аудиенции о. Илиодор ходатайствовал за Ежова лично перед Государем: «Я, Ваше Императорское Величество, читал послужной список ротмистра Ежова, где видно, что он в Прибалтийском крае в 1905–1906 гг. был несколько раз разгромлен и имущество его все сожжено до последней нитки; это человек – жертва долга, страдающий напрасно с молодой женой и двумя детьми-малютками».
Хлопоты возымели действие. Ежов получил место, а затем повышение (с переводом в другой город), за что остался благодарен иеромонаху и впоследствии, случайно с ним встретившись на станции Филоново, счел долгом вместе с семьей посетить его в поезде.
Французский завод или завод ДЮМО находился в 2? верстах от железной дороги и 3 верстах к северо-востоку от Царицына. Здесь стояла недостроенная церковь, где служил верный сподвижник о. Илиодора о. Михаил Егоров. Сейчас тот, предупрежденный о приезде друга, ждал его в монастыре с двумя сотнями богомольцев.
В час ночи о. Илиодор добрался до заводской церкви, разбудил сторожа, приказал ему открыть дверь, прошел в алтарь и стал молиться. В 2? час. зашел вернувшийся из города о. Михаил. Вместе они вышли в его квартиру, а через 10–15 мин. о. Илиодор вернулся в храм, окруженный толпой собравшихся уже богомольцев, и местных, и городских.
Около двух часов ночи с завода были отправлены несколько телеграмм – Государыне с просьбой о милости, а также преосвященным Парфению и Гермогену, одинакового содержания, сообщая, что по «важной причине» выехал в Царицын, но «захвачен властями» и «крест за истину готов понести до смерти». У еп. Парфения просил прощения «за самовольную отлучку», а еп. Гермогену писал: «Или помогите, или не препятствуйте».
Тем временем ротм. Тарасов и исправник Брещинский сидели у последнего и ждали лошадей, чтобы поехать на завод для ареста о. Илиодора. Однако после телефонного донесения о заводских событиях поняли: «задержать Илиодора уже нельзя, т.к. во-первых он в церкви, а во-вторых если бы и вышел, то арест его вызовет неминуемое сопротивление толпы». Доложили начальству, выставили наблюдение и стали ждать.
О. Илиодор потом рассказывал, что в ту ночь молился «до рассвета». Отчасти это подтверждает ротм. Тарасов, упоминая в своем рапорте, что священник оставался в церкви до 7 часов утра, «совершая богослужение». За это время в его голове созрел такой план: «вот на следующий день соберется сюда ко мне много народа, и я с ним торжественным крестным ходом, с крестом, прямо приду в Царицын». Поэтому о. Илиодор командировал в монастырь о. Михаила, чтобы вызвать к себе прихожан, прося явиться в числе 2-3 тысяч человек.
В 7 часов утра о. Илиодор все в том же кольце толпы пошел отдохнуть в дом о. Михаила. Окна закрыли ставнями, незнакомых не впускали. На улице собралось свыше тысячи богомольцев. Им объявили, что предстоит крестный ход в город. Для о. Илиодора принесли облачение и крест.
В 7 час. 15 мин. о. Илиодор отправил в Синод длинную подробную телеграмму. Вероятно, работа над этим документом началась еще в Новосиле (о нем дважды говорится «здесь»), продолжилась в Москве в соавторстве с Плетневым (чувствуется рука политического публициста), а завершилась на Французском заводе. Тот же текст вскоре попал в газеты под видом интервью.
В начале своего прошения о. Илиодор объясняет мотивы, по которым счел возможным вернуться: 1) расследование царицынского дела, которое полиция поведет предвзято, запугивая свидетелей; 2) сохранение царицынского настоятельства. В конце прибавляется третий мотив: «здесь же в Новосиле сейчас прямое дело делать нельзя». «Прямым делом» священника о. Илиодор считает пастырскую работу, противопоставляя ее обделке «мертвых камней», т.е. строительству и ремонту храмов.
Теперь он возвращается к «возлюбленным детям», страдающим без него и нравственно, и от внешних притеснений. «Делайте со мной, что хотите, но я от Царицына теперь не поеду и не пойду никуда». «Дела, врученного мне самим Богом, я добровольно не оставлю». Следует длинное путаное обоснование права на неподчинение Св. Синоду, которое, по мнению о. Илиодора, в его случае окажется не бунтом, а «стоянием за правду». «Я не бунтарь, не мятежник, я только истинный слуга церкви, Вашего Святейшества, Царя и народа».
С обычной непосредственностью о. Илиодор подпускает несколько шпилек своим адресатам: «Зачем же владыка митрополит Антоний кладет на мои молодые плечи то, носить что он меня не учил, когда я был в Петербургской академии иноком»; «одни духовные руководители народа русского не хотят, не могут, а другим не дают заботиться об обработке живых камней – народных бессмертных душ», а затем смиренно заканчивает свое обращение так: «Простите, благословите, поклон вам до земли. Послушник иеромонах Илиодор».
Такая же телеграмма была отправлена митр. Антонию. Кроме того, о. Илиодор написал Государю, что не может расстаться со своей паствой.
Утром о. Илиодор понял, что напрасно вызвал паству на завод.
Полиция неусыпно искала возможность арестовать беглеца. К месту событий были стянуты все местные полицейские силы, выставлено наблюдение из переодетых городовых и одного жандармского унтер-офицера. Надзиратель завода А.Н. Розов в сопровождении городовых заходил за о. Илиодором в церковь и ломился за ним же в дом о. Михаила, но отовсюду изгонялся. «Если нужно, так сломайте дверь, – героически заявил о. Михаил незваным гостям. – У меня не преступник какой-нибудь, а иеромонах Илиодор, наш всероссийский проповедник».
Поэтому иеромонах все больше беспокоился о предстоящем крестном ходе, опасаясь столкновения между полицией и богомольцами: «мне представилось, что меня и весь окружающий меня народ встретят солдаты, окружат, станут стрелять, произойдет страшное кровопролитие». Действительно, попытка ареста священника прямо во время шествия привела бы к трагедии.
В 8 час. утра о. Илиодор телеграфировал своим друзьям – Сазонову в Петербург и Плетневу в Москву: «Предотвращайте великую беду», как будто те были в силах мгновенно повлиять на царицынские власти. Позже упоминал о телеграмме преосв. Гермогена, умолявшего его отказаться от крестного хода, поскольку все будут расстреляны. Такую же уверенность о. Илиодор не раз выражал и от себя лично, очевидно, памятуя о печальном случае 10 августа 1908 года, когда богомольцы подворья были разогнаны отрядом казаков.
Однако местные власти – исправник Брещинский и ротм. Тарасов – вовсе не желали столкновения с богомольцами, и потому в 7 час. 50 мин. исправник доложил губернатору, что не допустить о. Илиодора с крестным ходом в Царицын невозможно.
Тем не менее, о. Илиодор, не жалея красок, писал потом обер-прокурору, будто «на Французском заводе полиция безжалостно издевалась».
Тем временем к царицынской битве присоединился еще один участник – новый саратовский губернатор Стремоухов. Он въехал в губернию почти одновременно с о. Илиодором и получил первое известие о его бегстве через три часа после прибытия в Саратов. Однако не растерялся. Доложив Курлову о происходящем на Французском заводе, Стремоухов прибавил: «опасаюсь осложнений, необходимы решительные меры в отношении ослушника». Иными словами, зная о толпе и о крестном ходе, понимая возможность столкновения с богомольцами, он тем не менее просил полномочий на арест священника.
Кроме того, в тот же день 12.III Стремоухов встретился с еп. Гермогеном, который обещал помочь, предполагая вызвать о. Илиодора в Саратов. После этого губернатор доложил в министерство: «Имею некоторую надежду на благоприятный исход, но на случай неуспеха прошу полномочий».
После долгого молчания в 2 час. 55 мин. дня товарищ министра отправил ротм. Тарасову подробные инструкции: не допустить о. Илиодора в Царицын и в монастырь, не допустить скопления народа около завода, вывезти беглеца лошадьми на ближайшую станцию, там потребовать вагон и доставить священника до ст. Грязи. «Если Илиодор не пожелает подчиниться вашему требованию, заявите ему, что он будет отправлен силой, но сами в этом направлении не принимайте мер до прибытия полковника Семигановского или начальника губернии. Если Илиодор в храме, то примите меры к недопущению туда народа. Если возможно, войдите в соглашение с настоятелем храма, чтобы он убедил Илиодора оставить церковь, куда затем его более уже не допускать». Игнорируя сведения о собравшейся уже толпе, Курлов требует не допускать скопления народа. Эта телеграмма запоздала часов на двенадцать.
Св. Синод в тот же день предписал саратовскому преосвященному убедить беглеца вернуться, не позволяя ему совершать богослужения в пределах Саратовской епархии, а также решил просить светскую власть «просить об оказании содействия к недопущению иеромонаха Илиодора в г. Царицын и к водворению его в Новосильский монастырь Тульской епархии». Длинная телеграмма о. Илиодора не растрогала отцов Синода. Они лишь заинтересовались ссылкой на пресловутый указ о двойном настоятельстве и затребовали объяснений у тульского преосвященного.
Вслед за этим епископы Парфений и Гермоген поочередно телеграфировали о. Илиодору настоятельное требование вернуться в Новосильский монастырь, грозя лишением сана. Преосв. Гермоген, как и обещал губернатору, просил беглеца заехать в Саратов по пути в Новосиль.
Утром в монастыре объявили о приезде о. Илиодора, и в заводской поселок хлынули новые потоки богомольцев – всего собралось 10 тыс. чел. Приехало духовенство, привезли хоругви и иконы для предстоящего крестного хода. Но о. Илиодор уже понял, что от этой идеи придется отказаться, и лихорадочно размышлял: «нельзя ли будет как-нибудь мне одному пробраться в монастырь».
Дальнейшие события требуют пера Дюма-отца, но придется ограничиться карандашом ротм. Тарасова. Согласно его рапорту, около 10 часов о. Егоров съездил в город и привез оттуда икону, около полудня толпе объявили, что крестный ход будет после богослужения. Из квартиры о. Михаила вышел «монах, похожий на Илиодора» и отправился в храм, сопровождаемый толпой.
«Монах, похожий на Илиодора»! Вероятно, это был один из его братьев.
«…когда двинулась за иконой толпа, то к заднему выходу со двора квартиры Егорова подъехал извозчик, которых стояло вокруг до 80, со двора вышли четыре женщины, закутанные в большие платки, две из них вели еще одну под руки, по-видимому, больную, также закутанную в большую шаль-платок; больную положили на середину повозки и прикрыли, а остальные четверо сели по бокам повозки».
Потом Сергей Труфанов будет уверять, что в тот миг полиция отошла погреться на солнышке. Но кроме обычных стражников за домом следили переодетые чины полиции, и женская процессия от них не укрылась.
«Бывшие в наблюдении городовые Козлов и Солдатов видели все это, – продолжает ротм. Тарасов, – Козлов даже спросил у близ стоящих, что это такое, на что получил ответ, что к батюшке привозили душевнобольную; так как привоз к священникам больных здесь явление частое, то городовые и не придали этому должного значения, тем более что видели идущего за иконой монаха и не допускали мысли, чтобы Илиодор мог скрыться переодетым».
Бедные благочестивые городовые, которым не могло прийти в голову, что священник унизится до переодевания!
Сам о. Илиодор уверял, что не помнит, как переместился из дома о. Михаила в монастырь. На следующий день рассказал пастве, что у него была рвота и сильное головокружение, в забытье он почувствовал, что его голова окутана чем-то черным и мягким, ощутил тряску, а очнулся от прикосновения к своему лбу холодной железной двери монастырского храма. В других случаях предпочитал кратко говорить, что был перенесен «чудом Божией Матери», икону Которой привез на завод о. Михаил.
Дурнота и забытье вполне объяснимы после бессонной ночи, вместившей в себя долгое путешествие по шпалам и затем многочасовую молитву. Но, судя по рапорту Тарасова, о. Илиодор шел до повозки, следовательно, был в сознании. Да и сам он однажды написал: «Вспомнивши корзинку Апостола Павла, я хитростью проник в свой монастырь, хотя в светскую одежду не переодевался».
Исчезновение о. Илиодора обнаружил надзиратель Розов. Войдя в храм, он увидел, что служит кто-то другой. Доложив исправнику, наведался к о. Михаилу. Тот не позволил Розову войти, но заявил, что о. Илиодор находится здесь и придет в церковь. Надзиратель понял, что дело неладно, расспросил лиц, стоявших на улице, и от одного из торговцев узнал о загадочной повозке. Вдогонку послали стражников, но беглеца не поймали. По слухам, преследователи дважды проезжали мимо той самой повозки, не догадавшись о ее пассажире.
Вскоре о. Михаил объявил богомольцам об отъезде о. Илиодора в монастырь и сам повел туда крестный ход с иконой.
Через несколько дней Розов был уволен по распоряжению губернатора.
Около 2 час. дня о. Илиодор наконец вернулся в свою обитель: «Я приехал к вам, дети мои, и останусь здесь навсегда».
Прежде всего он вошел в храм и отслужил благодарственный молебен. Затем обратился к богомольцам, которых к тому времени собралось 4 тыс. чел., с речью:
«Божья Матерь совершила чудо: Она наложила повязку на глаза сторожившей полиции, дав мне возможность перенестись сюда. Она предотвратила преждевременную нашу смерть, ибо если бы я вышел с крестным ходом, то полиция в нас стреляла бы, убивая своих братьев».
«Несмотря на запрещение правительства я, по воле Божией, опять здесь и теперь отсюда никуда не пойду. Меня два раза захватывали в пути обманным образом и поступали со мной как с разбойником, употребляя грубую силу, и если со мной и теперь так сделают, то я поступлю, как Иоанн Златоуст. (В толпе раздаются голоса: не дадим тебя, батюшка). Повторяю, что добровольно из Царицына никуда не пойду и буду жить здесь до гробовой доски».
Исполняя приказ ген. Курлова (телеграмма в 2 час. 55 мин.), ротм. Тарасов посетил о. Илиодора в 6 час. и потребовал выехать из Царицына, получив категорический отказ. Конечно, это требование, имевшее определенный смысл на Французском заводе, в монастыре было тщетно.
Вечером, в канун Крестопоклонной недели Великого поста, в обители отслужили всенощное бдение при огромном стечении народа – 6 или 7 тыс. чел., словом, полный храм. Богослужение началось в 7 час. и закончилось в 12? час. ночи. В проповеди о. Илиодор охарактеризовал свое сопротивление Синоду как стояние за правду, несение креста вслед за Спасителем.
«Я тоже страдаю! Тоже гоним за правду, оклеветан, высмеян. Унижен, переношу нравственные заушения, меня два раза арестовывали жандармы как разбойника, но только арестовали не здесь, не в этой святой обители, а обманным образом в дороге! И вчерашнюю ночь я под арестом жандармов должен был легко одетый, в темную ночь, в сильный мороз под холодным леденящим ветром пройти пешком 10 верст по железнодорожным шпалам. Но это пустяки, я готов пройти еще не 10 верст, а 1000 верст пешком» – потому что «гоним за правду».
«Из Санкт-Петербурга Св. Синод прислал мне известие, что если я не выеду из Царицына, то меня расстригут и предадут суду. Святые отцы! Делайте, что хотите, я иду по стопам Спасителя, беру на себя крест Его и иго». Напомнив, что с Христа тоже сдирали ризы, о. Илиодор объявил, что предпочтет остаться в своем монастыре простым иноком, а проповедь продолжит в письменной форме. Покинет же обитель лишь в том случае, если его свяжут и вынесут.
Как видим, все проповеди о. Илиодора в этот день увековечены дословно, поэтому Стремоухов поступает опрометчиво, уверяя читателей, будто священник именно в этот день говорил, что Столыпина надо драть розгами по средам и пятницам.
И в этот вечер, и при других случаях о. Илиодор неизменно обосновывал свое право не подчиняться Св. Синоду следующими положениями:
1)
решение Синода о его переводе несправедливо. «Такое начальство, которое само нарушает законы, творит неправду, я за начальство не признаю и признавать его, пока жив, не буду!». В противном случае он «не только не заслуживал бы звания пастыря стада Христова, но даже звания христианина». О. Михаил Егоров однажды выразил эту же мысль так: «Распоряжение незаконное. Может быть, Синод прикажет иконы рубить»;
2)
поскольку Синод действует под давлением светской власти, то неподчинение в данном случае есть неподчинение этой светской власти. «Говорил и теперь говорю, что святыню вашу почитаю, благоговею пред нею как высшей церковной властью, руководимой Духом Святым, но чиновничьему, противному Богу, засилью, особенно проявленному в царицынском деле, не подчинюсь, что угодно претерплю, но добровольно не подчинюсь вместе с Иоанном Златоустом. … Ваше Святейшество, я готов трудиться везде, где вы, а не светские чиновники прикажете. Я готов трудиться и в Новосили»;
3)
он борется не только за себя но, главным образом, за принцип свободы Церкви и вообще за правду. Личные упорство, задор или гордость не при чем. «Во мне гордости никакой нет! и я только стою за правду. Я хочу только пострадать, сколько угодно будет [нрзб] моим врагам! Пусть это они слышат!».;
4)
поэтому сопротивление о. Илиодора нельзя считать бунтом. «Совесть моя чиста, она говорит мне: ты стоишь за правду».
Обращение Св. Синода за помощью к министру внутренних дел развязало руки светским властям. Поздно ночью ген. Курлов наконец дал Стремоухову полномочия, которых он неоднократно в этот день просил: «Во исполнение приказания г. министра благоволите, ваше превосходительство, выехать лично в Царицын и принять меры к возвращению Илиодора в Новосиль силой, предварительно согласившись с преосвященным Гермогеном». Губернатору поручалось стянуть в город полицию, «очистить подворье и церковь от народа», но самого о. Илиодора брать лишь тогда, когда владыка убедит его снять облачение и покинуть храм, «так как введение полиции в храм недопустимо».
Получив полномочия, губернатор тут же, в 1 час ночи, распорядился собрать в Царицыне всю конную стражу уезда, 40 конных стражников из Камышинского уезда и 50 пеших из Саратова.
Одновременно Курлов, получивший ложные сведения, будто о. Илиодор «не в храме, а гуляет по Царицыну», повторил свой приказ ротм. Тарасову доставить священника на первую станцию и оттуда в отдельном вагоне отвезти в Новосиль. Поэтому с 13.III жандармы держали наготове паровоз, вагон и тройку лошадей.
Потом Стремоухов будет вешать всех собак на Курлова, который-де склонял бедного губернатора штурмовать монастырь, и даже процитирует якобы полученную телеграмму: «Предлагаю к неуклонному и немедленному исполнению. Прикажите наряду полиции ночью войти в монастырь, схватить Илиодора. Заготовьте сани и шубу и по Волге отправьте его в X.» Курлов действительно дважды приказывал ротм. Тарасову произвести подобную операцию, но каждый раз требовал, чтобы задержание происходило на нейтральной территории. Кроме того, документы показывают, что губернатор сам просил полномочий, рисуя положение в мрачных красках («На мирный исход не надеюсь») и настаивая на «решительных мерах».
Какие «решительные меры» мог принять Стремоухов, видно уже из тех двух его проектов, которые увековечены в его мемуарах – запретить подвоз в монастырь продуктов и арестовать о. Илиодора на собрании, оттолкнув священника от еп. Гермогена в руки агентов.
Воскресным утром 13.III после обедни о. Илиодор «произнес проповедь чисто религиозного содержания, призывая к смирению», а затем объявил, что вечером после акафиста «скажет свою обычную духовно-патриотическую беседу, а может быть скажет и необычную беседу».
Вечером собралось до 10 тыс. чел., заполнивших, кроме храма, коридоры, лестницы и двор. От духоты людям делалось дурно, их выносили.
Полицмейстер утверждал, что беседа носила «характер революционного митинга», и даже красному цвету облачения о. Илиодора приписывал какой-то тайный смысл.
Свою длинную беседу иеромонах начал с рассказа о том, как бежал из Новосиля и добрался до Царицына. Затем объяснил положение дел приблизительно так.
Император Петр Великий заменил Патриарха Синодом во главе со светским чиновником. «Поэтому теперь в Синоде не слышно голоса церкви, которой руководит сам Дух Святой, а слышно только голоса Столыпиных, Лукьяновых, Татищевых и Семигановских! … Все эти чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми делами, лезут в совершенно чуждые им дела духовные», а потому «проиграли Японскую войну, а теперь, пожалуй, проиграют и Китайскую, чего, конечно, не дай Господи». В свою очередь, члены Синода «правду Христову променяли на бриллиантовые кресты, звезды и спокойное житье и исполняют все незаконные дела светских владык». «Такой чиновный Синод я проклинаю! За Святейший Синод не признаю и повелениям его повиноваться не желаю».
О. Илиодор объявляет Синоду «священную и беспощадную брань» «за свободу церкви православной», веря, что «церковь синодальная» (то есть, очевидно, синодальный строй) «зашатается и будет побеждена».
Он не считает себя преступником.
– Я не бунтую, не убиваю, а страдаю за что – говорите.
– За правду, батюшка, – дружно закричала толпа.
Он не боится репрессий со стороны как духовных, так и светских властей. «Сюда едет сейчас целый вагон жандармов и начальства. Только [нрзб] что они будут здесь делать. В монастырь я их не пущу. Пусть они разобьют сначала все монастырские стены и тогда только могут связать меня». Что до снятия сана, то о. Илиодор не верит, чтобы обер-прокурор мог отнять у него благодать, данную при хиротонии. «Когда меня посвящали в священники, то обводили три раза вокруг престола и архиерей возлагал мне на голову руки и молился о ниспослании на меня благодати Св. Духа, а расстричь меня хотят одним росчерком пера светского чиновника-сюртучника, накурившегося табаку».
В случае лишения сана о. Илиодор намерен, по «древнему обычаю святых отцов православной церкви, утвержденному вселенскими соборами», жаловаться «епископу другой земли», а именно Константинопольскому Патриарху Иоакиму III.
Покамест о. Илиодор пригласил паству оставаться вместе с ним в монастыре или хотя бы приносить провизию для тех, кто остается. Кроме того, объявил, что с завтрашнего дня запирает ворота обители и будет пускать только своих богомольцев, а полицию, сыщиков и подозрительных не пустит.
Вопрос о сыщиках его особенно беспокоил. Он неоднократно распоряжался закрыть двери, а когда вывели очередного больного, почувствовавшего дурноту, – закричал: «Какие там больные, это не больные, а сыщики; вот я затворю двери, да и пересчитаю всех, тогда мы и увидим, больные это или сыщики».
Свою героическую речь, скорее подходящую к лицу донскому казаку, чем смиренному иноку, о. Илиодор произнес «с сильным возбуждением, каковое передавалось и всем присутствовавшим», и закончил словами «С нами Бог! Аминь!», а затем приказал хору запеть «Спаси Господи люди Твоя».
Тем же вечером (в 9 час. 10 мин.) насельник монастыря иеромонах Гермоген телеграфировал преосвященному в ответ на его просьбу уговорить настоятеля вернуться в Новосиль: «Владыко святый! Отец Илиодор непреклонен. Все уговаривали. Соглашается сана лишиться. Народ охраняет. Иеромонах Гермоген».
В полночь с 13 на 14.III монастырские ворота были заперты. Очевидно, о. Илиодор предвидел новую попытку своего ареста. К вечеру железнодорожные служащие уже, вероятно, доложили священнику, что «спициально» под его персону заготовлен экстренный поезд с прислугой. Этот поезд вообще сыграл огромную роль в «царицынском стоянии», молчаливо свидетельствуя о серьезных намерениях властей.
Ожидая, что попытка ареста приведет к повторению событий 10 августа 1908 г., о. Илиодор делился с паствой «печальным предчувствием»: «не сегодня – завтра в храме этом произойдет нечто ужасное, потому что слишком много появилось у нас врагов, все восстали против нас, и мы должны быть готовы на все.
Через пару дней среди богомольцев прошел слух, будто о. Илиодор получил ответную телеграмму от Иоакима III, следствием чего должен был стать разгон Синода. На самом деле священник, вероятно, не пытался и писать в Константинополь, поскольку намеревался это сделать лишь после указа о лишении сана.
На следующий день после объявления войны у о. Илиодора было некоторое колебание. Возможно, в связи с телеграммой, полученной из Петербурга: «Послушнику Александру. Мужайтесь, просите губернатора, пусть просит властей оставлении. Батюшка пусть ручается спокойствие». По крайней мере, священник постарался успокоить свою взволнованную паству и сам немного успокоился.
В 11 час. утра о. Илиодор объявил, что обитель снова открыта, и попросил паству не вмешиваться в случае его ареста. В три часа повторил эту просьбу, однако прибавил, что, мол, «когда его понесут, то их дело», получив в ответ: «Не выдадим». Наконец, вечером обратился к народу со следующим кратким словом: «Сюда едет сейчас по моему делу саратовский епископ Гермоген и ожидается московский митрополит. Враги мои оклеветали меня перед Государем и наговорили, что у меня в здешнем монастыре происходит разврат и творятся всякие безобразия. Что у меня нет никаких поклонников. Вы сами видите, что это неправда! Поклонников у меня много и никаких безобразий нет. Прошу вас только молиться и вести себя как можно тише и скромнее!».
В тот же день о. Илиодор дал яркое доказательство своей способности к послушанию, телеграфировав (в 1 час. 22 мин.) преосвященному Гермогену: «Дорогой владыка, из вашей телеграммы видно, что Синод запретил мне служить. Если так, то, конечно, я служить не буду. Правил соборных и апостольских нарушать не дерзал и не дерзну. Простите. Послушник иеромонах Илиодор». Действительно, с этого дня он перестал служить и даже проповедовать, ограничиваясь краткими обращениями к богомольцам «с амвона, а то просто на ходу».
Но колебание было недолгим. Монастырь окружила полиция. Прошел слух о телеграмме Курлова с предписанием арестовать о. Илиодора в 24 часа. Газеты уверяли, что перед вечерней службой священник насмехался над «слишком легкими перьями», которыми подписывают приговоры светские власти, и грозился послать им «перо в тридцать пудов весом». Во всяком случае, очевидно, что сущность распоряжения Курлова о применении силы стала известна илиодоровцам.
Уже вечером 14.III о. Илиодор снова распорядился закрыть ворота. Такого порядка придерживались и в последующие дни: на ночь монастырь запирался, причем посторонние лица изгонялись, а утром открывался.
При открытых воротах о. Илиодор старался находиться в алтаре, куда полиция пока не осмеливалась войти. Здесь за шкафом находился лаз в подземную келью, где иеромонах рассчитывал укрыться в случае нападения. В алтаре выбили окно, чтобы пустить врагов по ложному следу.
В свою келью о. Илиодор переходил по коридору, не выходя даже во двор. «Я две недели не показывался на Божий свет и даже не ходил по земле», – жаловался он впоследствии. Тем более не выходил за ворота, памятуя, как его «выманили» в Сердобск: «не выйду из монастыря, если даже меня будет звать отец родной». От алтаря до кельи священника провожала толпа, не давая полиции приблизиться к нему.
На случай штурма кельи в ней был разобран потолок, а на крыше приготовлена веревочная лестница, чтобы спуститься в пономарку и оттуда пробраться в храм.
Таким образом, все возможные опасности были предусмотрены, и неприятель получил бы добычу лишь в том случае, если бы догадался ловить ее в двух местах одновременно.
«Народ охраняет», – писал о. Гермоген, и народ действительно охранял своего пастыря, как мог, дежуря при нем день и ночь. В первую же ночь с 13 на 14.III в монастыре осталось ночевать несколько сот богомольцев, в следующую – от 600 до 1000 человек, по разным оценкам. На следующий день здесь было до 7 тыс. чел., «преимущественно женщин», а на ночь остались певчие и до 2 тыс. богомольцев. О. Илиодор просил, чтобы оставались больше мужчины, так что дело принимало серьезный оборот. Полицмейстер докладывал губернатору, что «приверженцы иеромонаха Илиодора решили, в случае его арестования, воспротивиться этому силой».
Караульщики ночевали прямо в храме. Кое-кто оставался здесь и днем.
«Среди церкви, в которой совершается богослужение, стоят молящиеся, вокруг них расположились на полу ярые поклонники, по большей части, женщины.
Тут же груды различных съестных припасов, сосуды с молоком, водой и квасом», – писал один репортер.
Другие илиодоровцы дежурили снаружи, занимая оба монастырские двора.
«Монастырь теперь – настоящий бивуак», – отмечал другой.
Таким образом, о. Илиодор находился под защитой крепких монастырских стен и своих верных чад. «…взять меня – нужно разрушить мой монастырь до основания, а ведь Царицын – не Иловля и монастырская крепость, наполненная народом, – не вагон пустой железнодорожного поезда».
В тот же вечер 13.III, когда о. Илиодор объявил свою священную брань, из Саратова в Царицын выехала делегация – губернатор и полк. Семигановский, только в субботу вернувшийся из Петербурга. Они приглашали и преосвященного, но он предпочел ехать отдельно, чтобы не казалось, что архиерей действует под их давлением. «Ни мои просьбы, ни перспектива ехать в удобном директорском вагоне не разубедили Гермогена».
Тем не менее, перед отъездом губернатор получил от преосвященного «обещание вывезти Илиодора из монастыря при условии, что тот не будет подвергнут задержанию». «Вывезти» – не опечатка, поскольку повторяется и в другой телеграмме Стремоухова. Следовательно, владыка намеревался не «вывести» священника из храма для передачи светским властям, а увезти из города, оберегая от нового ареста.
Стремоухов и Семигановский приехали в Царицын поздним вечером понедельника 14.III. Поначалу губернатор ничего умнее не придумал, как послать за о. Илиодором полицмейстера. Тот вернулся один и передал Стремоухову приглашение в монастырь. Этот визит не представлял для губернатора-новичка, в отличие от ненавистного народу Семигановского, никакой опасности. На худой конец, можно было бы дождаться преосвященного и посетить ослушника вместе с ним. А составить личное мнение об о. Илиодоре было куда как полезно. Но Стремоухов не поехал в монастырь, сочтя полученный ответ «прямой дерзостью» и заботясь больше о престиже власти, чем о плодах ее деятельности. Поэтому при дальнейших распоряжениях смотрел на о. Илиодора глазами газетных репортеров и полицейских чинов.
В мемуарах Стремоухов утверждает, что на следующий день полиция намеревалась арестовать ослушника, но тот приказал своим поклонникам изгнать «фараонов» из церкви, что толпа немедленно и сделала. Едва ли этот эпизод, к которому мемуарист по ошибке приплетает имевшую место зимой голодовку, произошел именно в такой форме. Несомненно, полиция присматривалась, нельзя ли как-нибудь арестовать священника, а тот неоднократно высказывался против ее присутствия. Но попытки ареста не могло быть ввиду инструкции Курлова о недопустимости введения в храм полиции и обещания самого губернатора «выжидать воздействия епископа, если Илиодор в церкви».
В соответствии с распоряжениями Курлова Стремоухову оставалось не принимать никаких мер по отношению к священнику, дожидаясь, когда это сделает архиерей. Поэтому план обрисовался в таком виде: владыка выводит ослушника из монастыря и увозит из города, причем «в том же поезде будет следовать полк. Семигановский для арестования Илиодора в случае попытки бежать в пути».
Стремоухов вспоминал, что «с нетерпением ожидал приезда Гермогена», рассчитывая на его помощь.
Оставалось еще, согласно начертанной Курловым программе, «очистить подворье и церковь от народа», и губернатор распорядился не допускать в монастырь «новых посетителей».
Полиция приступила к исполнению этого приказа вечером 15.III. Первыми с новым порядком столкнулись приехавшие вскоре из города о.о. Михаил и Порфирий. Они застали любопытную картину – монастырские ворота охранял снаружи лично полицмейстер в паре с городовым. Оказалось, что Василевский хотел войти, но илиодоровцы, заперевшись на ночь, не сделали исключение даже для него.
Полицмейстер заявил священникам, что не пропустит их в монастырь: «Что это за ночные моления!». После препирательства разрешил пройти о. Порфирию, который, как-никак, шел домой, и тогда «о. Михаил прорвался за ним».
Тем же вечером полиция пыталась не пропустить певчих, а наутро – богомольцев, пришедших на службу. За народ заступился все тот же о. Михаил, иронически поинтересовавшийся у полицейских чинов, «не завоевана ли Россия Китаем» и «не отданы ли храмы в аренду евреям». Настояния священника вкупе с угрозой обратиться к губернатору возымели успех, и полиция уступила.
После этого губернатор не стеснялся телеграфировать министру (19.III), что после возвращения о. Илиодора «никакого препятствия стечению народа в монастырь не было».
14.III преосвященный Гермоген получил от Синода предписание «самолично воздействовать на иеромонаха Илиодора в видах незамедлительного отбытия его к месту служения и, буде окажется нужным, подвергнуть иеромонаха Илиодора врачебному исследованию в состоянии его психического здоровья». Впрочем, еще накануне владыка заявил Стремоухову, что выезжает в Царицын на следующий день.
Перед отъездом еп. Гермоген переслал Синоду телеграмму о. Илиодора о его решении не служить, вероятно, желая расположить священноначалие в его пользу. Кроме того, попросил предоставить время для воздействия, «так как в кратчайший срок – 24 часа или двое суток – справиться с такой сильной натурой как отец Илиодор, к тому же в такой момент, когда он убит тяжким горем и скорбью, считаю весьма затруднительным».
Другой телеграммой владыка известил о своем предстоящем приезде о. Илиодора, а тот сообщил пастве.
Преосвященный не хотел въезжать в Царицын на одном поезде с губернатором и Семигановским, но по оплошности железнодорожных чинов чуть было не произошло еще более скандального инцидента. Начальник станции Поворино решил прицепить вагон с вызванной губернатором стражей к тому самому вечернему поезду, которым следовал владыка. То-то картина была бы на царицынском вокзале! К счастью, Боярский вовремя спохватился и принял меры.
Владыка приехал утром 16.III. О. Илиодор выслал паству его встречать, но сам, по понятным причинам, остался в монастыре: «попав на вокзал, пожалуй, совсем уедешь отсюда». Кроме того, о. Илиодор сказал, что и в храме встречать архиерея не будет, не желая расстраивать этой встречей ни его, ни себя, а просто будет сидеть, запершись в келье, пока его не оставят здесь навсегда.
Почему же о. Илиодор не хотел видеть своего архипастыря? Потому что твердо решил остаться в Царицыне и не желал слушать никаких увещеваний. Однако в силу глубокой привязанности к преосвященному боялся огорчить его отказом.
Прямо с вокзала преосвященный поехал в монастырь и отслужил там молебен. Богомольцы встретили владыку коленопреклоненной просьбой о помощи. Преосвященный сначала не отвечал, но после богослужения обратился к пастве, которой собралось до 10 тыс. чел., с кратким словом:
«Дети мои! Знаю, насколько велика для вас потеря Илиодора и перевод его в другой монастырь, но вы знаете, как мучились и страдали евреи в Египте. Они, в конце концов, вышли все-таки победителями. Мы сейчас также находимся в Египте бедствий, несчастий и напастей. Будем молиться и просить заступничества Пресвятой Богородицы; Она нам поможет, и мы также останемся победителями».
По неоднократному употреблению местоимения «мы» и по горестному тону речи чувствуется, что преосвященный и сам скорбел. Он даже сознался Косицыну и другим илиодоровцам: «Я сам не меньше вас страдаю». Однако откровенно заявил, что ничего не может сделать.
Владыка был глубоко встревожен присутствием полиции вокруг подворья и внутри него. Еще на перроне он «в повышенном тоне» заявил полицмейстеру: «Если в монастыре есть полиция, я туда не поеду». Затем он увидел ее там своими глазами и, кроме того, узнал от илиодоровцев, что положение гораздо серьезнее: в частности, богомольцы не допускаются в церковь. Поэтому он несколько раз обратился к полицейским чинам, требуя уменьшить наряд до 4–5 человек и не препятствовать людям приходить молиться. При этом еп. Гермоген просил полицеймейстера не вмешиваться в дела монастыря, поясняя, что за все отвечает о. настоятель.
Жалобы илиодоровцев на действия полиции звучали фантастически: Косицын и его товарищи убеждали владыку, что монастырь оцеплен, что храм полон сыщиков и т.д. Еп. Гермоген отказывался в это верить. С самого начала он «громко даже запретил им говорить об этом, заявляя во всеуслышание, что это неправда и ложь». После молебна, встретившись с ними наедине в пустовавшей келье о. Илиодора, «преосвященный убеждал некоторых лиц из духовных детей батюшки не доверять ложным слухам о чрезмерном дозоре за монастырским подворьем и сыске в нем со стороны полиции. При этом владыка категорически заявил всем присутствующим, что он всю надежду свою возлагает на помощь Божию, а не на людей». Но собеседники были убеждены в своей правоте: «Владыко, вы не знаете, что делается вокруг монастыря».
Как ни странно, приехав для увещания о. Илиодора, владыка с ним-то и не повидался. В алтаре его не оказалось. После молебна преосвященный отправился искать иеромонаха в его келье, но и там его не застал.
Где же был о. Илиодор? Он осуществил свой план, заготовленный на случай нападения, – нырнул в подземную келью и отсиживался там до отъезда еп. Гермогена, после чего немедленно появился на амвоне.
Не произошло встречи и на следующий день, 17.III, когда владыка отслужил в монастыре молебен, сказав народу: «Придет время, и слезы наши в радость обратятся».
О. Илиодор не хотел видеть еп. Гермогена, а тот, по-видимому, не решался настаивать. Как отмечал газетный сотрудник, «оба они боятся тяжести встречи».
Синоду владыка объяснил, что просто не представилось случая увидеться с о. Илиодором: «он не служит, не проповедует, согласно данной мною запретительной телеграмме, притом болен».
Вечером 16.III еп. Гермогена посетил губернатор. Владыка повторил свое обещание вывезти ослушника из города, но поставил два условия: 1) отсрочка; 2) невмешательство гражданской власти, причем пригрозил, что в противном случае уедет. Вероятно, именно при этой встрече было сделано упомянутое на следующий день Стремоуховым «категорическое заявление» преосвященного, «что полиции Илиодора он не выдаст». Впрочем, таков был план епископа Гермогена с самого начала переговоров с губернатором.
Так для преосвященного начались дни, которые он впоследствии назвал «царицынским стоянием».
Сострадая о. Илиодору, преосвященный Гермоген, тем не менее, видел свою задачу в примирении обеих сторон – полиции и богомольцев. Но губернатор рассчитывал, что владыка займет его сторону. «…по-видимому, – писал преосвященный, – полицейские власти этого именно и ожидали, чтобы я стал во главе лиц, руководящих полицией, для ускорения ареста иеромонаха Илиодора… лица, стоявшие во главе полиции, хотели, по-видимому, лишь того, чтобы я решительно и бесповоротно действовал только в сфере полицейских задач».
Не получив от преосвященного ожидаемой помощи, губернатор заподозрил его в ведении двойной игры. Дескать, тянет время, ожидая помощи из Петербурга, а на удалении полиции настаивает с целью «устранить свидетелей и свалить свою ответственность на администрацию, мешающую ему работать».
Ввиду позиции, занятой преосвященным Гермогеном, оставалось либо арестовать о. Илиодора самым кощунственным образом, прямо в храме, либо постепенно отступить. Но губернатор-новичок не мог позволить себе начать свою деятельность в Саратове с поражения.
С каждым днем положение принимало все более угрожающий характер.
«Не заводить же в самом деле было кровопролитие из-за строптивого монаха», – писал потом М.О. Меньшиков. Но по некоторым признакам можно было заключить, что власти готовы и к этому.
Снова приехал Харламов (21.III). «…я сам, в сущности, не знаю, для чего я здесь», – сознался он губернатору. Но одно присутствие вице-директора Департамента полиции уже доказывало серьезность намерений властей.
Полиция оцепила монастырь снаружи и дежурила в самой обители, внимательно следя за происходящим. Однажды полицмейстер пытался задержать закутанную в шаль женщину, подумав, что это о. Илиодор снова бежит переодетым.
В числе богомольцев были и тайные агенты полиции. Например, гражданская жена сотрудника Иванова оставалась в монастыре почти на каждую ночь. Илиодоровцы утверждали, что некоторые сыщики «переодеваются в женское платье, есть [нрзб] женщины, которые ходят сюда, все выслушивают и высматривают и сообщают газетам, а одна девушка лично докладывает полицмейстеру».
Вызванные губернатором стражники продолжали прибывать в Царицын, «двигаясь с окраин города как-то незаметно, пешком».
Среди илиодоровцев ходили упорные слухи, что на подмогу полиции прибыли казаки, которые до времени спрятаны по частным домам отрядами по 40–50 человек. 22.III после молебна о. Михаил сказал: «Возле монастыря, в каком-то дворе стоят 40 казаков, которых поят водкой и это ради Великого поста-то!». О. Илиодор утверждал, что видел из окон своей кельи не только усиленные наряды полиции, но и «бравых казаков, которых для чего-то напаивали пьяными до бешенства». Очевидно, подразумевалось, что трезвый казак против о. Илиодора не пойдет. О. Михаил даже уверял, что два казачьих отряда, один в 180 человек, другой в 120, отказались повиноваться начальству и осквернять храм.
Спустя два дня после приезда (18.III) преосвященный решил лично проверить слухи об оцеплении подворья полицией и казаками. По ироническому выражению репортеров, епископ обошел монастырь дозором. Когда владыка, сопровождаемый двумя священниками и тремя десятками илиодоровцев, вышел за ворота, то сразу же наткнулся на группу полицейских чинов во главе с полицмейстером и его помощником. Присутствие властей в поздний час (10 или 12 час.) выглядело подозрительно.
«Зачем вы окружили монастырь полицейскими и казаками?» – спросил преосвященный Василевского. Тот ответил, «что кроме тех двух-трех полицейских чинов, которых он тут видит, больше никого нет». «А вот пойдем посмотрим», – заявил владыка и направился дальше. За ним, кроме прежней свиты, последовала и полиция – полицмейстер, его помощник, пристав и несколько околоточных надзирателей.
Позже преосвященный писал, что в ту ночь нашел вокруг монастыря «массу полиции», а Василевский, наоборот, докладывал, что кроме их группы никаких других чинов здесь не оказалось. Возможно, под «массой» подразумевается именно эта группа.
По пути илиодоровцы принялись в очередной раз уверять владыку, что по соседним домам спрятаны отряды казаков. Тут кто-то сказал: «Ну-ка, идите, посмотрите». Преосвященный и полицмейстер приписывали эти слова друг другу. Так или иначе, несколько илиодоровцев побежали в соседний дом, обнаружили там какого-то обывателя, который спросонья ухватился за железный шкворень, и приволокли под руки к архиерею: вот, дескать, поймали вооруженного человека! Вышел большой конфуз, потому что этот субъект оказался вовсе не казак, а чернорабочий Кичишкин.
После этого вечера царицынские газеты расписывали, как преосвященный руководит илиодоровскими хулиганами, а губернатор поспешил донести министру внутренних дел, что владыка «едва не вызвал кровавого осложнения своим отношением к полиции, контролируя ее присутствие близ монастыря». Илиодоровцы же продолжали верить, что вокруг монастыря прячутся казаки. Двумя месяцами позже и сам владыка напишет об этом слухе как о действительном факте.
По свидетельству преосвященного Гермогена, все население Царицына ожидало «какого-то надвигающегося неминуемого бедствия». «Мы были в ожидании страшных событий, мы были накануне этих страшных событий, может быть накануне кровавых событий. В эту святую обитель уже простирали свои руки окровавленные люди, которые может быть сознательно, а может быть и бессознательно не хотели понять нас или притворялись, что не понимали».
Видя приготовления, но не зная намерений властей, илиодоровцы готовились к худшему. Ожидали, что о. Илиодора выкрадут через крышу или, наоборот, открыто ворвутся в храм и арестуют.
Положение, в котором оказался монастырь, преосвященный Гермоген характеризовал как «своего рода облаву», а о. Михаил – как «осаду».
Неужели Стремоухов решился перейти грань, отделяющую охранение порядка от кощунственного насилия над священником, находящимся в храме? В официальных бумагах губернатор отмечал, что полиции немного: «численность чинов полиции непосредственно при монастыре весьма незначительна при огромном стечении народа». Только непосредственно? А вокруг? Губернатор признавал, что кроме «ничтожного наряда на подворье днем» существует еще, «возможно, скрытый в окрестностях монастыря более значительный ночью для предотвращения побега Илиодора». Недаром илиодоровцы так верили в легенду о спрятанных казаках!
Кроме того, Стремоухов докладывал министру, что «весьма корректная деятельность» полиции «ограничивается наружным наблюдением за подворьем» и «сосредоточенная по вашему распоряжению в Царицыне полиция доныне не использована, не демонстрировалась, никаких приготовлений к нападению на монастырь отнюдь не делалось». Позже доводы губернатора были воспроизведены Столыпиным: «Некоторое сосредоточение в Царицыне полицейской стражи имеет своей исключительной целью поддержание в городе порядка и спокойствия, особенно ввиду значительного скопления народа, на что указывает и преосвященный Гермоген».. Таким образом, светские власти решительно отрицали приписываемые им намерения применить силу.
Тем не менее, у сложившегося положения была любопытная сторона. Преосвященный неоднократно говорил, что духовенство и миряне фактически находятся под арестом, «в некоторой искусственно созданной тюрьме», что монастырь «совершенно превращен в арестный дом», и таким образом вопрос искусственно переносится на политическую почву. С о. Илиодором и его богомольцами обращаются как с мятежниками, желая выставить их политическими преступниками. Налицо «картина искусственно изображаемого полицейским режимом городского бунта».
Действительно, в глазах общества царицынский монастырь выглядел как оплот бунтовщиков. «Голос Москвы» даже размещал телеграммы и сообщения о действиях о. Илиодора под заголовком «Царицынский мятеж».
Пока власти делали свои угрожающие приготовления, илиодоровцы тоже не сидели сложа руки, будучи настроены весьма решительно. «Скорей вы разорвете Илиодора на части, чем возьмете его живого», – заявил о. Михаил 16.III.
Последний сильно выдвинулся за время «царицынского стояния». Бросив приход, он рвался в бой за своего друга, благодаря чему стал едва ли не главным персонажем рапортов полицмейстера.
Не уступавший о. Илиодору ни по силе темперамента, ни по резкости выражений, о. Михаил своими речами и действиями еще более обострял положение в то время, когда сам иеромонах слишком обессилел для сопротивления.
Особенно серьезные меры были приняты на подворье после важнейшего решения Синода 18.III (об этом далее). Монастырь перешел на осадное положение: сторожевые патрули у ворот и вдоль стен, вооруженные караулы у всех выходов, новые засовы в алтаре, веревки от колоколов спущены во двор на случай набата. Комендантом крепости стал о. Михаил, а разводящим – один отставной солдат. Стража комплектовалась из числа илиодоровцев. «…у нас своя монастырская полиция», – говорил о. Михаил. То и дело звучала просьба духовенства, чтобы в храме оставались на ночлег преимущественно мужчины. Появилась особая «дружина» – группа личной охраны о. Илиодора числом 13 человек. Многие сторожевые и телохранители были набраны из ломовых извозчиков и брусовозов, отличавшихся большой физической силой.
С 19.III ворота монастыря закрылись не только на ночное, как раньше, но и на дневное время, за редкими исключениями. Как правило, вход допускался лишь через калитку и только для своих. Среди допущенных илиодоровцы порой проводили дополнительную проверку, выискивая незнакомых, репортеров и полицейских чинов. Неизменно проверяли лиц, остающихся ночевать в храме.
Несколько происшествий – обвал статуи, принятый за нападение казаков, слух о появлении провокаторов, попытка вооруженного субъекта добиться встречи с о. Илиодором – доказали бдительность этой импровизированной крепости.
Проведя для корреспондента «Русского слова» экскурсию по монастырю, о. Михаил с удовлетворением заключил: «Нами все предусмотрено, все заготовлено. Приняты на случай нападения все меры. Взять отца Илиодора, как видите, будет нелегко. Ведь войско у нас тоже свое имеется».
О.о. Илиодор и Михаил неоднократно обращались к народу, прося поддержки в случае нападения. В ответ слушатели неизменно уверяли, что постоят за своего пастыря. Защитники монастыря были готовы биться «до последней капли крови». Например, Андрей Ковалев «сильно желал умереть за спокойствие обители и за батюшку Илиодора, которого он, как Ангела Божия, несказанно любил».
Наконец, некоторые гарантии безопасности о. Илиодора давало присутствие архиерея. «Царицынская мысль» передавала следующий диалог преосвященного со своим подопечным, будто бы имевший место на амвоне в ночь с 21 на 22.III:
– Если вы боитесь, то я останусь в монастыре.
– Нет, я никого не боюсь. Со мной много верного народа…
Позже о. Илиодор писал, что боялся в эти дни не за себя, а за своих защитников – «за судьбу моих возлюбленных духовных детей, невинных святых младенцев, кротких, мирных русских людей, ибо я уже видел 10 августа 1908 года».
Если раньше караульщики-добровольцы могли уходить домой обедать, то теперь, когда выход и вход был затруднен, возник вопрос об организации их питания в монастыре. К счастью, доброхоты подвозили для них провизию, порой в огромных количествах. Сам преосвященный Гермоген пожертвовал с этой целью 40 пудов хлеба. Часть съестных припасов пришлось хранить в монастырской канцелярии.
Илиодоровцы либо просто раздавали богомольцам провизию, либо приглашали их в трапезную, либо расставляли столы в монастырском дворе.
По ночам в храме читали Псалтирь или, для разнообразия, что-нибудь об о. Илиодоре – газетные заметки, выдержки из «Правды об иеромонахе Илиодоре» – любопытной брошюры, привезенной заглавным героем из Москвы. По сведениям газет, однажды в роли чтеца выступил преосвященный.
Картину ночного бдения илиодоровских защитников изображает «Царицынский вестник»: «В храме народ расположился по всему полу: остались свободными только небольшие дорожки среди массы лежащих и сидящих человеческих тел. Заняты были даже свечные ящики. Одни спокойно спали, другие, расположившись кружками около чайников с кипятком, пили чай, третьи занимались чтением газеты и духовно-нравственных произведений, особенно интересовались книжечкой "Видение монаха". В центре храма поместились певчие и по временам пели церковные песнопения».
Из этого описания видно, что число добровольных защитников о. Илиодора по-прежнему было огромно. По словам той же газеты, в ночь на 24.III в монастыре ночевало более 2 тыс. чел., в следующую – более 4 тыс. Одни ограничивались ночлегом, уходя утром на работу, другие жили здесь безотлучно. По оценке «Царицынской мысли», число последних достигало 200-300 чел.
Места в храме внизу не хватало, поэтому богомольцы заняли хоры, превратившиеся в «форменную ночлежку», и свободные монастырские помещения – типографию, странноприимный дом. «Дружина» дежурила в канцелярии ввиду ее соседства с кельей о. Илиодора, спала на полу и свободных столах.
Несмотря на боевой дух илиодоровской паствы, пребывание тысяч людей на не приспособленной для этого территории не могло продолжаться долго. Газеты отмечали ухудшение санитарного состояния монастыря. Несмотря на холод, двери храма держали открытыми для проветривания.
Присутствие полиции в монастыре и особенно в храме илиодоровцами не поощрялось. Например, 24.III караульные не впустили на всенощную пристава и околоточного надзирателя. О. Михаил лично выгонял полицию из храма, не стесняясь в выражениях. «…священник Егоров, в присутствии молящихся, взяв околоточного надзирателя Кочана за рукав, стал выводить его из церкви, [нрзб] чтобы полиция и сыщики убирались вон отсюда».
Полицмейстер был в монастыре персоной нон грата и неоднократно оставался снаружи у ворот, потому что внутрь его не впускали.
Василевский докладывал начальству, что духовенство настраивает народ против полиции: «как иеромонах Илиодор, так и его креатура – священник Михаил Егоров, – по-видимому, не только в угоду епископу, но и с одобрения его всеми средствами возбуждают ненависть и вражду к полиции и стараются оскорбить ее на глазах у толпы».
Узнав о подобных обвинениях, о. Михаил демонстративно поинтересовался у монастырских богомольцев, правда ли, что он возбуждает народ своими речами, и получил отрицательный ответ.
В мемуарах Стремоухов уверяет, что преосвященный Гермоген стал идейным вдохновителем сопротивления монастыря против властей, призывая народ «сплотиться около иеромонаха и грудью защищать его от возможности какого бы то ни было над ним насилия» и даже сам «заявил, что не допустит ареста Илиодора и что он встанет между ним и слугами сатаны и не даст им дотронуться до святого человека, ограждая его Святым Крестом… пусть только дерзнут к нему прикоснуться». Ничего подобного в полицейских рапортах нет, и сам Стремоухов в те дни лишь глухо писал, что «образ действий преосвященного … возбуждает толпу против власти», а его неприязненное отношение к полиции «усиливает враждебное настроение». В действительности подобные заявления («я первый подставлю свою грудь») не раз делал о. Михаил Егоров.
В дни противостояния между Василевским и о. Михаилом произошло несколько публичных перебранок.
18.III они поспорили из-за запертых монастырских ворот.
– Что вы фантазируете? Зачем настраиваете народ? От кого вы стережете батюшку? Никто его не хочет брать.
– Что вы мне рассказываете? Как же нас со ст. Иловля увезли обратно?.
Уже через несколько часов они бранились снова. Это было в ту фантастическую ночь, когда процессия из илиодоровцев и полицейских чинов ходила вокруг монастыря во главе с преосвященным. О. Михаил жаловался владыке на полицию, а Василевский – на о. Михаила. «Да, я не пущу полицию в храм, там ей нечего делать», – кричал священник.
На требование Василевского указать конкретные случаи некорректного поведения полицейских чинов о. Михаил напомнил, как в храме недавно появились два подозрительных субъекта, один из которых, имея при себе револьвер, добивался встречи с о. Илиодором, а второй, положив себе на голову крест, хотел войти в алтарь. По мнению священника, это были сыщики. Полицмейстер возразил, «что оба эти лица никакого касательства к полиции не имеют».
Преосвященный Гермоген, неожиданно оказавшись в роли арбитра между двух противников, напомнил, что у илиодоровцев есть причины для опасений: «Мы все напуганы 1908 г., когда полиция здесь била нагайками и топтала мирно настроенную богомольную толпу, и естественно, что в данное время все, находясь под старым впечатлением, боятся повторения этого». Затем владыка призвал полицейских чинов к миролюбию, отметив таковое качество у илиодоровцев, словом, осторожно намекнул полиции, что виновата именно она.
Вскоре (20.III) за воротами монастыря вновь разыгралась некрасивая сцена. О. Михаил, обращаясь к народу, стал вышучивать полицию, в ответ из толпы полетели прибаутки, и все это вынуждены были слушать находившиеся тут же в наряде полицейские чины. В конце концов пристав не выдержал и сделал священнику замечание, «что нехорошо место у подворья обращать в цирк».
Напряжение между двумя лагерями быстро нарастало, угрожая открытыми столкновениями.
На следующий день после приезда преосвященный Гермоген получил от Синода предписание «усугубить» воздействие на о. Илиодора. Возможно, эта телеграмма и побудила владыку наконец встретиться с ослушником.
Встреча стала возможной благодаря тому, что в своей подземной келье, оказавшейся сырой, о. Илиодор заболел ревматизмом – «простудил руки и ноги» – и был вынужден вернуться в прежнее жилише.
18.III еп. Гермоген совершил в монастыре литургию, очевидно, преждеосвященную, и затем пришел в келью о. Илиодора. Их встречу народная легенда рисовала так: «приехал архиерей, стучится: "Милосердный Илиодор, отвори!". Батюшка отворил, а архиерей бух ему в ноги».
Преосвященный провел в келье настоятеля два часа. «Ввиду своей болезни иеромонах Илиодор отнесся к моим увещаниям неопределенно», – докладывал владыка в Синод. Встреча положила начало длинной череде таких бесед.
Действительно это были увещания или собеседники искали выход из своего сложного положения – сказать трудно. Официальную версию изложил епархиальный миссионер М. Л. Радченко в «Колоколе»: «Епископ Гермоген, зная о. Илиодора и теперешнее состояние его духа, действует осторожно, исподволь, и постепенно склоняет отца Илиодора к послушанию, на которое он принципиально соглашается». Принципиально – то есть Синоду, а не светским чиновникам. Сам владыка писал, что был занят воздействием на «чувства глубоко-нравственной обиды и негодования в настроении иеромонаха Илиодора», вследствие чего в нем «уже стало возникать живое чувство снисходительного и мирного отношения к причиненным ему обидам и нравственному несчастью». О. Илиодор позже выразил роль еп. Гермогена так: «он в момент царицынского церковного стояния ободрял меня, утешал и молитвами своими горячими окрылял душу мою силой благодатной».
Сложно судить и о состоянии здоровья о. Илиодора. Преосвященный рисовал положение в самых мрачных красках: «он действительно весьма болен, все время теперь лежит в постели в келии, его причащают Святых Таин. Он опасается, как бы не пришлось ему умереть на пути; он сильно желает в случае смерти быть погребенным в основанном им монастыре». Но, в сущности, подобная картина уже наблюдалась в вагоне экстренного поезда полк. Семигановского, и вообще в последнее время о. Илиодор начинал демонстративно готовиться к смерти каждый раз, когда оказывался в затруднительном положении.
Стремоухов был убежден, что болезнь фиктивна, указывая, что 1) «лишь получив телеграмму Синода, епископ объявил Илиодора больным» и 2) священник остается на ногах, порой даже выходит в храм: «полицмейстер видел его сегодня в окне кельи, а 16-го им произнесена крайне резкая речь». Но «епископ объявил Илиодора больным» не после телеграммы Синода, а после того, как, побужденный этой телеграммой, впервые повидался с ослушником и увидел его физическое состояние. Очевидно, о. Илиодор мог ходить, и в черновике своей телеграммы владыка сначала писал: «все время почти лежит в постели в келии». Поэтому выводы губернатора, не имевшего возможности встретиться со священником лично и судившего по косвенным признакам, ошибочны.
Несомненно, о. Илиодор был болен. Он вообще отличался очень слабым здоровьем, а нынешние скорби и строгий пост – он теперь питался только просфорами – подточили его силы. Но лежал он в своем затворе не столько по болезни, сколько с горя. Очень точно состояние священника описал Радченко: «о. Илиодор, бледный, худой, изможденный, скорбный телом и душой, пребывает в тесной келии, изредка по мере возможности, в качестве простого богомольца, посещает церковные службы». И то лишь самые важные службы: например, в субботу 19.III он находился в алтаре во все время всенощного бдения, а на следующий день присутствовал за обедней.
Изредка о. Илиодор выходил к богомольцам и говорил им пару слов – рассказывал новости, интересовался, как приверженцы его охраняют, следят ли за сыщиками. Однажды искал свидетелей, которые могли бы подтвердить, что его перевод – следствие подкупа. Это были краткие обращения, а не настоящие проповеди, потому что проповедовать о. Илиодору было запрещено так же, как и служить.
Желая избежать кощунственного решения вопроса об о. Илиодоре, губернатор стал давить на духовную власть. 17.III он попросил министра воздействовать на преосвященного Гермогена через Св. Синод: либо поставить краткий срок для увещания, либо вовсе отозвать из Царицына, чтобы не мешал применению силы. Столыпин немедленно передал эту просьбу обер-прокурору.
Заслушав письмо министра внутренних дел, Синод назначил еп. Гермогену последний срок для увещеваний – завтрашний день. При неудаче надлежало руками духовенства удалить о. Илиодора из храма и передать светским властям для доставления в Новосильский монастырь.
Рекомендованный прием вл. Гермогену пришелся совсем не по душе: «…нельзя допустить такого грубого полицейского насилия над о. Илиодором, тогда нужно арестовать и меня». Поиски исполнителей ни к чему не привели. Духовенство отказалось от этой неблагодарной роли. «Мы, священники, Илиодора выводить не будем, преступлений он не совершал, и никому его не дадим, – заявил о. Михаил на подворье. – Пусть святые отцы Синода приезжают сами и выводят. А кто будет его брать, того я первый вышибу из алтаря». Сам же иеромонах 19.III объявил народу, что «живым не дастся».
На телеграмму Св. Синода преосвященный Гермоген ответил незамедлительно, доложив о болезни о. Илиодора, с которым в тот самый день наконец повидался.
Понимая, что источником гонений на о. Илиодора является вовсе не Синод, преосвященный Гермоген 19.III обратился к председателю Совета министров с выразительной телеграммой:
«Тысячи народа со слезами непрестанно молятся в царицынском мужском монастыре. Народ совершенно спокоен, как дитя, а раздраженная полиция готова уже напасть на монастырь и силой взять иеромонаха Илиодора. Неизбежны тяжкие последствия. Душа моя стонет при представлении возможных ужасов. Если все это зависит и происходит от Вас, то да запретит Вам Всемогущий Господь! Я же не могу долее выносить мучительной скорби и удрученного душевного состояния, навеваемых искусственно созданной здесь со стороны местной администрации и ею поддерживаемой тяжелой атмосферой духовно-нравственного гнета и раздражения, поэтому оставляю Царицын. Вынуждаюсь затем самолично объясниться по сему пред Особой Его Императорского Величества и пред Святейшим Правительствующим Синодом».
Копию этой телеграммы владыка отправил губернатору вместо ответа на его запрос, когда о. Илиодор будет вывезен из Царицына или передан властям.
И в этот раз, и неоднократно в дальнейшем преосвященный Гермоген намеревался поехать в Петербург: около 21.III владыка даже вызвал своего эконома о. Вострикова в Москву, а 30.III уже приказал прицепить свой вагон к поезду, – но каждый раз менял решение и оставался в Царицыне. Преимущества личного ходатайства перед Государем и Синодом таяли по сравнению с угрозой ареста о. Илиодора властями, которых, может быть, останавливало только присутствие архиерея. Однажды богомольцы даже обратились к преосвященному Гермогену с просьбой не ездить в Петербург, выставляя именно этот мотив. К тому же прошел слух о будто бы отданном приказе задержать преосвященного, не допуская его в столицу.
Со своей стороны Стремоухов 19.III послал министру две телеграммы с нападками на преосв. Гермогена.
В первой, ночной, губернатор обвинял преосвященного в том, что он «побуждает» о. Илиодора к «непокорности», уклоняется от переговоров, т.е. от увещеваний, вместе с иеромонахом обманывает Синод мифом о болезни, препятствующей отъезду, и, наконец, «сегодня вечером едва не вызвал кровавого осложнения» при ночном обходе вокруг монастыря.
Вечером, получив копию телеграммы преосвященного на имя Столыпина, губернатор, глубоко возмущенный тем, что ответственность за предстоящую трагедию возлагают на него, разразился пространной телеграммой, докладывая министру, что полиции мало и она вовсе не готовится к нападению на монастырь. «Не желавши исполнить распоряжение Синода, епископ все свалил на полицию и местную администрацию, которая в лице моем, лице новом, непредубежденном, терпеливо, с надеждой и доверием, которого он не оправдал, давала ему действовать. … Полагаю, другой епископ, не предубежденный, беспристрастный, мог бы выполнить миссию Синода и, работая совместно со мной, предотвратить всякие осложнения».
В последующие дни (20 и 22.III) губернатор вновь бомбардировал министерство телеграммами, указывая, что в присутствии преосвященного ничего сделать не может.
Под давлением Стремоухова, чьи жалобы незамедлительно передавались обер-прокурору, Синод уже 19.III, заслушав утреннюю телеграмму губернатора Тем же днем члены Синода под влиянием утренней телеграммы Стремоухова, обсудил тактику еп. Гермогена, с неодобрением отмечая, что он косвенно поддерживает иеромонаха. Поэтому было решено отозвать преосвященного из Царицына, если поручение не будет выполнено до полуночи. 21.III Синод предписал владыке «незамедлительно» вернуться в Саратов (зачеркнуто: «для принятия непосредственного участия в делах епархиального управления»).
В том же заседании 19.III Синод постановил предоставить властям, если иеромонах Илиодор находится вне храма, отвезти его либо в Новосиль, либо в Казань для помещения в лечебное заведение. Однако губернатор сообщил министерству, что перехватить о. Илиодора вне церкви невозможно, а если бы и удалось, то все равно светские власти его арестовать не могут, потому что он носит на себе запасные Дары, и любое физическое насилие даст повод обвинять полицию в кощунстве.
Радченко описывал образ жизни о. Илиодора в эти дни так: он «не служит, не проповедует, не управляет монастырем, живет, как послушник в заточении». На деятельной натуре священника это вынужденное затворничество отражалось плохо. Ночью 19.III он вышел из алтаря, сел на ступеньки солеи и пожаловался ночевавшему в храме народу: «Я слишком устал, сил нет!».
Между тем переговоры с преосвященным продолжались. 19.III владыка приезжал в монастырь дважды – днем целый час провел в келье настоятеля, а вечером прибыл под конец богослужения и в течение 20 мин. находился в алтаре, где уже был о. Илиодор. На следующий день, по одним сведениям, прошел вместе с ним в келью и пробыл там 2 часа, по другим – зашел к нему в алтарь с четырьмя священниками, вместе с которыми уговаривал ослушника ехать в Новосиль.
Следствием переговоров стала телеграмма, которую преосвященный отправил митрополиту Владимиру 21.III в 1 час. 25 мин. пополуночи. Она начиналась так: «Иеромонах Илиодор выражает готовность возвратиться в Новосиль, просит предоставить ему некоторое время для подкрепления крайне ослабевшего здоровья». Далее следовало процитированное выше описание болезненного состояния священника, который-де «опасается, как бы не пришлось ему умереть на пути».
Правда ли это или маневр, чтобы выиграть время? Смерть в пути едва ли грозила о. Илиодору: несмотря на болезнь, он оставался на ногах, а путешествие предстояло короткое и комфортное, даже не в 3-м классе, а в вагоне экстренного поезда. Кроме того, первый вариант этой телеграммы, сохранившийся в бумагах преосвященного Гермогена, называл поводом для отсрочки не физическое недомогание, а «нервное расстройство».
Одновременно владыка тянул время другим способом – обещая Синоду прислать то более подробную телеграмму, то письменное донесение. «Обещанный мною во вчерашней телеграмме обстоятельный доклад заканчиваю. Завтра утром протелеграфирую его. Несколько замедлил по не зависящим от меня обстоятельствам».
Тем временем о. Илиодор вернулся к проекту строительства монастырских катакомб. 19.III, после всенощного бдения, иеромонах впервые поделился своим планом с паствой. Спустя сутки, за полтора часа до отправки преосвященным телеграммы о подчинении о. Илиодора якобы покорившийся инок вновь вышел к богомольцам и уточнил, что рытье пещер под монастырем начнется после Пасхи: «я первый возьмусь за лопату». Очевидно, в Новосиль священник все-таки не собирался, намечая планы дальнейшей жизни в автономном состоянии.
Любопытно, что ходили упорные слухи о намерении о. Илиодора переметнуться к старообрядцам, нуждающимся в монахах как потенциальных епископах. По сведениям некоторых газет, соответствующее предложение уже было сделано. Впрочем, поповцы открещивались от этого замысла, но допускали возможность его зарождения в среде беглопоповцев.
Царицынское стояние о. Илиодора старообрядцы одобрили, уловив в его бунте нечто родственное себе: иеромонах обличает иерархов со смелостью раскольников старых времен, а положение его монастыря напоминает «военные осады старообрядческих монастырей».
Сам он, как видно из его статьи 1907 г., отчасти сочувствовал старообрядчеству: «И теперь твоих верных детей называют раскольниками, удивляются их изуверности; смеются над ними за то, что они когда-то шли на смерть за бороду».
Пройдут годы, и он действительно к ним пристанет. Но пока он был тверд и даже, по некоторым сведениям, 18.III поклялся преосвященному Гермогену, что не намеревается перейти в старообрядчество. «Я ревностный сын православной христианской церкви. Родился православным и умру православным».
Слухи о старообрядческих видах на о. Илиодора привели к тому, что, кроме полиции, у защитников монастыря появился второй предполагаемый противник. 23.III после вечерней службы о.о. Алексий Протоклитов и Михаил Егоров попросили, чтобы на ночь осталось как можно больше мужчин, причем последний пояснил, что по его сведениям в храме присутствует отряд из 60 старообрядцев, вооруженных револьверами. Однако поиски этих лиц ни к чему не привели.
Другая версия слуха гласила, что вместе с иеромонахом перейдет (или уже перешел) в старообрядчество и еп. Гермоген. Этот слух был опровергнут неким близко стоящим к нему духовным лицом. Кроме того, губернатор запретил редакторам местных газет печатать соответствующие заметки.
Вскоре владыка созвал местное духовенство и мирян на совещание под громким именем «Царицынского православного церковного собрания». Пригласил и власти – губернатора, полицмейстера и исправника. Стремоухов, «конечно, решил не ехать» и отговорился нездоровьем. Но подчиненных отпустил туда, велев слушать и отмалчиваться.
Совещание состоялось в реальном училище, у директора которого В. В. Косолапова остановился преосвященный, и продолжалось 3? часа (по отчету полицмейстера) или даже 5 часов (по официальному журналу). Собрались все местные священники (25) и около 15 мирян обоего пола.
Заседание открылось речью преосвященного, который изложил присутствующим свой взгляд на положение о. Илиодора. «Он сделал весьма много духовного и нравственного добра, он трудился с необыкновенным усердием и замечательным успехом, и я считал его и считаю доселе лучшим моим сотрудником на ниве Христовой». Однако местное население, стоящее на «весьма низком уровне в религиозно-нравственном отношении», ненавидит о. Илиодора, «жидовская, подлая печать» его травит. Переведенный в Новосиль под давлением светской власти, он вернулся ради своих чад. Чуть позже владыка заметил, что привязанность к монастырю и духовным детям «по отношению к монаху можно было бы признать за немощь, все же заслуживающую снисхождения, но если всмотреться глубже в состояние духа иеромонаха Илиодора и его духовных детей, то мы вскоре заметим [нрзб] могучую силу духовно-нравственного союза в Боге между пастырем и пасомыми». По мнению преосвященного, принципиально о. Илиодор готов к послушанию и по требованию архиерея перестал служить и проповедовать. «Ведь этот поступок ясно говорит, что он в смысле повиновения духовной власти ? требования исполнил и исполнил бы остальную ? часть, если бы не требовали выполнения ее в 24 часа». Синод слишком жестко подходит к «больной истерзанной душе» о. Илиодора. «Я глубоко понимаю его душевное состояние и страдаю за него», – со слезами заключил преосвященный Гермоген.
Затем перешли к повестке. Первый вопрос, заданный архиереем, касался требования Синода об извлечении о. Илиодора из алтаря руками духовенства. «Быть может, кто-либо, из наличного состава присутствующих здесь отцов, возьмется за исполнение этой задачи?». Желающих не оказалось. Священники единодушно заявили, что эта мера неприменима как по существу, так и технически, поскольку толпа бросилась бы защищать пастыря.
Второй вопрос касался времени, за которое о. Илиодора можно привести к послушанию. Все сошлись на том, что такая тонкая и горячая натура требует деликатного обращения. О. Лев Благовидов заметил, что, «зная характер о. Илиодора, нужно признать, что убедить его в необходимости послушания в 24 часа положительно невозможно». Сам преосвященный полагал, что достаточно будет 10 дней, но после этого намеревался забрать его в Саратов хотя бы на две недели, «полечить его больную душу, измученную окружающей омерзительнейшей атмосферой».
Третий вопрос: бунтарь ли о. Илиодор? После ряда отрицательных ответов картину единодушия нарушил о. В. Мраморнов, припомнивший, как о. Илиодор бранил богачей и лесопромышленников, причем, по мнению оратора, делал это незаслуженно. Тогда преосвященный обратился с тем же вопросом к полицмейстеру, который, в соответствии с полученными инструкциями, отказался отвечать.
Наконец, способствует ли деятельность о. Илиодора развитию сектантства? Тут выяснилось, что среди окружающей его толпы есть лица, повредившиеся рассудком на религиозной почве, но по большей части это кликуши, которых нарочно свозят к знаменитому пастырю из деревень, уповая на силу его молитв. Монастырские же богомольцы веруют «в духе строго церковном».
В целом ответы на все четыре вопроса оказались благоприятны для о. Илиодора, что неудивительно, поскольку в большинстве высказывалось духовенство, подчиненное преосвященному Гермогену. Как выразились Стремоухов и Харламов, это были «терроризованные епископом священники». Впрочем, губернатору следовало пенять на себя: он ни сам не пришел, ни другим представителям власти не разрешил ничего сказать, поэтому обмен мнениями получился односторонним.
По-видимому, владыка и рассчитывал, что совещание выскажется в пользу о. Илиодора. Стремительно утрачивая доверие Синода, преосвященный поспешил заручиться поддержкой крохотного церковного собора.
Закрывая заседание, владыка указал на полицейский произвол, создавший вокруг о. Илиодора «смрадную и отвратительную атмосферу, от которой он задыхается». При этом произнес загадочную фразу: «если пристав, допустивший глумление над известной революционеркой Спиридоновой, был впоследствии революционерами расстрелян, то почему глумление над монахом допускается безнаказанно».
Много напутавший в мемуарах Стремоухов эту фразу процитировал по памяти почти дословно, намекая, что архиерей призывал отомстить властям за о. Илиодора. Однако делать это в присутствии полицмейстера и исправника было бы опрометчиво, да и из контекста видно, что речь шла только о полицейском произволе, примером которого стал случай со Спиридоновой. Вероятно, преосвященный хотел сказать, что если уж над революционеркой нельзя издеваться, то над монахом и подавно. Но не заметил, какой опасный смысл приобретает эта аналогия.
«Тяжкие последствия», предсказанные преосвященным Гермогеном 19.III, беспокоили и Стремоухова, тем более что как раз накануне он получил распоряжение Курлова: после отъезда архиерея прекратить доступ новых богомольцев в храм. Такие попытки уже делались. Но теперь, чувствуя, в каком свете владыка представит положение Государю, Стремоухов отметил, что в случае оцепления монастыря илиодоровцы ударят в набат и соберут своих сторонников, «из чего создастся дело, не имевшее прецедента в истории и поставящее правительству новое затруднение, на чем и построены все расчеты». Поэтому предложил повременить и подождать выражения воли Государя.
В мемуарах Стремоухов по памяти воспроизводит свою телеграмму еще красочнее: «Предварительно принятия мною мер к штурму православными войсками и полициею православного монастыря, защищаемого епископом православной церкви, с неизбежными кровавыми жертвами с обеих сторон, исчисляемыми сотнями людей, и тоже неизбежным святотатством, случая беспримерного в истории Российского государства, прошу испросить на сие предварительное Его Императорского Величества соизволение».
Через три дня, докладывая министру внутренних дел о собрании, состоявшемся в реальном училище и действовавшем «под непрестанным давлением епископа», Стремоухов и Харламов присовокупили вывод о том, «что епископ из Царицына сам не уедет, что в его присутствии принятие каких-либо мер для выдворения Илиодора невозможно, что инцидент с Илиодором разрастается до крупных размеров и принял характер открытого неподчинения самого епископа всякой высшей власти, как светской, так и духовной, что при таком положении вещей представляется необходимым принятие решительных мер против епископа Гермогена, недоступных для губернской власти». В очередной раз Стремоухов попытался свалить архиерея, втянув теперь в это дело еще и Харламова.
В ответ Курлов поспешил охладить пыл губернатора, телеграфировав ему, что депеша сообщена обер-прокурору и что гражданским властям не следует предпринимать никаких действий до решения Синода.
Для публики это извещение повторила официозная «Россия»:
«В различных изданиях мы встречаем самые фантастические сведения о том, что происходит в Царицыне, а главное о предположениях и намерениях гражданских властей. Говорят, будто бы имеется в виду "осадить" монастырь, будто бы "все никак не удается арестовать о. Илиодора" и т.д.
Все это основано, очевидно, на россказнях, обращающихся к толпе, окружающей о. Илиодора, которая, по-видимому, в самом деле ждет какой-то "осады" и готовится к "гонениям". В действительности, о. Илиодор является нарушителем велений церковной власти, а следовательно, только ее ведению, согласно закону, и подлежит».
23.III преосвященный Гермоген доложил Синоду, что власти готовятся к крайним мерам – стягивают войска и полицию, патрулируют окрестности, прибыл Харламов, «слышны решительные распоряжения осадить монастырь». Поэтому «дело увещания иеромонаха Илиодора осложнилось», так как грозные вести «вновь сильно взбудоражили» его натуру. Далее передавались любопытные слова самого священника:
«Власти искусственно стараются во что бы то ни стало показать меня бунтовщиком, политическим преступником. Очевидно, они мне просто мстят. Это похоже на дуэль между полицейской и духовной властью. Я от глубины души готов умереть, открыто пред всем миром исповедуя свою невиновность в навязываемых мне преступных замыслах. Вот уже 12 дней нахожусь среди массы народа, однако не воспользовался им ни как бунтовщик, ни как бродяга Гапон. Не могу стерпеть тяжких нравственных обид, оскорблений со стороны тех, которые должны бы мне оказать сочувствие, нравственную поддержку, уважение. Боже мой, что будет с Россией? Я сильно болею душой, мне лучше умереть».
Пока остается опасность ареста, увещевания тщетны – вот что, в сущности, доложил преосвященный Гермоген.
Телеграмма епископа была так ярка, что Лукьянову поневоле пришлось сделать официальный запрос Столыпину – какие такие казачьи войска стянуты к Царицыну.
Для публики взгляды духовенства были изложены Радченко на страницах «Колокола»: «С радостью наблюдается его [о. Илиодора] склонность к переселению в Новосиль, но всякий раз, когда доходят до него вести о готовящихся против него мерах полицейского воздействия, о. Илиодор как-то снова ожесточается, и владыке приходится начинать работу снова».
Таким образом, к 23 марта обе стороны довели до правительства свои точки зрения в предельно четкой форме. И архиерей, и губернатор заявили о своем бессилии в присутствии противной стороны.
Этот день – 23.III – стал переломным. В 6 час. вечера Столыпин был у Государя с докладом. По всей вероятности, испросил полномочий. Но получил ответ: «Петр Аркадьевич! Вы кашу заварили, вы и расхлебывайте. Берите Илиодора из монастыря: он мне не нужен, но берите так, чтобы ни одна старушка не была тронута».
Вернувшись из Царского Села, в полночь Столыпин отозвал Стремоухова из Царицына:
«Прошу ваше превосходительство до новых с моей стороны распоряжений не принимать никаких принудительных мер по отношению к Илиодору, точно так же не должны приниматься и усиленные полицейские меры вокруг монастыря, кроме необходимых для поддержания порядка и спокойствия. Если преосвященный Гермоген не нуждается в вашем содействии и вы признаете ваше пребывание в Царицыне не достигающим цели, разрешаю вам возвратиться в Саратов».
Одновременно Столыпин известил обер-прокурора, что «ни о каком нападении и осаде монастыря, стягивании казачьих войск, патрулировании полиции кругом монастыря и усилении таковой у ворот подворья не может быть и речи и сообщение о сем епископа Гермогена не соответствует действительности».
У Стремоухова сложилось впечатление, что решение Столыпина связано с его предупреждением о предстоящем беспрецедентном деле. Ранее, дескать, министр ничего не знал, а Курлов действовал по собственной инициативе, отдавая распоряжения «за министра». Эта мысль проскальзывает даже в докладе губернатора Столыпину 8.V.1911: «…теми мерами, которые рекомендовал мне в марте месяце от вашего имени применить к иеромонаху Илиодору ген.-лейт. Курлов» Из своей версии Стремоухов выводит еще более смелую теорию: Курлов нарочно допустил новосильское бегство и прибытие инока в Царицын, а затем подстрекал губернатора к скандальному и кощунственному насилию над духовными лицами, чтобы подставить под удар Столыпина и подготовить ему «гражданскую смерть».
Действительно, самые жесткие распоряжения, грозившие столкновениями между богомольцами и полицией, принадлежали Курлову, хотя некоторые телеграммы из министерства, касающиеся дела о. Илиодора, подписаны лично Столыпиным. Однако Стремоухов и сам хорош. Он, как уже говорилось, настаивал на «решительных мерах» еще с Французского завода. Поэтому изящная схема, нарисованная Стремоуховым в мемуарах, – Курлов, склоняющий его штурмовать монастырь, епископ, организующий народную оборону, а в середине несчастный губернатор между двух огней, – страдает неточностью.
Что до решения Столыпина, принятого 23 марта, то оно, очевидно, вызвано не телеграммой Стремоухова от 19 марта, а встречей с Государем 23 марта и телеграммой преосвященного Гермогена от 23 марта на имя митрополита Владимира. А почву, несомненно, подготовила красочная телеграмма епископа самому Столыпину: «Да запретит Вам Всемогущий Господь!». «Речь» потом выяснила, что эта фраза восходит к формуле заклинания сатаны из чинопоследования Таинства крещения, и смеялась, что-де заклинание возымело силу.
Помощи из столицы монастырь ждал с самого начала. 17.III губернатор телеграфировал министру: «приверженцы и сам епископ дают основание предполагать, что ими ожидается содействие Петербурга».
Действительно, петербургские друзья о. Илиодора всемерно хлопотали за него в сферах. По телеграфу присоединился Распутин, находившийся в те дни в Иерусалиме.
Большую роль сыграла О.В.Лохтина, которая не только разослала влиятельным лицам сочинение «Спаситель на Земле», написанное ею 14.III в защиту о. Илиодора, но и вела телеграфную переписку с илиодоровцами о ходе дел.
Понимая, что общество судит о царицынских событиях только по газетам, наперебой кричащим о «царицынском мятеже» и «бесчинствах иеромонаха Илиодора», друзья инока изо всех сил старались опровергать клевету.
По признанию самих илиодоровцев, большой вклад в это дело внес писатель Родионов. В февральские тяжелые дни, когда царицынские богомольцы на коленях просили его о помощи, он дал себе слово написать обо всем, что видел в Царицыне. Но опубликовать подобный текст в то время было невозможно: газета подверглась бы конфискации.
В дни «царицынского стояния» Родионов прочел свой очерк «Русскому собранию», посвятившему о. Илиодору особый вечер (20.III). Доклад вышел поразительный. Если доселе общество смотрело на пастырскую деятельность о. Илиодора через политическую призму, то Родионов писал о нем как о священнике, о его приверженцах как о православной церковной общине, о монастыре как о… монастыре. Бесхитростные речи царицынских богомольцев в искусной литературной обработке засверкали, как алмазы после огранки. Выяснилось, что Косицын, Шмелев и прочие авторы знаменитых телеграмм действительно существуют, а не представляют собой псевдонимы о. Илиодора, существуют и скорбят, и таких косицыных и шмелевых в Царицыне столько, что не помещается в храм на 8 тысяч человек. Родионов не застал тогда самого священника ввиду его ареста в Иловле, но свидетельство общины о своем пастыре оказалось красноречивее всего того, что мог бы сказать гостю он.
Восхищенный В. М. Пуришкевич предложил отпечатать доклад Родионова отдельной брошюрой и представить Государю. Собрание единодушно согласилось. Брошюра получила название «Конец православной сказки»: пришел конец сказочно прекрасной общине. По свидетельству Володимерова, «этой "сказкой" в один печатный листик» Родионов за несколько дней «круто» повернул «мнение высших петербургских сфер в пользу отца Илиодора».
И не только «сфер». По объяснению «Московских ведомостей», после мартовского политического кризиса «Сказку» стало возможно напечатать и в газетах. Она появилась в «Вестнике "Русского собрания"» и в «Земщине» и отныне была доступна всем.
Помощь Родионова не ограничилась литературной стороной. «Я был свидетелем того, – писал Володимеров преосвященному Гермогену, – с каким воодушевлением, с какой энергией, опрокидывающей все препятствия, боролся Иван Александрович против сплоченных в Св. Синоде и в Царском Селе влиятельнейших врагов отца Илиодора, а стало быть и Ваших, Владыко, как он провел посланцев царицынского народа в самый зал заседаний Св. Синода, как требовал восстановления попранной правды, угрожая ни перед чем не остановиться и дойти лично до самого Царя, если Лукьянов и Ко будут упорствовать».
Володимеров скромно умалчивает о собственных заслугах. Он как второй очевидец февральских событий, видавший гораздо больше Родионова, тоже выступил докладчиком на том знаменитом вечере в «Русском собрании». Намеревался прочесть подобную лекцию и на собрании членов «Союза русского народа» в праздник Благовещения, но полиция запретила этот доклад под угрозой 300-рублевого штрафа.
Внес вклад в дело помощи царицынцам и Пуришкевич, судя по его телеграмме преосвященному Гермогену 24.III: «Да подкрепит Всевышний силы ваши, глубокочтимый владыко, в борьбе за правду в деле защиты светоча православия иеромонаха Илиодора. Делаю здесь что могу, скорбя о том, что на Руси православной лекарь ведает делами церкви». Позже Пуришкевич в телеграмме о. Илиодору упомянул, что Главная палата «Русского народного союза имени Михаила Архангела» принимала «героические меры для доведения до подножия престола Самодержца» ходатайства о нем.
«Они поехали в Петербуг тайно. Один взял билет до Ростова, другой до Саратова, третий до Москвы, четвертый до Петербурга». Бывший пристав Смоленской губ. Н. П. Попов, владелец шапочной мастерской Шмелев, купчиха вдова Тараканова, супруга священника Сергиевской церкви Златорунская.
Царицынцы доверили этим четверым лицам удивительный документ – ходатайство перед Императорской четой об оставлении о. Илиодора. Это большая тяжелая книга, состоящая из каллиграфически написанного прошения и 95 листов, сплошь покрытых подписями. Их начали собирать перед вечерней 16.III, поставив в храме столы, которые в последующие дни переместились в монастырский двор.
В первый же день собрали до 4 тыс. подписей, на момент отъезда депутации – 8 тыс. Затем сбор продолжался: на 19.III их было уже 10 тыс., на 21.III – 13 тыс. Дополнительные листы повезли вдогонку.
Противники о. Илиодора подозревали авторов этого ходатайства в фальсификации. Губернатор докладывал (8.V.1911), что илиодоровцы помещали под своими прошениями фамилии лиц без их ведома, отсутствующих и детей. В воспоминаниях Стремоухов повторил это обвинение, утверждая, что «едва одна десятая часть подписей была действительна, остальные оказались апокрифическими». Газеты писали, будто в Синоде заметили, что 5 тыс. подписей сделано одной рукой. Однако длина документа заставляет сомневаться в достоверности производимых над ним арифметических исследований. Подписи действительно зачастую следуют блоками, сделанными одним почерком, но при пометках «неграмотный/ая». Хорошо заметно, что члены одной семьи записаны обычно подряд, возможно, и впрямь вместе с детьми. Участие последних в подписке засвидетельствовал сотрудник «Царицынской мысли». Вообще же при масштабах илиодоровской общины набрать и 5, и даже 15 тыс. человек не составляло большого труда.
Едва ли экспедиция четырех провинциалов с заветной книгой имела бы успех без Родионова. Он не только сопровождал депутацию в Петербург, но и провел ее (24.III) к митрополиту Владимиру, сочувствовавшему о. Илиодору. Высокопреосвященный Владимир ласково принял посетителей и пригласил их на заседание Синода, состоявшееся в его же покоях через час. Там Попов произнес речь о благотворном влиянии о. Илиодора на Царицын.
После встречи депутация телеграфировала о. Илиодору, заканчивая словами: «Приняты очень хорошо. Усильте молитвы. Есть надежда на успех».
Посетили гости и ген. Курлова, который сообщил им «снятии осады с монастыря», то есть, вероятно, повторил официозное извещение, что ни о какой осаде власти и не думают.
По поводу дополнительных подписей илиодоровцы 21.III запросили столичных покровителей через студента Санкт-Петербургской духовной академии Аполлона Труфанова: «Сообщите кому нужно: набралось еще пять тысяч подписей. Как дело? Отвечайте. Александр» (по-видимому, Александр Труфанов). После приема депутации на эту телеграмму ответила Лохтина: «Шлите подписи мне скорее, дела слава Богу».
После полуночной телеграммы Столыпина положение монастыря видимым образом изменилось. Усиленные наряды полиции были сняты. Остались только помощник пристава и двое городовых у ворот. Харламов и Стремоухов уехали – один в Петербург, другой в Саратов.
В тот же день (24.III), в канун Благовещения, пришла телеграмма от депутации, а ночью – вторая, от Лохтиной. Поэтому праздник оказался особенно радостным. Благовещение – годовщина основания царицынского монастыря, и вот он как будто рождался заново! «Народ чувствовал себя особенно радостно, как бы в Пасху, по случаю того, что арест с монастыря был снят, а вместе снято и с них позорное имя бунтовщиков», – писал преосвященный Гермоген.
За всенощной о. Илиодор, 14 дней не служивший, надел епитрахиль и помазывал богомольцев елеем. Был заметно радостен, но от речей воздержался, воскликнув только: «Вот вам и Благовещение!». Наутро же в числе других священников сослужил епископу Гермогену. Наконец увидав о. Илиодора в облачении, народ понял: «Надел ризу, значит, дело кончится по-хорошему, значит, наша возьмет».
Праздничное богослужение прошло торжественно, при огромном стечении народа из города и окрестных сел. Газеты писали о 8 тыс. богомольцев, преосвященный Гермоген – о 15 тыс. После Литургии и проповеди, произнесенной миссионером Носковым, о. Михаил, улыбаясь, объявил: «Я не могу сейчас утерпеть, чтобы не поздравить всех вас с великой радостью: мы сейчас только получили из Петербурга телеграмму самого радостного содержания, так что у нас сегодня не один, а два больших праздника. Слава Тебе Господи!».
Затем вокруг монастыря был совершен крестный ход. Осмелился ли о. Илиодор выйти за ворота? Сведения на редкость противоречивы. По словам полк. Семигановского и «Русского слова» о. Илиодор шел в белом облачении, неся икону Благовещения. У «Царицынской мысли», наоборот, священник шел в черной одежде, неся Казанскую икону и закрывая ею лицо. «Новое время» вовсе писало, что о. Илиодор не вышел на крестный ход. Неудивительно, что «стервятники» из «Царицынской мысли» путались в названиях икон, но как репортер ухитрился не отличить черную одежду от белой? Вероятно, обознался.
Тут же на площади был отслужен благодарственный молебен. В целом вся служба продолжалась с 7 час. 30 мин. утра до 2 час. 30 мин. После ее завершения, сопровождая преосвященного, о. Илиодор остановился и сказал пастве, что отпускает ее по домам, поскольку его больше не нужно «караулить».
Пройдя в келью о. Илиодора, преосвященный с ее балкона обратился к народу: «Сегодня все птицы радуются, вылетая из неволи, так и мы, возлюбленные, будем радоваться, ибо в сей день выпущен из тюрьмы на свободу птенец наш – батюшка о. Илиодор; выпущен он, наверно, уже навсегда и останется служить в этом монастыре». Затем о. Михаил с того же балкона говорил о завершении вражеской осады.
Радостный день омрачило несчастье. Появился мученик за о. Илиодора – царицынский мещанин Андрей Ковалев. Он был в числе богомольцев, запершихся в монастыре вместе с пастырем, не покидал подворье со дня объявления войны Синоду и готовился умереть за обитель и за «батюшку Илиодора, которого он, как Ангела Божия, несказанно любил». Человек очень крепкого телосложения, в это тяжелое время Ковалев тужил и плакал. В самый праздник Благовещения прямо во время обедни скончался от разрыва сердца, едва успев причаститься: «наклонился перед иконой и не встал».
Отпевание состоялось в воскресенье 27.III после Литургии. Над гробом еп. Гермоген сказал: «Раб Божий Андрей скончался как истинно верующий христианин на своем посту, как часовой, охраняя святыню от поругания. … Сердце его не выдержало, и он умер и свободился теперь от всех напастей и гонений. Но Господь приготовил за это ему и награду: как он при жизни был ревностным поклонником монастыря, так и после его смерти Господь сподобил его первого стать вечным посети[те]лем этого монастыря и этой святой церкви». Ковалев был погребен на территории обители у алтаря храма.
Эта смерть была воспринята илиодоровцами как подвиг. Даже вдова Ковалева во время похорон «поистине имела вид не печальный, но радостный», а через неделю о. Илиодор сказал: «умерли только некоторые из нас и умерли славной смертью».
Но то было через неделю, когда ему разрешили проповедовать. Сейчас он осмелился только призвать народ к молитвенному поминовению новопреставленного Андрея, а сам мысленно обратился к покойному с просьбой. «Я стоял с вами над теплым прахом возлюбленного брата и просил его, чтобы он, когда предстанет перед лицом Всевышнего, рассказал, как нас несправедливо преследует лютый неприятель и как мы страдаем. … И, очевидно, брат Андрей рассказал все Богу».
По-видимому, кончина несчастного богомольца глубоко потрясла о. Илиодора, часто вспоминавшего о покойном. На Пасху он призвал свою паству положить крашеные яйца на могилу Ковалева, которая после этого оказалась полностью покрыта разными приношениями. А после смерти Столыпина отказался служить по нему панихиду, сказав, что лучше отслужит ее по рабу Божию Андрею.
Радость благой вести быстро уступила место тревоге. Ни обнадеживающие телеграммы друзей, ни снятие полицейской осады не гарантировали безопасность о. Илиодора. Синод еще не сказал своего окончательного слова, на вокзале по-прежнему ожидал экстренный поезд, а полк. Семигановский оставался в Царицыне. Наблюдение за подворьем продолжалось, и на праздничной службе в храме присутствовала, как выразился о. Илиодор, «нечистая сила», – полицейские чины, которые внимательно следили за происходящим, вставая даже на цыпочки, «как лютые звери на задние лапы».
Всего через полтора часа после того, как о. Илиодор распустил своих караульщиков по домам, он снова вернулся в церковь, где оставались только самые близкие его приверженцы, и попросил их продолжать прежнюю тактику – ночевать в монастыре и выводить подозрительных. Вечером следующего дня эту просьбу повторили другие священники.
Преосвященный Гермоген вновь забил тревогу, объясняя Синоду, что опасность ареста не миновала. 26.III владыка доложил, что надзор за монастырем, о. Илиодором и даже за архиереем продолжается, полк. Семигановский «и сейчас неотступно подстерегает иеромонаха Илиодора, чтобы арестовать его или посредством внезапного нападения на монастырь, или же способом выкрадывания при помощи переодетых казаков и сыщиков. Экстренный поезд для внезапного ареста иеромонаха Илиодора находится наготове в распоряжении Семигановского». Поэтому богомольцы и их пастырь пребывают сейчас в положении «узника, с рук и ног которого сняли на время железные цепи».
Получив соответствующий запрос от обер-прокурора, министерство внутренних дел поспешило убрать злосчастный поезд и уверить Лукьянова, что опасения преосвященного не имеют под собой никакой почвы. Страх нападения на монастырь, – «очевидно, результат нелепых слухов, которые естественно распускаются при создавшемся в Царицыне ненормальном положении досужими людьми, – писал Столыпин. – Вагон для иеромонаха Илиодора был приготовлен, а теперь и эта мера мною отменена, на случай, если бы преосвященный Гермоген убедил его возвратиться в Новосиль».
Что до продолжения надзора, то полк. Семигановский доложил министру: «Наружная полиция держит только одного городового на площади, впуск полиции монастырь зависит от произвола духовной власти».
Но у о. Илиодора была своя тайная полиция. 28.III железнодорожный служащий Дмитрий написал ему: «сегодня паровоз убрали в депо, но вагоны остались наготове». Вопреки пометкам «скретно» и «прозба упрознить сейчас же по прочтении» адресат передал этот исторический документ преосвященному, в чьих бумагах он и сохранился. Поэтому владыка вплоть до 1.IV продолжал ссылаться на полк. Семигановского с его поездом. Сам о. Илиодор 31.III писал членам Синода: «Полиция продолжает караулить меня».
Любопытно, что в те же дни из Царицына внезапно исчез любимый персонаж полицмейстера о. Михаил Егоров, на отозвании которого ведомство настаивало еще 21.III.
Освобожденный от давления светской власти, Св. Синод быстро сменил гнев на милость. Некое лицо, близкое к синодским сферам, сообщило «Биржевке», что причиной стало раскаяние ослушника. Однако это объяснение выглядит чересчур официозно.
Раскаяние последовало еще 20.III, но, выслушав об этом устный доклад Лукьянова на следующий день, Синод не смягчился – напротив, именно в этом заседании он отозвал еп. Гермогена из Царицына. Судьба о. Илиодора решалась не в Синоде, а в министерстве внутренних дел и потому определялась не раскаянием, а политической конъюнктурой.
Последние бумаги из министерства внутренних дел, составленные по телеграммам Стремоухова и направленные против преосв. Гермогена, слушались Синодом в заседании 23.III. При этом прозвучала уже новая нота: преосвященный Парфений ходатайствовал, ввиду отъезда о. Илиодора и его нежелания вернуться, об его увольнении от должности настоятеля Новосильского монастыря и причислении к саратовскому архиерейскому дому по месту его прошлого служения.
На следующий день, когда, приняв царицынскую депутацию, члены Синода вновь обсудили положение, уже двое преосвященных – Парфений и Михаил – высказались за оставление о. Илиодора в Царицыне. 26.III за этот исход проголосовали трое – митрополит Владимир, епископы Михаил и Агафодор – против четверых (митрополиты Антоний и Флавиан, apxиeпископ Тихон и епископ Константин). Рогович телеграфировал преосв. Гермогену, что дело принимает благоприятный оборот. А 31.III о. Илиодор уже говорил, что на его оставление не соглашаются только трое – «митрополит Антоний, Столыпин и еще один».
Новое определение Синода относительно о. Илиодора состоялось 26.III и изображало положение в точности так, как его рисовал преосвященный Гермоген: ослушник согласен подчиниться, но мешает болезнь и опасность ареста. Поэтому «надлежало бы войти в совещание с врачами, а равно представляется необходимым разъяснить иеромонаху Илиодору, что дошедшие до него известия о мероприятиях светской власти неосновательны». Вместо этого, как уже говорилось, епископ Гермоген разъяснил самому Синоду, зачем в Царицыне находится полк. Семигановский.
Уловив благоприятный момент, владыка принял доступные ему меры, чтобы склонить священноначалие на свою сторону. Во-первых, он двукратно передал Синоду просьбу царицынских богомольцев об оставлении о. Илиодора. Во-вторых, такую же просьбу повторил сам ослушник, впервые после Французского завода обратившийся к священноначалию с телеграммой. Судя по тому, что черновик этого слезного послания остался в бумагах преосвященного Гермогена, владыка сыграл немалую роль при составлении этого письма. В своей телеграмме (28.III) о. Илиодор, именуя себя «окаянным грешником» и «истинно покорным послушником», перечислял свои недавние злоключения и умолял не довершать их каким-то еще наказанием. Жалобное послание было заслушано Синодом в тот же день, но лишь принято к сведению.
Вечером 28.III преосвященный Гермоген вновь созвал духовенство и мирян на совещание в зал реального училища.
Губернатор, после прошлого раза намеревавшийся больше не разрешать такие собрания, почему-то не воспрепятствовал. Однако, получив сведения о предполагаемом участии о. Илиодора, распорядился его арестовать если не по пути, то на лестнице после заседания. Инструкции, данные Стремоуховым полицмейстеру, – это еще одно доказательство серьезности намерений светской власти:
«Когда совещание кончится и уже все будут выходить по лестнице, постарайтесь протиснуться между владыкой и Илиодором. Агентов поставьте на лестнице и, когда
вы с ними поравняетесь, резко толкните иеромонаха в руки агентов, а сами, в самой почтительной позе, загородите его от епископа, а агенты пусть уже волочат Илиодора в приготовленные сани и везут на вокзал; там будет ожидать вагон с локомотивом под парами, и мы увезем его, куда следует.
– Ваше Превосходительство, как я его толкну, ведь он духовное лицо.
– В моих глазах это бунтовщик и больше ничего».
На совещании, однако, о. Илиодора не было, но разговоры вращались вокруг его имени. «Илиодор много потрудился и вместо благодарности его сочли за бунтаря и психически больного», – говорил преосвященный, возлагая большую часть ответственности на «местную дьявольскую печать», которая «ввела в заблуждение не только общество, Синод, но чуть ли и [не] Царя». Владыка укорил и царицынское духовенство, не поддержавшее собрата.
Отметив, что в Царицыне сложились «тягостные условия для пастырско-миссионерской деятельности», при которых «каждому пастырю в отдельности грозит опасность потерять равновесие духа и подвергнуться той же участи, какая выпала теперь на долю страдальца о. Илиодора», преосвященный призвал слушателей к ответным мерам. «Вместо того, чтобы встать крепко и дать отпор революционным партиям, мы слишком сибаритничаем и не проявляем энергии, это называется религиозное дегенератство». По мнению владыки, в Царицыне надлежало создать газету, а также совет, состоящий из поровну пастырей и мирян. На предложение включить в состав совета о. Илиодора преосвященный ответил: «Не знаю, куда Бог его направит, он весьма желателен; дай Бог, чтобы он остался. Помолитесь и просите, чтобы его оставили. Я предлагал послать телеграмму от духовенства об оставлении его».
Трижды за вечер преосвященный говорил об этой телеграмме. В третий раз – после заседания, когда три женщины на коленях просили оставить о. Илиодора в Царицыне. Владыка ответил довольно резко, предложив просительницам самим вместе с духовенством обратиться к Синоду.
Собравшиеся вняли троекратному призыву преосвященного и на следующий вечер отправили телеграмму от лица Царицынского пастырского совместно с мирянами собрания.
Наконец, 30.III Синод окончательно сдался и определил по ходатайству еп. Парфения уволить о. Илиодора от должности настоятеля Новосильского монастыря. За непослушание назначить 2-месячную епитимью в Таврической епархии, куда о. Илиодору надлежало выехать по окончании пасхальной седмицы. До выполнения епитимьи он был запрещен в священнослужении. После же ее выполнения Синод намеревался рассмотреть ходатайства о возвращении о. Илиодора к месту его прежнего служения.
Епитимья подозрительно смахивала на отпуск в Крыму для поправления здоровья. Еще благотворнее, чем климат, было бы влияние таврического преосвященного, а это не кто иной, как епископ Феофан (Быстров), который постригал о. Илиодора в монахи и покровительствовал ему еще в академии. На Страстную и Светлую седмицы священник мог оставаться со своей паствой, хотя и не служить.
К середине июня Синод, очевидно, готов был сдаться на просьбы царицынцев и их архипастыря. О. Ефрем Долганев телеграфировал брату из Петербурга 31.III: «Просят вас владыко уговорить отца Илиодора чтобы согласился поехать Крым на два месяца будет хорошо желание царицынцев Бог даст исполнится».
Синод принял мудрое решение, предельно уступив о. Илиодору без ущерба для собственного авторитета. Правые газеты ликовали, всячески превознося мудрость священноначалия.
Однако самому о. Илиодору хитроумное решение Св. Синода, по-видимому, показалось чересчур сложным.
«+
Дорогой Владыка!
Получена утром такая телеграмма: "Сегодня (30) собрание у Антония. От Новосиля отчислен. Посылается Крым Феофану для лечения. Ждем еще решения царского".
Ради Бога, сейчас пошлите телеграмму в Синод о том, что лучшее лекарство мне – остаться в Царицыне.
Ваш посл.
Иером. Илиодор
1911. III, 31».
Тем же утром священник разослал Синоду и отдельным его членам телеграмму: «Ваше святейшество, болею я не от климата, а от того, что меня отрывают от дела, которое жизнь моя. Твердо веря слову Божию «просите и дастся вам», умоляю Вас ради Христа оставить меня в Царицыне. Полиция продолжает караулить меня. Вашего Святейшества истинно покорный послушник иеромонах Илиодор».
Вняв просьбе о. Илиодора, преосвященный Гермоген незамедлительно телеграфировал Синоду: «Присоединяясь к ходатайству всех царицынских пастырей и многих тысяч мирян, всенижайше ради Бога молю Св. Синод простить иеромонаху Илиодору его ошибки и погрешности и оставить в Царицыне». Владыка прибавил, в точности как его просили, что эта мера «будет единственным врачевством» для «наболевшей души» священника.
Обе телеграммы упоминали о продолжении полицейского надзора, и неспроста. О. Илиодор подозревал, что направление в Таврическую епархию – маневр, чтобы выманить его из укрытия: «Снова хотят тайно вызвать меня из монастыря и увезти с жандармами, – говорил священник своей пастве тем же вечером. – Но нет! Я уже ученый и не поеду, а вы, православные, узнайте, стоят ли на железной дороге запасные поезда». Получив ответ, что таковые стоят в Царицыне и Городище, о. Илиодор удовлетворенно рассмеялся: «Повторяю, что я не дурак и ни за что не поеду из монастыря, хотя весь Синод сюда приехал бы».
Опасения своего подопечного разделял и архиерей, даже обратившийся к министерству с прямым вопросом, не арестует ли полк. Семигановский о. Илиодора в пути.
Еще одной и, возможно, главной причиной несогласия о. Илиодора была надежда на царскую милость («Ждем еще решения царского»).
Депутация царицынских богомольцев оставалась в Петербурге, ища способ передать народное ходатайство в царский дворец. Сделать это было несложно: по утрам дежурный флигель-адъютант выходил к дворцовым воротам, принимал прошения, затем составлял их реестр, который и отдавал Государю. Но здесь, по-видимому, удалось передать собственно текст напрямую. «На наше счастье, – рассказывал потом Попов, – мы напали на хорошего адъютанта, который на свой страх, вопреки обычаю, вручил наше прошение Государю». Кроме того, депутаты надеялись получить аудиенцию. «Ожидаем приема, если соблаговолят принять», – писали они на родину в монастырь. По сведениям полиции, депутация будто бы даже телеграфировала о состоявшемся приеме, но никаких подтверждений этого факта камер-фурьерский журнал ни за март, ни за апрель не содержит. Судя по датировкам всех этих противоречивых известий, прошение передали 29 или 30.III. Получено же оно было, как гласит пометка на нем, 1.IV в Царском Селе. Неудивительно, что 31.III о. Илиодор выразил нежелание ехать в Крым, поскольку положение еще не определилось.
Впрочем, надежды было мало. Еще 24.III Государю доложили старое прошение царицынцев, составленное еще в бытность о. Илиодора в Новосиле, всего за 1327 подписями. Это ходатайство, адресованное Великому Князю Михаилу Александровичу, попало от адъютанта последнего полк. Мордвинова в канцелярию Его Величества по принятию прошений. Никаких последствий оно не имело.
Завершая свою командировку, царицынская депутация явилась (31.III) к митрополиту Антонию. Но тот был тверд и не смягчился даже тогда, когда посетители опустились на колени, намереваясь стоять так до тех пор, пока просьбу не исполнят. «В таком случае приходится уходить мне», – заявил владыка и посоветовал гостям уговорить своего пастыря ехать в Крым.
Одновременно епископ Гермоген делал последние попытки ухватиться за соломинку: 31.III вновь телеграфировал Государю, на следующий день собрал секретное заседание совета «Благовещенского братства», обращался, по-видимому, и к посредничеству Распутина. 31.III Лохтина сообщила в Царицын: «Владыко, вы сами телеграфируйте в Иерусалим».
Сам Распутин потом рассказывал о. Илиодору, что «здорово донимал» «царей» телеграммами в его защиту, причем адресаты «упорно держались, а потом сдались». Отношение Императорской четы к этим ходатайствам очень правдоподобно передано в следующем послании «блаженного старца» в Царицын: «Одна надежда на Бога. Молитесь Скорбящей Божией Матери. Всем благословение отца Григория. За нарушение спокойствия в Петербурге сердятся. Хотели дать просимые тобой деньги. Говорят – почему не просил у них отпуск. Телеграфируй: Иерусалим, русская миссия, Новых».
О. Илиодор намеревался ждать окончательного решения Синода до воскресенья 3.IV, то есть до праздника Входа Господня в Иерусалим. Возможно, дело в двухдневном сроке, фигурирующем в телеграммах царицынской депутации, или в том, что до начала Страстной седмицы все синодальные члены разъезжались.
Дожидаясь новостей, ослушник начал, не без помощи друзей, понимать выгоды для себя крымского варианта. «Илиодор начинает склоняться на убеждения и ждет только известия из высоких сфер, – писало «Русское слово». – После получения их он выедет в Крым. Он согласен на это при условии обратного возвращения в Царицын». Газета удивительно точно информирована. Преосвященный Гермоген говорил царицынцам об этих днях как о «критической минуте»: «и я, и вы, и о. Илиодор уже совершенно пали духом и думали, что наше дело совершенно проиграно и потеряно». Радченко писал, что о. Илиодор намеревался ехать в Крым 3.IV в 2 час. 45 мин.
Но в 2 час. 45 мин. уходил московский поезд. Дело в том, что преосвященный намеревался сначала отвезти о. Илиодора к себе в Саратов, а потом уже отправить в Крым. Ввиду возможности ареста своего подопечного владыка, как уже говорилось, обратился с вопросом к министерству. 3.IV пришел ответ, подписанный Курловым: «Опасения вашего преосвященства о предполагаемом арестовании иеромонаха Илиодора полковником Семигановским лишены всякого основания. Путешествие ваше и иеромонаха Илиодора никаких препятствий не встретит».
Оставалось лишь придумать, как вырваться от богомольцев. «Мы все ляжем на рельсы и не пустим», – так, по словам о. Илиодора, говорила паства о его возможной поездке в Крым. «И действительно, – прибавлял сам священник, – не пустили бы. Они, человек 200, легли бы на рельсы. Что бы надо было делать? Давить людей? Отлично, раздавили бы этих, а там впереди еще легли бы и положили бы головы на рельсы 300 человек». Циничный тон этих слов остается на совести репортера.
1.IV обер-прокурор привез Государю в числе прочих бумаг постановление о крымской епитимье. Как и относительно перевода в Новосиль, Синод решил испросить Высочайшее утверждение своего решения. И тут произошло неожиданное. Государь, месяц назад обещавший Стремоухову, что больше не простит о. Илиодора, объявил Лукьянову, что решил оставить священника на прежнем месте. На докладе обер-прокурора появилась Высочайшая резолюция: «Иеромонаха Илиодора во внимание к мольбам народа оставить в г. Царицыне. Относительно же наложения епитимьи предоставляю иметь суждение Св. Синоду».
На следующий день Синод собрался на экстренное заседание – настолько экстренное, что его журнал написан от руки. Это была Лазарева суббота, и почти все синодальные члены отбыли в свои епархии ввиду предстоящей Страстной седмицы. Присутствовали всего три иерарха: митрополит Антоний, митрополит Киевский Флавиан и архиепископ Ставропольский Агафодор. Они определили во исполнение Высочайшей воли перевести иеромонаха Илиодора из Новосильского монастыря в Саратовскую епархию для определения в Царицын, отменив запрет на совершение здесь богослужений. В качестве епитимьи было вменено состояние под запрещением в течение последних двух недель. Миловать – так миловать, не цепляясь к мелочам!
Вскоре к общей радости правых кругов Лукьянов покинул пост обер-прокурора. Илиодоровское дело было не единственной причиной, а, скорее, последней каплей. «…по слухам, Государь поставил на вид Лукьянову, что он неверно представил ему дело Илиодора и поставил его в необходимость оставить Илиодора вопреки определению Синода». «Неверно представил»! Значит, друзья о. Илиодора были услышаны и Государь понял нелепость бюрократической волокиты, поднятой вокруг илиодоровских речей.
Слова «во внимание к мольбам народа» означали, по-видимому, что царская милость – это ответ на народную петицию, подписанную десятками тысяч царицынцев. Или даже шире – на совершавшееся в Царицыне с конца января небывалое явление, которое «Колокол» именовал «непрерывным церковным народным стоянием».
«Велика сила мiрской молитвы», – писала та же газета, узнав о Высочайшей резолюции, а М. Померанцев на страницах «Русского знамени» отмечал: «Теперь, когда разрешилась царицынская история, можно решительно сказать, что только несокрушимая вера и горячая молитва святителя Гермогена вместе с верующим народом совершили чудо 1 апреля».
В монастыре знали, что благодарить за эту чрезвычайную милость следовало Императрицу Александру Федоровну. Именно она уговорила супруга сжалиться над бедным священником, что впоследствии подтвердил о. Илиодору и сам Государь.
А кто уговорил ее саму? «Лохтина и другие последовательницы Гриши старались доказать, что милость царицы ко мне – дело Гриши». По словам Труфанова, сам Григорий тоже настаивал на этой версии. С легкой руки келейника она распространилась и среди богомольцев подворья. Впрочем, о. Илиодор не слишком в это верил: «Здесь Гриша мне нисколько не помог», а его брат Михаил и вовсе кричал: «Врете вы все! Не Григорий возвратил о. Илиодора, а народ его отстоял».
Телеграмма от митр. Антония о Высочайшей милости пришла в Царицын вечером. За всенощной еп. Гермоген прочел народу это чудесное известие. Счастливый о. Илиодор, будучи не в силах сдерживать свои чувства, дважды выходил на амвон, делился с паствой своей радостью и благодарил Господа. «Так вот идите теперь к этим глумителям, насмешникам и безбожникам и скажите им, что Бог не с ними, а с нами. Давайте же возблагодарим Его и споем: "С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог!"».
Наутро Литургию в монастыре возглавил преосвященный Гермоген. В проповеди он сказал: «Господь в этот день воскресил от смерти Лазаря, и мы получили воскресение от духовной смерти». А о. Илиодор, наконец получивший право не только служить, но и проповедовать, воздал должное своей пастве: «Вы ждете от меня обычной проповеди. Но что я могу сказать после двухмесячной молчаливой проповеди, которая раздавалась из этого священного места, из монастыря-крепости».
Оба победителя послали Государю по благодарственной телеграмме. «Да будет благословенно Твое Царство во все дни Твоей жизни, – писал преосвященный. – Да утешит, возвеселит и исцелит Господь от всякой скорби и болезни драгоценную Нашу Мать Государыню Царицу на утешение и радость всех к ней притекающих скорбящих душ».
Преосвященный уехал днем, по-видимому, тем самым поездом, на котором еще вчера поневоле намеревался увезти о. Илиодора от его паствы. Народ провожал архипастыря торжественно, с пением народного гимна. Проводив преосвященного, о. Илиодор, сопровождаемый ликующей толпой, пешком вернулся в монастырь.
Через два дня в Царицын прибыла депутация, ездившая ходатайствовать в Петербург. На вокзале депутаты были осыпаны цветами, до монастыря ехали с пением «Славься» и кликами «ура». В храме были встречены о. Илиодором, который благословил и расцеловал своих спасителей. После благодарственного молебна все вышли во двор, и священник предложил депутатам: «Сейчас в храме вы представились Богу, а теперь представьтесь русскому народу». Попов рассказал о поездке, а народ земно поклонился депутации.
Вечером 3.IV полк. Семигановский испросил разрешения распустить вызванную стражу по уездам, о чем в тот же день последовало распоряжение губернатора, а сам покинул Царицын лишь 5.IV.
Преосвященный Гермоген и о. Илиодор победили. «Царицынское стояние» закончилось. «…я пережил с православным народом определенную нам Господом Богом Голгофу», – говорил иеромонах.
Таким образом, о. Илиодор дважды за два месяца устроил скандальный протест против своего перевода, руководствуясь как пастырскими, так и идеологическими мотивами.
Объясняя свой побег из Новосиля «скорбью о пастве», о. Илиодор лукавил. Вероятнее всего, это был побочный мотив. Осмотревшись на новом месте, о. Илиодор понял, что ему тут делать нечего, и предпочел вернуться к привычному труду: «Возьмите меня оттуда, где от ветхости все разрушается, и возвратите меня туда, где моей кровью, моими трудами устроенное без меня разрушается».
Конечно, налицо была и «скорбь о пастве», и, в особенности, «скорбь паствы». О. Илиодор так сильно привязал к себе своих богомольцев, что они уже не мыслили без него свое существование в церковной ограде. В тяжелые дни обоих «стояний», как сердобского, так и царицынского, не раз высказывалось опасение, что теперь «растекется народ, как грязь», царицынцы «отобьются от церкви» и упадут «в пропасть духовного забвения, нравственного нерадения, пороков и преступлений». Взаимное желание обеих сторон скорее умереть, чем допустить расставание, – это тревожный духовный признак, симптом болезни, пустившей корни в илиодоровской общине.
Как и в прошлый раз, даже правый лагерь сожалел о слишком дерзком поведении о. Илиодора, впавшего в «искушение» «в исступлении ума и сердца». «О. иеромонах виновен, и очень виновен, и мы прямо скажем, что находим его виновным пред всею Церковью, а не перед одним Св. Синодом, – писали «Московские ведомости». – Он подрывает нам церковную дисциплину, он дает повод к расколам, он, наконец, не понимает монашеского послушания, которое основано не на повиновении властям или человекам, а на сознании того, что Воля Божия, в судьбах отдающего себя на Волю Божию, проявляет себя во всяком случае».
Однако, как уже говорилось, о. Илиодор полагал, что его обет послушания не распространяется на подчинение светской власти, по указке которой действовал в его деле Синод. Подобную же мысль выразили восемь членов правой фракции Государственной думы в ходатайстве 26.III на имя митр. Владимира, напоминая, что пастырям «Господь повелел паче заботиться о спасении заблудших овец, чем об угождении сильным мира сего», и предполагая, что, быть может, молодой инок нарушил обет послушания, помня, что «Богу надлежит более повиноваться, чем людям».
Идеологическая подоплека непослушания о. Илиодора – его попытка бороться за свободу господствующей Церкви. Он неизменно подчеркивал, что борется не со священноначалием, а с правительством: «святыню вашу почитаю, благоговею пред нею как высшей церковной властью, руководимой Духом Святым, но чиновничьему, противному Богу, засилью, особенно проявленному в царицынском деле, не подчинюсь». Объявляя свою брань, священник, по его словам, стремился отстоять самостоятельность господствующей Церкви, ее независимость от государства, поскольку не священноначалие, а обер-прокурор добился перевода о. Илиодора в Новосиль.
Преосвященный Гермоген видел «сердцевину» царицынских событий «именно в ненормальных отношениях современных представителей светской власти к власти церковной». Стремясь во что бы то ни стало арестовать о. Илиодора, администрация руководствовалась «полицейским» принципом, почти полностью отринув «церковно-пастырский». Владыка отмечал, что «светская власть сознательно подавляет, угнетает и пресекает функции церковной власти и унижает самую церковную власть».
Взгляд о. Илиодора и еп. Гермогена на «царицынское стояние» разделяли многие лица. «Протест Илиодора есть, в сущности, протест против чрезмерного угнетения духовной власти со стороны власти светской», – говорили сотруднику «Русского слова» представители московского духовенства. Анонимный священник на страницах «Московских ведомостей» отмечал, что в деле о. Илиодора «столкнулись бюрократически-церковное формальное усмотрение, направляемое внецерковной рукой, и живая, настоящая, кипучая церковная жизнь». По мнению «Русского знамени», в своем «подвиге» иеромонах явился апологетом «идеи протеста против растлевающего воздействия чиновничества на душу православного народа, против бюрократизации Церкви Христовой». «Склонившаяся перед светской властью Церковь вдруг словно вспомнила о своих божественных правах и в лице бедного, растерянного, но неподавленного монаха, вооруженного только крестом, дерзко ополчилась на их защиту», – писал И. Гофштеттер. В том же смысле Володимеров писал о «праведном стоянии» преосвященного Гермогена и его царицынских чад «за свободу святой Церкви православной и за правду Божию».
С этой точки зрения победа о. Илиодора была победой всей Церкви. Упомянутый анонимный священник отмечал, что царицынская «трагедия» дала «сильный толчок к пробуждению нашего церковного самосознания». Виленский железнодорожный отдел «Союза русского народа» писал преосвященному Гермогену, что в царской милости к о. Илиодору видит «залог грядущего освобождения Церкви Божией от полицейско-инородческих влияний». Гофштеттер приветствовал «первую победу веры над приказом, Церкви над бюрократией», «конец старой бюрократической опеки над Церковью» и предсказывал «начало широких реформ в смысле давно назревшего внутреннего освобождения православной Церкви».
Однако некоторые видные пастыри высказались о такой форме борьбы в самых резких выражениях. «Если раньше мне казалось хотя что-либо достойное словах и заявлениях Илиодора о свободе духа церкви, – писал прот. И. Восторгов, – то теперь я убеждаюсь, что мы имеем дело только с болезненной мегаломанией и безумным бунтом против законной церковной власти». Архиепископ Антоний Волынский, хорошо знавший царицынского монаха еще юношей, после его победы написал: «Илиодор вовсе не изувер-невропат, а хитрый и расчетливый интриган. … Вообще это скандальная для всех история, которую расхлебывать придется еще долго и на Волге, и на Неве и по соседству».
Публика, смотревшая на деятельность о. Илиодора сквозь политическую призму, увидела в его борьбе только то, что он борется со Столыпиным. Сторонники последнего метали в бедного монаха громы и молнии, а оппозиция негодовала, что представитель власти уступил какому-то мракобесу. Напротив, в наиболее консервативных кругах гонение, воздвигнутое на царицынского проповедника, вызвало всплеск симпатий к нему. У «дорогого нам всем отца Илиодора» нашлось множество друзей. Свидетельства этого глубокого сострадания сохранились в бумагах преосвященного Гермогена, получавшего сочувственные письма от самых разных людей «Вся верующая Россия болеет душой, сочувствуя вам, владыко, и отцу Илиодору, – телеграфировали 24.III правые члены Государственной думы. – Молим Бога, да укрепит Он вас на защиту церкви».
В новом статусе
После знаменитой «осады» царицынского монастыря облик о. Илиодора в глазах простого люда стал приобретать черты народного героя.
Еще недавно его друзья сделали попытку искусственно создать ему такую славу, напечатав беллетризованную биографию «Правда об иеромонахе Илиодоре». Попытка провалилась с конфискацией этой книги.
Но теперь героизация личности о. Илиодора произошла естественным путем. Слух о гонимом за правду иеромонахе, мученике и аскете, разнесся далеко за пределы Саратовской губернии. Этому способствовали, между прочим, рассылавшиеся им по станицам миссионеры, которые восторженно рассказывали казакам о своем великом батюшке. Едва ли это была спланированная пропагандистская кампания. Скорее всего, посланцы просто не могли не поделиться своей радостью.
Слава царицынского проповедника достигла и столицы. «…теперь попам очень трудно, – рассказывал один извозчик, – вот где-то в Царицыне был один, кажется звать Илиодором; так гнали же его, гнали, вот как гнали за то, что говорил правду, только Царь его и вызволил, а то бы пропал».
Если простые души заочно полюбили о. Илиодора как страдальца за правду, то души лукавые заинтересовались им как влиятельным лицом, которого сам Царь знает и выручает из беды. Это особенно стало заметно после майской аудиенции. В июне корреспондент «Утра России» отмечал, что сельские священники, желая выслужиться за счет связей иеромонаха, привозят на поклон ему депутации союзников.
Наглядным выражением славы о. Илиодора стала книга для записи приглашений его с крестом на пасхальные дни. В эту книгу записалось более 6 тыс. царицынцев, в том числе богачей, его бывших врагов – В.Ф. Лапшина, Бондарчука, Яковлева и др..
Сам же он не гордился победой, а лишь думал о деле.
Вербное воскресенье (3.IV) стало для илиодоровского лагеря днем сугубого торжества.
Литургию в монастыре возглавил преосвященный Гермоген. В проповеди он сказал: «Господь в этот день воскресил от смерти Лазаря, и мы получили воскресение от духовной смерти». А о. Илиодор, наконец получивший право не только служить, но и проповедовать, воздал должное своей пастве: «Вы ждете от меня обычной проповеди. Но что я могу сказать после двухмесячной молчаливой проповеди, которая раздавалась из этого священного места, из монастыря-крепости».
Оба победителя послали Государю по благодарственной телеграмме. «Да будет благословенно Твое Царство во все дни Твоей жизни, – писал преосвященный. – Да утешит, возвеселит и исцелит Господь от всякой скорби и болезни драгоценную Нашу Мать Государыню Царицу на утешение и радость всех к ней притекающих скорбящих душ».
Преосвященный уехал днем 3.IV, тем самым московским поездом в 2.45, на котором еще вчера поневоле намеревался увезти о. Илиодора от его паствы. И вот они действительно прибыли вместе на вокзал, но не с плачем, а с радостью, с букетами цветов и верб в руках. За каретой следовала с пением народного гимна ликующая толпа. Проводив преосвященного, о. Илиодор пешком, во главе той же толпы, отправился назад в монастырь. Шествие приняло характер патриотической манифестации.
А за вечерней о. Илиодор объявил пастве о переходе к новой тактике. Обличительным проповедям против богачей настал конец. «Это была моя личная вина, моя личная ошибка, что я погорячился и думал, что только одним своим пастырским словом с этого амвона я могу привести их к исправлению, привести к раскаянию…». Теперь вместо гласной борьбы предстоит тайная. «Все мы станем следить незаметно, потихоньку за жизнью всех наших богачей и лиц высокопоставленных, пользующихся особым доверием общества». На основании собранных материалов илиодоровцы будут подавать прошения губернатору, а то и высшим властям, о высылке неугодного лица из Царицына. О. Илиодор был убежден: как всенародная челобитная о его оставлении в монастыре возымела успех, так и последующие ходатайства от лица народа будут уважены.
Итак, отныне царицынские грешники были избавлены от призывов к покаянию. Почему же о. Илиодор решил отказаться от обличений – краеугольного камня своего пастырского мировоззрения?
Прежде всего, он устал. «Буду только обороняться, а они, если хотят, пусть нападают», – объяснял о. Илиодор сотруднику «Московских ведомостей». Даже подачу описанных выше ходатайств священник решил всецело передать в руки своей паствы: «Я от всего отстраняюсь». Эти слова очень характерны для его настроения в те дни.
Кроме того, о. Илиодор извлек из минувших событий немалый урок. За время вынужденного бездействия, сидя в собственной обители, как узник, он, конечно, не мог не задуматься о причинах своего положения, создавшегося именно благодаря обличительным проповедям.
Поначалу о. Илиодор выполнил свое намерение, изо всех сил попытавшись держаться тише и скромнее. Этому способствовало отсутствие тем для обличений: петербургские враги стали поочередно сходить со сцены, некоторые царицынские купцы внезапно прониклись уважением к былому обличителю. Позже, однако, о. Илиодор не выдержал и дал волю языку.
Что касается системы ходатайств, то, в сущности, подобные планы о. Илиодор излагал еще в конце 1910 г. Но раньше они включали в себя обличительную проповедь, а теперь этот пункт был вычеркнут. Как и ранее, о. Илиодор не усматривал ничего предосудительного в подобной тактике: «Какие же это доносы, если они правду напишут».
Смену тактики подметили вскоре и многие газеты, отмечавшие, что если раньше он направлял свои удары «вверх», обличая власти и капиталистов, то теперь стал бить «вниз», по крамольникам и инородцам.
В защиту этого положения А. Панкратов напечатал даже целое интервью с «одним бывшим илиодоровцем, человеком простым, малограмотным, но умным». Тот говорил, что в первое время служения в Царицыне о. Илиодор всех «привлек своим неистовым обличением властей, Синода, местных капиталистов-пауков». Теперь же «в его проповедях настоящее обличение исчезло совершенно», «он сосредоточился исключительно на "крамольниках" и "безбожниках". Грубо смеется над мусульманами, евреями, армянами. Не обличает, а издевается».
Неизвестно, кого интервьюировал Панкратов, но изложенные тут мысли никак не могли принадлежать «малограмотному» илиодоровцу. Во-первых, он рассуждал о политической конъюнктуре в подозрительно интеллигентных выражениях: «Вспомните, что это было время, когда митинги и собрания были запрещены, газеты придавлены. Негде было проявиться свободному чувству негодования». Во-вторых, ни один приверженец о. Илиодора и даже ни один житель Царицына не мог бы датировать насмешки иеромонаха над иноверцами 1911 годом: оскорбление им магометанства в марте 1908 г. было притчей во языцех и сразу пришло бы на ум любому лицу, вознамерившемуся рассуждать о подобных материях.
На самом деле новая тактика о. Илиодора заключалась не в том, чтобы выбрать более удобную цель для обличений, а в полном отказе от них и замене их ходатайствами против врагов.
Объект для ходатайства подвернулся уже на следующий день. «Царицынская мысль» напечатала заметку «Ликование в монастыре», в которой приписала о. Илиодору грубые выпады против священноначалия и обер-прокурора: «Святейший Синод увяз по колено в грязи» и т.д.. Газета сообщала, что эта речь якобы прозвучала после объявления еп. Гермогеном народу о Высочайшей милости. Подозрительно фальшивая нота для того торжественного дня! Не говоря уже о том, что о. Илиодор был слишком счастлив для подобных нападок, не так же он был глуп, чтобы устраивать новый скандал, едва выкрутившись из старого, да еще при таком авторитетном свидетеле, как архиерей.
Сам священник категорически отрицал, что говорил что-то подобное: «Клевета! С моей стороны было бы величайшей неблагодарностью нападать на иерархов после проявленного великодушия». Его приверженцы тоже опровергали газетное сообщение, призывая в свидетели «епископа Гермогена и многие тысячи православных людей». По-видимому, газеты вернулись к своему обычному приему – искажению проповедей о. Илиодора.
Поняв, что «Царицынская мысль» пытается вновь настроить священноначалие против него, он пал духом. «Удрученный отношением печати, взволнованный» – так его состояние описывал о. Благовидов. После пережитого потрясения о. Илиодор меньше всего желал нарваться на новые неприятности.
«Не успела рана зажить – и опять царапают, – жаловался он через несколько дней. – Ведь выдумали что. Не успел, мол, иеромонах Илиодор получить милость, а уж опять лезет, опять задирает. Да Бог с ними со всеми. Только бы меня оставили в покое…».
Вечером 5.IV по его просьбе представительная депутация из трех священников – о. Благовидова, о. Протоклитова и иеромонаха Гермогена – направилась к полицмейстеру и заявила, что «Царицынская мысль» лжет, приписывая о. Илиодору резкое слово. Василевский обещал принять меры. Выслушав от собратьев рассказ об их миссии, о. Илиодор «успокоился». О. Благовидов поспешил телеграфировать преосвященному, что «редактор привлечен [к] строгому административному, типография [к] судебному взысканию». На самом деле полицмейстер, не располагая такими полномочиями, лишь обратился к губернатору с ходатайством о наложении на редактора «Царицынской мысли», коим числился тогда Т.Т. Шилихин, взыскания за нарушение п.12 обязательного постановления от 8.IX.1910, то есть за возбуждение враждебного отношения к правительству.
Тем временем Царицын возвращался к обычной провинциальной тишине. Илиодоровцы успокоились, наравне со своими врагами. Вечером 3.IV полк. Семигановский испросил разрешения распустить вызванную стражу по уездам, о чем в тот же день последовало распоряжение губернатора, а сам покинул Царицын лишь 5.IV.
В тот же день 5.IV вернулась депутация, ездившая ходатайствовать за о. Илиодора в Петербург. На вокзале депутаты были осыпаны цветами, до монастыря ехали с пением «Славься» и кликами «ура». В храме были встречены о. Илиодором, который благословил и расцеловал своих спасителей. После благодарственного молебна все вышли во двор, и священник предложил депутатам: «Сейчас в храме вы представились Богу, а теперь представьтесь русскому народу». Попов рассказал о поездке, а народ земно поклонился депутации.
Затем о. Илиодор напомнил пастве о новой тактике и предложил подать первое ходатайство – о закрытии «Царицынской мысли», а второе – о высылке из города ее редактора Булгакова вместе с семьей, сотрудниками и имуществом. Затем настанет черед богачей – «разных там Максимовых с их миллионами, Зайцевых, Филимоновых и многих других».
С приездом депутации этот план приобрел особый вес: перед илиодоровцами предстало наглядное доказательство, что народное ходатайство за Петербургом не пропадет. Более того, оказалось, что депутаты заручились в столице чьей-то поддержкой: «Им, правда, предложили в Петербурге разные лица (начальствующие и неначальствующие) в случаях каких-либо недоразумений обо всем писать…». Вот они и будут писать!
«Но теперь мы не допустим, чтобы из-за клеветы народ страдал, – объясняли илиодоровцы сотруднику «Московских ведомостей». – Как только напишут что-нибудь зря, сейчас же будем писать опровержение и в газеты, и высшим властям. Им ведь там трудно разобраться, что правда и что ложь». Зато с народной помощью разберутся и непременно помогут: «Потому – мы за правду стоим».
Следуя призыву своего пастыря, его приверженцы собрали деньги на телеграмму и разослали ее текст в правые газеты на правах «уполномоченных от многих тысяч радующегося и в то же время негодующего православного царицынского народа». Отдав должное благодетелям, содействовавшим оставлению о. Илиодора в Царицыне, авторы телеграммы пригрозили врагам – «газетным клеветникам» и финансирующим их богачам – возбудить ходатайство о высылке этих лиц из города.
Самого ходатайства, по-видимому, так и не последовало. Гора родила мышь. Через несколько дней на вопрос корреспондента о. Илиодор рассмеялся: «Это они только так, по простоте. Авось, мол, осторожнее будут враги».
Прочтя текст телеграммы, некая Александра Фаворская заподозрила, что он, как и предыдущие телеграммы, является делом рук неких «агитаторов», захвативших «всю власть в царицынском подворье». На самом деле послание принадлежит перу самых близких и верных сподвижников о. Илиодора. Телеграмма подписана следующими лицами: о. Михаил Егоров, Александр Труфанов, иеромонах Гермоген, Косицын, Жуков, Аникин, Шмелев и Иванов. Все они, несомненно, действовали по благословению настоятеля, а не в тайне от него.
В свою очередь, редакция «Царицынской мысли» была не на шутку встревожена, узнав из той же телеграммы, что полицмейстер добивается 3-месячного тюремного заключения для редактора и владельца типографии. Газета разразилась пространным «словом иеромонаху Илиодору», где, путаясь в словах от волнения, предостерегала адресата от возобновления борьбы и, в свою очередь, обещала продолжать освещение монастырских событий.
«Царицынская мысль» оказалась не единственной газетой, поспешившей возобновить клевету на о. Илиодора и его паству. «Саратовский вестник», например, напечатал фантастическую заметку о настроениях илиодоровцев, которые якобы «близки к обожанию своего батюшки, при виде его они (особенно женщины) бросаются на колени, целуют край его одежд», а по отношению к внешнему миру «ведут себя крайне вызывающе».
«Мимо монастыря стало невозможно проходить, – писала газета. -
Например, проходившего случайно мимо монастыря урядника затащили в монастырь и после допроса "с пристрастием" нанесли ему оскорбление действием и почти нагого вытолкнули за монастырские стены». Однако на запрос губернатора Василевский ответил, что такого эпизода не было.
Специальный корреспондент «Речи», описывая тот же победный вечер 3.IV, сообщил, что толпы илиодоровцев ходили по городу с пением гимна и «размахивали пучками лозы (вербы)», от чего население города якобы ждет осложнений. Хотя почему не ходить по улице с вербами на Вербное воскресенье?.
Констатируя возобновление газетной травли о. Илиодора и отчасти еп. Гермогена, саратовский епархиальный миссионер-проповедник М.Л. Радченко телеграфировал «Русскому знамени»: «печать левого лагеря сумела отравить нашу радость, поместив ряд статей провокационного характера. … Пора обуздать произвол иудействующих репортеров; злонамеренная ложь должна строго караться: велик грех совращения малых сих». На страницах «Братского листка» Радченко объяснил, почему считает действия «Саратовского вестника» провокационными: газета, дескать, задумала «ослиным копытом лягнуть ненавистного человека, облить его грязью ложных измышлений, поднять систематическую травлю, чтобы отравить минуты радости, вызвать о. Илиодора, пользуясь его впечатлительным темпераментом, на то или другое выступление, которое в свою очередь будет ложно истолковано, превратно, тенденциозно освещено».
Вскоре то же «Русское знамя» напечатало статью М. Померанцева, который заступался, главным образом, за преосв. Гермогена, «того святителя, который и без того является крестоносцем наших дней».
Приближалась Пасха, вдвойне радостная от того, что паче чаяния ее предстояло служить в родном монастыре. «После пережитого вам, батюшка, должно быть, особенно радостно встретить праздники», – предположил сотрудник «Московских ведомостей». – «Да, такие праздники не часто выпадают на мою долю», – согласился о. Илиодор.
Тот же сотрудник (И.С. Ламакин) увековечил вид илиодоровского монастыря в праздничную ночь.
«Приукрасили и расцветили его в эту Пасху особенно ярко. Сплошь в лампадочках и разноцветных фонарях.
Особенно великолепны были колоссальные фонари в виде храмов, неведомых зданий и причудливых фигур, протянутые в самом центре монастыря на проволоках».
Такова была иллюминация. Но вот началась заутреня. Запели тропарь Пасхи.
«Десять тысяч голосов, как апокалипсические громы, подхватили.
"Смертию смерть поправ"…
Напев перекинулся из храма во двор, оттуда за ограду; средневековые корпуса монастыря затряслись в море звуков.
Прорвалось!
Можно было умереть от нахлынувшего неизобразимого чувства».
Однако, увидав, что о. Илиодор выходит к народу с какой-то речью, Ламакин не на шутку испугался: сейчас испортит общий молитвенный порыв политической проповедью. Но проповедь оказалась странная. О. Илиодор говорил, «что Бог приемлет пришедшего и в шестой, и в девятый, и в одиннадцатый час». «Говорил, вопреки обыкновению, на славянском языке, и это меня особенно поразило». Огласительное слово Иоанна Златоуста! Но Ламакин, по собственному признанию, об этом святителе «действительно только что слышал, да и то одним ухом». По-видимому, на том же уровне пребывали и знания журналиста о пасхальной заутрене, отчего он и оконфузился на всю Россию со своей царицынской корреспонденцией.
В первый день Пасхи после вечерни о. Илиодор раздал богомольцам красные яйца, пояснив, что сам он сейчас положит красное яичко на могилу «нашего возлюбленного брата Андрея» со словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!», и если кто последует этому примеру, то все приношения будут переданы бедным. Действительно, почти все собравшиеся в храме вслед за пастырем отправились к могиле и стали класть на нее яйца, куличи, пасхи и деньги, так что поверх могильного холма появилась гора из пожертвований.
После этого о. Илиодор дал краткое интервью Ламакину, всячески подчеркивая, что со своей стороны не желает продолжать прежнюю борьбу. На вопрос о врагах ответил: «Э, ну их совсем!». Затем Ламакин побеседовал с ближайшими сотрудниками о. Илиодора, причем у Шмелева даже побывал в гостях. Всем увиденным корреспондент остался доволен.
По-видимому, именно об этом эпизоде о. Илиодор на другой день рассказывал народу, что в неточной газетной передаче выглядело так: «Враги наши мало-помалу начинают покоряться нам. Один из главных врагов, член Государственной Думы (фамилии я не буду называть, ибо врагов у нас слишком много) пришел под Пасху в монастырь и ему понравились богослужение и монастырская благочестивая жизнь. Бог даст, все враги покорятся…». Ламакин не был членом Государственной Думы, но речь, очевидно, шла о нем.
Вскоре в «Московских ведомостях» появился цикл «царицынских впечатлений» Ламакина. Пока корреспондент писал о том, что видел своими глазами, то есть о празднике Пасхи, можно было только радоваться за монастырь, получивший такого бытописателя. Однако Ламакин счел нужным написать и о том, чего не видел, – о недавней осаде монастыря (№№89 и 93 «Московских ведомостей»), выставив преосв. Гермогена в неблагоприятном свете. Позже владыка ответил обширным письмом на имя редактора.
По случаю праздника илиодоровский лагерь обменялся поздравительными телеграммами с архипастырем, причем сподвижники о. Илиодора благодарили еп. Гермогена за защиту своего батюшки, а владыка, в свою очередь, поблагодарил всех, кто боролся в минувшие дни за свободу церковных начал.
Сам о. Илиодор, совершенно истощенный всем происшедшим, на Светлой слег с ревматизмом.
Пока плоть немоществовала, дух оставался бодр. О. Илиодор уже задумал что-то сногсшибательное. Еще в Великую Субботу (9.IV) он вместе с «Ольгой» – очевидно, О.В. Лохтиной – телеграфировал Григорию Распутину в Иерусалим: «Благослови дело [за] свободу церкви». Затем была болезнь, а на Антипасху о. Илиодор уже снова оказался на ногах с таинственной проповедью (17.IV). Вся Россия и весь мир, говорил он, удивляется молитвенным подвигам его последователей. Впереди великое дело, которое предстоит совершить Царицыну для всей России. Тогда она обновится и будет благоденствовать. Расшифровать эти туманные намеки очень сложно ввиду того, что в голове о. Илиодора всегда роилась добрая дюжина проектов такого рода, и неизвестно, какой из них подразумевался в данном случае. Однако отдельные факты складываются в любопытную картину.
Чудо с оставлением его в Царицыне породило в нем мысль о своем особом призвании именно на этой земле. «Из того, что я уже дважды по повелению Самодержавного Императора Всероссийского, вопреки беспримерно сильному желанию врагов всего свято-русского, оставлен в г. Царицыне, видно, что Господь, в руках Которого сердце Царя-Помазанника Божия, благословил сугубым благословением мое пребывание в одном из крупных центров Поволжья и совершение святого дела, ради которого, как вам известно, мне пришлось по воле Божией, для вящего торжества и православия и самодержавия и силы духа русского перетерпеть большую беду. … Полагаю, что благоугодный для меня и для русских православных людей утешительный конец царицынского дела повелительно требует от меня более широкого применения того, что мне предназначил Господь».
Для начала следует сказать, что о. Илиодор предполагал расширить свой монастырь. Во-первых, задумал выстроить еще один храм на 15 тысяч человек, поскольку существующий 7-тысячный уже не вмещал всю паству.
Кроме того, священник вновь, как и в 1908 г., обратился к городской думе с «сердечной покорнейшей просьбой» о передаче монастырю примыкающего к нему огромного пустыря. Если в прошлый раз о. Илиодор просил 3120 кв. саж., то теперь его аппетит разгулялся до 6440 кв. саж. План использования пустыря оставался прежним: «предлагаю разбить сквер для благого приличного провождения народом праздников, построить богадельни, приюты, дома трудолюбия, церковно-учительскую, причетническую и миссионерскую низшие школы с ремесленными классами и монастырским содержанием беднейших учеников».
Но дума ненавидела о. Илиодора. Не помогло даже личное обращение преосв. Гермогена к губернатору. Рассмотрев ходатайство, дума отклонила его закрытой баллотировкой большинством 21 против 14.
Конечно, о. Илиодор был огорчен отказом: «я просил площадь не для устройства кабаков, а для святого и доброго дела». Попытка добиться пересмотра думского постановления была встречена новым отказом. С горя о. Илиодор предсказал, «что благословения Божия на трудах Думы в предстоящее четырехлетие никакого не будет: денег будет истрачена целая уйма, будет надета на город долговая денежная петля, а толку будет столько, сколько у лысого на голове волос». И грозил всенародно проклясть гласных перед алтарем, как только узнает их имена.
Впереди о. Илиодора ожидало еще большее оскорбление. Отказав монастырю, дума передала пустырь под базар! Священник негодовал: «Народные лиходеи хотели отомстить Илиодору и отомстили бедному народу, которому я хотел построить школы, приюты и богадельни. В древности народ таких благодетелей, выведя в поле, побил бы камнями».
Но сейчас, в апреле, не предвидя этого будущего, о. Илиодор ожидал исполнения думой его «сердечной покорнейшей просьбы».
Однако не один Царицын владел его мыслями в эти дни. В конце апреля скончалась 75-летняя казачка Донской области Денисова, которая в прошлом году завещала илиодоровскому монастырю 100 десятин земли около станицы Александровки Ростовского округа Донской области. Перед кончиной благодетельница, уже два года проживавшая в монастыре, удвоила свое пожертвование. Там же на Дону, в Сальском округе, поблизости от станиц Великокняжеской и Павловской, и всего в 8 часах езды по железной дороге от Царицына находился Гремучий колодезь, вырытый в донских степях, по преданию, свв.Кириллом и Мефодием, святыня в руках калмыков, которую о. Илиодор посещал и в детстве, и не далее как в прошлом году.
По-видимому, собрав все эти впечатления воедино, он задумал распространить свою деятельность на родной край. Воображению о. Илиодора рисовалось колоссальное религиозно-патриотическое движение, подобное почаевскому, охватывающее Поволжье и Дон, с центром в Царицыне. «Нужно, непременно нужно Царицын сделать твердым, могучим, несокрушимым оплотом православия, русской государственности». А из него свет разольется по двум рекам – Волге и Дону. «Пока еще только одна крепость, – Царицын; нужно бы везде такие», – говорил о. Илиодор. Он мечтал о сети патриотических «благотворительно-просветительных» монастырей, таких же, как его собственный. Кроме того, о создании благотворительных учреждений и школ. Например, при Гремучем колодезе он хотел устроить миссионерскую школу для обращения калмыков в православную веру: «не пройдет 10-15 лет, как в донских степях не будет язычников, ибо мы их сделаем всех православными христианами, а то мы посылаем миссионеров в Японию, Китай и другие государства для обращения язычников в православную веру, а у себя под боком не видим их».
В конце апреля (между 20 и 26.IV) о. Илиодор таинственным образом исчез из монастыря, по слухам, вызванный какой-то телеграммой. «Вы помните, дети мои, что недавно я уезжал от вас "куда-то"? – говорил потом о. Илиодор. – Я тогда вам не сказал, куда уезжал, да и сейчас не скажу. Пусть пока это так и останется: "Куда-то уезжал"».
Впрочем, репортеры все разнюхали, и «Новое время» буднично написало, что о. Илиодор ездил в ст. Качалинскую (Донской области), в 50 верстах от Царицына, по поводу пожертвования умершей Денисовой. Однако при столь прозаической цели иеромонах не интриговал бы так свою паству. Его экивоки заставляют подозревать за простыми хлопотами по наследству другие, скрытые цели. Это предположение отчасти подтверждается следующим газетным сообщением: «Илиодор осмотрел землю и остался ею доволен. В скором времени он перенесет сюда свою деятельность из Царицына». Наивный репортер не понимал, что о. Илиодор перерос масштабы какого-либо одного города и развернется вовсю лишь тогда, когда перешагнет губернские границы.
Поздно вечером 26.IV о. Илиодор, находясь в Царицыне, уже совершенно открыто сел на пароход «Императрица Александра». Провожать явилась огромная толпа, запрудившая всю набережную. С площадки парохода виновник торжества произнес речь.
Любопытно сопоставить телеграммы разных корреспондентов в связи с этим. Согласно «Голосу Москвы», о. Илиодор говорил здесь о прощении врагов, а по словам «Речи» «Илиодор с площадки парохода говорил зажигательные речи об угнетении бедных богатыми; о раскрепощении народа, сначала физическом, потом духовном; громил русскую интеллигенцию». Набор штампов, перечисленный во втором случае, заставляет предположить, что корреспондент «Речи» на месте события не был и свой отчет сочинил.
Прощаясь с паствой, о. Илиодор не удержался от жестокой шутки по мотивам пережитых скорбей: «Вы знаете, откуда я приехал? Я приехал ведь из Крыма, а теперь еду в Новосиль…».
Наконец под пение гимна и крики «ура» он отбыл «по неизвестному направлению», как выразился корреспондент «Нового времени», хотя у Волги, казалось бы, есть только два направления – по течению и против течения. В настоящее время о. Илиодор плыл вверх по течению, наметив следующий маршрут: в Саратов, затем в Саров на богомолье, оттуда дня на два в Петербург и затем назад в Царицын, с тем расчетом, чтобы вернуться до воскресенья перед праздником Вознесения, т.е. до 15.V, и успеть последний раз пропеть Пасху вместе со своей паствой.
В Саратове о. Илиодор остановился, как обычно, в архиерейских покоях. Уже в день приезда ему предстояло важное дело: вместе с преосв. Гермогеном он посетил губернатора Стремоухова.
Губернатор уже успел невзлюбить преосвященного ввиду его роли в недавней царицынской истории. Отношения осложнил инцидент, произошедший в Великую Пятницу 8.IV. Высшие власти, по традиции, присутствовали на вечерне в кафедральном соборе, чтобы вынести Плащаницу. Свящ. Ледовский произнес проповедь, именуя гонителей о. Илиодора «Пилатами, Иудами, Каиафами, Синедрионом» и т.д. Нынешнего губернатора проповедник прямо не упомянул, зато о его предшественнике отметил, что тот был лишен «всяких нравственных и религиозных чувств».
Губернатор, ухитрившийся какую-то часть этой проповеди принять на свой счет, понял, что она произнесена с благословения архиерея, чьи «выразительные глаза засветились особым огоньком». Однако, по примеру гр. Татищева, Стремоухов сдержался. Впоследствии сетовал, что после проповеди ему «пришлось покориться судьбе, подходить к кресту и целовать руку». Правда, во время вечерни с выносом Плащаницы к кресту не прикладываются, но очевидно, что губернатор в полном соответствии с рекомендациями Столыпина старался соблюдать «все внешние формы». Сохраняя видимость мира, он считал себя в состоянии войны с архиереем.
Однако преосв. Гермоген не терял надежды на сотрудничество с новым губернатором и потому посетил его в сопровождении о. Илиодора (29.IV). Впрочем, по большей части говорил один владыка, а «Илиодор вел себя весьма скромно», как запомнилось Стремоухову.
Посетители попросили губернатора содействовать передаче царицынскому монастырю примыкающей к нему площади и, кроме того, пожаловались на Василевского и Семигановского. Между прочим, преосв. Гермоген высказал предположение, что именно Василевский информировал Ламакина в неблагоприятном для архиерея смысле, и просил об удалении полицмейстера, грозя в противном случае вынести этот вопрос на церковную кафедру. Губернатор же, в глубине души подозревавший, что источником ламакинских корреспонденций был илиодоровский лагерь, защищал Василевского, указывая, что он корректен и отрицает свою причастность к этому делу. Что до Семигановского, то посетители «очень энергично» обвиняли его в оболгании о. Илиодора.
Усилия духовенства найти общий язык с губернатором оказались тщетными. «Скоро беседа, совершенно неклеившаяся, пресеклась, и оба посетителя меня оставили», – писал он.
По-видимому, визит еп. Гермогена и его жалоба на Василевского с Семигановским стали последней каплей в чаше терпения губернатора, который 8.V написал Столыпину письмо с подробной характеристикой сложившегося положения. Стремоухов констатировал, что о. Илиодор при поддержке архиерея добивается освобождения от надзора властей и прессы, желая, таким образом, «обратить царицынский монастырь в место, недоступное для полиции и администрации», то есть «завоевать себе полную автономию», чтобы воспользоваться ею «не ко благу правительства».
Приложенный к письму доклад содержал сводку последних провинностей о. Илиодора, которых ввиду его новой тактики набралось очень мало. Однако губернатор все-таки делал вывод об опасности действий иеромонаха как в политическом, так и чисто в бытовом смысле, так как монастырь-де того и гляди развалится.
Стремоухов не смущался даже Высочайшим повелением оставить о. Илиодора в Царицыне. Во-первых, губернатор утверждал, что эта милость исторгнута из «любвеобильного сердца обожаемого монарха» обманом. Народные симпатии к священнику «возбуждались искусственно, путем систематического, строго рассчитанного взвинчивания темных масс», а часть подписей была якобы фальсифицирована. Во-вторых, «Государь Император простил иеромонаха Илиодора "во внимание к мольбам народа", однако Его Величество никогда не изволил выразить, чтобы Он признавал его правым». В-третьих, Высочайшее помилование усугубило дело: «милость Государя, упавшая в не заслуживающие того души, не просветила их, а напротив побудила их только возгордиться и далее идти по пути своеволия и презрения к существующим формам».
Да, «души» во множественном числе, потому что губернатор считал «епископа Гермогена столь же виновным в создавшемся положении, как и иеромонаха Илиодора»: «без еп. Гермогена иеромонах Илиодор ничтожен». В лучших традициях гр. Татищева Стремоухов изложил инцидент при выносе Плащаницы и требовал удаления преосвященного из Саратова. При этом условии губернатор обещал справиться с о. Илиодором уже своими силами: «я берусь свести его отрицательную деятельность на нет, если еп. Гермоген оставит Саратов». В противном случае «положение высшей правительственной власти в губернии станет совершенно невыносимо».
Словом, Стремоухов пошел по стопам своего предшественника. Сбывались опасения еп. Гермогена, что и с новым губернатором сладу не будет.
Не ограничиваясь письменным докладом, Стремоухов лично отправился в Петербург – формально для доклада о состоянии губернии, но фактически по илиодоровскому делу. Однако Столыпин «развел руками», отказался «растравливать муравейник» в правом лагере и предложил губернатору самому поднять этот вопрос перед Государем, причем будто бы советовал пригрозить отставкой.
Надо отдать должное стремоуховской силе воли – он не остановился даже перед этой крайней мерой. Вскоре губернатор получил от Столыпина еще один совет – не вмешивать имя Распутина. Совет был дан экстравагантным способом:
«Накануне аудиенции вдруг ко мне в номер гостиницы "Франция" раздался звонок по телефону.
– Кто у аппарата?
– На фотографической группе три лица. Говорите только о двух ваших, третьего не касайтесь.
– Да кто говорит?
Я услышал, как трубку повесили на аппарат, и разговор прекратился».
В своих мемуарах Стремоухов с гордостью изложил диалог, состоявшийся между ним и Государем по илиодоровскому делу. Тут уж надо отдать должное силе воли Государя: он решительно заявил, что «простил» о. Илиодора, и отказался слушать доклад о новых его «безобразиях» – «все это мелочи». Да, он гораздо лучше гр. Татищева и Стремоухова вместе взятых понимал, как нелепы придирки Семигановского к проповедям царицынского инока. Получив отпор, Стремоухов, как и было задумано, попросился в отставку. Позже через Столыпина Государь передал ему, что «повелевает» продолжать службу в Саратове.
В те же дни Стремоухов попытался добиться своего другим путем – через нового обер-прокурора В.К. Саблера, сменившего ушедшего после илиодоровской победы Лукьянова. Однако, по-видимому, обер-прокурор не разделял взгляда обоих саратовских губернаторов на невозможность совместной работы с преосв. Гермогеном: «Саблер находил, что мой предместник, гр. Татищев, сразу стал с епископом и Илиодором на слишком официальную и холодную почву и что с ними более мягкими приемами, пожалуй, можно было бы поладить». Тем не менее, Саблер попросил Стремоухова писать ему о всех осложнениях, связанных с о. Илиодором.
Таким образом, новый обер-прокурор не пошел на поводу у саратовских властей, и это был добрый знак.
Вообще по поводу кандидатуры Саблера следует сказать, что поначалу салон гр. Игнатьевой пытался провести на пост обер-прокурора Роговича, которому «очень хотелось быть прокурором». Выбор Саблера вместо него Сергей Труфанов объяснял влиянием Распутина. Впрочем, и эта кандидатура была встречена в правых кругах с радостью.
О. Илиодору приписывали следующую телеграмму, якобы посланную им новому обер-прокурору: «Поздравляю себя и православную церковь с Владимиром первой степени». По стилю этот текст слишком отдает анекдотом. Вот подлинная аттестация Саблера от о. Илиодора: «это человек русский, православный и дела церковные знает, и не такой, как был его предшественник, тот человек был светский и дел церковных не знал».
Из Саратова преосв. Гермоген и о. Илиодор отправились на богомолье в Саров, но, как ни странно, порознь: 1.V выехал о. Илиодор, на следующий день – владыка в сопровождении свящ. Сошественского.
От Дивеева до Сарова (18 км) о. Илиодор шел пешком вместе со странниками. Когда от ходьбы его ноги распухли и стали гореть, он понял, что напрасно отказался от своей обычной десятифунтовой палки. «Доехав до Саратова, я палку свою оставил и поехал в Саров, так как там люди живут мирные и можно ходить без палки, с палкой я хожу только по Царицыну, Саратову, да еще по некоторым городам». Не было у него и ножа, чтобы вырезать палку.
Окруженный странниками, опиравшимися на посохи, о. Илиодор, как неразумные девы из евангельской притчи, стал искать, у кого бы купить этот насущный предмет, и с горем пополам нашел. В воспоминаниях следует патетический рассказ о бескорыстной девочке-паломнице, подарившей бедному иеромонаху свою палку и вознагражденной им за доброту двумя рублями. Однако по свежей памяти о. Илиодор рассказывал всего лишь, что «эту вот палку купил у одного странника за двадцать коп.». Приобретенную с таким трудом сломанную кривую ветку суеверный иеромонах счел талисманом и всюду носил с собой.
В Сарове о. Илиодор служил Литургию и молебен с акафистом, после чего произнес проповедь о Высочайшем посещении Саровских торжеств в 1903 г., когда Государь собственноручно нес раку с мощами преподобного Серафима. «…когда я это говорил, народ от радости рыдал». По своему обыкновению, о. Илиодор предложил слушателям послать на Высочайшее имя поздравительную телеграмму, что и было сделано.
В Сарове же он встретился со своим архипастырем, а обратно они выехали приблизительно в одно время и тоже порознь. Преосв. Гермоген направился прямо в Саратов, а о. Илиодор – в Петербург.
Проездом о. Илиодор задержался в Нижнем Новгороде по приглашению местных союзников. Посетив помещение Союза, он направился в небольшой храм Трех Святителей. Встал там у свечного ящика и смиренно, потупясь, молился до конца службы. Почаще бы его таким видеть!
Вскоре, однако, он ощутил плоды своей всероссийской славы. По городу пронесся слух, что знаменитый Илиодор вот так запросто стоит в храме. Сбежался народ. Иеромонах героически выдержал службу, продолжая молиться под огнем любопытных взглядов. Лишь когда богослужение закончилось и народ стал расходиться, о. Илиодор все-таки сделал этой толпе замечание: «Не подобает уходить, не приложившись ко кресту».
Затем он посетил губернатора и некоторых союзников. Последние дали в его честь обед и просили произнести речь, но получили отказ: «В чужой епархии не подобает».
Сам воздерживаясь от любых выступлений, о. Илиодор наблюдал за патриотами, подвизавшимися здесь, на родине знаменитого народного ополчения. Впечатление оказалось удручающее. Вместо ожидаемых миллионов «русских людей» он нашел здесь лишь единицы, и те «бесцветные».
10.V о. Илиодор приехал в Петербург, рассчитывая пробыть здесь всего пару дней. Официально объявленной целью поездки было ходатайство иеромонаха «перед одним из министров по своему личному делу». «Я приехал сюда похлопотать», – объяснял сам о. Илиодор. Из его интервью «Новому времени» видно, что он надеялся заручиться поддержкой высокопоставленных лиц для своих проектов – расширение монастыря, распространение проповеди на Поволжье и Дон и массовое паломничество в Саров.
Однако игнатьевский кружок, который, по газетным сведениям, и вызвал сюда о. Илиодора, не позволил ему остаться в тени и настоял на его представлении Государю. Священник согласился, полагая, что аудиенция довершит и закрепит его победу: «а то вышло бы, как если человек, испачканный грязью, вымылся, переоделся в чистое, но шапку не надел». Все это было решено, по-видимому, в день приезда: уже через час о. Илиодор посетил гр. Игнатьеву, а на следующий день «Голос Москвы» написал, что он приехал «принести всеподданнейшее выражение благодарности за оставление его в Царицыне».
Устроить аудиенцию было делом не одного дня. В ожидании о. Илиодор застрял в Петербурге на целых две недели. Подлинную причину задержки он скрывал и на вопрос репортера, долго ли рассчитывает пробыть здесь, уклончиво ответил: «А это смотря по тому, как будут принимать, – смотря по делу. Во всяком случае, долго не засижусь».
Времени даром он не терял – посетил нескольких важных лиц, в частности, полчаса беседовал с Саблером. Позже среди илиодоровцев ходил неправдоподобный слух о посещении о. Илиодором самого Столыпина, который якобы осознал свое заблуждение и увидел в посетителе человека, преданного церкви и полезного для правительства.
Вторым важным делом для о. Илиодора стал сбор пожертвований для его грандиозных планов по расширению монастыря и распространению деятельности на Поволжье и Дон. Газеты писали о крупной сумме, переданной иеромонаху неким высокопоставленным лицом «для постройки церкви в пределах Саратовской губернии». Всего удалось собрать 30 тыс. руб. Для сравнения, тремя годами ранее за ту же сумму о. Илиодор сумел расширить монастырский храм и выстроить кельи.
Пребывание знаменитого иеромонаха в столице вызвало большой ажиотаж. Квартиру некоего протоиерея, где остановился о. Илиодор, осаждали любопытные. На улице его выслеживали репортеры.
Однажды утром о. Илиодор посетил редакцию «Ведомостей градоначальства» для беседы с редактором Крывошлыком. Выйдя оттуда спустя два часа, иеромонах был встречен огромной толпой, среди которой находился даже фотограф, ухитрившийся тут же сделать снимок.
В былые времена популярность такого рода, вероятно, обрадовала бы смиренного инока, но сейчас он был слишком утомлен для славы. «Илиодор производит впечатление изможденного, усталого человека», – отметил сотрудник «Русского слова». Пришлось прятаться. Репортеры писали, что «Илиодор скрывается от журналистов и почитателей» при содействии друзей, которые «окружили его трогательной заботливостью, ревниво оберегая от досужих встреч и лишних разговоров». В конце концов о. Илиодор «просто сбежал» из протоиерейской квартиры и спрятался в редакции «Колокола».
Но не одна только жадная до зрелищ петербургская публика знала теперь Илиодора. Благодаря царицынской истории даже простой люд прослышал о нем как о невинном страдальце. Священник понял это в первые же дни по приезде. Беседуя, по обыкновению, с везшим его извозчиком, о. Илиодор неожиданно выслушал собственную романизированную биографию: «теперь попам очень трудно; вот где-то в Царицыне был один, кажется звать Илиодором; так гнали же его, гнали, вот как гнали за то, что говорил правду, только Царь его и вызволил, а то бы пропал». Собеседник не отказал себе в удовольствии эффектно раскрыться: «я, мол, этот самый Илиодор и есть». Перепуганный извозчик соскочил с облучка и с земным поклоном испросил прощения за дерзкие слова. «Вот он, простой народ, – с удовольствием резюмировал потом о. Илиодор, – вот какая деликатность и забота!».
Тем временем великосветские дома наперебой приглашали популярного инока в гости. Он отказывал почти всем. Исключение было сделано лишь для некоторых лиц, в частности, для Пистолькорса, в царскосельском доме которого о. Илиодор отслужил молебен. «В Петербурге, говорят, смиренный инок вел себя как герой и в самом деле находил общество не только знатных барынь, но даже сановников, глядевших на него снизу вверх», – язвительно писал Меньшиков. Впрочем, это общество для о. Илиодора оказалось не слишком приятным.
«Мы сами были свидетелями, – отмечал «Колокол», – с каким болезненным усилием воли, с какими колебаниями, как бы чувствуя своей удивительно тонкой нервной системой добрые христианские души и коварные среди своих посетителей, он принуждал себя войти в один салон великосветского общества или выйти из своей комнаты к той или другой группе посещавших его лиц.
Повидавшись, истово благословив, – он молча садился, как-то съежившись».
Раз под благословение подошла лютеранка преклонных лет. О. Илиодор, никогда не стеснявший себя светскими приличиями, отказал: «Крестное знамение вот вам, – от души. А благословить не могу, по убеждению. Благословляя, я передаю дар духовный из сокровищницы нашей церкви; этого чужим давать нельзя, только своим».
Однако в многолюдном Петербурге нашлись и близкие ему по духу люди. Характерна серия фотографий, снятых, очевидно, в эти дни в гостиной прот. Ефрема Долганева, брата преосв. Гермогена, священника Петропавловского собора. О. Илиодор без клобука, со своей роскошной копной черных кудрей, восседает во главе стола. Слева от иеромонаха оба его деятельных сторонника, еще недавно не поленившихся доехать до захолустного Царицына, чтобы выручить своего друга из беды, – Родионов и Володимеров.
Родионов фигурирует и на других фото этой серии, где он в казачьей форме снят вместе с надевшим уже клобук о. Илиодором. На одном из дублей они даже держатся за руки, что, по-видимому, должно символизировать союз монашества и казачества для защиты русских начал. По рисунку обоев видно, что это та же самая гостиная. Однако в некоторых источниках Родионов подписан как некий «жандармский офицер Е.Е. Долгушин», очевидно, смешанный с хозяином дома.
Хозяин же виден на первой фотографии вместе с мальчиком, вероятно, сыном. Напротив, в центре кадра, сидит странник В.Ф. Ткаченко (Василий Босоногий), известный подвижник, который круглый год ходил босиком, а подле него – женщина в белом платке. Оба этих лица были, очевидно, близки о. Илиодору, особенно странник Василий, сопровождавший его по всему Петербургу, а по неправдоподобным газетным сведениям якобы даже в царском дворце. «Это мой телохранитель!» – объяснял иеромонах.
В сопровождении этой свиты 13.V о. Илиодор появился на заседании «Русского собрания», куда был приглашен своими почитателями, жаждавшими услышать из его уст доклад о царицынских событиях. От доклада он наотрез отказался, но собрание посетил.
Программа заседания этого дня состояла из двух докладов – членов Г. Думы Г.А. Шечкова и В.А. Образцова. О. Илиодор появился к концу первой части. Дождавшись завершения доклада, председательствовавший член Г. Совета Штюрмер предложил приветствовать знаменитого гостя. Раздались аплодисменты. Когда объявили перерыв, на о. Илиодора обрушился град лобызаний от посетителей собрания. Затем его проводили в столовую и забросали вопросами. Он отмалчивался.
« – Когда же вы, о. Илиодор, проповедь нам скажете? – спрашивали его.
– Эх, господа, господа! Не жалеете вы отца Илиодора, – отвечал он».
После перерыва он скромно сел слушать доклад Образцова. По завершении доклада председательствовавший Воейков пригласил о. Илиодора на эстраду, прося поделиться своими впечатлениями. Оказавшись в западне, священник вышел вперед, но вместо долгожданной речи ограничился кратким словом. О. Илиодор «сказал, что пришел сюда не сказать что-нибудь особенное, а чтобы выразить от себя и еп. Гермогена признательность за то участие, которое "Русское собрание" приняло в его деле. Сказать же что-нибудь особенное он опасается, так как это может завести его слишком далеко, а он бы не хотел в настоящий момент свернуть с правильного пути. Впрочем особенное, по его словам, уже было сказано».
Таким образом, о. Илиодор честно объяснил причины необыкновенной сдержанности, которой он неуклонно придерживался с самого Саратова. «Речь» объясняла отказ от выступления неким «авторитетным указанием со стороны», но и без советчиков он все равно держался бы в тени.
С некоторыми затруднениями о. Илиодору удалось получить благословение петербургской епархиальной власти на совершение богослужений. Глухое недовольство действиями царицынского гастролера наблюдалось и среди столичных священников. Говорили о некоем благочинном, который распорядился не оказывать о. Илиодору никакого особого внимания и не приглашать в парадные покои на чай.
Тем не менее, уже 14.V иеромонах служил молебен в часовне Спасителя на Петербургской стороне (в Домике Петра I) и говорил проповедь. Среди многочисленных молящихся репортеры заметили графиню Витте, чей супруг давно уже добивался знакомства с о. Илиодором.
На следующий, воскресный, день иеромонах служил позднюю Литургию в Иоанновском монастыре, устроенном о. Иоанном Кронштадтским. «Весть, что в монастыре будет служить о. Илиодор, проникла в самые аристократические и самые простые слои народа. Обширный храм монастыря, во имя святых двенадцати апостолов, не мог вместить и одной десятой части желающих присутствовать при богослужении. В передней части храма, за барьером, на солее и в алтарях стояли почетные богомольцы, прибывшие по приглашению, а за решеткой, на хорах, в таоре и на лестницах стояли густые массы простого народа». Здесь были все петербургские покровители иеромонаха – Володимеров, Родионов, Скворцов, гр. Игнатьева и т.д.
Не связанный более светскими узами, о. Илиодор заговорил, да еще как! Он произнес не одну проповедь, а целых четыре, словно наверстывал упущенное в «Русском собрании»! Если там каждое его слово могло быть истолковано как политический акт, то здесь, в привычной богослужебной обстановке, он говорил свободно.
После богослужения «почетные богомольцы» собрались в покоях настоятельницы игуменьи Ангелины для трапезы. Здесь-то о. Илиодор наконец поделился впечатлениями о пережитом. В самом радостном настроении он поместился во главе стола и оживленно болтал.
После трапезы фотограф Булла снял несколько исторических фотографий, запечатлев о. Илиодора, игуменью Ангелину и насельниц монастыря у дверей храма.
Наконец пришло извещение от министра двора барона Фредерикса: Высочайшая аудиенция назначена на 5 часов дня 21.V. «Предстоит представление Государю [и] Государыне, скоро приеду», – телеграфировал о. Илиодор преосв. Гермогену 17.V.
Прошло четыре года с тех пор, как юный о. Илиодор тщетно добивался Высочайшей аудиенции, чтобы сказать царю «всю правду», и вот, наконец, «заветная мечта» отчасти сбылась. Но оказалось, что «всю правду» сказать нельзя. Священник имел удовольствие выслушать от Саблера краткий курс придворного этикета: не задавать вопросов и не делать предложений, просто слушать.
Однако пустые диалоги, которыми вследствие этих правил оборачивались многие Высочайшие аудиенции, о. Илиодору были не по нраву. Еще тогда, в 1907 г., он с негодованием писал, что волынские крестьяне вместо «всей правды» рассказывали царю, «сколько у них детей, есть ли жены, где служили». Глубоко монархическое мировоззрение о. Илиодора предполагало живое взаимодействие с монархом: «по отношению к Царю со стороны Его верноподданных не может быть дерзости, а может быть только одна дерзновенность. Царь для нас – бог земной, высшая правда на земле, последняя наша надежда. Вот поэтому-то мы Царя и Бога Небесного называем на "ты"». Поэтому о. Илиодор даже при заочном телеграфном общении всегда писал Государю по существу дела.
Было очевидно, что советы Саблера пропадут впустую. Конечно, у о. Илиодора хватало теперь ума не пытаться изложить «всю правду». Но конспект вопросов и предложений был, по-видимому, заготовлен.
На счастье суеверный о. Илиодор захватил во дворец кривую палку, привезенную из Сарова, обеспечив себе удивленные взгляды придворных лакеев.
Прибыв на царскосельский вокзал за час до назначенного времени, о. Илиодор сел в присланную за ним из дворца карету. При этом священник обнаружил, что находится под наблюдением группы офицеров, стоящих вдоль платформы, и другой группы людей в штатской одежде. «Вид этих лисьих лиц, выслеживающих меня, наполнил меня жалостью к царю».
Карета подъехала к прекрасному Александровскому дворцу. Здесь о. Илиодору прежде всего предложили чай, а затем проводили в приемную. Она находилась в левом флигеле, а идти пришлось, по-видимому, из центральной части. «Дорогой я сначала считал число комнат, – простодушно рассказывал о. Илиодор, – а потом загляделся на богатое украшение их и часовых, стоявших, словно статуи, не шевеливших ни одним мускулом, и счет комнат забыл».
В приемной его встретил высокий молодой человек. О. Илиодору уже шепнули, что это князь императорской крови Иоанн Константинович. В качестве дежурного флигель-адъютанта он занимал гостя беседой в течение четверти часа. Говорили о царицынских событиях. В 4 час. 45. мин. из царского кабинета вышел дежурный камердинер и объявил: «Его Величество принимают». «Смущенный, с чувством глубокого благоговения», о. Илиодор переступил порог кабинета.
Заметив красный угол с иконами, он прежде всего перекрестился на них. Затем двинулся к хозяину кабинета, стоявшему возле письменного стола. В свою очередь, Государь тоже сделал несколько шагов навстречу гостю.
С этой минуты начались недоумения наивного о. Илиодора, ожидавшего увидеть Императора Николая II во всем блеске царского величия. Государь же оказался одет в солдатскую малиновую косоворотку – его излюбленный домашний костюм (часть обмундирования лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка, в русском стиле). «Простота внешнего вида поразила меня», – признавался о. Илиодор. Вскоре он заметил, что и кабинет под стать своему хозяину – небольшой и скромный.
О. Илиодор низко поклонился Государю. Затем они поцеловали друг другу руки.
Последовавшую 35-минутную беседу о. Илиодор по свежей памяти записал и потом по этой записи пересказывал своей пастве, конечно, с купюрами.
Прежде всего он выразил благодарность за Высочайшую милость и попросил прощения за «все события, бывшие в Царицыне». «Ничего, прощаю, прощаю», – с улыбкой ответил Государь. Ободренный явной благосклонностью, священник приступил к изложению своих просьб.
В первую очередь он сообщил о своих розысках чудотворной Казанской иконы и попросил Государя не верить в ее гибель. Рассказ был встречен сочувственно. Следствием этого разговора будто бы стал приказ возобновить поиски иконы, неизвестно только, кому отданный – самому ли священнику или кому-то другому.
Затем о. Илиодор рассказал о своем грандиозном проекте сети общежительных благотворительно-просветительных монастырей, что было Государем одобрено, о Гремучем колодезе и о бедственном состоянии, в котором сейчас пребывает эта святыня, попросил отобрать ее у язычников и передать ему для строительства школы миссионеров. Наконец, ходатайствовал за двух жителей Царицына – податного инспектора П.Е. Кузьменко и жандармского ротмистра Ежова, того самого, который не сумел предотвратить возвращение о. Илиодора к пастве. Оба лишились своих мест.
Все эти просьбы Государь внимательно выслушал и обещал разобрать каждое дело. По его предложению о. Илиодор записал адреса лиц, о которых ходатайствовал, и место нахождения Гремучего колодезя.
Дальше настал черед Государя поддерживать беседу. Тут выяснилось, что он хорошо осведомлен о делах о. Илиодора – о саровском богомолье, о планах расширения царицынского монастыря и о недавнем служении в Иоанновском монастыре.
В ходе разговора Государь как бы невзначай спросил: «Я слышал, что вы резко иногда выражаетесь против властей?». О. Илиодор возразил, что таким путем он их обличает, на что имеет право как священник. В ответ Государь будто бы посоветовал избрать другую мишень для нападок – «жидов больше и революционеров»: «не нападайте на моих министров, у них и без того достаточно врагов».
Пользуясь случаем, о. Илиодор пожаловался на полицейскую слежку и получил утешительный ответ. «Мне сам Государь Император сказал, что полиция не имеет права записывать мои проповеди…».
Несколько раз по ходу беседы гость возвращался к своему амплуа всеобщего ходатая. Когда речь зашла о недавнем паломничестве, о. Илиодор вдруг выпалил:
– Ваше Императорское Величество! Вас в Сарове ждут.
– Да, – ответил Государь, – я собираюсь туда ехать [нрзб] не знаю, как покажет время.
В другой раз священник неожиданно заговорил о Саблере, выразив благодарность за его назначение на пост обер-прокурора как лица, знакомого с церковными делами. «Да, верно, Саблер человек русский, церковный», – согласился собеседник.
Вообще Государь, по своей привычке, предоставил посетителю высказаться, а сам лишь ободряюще поддакивал.
Сергей Труфанов утверждал, что речь шла также о Григории, которого Августейший собеседник якобы именовал «отцом и спасителем», которого императорская чета «слушается» и советует о. Илиодору следовать ее примеру. «Нечего и говорить, что я, слушая Николая, стоял ни живой, ни мертвый». Все это, по-видимому, чистая беллетристика. Государь не любил затрагивать Распутина в беседах с посторонними лицами, а о. Илиодор, как видно из вышеизложенного, весьма свободно разговаривал и вовсе не «стоял ни живой, ни мертвый».
Желая закрепить успех своей аудиенции, он попросил о встрече с Императрицей и Наследником. Первое оказалось невозможно вследствие недомогания Ее Величества. «…иep. Илиодору было отказано в аудиенции», – злорадно написала «Царицынская мысль». А за Наследником, игравшим в саду, тут же послали.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71538967?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Яна Анатольевна Седова
Книга посвящена одной из самых противоречивых фигур предреволюционной России – иеромонаху Илиодору (С.М.Труфанову), прошедшему путь от черносотенного идеолога до борца с монархическим строем. Опираясь на материалы шести российских архивов и дореволюционной периодической печати, автор восстанавливает биографию своего персонажа с точностью до отдельных дней, что позволяет разрушить сложившийся стереотип авантюриста и раскрывает Илиодора как личность, пережившую духовную катастрофу. Книга адресована историкам, преподавателям и всем, интересующимся русской историей.
Яна Седова
Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2
1911
Накануне битвы
Уход губернатора отнюдь не означал окончания борьбы светской и духовной власти в Саратове. Напротив, по словам еп. Гермогена, на прощание гр.Татищев завещал сослуживцам и преемникам продолжать бороться с преосвященным. Теперь руководство этим фронтом перешло ко второму из «озорных молодых людей» – вице-губернатору П.М. Боярскому, который, по мнению преосв. Гермогена, как раз и подстрекал гр. Татищева к борьбе с архиереем.
Уже первые шаги Боярского как управляющего губернией показали, что он еще менее настроен церемониться с преосвященным, чем уехавший «доить коров» губернатор.
Предстояло совещание по поводу грядущего юбилея освобождения крестьян. Боярский прислал (10.I) еп. Гермогену приглашение в губернское правление. Обычная ведомственная переписка? Нет, владыка был уязвлен тем, что его, «пожилого епископа», вызвали, «как простого чиновника», и ответил отказом, прося Боярского, наоборот, пожаловать к нему.
Второй конфликт тех же дней попахивал анекдотом. На вакантное место священника в храме саратовского исправительного арестантского отделения гр. Татищев прочил одну кандидатуру, а преосвященный – другую. После ухода губернатора еп. Гермоген предложил его заместителю избрать любого саратовского священника. Боярский избрал и… сам же его и назначил собственной властью, о чем сообщил архиерею в следующих выражениях: «На основании 28 ст. Устава о сод. под стражей мною вместе с сим священник Серафимовской гор. Саратова церкви о. Константин Попов назначен священником Николаевской церкви при местном исправительном отделении как заявивший отказ от священнического места при Серафимовской церкви». Боярскому, вероятно, и в голову не пришло, что с канонической точки зрения это «мною назначен» – чудовищное вмешательство в прерогативы епископа. Гражданскую власть просили лишь указать кандидатуру, а не назначать ее самостоятельно.
Эти два случая убедили преосв. Гермогена, что вице-губернатор нарочно старается нанести ему оскорбление. «Боярский в своем озорстве дошел уже до вопиющей крайности», – писал владыка. Вспомнив свою сентябрьскую встречу со Столыпиным, еп. Гермоген обратился к нему за защитой. Изложив (20.I) историю своих недоразумений с гр.Татищевым, вылившуюся в обвинительный акт против бывшего губернатора, владыка сообщил о возмутивших его последних поступках Боярского.
«Вы видите, Петр Аркадьевич, как безо всякого с моей стороны повода светская власть в гор. Саратове в лице бывшего губернатора и нынешнего вице-губернатора намеренно и сознательно вовлекает архиерея в какую-то совершенно неприличную и соблазнительную борьбу ведомств, чтобы потом хотя бы с призрачным основанием говорить: саратовский архиерей не ужился с одним губернатором, теперь не уживается с его временным преемником, значит, он вообще неуживчивый человек».
Усматривая в деятельности обоих «озорных молодых людей» – губернаторов «строго продуманную систему», еп. Гермоген выражал опасение, что и преемник гр. Татищева будет придерживаться этой системы и искусственно разжигать конфликт.
Встревоженный этим письмом Столыпин признал, что «Боярский взял неправильный тон», и распорядился указать вице-губернатору на его ошибку. Тот оправдывался: назначил тюремного священника по предложению самого же епископа. Тогда Столыпин пояснил: «Форма сношения его с архиереем была бестактная».
Эту мысль министр развивал в беседе с новым саратовским губернатором – Стремоуховым, прося при сношениях с еп. Гермогеном соблюдать «все внешние формы». «Можно писать епископу все, что угодно, можно с ним воевать, но формы нужно соблюдать. Раз вы формы нарушите, то он всегда окажется в выигрышном положении. Вице-губернатор не сумел этого сделать, и я был вынужден поставить ему это на вид». К устной инструкции прилагалось процитированное выше письмо еп. Гермогена, которое Столыпин распорядился показать новому губернатору перед отъездом в Саратов.
Таким образом, ни о каком повороте политики в отношении преосв. Гермогена речи не шло. Заботясь о соблюдении внешних форм, Столыпин, по-видимому, не возражал против продолжения борьбы.
Государь смотрел на это дело иначе. Принимая Стремоухова, он дал ему следующие инструкции по поводу преосв. Гермогена: «Вас я тоже прошу быть помягче и всячески щадить в нем его высокий духовный сан; если он в чем-нибудь и погрешит, то это падает на него, но совершенно недопустима какая-то драка между губернатором и архиереем, на общую потеху всех врагов порядка». Под «дракой» Государь, очевидно, подразумевал известные недоразумения между еп. Гермогеном и гр. Татищевым.
Оба диалога, подробно изложенные в воспоминаниях Стремоухова, характерны по тому значению, который оба высокопоставленных собеседника придавали отношениям губернатора с саратовским архиереем. По милости незадачливого гр. Татищева бюрократический мир стал видеть в еп. Гермогене едва ли не самое главное затруднение для губернаторской деятельности в Саратове. Один из друзей Стремоухова так и сказал по поводу его нового назначения: «спасибо там с Гермогеном и Илиодором возиться». Такова была первая ассоциация со словом «Саратов».
Преосв. Гермоген считал нового губернатора своим политическим единомышленником, что отразила телеграмма, сохранившаяся в памяти Стремоухова в следующем виде: «Приветствую в вашем превосходительстве назначение к нам, в Саратов, русского человека. Да ниспошлет Господь благословение свое на ваши труды в борьбе с крамолой и жидами». Отсюда видно, что гр. Татищев в глазах преосвященного был отнюдь не «русский», по духу, конечно, а не по крови, губернатор.
Подивившись «избытку темперамента» архиерея, Стремоухов смиренно ответил ему: «Застав глубоко тронувшую меня телеграмму Вашего Преосвященства, принося искреннюю благодарность и поручая себя Вашим святым молитвам, прошу благословения на служение Царю и родине в Саратовской губернии совместно с Вами». Эту телеграмму торжественно процитировал «Братский листок», радуясь случаю опровергнуть весьма правдоподобные газетные указания о том, что Стремоухов принял назначение лишь под условием удаления еп. Гермогена.
За прощальным обедом, устроенным гр. Татищеву в коммерческом собрании, последовал десятилетний юбилей архиерейской хиротонии еп. Гермогена. Фельетонист «Саратовского листка» усмотрел в этом совпадении демонстрацию, предположив, что второе празднование устроено назло первому, как будто дату произошедшего десять лет назад события можно было подогнать к текущему моменту.
Царицынские духовенство и паства заблаговременно подготовили подарок. Собрали деньги и командировали в Москву купца П.И.Чернова для приобретения панагии. Повезла эту панагию в Саратов делегация из трех лиц – о. Илиодор, прот. Каверзнев и тот же Чернов.
14.I.1911 после богослужения в саратовском кафедральном соборе о. Илиодор обратился к преосвященному с речью. Проповедник сравнил бесстрашного обличителя интеллигенции еп. Гермогена с пророками Елисеем и Исаией, а затем с обличавшим самого Царя митр. Филиппом. Правда, оговорился о. Илиодор, «ныне Помазанник Божий не гонит святителей», но его «опричники нагайками пролили невинную кровь православных при дверях храма царицынского». Еп. Гермоген заступился за свою паству и с тех пор неуклонно отстаивал ее интересы перед светской властью. «Покрывая своей мантией весь православный люд, он, владыка, тем спасает его от всех бед и напастей, и о мантию его притупились шашки и копыта». Ныне духовная власть наконец восторжествовала над светской, и о. Илиодору оставалось лишь пожелать юбиляру «бодрости духа и неустрашимости ни перед кем в правом деле защиты православной церкви и искоренении крамолы».
На следующий день о. Илиодор посетил окружной суд, где беседовал с прокурором по «очень большому делу», к нему, однако, не относящемуся.
16.I в зале местного музыкального училища состоялась традиционная религиозно-нравственная беседа. Присутствовали еп. Досифей и около 1500 слушателей. Вторым оратором выступил о. Илиодор. Он обличал православных людей, не почитающих святыни и священников, и обосновывал свое право как проповедника свободно говорить об этом.
Речь перекликалась с недавними царицынскими выступлениями о. Илиодора. Он вновь посетовал на неправедных судей, не преминув изложить свой проект их повешения на их же цепях: "Это, может быть, жестоко, но справедливо". Снова рассказал об известных ему по письмам мошенничествах царицынского купечества.
К этим старым темам прибавились новые, саратовские, впечатления – посещение окружного суда и последнее недоразумение между епископом и Боярским, причем о. Илиодор со свойственным ему грубым юмором заметил: «Ну, где это слыхано, чтобы губернаторы назначали священников. Остается только епископу Гермогену назначать околоточных и приставов, а на губернатора надеть мою или Гермогена ряску. Какое бы было чучело. (Общий смех)».
Как и прежде, о. Илиодор не удержался от похвальбы по поводу своей победы над влиятельными лицами. «Представитель здешней власти говорил: "я или он", и вот этот "я" ушел, а "он" остался. Гласные царицынской думы говорили – живы не будем, а Илиодора из Царицына выживем. Но вот, слава Богу, и гласные живы, и Илиодор в Царицыне. Богачи говорили – миллиона не пожалеем, а Илиодора из Царицына уберем. Не знаю, пожалели ли они миллион, но я в Царицыне, хотя я знаю, что мошной своей они тряхнули».
Из Саратова о. Илиодор отправился в столицу, чтобы продолжить свое расследование по делу о Казанской иконе. До отъезда у него произошел важный разговор с преосв. Гермогеном. Передавая о. Илиодору для Императрицы святыни, гомеопатические лекарства и письмо, преосвященный сообщил своему протеже последние придворные сплетни о Григории, самого грязного свойства. «Владыка! Да почему это оне так делают?» – изумился о. Илиодор. Собеседник объяснил дело «хлыстовской штукой».
Под этим впечатлением о. Илиодор отбыл в Петербург, где произошли такие события, что стало уже не до проступков Григория.
Саратовские речи о. Илиодора дали его врагам новое оружие против него.
Осмеянный иеромонахом Боярский аккуратно проверил полученные от полицмейстера сведения у Семигановского и, удостоверившись в совпадении двух отчетов, доложил (20.I) Столыпину о новых подвигах иеромонаха: «обязан подпиской о невыезде из Царицына, но отказался подчиняться распоряжениям судебной власти, бравирует этим в своих публичных речах», «под видом "пастырской беседы" произнес речь о своей деятельности в Царицыне» и т. д.
В тот же день прокурор Саратовской судебной палаты Миндер составил рапорт министру юстиции, предлагая возбудить против о. Илиодора дело по ст.129 угол. улож. (п.п. 3, 4 и 6) за призывы к повешению судей. «…доношу Вашему Высокопревосходительству, – писал прокурор, – что публичные выступления названного иеромонаха все более и более утрачивают характер духовно-нравственного учительства, а по содержанию становятся совершенно недопустимыми. Наглядным примером может служить указанная выше проповедь [19.XII.1910], которая заключает в себе не только безудержное глумление над судом и некоторыми его представителями, но даже возбуждение к неповиновению, к сословной вражде и насилию». Попутно прокурор обвинял и преосв. Гермогена в потворстве выходкам своего подопечного.
В тот же самый день 20.I «Саратовский листок» напечатал фельетон с выражением негодования по поводу второй саратовской речи о. Илиодора: «Он ругается, он поносит целые классы людей, но этого мало: он грубо издевается над судебными установлениями, он протягивает свои руки к судейским цепям…». Удивляясь безнаказанности иеромонаха, фельетонист заподозрил его в клерикализме:
«Точно, действительно, духовная власть намерена стать на место светской не только в вопросе о назначении тюремного священника, но и в делах правосудия и управления.
Монах Илиодор упраздняет суд и предлагает нам самого себя в… священные инквизиторы».
Таким образом, Саратов дал по о. Илиодору залп из трех орудий в один день, что заставляет предположить сговор его врагов.
Бунт 1911 г.
Положение в Саратовской губернии не давало Столыпину покоя.
«Я считаю самое направление проповеди Илиодора последствием слабости Синода и церкви и доказательством отсутствия церковной дисциплины, – писал председатель Совета министров Государю. –
Но при наличии факта, факта возвеличения себя монахом превыше царя, поставления себя вне и выше государства, возмущения народа против властей, суда и собственности, я первый нашел, что, если правительство не остановит этого явления, то это будет проявлением того, что в России опаснее всего, – проявлением слабости…».
Глава правительства не скрывал своего давления на Св. Синод в этом деле. Надавить было легко. Несколькими годами ранее Столыпин добился назначения обер-прокурором С. М. Лукьянова, доктора медицины, ничего в церковных делах не смыслившего, зато покорного своему начальнику. Кроме того, из Синода были удалены наиболее яркие и консервативные архиереи. Все это делалось ради проведения некоторых правительственных реформ, но пригодилось и в настоящем вопросе.
Собрав объемистую пачку донесений светских властей из Царицына, Лукьянов добился от Св. Синода очередного постановления о переводе о. Илиодора. Тщетно преосвященный Гермоген заступался за своего подопечного, опровергая приписываемые ему неблаговидные речи. Постановление состоялось 20.I.1911 и было представлено на Высочайшее утверждение ввиду вмешательства Государя в процесс предыдущего перевода о. Илиодора.
«…все чиновники вроде Столыпина и других надоели Государю, чтобы меня перевели из г. Царицына, и вот эти чиновники придумали меня перевести с повышением в Тульский мужской монастырь настоятелем и вот при таких случаях доняли Государя», – рассказывал о. Илиодор. Он даже предполагал, что именно было сказано: «Враги мои оклеветали меня перед Государем и наговорили, что у меня в здешнем монастыре происходит разврат и творятся всякие безобразия. Что у меня нет никаких поклонников»; «…министр доложил Государю, что иеромонах Илиодор учит делать погромы и убивать людей».
Донесенная к подножию престола, клевета на бедного священника имела самые плачевные последствия. «На этот раз Государь рассердился и сказал, что пора положить
конец его безобразиям». 21.I на всеподданнейшем докладе Лукьянова появилось заветное слово «Согласен». На следующий день Синод послал преосвященным саратовскому и тульскому соответствующие указы.
О. Илиодор подозревал, что в его катастрофе немалую роль сыграло царицынское купечество. Из уст в уста передавалась якобы произнесенная неким богатеем фраза: «Миллиона не пожалею, а Илиодора уберу!». Говорили даже о полутора миллионах. Этим слухам о. Илиодор придавал большое значение: «упорно говорят в городе, что на мое удаление из Царицына кое-кем истрачено полутора миллиона рублей. Последнему не хочется верить, но наш продажный, бесчестный век заставляет писать и эти слова горечи и скорби».
Новое место служения о. Илиодора – Новосильский Свято-Духов монастырь Тульской епархии – было выбрано по предложению епископа Тульского Парфения.
«Обитель эта находится в страшной глуши, – рассказывал сам преосвященный, – вдали от железных дорог и городских поселений и, благодаря целому ряду неудачных настоятелей, пришла в сильно запущенный вид. Между тем, у нее все данные, чтобы стоять в числе виднейших русских монастырей.
Имея свыше 500 десятин черноземной земли, она прекрасно обеспечена материально. С духовной стороны она также пользуется большим значением, так как хранит в своих стенах широко чтимый образ св. Николая, а среди братии ее живет старец Херувим, привлекающий к себе до 200–300 паломников в день».
В Новосили как раз недавно были обнаружены непорядки по хозяйственной части, так что имелся формальный повод для смещения нынешнего настоятеля. Синод тут же освободил его от должности.
Одновременно пошли слухи, что и преосвященный Гермоген скоро будет переведен в Иркутск. Таким образом, Саратовской епархии угрожали серьезные потери.
В роковой день постановления Св. Синода о. Илиодор случайно оказался в столице. По еще более странному совпадению, именно 20.I гр. Игнатьева познакомила его с товарищем министра внутренних дел Курловым, подробно описавшим эту встречу в своих воспоминаниях. О. Илиодор жаловался собеседнику на царицынскую полицию.
Вечером иеромонах навестил кого-то из своих влиятельных сторонников – то ли жителей «одного графского дома» (возможно, кружок графини Игнатьевой), то ли А. И. Дубровина. И там от осведомленных лиц получил тяжелое известие.
– Вас сегодня в Синоде судят.
– Пусть судят, – беззаботно отмахнулся избалованный вниманием Синода о. Илиодор.
Тогда ему объяснили все – и про министров, и про Тульскую епархию, и про предстоящий перевод преосвященного Гермогена.
Новости глубоко потрясли бедного настоятеля. Во-первых, ему предстояла разлука со своим детищем – монастырем: «здесь каждый кирпич облит моими потом, кровью и слезами». О. Илиодор подозревал, что враги намереваются «разорить» созданное им «христианское гнездышко», боялся, что без настоятеля его «монастырь, вместо людей, наполнится голубями, воробьями, галками и будет их жилищем».
Кроме того, бросалась в глаза несправедливость решения, вынесенного «заочно по клевете», «в угоду безбожникам и богохульникам», по приказу светской власти – «только потому, что хочется неверным чиновникам кушать», – да еще, пожалуй, в обмен на знаменитые полтора миллиона! О. Илиодор даже сочинил на этот счет горькую притчу: шел, дескать, мимо Синода и увидел рассыпанные деньги. «…я шел, торопился, и мне их, признаться, было не надо, деньги у меня были на проезд, поэтому мне их и не надо, я все-таки присмотрелся, деньги, а деньги наши, царицынские, и деньги даже именные, я хорошенько не рассмотрел – на них написано будто бы Масловы или Марковы или Максимовы» – то есть фамилии тех купцов, которые будто бы тряхнули капиталами для изгнания ненавистного проповедника из города.
Ярый монархист, о. Илиодор был уязвлен тем, что ему вменили в вину подстрекательство к беспорядкам, «как бунтарю и разбойнику». При этом наказание замаскировано под награду, поскольку в Царицыне священник был лишь «заведующим подворьем», а в Новосиль переводился полноправным настоятелем полноценного монастыря. «Если я виноват, сажай меня в тюрьму, ссылай в каторгу, но не повышай. За повышением я не гонюсь, почестей мне не надо, мне нужна правда Христова, а за нее меня везде гонят». Гнали, действительно, всюду – уже из третьей епархии за пять с лишним лет!
Наконец, предстоящий перевод и епископа Гермогена знаменовал форменную расправу светской власти с религиозно-патриотическим движением, которому посвятили себя о. Илиодор и его архиерей. Напрасно столыпинский официоз «Свет» расписывал новое послушание о. Илиодора как «высокое, истинно пастырское, живое, плодотворное дело». Всякому было ясно, что произошел не обычный перевод священника на другой приход, а грубое вмешательство чиновников в церковные дела.
В кулуарах Государственной думы правые с неодобрением говорили о «немецкой бухгалтерии», которой держалось правительство в этом деле, то есть об одновременном переводе и губернатора, и священника с намерением «сравнять итоги».
Узнав о своем переводе, о. Илиодор бросился к обер-прокурору и другим сановникам и «умолял именем святителя Филиппа, убиенного за правду, не приводить в исполнение этого несправедливого решения».
В то же время иеромонах попытался заручиться поддержкой всех своих доброжелателей. Послал телеграмму Государю (21.I). Посетил П.Ф. Булацеля. Протелеграфировал царицынским сподвижникам, прося ходатайствовать перед Их Величествами об оставлении его в Царицыне. Соответствующая телеграмма с просьбой не утверждать синодального решения была отправлена 21.I: «не оставьте нас сиротами». А на следующий день в Синод полетела телеграмма из села Покровского Тобольской губернии – от Григория Распутина. Потом расстриженный Сергей Труфанов будет утверждать, что не обращался за помощью к «блаженному старцу», но что-то очень уж быстро дошли петербургские новости до Сибири.
Ничего не добившись, о. Илиодор решил сопротивляться до победного конца. Телеграфировал в Царицын, что остается, и помчался к еп. Гермогену. Провожавшим лицам о. Илиодор заявил, «что из Царицына не уедет, что оттуда не взять его и воинской силе и что, возвратившись [в] Царицын, произнесет такую проповедь, каких еще никогда не говорил».
Не успел покинуть столицу, как полиция начала его розыски по просьбе митрополита Антония. Не торопись так о. Илиодор, возможно, дальнейшей беды удалось бы избежать.
Находившийся тем временем в устроенной им Сергиево-Алексиевской пустыни близ Сердобска преосвященный Гермоген был «как громом» поражен известием о переводе иеромонаха. Владыка только что (21.I) подписал третье по счету представление о награждении о. Илиодора наперсным крестом «за ревностнейшее и усерднейшее исполнение присущих ему по сану главнейших и ответственнейших обязанностей и пастырского долга, учительства и проповедничества, а также открытого исповедования веры православной и верноподданничества Российским Самодержавным Государям Императорам» – а тут такой оборот! К тому же преосвященный почувствовал и личную «тяжкую обиду»: «оказано полное презрение моему архиерейскому авторитету и моим церковноправовым полномочиям». Отринув все донесения владыки, доказывавшие невиновность о. Илиодора, Синод поверил газетным и полицейским сообщениям и пошел на поводу у обер-прокурора. «Горе и скорби, как шишки, валятся из Петербурга на мою голову, как бедного Макара», – писал владыка А.П. Роговичу в связи с этим. По словам почитателей о. Илиодора, после решения Синода владыка «очень от горя заболел».
Приехал о. Илиодор 24.I тайно и вместе с преосвященным засел писать телеграммы от его лица. Весьма абстрактное послание Государыне отправили немедленно. Для составления телеграммы Государю потребовались документы, поэтому из Саратова были вызваны секретари и эконом. С их помощью был разработан целый доклад по царицынскому делу, который вместе с собственно текстом прошения занял 9 телеграфных бланков. От лица своей паствы владыка просил освободить о. Илиодора от «неправильного и незаконного осуждения». Также просил об аудиенции. «такую телеграмму написали, что невозможно сказать», – рассказывал о. Илиодор. Сам он не дождался завершения работы над ней и уехал вечером 25.I.
Вернувшись в Царицын 26.I в 10 час. вечера, о. Илиодор собрал своих сподвижников на экстренный совет и рассказал им петербургские новости о себе и владыке, прибавив, что как он, так и владыка постараются остаться на месте. Затем отправил несколько телеграмм, в том числе Синоду: «Ваше святейшество! Преступления я не совершал. Ошибки простите. Труды мои помяните. Приговор отмените. Власть признаю. Святыню вашу почитаю. Правду ставлю выше всего. Из Царицына идти не могу: он жизнь моя, народ мой – дыхание мое». На рассвете поехал в Дубовку на исповедь к своему духовному отцу – заведующему архиерейским подворьем иеромонаху Антонию, от которого вернулся к вечеру.
Выйдя на балкон к ожидавшей пастве, о. Илиодор сообщил о решении Синода. «…не смущайтесь, возлюбленные братья и сестры, с нами Бог! У меня есть еще надежда на Господа Бога, на Царя-Батюшку, на Царицу-Матушку. Дело наше, мои и ваши молитвы даром не пропадут, и я останусь здесь!». Он не скрывал своего намерения отказаться от перевода: «Когда я получу официальную бумагу, то я отвечу на ней, что мне хорошо и в Царицыне и я из него не уеду, и там, где меня нет, там без меня тоже хорошо».
В этой же речи о. Илиодор призвал слушателей два дня поговеть, с тем чтобы в воскресенье приступить к Св. Чаше: «тогда только и может дойти молитва до Господа Бога, когда у человека чиста душа». На призыв отозвалось более 2000 человек, которые в субботу 29.I исповедовались, а в воскресенье причащались в течение 2? часов.
Почти всю ночь о. Илиодор провел в составлении телеграмм. Телеграфная картечь из Царицына осыпала Петербург четыре дня (27–30.I ).
Государю о. Илиодор написал, что не имеет сил оставить Царицын, «где каждый камень облит моими слезами и кровью. Я не сделал никакого преступления, а, напротив, этот город плутов и разбойников сделал смирным, безопасным местом. Я не хвалюсь, Государь, но говорю правду и верю также в Вашу правду».
Еще одна, лаконичная:
«Ваше величество, ожидаю вашей милости».
В Синод:
«Молю вас, богомудрые отцы, вступиться за правду за свободу Невесты Христовой Церкви Божией я готов умереть» (сложно восстановить тут знаки препинания!).
«Благоговейно почитая святыню вашу, не могу в кознях чиновников видеть волю Божию».
«Умоляю вас по примеру русских подвижников встать за правду, попираемую нашими врагами и неверными чиновниками».
О. Илиодор рассылал телеграммы и лично членам Синода, прося поддержать свое ходатайство.
«Есть искушение выше сил. Поддержите правду. Ожидаю милости» (митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию).
Высокопреосвященные Антоний и Флавиан ответили о. Илиодору советом проявить монашеское послушание. В том же смысле пришел ответ от товарища обер-прокурора Роговича: «Советую подчиниться тяжести обстоятельств, сложившихся несомненно не без попущения Божия. Больше отвечать не буду». А о. Илиодор писал ему: «Пришло время встать за правду. Господь Судья попирающим ее и молчащим».
Была, наконец, сделана попытка достучаться до совести Лукьянова: «За высоким чином я вижу в вас русского православного человека».
Подобные телеграммы рассылались из Царицына и за другими подписями – уполномоченных «отцов», «матерей», «молодежи» и даже «детей» г. Царицына. «Почему нет телеграмм еще от "теток", "внуков", "бабушек", "дедушек" и "дядей"?» – посмеивался саратовский публицист.
Рассылка велась ежедневно и равномерно. Синод, например, получил по 7 телеграмм от каждой категории. Адресаты были те же – Государь, Синод в целом и по отдельности, Лукьянов, Рогович. По-видимому, телеграммы отправлялись по какой-то схеме. Кто ее придумал? Сам гонимый инок или его царицынские единомышленники-«илиодоровцы»?
Имена изобретателей или, по крайней мере, исполнителей рассылки увековечены в повторяющихся подписях под телеграммами: окружной миссионер о. Михаил Егоров, казак Кузьма Косицын, младший брат о. Илиодора Александр Труфанов, известные сподвижники иеромонаха – Шмелев, Попов, Чмель, Жуков и др. Перечисленные лица составили своеобразный отдел по связям о. Илиодора с общественностью. В последовавшие дни все происходящее в царицынском монастыре записывалось и рассылалось широкому кругу адресатов – Государю, Синоду, газетам. Та же операция производилась с телеграммами о. Илиодора.
Широкая рассылка, недоступная карману такого аскета-нестяжателя, как о. Илиодор, велась на народные пожертвования. В храме то и дело шел сбор на оплату телеграфных услуг. По разным сведениям, всего было истрачено от 500 до 1000 руб.
Не дождавшись решения Синода, последовавшего 1.II и оказавшегося отрицательным, о. Илиодор решился на самую отчаянную меру.
За всенощным бдением в субботу и после обедни в воскресенье он сообщил молящимся, что в воскресенье вечером с 7 часов здесь будет Пасха, после которой он начнет «войну с диаволом». Утром 30.I в переполненном храме о. Илиодор подробно развил эту мысль. Министры, оклеветавшие его перед Государем, доложили, будто он учит народ бунтовать. «Но разве я возмущал вас против кого-нибудь?! Разве я учил вас проливать чью-нибудь кровь?! Вы все знаете, что это неправда. Ни при жизни моей, ни после смерти моей не прольется ни капли чьей-нибудь крови. Я вас всегда учил добру и теперь прошу, если мне придется скоро умереть, то никому не мстить за меня и пусть все они там знают, пусть знает полиция и все власти, что через меня никогда не прольется ни капли крови!».
Поэтому борьба будет вестись исключительно в духовной плоскости – только с диаволом, а не с людьми, поступавшими по его наущению. Оружием себе о. Илиодор избрал крест и молитву, походным маршем – пасхальные песнопения.
После такого интригующего объявления вечером явились не только богомольцы, но и любопытные, хотя о. Илиодор нарочно просил не приходить тех, кто посещает монастырь с целью послушать и посмотреть. В толпе заметно было много интеллигенции, купцов, мелькали мундиры гимназистов. Всего, по оценке полицмейстера, в монастыре собралось до 10 тыс. человек. Не помещаясь в храме, они заполнили также коридоры и двор.
После вечерни и молебна перед чудотворной иконой Божией Матери «Седмиезерная» о. Илиодор с крестом в руках объяснил мотивы своего непослушания, изложенные выше.
«Я вступаю в последнюю священную брань с дьяволом, я надеюсь на Бога и верю в Его правду. Многие подумают, что я не хочу подчиняться властям. Нет, властям я всегда подчинялся и подчиняюсь, но незаконному решению я подчиняться не стану и лучше умру за Веру, Царя и Отечество, а из Царицына не пойду», – так закончил о. Илиодор.
По его просьбе толпа запела пасхальные стихиры. Затем состоялся драматический спектакль.
При пении «Христос воскресе» о. Илиодор обернулся и в воцарившейся тишине спросил служку через всю церковь: «Телеграмм нет?». Тот ответил отрицательно. Тогда, благословясь, о. Илиодор прочел народу заранее заготовленную и запечатанную в конверте «предсмертную исповедь»: «я вижу, что воля Твоя состоит в том, чтобы я остался здесь и докончил свое священное дело».
Затем последовала клятва, прочтенная с другой заготовки: «Святейшим Именем Высокого и Правдивого Бога, Именем Пресвятой Богоматери, пребывающей в сей чудотворной иконе силой Своей благодати, Святых ветхозаветных пророков, Святого Крестителя Господня Иоанна, клянусь перед престолом Всевышнего Творца, пред святым Его Евангелием и Животворящим Крестом, клянусь на месте сем: не есть, не пить, не спать до тех пор, пока Святейший Всероссийский Синод не восстановит попранной правды в словах своих и не отменит своего постановления обо мне. Во свидетельство клятвы моей твердой и неуклонной призываю небо и землю, сие священное место и всех сих, мною возлюбленных, детей Божиих, собравшихся в этом храме в таком огромном количестве. В знак верности клятвы сей я умиленно преклоняюсь Престолу Твоему, Господи, очами веры зрю Тебя, восседающего на нем с Твоей Богоматерью, в иконе сей своей благодатию присутствующей, и целую Животворящий Крест Твой и драгоценные слова Твои в сем священном Евангелии. Аминь. Аминь. Аминь. Грешный монах Илиодор».
Прочтя телеграмму на имя Государя с извещением о клятве, о. Илиодор огласил свое завещание, которое, как и все предыдущие документы, вынул из бездонного кармана своего подрясника. Оно настолько характерно, что следует привести его целиком в добросовестной передаче полицмейстера:
«После моей смерти моим врагам не мстите, ибо они заслужат наказание от Бога; гроб сделайте из досок моей убогой постели; похороните в храме монастыря, по левую сторону; крест поставьте небольшой, дубовый и в него вделать мой крестильный шейный крест, кто будет спрашивать, кто здесь похоронен, говорите, такой-то священник, умер за Веру, Царя и Отечество; могилы моей венками и цветами не украшайте, так как жизнь моя была не красна и я их не видел; долг мой в сумме 5000 руб. [нрзб] заплатите; слышите? (Все ответили: слышим); имущество мое: карету, лошадей, шубу переведите на деньги и положите их в кассу Иоанновского братства, в неприкосновенный капитал, проценты с него раздавайте бедным; келью мою опечатайте и показывайте желающим посетить ее в течение недели после моей смерти; потом открываете на Рождество Христово и на Св. Пасху, входите в нее с священными песнопениями, в [нрзб] праздники она должна быть открыта для всех».
Следует прокомментировать, прежде всего, указание на «убогую постель». Дело в том, что о. Илиодор имел аскетическую привычку спать на голых досках. Огромный пятитысячный долг был, конечно, не его, а монастырский, за лес, взятый на постройку. Карету и лошадей подарили о. Илиодору его приверженцы, и он охотно пользовался этим подарком, оберегая горло от пыли царицынских немощеных улиц.
Любопытнее всего в этом завещании распоряжение относительно кельи. Какого же мнения надо быть о себе и о своей деятельности, чтобы приказать сделать из своей кельи святилище? Увы, скромность, присущая о. Илиодору в студенческие годы, давно его покинула!
Когда иеромонах, повернувшись лицом к алтарю, стал читать свою клятву с поднятой правой рукой, то все слушатели, как завороженные, последовали его примеру. Народ тоже дал клятву!
«Тяжело было смотреть на эти тысячи людей, мужей, жен и детей, которые все как один человек поклялись перед всемогущим Богом умереть вместе со своим любимым пастырем и не покидать о. Илиодора до тех пор, пока их наставник не будет оставлен в гор. Царицыне», – писал видный илиодоровец Д.М. Шмелев.
Сам о. Илиодор, будто не заметив произошедшего за его спиной, не постеснялся 2.II телеграфировать преосвященному Гермогену, что народ клятвы не давал.
Следует подчеркнуть, что богомольцы присоединились по собственной инициативе. Ни из каких документов не заметно, чтобы о. Илиодор изначально задумывал запереться в церкви вместе с паствой. Впрочем, еще утром после обедни он мимоходом сказал: «вы, если хотите, тоже вступайте в эту борьбу, если же нет, то я буду бороться один», получив дружный ответ: «за вами, батюшка, пойдем». Но, судя по телеграммам-извещениям, о. Илиодор отводил «многим тысячам» народа исключительно роль свидетеля. Однако пример пастыря оказался заразительным для овец.
Закончив свою речь, о. Илиодор пригласил народ подходить к нему прощаться. При общем плаче начался этот долгий скорбный обряд, затянувшийся почти до полуночи.
Заготовленный, по-видимому, заранее текст с извещением о клятве был около 9 часов вечера разослан Государю, Синоду и преосвященному Гермогену:
«Сердобск. Святителю Божию Гермогену. Драгоценный мой Владыка и Отец, сегодня я, Ваш преданный Вам до смерти послушник, пред престолом Всевышнего и чудотворной иконой Богоматери, в присутствии многих тысяч скорбящего, плачущего, обиженного Вашего возлюбленного простого, смиренного, кроткого народа поклялся именем Всемогущего Бога, в исповедниках Имени и правды Его пребывающего всегда, не есть, не пить и не спать до времени, когда Святейший Синод отменит свое неправедное постановление о мне. Святитель-ревнитель! Поступаю по своим убеждениям. Иначе поступить не могу. Я донской казак по плоти, а по духу – верный воин Христов. Герои не сдаются, но или умирают, или побеждают. Если мне в этой борьбе суждено умереть, то верьте, Божий избранник, я умру спокойно, умру за попранную наглыми опричниками драгоценную святыню – свободу чистейшей Невесты Христовой, Церкви Божией. На случай смерти я оставил народу моему духовное завещание. Смиренно прошу Вас оказать содействие детям моим возлюбленным, привести завещание в дело. Когда умру, помолитесь за меня, усердный Божий молитвенниче. Кланяюсь Вам до земли и целую святительские ноги Ваши. Покорный послушник убогий иеромонах Илиодор».
В 9 час. 4 мин. была отправлена телеграмма на имя Лукьянова: «Неужели же вы и теперь не откажетесь от своей ошибки».
На ночь о. Илиодор остался в алтаре, а богомольцы – в храме, телеграфировав преосвященному, что к исполнению клятвы приступили «десятки тысяч» человек. На самом деле, по оценкам властей, ночевать осталось от 400 до 1000 чел., то есть не более десятой части из тех, кто находился в церкви во время принесения обета.
Исполнение клятвы выглядело как молитвенное бдение. «Беспрестанно в храме служатся молебны, поются духовные песни, читаются жития святых. От большего числа молящихся воздух в храме ужасно спертый. Женщины и дети беспрестанно падают в обморок». С тех пор в монастыре почти круглосуточно продолжались богослужения при тысячах молящихся. Некоторые сходили с дистанции, другие оставались. До последней ночи (на 3.II) в храме продержались около 200 женщин.
Клятва о. Илиодора была понята всеми, кто плохо его знал, как объявление Синоду голодовки.
«Грозит самоубийством! – негодовал «Свет» в передовой статье. – Грозит смертным грехом, за который простые миряне лишаются церковного погребения, молитвы, поминовения и уходят из здешнего мира осужденными на вечную муку». Некий В. Скрипицын из Гатчины писал преосвященному Гермогену о «самоубийстве голодом», на которое будто бы решился о. Илиодор.
Но по существу в этот вечер о. Илиодор всего-навсего дал обет строгого поста и непрестанной молитвы. Только такую форму протеста могли бы разрешить священнику его духовные руководители, с ведома которых он, очевидно, действовал. Неспроста в самый день торжественной клятвы духовник о. Илиодора иеромонах Антоний из Дубовки перебрался в Царицын. Что до преосвященного Гермогена, то ходили слухи о благословении на это дело, данном им будто бы в Сердобске. Вероятно, благочестивый обет действительно был согласован с архипастырем заранее: из сохранившейся телеграммы владыки от 1.II видно, что он нисколько не удивлен фактом поста, зато потрясен голодовкой.
Сам о. Илиодор говорил то так, то эдак, – с одной стороны, возмущался клеветой газет, «что будто бы я, не желая подчиниться постановлению Св. Синода, объявил голодовку», с другой стороны, тут же отмечал, что вместе с ним «решили умереть голодной смертью семь тысяч православного простого русского народа», а позже напоминал пастве, как «клялся умереть за правду голодной смертью».
Вероятнее всего, замысел был глубоко благочестивый, но о. Илиодор, желая покрасоваться, так много говорил о своей близкой смерти, что пост приобрел все признаки демонстративной голодовки.
Простояв весь следующий день 31.I в алтаре на коленях без пищи и воды, вечером о. Илиодор отменил пост под предлогом того, что Государю об этом не известно, а потому принятый подвиг напрасен. Будто бы сделано распоряжение задерживать на телеграфе жалобные телеграммы царицынских прихожан на Высочайшее имя, лишь выдавая отправителям квитанции. Надуманный повод! Если бы местные власти и опустились до такого коварства, во что даже «Земщина» отказывалась верить, то неужели Государь оставался в неведении после масштабной кампании, проведенной «илиодоровцами» в печати?
Отказ от обета был обставлен так, чтобы не опозорить о. Илиодора. Предложение якобы шло от паствы, которая коленопреклоненно просила священника снять клятву с себя и с прихожан. «С великой печалью выслушавши нас, батюшка отец Илиодор, с великой скорбью на лице, при страшном стоне многих тысяч православного народа, согласился с нашими доводами и торжественно перед престолом Всевышнего снял клятву с себя и с народа». Однако тут же был дан новый обет, полегче, – строгий пост с вкушением хлеба и воды раз в 1–2 суток и непрерывная молитва.
Теперь сообщения из царицынского монастыря звучали вполне благочестиво. «День и ночь стою в алтаре пред престолом и молю Господа, чтобы Он смягчил сердца царских сановников и святейших отцов», – телеграфировал Св. Синоду о. Илиодор. «Монастырский храм, вмещающий семь тысяч человек, переполнен молящимися. Народ усиленно постится, денно и ночно молится, облекся во вретище, а дорогой батюшка о. Илиодор неотходно стоит в алтаре у престола Божия», – сообщали митрополиту Антонию уполномоченные от народа.
Неискушенным лицам даже показалось, что о. Илиодор отступил. Один саратовский публицист сравнивал его с синицей, которая «обещала зажечь море, а не зажгла и простой лужи», А.А. Столыпин – с пушкинской Людмилой, которая, собравшись было умереть в плену злодея, «подумала – и стала кушать». По мнению этого публициста, отказ о. Илиодора от голодовки показал, «что в нем нет даже безумного закала аввакумовской воли, а только непочатый край самомнения».
Однако царицынский инок был не так прост. Сообщая Св. Синоду о новом обете, он пригрозил, что дальнейшее упорство священноначалия приведет к смерти и священника, и прихожан: «я переселюсь, но только не в Новосиль, а на небо. Пойду жаловаться Богу на чиновников-гонителей, волю царскую не свято исполняющих. Со мной умрет и народ. Бог сему свидетель». Пророчество начало сбываться уже 3.II, когда о. Илиодор, отслужив половину литургии, упал в обморок от истощения. То же самое самоубийство! Методы изменились, но цель осталась прежней – победить или умереть.
Тем временем до преосвященного Гермогена дошли сведения о том, что о. Илиодор вместе с паствой «поклялись [перед?] Богом не выходить [из] храма, умереть голодной смертью». Потрясенный владыка не поверил, но, по совету Роговича, на всякий случай снял клятву: «Зачем Косицын, Шмелев, другие всюду рассылают телеграммы об установленной через клятву буддийской голодовке, которой будто подвергли себя Вы и все богомольцы подворья. Ожидаются-де вскоре случаи голодной смерти. Прочие такие телеграммы – плохая услуга делу, омерзителен их крик, вопль об ужасах, точно дело идет не о христианском благоуспешном посте и покаянии, а о самоубийстве голодом. Если такую безумную клятву дали, то я всех властью Христовой разрешаю совершенно».
О. Илиодор ответил лишь на следующий день (2.II), отрицая факт голодовки: «Дорогой Владыко! Это ложь. Народ никакой клятвы не давал. Подписавшие телеграмму неправильно выразились. Сейчас постимся, молимся усердно».
Преосвященный Гермоген успокоился и с тех пор протестовал против «подлейшей лжи» о голодовке, уверяя всех – Роговича, митрополита Антония, даже сотрудника «Речи», – что «никакой голодовки там не было, люди просто молились и постились».
Во всяком случае, гневный тон архипастырской телеграммы произвел должное впечатление и 2.II, по случаю праздника Сретения, о. Илиодор разрешил пить чай с хлебом, а также предупредил, что никого не обязывает поститься, так как не имеет права. «Я могу только на себя налагать обязательства, но не на других».
Впоследствии о. Илиодор не стеснялся объяснять прекращение своей голодовки архипастырским распоряжением, хотя порядок событий был обратный. «Я тогда не умер потому только, что владыка Гермоген скоро после клятвы снял с меня клятву. Я не могу ослушаться своего драгоценного отца, ибо верю ему, как Богу». На упрек в клятвопреступлении иеромонах ответил: «в прошлом году я клятву не нарушил, а с меня и народа ее снял святительским словом праведный еп. Гермоген».
Ультраправая часть общества горячо сочувствовала гонимому царицынскому проповеднику.
«Что нужно делать для спасения отца Илиодора. Господи, спаси и помилуй его», – телеграфировал преосвященному Гермогену архимандрит Макарий (Гневушев ).
К ходатайствам царицынцев перед священноначалием присоединились две крупнейшие монархические организации – Союз Михаила Архангела и Союз русского народа (и Главный совет, и провинциальные отделы), а также отдельные монархические деятели.
Крайние правые открыто выражали недовольство действиями Св. Синода. «Русское знамя» напечатало такую заметку, что ему запретили развивать эту тему под угрозой ареста газеты. «Земщина» обвиняла священноначалие в «черством равнодушии». Пуришкевич от имени Союза Михаила Архангела возлагал на епископат ответственность за печальный исход обета о. Илиодора, призывая Синод «поступиться своим формальным правом для сохранения в наши тяжелые годы истинного светоча и подвижника православной веры, заслуги коего в пережитые нами лихие годы крамолы неисчислимы».
Впрочем, самые ярые сторонники о. Илиодора, настаивая на его оставлении в монастыре, готовы были согласиться на назначение ослушнику епитимьи.
Но у инока нашлись и противники. Саратовское дворянское депутатское собрание постановило командировать в Петербург депутацию с ходатайством об удалении о. Илиодора из Саратовской губ. Некий самарский крестьянин Сомов прислал Синоду донос на непотребства, будто бы происходящие в монастыре «исчадия ада Илиодора».
«Свет» в передовой статье призвал Синод к твердости, охарактеризовав прошлогоднюю его уступку о. Илиодору как «непростительную ошибку». «…да не осуществится исполненное беспримерной дерзости домогательство обезумевшего монаха!».
М. Любимов писал в «Голосе Москвы», что противостояние с монахом наносит ущерб престижу власти и последней следует прекратить эту «единственную в своем роде» картину. «Илиодору полезно было бы успокоиться в монастыре под епитимией, а у Синода, департамента полиции, губернаторов, жандармов и полицеймейстеров, надо думать, нашлись бы и более важные дела, чем организация союзной армии для похода на бунтующего монаха». Некий Spectator в кадетской «Речи», издававшейся Гессеном, нападал на иеромонаха за ослушание, чем вызвал иронический комментарий сотрудника «Нового времени»: «Мы не будем удивлены, если после такой статьи г. Гессен получит место товарища обер-прокурора Св. Синода и очутится помощником д-ра Лукьянова».
Обсудив дело в заседании 1.II, члены Св. Синода признали голодовку о. Илиодора не исповедническим подвигом, а покушением на самоубийство. «За неимением оснований к отмене» принятого 20.I решения поступившие ходатайства были проигнорированы или, на бюрократическом языке, приняты к сведению.
Днем ранее в Саратовскую епархию был командирован еп. Парфений для содействия преосвященному саратовскому в приведении о. Илиодора к повиновению церковной власти. Не возлагая на эту поездку больших надежд, митрополит Антоний заранее совещался с обер-прокурором о мерах, которые предстояло принять в случае неудачи. Большинство иерархов полагало, что положить предел царицынской голодовке следует силами местной администрации.
Однако светские власти не имели прямых рычагов воздействия на о. Илиодора, поскольку никаких государственных законов он не нарушил. Попытка полицмейстера убедить прихожан покинуть храм осталась тщетной. Администрация заняла выжидательную позицию. У стен монастыря дежурили полиция и казаки. 3.II в Царицын прибыли саратовские власти во главе с управляющим губернией П.М. Боярским. Из Москвы приехал вице-директор департамента полиции Н.П. Харламов. Кроме того, еще 2.II Государь решил командировать в Царицын для расследования флигель-адъютанта А.Н. Мандрыку: «Народ должен знать, что царю близки его горе и его радости». Вероятно, выбор пал на это лицо ввиду того, что его двоюродная сестра была игуменией Балашовского женского монастыря Саратовской епархии. В тот же день из Петербурга пришла таинственная телеграмма без подписи: «Будет от нас следователь, клеветникам присяга».
В монастыре полагали, что и преосвященный Парфений едет для расследования событий, поэтому сообщение о его командировке сочли «утешительными вестями». «С Божьей помощью один зуб уже сломан у врага», – будто бы сказал о. Илиодор.
К появлению высоких гостей надлежало мобилизовать все силы, и потому 2.II он дважды объявлял общий сбор богомольцев в храме – сначала к 6 часам вечера, затем к 7 часам утра следующего дня ввиду предстоящего «сражения».
Преосвященный Парфений успел добраться только до Саратова (2.II), где получил телеграмму от еп. Гермогена с просьбой предварительно приехать к нему в Сердобск и немедленно выехал туда.
Маленький городок, куда саратовский епископ перебрался из пустыни и где оставался на протяжении всего «великого царицынского дела», прогремел на всю Россию. Впоследствии еп. Гермоген даже писал о «сердобском стоянии».
Гостя ждали долгие уговоры. Владыка Гермоген попытался склонить его на свою сторону.
«3 февраля я прибыл в г. Сердобск, – докладывал еп. Парфений, – и из продолжительных бесед с преосвященным узнал, что ему не по сердцу было распоряжение Святейшего Синода, и он не обнаруживал готовности отпустить из своей епархии иеромонаха Илиодора. Сперва преосвященный предлагал мне отправиться в Царицын и убедиться, насколько полезна деятельность иеромонаха Илиодора, чтобы потом я мог засвидетельствовать об этом пред Святейшим Синодом в видах отмены состоявшегося о нем решения».
Однако еп. Парфений не поддавался на уговоры. Тогда преосвященный Гермоген вместо того, чтобы отпустить гостя в Царицын, вызвал (3.II) оттуда о. Илиодора, обнадеживая его, что от этой поездки зависит его оставление в Царицыне и что помощь Божия близка и нельзя ее презирать. В той же телеграмме владыка просил адресата оставить пост и подкрепиться пищей.
Вызов в Сердобск показался монастырским богомольцам подозрительным, и они пытались предостеречь своего пастыря: «не ездий, батюшка, вас обманывают». Но о. Илиодор не мог не довериться преосвященному Гермогену, которого любил и которым глубоко восхищался. Телеграмма к тому же показалась, да и была, «ласковой и молящей». Поэтому за обедней о. Илиодор, прочтя телеграмму молящимся, объявил, что выезжает первым поездом, а Сердобску ответил: «Выезжаю немедленно». Действительно, уже в 2 час. 45 мин. пополудни выехал московским поездом.
Отъезд прошел при огромном стечении народа – писали о 10 тыс. человек. Окружив сани, в которых ехал о. Илиодор, толпа прошла за ним до вокзала. Там иеромонаха встретили жандармы. «Не провожайте меня, у меня много своего народа, меня проводят», – сказал он им.
Стоя на перроне, толпа пела духовные песнопения и гимн. «Я уезжаю, дети, – обратился к ней о. Илиодор с площадки вагона. – Вы же ослабьте пост, в монастырь ходите только к службам, а всенощные моления прекратите, Господь нами умолен».
Уверенность в благополучном разрешении вопроса подкрепилась некоей телеграммой, полученной непосредственно перед отъездом. «У меня уже есть доказательства того, что у врага сломлены зубы, перебито правое крыло и осталось добить только левое. Сейчас только я получил телеграмму, в ней говорится о наших врагах, и вот пусть рассеются даже и листочки с этими известиями по ветру». При этих словах о. Илиодор разорвал загадочную телеграмму и выбросил ее клочки.
Взволнованные приверженцы получили две гарантии возвращения своего пастыря – во-первых, его крестильный крестик, а во-вторых, слово о. Михаила Егорова.
Земляк и школьный товарищ о. Илиодора, о. Михаил по его просьбе недавно был принят в клир Саратовской епархии и назначен вторым священником строящейся церкви Французского завода возле Царицына. Когда же друг попал в беду, о. Михаил примчался его выручать, став одним из главных персонажей дальнейшей истории. Сейчас он решил сопровождать о. Илиодора, пообещав толпе, что без него живым не вернется.
Итак, победа казалась близкой. О. Михаил потом рассказывал, что «о. Илиодор, будучи в хорошем настроении духа, всю дорогу строил планы об улучшении и совершенствовании монастыря», в частности об устройстве пещер-катакомб.
На следующий день Лукьянов телеграфировал еп. Парфению: «Необходимо принять все меры к тому, чтобы иеромонах Илиодор не возвращался в Царицын [и] направился с миром в Тульскую епархию. Гражданские власти сообщают, что возвращение иеромонаха Илиодора в Царицын подаст повод к серьезным замешательствам. Прошу вас и преосвященного Гермогена оценить по достоинству ответственность положения и оказать всяческое содействие к устранению возникших затруднений. О поддержке со стороны гражданских властей распоряжение сделано».
Позже о. Илиодор негодовал, что его «выманили из Царицына», не преосвященный, конечно, а жандармы.
Прибыв в Сердобск вечером 4.II, друзья направились в дом местного благочинного, протоиерея А.К. Образцова, где остановились оба преосвященных.
Взяв о. Илиодора за руку, еп. Парфений увел его в отдельную комнату и стал увещевать. Но тот отказался: «Я не лошадь. Только лошадь можно перегонять с одного поля на другое, а со мной так поступать нельзя». Преосвященный обиделся и вышел. Еп. Гермоген потом выговаривал о. Илиодору за резкость.
Наутро из Царицына пришла телеграмма: «Имея высочайшее повеление ехать в Сердобск, прошу ваше преосвященство, епископа Парфения и отца Илиодора ожидать моего приезда. Флигель-адъютант Мандрыка». Оказывается, царский посланник разминулся с о. Илиодором и приехал в Царицын в тот самый вечер, когда иеромонах прибыл в Сердобск. Подождать-то можно, но при перенесении места переговоров в Сердобск о. Илиодор терял свой главный козырь – возможность провести для гостя экскурсию по монастырю. В Царицын на имя Косицына полетела отчаянная телеграмма: «Ради Бога, пользуйтесь случаем выяснить правду тому, кто приехал. Мы здесь выясним, иначе поступить нельзя. Адъютант сегодня выезжает нам, прислав телеграмму. Батюшка».
В тот же день игумения Мария, двоюродная сестра Мандрыки, получила от Распутина телеграмму с просьбой «повлиять на родственника». Ничего не поняла, но вскоре получила от владыки вызов в Сердобск.
Полтора дня до приезда Мандрыки прошли в переговорах. Преосвященный Парфений продолжал убеждать о. Илиодора, а тот, наоборот, приглашал собеседника к себе в Царицын «посмотреть чудеса», т.е. монастырь. Епископ Гермоген и о. Михаил заняли, конечно, сторону своего друга, так что силы были неравны.
Стоило о. Илиодору покинуть Царицын, как в город стали съезжаться петербургские гости. Официальным порядком прибыл Мандрыка, а частным – член Государственной думы С.А. Володимеров и писатель Родионов.
2.II, в тот день, когда стало известно о командировке Мандрыки, Володимеров подал председателю Государственной думы заявление: «Сим имею честь заявить, что, по встретившейся неотложной надобности, я должен уехать из Петербурга на 10 дней».
Позже, когда Володимерова справедливо заподозрили, что он ездил «спасать» о. Илиодора, депутат скромно ответил: «Мне не по плечу такая задача, потому что не могу я мечтать и воображать себя способным спасать человека, который в силах создать небывалое у нас, может быть, за несколько столетий патриотически-религиозное воодушевление среди сотен тысяч людей… Я ездил в Царицын не для этого, а чтобы полюбоваться теми мерами, которые принимал… г. обер-прокурор Святейшего Синода к тому, чтобы совершенно устранить… от. Илиодора».
В то же время Володимеров принял на себя обязанности специального корреспондента «Земщины», неустанно телеграфируя в редакцию с места событий. Однако вскоре газете было запрещено публиковать его телеграммы.
Что до Родионова, то он познакомился с о. Илиодором в мае 1910 г., «имел удовольствие несколько раз беседовать с ним и полюбил его всем сердцем». Поэтому, вероятно, тоже приехал «спасать», но «спасать» исключительно пером.
Мандрыка и Володимеров приехали на одном поезде, но затем направились в разные стороны.
Флигель-адъютант остановился в «Столичных номерах» – видимо, самой приличной гостинице этого захолустья. Дела отложил на утро, которое, как известно, вечера мудренее.
Володимеров прямо с вокзала направился в монастырь и провел там всю ночь, выясняя положение. Под утро вернулся отдохнуть в те же «Столичные номера», а через несколько часов уже очутился подле Мандрыки в гуще событий.
Утром, протелеграфировав преосвященному Гермогену, чтобы его ждали в Сердобске, флигель-адъютант принял депутацию от сторонников о. Илиодора. Тут же пристроился и Володимеров, очевидно, следивший, как бы наивные провинциалы не сболтнули царскому посланцу лишнего. На просьбы богомольцев Мандрыка ответил уклончиво: решать будет Государь, «противиться же воле Государя вы ни в коем случае не должны».
После молебна в монастырском храме илиодоровцы поднесли Мандрыке хлеб-соль и коленопреклоненно попросили поддержать их мольбу перед Государем. Затем, как и просил о. Илиодор, его приверженцы показали монастырь царскому посланнику, но экскурсия прошла в спешке, поскольку он торопился на поезд к 2 час. 45 мин. Вместе с Мандрыкой в Сердобск уехали Харламов, саратовские власти – вице-губернатор и прокурор, а также неугомонный Володимеров.
Проводив гостей, сторонники о. Илиодора доложили ему об исполнении его распоряжения: «Сегодня были у флигель-адъютанта. Он был на подворье, видел все. В нашем деле принимал горячее участие Володимеров. Все выехали в Сердобск».
На следующий день в Царицын приехал Родионов. До службы илиодоровцы показали ему монастырь, по той же программе, что и Мандрыке. Но, в отличие от флигель-адъютанта, Родионов никуда не спешил и все с любопытством осматривал. Его, как и Мандрыку, провели в кельи о. Илиодора, показали, как он живет и, главное, как он спит – на голых досках. Затем писатель отправился на вечерню с акафистом, где был изумлен общенародным пением, погрузившим этого «плохого христианина» в глубину богослужения.
Это было то самое воскресенье, в которое о. Илиодор обещал вернуться. Косицын телеграфировал в Сердобск: «Родионов приехал, телеграфируйте, когда вернетесь». Но священник ждал приезда Мандрыки: «После сегодняшнего вечера отвечу, когда вернусь».
Поезд с Мандрыкой и прочими его спутниками прибыл в Сердобск 6.II в 9 часов вечера. На перроне появился о. Илиодор, выхватил из группы пассажиров Володимерова и увез его на извозчике в город.
«Мандрыка приехал торжественно, в сопровождении вице-директора департамента полиции – Харламова и саратовского вице-губернатора Боярского, в полной парадной форме, при всех чинах и орденах». Явившись в дом благочинного, царский посланник прежде всего побеседовал с епископами и выяснил положение: о. Илиодор не желает подчиниться Св. Синоду.
Газеты уверяют, что сам священник вовсе не пожелал разговаривать с флигель-адъютантом, и потребовались продолжительные уговоры, чтобы беседа состоялась. Мандрыка отвел о. Илиодора в отдельную комнату и объявил, «что он приехал сообщить ему Высочайшую волю, что Государь Император недоволен его поведением и проповедями, в которых он должен проповедовать только кротость, смирение и любовь. Что воля Царская непреклонна и он должен немедленно отправиться к новому месту своего назначения».
Странное дело! Командированный, по словам самого Государя, для расследования и последующего доклада, Мандрыка слушает кого угодно, только не самого о. Илиодора, в беседе с которым ограничивается передачей Высочайшего приказа! Экскурсия по монастырю оказалась напрасной!
Потом Сергей Труфанов будет похваляться своим красочным ответом: «Я ответил, что готов и желаю повиноваться царю, но не желанию Столыпина, и что я покажу Столыпину, что он не может распоряжаться в Церкви так, как в Департаменте полиции», причем «Парфений заохал, повалился на диван и заговорил: "Ох, ох! У меня чуть разрыв сердца не случился! Да разве так можно отвечать? Ведь это вы самому царю так дерзко говорили?"». Однако владыка при беседе не присутствовал, а ответ о. Илиодора передавался разными лицами, включая его самого, в куда более скромной форме: «что он из Царицына никуда не поедет».
После этого краткого диалога в Царское Село пришли две телеграммы – всеподданнейший доклад Мандрыки и заявление о. Илиодора, что резкость его выражений от перевода на другое место не смягчится, а «если желают, чтобы он замолчал, то пусть прикажут отрезать ему язык».
Власти уехали на станцию, и духовенство решило, что переговоры кончены.
За ужином преосв. Парфений вновь попытался убедить о. Илиодора, но увещания имели обратный эффект – иеромонах «обрушился бранью на Синод». Свою фразу Труфанов передавал впоследствии так: «Вы там в Синоде не пляшите перед полицеймейстером Столыпиным, и не насилуйте Невесту Христову – Церковь Божию». По другой версии, было сказано, «что постановление Синода состоялось благодаря суду книжников и фарисеев, которые заседают там». «Услышав это, Парфений вскочил из-за стола, бросил половину вареника на вилке на стол, держа другую половину зубами на губах…». И ушел в свою комнату, отказавшись вовсе от ужина.
В 11 час. вечера явился Харламов. Оказалось, власти не покинули Сердобск, а просто уехали на станцию, потому что поселились в вагоне поезда.
Ночной гость пошептался о чем-то с преосв. Гермогеном. Известно лишь, что владыка спросил Харламова, не будет ли о. Илиодор арестован. «Помилуйте, что вы!» – воскликнул Харламов, пояснив, что-де «даже не думают» об этом.
Успокоенный этим ответом, о. Илиодор заторопился к ожидающей пастве и брошенным второпях монастырским делам. «Меня там ждет народ. У меня братии 40 человек. Она без меня голодает», – так он будто бы сказал преосвященному Парфению.
Второй преосвященный отговаривал о. Илиодора, но тот настоял на своем, однако дал владыке подписку, что не будет более произносить в монастыре никаких речей и в Царицыне не будет никакой смуты. После этого еп. Гермоген благословил своего подопечного ехать обратно.
По-видимому, ни Харламова, ни епископа Парфения не сочли нужным известить о предстоящем отъезде.
Владыка Парфений, несмотря на вчерашний скандал сохранивший смирение и рассудительность, ранним утром составил две телеграммы – митрополиту Антонию и Лукьянову – в одном и том же смысле. Вот вторая, более выразительная: «Иеромонах Илиодор отказывается ехать в Тулу, рвется в Царицын. Мне кажется, лучший исход такой: уволив от настоятельства, причислить к саратовскому архиерейскому дому под надзор любящего его и единомышленного епископа Гермогена. Если получу сегодня распоряжение, уеду». После согласования с Харламовым телеграммы полетели в Петербург (в 9 час. 10 мин. и 9 час. 18 мин. пополуночи). Сам преосвященный Парфений тем временем успел помолиться за ранней обедней, а когда вернулся, то узнал, что «священник Егоров увез иеромонаха Илиодора из Сердобска, направляясь в Царицын».
Обстоятельства отъезда породили легенду, будто бы о. Илиодор ночью бежал из Сердобска в Царицын. На самом деле бежать было не от кого. Выехали, по словам о. Михаила, «утром на глазах у всех».
Проект преосвященного Парфения встретил противодействие Боярского. В связи с этим или по другой причине на следующий день Синод предписал еп. Гермогену заставить священника ныне же выехать в Новосиль, «так как дальнейшее упорство иеромонаха Илиодора будет неизбежно сопровождаться тягостными последствиями». Еще ранее на преосвященного, по-видимому, стала давить светская администрация, поскольку 7.II он пообещал Боярскому вернуть о. Илиодора, телеграфировав ему на ст. Поворино, даже хотел лично поехать следом, но воспротивились некие петербургские власти, находившиеся в Царицыне.
Ввиду отъезда главного героя все власти, а также еп. Парфений покинули Сердобск. Особый интерес представляют перемещения Харламова: по словам еп. Парфения, вице-директор выехал вместе с ним и Мандрыкой 8.II в Петербург, а по словам Боярского и по газетным сведениям он предполагал, наоборот, ехать в Царицын 7 или 8.II. Затем Харламов, как и подобает деятелю политического сыска, оказался одновременно в двух местах – в Царицыне, откуда отправил телеграмму Боярскому, и с преосв. Парфением в поезде, следовавшем в Москву. Скорее всего, вице-директор избрал северо-западное направление, а телеграмму отправил через Царицын, чтобы ее там зашифровали.
Отъезд Харламова не в Царицын, а в Петербург ознаменовал его капитуляцию перед свершившимся фактом: переубедить упрямого иеромонаха невозможно, о. Илиодор едет только туда, куда хочет.
Но Столыпин не сдался. В самый день отъезда о. Илиодора из Сердобска (7.II) министр направился к Государю. «В 6 час. принял Столыпина по делу об Илиодоре, не желающем покинуть гор. Царицын», – гласит дневник Николая II. Очевидно, министр добился разрешения на крайние меры.
Всю ночь на 8.II в телеграфной комнате ст. Царицын дежурили жандармы, ожидая распоряжений из Петербурга. Наконец пришел приказ о перехвате бедного священника в дороге с тем, чтобы предложить ему отправиться в Сердобск или Тульскую губернию. Телеграмму подписал, очевидно, товарищ министра внутренних дел ген. П. Г. Курлов со ссылкой на распоряжение Столыпина.
Щекотливое поручение возлагалось на начальника Саратовского губернского жандармского управления полковника В. К. Семигановского, ввиду серьезности положения находившегося в те дни в Царицыне. В 4 часа пополуночи (3 по петербургскому времени) полк. Семигановский выехал экстренным поездом навстречу о. Илиодору.
Тем временем два священника и Володимеров, ничего не подозревая, спокойно ехали в Царицын. С Поворина телеграфировали в монастырь, что приедут в 9 часов утра, и легли спать, причем о. Илиодор в отдельном купе.
«Утром я проснулся раньше всех, – рассказывал о. Михаил. – Был совсем день. Вагон стоял. Вдруг вижу – в вагон входит старший жандармский чиновник очень высокого роста».
Это была станция Иловля (80 верст от Царицына), а вошедший был полк. Семигановский. Войдя в купе о. Илиодора, он разбудил его и сообщил, что вагон отцеплен, поэтому следует перейти в другой. Священник отказался.
«Тогда г. Семигановский, усевшись против меня, устремил на меня свои нахальные, бесстыжие глаза, которыми, казалось, хотел меня съесть». В дверях купе толпились другие жандармы, «любопытно, но ласково» глазевшие на легендарного священника. Он понял: это арест!
– Вы переведены в Тулу, – вновь заговорил гость. – Куда прикажете везти вас – в Тулу или Сердобск?
– Я арестован вами, везите меня, куда хотите.
– Нет, – рассмеялся полк. Семигановский, – мы вас не арестовывали, мы г. Царицын арестовали, мы изолировали вас от него.
И прибавил:
– И в этом случае делаю то, что мне приказано.
– А если бы вам приказали перевернуть святой престол в храме – вы бы и его перевернули?
– Нет, мы престолов не перевертываем.
– Если бы, г. Семигановский, я был на вашем месте, я сбросил бы с себя погоны и ушел от такой службы.
Попытка воззвать к совести полковника оказалась тщетной. «Я продолжал лежать, а жандарм – сидеть, и долго пришлось мне переносить и чувствовать на своем лице дерзкие и наглые взгляды этого солдатского лица». Вскоре он вышел из купе.
Так передавали исторический диалог о.о. Илиодор и Михаил. Полковник же Семигановский рассказывал сердобскому уездному исправнику, что пойманный священник «стал всех бранить и грозил предать проклятию».
Любопытен вывод, к которому пришел один из слушателей доклада Володимерова об этих событиях: полковник намеренно провоцировал о. Илиодора на скандал, чтобы развязать себе руки и применить физическое насилие.
Ввиду отказа арестанта покидать вагон жандармы объявили остальным пассажирам, что этот вагон «больной», и попросили перейти в другой. То же предложение было сделано спутникам о. Илиодора, но они отказались его оставить, заявив, что могут подчиниться только грубой силе. О. Михаил оставался верен обещанию, данному царицынцам, а Володимеров, вероятно, надеялся, что его депутатская неприкосновенность хоть отчасти защитит бедного узника. «Куда повезут его не знаю, но буду сопровождать его, пока это окажется возможным физически», – сообщил Родионову этот «истинный благородный русский дворянин», как именовал его о. Илиодор.
«Больной» вагон был прицеплен к экстренному поезду, который помчался в противоположную от Царицына сторону. Отправить телеграмму не разрешили. В проходах стояли часовые. В сопровождавших его жандармах о. Илиодор узнал своих прежних «прихожан» и оценил масштабы слежки за собой.
Остроумное заявление полк. Семигановского об арестованном городе Царицыне нисколько не меняет того факта, что на станции Иловля произошел арест. Именно так это событие воспринимали преосвященный Гермоген и сам о. Илиодор. Арест, конечно, незаконный: согласно ст. 177 Устава о предупреждении и пресечении преступлений изобличенные и упорствующие в неблаговидных поступках монахи сначала подлежат духовному суду, и лишь по лишении сана отсылаются в распоряжение гражданского правительства.
О. Илиодор с негодованием отмечал, что его обманули, – арестовали вопреки уверению Харламова. Справедливости ради следует отметить, что приказ об аресте оказался неожиданным для вице-директора, который успел уже выехать в столицу.
Сам же Харламов оправдывался, будто полк. Семигановский произвел арест «в свою голову», самовольно, хотя прекрасно знал, что задержание состоялось по распоряжению из Петербурга.
Арест грозил и «илиодоровцам» – Шмелеву, Косицыну, А. Труфанову и другим. Управляющий губернией осторожно представил об этой мере министерству 9.II, но получил отказ.
Итак, поезд поехал от Иловли назад, то есть на северо-запад, чтобы затем повернуть либо на запад в Тулу, либо на восток в Сердобск. Окончательный выбор власти оставили за о. Илиодором.
Отопление уже не работало, но арестант отказался перейти в другой, теплый вагон. Отказался и от пищи и высказал жандармам лишь одну просьбу – позвать священника со Св. Дарами. «Ведь этот обряд совершается только перед смертью?» – спросил полк. Семигановский, выказав свое полное невежество в делах, в которые он так бесцеремонно вмешивался. Удовлетворившись полученным объяснением, полковник пригласил священника с ближайшей станции Филоново. Вскоре в купе иеромонаха вошел о. П. Вилков. О. Илиодор исповедовался и причастился, а на прощание пожертвовал о. Вилкову свою шубу.
«…а потом, оставив свою шубу какому-то священнику, завещал ему раздать ее народу в память о нем», – докладывал сердобский исправник. Какая карикатура! Шуба стоила рублей 300, и о. Илиодор просил ее продать, а вырученные деньги раздать нуждающимся жителям Филоновской станицы. «От бедных людей я ее получил – бедным она и пошла».
Все это происходило во мчавшемся на всех парах поезде, так что о. Вилков поневоле отъехал от своей станицы верст на 60 и сошел на ст. Поворино. Пользуясь случаем, спутники иеромонаха передали с о. Вилковым несколько телеграмм. Володимеров телеграфировал на Высочайшее имя: «Мы арестованы, и я не оставлю иер. Илиодора, если не последует на то Высочайшая воля». Кроме того, сообщили преосв. Гермогену: «Жандармы везут нас в Тулу, сопровождать его или оставить – отвечайте Грязи».
Самая интересная из этих телеграмм была составлена о. Вилковым со слов иеромонаха и послана в царицынский монастырь: «О. Илиодор продолжает исполнение клятвы. Везут его господа жандармы, куда неизвестно. Мною исповедан и причащен св. Тайн между пролетом Филоново–Ярыженская. Шубу завещал Филоновскому станичному обществу. Спокоен. Свящ. ст. Филоново Вилков».
Таким образом, о. Илиодор вновь вернулся к своей клятве – не есть и не пить, пока его не оставят в Царицыне. Известил жандармов. Со слов полк. Семигановского, его узник «заявил, что он уморит себя голодной смертью». Впоследствии сам о. Илиодор объяснял свое решение, во-первых, горем, а во-вторых, боязнью быть отравленным: «Перевод мой в Новосиль, по слухам, стоит полтора миллиона рублей, а за такие деньги можно не только в Новосиль отправить, а куда-нибудь подальше – например, на тот свет». После ареста он готов был ожидать от жандармов чего угодно. Но телеграмма исповедовавшего его о. Вилкова выдает более глубокую подоплеку строгого поста. К тому же Володимеров телеграфировал Родионову: «О. Илиодор захвачен в пути на ст. Иловля и вновь решил не пить, не есть, пока вагон, его везущий, не будет доставлен в Царицын». А это и есть сущность клятвы, данной священником еще в воскресенье.
По словам полк. Семигановского, о. Илиодор «действительно все время лежал в своем купе и ничего не ел до гор. Сердобска». Видно, ждал скорой смерти, раз поспешил причаститься и даже расстался с шубой – в феврале-то месяце!
«Хотя ехали мы быстро, но дорога казалась мне необычайно долгой, – вспоминал о. Илиодор. – Я стал обдумывать свое положение.
Припомнились мне некоторые газетные публицисты, которые доказывали, что на Руси Православная Церковь играет служебную роль, что это есть … орудие для воздействия на народ в руках правящих лиц. Эти последние доказывали обратное. Церковь совершенно свободна, говорили они, никто не посягает на ее внутреннее устроение, не стесняет ее в способах воздействия на ее пасомых, как уверяло и наше правительство.
Но вот настало великое царицынское дело и заставило силу имущих открыть свои карты.
Теперь воочию все увидели, что все уверения поработителей Церкви не имеют под собой почвы.
Где же свобода церкви, когда крест проповедника выбивается у него из рук, звук его проповедующего голоса заглушается лязгом шпор и сам проповедник становится предметом бесцеремонного издевательства и насмеяния над его личностью.
В таких думах проходила моя дорога».
Эти мысли о. Илиодор высказывал и ранее, но теперь обстановка особенно располагала к ним.
Ввиду отсутствия отопления прочие пассажиры вагона сидели в шубах. О. Михаил и Володимеров поневоле присоединились к посту своего спутника: «Батюшка Илиодор не ел и не пил, и нам было совестно есть».
От Поворина поезд двинулся в сторону Тулы до Козлова (ныне Мичуринск), где простоял всю ночь. Здесь наконец-то прицепили отопление, но задержка была вызвана другой причиной. Вероятно, ждали Харламова, который, получив в пути известие об аресте иеромонаха, поспешил вернуться назад.
Любопытно утверждение газет, что на ст. Козлов иеромонах будет передан «другому начальству» для доставления в Петербург. Возможно, этим «другим начальством» и был Харламов.
Приехав в Козлов, вице-директор перебрался в поезд Семигановского, что было отмечено пленниками. Но оказалось, что ни Харламов, ни жандармы не знают дальнейший маршрут.
– Куда же вас везти дальше, – спрашивал полк. Семигановский о. Илиодора, – я положительно недоумеваю!
А тот вообразил, что остановка сделана для его убийства, и ответил невпопад:
– Зачем в таком множестве окружаете меня? Смотрите, во мне весу всего три пуда, а в вас в одном будет пудов 15. Вы легко можете задавить меня, и помощь ваших спутников вам совершенно не нужна.
Не добившись вразумительного ответа, полк. Семигановский связался с Петербургом. Положение было не из легких. Куда бы о. Илиодора ни привезли, в Тулу или в Сердобск, – он бы все равно лежал в купе, отказываясь от пищи. Но в Туле преосвященного Парфения сейчас не было, зато в Сердобске оставался преосвященный Гермоген. Вероятно, поэтому министерство приказало повернуть в Сердобск.
Потом о. Илиодор объяснял это решение чудом, произошедшим по молитве «доброго отца нашего епископа Гермогена» перед иконой Божией Матери «Одигитрия» – «Путеводительница»: «и вот Она-то повернула наш вагон обратно в г. Сердобск. Не случись этого – меня увезли бы в Тулу и вы теперь, может быть, видели бы в Туле одну мою могилу».
Там же на ст. Козлов о. Илиодор получил телеграмму от преосвященного Гермогена, просившего его оставить пост и приехать в Сердобск.
С дороги Володимерову удалось телеграфировать Косицыну о последних событиях.
«Харламов и Семигановский пять вечера привезли Илиодора Сердобск сдали Гермогену. Подробности рапортом», – телеграфировал местный исправник Боярскому 9.II. Это «сдали» как нельзя лучше показывает отношение властей к строптивому монаху. Впрочем, «сдать» оказалось непросто.
Предложив своему арестанту поехать к владыке, полк. Семигановский получил резкий ответ: «Я с вами разговаривать не желаю, а что мне нужно делать, это я знаю сам». Покинуть свой вагон о. Илиодор не только не хотел, но и физически не мог, поскольку остался без шубы. Поэтому отправил к преосвященному о. Михаила с приглашением пожаловать на станцию лично. Вскоре друг вернулся… с архиерейской шубой! Оказалось, что владыка сам не приедет, но зовет о. Илиодора к себе.
Лишь в 7 часов, после долгих уговоров Володимерова и о. Михаила, о. Илиодор надел шубу преосвященного и поехал к нему – все в тот же дом благочинного, который покинул двумя днями ранее. Но как несчастный священник изменился за это время от тяжелых мыслей, поста и приготовления к смерти!
«После двухдневной в разных направлениях поездки иеромонах Илиодор был возвращен жандармской полицией опять в гор. Сердобск, притом голодный, измученный и совершенно больной "в распоряжение Епископа" (??!!!).....», – писал преосвященный Гермоген.
«Встретив нас, епископ принял меня на свою грудь и громко, громко зарыдал», – вспоминал о. Илиодор.
Тем же вечером преосвященный Гермоген изложил подопечному свой проект, который обсуждал ранее с епископом Парфением, – двойное настоятельство. Перейдя в Тульскую епархию, о. Илиодор остается заведующим царицынским подворьем, навещает свой монастырь и сохраняет за собой общее руководство. Против поездок и участия в монастырских делах еп. Парфений не возражал, при условии добровольного подчинения священника распоряжению Св. Синода.
По словам о. Михаила, именно сохранение настоятельства заставило его друга дать свое согласие на переход в Новосильский монастырь. Сам о. Илиодор излагал свои мотивы иначе. Описав встречу с владыкой, он продолжает: «Это рыданье без слов, дальнейшая беседа с епископом и собственные размышления решили мою судьбу. Я понял, что дальнейшее сопротивление грубой физической силе будет бесплодно и мне, следовательно, необходимо ехать в Тулу. Принятое мною решение водворило мир в душе моей, и я спокойно и даже с иронией стал смотреть на те факты, которые прежде раздражали меня».
То же объяснение священник дал своей пастве, протелеграфировав в монастырь следующий трогательный текст: «Возлюбленные милые мои дети. Вы видели, что я все употребил, чтобы быть с вами. Я даже жизнью не дорожил. Я бы умер в Царицыне, если бы был там, но сему воспрепятствовала Сила. Против рожна прать трудно. Не отчаивайтесь. Я радуюсь, – радуйтесь и вы вместе со мной. Через неделю приедет Михаил, все-все вам расскажет. Вы тогда успокойтесь. Поверьте мне пока. Пребывайте в миру [так в тексте], спокойствии и радости о Духе Святом. Настоятель Свято-Духовенского Новосильского монастыря и заведующий Свято-Духовским Царицынским подворьем иеромонах Илиодор». Подпись свидетельствует, что проект двойного настоятельства был о. Илиодором одобрен.
Поздно вечером преосвященный Гермоген телеграфировал еп. Парфению в Москву: «Отец Илиодор, помолившись со мной, дал обещание и решительно согласился ехать в Тулу. Выезжает завтра вечером и в Туле будет в пятницу пополудни. Слава Богу. Он просит благословения и ваших святых молитв».
На следующий день о. Илиодор отправил покаянные телеграммы в Синод и Лукьянову: «Богомудрые отцы! Со слезами пишу. Еду в Тулу. Вашу святыню огорчать не думал непослушанием. Шел невольно против чиновничьего засилья. Простите и помолитесь за меня, грешного и убогого».
Обдумывая вопрос о том, как наладить заочное руководство царицынским монастырем, о. Илиодор продиктовал о. Михаилу письменный наказ из 39 глав. Своим заместителем иеромонах избрал Александра Труфанова, которого вызвал к себе в Тульскую губернию для дачи инструкций.
Понемногу о. Илиодор приходил в себя, становясь прежним – веселым молодым иеромонахом. Даже решил подшутить над полицией, которая продолжала за ним следить.
Недавно он сгоряча предсказал Харламову, что когда-нибудь революционеры будут так же преследовать его, Харламова, причем с бомбами. Тот отнекивался, утверждая, что наблюдение выставил не он. Действительно, это было сделано исправником. И вот этих агентов о. Илиодор решил подразнить, изобразив побег. Сел в сани вместе с прот. Образцовым, выехал за город, слез и побежал в лес. Агентура, конечно, их заметила, поэтому всю дорогу за ними мчался верхом казак, догнавший священника уже в лесу.
Кроме того, у о. Илиодора созрел план еще одной мистификации. Новоиспеченный настоятель решил поселиться в Новосильском монастыре тайно, под видом простого монаха, познакомиться с положением изнутри, а через несколько дней открыться. О. Илиодор взял у прот. Образцова старую рясу и мешок, вырубил себе в саду палку, положил в мешок три фунта кренделей, чай и сахар, снаружи привязал жестяной чайник. Сапоги и калоши пожертвовал «монастырской братии», а взамен надел валенки.
Простившись с преосвященным Гермогеном при взаимных слезах и объятиях, иеромонах в сопровождении друзей поехал на вокзал, где уже поджидал Харламов и другие власти: «А мы думали, что вы уехали из города». Для большего смирения о. Илиодор решил купить билет 3-го класса, о котором в какой-то проповеди сам говорил, что эдак только скот возить, а не людей. Когда же таких билетов не оказалось, то взял билет 2-го до Пензы, намереваясь оттуда ехать 3-м классом до Тулы. Простился с друзьями и поехал под наблюдением Харламова и сыщиков.
«Наконец, напутствуемый благословениями епископа Гермогена, я выехал в Тулу, не только оттрясая прах царицынский от ног своих, но даже и самые сапоги оставил в Сердобске. Одет был я очень бедно, имел вид странствующего богомольца, и царицынские безбожники лишились возможности сказать, что я что-нибудь увез из Царицына. В Царицын я приехал с тремя рублями и имел одежды рублей на 100, а уезжал имея денег только на билет до Тулы (и то данных епископом) и рублей на 15 одежды».
Следует еще раз подчеркнуть, что произошел не просто перевод священника в другую епархию, – хотя и перевод создателя настолько сплоченной общины выглядит несправедливо! – а расправа светской власти с неугодным лицом, причем и Государь, и священноначалие пошли у нее на поводу. О. Илиодор подчеркивал, что сопротивляется только чиновникам и никому иному:
«Я никогда не обижался и не обижаюсь на распоряжения Св. Синода о переводе меня в другой монастырь, но я глубоко обижен и оскорблен тем, что меня оклеветали напрасно, и преследовали незаслуженно. Я никогда не думал противиться Царской воле, но я противился только и восставал против чиновничьего насилия».
Неистовое сопротивление о. Илиодора то ли Св. Синоду, то ли водившему его рукой правительству встретило неодобрение даже в консервативных кругах.
Прот. Восторгов на собрании монархистов в Москве с большим сочувствием отзывался об о. Илиодоре, однако отметил, что за свою голодовку как революционный акт он должен быть предан духовному суду.
«Земщина» скорбела «по поводу слишком шумного протеста отца Илиодора», действия которого подорвали авторитет священноначалия. «Теперь же верующий инок создал такое положение, при котором принятие его под защиту государства явится как бы косвенным осуждением Св. Синода». С «большим облегчением» была воспринята газетой весть о подчинении о. Илиодора: «ослушание его производило соблазн и подготовляло раскол». Однако «Земщина» не упустила случая сделать выпад по адресу ненавистного Лукьянова, возложив на него ответственность за бунт царицынского монаха.
«Московские ведомости» благодарили Бога «за прекращение церковного соблазна».
Оппозиция говорила об о. Илиодоре очень резко. Гр. Уваров откровенно заявил с кафедры Г. Думы, что ему место в психиатрической лечебнице.
Официозный «Свет» назвал о. Илиодора «дерзким честолюбцем» и «аскетом-карьеристом». «Чувство жалости к нему поглощается негодованием за тот срам, которым он покрыл свой сан, явив пример неслыханного соблазна». «Неуравновешенный, совершенно не владеющий собой молодой монах закусил удила. Его опьянило поклонение невежественной толпы, которую он подстрекает то против урядника, то против судьи, то против губернатора. Теперь он добрался и до самого Св. Синода. Ничего не значит в его глазах и санкция Верховной Власти».
Впрочем, нашлись и сочувствующие. Например, некий М. И. Сухонин-Унжанин из г. Юрьевец Костромской губ. писал «священномученику иеромонаху Илиодору»: «Ты избранный Богом сосуд, который должен наполниться кровью мучеников до краев. Как только из краев сосуда потечет кровь, так тогда Царь Батюшка соизволит узнать, что стервятники насытились нашей крови чрезмерно…». Но сочувствующих оказалось немного, тем более что по газетам мудрено было понять правду.
В ночь на 12.II о. Илиодор приехал в Тулу. Вопреки желанию иеромонаха ехать как можно скромнее, власти привезли его в отдельном вагоне I класса.
В Туле было две железнодорожные станции, и о. Илиодор по ошибке сошел не на главной, а на Туле-Вяземской.
Ввиду позднего времени он не стал никого тревожить и, выпив стакан чая с хлебом, устроился ночевать прямо на вокзале, на деревянной лавке зала 3-го класса. Однако отдохнуть не удалось.
Вокруг знаменитого священника суетились жандармы. Сыщики, прибывшие вместе с ним, убеждали тульские власти, что вот этот нищий монах и есть тот самый о. Илиодор, о котором пишут все газеты.
Власти были немало озадачены его преждевременным выходом из поезда, подозревая какой-то подвох. Харламов, остававшийся в поезде, то и дело посылал узнать, что делает о. Илиодор. Наконец один из местных жандармов решился спросить о дальнейшем маршруте самого иеромонаха. «Не хлопочите обо мне, – резко ответил о. Илиодор, – я сам знаю, куда мне ехать и что делать».
Поняв, что он не вернется в поезд, власти отцепили его вагон.
Между тем на вокзале началось, по словам о. Илиодора, издевательство. «…окружили меня сыщики, жандармы, полицейские и целая стая газетных собак. Все они нагло и насмешливо смотрели на меня, как бы говоря глазами: "а, наконец-то ты, голубчик, попался!". Сколько мне приходилось переносить от них насмешек и оскорблений! Мне было так тяжело, что я готов был лучше умереть. Ворвался какой-то пьяный рабочий и стал так ужасно ругаться и безобразничать, что я не выдержал и заплакал. Он ругался, а я плакал, и окружающие меня надо мной смеялись, издевались. Но, должно быть, Сам Господь пожалел меня и заступился.
Вошел какой-то простой деревенский мужичок и обратясь к смеющимся надо мной сказал: "Как вам не стыдно, над кем вы смеетесь, ведь он теперь отец наш родной". Я не знаю, как назвать этого мужика, но вижу, что он меня понял потому, что назвал отцом родным. После слов этого мужичка мои оскорбители оставили меня в покое».
Если «мужичок» сразу заметил насмехательство, следовательно, оно производилось не только «глазами», но и вслух. Вероятно, именно об этом эпизоде о. Илиодор позже писал: «бесконечно издевались надо мною сыщики, громко называя меня клеветником всей России».
Уйти от насмешек было некуда. Он лежал без сна с закрытыми глазами и ждал рассвета, слушая, как жандармы пытаются получить сведения от его спутника – крестьянина Нестора. Тот, однако, отказался доносить на своего покровителя.
До утра агенты полиции и газет дежурили на вокзале, следя за бедным священником. Когда рассвело, он в сопровождении Нестора отправился к архиерейскому дому под эскортом все той же компании: «…за нами гужом посыпали сыщики, жандармы и газетные собаки». Дойдя до места назначения, о. Илиодор обернулся к ним и пригрозил пожаловаться Государю Императору. Эскорт мгновенно исчез.
Преосвященный Парфений, лишь накануне прибывший в Тулу из Москвы для встречи с о. Илиодором, принял гостя «особенно отечески ласково». «Меня пригласил в свои покои и Нестора послал в людскую и приказал его как можно получше накормить». Владыка немедленно сообщил митрополиту Антонию и обер-прокурору о приезде священника, который-де «настроен благодушно, горит желанием служить Новосильскому монастырю».
Это была родительская суббота, и с разрешения архиерея о. Илиодор тут же совершил панихиду. Затем служил в Туле еще трижды – в субботу всенощное бдение, а в воскресенье вместе с преосвященным Литургию и вечерню. За четыре службы произнес четыре проповеди – «не без свойственной ему резкости, но на слушателей в общем произвел хорошее впечатление», – докладывал в Синод еп. Парфений. Одна «разодетая дама» даже громко выразила свой восторг, на что проповедник потом сетовал: «эта дама только похвалила, а исполнять не будет». Вечером о. Илиодор избрал темой своей проповеди «великого богохульника и развратителя земли русской графа Л.Н. Толстого» – о чем же еще говорить возле Ясной Поляны! «Должно быть, проповедь моя понравилась, потому что когда я вышел из храма, то народ бежал за мной толпами, чтобы получить от меня благословение». Впрочем, корреспонденты либеральных газет сообщали, что «слушатели отнеслись к Илиодору как к маньяку и истерику», говоря, что «так кричат только на сцене»
Вообще богослужения, совершавшиеся знаменитым священником в Туле, привлекли очень много людей, как простонародья, так и интеллигенции. К радости о. Илиодора, и те, и другие охотно подходили к нему под благословение.
Но больше всего он был изумлен, когда то же самое не постеснялся сделать губернатор Д. Б. Кобеко. «Вы понимаете ли, – писал о. Илиодор, – сам тульский губернатор поцеловал у меня руку. … В Саратове и Царицыне власти мне руки не целовали». Вероятно, Кобеко опасался, как бы знаменитый проповедник не отправил и его доить коров вслед за бывшим саратовским губернатором. Как, оказывается, легко было найти с о. Илиодором общий язык! Гр. Татищев мобилизовал весь доступный ему полицейско-бюрократический аппарат для войны с несчастным монахом, а тульский губернатор обезоружил его одним-единственным жестом.
Впрочем, благочестивый маневр Кобеко не обманул о. Илиодора. Он понял: «губернатор поцеловал мне руку не из уважения, а просто из-за того, чтобы угодить этим высшим властям и зажать мне рот. Но он ошибается: рта этим он мне не зажмет, и я буду говорить и проповедовать так, как раньше проповедовал, и даже еще громче. Совсем напрасно он это сделал».
Беседа с губернатором, к которому о. Илиодора привез преосв. Парфений, продолжалась около часа. Иеромонах просил наладить точную запись его проповедей. «…по-видимому, оба друг другом остались довольны», – отметил владыка.
В воскресенье добрался до Тулы эконом саратовского архиерейского дома о. Востриков, командированный еп. Гермогеном вслед его подопечному, и доложил владыке: «Отец Илиодор несказанно утешен. Он ныне служил, проповедовал».
Словом, за исключением вокзального эпизода, Тула привела о. Илиодора в восторг – «тихая, нравственная и привлекательная» по сравнению с «развратным грязным и гадким» Царицыным. «Какие добрые люди в Туле, – говорил священник. – Никто не сказал мне дурного слова, а в Саратове и Царицыне многие травили меня, как дикого зверя». «После Царицына, где я находился как в котле с кипящей водой, Тула показалась мне приятной ванной». Тут о. Илиодор впервые подумал, что не хочет возвращаться в город, за право служить в котором столько боролся.
Ранним утром в понедельник о. Илиодор покинул привлекательную Тулу и направился к месту своего нового служения, сопровождаемый о. Востриковым, благочинным монастырей Тульской епархии иеромонахом Лазарем и верным Нестором. Надо думать, еще и жандармами. Как ехали высокопоставленные священники, неизвестно, а о. Илиодор с послушником ехали в вагоне 3-го класса.
Путь пролегал через Ясную Поляну. «Я раздумался тут. И думаю так: вот в этой земле жил великий учитель жизни Л.Н. Толстой, и если он светом своего ученья озарял весь мир, то, во всяком случае, Ясная Поляна должна быть озарена им лучше всех». О. Илиодор стал интервьюировать попутчиков – местных крестьян.
« – Ну, братцы, чему хорошему научил вас Лев Толстой?!
А они мне отвечают:
– Да ну его к шуту, он не учил, а только дурака ломал».
Пользуясь случаем, священник проверил несколько легенд, созданных газетами вокруг недавних похорон Толстого. Оказалось, что могилу ему выкопали не тысячи крестьян, а только двое, что за гробом шли не сто тысяч человек, а не более 3-х тысяч, «да и то не наши, а все больше жиды, да какие-то приезжие жители с Кавказа», а что касается торжественных обетов, будто бы произносимых на могиле, то, действительно, «приехал из Москвы какой-то один чудной такой господин», поклявшийся тут не пить, «но в тот же день к вечеру напился в селе пьян и скандалил». Далее собеседники якобы произнесли фразу совершенно в духе самого интервьюера: «По-нашему, следовало бы всех тех бездельников, кто только шляется на могилу Толстого, отодрать плетками, так у них ума и прибавилось бы».
Внезапно обнаруживший в себе талант репортера о. Илиодор тщательно все записывал, задумав издать путевые заметки отдельной брошюрой. Министерство же внутренних дел заблаговременно приняло меры, чтобы своевременно арестовать этот труд, если в нем найдется что-нибудь противозаконное.
Доехав до станции Залегощь, о. Илиодор сошел с поезда и на высланных навстречу санях преодолел оставшиеся до монастыря 12 верст. Потом Сергей Труфанов напишет: «В конце концов настоятеля Новосильского монастыря жандармы представили братии…». Это очевидное преувеличение, потому что с о. Илиодором приехал благочинный для формальной передачи монастырских дел. Явиться инкогнито, таким образом, не удалось.
Монастырь новому настоятелю понравился. «Новосиль – это край очень богатый, богат там и монастырь, много у него земли и денег. Это просто рай земной». Понравилась и братия, состоящая «из людей молитвенных, смиренных, целомудренных». Осмотрели хозяйство, огромное, но запущенное: 40 тыс. руб. неприкосновенного капитала, 400 десятин пахотной земли, 70 десятин строевого леса, имение с 500 десятин земли, мельница об 11 поставах (т.е. огромная – с 11 парами жерновов для перемола зерна), 50 лошадей, 50 коров, 100 овец, 10 свиней.
«Вот, теперь я поработаю и здесь», – решил о. Илиодор. В его голове носились планы не только подъема монастырского хозяйства, но и строительства нового храма, гостиницы для богомольцев и школы на 5000 крестьянских детей с 200 учителями!
Не забывал о. Илиодор и о своем царицынском монастыре, рассчитывая продолжать работу и там. Оттуда, между прочим, доходили дурные вести о притеснениях, которым подвергаются богомольцы подворья.
Настроение этих дней отражено в телеграмме преосвященному Гермогену 15.II: «Дорогой владыка! До Новосиля доехали, слава Богу, благополучно. Спаси вас Господи за молитвы и утешение. Мне хорошо, только скорблю за детей. Прошу вас поехать туда на один день. Детей моих гонят, лишают мест, смеются, оскорбляют. Батюшка отец Иоанн сегодня выедет. Я принимаю монастырь. Любящий вас послушник иеромонах Илиодор, послушник Александр».
Очевидно, именно Александр Труфанов, приехавший в Тульскую губернию по вызову брата и встретивший его в монастыре, привез эти грустные вести из Царицына.
Свой путевой дневник о. Илиодор закончил благословениями в адрес Императорской четы, Синода, а также всех своих врагов поименно.
«Благословляю я первого и главного врага моего Председателя совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина и желаю ему поскорее получить титул Графа. Благодарю его за то, что только его стараниями я удален из разбойнического и окаянного города Царицына. Теперь душа моя будет отдыхать в спокойствии и вместе с телом набираться новой силы для борьбы с врагами Царя и отечества. Пока и он, и я оба трудились, только не одинаково: он, получая огромное содержание, купил себе в Петербурге за 160.000 руб. дом, который будет принадлежать только его детям и внукам, а я, бедный и убогий монах, ничего не имеющий, в короткое время построил более чем за 300.000 прекрасный монастырь, который будет принадлежать и служить нравственной и религиозной поддержкой простому и темному русскому народу. Он старается, но не может уменьшить пьянство в России, а я спас от этого порока тысячи людей и говорю об этом с гордостью.
Я насаждаю православие, а г. Столыпин усиливает охраны, стоящие громадных денег. Я объединяю людей православных для защиты Веры, Царя и отечества, а Столыпин объединяет полицию, жандармов и охранников.
Придет время, когда и вы поймете, что я был во всем прав, но тогда это будет уже поздно, слишком поздно!
Благословляю я и обер-прокурора Св. Синода Лукьянова, но мне его жаль, очень жаль: зачем он взялся не за свое дело: он оставил свою докторскую трубку и взялся за обер-прокурорское перо. Это к нему совсем нейдет, и он может быть счастлив только тогда, когда вернется к своей специальности врача и вместо обер-прокурорского пера возьмет снова в руки свою докторскую трубку».
В том же духе полуиронически благословлялись Харламов, Боярский, гр. Татищев, полк. Семигановский, Бочаров, а также жандармы и даже пристав с тульского вокзала. Дойдя до фамилии бывшего саратовского губернатора, о. Илиодор вспомнил свою недавнюю шутку о дойке коров: «Тогда я над ним посмеялся, а теперь меня и самого послали в такой монастырь, где мне самому придется доить коров».
Наконец, черед дошел и до царицынского купечества: «Благословляю Максимовых, Воскресенских, Булгаковых, Лапшиных, Чернушкиных, Зайцевых, Филимоновых, Пироговых и других царицынских богатеев, пьяниц, развратников, клеветников и безбожников, так как благодаря их стараниям меня удалили из Царицына.
Теперь они смело могут продолжать свою преступную деятельность и им нечего бояться, что иеромонах Илиодор будет выводить их на чистую воду».
Подсчитав подлежащих дойке коров, священник заметил, что за ним по-прежнему следят. Он утверждал, что маленькая новосильская гостиница была переполнена газетными репортерами и сыщиками, причем последние для отвода глаз даже исповедовались у него.
Факт наблюдения косвенно засвидетельствовал сам товарищ министра внутренних дел Курлов:
« – Илиодор крепко засажен и убежать не может.
– Охотно верю, тем не менее, если бы он бежал, то я прошу…
– Повторяю Вам, он не убежит…
– Но если он убежит…
– Если товарищ министра, заведывающий полицией, говорит Вашему Превосходительству, что Илиодор не убежит, то он не убежит».
Проводив о. Илиодора в Тулу, преосвященный Гермоген передал (12.II) в Саратовскую консисторию следующую бумагу: «Согласно выраженному его преосвященством преосвященнейшим Парфением епископом Тульским и моему неизменному желанию иеромонах Илиодор по-прежнему остается заведующим царицынским Свято-Духовским подворьем; причем поручаю ему указывать, когда потребуется, официально особыми письменными донесениями лиц из числа братии подворья, которым можно поручить те или иные ответственные послушания по руководству делами подворья».
Ссылка на преосвященного Парфения сделана исключительно ввиду устного согласия, данного им ранее. При заключительных сердобских переговорах 9.II он не присутствовал, а по телеграфу его лишь известили о том, что о. Илиодор покорился, но об условиях не упомянули.
По-видимому, о. Михаилу Егорову была вручена копия архиерейского распоряжения, поскольку уже 13.II он прочел эту бумагу в монастырском храме и даже издали показал ее народу. Согласно донесению Пучковского, о. Михаил сказал, что бумага подписана обоими епископами и содержит ссылку на разрешение Св. Синода. Это либо ложь, либо ошибка агента. Как бы то ни было, сведения о таинственной грамоте дошли до Синода, в том числе до еп. Парфения, который был изумлен ссылкой на себя.
«Что-нибудь тут не так, – написал он преосвященному Гермогену 1.III. – Я ведь знаю, что занимать официально две должности в двух разных епархиях невозможно». Далее еп. Парфений напоминает, что он согласился лишь на неформальное участие о. Илиодора в начатом деле «сбором пожертвований, сочувствием, советом и проч.», и то при условии, что священник подчинится сразу и без скандала. Письмо заканчивалось советом отменить распоряжение, которое все равно будет отменено Синодом.
Предъявляя епископу Гермогену это требование, преосвященный Парфений не подозревал, что его собственная консистория уже получила из Саратова архиерейское распоряжение и в порядке бумажной волокиты послала (28.II) в Новосиль соответствующий указ.
Об отправке экстренного поезда и предполагающемся аресте о. Илиодора его паства узнала немедленно благодаря его приверженцам из числа железнодорожных служащих. «…как отправили поезд, так двое наших прибежали ко мне с вокзала», – говорил Косицын Родионову. Однако несколько сот человек все-таки пришли утром к вокзалу встретить поезд, на котором обещался прибыть их пастырь. Там дежурила полиция, оцепив туннель и железнодорожный проезд. От пассажиров опоздавшего на полтора часа поезда богомольцы узнали об отцепке вагона. Позже из телеграмм о. Вилкова и Володимерова поняли, что о. Илиодора куда-то везут жандармы. Обращались за сведениями даже к преосвященному Гермогену.
«Народ все эти дни собирается в большом количестве на подворье в храм Богу молиться и ходит как ошеломленный, как потерявший что-то драгоценное … – писал владыке мещанин Н.М. Попов 10.II. – Народ ходит в храм, как осиротелый и, несмотря на все непогоды, собирается тысячами, где при упоминании о. Илиодора сильно плачет до истерики, жаль им его, жаль и мне его, этого великого православного подвижника, монаха Илиодора, где он, дорогой наш, стоящий за правду Христову, за Самодержавного Царя и за русский народ. Батюшка Гермоген, откликнитесь на его несчастье, помогите ему, может быть, он голодный и холодный. … похлопочите об о. Илиодоре, о возврате его в Царицын, докончить начатое им дело. И нас, грешных, утешьте своим пастырским словом и сообщите, где он находится, о. Илиодор. Желаю вам от Господа Бога счастья».
Вскоре из телеграммы самого о. Илиодора стало ясно, что он едет в Новосиль. Обещавший без друга не возвращаться о. Михаил не сдержал слова и вернулся один, за что некие горячие головы пригрозили побить его камнями.
Воскресным вечером 13.II в монастыре состоялось большое собрание. Присутствовало около 5 тыс. человек. Сначала Максимилиан Труфанов произнес речь о своем брате и гонениях на него, а затем о. Михаил сделал народу целый доклад.
Передав слушателям поклон и пастырское благословение от преосвященного Гермогена и о. Илиодора, священник прочел распоряжение о сохранении за его другом настоятельства в царицынском монастыре. На словах пояснил, что о. Илиодор будет сюда наезжать, а со временем, может быть, его и совсем переведут обратно.
Затем о. Михаил подробно рассказал о своей поездке с ним в Сердобск, о попытке пробиться обратно, об аресте, двухдневных скитаниях, возвращении к преосвященному Гермогену, решении ехать в Новосиль и, наконец, обстоятельствах отъезда в Тулу.
Вечер завершился чтением письменного наказа о. Илиодора Царицынскому монастырскому подворью. Этот документ содержал разные мелкие распоряжения по монастырю, заведование хозяйственной частью которого поручалось Александру Труфанову. Как и ранее в своем завещании, о. Илиодор просил уплатить свой долг лесопромышленникам и продать его карету и лошадей, с тем чтобы вырученные средства отдать в неприкосновенный капитал Иоанновского братства. Тот крестик, который священник оставил в Царицыне перед отъездом, вделать в икону Благовещения. В келье поддерживать неугасимую лампадку. Богомольцам о. Илиодор наказывал посещать храм, поститься, молиться и приглашал их в мае к себе в Новосиль. Сам же обещал приезжать в Царицын на Рождество, на Пасху, на Троицу и летом. «Приеду на один день и проживу месяц, а то и два».
После этого паства послала в Синод телеграмму, в которой, отмечая, что с переводом о. Илиодора «замирает царицынская обитель», просила о его возвращении «ради торжественного дня 19 февраля».
20.II, в Прощеное воскресенье, в монастыре была прочитана новая трогательная телеграмма из Новосиля: «Дети мои, чего вы плачете? Не плачьте! Разве вы не знаете, что тело мое здесь, а душа присутствует с вами?! Кто не будет посещать то место, где присутствует моя душа, того не буду считать своим. Молитесь Богу. Скоро получится радостное известие и тогда возликуем над врагом. О дне моего прибытия получите известие. Ради сегодняшнего дня простите меня, если кого обидел или кого не призрел».
«Не плакать и не скорбеть нельзя. Слезы сами льются», – ответила паства, в свою очередь испрашивая прощения.
Таинственные намеки илиодоровской телеграммы несколько разъяснились, когда из Новосиля вернулся Александр, 26.II сообщивший богомольцам, что его брат скоро вернется в Царицын насовсем.
Навестил о. Илиодора и его келейник Емельян, с которым священник передал пространное письмо к пастве – толстую тетрадку в четверть писчего листа. Вечером 27.II приверженцы о. Илиодора, заранее извещенные членами «Братского союза», собрались в монастыре послушать это послание. Храм был переполнен. После вечерни и акафиста Божией Матери Емельян, выйдя на амвон, передал богомольцам благословение и низкий поклон о. Илиодора. Затем о. Михаил прочел его письмо, начинавшееся так:
«Мир и любовь шлю вам, возлюбленные мои дети. Любовь, это высокое святое чувство, шлю я вам, которое соединяет людей, разделенных далеким пространством, и которое никогда не поймут мелкие душонки и [нрзб] сердца».
Далее следовал подробный рассказ о недавних мытарствах о. Илиодора, переходящий в его путевой дневник. Рассказ о Туле и Новосиле сопровождался многочисленными сравнениями с Царицыным, всегда не в пользу последнего: народ благочестивее, монастырская братия духовнее, наконец, даже свиньи и собаки лучше, чем царицынские! «Я думаю, – писал о. Илиодор, – что теперь больше не буду жить в Царицыне, да и не хочу в нем жить». Однако письмо заканчивалось обещанием все-таки приезжать ради паствы: «полгода буду жить с вами, а полгода здесь в Новосиле. Останавливаться я буду не в монастыре, а у одной доброй и благочестивой женщины на Пушкинской улице».
Кроме того, он повторил своим «деткам» приглашение в гости: «Вы кормили меня в Царицыне почти три года, а я хочу угостить вас здесь. Я построю для вас бараки и палатки, угощу всякой едой, заколю тельца упитанного и угощу чудным монастырским квасом».
Снова заповедав «детям» усердно посещать храм и молиться, о. Илиодор подписался, по обыкновению, настоятелем Новосильского монастыря и заведующим Царицынским монастырским подворьем.
Внешне жизнь подворья стала устраиваться. Желание о. Илиодора о передаче хозяйственной части в руки Александра Труфанова было исполнено так: его назначили псаломщиком царицынского собора и откомандировали на монастырское подворье.
Но гораздо труднее было сохранить духовный ритм общины. Разлука с о. Илиодором повергла его приверженцев в большую скорбь. Многие с горя предались пьянству.
Почувствовав свою безнаказанность, лесопромышленники начали притеснять служащих-илиодоровцев – уменьшать заработную плату или увольнять. На головы несчастных богомольцев сыпались насмешки. «Знали безбожники, что вы долго постились и молились, прося Господа Бога оставить меня в Царицыне, и вот, когда меня от вас увезли, они и стали издеваться над вами и говорили вам в глаза: вот вы постились и молились по целым не только дням и ночам, – по целым неделям, умирали с голоду, изнуряли себя постом и молитвою – и что же из этого вышло?! Где же ваш Бог?!». Известно также, что чинились препятствия для сбора подписей под прошениями о помиловании о. Илиодора.
С другой стороны, в среде самих илиодоровцев возникло возмущение действиями жандармов, арестовавших о. Илиодора. Ротмистр Тарасов даже доложил об этом полк. Семигановскому и предупредил унтер-офицеров, чтобы они были осторожны.
Недолго о. Илиодор ликовал, что у него все так хорошо устроилось. Настроение быстро поменялось, что легко проследить по телеграммам и письмам.
Перед отъездом в Тулу (вероятно, 10.II) о. Илиодор обещает приезжать в Царицын на Рождество, на Пасху, на Троицу и летом.
15.II телеграфирует еп. Гермогену: «Мне хорошо, только скорблю за детей».
В те же дни заканчивает путевой дневник, где признается, что не хочет жить в Царицыне и будет приезжать только ради «деток» на полгода каждый год, причем останавливаясь не в монастыре. Впоследствии священник подтверждал, что действительно не хотел возвращаться в Царицын с его «богатыми и сытыми гадинами под видом людей» и совсем бы возненавидел этот город, если бы не паства.
Но уже 20.II о. Илиодор в туманных выражениях обнадеживает царицынцев, извещая их о предстоящей победе над неким «врагом».
Наконец, 26.II Александр Труфанов объявляет, что брат скоро вернется насовсем.
Перемена настроения была вызвана препятствиями, которые стали чиниться работе новосильского настоятеля. Задумав построить большой храм, он попросил у Государя 150 тыс., но не получил ответа: «вероятно, моя просьба, как и мои телеграммы, застряли в кармане какого-нибудь министра». Тогда о. Илиодор обратился к Синоду, прося разрешения взять из банка половину запасного монастырского капитала и продать часть земли местным крестьянам, но получил отказ. Окончательно новосильский настоятель был сражен перепиской с преосвященным, который разрешил ему ремонтировать монастырские храмы на сумму 500 руб. в год. 500 рублей! Только из банка о. Илиодор хотел взять 20 тысяч руб., не считая других источников! А тут 500 рублей! Что до строительства школы, то владыка прямо назвал этот проект неосуществимой мечтой…
«Безучастное и даже насмешливое отношение» преосвященного к «святым порывам» новосильского настоятеля его «убило». «…со мной епископ Парфений хочет сделать, как если бы большой пароход без руля пустили бы плавать по узенькой речке, и он только бы и делал, что пых об один берег, пых об другой берег, и больше никакого бы проку из него не вышло».
Запрет на стройку положил конец пастырской деятельности о. Илиодора в наиболее привычной для него форме, поскольку он, не имея в своем распоряжении большого храма и паломнической гостиницы, не мог снова собирать вокруг себя тысячи людей.
Местное население, по-видимому, не интересовалось речами нового настоятеля. «Мужики там (в Тульской губернии) живут грязно, ходят в лаптях, в избах телята…», – сокрушался тот, имея в виду не столько нищету, сколько непритязательность местных крестьян.
Таким образом, то, что о. Илиодор считал своим призванием – проповедь – в Новосиле пришлось оставить.
«…в академии меня не учили кирпичи класть, мертвые камни обделывать, маленькие храмы ремонтировать, напротив, меня тщательно учили нянчить бессмертные богоподобные души народные, меня учили пастырствовать, священствовать, пророчествовать, то есть проповедовать, учить, наставлять, обличать, запрещать, умолять людей. … руководить монахами нас, ученых монахов, к великому прискорбию в академии тоже не учили. … К созерцательной иноческой жизни я не способен, не искал ее, когда я шел в монахи. Я искал боевой монашеской жизни. Это мое призвание, это моя истинная жизнь».
Богатый монастырь оказался для о. Илиодора золотой клеткой: «В Новосиле много земного, но нет ничего такого, что бы напоминало о небесном». «Мне нечего там было делать», – рассказывал он впоследствии.
В разгаре неприятностей вдруг пришла бумага из Тульской консистории о сохранении за о. Илиодором настоятельства в царицынском монастыре, вследствие чего иеромонах счел себя вправе уехать обратно. И он задумал побег.
О. Илиодор утверждал, что толчком к побегу стали полученные утром 9.III из Петербурга известия о расследовании царицынского дела. «…полиция в таких случаях как делает: берет за горло – говори так, как ей нравится». Испугавшись, что следователи превратят тысячи приверженцев, постившихся в храме вместе с ним, в жалкую горстку, о. Илиодор «счел священным долгом немедленно приехать в Царицын собрать свое рассеянное стадо и воодушевить своих запуганных властями и начальствами птенцов».
Однако побег подозрительно совпал со знаменитым министерским кризисом марта 1911 г., когда Столыпин подал в отставку (5.III). Поэтому сигнал к бегству приписывали разным тайным силам обеих столиц. «О. Илиодора вызвали из Новосиля в Царицын, вероятно, петербургские люди, и не по сочувствию населению Царицына, а по несочувствию Столыпину и М. Антонию», – писал архиепископ Антоний Волынский «Голос Москвы» подозревал, что московские друзья инока дали ему сигнал: дескать, вперед, твой главный враг сокрушен! Однако, прочитав эту заметку, прот. И. Восторгов поспешил уверить обер-прокурора в непричастности своей и правых московских организаций к «безумному шагу Илиодора».
Как бы то ни было, путь беглеца на юг лежал через север. Газеты резонно предполагали, что конечной целью путешествия был Петербург.
По сведениям одного тульского публициста, «руководила побегом» некая дама. Несомненно, это была известная поклонница Распутина О.В. Лохтина, почитавшая о. Илиодора и в любых обстоятельствах сохранявшая преданность ему.
Чтобы ускользнуть от властей, иеромонах прибегнул к хитроумному приему: «Обманули меня они два раза, забрав меня, как разбойника, врасплох в пути, – дай и я их обману таким же образом». «Я послал в разные стороны телеграммы: в Петербург, Москву, в Тулу, что я уезжаю в монастырское имение на отдых. Смотрю, все стражники и сыщики сразу успокоились, а стражники так совсем и исчезли, будто бы сквозь землю провалились. Поверила этому и монастырская братия». Позже он похвалялся, как ловно «замел следы, так что его спохватятся через три дня».
Утром 9.III о. Илиодор в сопровождении брата и келейника отправился в имение, а оттуда – на станцию Мценск, где, по-видимому, его ожидала Лохтина. Вместе с ней иеромонах, надев большие синие очки и меховую шапку, поехал в Москву.
По приезде в Москву Лохтина отвезла о. Илиодора на Долгоруковскую улицу, в дом, принадлежавший, по одним сведениям, друзьям «генеральши», по другим – ей самой. Сюда же явился редактор газеты «Русская земля» М.Л. Плетнев. Оба принялись сочинять прошение Синоду о возвращении в Царицын, которое затем Лохтина передала в Петербург.
По-видимому, Плетнев принес несколько экземпляров им же отредактированной и только что отпечатанной брошюры «Правда об иеромонахе Илиодоре». Заглавный герой забрал их с собой, что оказалось очень удачно, поскольку через два дня весь остальной тираж был конфискован.
Для сохранения покрова тайны дезинформировали печать. Через «полицейских репортеров» (репортеров, дающих сведения о запротоколенных полицией происшествиях) все московские газеты получили опровержение слуха о бегстве иеромонаха. В Петербурге такое опровержение было продублировано «одним из видных монархистов, находящимся в личной дружбе с иеромонахом Илиодором». «Очевидно, в стане заговорщиков участвовал смелый вдохновитель, опытный в технике газетного дела», – писал «Голос Москвы».
Однако хитроумный план испортил сам о. Илиодор. Встретив в том же доме, где остановился, пятерых студентов, он вступил с ними в беседу. Надо сказать, что в те дни положение высшей школы было критическое. Всю зиму в ее стенах шла битва между революционными студенческими организациями и правительством. Власти запретили сходки и подвергли всех неблагонадежных студентов репрессиям, вплоть до высылки этапным порядком. Ответом стали забастовки и химическая обструкция. В университетах дежурила полиция, но студенты и почти открыто примкнувшие к ним профессора препятствовали возобновлению учебного процесса.
Пятеро молодых людей, с которыми встретился о. Илиодор, оказались забастовщиками. По своей привычке лезть ко всем встречным с советами он сделал собеседникам «отеческое внушение»:
– Надо сечь вас за то, что вы не учитесь.
– Как же нам учиться, когда мы окружены полицейскими сыщиками. Учишь ли урок, режешь ли труп, у тебя за спиной стоят сыщики.
Тут о. Илиодор не удержался и похвастался: «Я в свою очередь рассказал им, что и я окружен сыщиками и жандармами, но они меня не уследили и я уехал». Пояснил, что очки и шапку носит «от сыщиков». Собеседники поинтересовались, куда он едет, он ответил, что в Царицын.
«И что же из этого вышло? Оказалось, что эти студенты гораздо хуже сыщиков. Они отправились в жидовскую газету "Русское слово" и там напечатали, что о. Илиодор в синих очках и меховой шапке тайно возвращается в Царицын».
По сведениям газет, в Москве беглеца настигли дурные вести – то ли о возможном сохранении Столыпиным портфеля, то ли о невозможности аудиенции. Поэтому пришлось отказаться от намерения ехать в Петербург.
В час пополудни о. Илиодор покинул Москву. По его словам, он поехал в Орел, где ждал Максимилиан Труфанов с билетами, и затем вместе с братом направился в Царицын. Но все прочие источники умалчивают об этом пункте маршрута. Более того, в дальнейшем изложении Максимилиан исчезает, а через два дня безымянный студент Труфанов оказывается в Москве и участвует в совещании местных союзников.
Так или иначе, с братом или с келейником, через Орел или напрямик, о. Илиодор выехал в Царицын. «Ехал с великим смущением, боясь, что не доеду».
Тем временем власти спохватились. 11.III один из полицейских агентов в Царицыне получил телеграмму из редакции «Слова»: сегодня в 9 часов вечера в Царицын прибудет бежавший Илиодор. Кроме того, в Новосиле обнаружили исчезновение настоятеля. Начальники всех узловых жандармских железнодорожных отделений получили телеграфные распоряжения: не пускать беглеца в Царицын. На станции Грязи находилось «наблюдение» от Департамента полиции с «требованием воспрепятствовать дальнейшему следованию». По-видимому, сюда же лично выехал начальник Воронежского жандармского управления железных дорог ген. Кирсанов.
Миновать эту станцию о. Илиодор не мог: оттуда была прямая ветка на Поворино-Царицын. Поэтому жандармы правильно рассудили, что поджидать беглеца следует там.
Однако в Грязях произошло нечто странное. «На этой станции к нам в купе вошел какой-то человек, молча посмотрел на нас и записал что-то в записную книжку», – рассказывал о. Илиодор. Этим визитом дело и ограничилось. Путешественники беспрепятственно продолжили путь.
Оплошность или сострадание к гонимому священнику? Сам Труфанов утверждал, что ген. Кирсанов нарочно позволил ему ускользнуть под влиянием своей супруги. Как бы то ни было, Кирсанов упустил беглеца, за что был немедленно уволен.
После таинственного визита, почувствовав «что-то недоброе», путешественники заперли дверь и решили, что о. Илиодор будет изображать больного, а его спутник – врача, везущего своего пациента лечиться на Кавказ. Под этим предлогом никому не открывать.
Маскарад запоздал. В 5 час. вечера начальник царицынского железнодорожного жандармского отделения ротм. Ежов получил телеграммы от двух коллег одинакового содержания: Илиодор едет переодетый в Царицын. Через час явился уездный помощник начальника Саратовского губернского жандармского управления ротм. Тарасов, сообщивший Ежову свои сведения о предполагаемом приезде священника в 9 час. вечера.
Состоялся любопытный диалог между неопытным в таких делах Ежовым и давно наблюдавшим за о. Илиодором Тарасовым. Выяснилось, что у Ежова есть предписание не допускать беглеца в Царицын, но и не прибегать к мерам насилия. Очевидно, это распоряжение пришло из Петербурга, а не из Саратова, раз оно было неизвестно Тарасову. Ежов сознался, «что он не понимает, как можно такое предписание выполнить». Достойный помощник полк. Семигановского тут же изобрел решение: «на это я ему ответил, что раз Илиодор едет переодетым, то это можно использовать, а именно – арестовать его для установления личности, да и вообще, добавил я, с ним церемониться в случае надобности нечего». Затем Тарасов посоветовал принять меры, чтобы о. Илиодор не проделал остаток пути на лошадях, а Ежов возразил, что «гоняться за ним не может».
Словом, деликатная миссия, требовавшая чудес изобретательности, досталась ленивому человеку… если только он не был тайным сторонником о. Илиодора!
В 9 час. вечера ротм. Ежов выехал экстренным поездом навстречу поезду №6.
Тем временем о. Илиодор подъезжал к своему Царицыну. На печальной памяти станции Иловля к брату присоединился выехавший навстречу поезду Александр.
Оставались последние 20 верст. Тут, на станции Гумрак, священник и услышал этот звон…
«Вдруг слышу здесь по вагону знакомый мне звук жандармских шпор. Я сразу понял, что теперь все пропало».
Как же обострился слух у несчастного о. Илиодора!
В поезде ротм. Ежову указали, где едут подозрительные «двое, из которых один не выходит из купе и прячет лицо от кондукторов». Ротмистр постучал в дверь, назвал себя. Один из младших братьев отворил и начал лепетать о больном, которого нельзя беспокоить. Газеты живописали, как о. Илиодор лежал в синих очках, закутанный пледами и платками, и притворно стонал. Однако ни он сам, ни ротмистр впоследствии не упоминали о таких подробностях, за исключением очков. «Я был, как я раньше говорил, в синих очках и в шапке; я полулежал на диване, а в другой местной газете написали, что я лежал в углу, свернувшись клубочком, но врут они, клеветники проклятые!».
По-видимому, в купе было темно, потому что жандармы стали светить электрическим фонарем в лицо, прикрытое синими очками.
– Не вы ли о. Илиодор? – спросил Ежов.
Отпираться было бессмысленно, и священник ответил утвердительно.
– Вам в Царицын ехать нельзя. Не желаете ли перейти в другой вагон? И мы повезем вас, куда вам угодно.
– Нет, благодарю вас. Меня возили один раз по всей России, а теперь я желаю ехать только в Царицын и больше никуда не поеду.
Словом, повторялся февральский диалог с полк. Семигановским. Но ротм. Ежов не обладал его железной волей и вежливо продолжил уговоры:
– Так выходите, пожалуйста, на платформу, и мы с другим поездом скорее довезем вас до Царицына.
Конечно, в жандармский поезд о. Илиодор не пошел. Но, наученный горьким опытом, и в старом купе не остался. Потребовал открыть дверь, причем не на платформу, где «очень много любопытных», а по другую сторону поезда. Выпрыгнул и пошел пешком по шпалам, захватив часть багажа. На вопрос, куда он идет, ответил, что в Городище ночевать у местного священника. По-видимому, это была отговорка.
Итак, 20 верст до Царицына или 10 верст до Городища. Отчаянное решение! Ночь, март, мороз, ветер, а одет о. Илиодор, конечно, был не для такого путешествия.
По некоторым сведениям, расставание иеромонаха с жандармами сопровождалось перепалкой: его пытались удержать, вырывали посох, а он то ли «размахивал посохом», то ли даже ударил одного из нижних чинов. «Царицынская мысль» не постеснялась написать, будто о. Илиодор лег на рельсы перед паровозом, снаряженным, чтобы отправить его обратно. Иеромонах назвал это сообщение «ложью проклятой».
Газеты писали, будто бы остальные пассажиры таинственного купе скрылись в темноте. Но при полном отсутствии интереса к ним со стороны жандармов бежать куда-то в темноту морозной ночи за 20 верст от города было бы опрометчиво. Гораздо правильнее добраться до Царицына и оттуда выслать за о. Илиодором лошадей. А добраться легче всего на том же самом поезде №6, который после задержки был благополучно отправлен к месту назначения. Келейник так и сделал.
Следы спутников на время теряются, уступая место единственной в своем роде картине. По шпалам идет о. Илиодор, эскортируемый двумя жандармами, а следом медленно едет экстренный поезд. На ходу священник горько пошутил, обратившись к одному из конвоиров:
– Винтовка у тебя есть?
– Нет.
– А револьвер?
– Есть.
– Ну вот, я побегу, а ты стреляй.
«Жандарм насторожился и как будто приготовился».
Сколько прошел о. Илиодор? На следующий день он говорил о 10 верстах, днем позже – только о 4-х. Однако со слов ротм. Ежова известно, что путник миновал разъезд Разгуляевка и пошел дальше. Сейчас между станциями Гумрак и Разгуляевка ровно 10 км, т.е. 9,4 верст. Кроме того, поскольку Ежов уехал из Царицына в 9 часов, а вернулся в 1 час ночи, то можно считать, что шествие заняло 2–3 часа. Этот расчет подтверждается сведениями «Царицынской мысли».
У Разгуляевки вместо того, чтобы свернуть в Городище, о. Илиодор пошел дальше. Стало понятно, что он идет в Царицын. Тут путника нагнал экстренный поезд. «Офицер стоит на площадке вагона и просит меня садиться. Я отказался было, но он дал мне слово, что меня повезет, куда я хочу. Даже в Царицын». Продрогший и усталый, о. Илиодор согласился, но в вагон не вошел, а примостился на ступеньках, рассчитывая спрыгнуть на ходу, если поезд поедет обратно. Поехали в сторону Царицына, но очень медленно. Священник заподозрил, что его спутники ждут распоряжений от начальства, и потребовал ускорить ход: «у меня ноги зябнут», угрожая иначе спрыгнуть. «Тогда поезд полетел птицей».
Вскоре поезд поравнялся с Французским заводом, где жил о. Михаил Егоров. До Царицына оставалось три версты. По словам ротм. Ежова, здесь его пассажир потребовал остановиться и заявил, что пойдет на завод. Напротив, о. Илиодор утверждал, что поезд сам надолго остановился, очевидно, ожидая инструкций начальства. Заподозрив неладное, священник спрыгнул со ступенек и пошел пешком. За ним последовали вахмистр и унтер-офицер, а также кондуктора с багажом. Сам ротм. Ежов поехал в город вместе с Александром Труфановым.
Тем временем поезд №6 с большим опозданием достиг царицынского вокзала. Там уже находился ротм. Тарасов. Выяснив, что беглец был высажен на ст. Гумрак, ротмистр поехал домой писать телеграмму о задержании о. Илиодора. Отправить не успел. В час ночи явился Ежов и «взволнованным тоном» рассказал, что произошло.
«На мой вопрос, где же Илиодор и не пошел ли он в город, куда навстречу ему брат вышлет лошадей, ротмистр Ежов ответил, что не знает, но куда он придет – вахмистр доложит; на мое замечание, что если он даже пошел на завод, то ведь это предместье и все равно что город, что к нему немедленно соберутся, т.к. [нрзб] монастыре его сегодня ждали и там священник Михаил Егоров, – он ответил, что до города он все же не допустил, а остальное его не касается».
Вообще действия ротм. Ежова в этот день поразительно нелепы для жандарма. Имея предписание не допускать о. Илиодора в Царицын, он дважды предложил священнику доставить его именно туда и, пожалуй, доставил бы, если бы тот не спрыгнул возле завода. Это халатность или сознательная попытка помочь беглецу? Скорее всего, и то, и другое.
Трудно было не сжалиться над несчастным иеромонахом, бредущим к своей пастве пешком в морозную ночь. К тому же если бы о. Илиодор прошел все 20 верст и, чего доброго, простудился, то Ежов выглядел бы в глазах илиодоровцев убийцей их пастыря. Поэтому оставалось только помочь ему выйти из бедственного положения, в которое сами жандармы о. Илиодора и поставили.
Со слов самого Ежова Тарасов объяснял его действия так: «Дать обратный ход ротмистр Ежов опасался, т.к. Илиодор мог спрыгнуть на ходу, ввести же его в вагон не считал себя вправе, ссылаясь на предписание, где сказано, чтобы к насилию в отношении Илиодора не прибегать». Недаром Ежов с самого начала не понимал, как выполнить это предписание.
В сущности, ротмистр выполнил его буквально: не допустил беглеца в город (оставил в 3 верстах от города), не прибегая к насилию. О. Илиодор был совершенно прав, когда утверждал, что «ротмистр Ежов дело свое исполнил, только деликатно обошелся, как со священником». А пастве даже сказал: «Этот ротмистр Ежов обращался со мной очень вежливо. Спасибо ему, дай ему Господь здоровья и дай ему Господь дослужиться до большого чина».
Деликатность ротмистра тут же была наказана: через несколько дней Ежов был уволен за допущение о. Илиодора в Царицын. Сам того не желая, Ежов будто откликнулся на призыв, обращенный в Иловле к полк. Семигановскому, – поплатиться службой, чтобы не причинить вред священнику.
Когда царицынская история закончилась, о. Илиодор обратился за помощью к камер-юнкеру А. Э. Пистолькорсу: «Ротмистр Ежов дело свое исполнил, только деликатно обошелся, как со священником. Жена и двое детей захворали от скорбей, похлопочите». Однако, по-видимому, связи не помогли, поскольку 21.V при аудиенции о. Илиодор ходатайствовал за Ежова лично перед Государем: «Я, Ваше Императорское Величество, читал послужной список ротмистра Ежова, где видно, что он в Прибалтийском крае в 1905–1906 гг. был несколько раз разгромлен и имущество его все сожжено до последней нитки; это человек – жертва долга, страдающий напрасно с молодой женой и двумя детьми-малютками».
Хлопоты возымели действие. Ежов получил место, а затем повышение (с переводом в другой город), за что остался благодарен иеромонаху и впоследствии, случайно с ним встретившись на станции Филоново, счел долгом вместе с семьей посетить его в поезде.
Французский завод или завод ДЮМО находился в 2? верстах от железной дороги и 3 верстах к северо-востоку от Царицына. Здесь стояла недостроенная церковь, где служил верный сподвижник о. Илиодора о. Михаил Егоров. Сейчас тот, предупрежденный о приезде друга, ждал его в монастыре с двумя сотнями богомольцев.
В час ночи о. Илиодор добрался до заводской церкви, разбудил сторожа, приказал ему открыть дверь, прошел в алтарь и стал молиться. В 2? час. зашел вернувшийся из города о. Михаил. Вместе они вышли в его квартиру, а через 10–15 мин. о. Илиодор вернулся в храм, окруженный толпой собравшихся уже богомольцев, и местных, и городских.
Около двух часов ночи с завода были отправлены несколько телеграмм – Государыне с просьбой о милости, а также преосвященным Парфению и Гермогену, одинакового содержания, сообщая, что по «важной причине» выехал в Царицын, но «захвачен властями» и «крест за истину готов понести до смерти». У еп. Парфения просил прощения «за самовольную отлучку», а еп. Гермогену писал: «Или помогите, или не препятствуйте».
Тем временем ротм. Тарасов и исправник Брещинский сидели у последнего и ждали лошадей, чтобы поехать на завод для ареста о. Илиодора. Однако после телефонного донесения о заводских событиях поняли: «задержать Илиодора уже нельзя, т.к. во-первых он в церкви, а во-вторых если бы и вышел, то арест его вызовет неминуемое сопротивление толпы». Доложили начальству, выставили наблюдение и стали ждать.
О. Илиодор потом рассказывал, что в ту ночь молился «до рассвета». Отчасти это подтверждает ротм. Тарасов, упоминая в своем рапорте, что священник оставался в церкви до 7 часов утра, «совершая богослужение». За это время в его голове созрел такой план: «вот на следующий день соберется сюда ко мне много народа, и я с ним торжественным крестным ходом, с крестом, прямо приду в Царицын». Поэтому о. Илиодор командировал в монастырь о. Михаила, чтобы вызвать к себе прихожан, прося явиться в числе 2-3 тысяч человек.
В 7 часов утра о. Илиодор все в том же кольце толпы пошел отдохнуть в дом о. Михаила. Окна закрыли ставнями, незнакомых не впускали. На улице собралось свыше тысячи богомольцев. Им объявили, что предстоит крестный ход в город. Для о. Илиодора принесли облачение и крест.
В 7 час. 15 мин. о. Илиодор отправил в Синод длинную подробную телеграмму. Вероятно, работа над этим документом началась еще в Новосиле (о нем дважды говорится «здесь»), продолжилась в Москве в соавторстве с Плетневым (чувствуется рука политического публициста), а завершилась на Французском заводе. Тот же текст вскоре попал в газеты под видом интервью.
В начале своего прошения о. Илиодор объясняет мотивы, по которым счел возможным вернуться: 1) расследование царицынского дела, которое полиция поведет предвзято, запугивая свидетелей; 2) сохранение царицынского настоятельства. В конце прибавляется третий мотив: «здесь же в Новосиле сейчас прямое дело делать нельзя». «Прямым делом» священника о. Илиодор считает пастырскую работу, противопоставляя ее обделке «мертвых камней», т.е. строительству и ремонту храмов.
Теперь он возвращается к «возлюбленным детям», страдающим без него и нравственно, и от внешних притеснений. «Делайте со мной, что хотите, но я от Царицына теперь не поеду и не пойду никуда». «Дела, врученного мне самим Богом, я добровольно не оставлю». Следует длинное путаное обоснование права на неподчинение Св. Синоду, которое, по мнению о. Илиодора, в его случае окажется не бунтом, а «стоянием за правду». «Я не бунтарь, не мятежник, я только истинный слуга церкви, Вашего Святейшества, Царя и народа».
С обычной непосредственностью о. Илиодор подпускает несколько шпилек своим адресатам: «Зачем же владыка митрополит Антоний кладет на мои молодые плечи то, носить что он меня не учил, когда я был в Петербургской академии иноком»; «одни духовные руководители народа русского не хотят, не могут, а другим не дают заботиться об обработке живых камней – народных бессмертных душ», а затем смиренно заканчивает свое обращение так: «Простите, благословите, поклон вам до земли. Послушник иеромонах Илиодор».
Такая же телеграмма была отправлена митр. Антонию. Кроме того, о. Илиодор написал Государю, что не может расстаться со своей паствой.
Утром о. Илиодор понял, что напрасно вызвал паству на завод.
Полиция неусыпно искала возможность арестовать беглеца. К месту событий были стянуты все местные полицейские силы, выставлено наблюдение из переодетых городовых и одного жандармского унтер-офицера. Надзиратель завода А.Н. Розов в сопровождении городовых заходил за о. Илиодором в церковь и ломился за ним же в дом о. Михаила, но отовсюду изгонялся. «Если нужно, так сломайте дверь, – героически заявил о. Михаил незваным гостям. – У меня не преступник какой-нибудь, а иеромонах Илиодор, наш всероссийский проповедник».
Поэтому иеромонах все больше беспокоился о предстоящем крестном ходе, опасаясь столкновения между полицией и богомольцами: «мне представилось, что меня и весь окружающий меня народ встретят солдаты, окружат, станут стрелять, произойдет страшное кровопролитие». Действительно, попытка ареста священника прямо во время шествия привела бы к трагедии.
В 8 час. утра о. Илиодор телеграфировал своим друзьям – Сазонову в Петербург и Плетневу в Москву: «Предотвращайте великую беду», как будто те были в силах мгновенно повлиять на царицынские власти. Позже упоминал о телеграмме преосв. Гермогена, умолявшего его отказаться от крестного хода, поскольку все будут расстреляны. Такую же уверенность о. Илиодор не раз выражал и от себя лично, очевидно, памятуя о печальном случае 10 августа 1908 года, когда богомольцы подворья были разогнаны отрядом казаков.
Однако местные власти – исправник Брещинский и ротм. Тарасов – вовсе не желали столкновения с богомольцами, и потому в 7 час. 50 мин. исправник доложил губернатору, что не допустить о. Илиодора с крестным ходом в Царицын невозможно.
Тем не менее, о. Илиодор, не жалея красок, писал потом обер-прокурору, будто «на Французском заводе полиция безжалостно издевалась».
Тем временем к царицынской битве присоединился еще один участник – новый саратовский губернатор Стремоухов. Он въехал в губернию почти одновременно с о. Илиодором и получил первое известие о его бегстве через три часа после прибытия в Саратов. Однако не растерялся. Доложив Курлову о происходящем на Французском заводе, Стремоухов прибавил: «опасаюсь осложнений, необходимы решительные меры в отношении ослушника». Иными словами, зная о толпе и о крестном ходе, понимая возможность столкновения с богомольцами, он тем не менее просил полномочий на арест священника.
Кроме того, в тот же день 12.III Стремоухов встретился с еп. Гермогеном, который обещал помочь, предполагая вызвать о. Илиодора в Саратов. После этого губернатор доложил в министерство: «Имею некоторую надежду на благоприятный исход, но на случай неуспеха прошу полномочий».
После долгого молчания в 2 час. 55 мин. дня товарищ министра отправил ротм. Тарасову подробные инструкции: не допустить о. Илиодора в Царицын и в монастырь, не допустить скопления народа около завода, вывезти беглеца лошадьми на ближайшую станцию, там потребовать вагон и доставить священника до ст. Грязи. «Если Илиодор не пожелает подчиниться вашему требованию, заявите ему, что он будет отправлен силой, но сами в этом направлении не принимайте мер до прибытия полковника Семигановского или начальника губернии. Если Илиодор в храме, то примите меры к недопущению туда народа. Если возможно, войдите в соглашение с настоятелем храма, чтобы он убедил Илиодора оставить церковь, куда затем его более уже не допускать». Игнорируя сведения о собравшейся уже толпе, Курлов требует не допускать скопления народа. Эта телеграмма запоздала часов на двенадцать.
Св. Синод в тот же день предписал саратовскому преосвященному убедить беглеца вернуться, не позволяя ему совершать богослужения в пределах Саратовской епархии, а также решил просить светскую власть «просить об оказании содействия к недопущению иеромонаха Илиодора в г. Царицын и к водворению его в Новосильский монастырь Тульской епархии». Длинная телеграмма о. Илиодора не растрогала отцов Синода. Они лишь заинтересовались ссылкой на пресловутый указ о двойном настоятельстве и затребовали объяснений у тульского преосвященного.
Вслед за этим епископы Парфений и Гермоген поочередно телеграфировали о. Илиодору настоятельное требование вернуться в Новосильский монастырь, грозя лишением сана. Преосв. Гермоген, как и обещал губернатору, просил беглеца заехать в Саратов по пути в Новосиль.
Утром в монастыре объявили о приезде о. Илиодора, и в заводской поселок хлынули новые потоки богомольцев – всего собралось 10 тыс. чел. Приехало духовенство, привезли хоругви и иконы для предстоящего крестного хода. Но о. Илиодор уже понял, что от этой идеи придется отказаться, и лихорадочно размышлял: «нельзя ли будет как-нибудь мне одному пробраться в монастырь».
Дальнейшие события требуют пера Дюма-отца, но придется ограничиться карандашом ротм. Тарасова. Согласно его рапорту, около 10 часов о. Егоров съездил в город и привез оттуда икону, около полудня толпе объявили, что крестный ход будет после богослужения. Из квартиры о. Михаила вышел «монах, похожий на Илиодора» и отправился в храм, сопровождаемый толпой.
«Монах, похожий на Илиодора»! Вероятно, это был один из его братьев.
«…когда двинулась за иконой толпа, то к заднему выходу со двора квартиры Егорова подъехал извозчик, которых стояло вокруг до 80, со двора вышли четыре женщины, закутанные в большие платки, две из них вели еще одну под руки, по-видимому, больную, также закутанную в большую шаль-платок; больную положили на середину повозки и прикрыли, а остальные четверо сели по бокам повозки».
Потом Сергей Труфанов будет уверять, что в тот миг полиция отошла погреться на солнышке. Но кроме обычных стражников за домом следили переодетые чины полиции, и женская процессия от них не укрылась.
«Бывшие в наблюдении городовые Козлов и Солдатов видели все это, – продолжает ротм. Тарасов, – Козлов даже спросил у близ стоящих, что это такое, на что получил ответ, что к батюшке привозили душевнобольную; так как привоз к священникам больных здесь явление частое, то городовые и не придали этому должного значения, тем более что видели идущего за иконой монаха и не допускали мысли, чтобы Илиодор мог скрыться переодетым».
Бедные благочестивые городовые, которым не могло прийти в голову, что священник унизится до переодевания!
Сам о. Илиодор уверял, что не помнит, как переместился из дома о. Михаила в монастырь. На следующий день рассказал пастве, что у него была рвота и сильное головокружение, в забытье он почувствовал, что его голова окутана чем-то черным и мягким, ощутил тряску, а очнулся от прикосновения к своему лбу холодной железной двери монастырского храма. В других случаях предпочитал кратко говорить, что был перенесен «чудом Божией Матери», икону Которой привез на завод о. Михаил.
Дурнота и забытье вполне объяснимы после бессонной ночи, вместившей в себя долгое путешествие по шпалам и затем многочасовую молитву. Но, судя по рапорту Тарасова, о. Илиодор шел до повозки, следовательно, был в сознании. Да и сам он однажды написал: «Вспомнивши корзинку Апостола Павла, я хитростью проник в свой монастырь, хотя в светскую одежду не переодевался».
Исчезновение о. Илиодора обнаружил надзиратель Розов. Войдя в храм, он увидел, что служит кто-то другой. Доложив исправнику, наведался к о. Михаилу. Тот не позволил Розову войти, но заявил, что о. Илиодор находится здесь и придет в церковь. Надзиратель понял, что дело неладно, расспросил лиц, стоявших на улице, и от одного из торговцев узнал о загадочной повозке. Вдогонку послали стражников, но беглеца не поймали. По слухам, преследователи дважды проезжали мимо той самой повозки, не догадавшись о ее пассажире.
Вскоре о. Михаил объявил богомольцам об отъезде о. Илиодора в монастырь и сам повел туда крестный ход с иконой.
Через несколько дней Розов был уволен по распоряжению губернатора.
Около 2 час. дня о. Илиодор наконец вернулся в свою обитель: «Я приехал к вам, дети мои, и останусь здесь навсегда».
Прежде всего он вошел в храм и отслужил благодарственный молебен. Затем обратился к богомольцам, которых к тому времени собралось 4 тыс. чел., с речью:
«Божья Матерь совершила чудо: Она наложила повязку на глаза сторожившей полиции, дав мне возможность перенестись сюда. Она предотвратила преждевременную нашу смерть, ибо если бы я вышел с крестным ходом, то полиция в нас стреляла бы, убивая своих братьев».
«Несмотря на запрещение правительства я, по воле Божией, опять здесь и теперь отсюда никуда не пойду. Меня два раза захватывали в пути обманным образом и поступали со мной как с разбойником, употребляя грубую силу, и если со мной и теперь так сделают, то я поступлю, как Иоанн Златоуст. (В толпе раздаются голоса: не дадим тебя, батюшка). Повторяю, что добровольно из Царицына никуда не пойду и буду жить здесь до гробовой доски».
Исполняя приказ ген. Курлова (телеграмма в 2 час. 55 мин.), ротм. Тарасов посетил о. Илиодора в 6 час. и потребовал выехать из Царицына, получив категорический отказ. Конечно, это требование, имевшее определенный смысл на Французском заводе, в монастыре было тщетно.
Вечером, в канун Крестопоклонной недели Великого поста, в обители отслужили всенощное бдение при огромном стечении народа – 6 или 7 тыс. чел., словом, полный храм. Богослужение началось в 7 час. и закончилось в 12? час. ночи. В проповеди о. Илиодор охарактеризовал свое сопротивление Синоду как стояние за правду, несение креста вслед за Спасителем.
«Я тоже страдаю! Тоже гоним за правду, оклеветан, высмеян. Унижен, переношу нравственные заушения, меня два раза арестовывали жандармы как разбойника, но только арестовали не здесь, не в этой святой обители, а обманным образом в дороге! И вчерашнюю ночь я под арестом жандармов должен был легко одетый, в темную ночь, в сильный мороз под холодным леденящим ветром пройти пешком 10 верст по железнодорожным шпалам. Но это пустяки, я готов пройти еще не 10 верст, а 1000 верст пешком» – потому что «гоним за правду».
«Из Санкт-Петербурга Св. Синод прислал мне известие, что если я не выеду из Царицына, то меня расстригут и предадут суду. Святые отцы! Делайте, что хотите, я иду по стопам Спасителя, беру на себя крест Его и иго». Напомнив, что с Христа тоже сдирали ризы, о. Илиодор объявил, что предпочтет остаться в своем монастыре простым иноком, а проповедь продолжит в письменной форме. Покинет же обитель лишь в том случае, если его свяжут и вынесут.
Как видим, все проповеди о. Илиодора в этот день увековечены дословно, поэтому Стремоухов поступает опрометчиво, уверяя читателей, будто священник именно в этот день говорил, что Столыпина надо драть розгами по средам и пятницам.
И в этот вечер, и при других случаях о. Илиодор неизменно обосновывал свое право не подчиняться Св. Синоду следующими положениями:
1)
решение Синода о его переводе несправедливо. «Такое начальство, которое само нарушает законы, творит неправду, я за начальство не признаю и признавать его, пока жив, не буду!». В противном случае он «не только не заслуживал бы звания пастыря стада Христова, но даже звания христианина». О. Михаил Егоров однажды выразил эту же мысль так: «Распоряжение незаконное. Может быть, Синод прикажет иконы рубить»;
2)
поскольку Синод действует под давлением светской власти, то неподчинение в данном случае есть неподчинение этой светской власти. «Говорил и теперь говорю, что святыню вашу почитаю, благоговею пред нею как высшей церковной властью, руководимой Духом Святым, но чиновничьему, противному Богу, засилью, особенно проявленному в царицынском деле, не подчинюсь, что угодно претерплю, но добровольно не подчинюсь вместе с Иоанном Златоустом. … Ваше Святейшество, я готов трудиться везде, где вы, а не светские чиновники прикажете. Я готов трудиться и в Новосили»;
3)
он борется не только за себя но, главным образом, за принцип свободы Церкви и вообще за правду. Личные упорство, задор или гордость не при чем. «Во мне гордости никакой нет! и я только стою за правду. Я хочу только пострадать, сколько угодно будет [нрзб] моим врагам! Пусть это они слышат!».;
4)
поэтому сопротивление о. Илиодора нельзя считать бунтом. «Совесть моя чиста, она говорит мне: ты стоишь за правду».
Обращение Св. Синода за помощью к министру внутренних дел развязало руки светским властям. Поздно ночью ген. Курлов наконец дал Стремоухову полномочия, которых он неоднократно в этот день просил: «Во исполнение приказания г. министра благоволите, ваше превосходительство, выехать лично в Царицын и принять меры к возвращению Илиодора в Новосиль силой, предварительно согласившись с преосвященным Гермогеном». Губернатору поручалось стянуть в город полицию, «очистить подворье и церковь от народа», но самого о. Илиодора брать лишь тогда, когда владыка убедит его снять облачение и покинуть храм, «так как введение полиции в храм недопустимо».
Получив полномочия, губернатор тут же, в 1 час ночи, распорядился собрать в Царицыне всю конную стражу уезда, 40 конных стражников из Камышинского уезда и 50 пеших из Саратова.
Одновременно Курлов, получивший ложные сведения, будто о. Илиодор «не в храме, а гуляет по Царицыну», повторил свой приказ ротм. Тарасову доставить священника на первую станцию и оттуда в отдельном вагоне отвезти в Новосиль. Поэтому с 13.III жандармы держали наготове паровоз, вагон и тройку лошадей.
Потом Стремоухов будет вешать всех собак на Курлова, который-де склонял бедного губернатора штурмовать монастырь, и даже процитирует якобы полученную телеграмму: «Предлагаю к неуклонному и немедленному исполнению. Прикажите наряду полиции ночью войти в монастырь, схватить Илиодора. Заготовьте сани и шубу и по Волге отправьте его в X.» Курлов действительно дважды приказывал ротм. Тарасову произвести подобную операцию, но каждый раз требовал, чтобы задержание происходило на нейтральной территории. Кроме того, документы показывают, что губернатор сам просил полномочий, рисуя положение в мрачных красках («На мирный исход не надеюсь») и настаивая на «решительных мерах».
Какие «решительные меры» мог принять Стремоухов, видно уже из тех двух его проектов, которые увековечены в его мемуарах – запретить подвоз в монастырь продуктов и арестовать о. Илиодора на собрании, оттолкнув священника от еп. Гермогена в руки агентов.
Воскресным утром 13.III после обедни о. Илиодор «произнес проповедь чисто религиозного содержания, призывая к смирению», а затем объявил, что вечером после акафиста «скажет свою обычную духовно-патриотическую беседу, а может быть скажет и необычную беседу».
Вечером собралось до 10 тыс. чел., заполнивших, кроме храма, коридоры, лестницы и двор. От духоты людям делалось дурно, их выносили.
Полицмейстер утверждал, что беседа носила «характер революционного митинга», и даже красному цвету облачения о. Илиодора приписывал какой-то тайный смысл.
Свою длинную беседу иеромонах начал с рассказа о том, как бежал из Новосиля и добрался до Царицына. Затем объяснил положение дел приблизительно так.
Император Петр Великий заменил Патриарха Синодом во главе со светским чиновником. «Поэтому теперь в Синоде не слышно голоса церкви, которой руководит сам Дух Святой, а слышно только голоса Столыпиных, Лукьяновых, Татищевых и Семигановских! … Все эти чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми делами, лезут в совершенно чуждые им дела духовные», а потому «проиграли Японскую войну, а теперь, пожалуй, проиграют и Китайскую, чего, конечно, не дай Господи». В свою очередь, члены Синода «правду Христову променяли на бриллиантовые кресты, звезды и спокойное житье и исполняют все незаконные дела светских владык». «Такой чиновный Синод я проклинаю! За Святейший Синод не признаю и повелениям его повиноваться не желаю».
О. Илиодор объявляет Синоду «священную и беспощадную брань» «за свободу церкви православной», веря, что «церковь синодальная» (то есть, очевидно, синодальный строй) «зашатается и будет побеждена».
Он не считает себя преступником.
– Я не бунтую, не убиваю, а страдаю за что – говорите.
– За правду, батюшка, – дружно закричала толпа.
Он не боится репрессий со стороны как духовных, так и светских властей. «Сюда едет сейчас целый вагон жандармов и начальства. Только [нрзб] что они будут здесь делать. В монастырь я их не пущу. Пусть они разобьют сначала все монастырские стены и тогда только могут связать меня». Что до снятия сана, то о. Илиодор не верит, чтобы обер-прокурор мог отнять у него благодать, данную при хиротонии. «Когда меня посвящали в священники, то обводили три раза вокруг престола и архиерей возлагал мне на голову руки и молился о ниспослании на меня благодати Св. Духа, а расстричь меня хотят одним росчерком пера светского чиновника-сюртучника, накурившегося табаку».
В случае лишения сана о. Илиодор намерен, по «древнему обычаю святых отцов православной церкви, утвержденному вселенскими соборами», жаловаться «епископу другой земли», а именно Константинопольскому Патриарху Иоакиму III.
Покамест о. Илиодор пригласил паству оставаться вместе с ним в монастыре или хотя бы приносить провизию для тех, кто остается. Кроме того, объявил, что с завтрашнего дня запирает ворота обители и будет пускать только своих богомольцев, а полицию, сыщиков и подозрительных не пустит.
Вопрос о сыщиках его особенно беспокоил. Он неоднократно распоряжался закрыть двери, а когда вывели очередного больного, почувствовавшего дурноту, – закричал: «Какие там больные, это не больные, а сыщики; вот я затворю двери, да и пересчитаю всех, тогда мы и увидим, больные это или сыщики».
Свою героическую речь, скорее подходящую к лицу донскому казаку, чем смиренному иноку, о. Илиодор произнес «с сильным возбуждением, каковое передавалось и всем присутствовавшим», и закончил словами «С нами Бог! Аминь!», а затем приказал хору запеть «Спаси Господи люди Твоя».
Тем же вечером (в 9 час. 10 мин.) насельник монастыря иеромонах Гермоген телеграфировал преосвященному в ответ на его просьбу уговорить настоятеля вернуться в Новосиль: «Владыко святый! Отец Илиодор непреклонен. Все уговаривали. Соглашается сана лишиться. Народ охраняет. Иеромонах Гермоген».
В полночь с 13 на 14.III монастырские ворота были заперты. Очевидно, о. Илиодор предвидел новую попытку своего ареста. К вечеру железнодорожные служащие уже, вероятно, доложили священнику, что «спициально» под его персону заготовлен экстренный поезд с прислугой. Этот поезд вообще сыграл огромную роль в «царицынском стоянии», молчаливо свидетельствуя о серьезных намерениях властей.
Ожидая, что попытка ареста приведет к повторению событий 10 августа 1908 г., о. Илиодор делился с паствой «печальным предчувствием»: «не сегодня – завтра в храме этом произойдет нечто ужасное, потому что слишком много появилось у нас врагов, все восстали против нас, и мы должны быть готовы на все.
Через пару дней среди богомольцев прошел слух, будто о. Илиодор получил ответную телеграмму от Иоакима III, следствием чего должен был стать разгон Синода. На самом деле священник, вероятно, не пытался и писать в Константинополь, поскольку намеревался это сделать лишь после указа о лишении сана.
На следующий день после объявления войны у о. Илиодора было некоторое колебание. Возможно, в связи с телеграммой, полученной из Петербурга: «Послушнику Александру. Мужайтесь, просите губернатора, пусть просит властей оставлении. Батюшка пусть ручается спокойствие». По крайней мере, священник постарался успокоить свою взволнованную паству и сам немного успокоился.
В 11 час. утра о. Илиодор объявил, что обитель снова открыта, и попросил паству не вмешиваться в случае его ареста. В три часа повторил эту просьбу, однако прибавил, что, мол, «когда его понесут, то их дело», получив в ответ: «Не выдадим». Наконец, вечером обратился к народу со следующим кратким словом: «Сюда едет сейчас по моему делу саратовский епископ Гермоген и ожидается московский митрополит. Враги мои оклеветали меня перед Государем и наговорили, что у меня в здешнем монастыре происходит разврат и творятся всякие безобразия. Что у меня нет никаких поклонников. Вы сами видите, что это неправда! Поклонников у меня много и никаких безобразий нет. Прошу вас только молиться и вести себя как можно тише и скромнее!».
В тот же день о. Илиодор дал яркое доказательство своей способности к послушанию, телеграфировав (в 1 час. 22 мин.) преосвященному Гермогену: «Дорогой владыка, из вашей телеграммы видно, что Синод запретил мне служить. Если так, то, конечно, я служить не буду. Правил соборных и апостольских нарушать не дерзал и не дерзну. Простите. Послушник иеромонах Илиодор». Действительно, с этого дня он перестал служить и даже проповедовать, ограничиваясь краткими обращениями к богомольцам «с амвона, а то просто на ходу».
Но колебание было недолгим. Монастырь окружила полиция. Прошел слух о телеграмме Курлова с предписанием арестовать о. Илиодора в 24 часа. Газеты уверяли, что перед вечерней службой священник насмехался над «слишком легкими перьями», которыми подписывают приговоры светские власти, и грозился послать им «перо в тридцать пудов весом». Во всяком случае, очевидно, что сущность распоряжения Курлова о применении силы стала известна илиодоровцам.
Уже вечером 14.III о. Илиодор снова распорядился закрыть ворота. Такого порядка придерживались и в последующие дни: на ночь монастырь запирался, причем посторонние лица изгонялись, а утром открывался.
При открытых воротах о. Илиодор старался находиться в алтаре, куда полиция пока не осмеливалась войти. Здесь за шкафом находился лаз в подземную келью, где иеромонах рассчитывал укрыться в случае нападения. В алтаре выбили окно, чтобы пустить врагов по ложному следу.
В свою келью о. Илиодор переходил по коридору, не выходя даже во двор. «Я две недели не показывался на Божий свет и даже не ходил по земле», – жаловался он впоследствии. Тем более не выходил за ворота, памятуя, как его «выманили» в Сердобск: «не выйду из монастыря, если даже меня будет звать отец родной». От алтаря до кельи священника провожала толпа, не давая полиции приблизиться к нему.
На случай штурма кельи в ней был разобран потолок, а на крыше приготовлена веревочная лестница, чтобы спуститься в пономарку и оттуда пробраться в храм.
Таким образом, все возможные опасности были предусмотрены, и неприятель получил бы добычу лишь в том случае, если бы догадался ловить ее в двух местах одновременно.
«Народ охраняет», – писал о. Гермоген, и народ действительно охранял своего пастыря, как мог, дежуря при нем день и ночь. В первую же ночь с 13 на 14.III в монастыре осталось ночевать несколько сот богомольцев, в следующую – от 600 до 1000 человек, по разным оценкам. На следующий день здесь было до 7 тыс. чел., «преимущественно женщин», а на ночь остались певчие и до 2 тыс. богомольцев. О. Илиодор просил, чтобы оставались больше мужчины, так что дело принимало серьезный оборот. Полицмейстер докладывал губернатору, что «приверженцы иеромонаха Илиодора решили, в случае его арестования, воспротивиться этому силой».
Караульщики ночевали прямо в храме. Кое-кто оставался здесь и днем.
«Среди церкви, в которой совершается богослужение, стоят молящиеся, вокруг них расположились на полу ярые поклонники, по большей части, женщины.
Тут же груды различных съестных припасов, сосуды с молоком, водой и квасом», – писал один репортер.
Другие илиодоровцы дежурили снаружи, занимая оба монастырские двора.
«Монастырь теперь – настоящий бивуак», – отмечал другой.
Таким образом, о. Илиодор находился под защитой крепких монастырских стен и своих верных чад. «…взять меня – нужно разрушить мой монастырь до основания, а ведь Царицын – не Иловля и монастырская крепость, наполненная народом, – не вагон пустой железнодорожного поезда».
В тот же вечер 13.III, когда о. Илиодор объявил свою священную брань, из Саратова в Царицын выехала делегация – губернатор и полк. Семигановский, только в субботу вернувшийся из Петербурга. Они приглашали и преосвященного, но он предпочел ехать отдельно, чтобы не казалось, что архиерей действует под их давлением. «Ни мои просьбы, ни перспектива ехать в удобном директорском вагоне не разубедили Гермогена».
Тем не менее, перед отъездом губернатор получил от преосвященного «обещание вывезти Илиодора из монастыря при условии, что тот не будет подвергнут задержанию». «Вывезти» – не опечатка, поскольку повторяется и в другой телеграмме Стремоухова. Следовательно, владыка намеревался не «вывести» священника из храма для передачи светским властям, а увезти из города, оберегая от нового ареста.
Стремоухов и Семигановский приехали в Царицын поздним вечером понедельника 14.III. Поначалу губернатор ничего умнее не придумал, как послать за о. Илиодором полицмейстера. Тот вернулся один и передал Стремоухову приглашение в монастырь. Этот визит не представлял для губернатора-новичка, в отличие от ненавистного народу Семигановского, никакой опасности. На худой конец, можно было бы дождаться преосвященного и посетить ослушника вместе с ним. А составить личное мнение об о. Илиодоре было куда как полезно. Но Стремоухов не поехал в монастырь, сочтя полученный ответ «прямой дерзостью» и заботясь больше о престиже власти, чем о плодах ее деятельности. Поэтому при дальнейших распоряжениях смотрел на о. Илиодора глазами газетных репортеров и полицейских чинов.
В мемуарах Стремоухов утверждает, что на следующий день полиция намеревалась арестовать ослушника, но тот приказал своим поклонникам изгнать «фараонов» из церкви, что толпа немедленно и сделала. Едва ли этот эпизод, к которому мемуарист по ошибке приплетает имевшую место зимой голодовку, произошел именно в такой форме. Несомненно, полиция присматривалась, нельзя ли как-нибудь арестовать священника, а тот неоднократно высказывался против ее присутствия. Но попытки ареста не могло быть ввиду инструкции Курлова о недопустимости введения в храм полиции и обещания самого губернатора «выжидать воздействия епископа, если Илиодор в церкви».
В соответствии с распоряжениями Курлова Стремоухову оставалось не принимать никаких мер по отношению к священнику, дожидаясь, когда это сделает архиерей. Поэтому план обрисовался в таком виде: владыка выводит ослушника из монастыря и увозит из города, причем «в том же поезде будет следовать полк. Семигановский для арестования Илиодора в случае попытки бежать в пути».
Стремоухов вспоминал, что «с нетерпением ожидал приезда Гермогена», рассчитывая на его помощь.
Оставалось еще, согласно начертанной Курловым программе, «очистить подворье и церковь от народа», и губернатор распорядился не допускать в монастырь «новых посетителей».
Полиция приступила к исполнению этого приказа вечером 15.III. Первыми с новым порядком столкнулись приехавшие вскоре из города о.о. Михаил и Порфирий. Они застали любопытную картину – монастырские ворота охранял снаружи лично полицмейстер в паре с городовым. Оказалось, что Василевский хотел войти, но илиодоровцы, заперевшись на ночь, не сделали исключение даже для него.
Полицмейстер заявил священникам, что не пропустит их в монастырь: «Что это за ночные моления!». После препирательства разрешил пройти о. Порфирию, который, как-никак, шел домой, и тогда «о. Михаил прорвался за ним».
Тем же вечером полиция пыталась не пропустить певчих, а наутро – богомольцев, пришедших на службу. За народ заступился все тот же о. Михаил, иронически поинтересовавшийся у полицейских чинов, «не завоевана ли Россия Китаем» и «не отданы ли храмы в аренду евреям». Настояния священника вкупе с угрозой обратиться к губернатору возымели успех, и полиция уступила.
После этого губернатор не стеснялся телеграфировать министру (19.III), что после возвращения о. Илиодора «никакого препятствия стечению народа в монастырь не было».
14.III преосвященный Гермоген получил от Синода предписание «самолично воздействовать на иеромонаха Илиодора в видах незамедлительного отбытия его к месту служения и, буде окажется нужным, подвергнуть иеромонаха Илиодора врачебному исследованию в состоянии его психического здоровья». Впрочем, еще накануне владыка заявил Стремоухову, что выезжает в Царицын на следующий день.
Перед отъездом еп. Гермоген переслал Синоду телеграмму о. Илиодора о его решении не служить, вероятно, желая расположить священноначалие в его пользу. Кроме того, попросил предоставить время для воздействия, «так как в кратчайший срок – 24 часа или двое суток – справиться с такой сильной натурой как отец Илиодор, к тому же в такой момент, когда он убит тяжким горем и скорбью, считаю весьма затруднительным».
Другой телеграммой владыка известил о своем предстоящем приезде о. Илиодора, а тот сообщил пастве.
Преосвященный не хотел въезжать в Царицын на одном поезде с губернатором и Семигановским, но по оплошности железнодорожных чинов чуть было не произошло еще более скандального инцидента. Начальник станции Поворино решил прицепить вагон с вызванной губернатором стражей к тому самому вечернему поезду, которым следовал владыка. То-то картина была бы на царицынском вокзале! К счастью, Боярский вовремя спохватился и принял меры.
Владыка приехал утром 16.III. О. Илиодор выслал паству его встречать, но сам, по понятным причинам, остался в монастыре: «попав на вокзал, пожалуй, совсем уедешь отсюда». Кроме того, о. Илиодор сказал, что и в храме встречать архиерея не будет, не желая расстраивать этой встречей ни его, ни себя, а просто будет сидеть, запершись в келье, пока его не оставят здесь навсегда.
Почему же о. Илиодор не хотел видеть своего архипастыря? Потому что твердо решил остаться в Царицыне и не желал слушать никаких увещеваний. Однако в силу глубокой привязанности к преосвященному боялся огорчить его отказом.
Прямо с вокзала преосвященный поехал в монастырь и отслужил там молебен. Богомольцы встретили владыку коленопреклоненной просьбой о помощи. Преосвященный сначала не отвечал, но после богослужения обратился к пастве, которой собралось до 10 тыс. чел., с кратким словом:
«Дети мои! Знаю, насколько велика для вас потеря Илиодора и перевод его в другой монастырь, но вы знаете, как мучились и страдали евреи в Египте. Они, в конце концов, вышли все-таки победителями. Мы сейчас также находимся в Египте бедствий, несчастий и напастей. Будем молиться и просить заступничества Пресвятой Богородицы; Она нам поможет, и мы также останемся победителями».
По неоднократному употреблению местоимения «мы» и по горестному тону речи чувствуется, что преосвященный и сам скорбел. Он даже сознался Косицыну и другим илиодоровцам: «Я сам не меньше вас страдаю». Однако откровенно заявил, что ничего не может сделать.
Владыка был глубоко встревожен присутствием полиции вокруг подворья и внутри него. Еще на перроне он «в повышенном тоне» заявил полицмейстеру: «Если в монастыре есть полиция, я туда не поеду». Затем он увидел ее там своими глазами и, кроме того, узнал от илиодоровцев, что положение гораздо серьезнее: в частности, богомольцы не допускаются в церковь. Поэтому он несколько раз обратился к полицейским чинам, требуя уменьшить наряд до 4–5 человек и не препятствовать людям приходить молиться. При этом еп. Гермоген просил полицеймейстера не вмешиваться в дела монастыря, поясняя, что за все отвечает о. настоятель.
Жалобы илиодоровцев на действия полиции звучали фантастически: Косицын и его товарищи убеждали владыку, что монастырь оцеплен, что храм полон сыщиков и т.д. Еп. Гермоген отказывался в это верить. С самого начала он «громко даже запретил им говорить об этом, заявляя во всеуслышание, что это неправда и ложь». После молебна, встретившись с ними наедине в пустовавшей келье о. Илиодора, «преосвященный убеждал некоторых лиц из духовных детей батюшки не доверять ложным слухам о чрезмерном дозоре за монастырским подворьем и сыске в нем со стороны полиции. При этом владыка категорически заявил всем присутствующим, что он всю надежду свою возлагает на помощь Божию, а не на людей». Но собеседники были убеждены в своей правоте: «Владыко, вы не знаете, что делается вокруг монастыря».
Как ни странно, приехав для увещания о. Илиодора, владыка с ним-то и не повидался. В алтаре его не оказалось. После молебна преосвященный отправился искать иеромонаха в его келье, но и там его не застал.
Где же был о. Илиодор? Он осуществил свой план, заготовленный на случай нападения, – нырнул в подземную келью и отсиживался там до отъезда еп. Гермогена, после чего немедленно появился на амвоне.
Не произошло встречи и на следующий день, 17.III, когда владыка отслужил в монастыре молебен, сказав народу: «Придет время, и слезы наши в радость обратятся».
О. Илиодор не хотел видеть еп. Гермогена, а тот, по-видимому, не решался настаивать. Как отмечал газетный сотрудник, «оба они боятся тяжести встречи».
Синоду владыка объяснил, что просто не представилось случая увидеться с о. Илиодором: «он не служит, не проповедует, согласно данной мною запретительной телеграмме, притом болен».
Вечером 16.III еп. Гермогена посетил губернатор. Владыка повторил свое обещание вывезти ослушника из города, но поставил два условия: 1) отсрочка; 2) невмешательство гражданской власти, причем пригрозил, что в противном случае уедет. Вероятно, именно при этой встрече было сделано упомянутое на следующий день Стремоуховым «категорическое заявление» преосвященного, «что полиции Илиодора он не выдаст». Впрочем, таков был план епископа Гермогена с самого начала переговоров с губернатором.
Так для преосвященного начались дни, которые он впоследствии назвал «царицынским стоянием».
Сострадая о. Илиодору, преосвященный Гермоген, тем не менее, видел свою задачу в примирении обеих сторон – полиции и богомольцев. Но губернатор рассчитывал, что владыка займет его сторону. «…по-видимому, – писал преосвященный, – полицейские власти этого именно и ожидали, чтобы я стал во главе лиц, руководящих полицией, для ускорения ареста иеромонаха Илиодора… лица, стоявшие во главе полиции, хотели, по-видимому, лишь того, чтобы я решительно и бесповоротно действовал только в сфере полицейских задач».
Не получив от преосвященного ожидаемой помощи, губернатор заподозрил его в ведении двойной игры. Дескать, тянет время, ожидая помощи из Петербурга, а на удалении полиции настаивает с целью «устранить свидетелей и свалить свою ответственность на администрацию, мешающую ему работать».
Ввиду позиции, занятой преосвященным Гермогеном, оставалось либо арестовать о. Илиодора самым кощунственным образом, прямо в храме, либо постепенно отступить. Но губернатор-новичок не мог позволить себе начать свою деятельность в Саратове с поражения.
С каждым днем положение принимало все более угрожающий характер.
«Не заводить же в самом деле было кровопролитие из-за строптивого монаха», – писал потом М.О. Меньшиков. Но по некоторым признакам можно было заключить, что власти готовы и к этому.
Снова приехал Харламов (21.III). «…я сам, в сущности, не знаю, для чего я здесь», – сознался он губернатору. Но одно присутствие вице-директора Департамента полиции уже доказывало серьезность намерений властей.
Полиция оцепила монастырь снаружи и дежурила в самой обители, внимательно следя за происходящим. Однажды полицмейстер пытался задержать закутанную в шаль женщину, подумав, что это о. Илиодор снова бежит переодетым.
В числе богомольцев были и тайные агенты полиции. Например, гражданская жена сотрудника Иванова оставалась в монастыре почти на каждую ночь. Илиодоровцы утверждали, что некоторые сыщики «переодеваются в женское платье, есть [нрзб] женщины, которые ходят сюда, все выслушивают и высматривают и сообщают газетам, а одна девушка лично докладывает полицмейстеру».
Вызванные губернатором стражники продолжали прибывать в Царицын, «двигаясь с окраин города как-то незаметно, пешком».
Среди илиодоровцев ходили упорные слухи, что на подмогу полиции прибыли казаки, которые до времени спрятаны по частным домам отрядами по 40–50 человек. 22.III после молебна о. Михаил сказал: «Возле монастыря, в каком-то дворе стоят 40 казаков, которых поят водкой и это ради Великого поста-то!». О. Илиодор утверждал, что видел из окон своей кельи не только усиленные наряды полиции, но и «бравых казаков, которых для чего-то напаивали пьяными до бешенства». Очевидно, подразумевалось, что трезвый казак против о. Илиодора не пойдет. О. Михаил даже уверял, что два казачьих отряда, один в 180 человек, другой в 120, отказались повиноваться начальству и осквернять храм.
Спустя два дня после приезда (18.III) преосвященный решил лично проверить слухи об оцеплении подворья полицией и казаками. По ироническому выражению репортеров, епископ обошел монастырь дозором. Когда владыка, сопровождаемый двумя священниками и тремя десятками илиодоровцев, вышел за ворота, то сразу же наткнулся на группу полицейских чинов во главе с полицмейстером и его помощником. Присутствие властей в поздний час (10 или 12 час.) выглядело подозрительно.
«Зачем вы окружили монастырь полицейскими и казаками?» – спросил преосвященный Василевского. Тот ответил, «что кроме тех двух-трех полицейских чинов, которых он тут видит, больше никого нет». «А вот пойдем посмотрим», – заявил владыка и направился дальше. За ним, кроме прежней свиты, последовала и полиция – полицмейстер, его помощник, пристав и несколько околоточных надзирателей.
Позже преосвященный писал, что в ту ночь нашел вокруг монастыря «массу полиции», а Василевский, наоборот, докладывал, что кроме их группы никаких других чинов здесь не оказалось. Возможно, под «массой» подразумевается именно эта группа.
По пути илиодоровцы принялись в очередной раз уверять владыку, что по соседним домам спрятаны отряды казаков. Тут кто-то сказал: «Ну-ка, идите, посмотрите». Преосвященный и полицмейстер приписывали эти слова друг другу. Так или иначе, несколько илиодоровцев побежали в соседний дом, обнаружили там какого-то обывателя, который спросонья ухватился за железный шкворень, и приволокли под руки к архиерею: вот, дескать, поймали вооруженного человека! Вышел большой конфуз, потому что этот субъект оказался вовсе не казак, а чернорабочий Кичишкин.
После этого вечера царицынские газеты расписывали, как преосвященный руководит илиодоровскими хулиганами, а губернатор поспешил донести министру внутренних дел, что владыка «едва не вызвал кровавого осложнения своим отношением к полиции, контролируя ее присутствие близ монастыря». Илиодоровцы же продолжали верить, что вокруг монастыря прячутся казаки. Двумя месяцами позже и сам владыка напишет об этом слухе как о действительном факте.
По свидетельству преосвященного Гермогена, все население Царицына ожидало «какого-то надвигающегося неминуемого бедствия». «Мы были в ожидании страшных событий, мы были накануне этих страшных событий, может быть накануне кровавых событий. В эту святую обитель уже простирали свои руки окровавленные люди, которые может быть сознательно, а может быть и бессознательно не хотели понять нас или притворялись, что не понимали».
Видя приготовления, но не зная намерений властей, илиодоровцы готовились к худшему. Ожидали, что о. Илиодора выкрадут через крышу или, наоборот, открыто ворвутся в храм и арестуют.
Положение, в котором оказался монастырь, преосвященный Гермоген характеризовал как «своего рода облаву», а о. Михаил – как «осаду».
Неужели Стремоухов решился перейти грань, отделяющую охранение порядка от кощунственного насилия над священником, находящимся в храме? В официальных бумагах губернатор отмечал, что полиции немного: «численность чинов полиции непосредственно при монастыре весьма незначительна при огромном стечении народа». Только непосредственно? А вокруг? Губернатор признавал, что кроме «ничтожного наряда на подворье днем» существует еще, «возможно, скрытый в окрестностях монастыря более значительный ночью для предотвращения побега Илиодора». Недаром илиодоровцы так верили в легенду о спрятанных казаках!
Кроме того, Стремоухов докладывал министру, что «весьма корректная деятельность» полиции «ограничивается наружным наблюдением за подворьем» и «сосредоточенная по вашему распоряжению в Царицыне полиция доныне не использована, не демонстрировалась, никаких приготовлений к нападению на монастырь отнюдь не делалось». Позже доводы губернатора были воспроизведены Столыпиным: «Некоторое сосредоточение в Царицыне полицейской стражи имеет своей исключительной целью поддержание в городе порядка и спокойствия, особенно ввиду значительного скопления народа, на что указывает и преосвященный Гермоген».. Таким образом, светские власти решительно отрицали приписываемые им намерения применить силу.
Тем не менее, у сложившегося положения была любопытная сторона. Преосвященный неоднократно говорил, что духовенство и миряне фактически находятся под арестом, «в некоторой искусственно созданной тюрьме», что монастырь «совершенно превращен в арестный дом», и таким образом вопрос искусственно переносится на политическую почву. С о. Илиодором и его богомольцами обращаются как с мятежниками, желая выставить их политическими преступниками. Налицо «картина искусственно изображаемого полицейским режимом городского бунта».
Действительно, в глазах общества царицынский монастырь выглядел как оплот бунтовщиков. «Голос Москвы» даже размещал телеграммы и сообщения о действиях о. Илиодора под заголовком «Царицынский мятеж».
Пока власти делали свои угрожающие приготовления, илиодоровцы тоже не сидели сложа руки, будучи настроены весьма решительно. «Скорей вы разорвете Илиодора на части, чем возьмете его живого», – заявил о. Михаил 16.III.
Последний сильно выдвинулся за время «царицынского стояния». Бросив приход, он рвался в бой за своего друга, благодаря чему стал едва ли не главным персонажем рапортов полицмейстера.
Не уступавший о. Илиодору ни по силе темперамента, ни по резкости выражений, о. Михаил своими речами и действиями еще более обострял положение в то время, когда сам иеромонах слишком обессилел для сопротивления.
Особенно серьезные меры были приняты на подворье после важнейшего решения Синода 18.III (об этом далее). Монастырь перешел на осадное положение: сторожевые патрули у ворот и вдоль стен, вооруженные караулы у всех выходов, новые засовы в алтаре, веревки от колоколов спущены во двор на случай набата. Комендантом крепости стал о. Михаил, а разводящим – один отставной солдат. Стража комплектовалась из числа илиодоровцев. «…у нас своя монастырская полиция», – говорил о. Михаил. То и дело звучала просьба духовенства, чтобы в храме оставались на ночлег преимущественно мужчины. Появилась особая «дружина» – группа личной охраны о. Илиодора числом 13 человек. Многие сторожевые и телохранители были набраны из ломовых извозчиков и брусовозов, отличавшихся большой физической силой.
С 19.III ворота монастыря закрылись не только на ночное, как раньше, но и на дневное время, за редкими исключениями. Как правило, вход допускался лишь через калитку и только для своих. Среди допущенных илиодоровцы порой проводили дополнительную проверку, выискивая незнакомых, репортеров и полицейских чинов. Неизменно проверяли лиц, остающихся ночевать в храме.
Несколько происшествий – обвал статуи, принятый за нападение казаков, слух о появлении провокаторов, попытка вооруженного субъекта добиться встречи с о. Илиодором – доказали бдительность этой импровизированной крепости.
Проведя для корреспондента «Русского слова» экскурсию по монастырю, о. Михаил с удовлетворением заключил: «Нами все предусмотрено, все заготовлено. Приняты на случай нападения все меры. Взять отца Илиодора, как видите, будет нелегко. Ведь войско у нас тоже свое имеется».
О.о. Илиодор и Михаил неоднократно обращались к народу, прося поддержки в случае нападения. В ответ слушатели неизменно уверяли, что постоят за своего пастыря. Защитники монастыря были готовы биться «до последней капли крови». Например, Андрей Ковалев «сильно желал умереть за спокойствие обители и за батюшку Илиодора, которого он, как Ангела Божия, несказанно любил».
Наконец, некоторые гарантии безопасности о. Илиодора давало присутствие архиерея. «Царицынская мысль» передавала следующий диалог преосвященного со своим подопечным, будто бы имевший место на амвоне в ночь с 21 на 22.III:
– Если вы боитесь, то я останусь в монастыре.
– Нет, я никого не боюсь. Со мной много верного народа…
Позже о. Илиодор писал, что боялся в эти дни не за себя, а за своих защитников – «за судьбу моих возлюбленных духовных детей, невинных святых младенцев, кротких, мирных русских людей, ибо я уже видел 10 августа 1908 года».
Если раньше караульщики-добровольцы могли уходить домой обедать, то теперь, когда выход и вход был затруднен, возник вопрос об организации их питания в монастыре. К счастью, доброхоты подвозили для них провизию, порой в огромных количествах. Сам преосвященный Гермоген пожертвовал с этой целью 40 пудов хлеба. Часть съестных припасов пришлось хранить в монастырской канцелярии.
Илиодоровцы либо просто раздавали богомольцам провизию, либо приглашали их в трапезную, либо расставляли столы в монастырском дворе.
По ночам в храме читали Псалтирь или, для разнообразия, что-нибудь об о. Илиодоре – газетные заметки, выдержки из «Правды об иеромонахе Илиодоре» – любопытной брошюры, привезенной заглавным героем из Москвы. По сведениям газет, однажды в роли чтеца выступил преосвященный.
Картину ночного бдения илиодоровских защитников изображает «Царицынский вестник»: «В храме народ расположился по всему полу: остались свободными только небольшие дорожки среди массы лежащих и сидящих человеческих тел. Заняты были даже свечные ящики. Одни спокойно спали, другие, расположившись кружками около чайников с кипятком, пили чай, третьи занимались чтением газеты и духовно-нравственных произведений, особенно интересовались книжечкой "Видение монаха". В центре храма поместились певчие и по временам пели церковные песнопения».
Из этого описания видно, что число добровольных защитников о. Илиодора по-прежнему было огромно. По словам той же газеты, в ночь на 24.III в монастыре ночевало более 2 тыс. чел., в следующую – более 4 тыс. Одни ограничивались ночлегом, уходя утром на работу, другие жили здесь безотлучно. По оценке «Царицынской мысли», число последних достигало 200-300 чел.
Места в храме внизу не хватало, поэтому богомольцы заняли хоры, превратившиеся в «форменную ночлежку», и свободные монастырские помещения – типографию, странноприимный дом. «Дружина» дежурила в канцелярии ввиду ее соседства с кельей о. Илиодора, спала на полу и свободных столах.
Несмотря на боевой дух илиодоровской паствы, пребывание тысяч людей на не приспособленной для этого территории не могло продолжаться долго. Газеты отмечали ухудшение санитарного состояния монастыря. Несмотря на холод, двери храма держали открытыми для проветривания.
Присутствие полиции в монастыре и особенно в храме илиодоровцами не поощрялось. Например, 24.III караульные не впустили на всенощную пристава и околоточного надзирателя. О. Михаил лично выгонял полицию из храма, не стесняясь в выражениях. «…священник Егоров, в присутствии молящихся, взяв околоточного надзирателя Кочана за рукав, стал выводить его из церкви, [нрзб] чтобы полиция и сыщики убирались вон отсюда».
Полицмейстер был в монастыре персоной нон грата и неоднократно оставался снаружи у ворот, потому что внутрь его не впускали.
Василевский докладывал начальству, что духовенство настраивает народ против полиции: «как иеромонах Илиодор, так и его креатура – священник Михаил Егоров, – по-видимому, не только в угоду епископу, но и с одобрения его всеми средствами возбуждают ненависть и вражду к полиции и стараются оскорбить ее на глазах у толпы».
Узнав о подобных обвинениях, о. Михаил демонстративно поинтересовался у монастырских богомольцев, правда ли, что он возбуждает народ своими речами, и получил отрицательный ответ.
В мемуарах Стремоухов уверяет, что преосвященный Гермоген стал идейным вдохновителем сопротивления монастыря против властей, призывая народ «сплотиться около иеромонаха и грудью защищать его от возможности какого бы то ни было над ним насилия» и даже сам «заявил, что не допустит ареста Илиодора и что он встанет между ним и слугами сатаны и не даст им дотронуться до святого человека, ограждая его Святым Крестом… пусть только дерзнут к нему прикоснуться». Ничего подобного в полицейских рапортах нет, и сам Стремоухов в те дни лишь глухо писал, что «образ действий преосвященного … возбуждает толпу против власти», а его неприязненное отношение к полиции «усиливает враждебное настроение». В действительности подобные заявления («я первый подставлю свою грудь») не раз делал о. Михаил Егоров.
В дни противостояния между Василевским и о. Михаилом произошло несколько публичных перебранок.
18.III они поспорили из-за запертых монастырских ворот.
– Что вы фантазируете? Зачем настраиваете народ? От кого вы стережете батюшку? Никто его не хочет брать.
– Что вы мне рассказываете? Как же нас со ст. Иловля увезли обратно?.
Уже через несколько часов они бранились снова. Это было в ту фантастическую ночь, когда процессия из илиодоровцев и полицейских чинов ходила вокруг монастыря во главе с преосвященным. О. Михаил жаловался владыке на полицию, а Василевский – на о. Михаила. «Да, я не пущу полицию в храм, там ей нечего делать», – кричал священник.
На требование Василевского указать конкретные случаи некорректного поведения полицейских чинов о. Михаил напомнил, как в храме недавно появились два подозрительных субъекта, один из которых, имея при себе револьвер, добивался встречи с о. Илиодором, а второй, положив себе на голову крест, хотел войти в алтарь. По мнению священника, это были сыщики. Полицмейстер возразил, «что оба эти лица никакого касательства к полиции не имеют».
Преосвященный Гермоген, неожиданно оказавшись в роли арбитра между двух противников, напомнил, что у илиодоровцев есть причины для опасений: «Мы все напуганы 1908 г., когда полиция здесь била нагайками и топтала мирно настроенную богомольную толпу, и естественно, что в данное время все, находясь под старым впечатлением, боятся повторения этого». Затем владыка призвал полицейских чинов к миролюбию, отметив таковое качество у илиодоровцев, словом, осторожно намекнул полиции, что виновата именно она.
Вскоре (20.III) за воротами монастыря вновь разыгралась некрасивая сцена. О. Михаил, обращаясь к народу, стал вышучивать полицию, в ответ из толпы полетели прибаутки, и все это вынуждены были слушать находившиеся тут же в наряде полицейские чины. В конце концов пристав не выдержал и сделал священнику замечание, «что нехорошо место у подворья обращать в цирк».
Напряжение между двумя лагерями быстро нарастало, угрожая открытыми столкновениями.
На следующий день после приезда преосвященный Гермоген получил от Синода предписание «усугубить» воздействие на о. Илиодора. Возможно, эта телеграмма и побудила владыку наконец встретиться с ослушником.
Встреча стала возможной благодаря тому, что в своей подземной келье, оказавшейся сырой, о. Илиодор заболел ревматизмом – «простудил руки и ноги» – и был вынужден вернуться в прежнее жилише.
18.III еп. Гермоген совершил в монастыре литургию, очевидно, преждеосвященную, и затем пришел в келью о. Илиодора. Их встречу народная легенда рисовала так: «приехал архиерей, стучится: "Милосердный Илиодор, отвори!". Батюшка отворил, а архиерей бух ему в ноги».
Преосвященный провел в келье настоятеля два часа. «Ввиду своей болезни иеромонах Илиодор отнесся к моим увещаниям неопределенно», – докладывал владыка в Синод. Встреча положила начало длинной череде таких бесед.
Действительно это были увещания или собеседники искали выход из своего сложного положения – сказать трудно. Официальную версию изложил епархиальный миссионер М. Л. Радченко в «Колоколе»: «Епископ Гермоген, зная о. Илиодора и теперешнее состояние его духа, действует осторожно, исподволь, и постепенно склоняет отца Илиодора к послушанию, на которое он принципиально соглашается». Принципиально – то есть Синоду, а не светским чиновникам. Сам владыка писал, что был занят воздействием на «чувства глубоко-нравственной обиды и негодования в настроении иеромонаха Илиодора», вследствие чего в нем «уже стало возникать живое чувство снисходительного и мирного отношения к причиненным ему обидам и нравственному несчастью». О. Илиодор позже выразил роль еп. Гермогена так: «он в момент царицынского церковного стояния ободрял меня, утешал и молитвами своими горячими окрылял душу мою силой благодатной».
Сложно судить и о состоянии здоровья о. Илиодора. Преосвященный рисовал положение в самых мрачных красках: «он действительно весьма болен, все время теперь лежит в постели в келии, его причащают Святых Таин. Он опасается, как бы не пришлось ему умереть на пути; он сильно желает в случае смерти быть погребенным в основанном им монастыре». Но, в сущности, подобная картина уже наблюдалась в вагоне экстренного поезда полк. Семигановского, и вообще в последнее время о. Илиодор начинал демонстративно готовиться к смерти каждый раз, когда оказывался в затруднительном положении.
Стремоухов был убежден, что болезнь фиктивна, указывая, что 1) «лишь получив телеграмму Синода, епископ объявил Илиодора больным» и 2) священник остается на ногах, порой даже выходит в храм: «полицмейстер видел его сегодня в окне кельи, а 16-го им произнесена крайне резкая речь». Но «епископ объявил Илиодора больным» не после телеграммы Синода, а после того, как, побужденный этой телеграммой, впервые повидался с ослушником и увидел его физическое состояние. Очевидно, о. Илиодор мог ходить, и в черновике своей телеграммы владыка сначала писал: «все время почти лежит в постели в келии». Поэтому выводы губернатора, не имевшего возможности встретиться со священником лично и судившего по косвенным признакам, ошибочны.
Несомненно, о. Илиодор был болен. Он вообще отличался очень слабым здоровьем, а нынешние скорби и строгий пост – он теперь питался только просфорами – подточили его силы. Но лежал он в своем затворе не столько по болезни, сколько с горя. Очень точно состояние священника описал Радченко: «о. Илиодор, бледный, худой, изможденный, скорбный телом и душой, пребывает в тесной келии, изредка по мере возможности, в качестве простого богомольца, посещает церковные службы». И то лишь самые важные службы: например, в субботу 19.III он находился в алтаре во все время всенощного бдения, а на следующий день присутствовал за обедней.
Изредка о. Илиодор выходил к богомольцам и говорил им пару слов – рассказывал новости, интересовался, как приверженцы его охраняют, следят ли за сыщиками. Однажды искал свидетелей, которые могли бы подтвердить, что его перевод – следствие подкупа. Это были краткие обращения, а не настоящие проповеди, потому что проповедовать о. Илиодору было запрещено так же, как и служить.
Желая избежать кощунственного решения вопроса об о. Илиодоре, губернатор стал давить на духовную власть. 17.III он попросил министра воздействовать на преосвященного Гермогена через Св. Синод: либо поставить краткий срок для увещания, либо вовсе отозвать из Царицына, чтобы не мешал применению силы. Столыпин немедленно передал эту просьбу обер-прокурору.
Заслушав письмо министра внутренних дел, Синод назначил еп. Гермогену последний срок для увещеваний – завтрашний день. При неудаче надлежало руками духовенства удалить о. Илиодора из храма и передать светским властям для доставления в Новосильский монастырь.
Рекомендованный прием вл. Гермогену пришелся совсем не по душе: «…нельзя допустить такого грубого полицейского насилия над о. Илиодором, тогда нужно арестовать и меня». Поиски исполнителей ни к чему не привели. Духовенство отказалось от этой неблагодарной роли. «Мы, священники, Илиодора выводить не будем, преступлений он не совершал, и никому его не дадим, – заявил о. Михаил на подворье. – Пусть святые отцы Синода приезжают сами и выводят. А кто будет его брать, того я первый вышибу из алтаря». Сам же иеромонах 19.III объявил народу, что «живым не дастся».
На телеграмму Св. Синода преосвященный Гермоген ответил незамедлительно, доложив о болезни о. Илиодора, с которым в тот самый день наконец повидался.
Понимая, что источником гонений на о. Илиодора является вовсе не Синод, преосвященный Гермоген 19.III обратился к председателю Совета министров с выразительной телеграммой:
«Тысячи народа со слезами непрестанно молятся в царицынском мужском монастыре. Народ совершенно спокоен, как дитя, а раздраженная полиция готова уже напасть на монастырь и силой взять иеромонаха Илиодора. Неизбежны тяжкие последствия. Душа моя стонет при представлении возможных ужасов. Если все это зависит и происходит от Вас, то да запретит Вам Всемогущий Господь! Я же не могу долее выносить мучительной скорби и удрученного душевного состояния, навеваемых искусственно созданной здесь со стороны местной администрации и ею поддерживаемой тяжелой атмосферой духовно-нравственного гнета и раздражения, поэтому оставляю Царицын. Вынуждаюсь затем самолично объясниться по сему пред Особой Его Императорского Величества и пред Святейшим Правительствующим Синодом».
Копию этой телеграммы владыка отправил губернатору вместо ответа на его запрос, когда о. Илиодор будет вывезен из Царицына или передан властям.
И в этот раз, и неоднократно в дальнейшем преосвященный Гермоген намеревался поехать в Петербург: около 21.III владыка даже вызвал своего эконома о. Вострикова в Москву, а 30.III уже приказал прицепить свой вагон к поезду, – но каждый раз менял решение и оставался в Царицыне. Преимущества личного ходатайства перед Государем и Синодом таяли по сравнению с угрозой ареста о. Илиодора властями, которых, может быть, останавливало только присутствие архиерея. Однажды богомольцы даже обратились к преосвященному Гермогену с просьбой не ездить в Петербург, выставляя именно этот мотив. К тому же прошел слух о будто бы отданном приказе задержать преосвященного, не допуская его в столицу.
Со своей стороны Стремоухов 19.III послал министру две телеграммы с нападками на преосв. Гермогена.
В первой, ночной, губернатор обвинял преосвященного в том, что он «побуждает» о. Илиодора к «непокорности», уклоняется от переговоров, т.е. от увещеваний, вместе с иеромонахом обманывает Синод мифом о болезни, препятствующей отъезду, и, наконец, «сегодня вечером едва не вызвал кровавого осложнения» при ночном обходе вокруг монастыря.
Вечером, получив копию телеграммы преосвященного на имя Столыпина, губернатор, глубоко возмущенный тем, что ответственность за предстоящую трагедию возлагают на него, разразился пространной телеграммой, докладывая министру, что полиции мало и она вовсе не готовится к нападению на монастырь. «Не желавши исполнить распоряжение Синода, епископ все свалил на полицию и местную администрацию, которая в лице моем, лице новом, непредубежденном, терпеливо, с надеждой и доверием, которого он не оправдал, давала ему действовать. … Полагаю, другой епископ, не предубежденный, беспристрастный, мог бы выполнить миссию Синода и, работая совместно со мной, предотвратить всякие осложнения».
В последующие дни (20 и 22.III) губернатор вновь бомбардировал министерство телеграммами, указывая, что в присутствии преосвященного ничего сделать не может.
Под давлением Стремоухова, чьи жалобы незамедлительно передавались обер-прокурору, Синод уже 19.III, заслушав утреннюю телеграмму губернатора Тем же днем члены Синода под влиянием утренней телеграммы Стремоухова, обсудил тактику еп. Гермогена, с неодобрением отмечая, что он косвенно поддерживает иеромонаха. Поэтому было решено отозвать преосвященного из Царицына, если поручение не будет выполнено до полуночи. 21.III Синод предписал владыке «незамедлительно» вернуться в Саратов (зачеркнуто: «для принятия непосредственного участия в делах епархиального управления»).
В том же заседании 19.III Синод постановил предоставить властям, если иеромонах Илиодор находится вне храма, отвезти его либо в Новосиль, либо в Казань для помещения в лечебное заведение. Однако губернатор сообщил министерству, что перехватить о. Илиодора вне церкви невозможно, а если бы и удалось, то все равно светские власти его арестовать не могут, потому что он носит на себе запасные Дары, и любое физическое насилие даст повод обвинять полицию в кощунстве.
Радченко описывал образ жизни о. Илиодора в эти дни так: он «не служит, не проповедует, не управляет монастырем, живет, как послушник в заточении». На деятельной натуре священника это вынужденное затворничество отражалось плохо. Ночью 19.III он вышел из алтаря, сел на ступеньки солеи и пожаловался ночевавшему в храме народу: «Я слишком устал, сил нет!».
Между тем переговоры с преосвященным продолжались. 19.III владыка приезжал в монастырь дважды – днем целый час провел в келье настоятеля, а вечером прибыл под конец богослужения и в течение 20 мин. находился в алтаре, где уже был о. Илиодор. На следующий день, по одним сведениям, прошел вместе с ним в келью и пробыл там 2 часа, по другим – зашел к нему в алтарь с четырьмя священниками, вместе с которыми уговаривал ослушника ехать в Новосиль.
Следствием переговоров стала телеграмма, которую преосвященный отправил митрополиту Владимиру 21.III в 1 час. 25 мин. пополуночи. Она начиналась так: «Иеромонах Илиодор выражает готовность возвратиться в Новосиль, просит предоставить ему некоторое время для подкрепления крайне ослабевшего здоровья». Далее следовало процитированное выше описание болезненного состояния священника, который-де «опасается, как бы не пришлось ему умереть на пути».
Правда ли это или маневр, чтобы выиграть время? Смерть в пути едва ли грозила о. Илиодору: несмотря на болезнь, он оставался на ногах, а путешествие предстояло короткое и комфортное, даже не в 3-м классе, а в вагоне экстренного поезда. Кроме того, первый вариант этой телеграммы, сохранившийся в бумагах преосвященного Гермогена, называл поводом для отсрочки не физическое недомогание, а «нервное расстройство».
Одновременно владыка тянул время другим способом – обещая Синоду прислать то более подробную телеграмму, то письменное донесение. «Обещанный мною во вчерашней телеграмме обстоятельный доклад заканчиваю. Завтра утром протелеграфирую его. Несколько замедлил по не зависящим от меня обстоятельствам».
Тем временем о. Илиодор вернулся к проекту строительства монастырских катакомб. 19.III, после всенощного бдения, иеромонах впервые поделился своим планом с паствой. Спустя сутки, за полтора часа до отправки преосвященным телеграммы о подчинении о. Илиодора якобы покорившийся инок вновь вышел к богомольцам и уточнил, что рытье пещер под монастырем начнется после Пасхи: «я первый возьмусь за лопату». Очевидно, в Новосиль священник все-таки не собирался, намечая планы дальнейшей жизни в автономном состоянии.
Любопытно, что ходили упорные слухи о намерении о. Илиодора переметнуться к старообрядцам, нуждающимся в монахах как потенциальных епископах. По сведениям некоторых газет, соответствующее предложение уже было сделано. Впрочем, поповцы открещивались от этого замысла, но допускали возможность его зарождения в среде беглопоповцев.
Царицынское стояние о. Илиодора старообрядцы одобрили, уловив в его бунте нечто родственное себе: иеромонах обличает иерархов со смелостью раскольников старых времен, а положение его монастыря напоминает «военные осады старообрядческих монастырей».
Сам он, как видно из его статьи 1907 г., отчасти сочувствовал старообрядчеству: «И теперь твоих верных детей называют раскольниками, удивляются их изуверности; смеются над ними за то, что они когда-то шли на смерть за бороду».
Пройдут годы, и он действительно к ним пристанет. Но пока он был тверд и даже, по некоторым сведениям, 18.III поклялся преосвященному Гермогену, что не намеревается перейти в старообрядчество. «Я ревностный сын православной христианской церкви. Родился православным и умру православным».
Слухи о старообрядческих видах на о. Илиодора привели к тому, что, кроме полиции, у защитников монастыря появился второй предполагаемый противник. 23.III после вечерней службы о.о. Алексий Протоклитов и Михаил Егоров попросили, чтобы на ночь осталось как можно больше мужчин, причем последний пояснил, что по его сведениям в храме присутствует отряд из 60 старообрядцев, вооруженных револьверами. Однако поиски этих лиц ни к чему не привели.
Другая версия слуха гласила, что вместе с иеромонахом перейдет (или уже перешел) в старообрядчество и еп. Гермоген. Этот слух был опровергнут неким близко стоящим к нему духовным лицом. Кроме того, губернатор запретил редакторам местных газет печатать соответствующие заметки.
Вскоре владыка созвал местное духовенство и мирян на совещание под громким именем «Царицынского православного церковного собрания». Пригласил и власти – губернатора, полицмейстера и исправника. Стремоухов, «конечно, решил не ехать» и отговорился нездоровьем. Но подчиненных отпустил туда, велев слушать и отмалчиваться.
Совещание состоялось в реальном училище, у директора которого В. В. Косолапова остановился преосвященный, и продолжалось 3? часа (по отчету полицмейстера) или даже 5 часов (по официальному журналу). Собрались все местные священники (25) и около 15 мирян обоего пола.
Заседание открылось речью преосвященного, который изложил присутствующим свой взгляд на положение о. Илиодора. «Он сделал весьма много духовного и нравственного добра, он трудился с необыкновенным усердием и замечательным успехом, и я считал его и считаю доселе лучшим моим сотрудником на ниве Христовой». Однако местное население, стоящее на «весьма низком уровне в религиозно-нравственном отношении», ненавидит о. Илиодора, «жидовская, подлая печать» его травит. Переведенный в Новосиль под давлением светской власти, он вернулся ради своих чад. Чуть позже владыка заметил, что привязанность к монастырю и духовным детям «по отношению к монаху можно было бы признать за немощь, все же заслуживающую снисхождения, но если всмотреться глубже в состояние духа иеромонаха Илиодора и его духовных детей, то мы вскоре заметим [нрзб] могучую силу духовно-нравственного союза в Боге между пастырем и пасомыми». По мнению преосвященного, принципиально о. Илиодор готов к послушанию и по требованию архиерея перестал служить и проповедовать. «Ведь этот поступок ясно говорит, что он в смысле повиновения духовной власти ? требования исполнил и исполнил бы остальную ? часть, если бы не требовали выполнения ее в 24 часа». Синод слишком жестко подходит к «больной истерзанной душе» о. Илиодора. «Я глубоко понимаю его душевное состояние и страдаю за него», – со слезами заключил преосвященный Гермоген.
Затем перешли к повестке. Первый вопрос, заданный архиереем, касался требования Синода об извлечении о. Илиодора из алтаря руками духовенства. «Быть может, кто-либо, из наличного состава присутствующих здесь отцов, возьмется за исполнение этой задачи?». Желающих не оказалось. Священники единодушно заявили, что эта мера неприменима как по существу, так и технически, поскольку толпа бросилась бы защищать пастыря.
Второй вопрос касался времени, за которое о. Илиодора можно привести к послушанию. Все сошлись на том, что такая тонкая и горячая натура требует деликатного обращения. О. Лев Благовидов заметил, что, «зная характер о. Илиодора, нужно признать, что убедить его в необходимости послушания в 24 часа положительно невозможно». Сам преосвященный полагал, что достаточно будет 10 дней, но после этого намеревался забрать его в Саратов хотя бы на две недели, «полечить его больную душу, измученную окружающей омерзительнейшей атмосферой».
Третий вопрос: бунтарь ли о. Илиодор? После ряда отрицательных ответов картину единодушия нарушил о. В. Мраморнов, припомнивший, как о. Илиодор бранил богачей и лесопромышленников, причем, по мнению оратора, делал это незаслуженно. Тогда преосвященный обратился с тем же вопросом к полицмейстеру, который, в соответствии с полученными инструкциями, отказался отвечать.
Наконец, способствует ли деятельность о. Илиодора развитию сектантства? Тут выяснилось, что среди окружающей его толпы есть лица, повредившиеся рассудком на религиозной почве, но по большей части это кликуши, которых нарочно свозят к знаменитому пастырю из деревень, уповая на силу его молитв. Монастырские же богомольцы веруют «в духе строго церковном».
В целом ответы на все четыре вопроса оказались благоприятны для о. Илиодора, что неудивительно, поскольку в большинстве высказывалось духовенство, подчиненное преосвященному Гермогену. Как выразились Стремоухов и Харламов, это были «терроризованные епископом священники». Впрочем, губернатору следовало пенять на себя: он ни сам не пришел, ни другим представителям власти не разрешил ничего сказать, поэтому обмен мнениями получился односторонним.
По-видимому, владыка и рассчитывал, что совещание выскажется в пользу о. Илиодора. Стремительно утрачивая доверие Синода, преосвященный поспешил заручиться поддержкой крохотного церковного собора.
Закрывая заседание, владыка указал на полицейский произвол, создавший вокруг о. Илиодора «смрадную и отвратительную атмосферу, от которой он задыхается». При этом произнес загадочную фразу: «если пристав, допустивший глумление над известной революционеркой Спиридоновой, был впоследствии революционерами расстрелян, то почему глумление над монахом допускается безнаказанно».
Много напутавший в мемуарах Стремоухов эту фразу процитировал по памяти почти дословно, намекая, что архиерей призывал отомстить властям за о. Илиодора. Однако делать это в присутствии полицмейстера и исправника было бы опрометчиво, да и из контекста видно, что речь шла только о полицейском произволе, примером которого стал случай со Спиридоновой. Вероятно, преосвященный хотел сказать, что если уж над революционеркой нельзя издеваться, то над монахом и подавно. Но не заметил, какой опасный смысл приобретает эта аналогия.
«Тяжкие последствия», предсказанные преосвященным Гермогеном 19.III, беспокоили и Стремоухова, тем более что как раз накануне он получил распоряжение Курлова: после отъезда архиерея прекратить доступ новых богомольцев в храм. Такие попытки уже делались. Но теперь, чувствуя, в каком свете владыка представит положение Государю, Стремоухов отметил, что в случае оцепления монастыря илиодоровцы ударят в набат и соберут своих сторонников, «из чего создастся дело, не имевшее прецедента в истории и поставящее правительству новое затруднение, на чем и построены все расчеты». Поэтому предложил повременить и подождать выражения воли Государя.
В мемуарах Стремоухов по памяти воспроизводит свою телеграмму еще красочнее: «Предварительно принятия мною мер к штурму православными войсками и полициею православного монастыря, защищаемого епископом православной церкви, с неизбежными кровавыми жертвами с обеих сторон, исчисляемыми сотнями людей, и тоже неизбежным святотатством, случая беспримерного в истории Российского государства, прошу испросить на сие предварительное Его Императорского Величества соизволение».
Через три дня, докладывая министру внутренних дел о собрании, состоявшемся в реальном училище и действовавшем «под непрестанным давлением епископа», Стремоухов и Харламов присовокупили вывод о том, «что епископ из Царицына сам не уедет, что в его присутствии принятие каких-либо мер для выдворения Илиодора невозможно, что инцидент с Илиодором разрастается до крупных размеров и принял характер открытого неподчинения самого епископа всякой высшей власти, как светской, так и духовной, что при таком положении вещей представляется необходимым принятие решительных мер против епископа Гермогена, недоступных для губернской власти». В очередной раз Стремоухов попытался свалить архиерея, втянув теперь в это дело еще и Харламова.
В ответ Курлов поспешил охладить пыл губернатора, телеграфировав ему, что депеша сообщена обер-прокурору и что гражданским властям не следует предпринимать никаких действий до решения Синода.
Для публики это извещение повторила официозная «Россия»:
«В различных изданиях мы встречаем самые фантастические сведения о том, что происходит в Царицыне, а главное о предположениях и намерениях гражданских властей. Говорят, будто бы имеется в виду "осадить" монастырь, будто бы "все никак не удается арестовать о. Илиодора" и т.д.
Все это основано, очевидно, на россказнях, обращающихся к толпе, окружающей о. Илиодора, которая, по-видимому, в самом деле ждет какой-то "осады" и готовится к "гонениям". В действительности, о. Илиодор является нарушителем велений церковной власти, а следовательно, только ее ведению, согласно закону, и подлежит».
23.III преосвященный Гермоген доложил Синоду, что власти готовятся к крайним мерам – стягивают войска и полицию, патрулируют окрестности, прибыл Харламов, «слышны решительные распоряжения осадить монастырь». Поэтому «дело увещания иеромонаха Илиодора осложнилось», так как грозные вести «вновь сильно взбудоражили» его натуру. Далее передавались любопытные слова самого священника:
«Власти искусственно стараются во что бы то ни стало показать меня бунтовщиком, политическим преступником. Очевидно, они мне просто мстят. Это похоже на дуэль между полицейской и духовной властью. Я от глубины души готов умереть, открыто пред всем миром исповедуя свою невиновность в навязываемых мне преступных замыслах. Вот уже 12 дней нахожусь среди массы народа, однако не воспользовался им ни как бунтовщик, ни как бродяга Гапон. Не могу стерпеть тяжких нравственных обид, оскорблений со стороны тех, которые должны бы мне оказать сочувствие, нравственную поддержку, уважение. Боже мой, что будет с Россией? Я сильно болею душой, мне лучше умереть».
Пока остается опасность ареста, увещевания тщетны – вот что, в сущности, доложил преосвященный Гермоген.
Телеграмма епископа была так ярка, что Лукьянову поневоле пришлось сделать официальный запрос Столыпину – какие такие казачьи войска стянуты к Царицыну.
Для публики взгляды духовенства были изложены Радченко на страницах «Колокола»: «С радостью наблюдается его [о. Илиодора] склонность к переселению в Новосиль, но всякий раз, когда доходят до него вести о готовящихся против него мерах полицейского воздействия, о. Илиодор как-то снова ожесточается, и владыке приходится начинать работу снова».
Таким образом, к 23 марта обе стороны довели до правительства свои точки зрения в предельно четкой форме. И архиерей, и губернатор заявили о своем бессилии в присутствии противной стороны.
Этот день – 23.III – стал переломным. В 6 час. вечера Столыпин был у Государя с докладом. По всей вероятности, испросил полномочий. Но получил ответ: «Петр Аркадьевич! Вы кашу заварили, вы и расхлебывайте. Берите Илиодора из монастыря: он мне не нужен, но берите так, чтобы ни одна старушка не была тронута».
Вернувшись из Царского Села, в полночь Столыпин отозвал Стремоухова из Царицына:
«Прошу ваше превосходительство до новых с моей стороны распоряжений не принимать никаких принудительных мер по отношению к Илиодору, точно так же не должны приниматься и усиленные полицейские меры вокруг монастыря, кроме необходимых для поддержания порядка и спокойствия. Если преосвященный Гермоген не нуждается в вашем содействии и вы признаете ваше пребывание в Царицыне не достигающим цели, разрешаю вам возвратиться в Саратов».
Одновременно Столыпин известил обер-прокурора, что «ни о каком нападении и осаде монастыря, стягивании казачьих войск, патрулировании полиции кругом монастыря и усилении таковой у ворот подворья не может быть и речи и сообщение о сем епископа Гермогена не соответствует действительности».
У Стремоухова сложилось впечатление, что решение Столыпина связано с его предупреждением о предстоящем беспрецедентном деле. Ранее, дескать, министр ничего не знал, а Курлов действовал по собственной инициативе, отдавая распоряжения «за министра». Эта мысль проскальзывает даже в докладе губернатора Столыпину 8.V.1911: «…теми мерами, которые рекомендовал мне в марте месяце от вашего имени применить к иеромонаху Илиодору ген.-лейт. Курлов» Из своей версии Стремоухов выводит еще более смелую теорию: Курлов нарочно допустил новосильское бегство и прибытие инока в Царицын, а затем подстрекал губернатора к скандальному и кощунственному насилию над духовными лицами, чтобы подставить под удар Столыпина и подготовить ему «гражданскую смерть».
Действительно, самые жесткие распоряжения, грозившие столкновениями между богомольцами и полицией, принадлежали Курлову, хотя некоторые телеграммы из министерства, касающиеся дела о. Илиодора, подписаны лично Столыпиным. Однако Стремоухов и сам хорош. Он, как уже говорилось, настаивал на «решительных мерах» еще с Французского завода. Поэтому изящная схема, нарисованная Стремоуховым в мемуарах, – Курлов, склоняющий его штурмовать монастырь, епископ, организующий народную оборону, а в середине несчастный губернатор между двух огней, – страдает неточностью.
Что до решения Столыпина, принятого 23 марта, то оно, очевидно, вызвано не телеграммой Стремоухова от 19 марта, а встречей с Государем 23 марта и телеграммой преосвященного Гермогена от 23 марта на имя митрополита Владимира. А почву, несомненно, подготовила красочная телеграмма епископа самому Столыпину: «Да запретит Вам Всемогущий Господь!». «Речь» потом выяснила, что эта фраза восходит к формуле заклинания сатаны из чинопоследования Таинства крещения, и смеялась, что-де заклинание возымело силу.
Помощи из столицы монастырь ждал с самого начала. 17.III губернатор телеграфировал министру: «приверженцы и сам епископ дают основание предполагать, что ими ожидается содействие Петербурга».
Действительно, петербургские друзья о. Илиодора всемерно хлопотали за него в сферах. По телеграфу присоединился Распутин, находившийся в те дни в Иерусалиме.
Большую роль сыграла О.В.Лохтина, которая не только разослала влиятельным лицам сочинение «Спаситель на Земле», написанное ею 14.III в защиту о. Илиодора, но и вела телеграфную переписку с илиодоровцами о ходе дел.
Понимая, что общество судит о царицынских событиях только по газетам, наперебой кричащим о «царицынском мятеже» и «бесчинствах иеромонаха Илиодора», друзья инока изо всех сил старались опровергать клевету.
По признанию самих илиодоровцев, большой вклад в это дело внес писатель Родионов. В февральские тяжелые дни, когда царицынские богомольцы на коленях просили его о помощи, он дал себе слово написать обо всем, что видел в Царицыне. Но опубликовать подобный текст в то время было невозможно: газета подверглась бы конфискации.
В дни «царицынского стояния» Родионов прочел свой очерк «Русскому собранию», посвятившему о. Илиодору особый вечер (20.III). Доклад вышел поразительный. Если доселе общество смотрело на пастырскую деятельность о. Илиодора через политическую призму, то Родионов писал о нем как о священнике, о его приверженцах как о православной церковной общине, о монастыре как о… монастыре. Бесхитростные речи царицынских богомольцев в искусной литературной обработке засверкали, как алмазы после огранки. Выяснилось, что Косицын, Шмелев и прочие авторы знаменитых телеграмм действительно существуют, а не представляют собой псевдонимы о. Илиодора, существуют и скорбят, и таких косицыных и шмелевых в Царицыне столько, что не помещается в храм на 8 тысяч человек. Родионов не застал тогда самого священника ввиду его ареста в Иловле, но свидетельство общины о своем пастыре оказалось красноречивее всего того, что мог бы сказать гостю он.
Восхищенный В. М. Пуришкевич предложил отпечатать доклад Родионова отдельной брошюрой и представить Государю. Собрание единодушно согласилось. Брошюра получила название «Конец православной сказки»: пришел конец сказочно прекрасной общине. По свидетельству Володимерова, «этой "сказкой" в один печатный листик» Родионов за несколько дней «круто» повернул «мнение высших петербургских сфер в пользу отца Илиодора».
И не только «сфер». По объяснению «Московских ведомостей», после мартовского политического кризиса «Сказку» стало возможно напечатать и в газетах. Она появилась в «Вестнике "Русского собрания"» и в «Земщине» и отныне была доступна всем.
Помощь Родионова не ограничилась литературной стороной. «Я был свидетелем того, – писал Володимеров преосвященному Гермогену, – с каким воодушевлением, с какой энергией, опрокидывающей все препятствия, боролся Иван Александрович против сплоченных в Св. Синоде и в Царском Селе влиятельнейших врагов отца Илиодора, а стало быть и Ваших, Владыко, как он провел посланцев царицынского народа в самый зал заседаний Св. Синода, как требовал восстановления попранной правды, угрожая ни перед чем не остановиться и дойти лично до самого Царя, если Лукьянов и Ко будут упорствовать».
Володимеров скромно умалчивает о собственных заслугах. Он как второй очевидец февральских событий, видавший гораздо больше Родионова, тоже выступил докладчиком на том знаменитом вечере в «Русском собрании». Намеревался прочесть подобную лекцию и на собрании членов «Союза русского народа» в праздник Благовещения, но полиция запретила этот доклад под угрозой 300-рублевого штрафа.
Внес вклад в дело помощи царицынцам и Пуришкевич, судя по его телеграмме преосвященному Гермогену 24.III: «Да подкрепит Всевышний силы ваши, глубокочтимый владыко, в борьбе за правду в деле защиты светоча православия иеромонаха Илиодора. Делаю здесь что могу, скорбя о том, что на Руси православной лекарь ведает делами церкви». Позже Пуришкевич в телеграмме о. Илиодору упомянул, что Главная палата «Русского народного союза имени Михаила Архангела» принимала «героические меры для доведения до подножия престола Самодержца» ходатайства о нем.
«Они поехали в Петербуг тайно. Один взял билет до Ростова, другой до Саратова, третий до Москвы, четвертый до Петербурга». Бывший пристав Смоленской губ. Н. П. Попов, владелец шапочной мастерской Шмелев, купчиха вдова Тараканова, супруга священника Сергиевской церкви Златорунская.
Царицынцы доверили этим четверым лицам удивительный документ – ходатайство перед Императорской четой об оставлении о. Илиодора. Это большая тяжелая книга, состоящая из каллиграфически написанного прошения и 95 листов, сплошь покрытых подписями. Их начали собирать перед вечерней 16.III, поставив в храме столы, которые в последующие дни переместились в монастырский двор.
В первый же день собрали до 4 тыс. подписей, на момент отъезда депутации – 8 тыс. Затем сбор продолжался: на 19.III их было уже 10 тыс., на 21.III – 13 тыс. Дополнительные листы повезли вдогонку.
Противники о. Илиодора подозревали авторов этого ходатайства в фальсификации. Губернатор докладывал (8.V.1911), что илиодоровцы помещали под своими прошениями фамилии лиц без их ведома, отсутствующих и детей. В воспоминаниях Стремоухов повторил это обвинение, утверждая, что «едва одна десятая часть подписей была действительна, остальные оказались апокрифическими». Газеты писали, будто в Синоде заметили, что 5 тыс. подписей сделано одной рукой. Однако длина документа заставляет сомневаться в достоверности производимых над ним арифметических исследований. Подписи действительно зачастую следуют блоками, сделанными одним почерком, но при пометках «неграмотный/ая». Хорошо заметно, что члены одной семьи записаны обычно подряд, возможно, и впрямь вместе с детьми. Участие последних в подписке засвидетельствовал сотрудник «Царицынской мысли». Вообще же при масштабах илиодоровской общины набрать и 5, и даже 15 тыс. человек не составляло большого труда.
Едва ли экспедиция четырех провинциалов с заветной книгой имела бы успех без Родионова. Он не только сопровождал депутацию в Петербург, но и провел ее (24.III) к митрополиту Владимиру, сочувствовавшему о. Илиодору. Высокопреосвященный Владимир ласково принял посетителей и пригласил их на заседание Синода, состоявшееся в его же покоях через час. Там Попов произнес речь о благотворном влиянии о. Илиодора на Царицын.
После встречи депутация телеграфировала о. Илиодору, заканчивая словами: «Приняты очень хорошо. Усильте молитвы. Есть надежда на успех».
Посетили гости и ген. Курлова, который сообщил им «снятии осады с монастыря», то есть, вероятно, повторил официозное извещение, что ни о какой осаде власти и не думают.
По поводу дополнительных подписей илиодоровцы 21.III запросили столичных покровителей через студента Санкт-Петербургской духовной академии Аполлона Труфанова: «Сообщите кому нужно: набралось еще пять тысяч подписей. Как дело? Отвечайте. Александр» (по-видимому, Александр Труфанов). После приема депутации на эту телеграмму ответила Лохтина: «Шлите подписи мне скорее, дела слава Богу».
После полуночной телеграммы Столыпина положение монастыря видимым образом изменилось. Усиленные наряды полиции были сняты. Остались только помощник пристава и двое городовых у ворот. Харламов и Стремоухов уехали – один в Петербург, другой в Саратов.
В тот же день (24.III), в канун Благовещения, пришла телеграмма от депутации, а ночью – вторая, от Лохтиной. Поэтому праздник оказался особенно радостным. Благовещение – годовщина основания царицынского монастыря, и вот он как будто рождался заново! «Народ чувствовал себя особенно радостно, как бы в Пасху, по случаю того, что арест с монастыря был снят, а вместе снято и с них позорное имя бунтовщиков», – писал преосвященный Гермоген.
За всенощной о. Илиодор, 14 дней не служивший, надел епитрахиль и помазывал богомольцев елеем. Был заметно радостен, но от речей воздержался, воскликнув только: «Вот вам и Благовещение!». Наутро же в числе других священников сослужил епископу Гермогену. Наконец увидав о. Илиодора в облачении, народ понял: «Надел ризу, значит, дело кончится по-хорошему, значит, наша возьмет».
Праздничное богослужение прошло торжественно, при огромном стечении народа из города и окрестных сел. Газеты писали о 8 тыс. богомольцев, преосвященный Гермоген – о 15 тыс. После Литургии и проповеди, произнесенной миссионером Носковым, о. Михаил, улыбаясь, объявил: «Я не могу сейчас утерпеть, чтобы не поздравить всех вас с великой радостью: мы сейчас только получили из Петербурга телеграмму самого радостного содержания, так что у нас сегодня не один, а два больших праздника. Слава Тебе Господи!».
Затем вокруг монастыря был совершен крестный ход. Осмелился ли о. Илиодор выйти за ворота? Сведения на редкость противоречивы. По словам полк. Семигановского и «Русского слова» о. Илиодор шел в белом облачении, неся икону Благовещения. У «Царицынской мысли», наоборот, священник шел в черной одежде, неся Казанскую икону и закрывая ею лицо. «Новое время» вовсе писало, что о. Илиодор не вышел на крестный ход. Неудивительно, что «стервятники» из «Царицынской мысли» путались в названиях икон, но как репортер ухитрился не отличить черную одежду от белой? Вероятно, обознался.
Тут же на площади был отслужен благодарственный молебен. В целом вся служба продолжалась с 7 час. 30 мин. утра до 2 час. 30 мин. После ее завершения, сопровождая преосвященного, о. Илиодор остановился и сказал пастве, что отпускает ее по домам, поскольку его больше не нужно «караулить».
Пройдя в келью о. Илиодора, преосвященный с ее балкона обратился к народу: «Сегодня все птицы радуются, вылетая из неволи, так и мы, возлюбленные, будем радоваться, ибо в сей день выпущен из тюрьмы на свободу птенец наш – батюшка о. Илиодор; выпущен он, наверно, уже навсегда и останется служить в этом монастыре». Затем о. Михаил с того же балкона говорил о завершении вражеской осады.
Радостный день омрачило несчастье. Появился мученик за о. Илиодора – царицынский мещанин Андрей Ковалев. Он был в числе богомольцев, запершихся в монастыре вместе с пастырем, не покидал подворье со дня объявления войны Синоду и готовился умереть за обитель и за «батюшку Илиодора, которого он, как Ангела Божия, несказанно любил». Человек очень крепкого телосложения, в это тяжелое время Ковалев тужил и плакал. В самый праздник Благовещения прямо во время обедни скончался от разрыва сердца, едва успев причаститься: «наклонился перед иконой и не встал».
Отпевание состоялось в воскресенье 27.III после Литургии. Над гробом еп. Гермоген сказал: «Раб Божий Андрей скончался как истинно верующий христианин на своем посту, как часовой, охраняя святыню от поругания. … Сердце его не выдержало, и он умер и свободился теперь от всех напастей и гонений. Но Господь приготовил за это ему и награду: как он при жизни был ревностным поклонником монастыря, так и после его смерти Господь сподобил его первого стать вечным посети[те]лем этого монастыря и этой святой церкви». Ковалев был погребен на территории обители у алтаря храма.
Эта смерть была воспринята илиодоровцами как подвиг. Даже вдова Ковалева во время похорон «поистине имела вид не печальный, но радостный», а через неделю о. Илиодор сказал: «умерли только некоторые из нас и умерли славной смертью».
Но то было через неделю, когда ему разрешили проповедовать. Сейчас он осмелился только призвать народ к молитвенному поминовению новопреставленного Андрея, а сам мысленно обратился к покойному с просьбой. «Я стоял с вами над теплым прахом возлюбленного брата и просил его, чтобы он, когда предстанет перед лицом Всевышнего, рассказал, как нас несправедливо преследует лютый неприятель и как мы страдаем. … И, очевидно, брат Андрей рассказал все Богу».
По-видимому, кончина несчастного богомольца глубоко потрясла о. Илиодора, часто вспоминавшего о покойном. На Пасху он призвал свою паству положить крашеные яйца на могилу Ковалева, которая после этого оказалась полностью покрыта разными приношениями. А после смерти Столыпина отказался служить по нему панихиду, сказав, что лучше отслужит ее по рабу Божию Андрею.
Радость благой вести быстро уступила место тревоге. Ни обнадеживающие телеграммы друзей, ни снятие полицейской осады не гарантировали безопасность о. Илиодора. Синод еще не сказал своего окончательного слова, на вокзале по-прежнему ожидал экстренный поезд, а полк. Семигановский оставался в Царицыне. Наблюдение за подворьем продолжалось, и на праздничной службе в храме присутствовала, как выразился о. Илиодор, «нечистая сила», – полицейские чины, которые внимательно следили за происходящим, вставая даже на цыпочки, «как лютые звери на задние лапы».
Всего через полтора часа после того, как о. Илиодор распустил своих караульщиков по домам, он снова вернулся в церковь, где оставались только самые близкие его приверженцы, и попросил их продолжать прежнюю тактику – ночевать в монастыре и выводить подозрительных. Вечером следующего дня эту просьбу повторили другие священники.
Преосвященный Гермоген вновь забил тревогу, объясняя Синоду, что опасность ареста не миновала. 26.III владыка доложил, что надзор за монастырем, о. Илиодором и даже за архиереем продолжается, полк. Семигановский «и сейчас неотступно подстерегает иеромонаха Илиодора, чтобы арестовать его или посредством внезапного нападения на монастырь, или же способом выкрадывания при помощи переодетых казаков и сыщиков. Экстренный поезд для внезапного ареста иеромонаха Илиодора находится наготове в распоряжении Семигановского». Поэтому богомольцы и их пастырь пребывают сейчас в положении «узника, с рук и ног которого сняли на время железные цепи».
Получив соответствующий запрос от обер-прокурора, министерство внутренних дел поспешило убрать злосчастный поезд и уверить Лукьянова, что опасения преосвященного не имеют под собой никакой почвы. Страх нападения на монастырь, – «очевидно, результат нелепых слухов, которые естественно распускаются при создавшемся в Царицыне ненормальном положении досужими людьми, – писал Столыпин. – Вагон для иеромонаха Илиодора был приготовлен, а теперь и эта мера мною отменена, на случай, если бы преосвященный Гермоген убедил его возвратиться в Новосиль».
Что до продолжения надзора, то полк. Семигановский доложил министру: «Наружная полиция держит только одного городового на площади, впуск полиции монастырь зависит от произвола духовной власти».
Но у о. Илиодора была своя тайная полиция. 28.III железнодорожный служащий Дмитрий написал ему: «сегодня паровоз убрали в депо, но вагоны остались наготове». Вопреки пометкам «скретно» и «прозба упрознить сейчас же по прочтении» адресат передал этот исторический документ преосвященному, в чьих бумагах он и сохранился. Поэтому владыка вплоть до 1.IV продолжал ссылаться на полк. Семигановского с его поездом. Сам о. Илиодор 31.III писал членам Синода: «Полиция продолжает караулить меня».
Любопытно, что в те же дни из Царицына внезапно исчез любимый персонаж полицмейстера о. Михаил Егоров, на отозвании которого ведомство настаивало еще 21.III.
Освобожденный от давления светской власти, Св. Синод быстро сменил гнев на милость. Некое лицо, близкое к синодским сферам, сообщило «Биржевке», что причиной стало раскаяние ослушника. Однако это объяснение выглядит чересчур официозно.
Раскаяние последовало еще 20.III, но, выслушав об этом устный доклад Лукьянова на следующий день, Синод не смягчился – напротив, именно в этом заседании он отозвал еп. Гермогена из Царицына. Судьба о. Илиодора решалась не в Синоде, а в министерстве внутренних дел и потому определялась не раскаянием, а политической конъюнктурой.
Последние бумаги из министерства внутренних дел, составленные по телеграммам Стремоухова и направленные против преосв. Гермогена, слушались Синодом в заседании 23.III. При этом прозвучала уже новая нота: преосвященный Парфений ходатайствовал, ввиду отъезда о. Илиодора и его нежелания вернуться, об его увольнении от должности настоятеля Новосильского монастыря и причислении к саратовскому архиерейскому дому по месту его прошлого служения.
На следующий день, когда, приняв царицынскую депутацию, члены Синода вновь обсудили положение, уже двое преосвященных – Парфений и Михаил – высказались за оставление о. Илиодора в Царицыне. 26.III за этот исход проголосовали трое – митрополит Владимир, епископы Михаил и Агафодор – против четверых (митрополиты Антоний и Флавиан, apxиeпископ Тихон и епископ Константин). Рогович телеграфировал преосв. Гермогену, что дело принимает благоприятный оборот. А 31.III о. Илиодор уже говорил, что на его оставление не соглашаются только трое – «митрополит Антоний, Столыпин и еще один».
Новое определение Синода относительно о. Илиодора состоялось 26.III и изображало положение в точности так, как его рисовал преосвященный Гермоген: ослушник согласен подчиниться, но мешает болезнь и опасность ареста. Поэтому «надлежало бы войти в совещание с врачами, а равно представляется необходимым разъяснить иеромонаху Илиодору, что дошедшие до него известия о мероприятиях светской власти неосновательны». Вместо этого, как уже говорилось, епископ Гермоген разъяснил самому Синоду, зачем в Царицыне находится полк. Семигановский.
Уловив благоприятный момент, владыка принял доступные ему меры, чтобы склонить священноначалие на свою сторону. Во-первых, он двукратно передал Синоду просьбу царицынских богомольцев об оставлении о. Илиодора. Во-вторых, такую же просьбу повторил сам ослушник, впервые после Французского завода обратившийся к священноначалию с телеграммой. Судя по тому, что черновик этого слезного послания остался в бумагах преосвященного Гермогена, владыка сыграл немалую роль при составлении этого письма. В своей телеграмме (28.III) о. Илиодор, именуя себя «окаянным грешником» и «истинно покорным послушником», перечислял свои недавние злоключения и умолял не довершать их каким-то еще наказанием. Жалобное послание было заслушано Синодом в тот же день, но лишь принято к сведению.
Вечером 28.III преосвященный Гермоген вновь созвал духовенство и мирян на совещание в зал реального училища.
Губернатор, после прошлого раза намеревавшийся больше не разрешать такие собрания, почему-то не воспрепятствовал. Однако, получив сведения о предполагаемом участии о. Илиодора, распорядился его арестовать если не по пути, то на лестнице после заседания. Инструкции, данные Стремоуховым полицмейстеру, – это еще одно доказательство серьезности намерений светской власти:
«Когда совещание кончится и уже все будут выходить по лестнице, постарайтесь протиснуться между владыкой и Илиодором. Агентов поставьте на лестнице и, когда
вы с ними поравняетесь, резко толкните иеромонаха в руки агентов, а сами, в самой почтительной позе, загородите его от епископа, а агенты пусть уже волочат Илиодора в приготовленные сани и везут на вокзал; там будет ожидать вагон с локомотивом под парами, и мы увезем его, куда следует.
– Ваше Превосходительство, как я его толкну, ведь он духовное лицо.
– В моих глазах это бунтовщик и больше ничего».
На совещании, однако, о. Илиодора не было, но разговоры вращались вокруг его имени. «Илиодор много потрудился и вместо благодарности его сочли за бунтаря и психически больного», – говорил преосвященный, возлагая большую часть ответственности на «местную дьявольскую печать», которая «ввела в заблуждение не только общество, Синод, но чуть ли и [не] Царя». Владыка укорил и царицынское духовенство, не поддержавшее собрата.
Отметив, что в Царицыне сложились «тягостные условия для пастырско-миссионерской деятельности», при которых «каждому пастырю в отдельности грозит опасность потерять равновесие духа и подвергнуться той же участи, какая выпала теперь на долю страдальца о. Илиодора», преосвященный призвал слушателей к ответным мерам. «Вместо того, чтобы встать крепко и дать отпор революционным партиям, мы слишком сибаритничаем и не проявляем энергии, это называется религиозное дегенератство». По мнению владыки, в Царицыне надлежало создать газету, а также совет, состоящий из поровну пастырей и мирян. На предложение включить в состав совета о. Илиодора преосвященный ответил: «Не знаю, куда Бог его направит, он весьма желателен; дай Бог, чтобы он остался. Помолитесь и просите, чтобы его оставили. Я предлагал послать телеграмму от духовенства об оставлении его».
Трижды за вечер преосвященный говорил об этой телеграмме. В третий раз – после заседания, когда три женщины на коленях просили оставить о. Илиодора в Царицыне. Владыка ответил довольно резко, предложив просительницам самим вместе с духовенством обратиться к Синоду.
Собравшиеся вняли троекратному призыву преосвященного и на следующий вечер отправили телеграмму от лица Царицынского пастырского совместно с мирянами собрания.
Наконец, 30.III Синод окончательно сдался и определил по ходатайству еп. Парфения уволить о. Илиодора от должности настоятеля Новосильского монастыря. За непослушание назначить 2-месячную епитимью в Таврической епархии, куда о. Илиодору надлежало выехать по окончании пасхальной седмицы. До выполнения епитимьи он был запрещен в священнослужении. После же ее выполнения Синод намеревался рассмотреть ходатайства о возвращении о. Илиодора к месту его прежнего служения.
Епитимья подозрительно смахивала на отпуск в Крыму для поправления здоровья. Еще благотворнее, чем климат, было бы влияние таврического преосвященного, а это не кто иной, как епископ Феофан (Быстров), который постригал о. Илиодора в монахи и покровительствовал ему еще в академии. На Страстную и Светлую седмицы священник мог оставаться со своей паствой, хотя и не служить.
К середине июня Синод, очевидно, готов был сдаться на просьбы царицынцев и их архипастыря. О. Ефрем Долганев телеграфировал брату из Петербурга 31.III: «Просят вас владыко уговорить отца Илиодора чтобы согласился поехать Крым на два месяца будет хорошо желание царицынцев Бог даст исполнится».
Синод принял мудрое решение, предельно уступив о. Илиодору без ущерба для собственного авторитета. Правые газеты ликовали, всячески превознося мудрость священноначалия.
Однако самому о. Илиодору хитроумное решение Св. Синода, по-видимому, показалось чересчур сложным.
«+
Дорогой Владыка!
Получена утром такая телеграмма: "Сегодня (30) собрание у Антония. От Новосиля отчислен. Посылается Крым Феофану для лечения. Ждем еще решения царского".
Ради Бога, сейчас пошлите телеграмму в Синод о том, что лучшее лекарство мне – остаться в Царицыне.
Ваш посл.
Иером. Илиодор
1911. III, 31».
Тем же утром священник разослал Синоду и отдельным его членам телеграмму: «Ваше святейшество, болею я не от климата, а от того, что меня отрывают от дела, которое жизнь моя. Твердо веря слову Божию «просите и дастся вам», умоляю Вас ради Христа оставить меня в Царицыне. Полиция продолжает караулить меня. Вашего Святейшества истинно покорный послушник иеромонах Илиодор».
Вняв просьбе о. Илиодора, преосвященный Гермоген незамедлительно телеграфировал Синоду: «Присоединяясь к ходатайству всех царицынских пастырей и многих тысяч мирян, всенижайше ради Бога молю Св. Синод простить иеромонаху Илиодору его ошибки и погрешности и оставить в Царицыне». Владыка прибавил, в точности как его просили, что эта мера «будет единственным врачевством» для «наболевшей души» священника.
Обе телеграммы упоминали о продолжении полицейского надзора, и неспроста. О. Илиодор подозревал, что направление в Таврическую епархию – маневр, чтобы выманить его из укрытия: «Снова хотят тайно вызвать меня из монастыря и увезти с жандармами, – говорил священник своей пастве тем же вечером. – Но нет! Я уже ученый и не поеду, а вы, православные, узнайте, стоят ли на железной дороге запасные поезда». Получив ответ, что таковые стоят в Царицыне и Городище, о. Илиодор удовлетворенно рассмеялся: «Повторяю, что я не дурак и ни за что не поеду из монастыря, хотя весь Синод сюда приехал бы».
Опасения своего подопечного разделял и архиерей, даже обратившийся к министерству с прямым вопросом, не арестует ли полк. Семигановский о. Илиодора в пути.
Еще одной и, возможно, главной причиной несогласия о. Илиодора была надежда на царскую милость («Ждем еще решения царского»).
Депутация царицынских богомольцев оставалась в Петербурге, ища способ передать народное ходатайство в царский дворец. Сделать это было несложно: по утрам дежурный флигель-адъютант выходил к дворцовым воротам, принимал прошения, затем составлял их реестр, который и отдавал Государю. Но здесь, по-видимому, удалось передать собственно текст напрямую. «На наше счастье, – рассказывал потом Попов, – мы напали на хорошего адъютанта, который на свой страх, вопреки обычаю, вручил наше прошение Государю». Кроме того, депутаты надеялись получить аудиенцию. «Ожидаем приема, если соблаговолят принять», – писали они на родину в монастырь. По сведениям полиции, депутация будто бы даже телеграфировала о состоявшемся приеме, но никаких подтверждений этого факта камер-фурьерский журнал ни за март, ни за апрель не содержит. Судя по датировкам всех этих противоречивых известий, прошение передали 29 или 30.III. Получено же оно было, как гласит пометка на нем, 1.IV в Царском Селе. Неудивительно, что 31.III о. Илиодор выразил нежелание ехать в Крым, поскольку положение еще не определилось.
Впрочем, надежды было мало. Еще 24.III Государю доложили старое прошение царицынцев, составленное еще в бытность о. Илиодора в Новосиле, всего за 1327 подписями. Это ходатайство, адресованное Великому Князю Михаилу Александровичу, попало от адъютанта последнего полк. Мордвинова в канцелярию Его Величества по принятию прошений. Никаких последствий оно не имело.
Завершая свою командировку, царицынская депутация явилась (31.III) к митрополиту Антонию. Но тот был тверд и не смягчился даже тогда, когда посетители опустились на колени, намереваясь стоять так до тех пор, пока просьбу не исполнят. «В таком случае приходится уходить мне», – заявил владыка и посоветовал гостям уговорить своего пастыря ехать в Крым.
Одновременно епископ Гермоген делал последние попытки ухватиться за соломинку: 31.III вновь телеграфировал Государю, на следующий день собрал секретное заседание совета «Благовещенского братства», обращался, по-видимому, и к посредничеству Распутина. 31.III Лохтина сообщила в Царицын: «Владыко, вы сами телеграфируйте в Иерусалим».
Сам Распутин потом рассказывал о. Илиодору, что «здорово донимал» «царей» телеграммами в его защиту, причем адресаты «упорно держались, а потом сдались». Отношение Императорской четы к этим ходатайствам очень правдоподобно передано в следующем послании «блаженного старца» в Царицын: «Одна надежда на Бога. Молитесь Скорбящей Божией Матери. Всем благословение отца Григория. За нарушение спокойствия в Петербурге сердятся. Хотели дать просимые тобой деньги. Говорят – почему не просил у них отпуск. Телеграфируй: Иерусалим, русская миссия, Новых».
О. Илиодор намеревался ждать окончательного решения Синода до воскресенья 3.IV, то есть до праздника Входа Господня в Иерусалим. Возможно, дело в двухдневном сроке, фигурирующем в телеграммах царицынской депутации, или в том, что до начала Страстной седмицы все синодальные члены разъезжались.
Дожидаясь новостей, ослушник начал, не без помощи друзей, понимать выгоды для себя крымского варианта. «Илиодор начинает склоняться на убеждения и ждет только известия из высоких сфер, – писало «Русское слово». – После получения их он выедет в Крым. Он согласен на это при условии обратного возвращения в Царицын». Газета удивительно точно информирована. Преосвященный Гермоген говорил царицынцам об этих днях как о «критической минуте»: «и я, и вы, и о. Илиодор уже совершенно пали духом и думали, что наше дело совершенно проиграно и потеряно». Радченко писал, что о. Илиодор намеревался ехать в Крым 3.IV в 2 час. 45 мин.
Но в 2 час. 45 мин. уходил московский поезд. Дело в том, что преосвященный намеревался сначала отвезти о. Илиодора к себе в Саратов, а потом уже отправить в Крым. Ввиду возможности ареста своего подопечного владыка, как уже говорилось, обратился с вопросом к министерству. 3.IV пришел ответ, подписанный Курловым: «Опасения вашего преосвященства о предполагаемом арестовании иеромонаха Илиодора полковником Семигановским лишены всякого основания. Путешествие ваше и иеромонаха Илиодора никаких препятствий не встретит».
Оставалось лишь придумать, как вырваться от богомольцев. «Мы все ляжем на рельсы и не пустим», – так, по словам о. Илиодора, говорила паства о его возможной поездке в Крым. «И действительно, – прибавлял сам священник, – не пустили бы. Они, человек 200, легли бы на рельсы. Что бы надо было делать? Давить людей? Отлично, раздавили бы этих, а там впереди еще легли бы и положили бы головы на рельсы 300 человек». Циничный тон этих слов остается на совести репортера.
1.IV обер-прокурор привез Государю в числе прочих бумаг постановление о крымской епитимье. Как и относительно перевода в Новосиль, Синод решил испросить Высочайшее утверждение своего решения. И тут произошло неожиданное. Государь, месяц назад обещавший Стремоухову, что больше не простит о. Илиодора, объявил Лукьянову, что решил оставить священника на прежнем месте. На докладе обер-прокурора появилась Высочайшая резолюция: «Иеромонаха Илиодора во внимание к мольбам народа оставить в г. Царицыне. Относительно же наложения епитимьи предоставляю иметь суждение Св. Синоду».
На следующий день Синод собрался на экстренное заседание – настолько экстренное, что его журнал написан от руки. Это была Лазарева суббота, и почти все синодальные члены отбыли в свои епархии ввиду предстоящей Страстной седмицы. Присутствовали всего три иерарха: митрополит Антоний, митрополит Киевский Флавиан и архиепископ Ставропольский Агафодор. Они определили во исполнение Высочайшей воли перевести иеромонаха Илиодора из Новосильского монастыря в Саратовскую епархию для определения в Царицын, отменив запрет на совершение здесь богослужений. В качестве епитимьи было вменено состояние под запрещением в течение последних двух недель. Миловать – так миловать, не цепляясь к мелочам!
Вскоре к общей радости правых кругов Лукьянов покинул пост обер-прокурора. Илиодоровское дело было не единственной причиной, а, скорее, последней каплей. «…по слухам, Государь поставил на вид Лукьянову, что он неверно представил ему дело Илиодора и поставил его в необходимость оставить Илиодора вопреки определению Синода». «Неверно представил»! Значит, друзья о. Илиодора были услышаны и Государь понял нелепость бюрократической волокиты, поднятой вокруг илиодоровских речей.
Слова «во внимание к мольбам народа» означали, по-видимому, что царская милость – это ответ на народную петицию, подписанную десятками тысяч царицынцев. Или даже шире – на совершавшееся в Царицыне с конца января небывалое явление, которое «Колокол» именовал «непрерывным церковным народным стоянием».
«Велика сила мiрской молитвы», – писала та же газета, узнав о Высочайшей резолюции, а М. Померанцев на страницах «Русского знамени» отмечал: «Теперь, когда разрешилась царицынская история, можно решительно сказать, что только несокрушимая вера и горячая молитва святителя Гермогена вместе с верующим народом совершили чудо 1 апреля».
В монастыре знали, что благодарить за эту чрезвычайную милость следовало Императрицу Александру Федоровну. Именно она уговорила супруга сжалиться над бедным священником, что впоследствии подтвердил о. Илиодору и сам Государь.
А кто уговорил ее саму? «Лохтина и другие последовательницы Гриши старались доказать, что милость царицы ко мне – дело Гриши». По словам Труфанова, сам Григорий тоже настаивал на этой версии. С легкой руки келейника она распространилась и среди богомольцев подворья. Впрочем, о. Илиодор не слишком в это верил: «Здесь Гриша мне нисколько не помог», а его брат Михаил и вовсе кричал: «Врете вы все! Не Григорий возвратил о. Илиодора, а народ его отстоял».
Телеграмма от митр. Антония о Высочайшей милости пришла в Царицын вечером. За всенощной еп. Гермоген прочел народу это чудесное известие. Счастливый о. Илиодор, будучи не в силах сдерживать свои чувства, дважды выходил на амвон, делился с паствой своей радостью и благодарил Господа. «Так вот идите теперь к этим глумителям, насмешникам и безбожникам и скажите им, что Бог не с ними, а с нами. Давайте же возблагодарим Его и споем: "С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог!"».
Наутро Литургию в монастыре возглавил преосвященный Гермоген. В проповеди он сказал: «Господь в этот день воскресил от смерти Лазаря, и мы получили воскресение от духовной смерти». А о. Илиодор, наконец получивший право не только служить, но и проповедовать, воздал должное своей пастве: «Вы ждете от меня обычной проповеди. Но что я могу сказать после двухмесячной молчаливой проповеди, которая раздавалась из этого священного места, из монастыря-крепости».
Оба победителя послали Государю по благодарственной телеграмме. «Да будет благословенно Твое Царство во все дни Твоей жизни, – писал преосвященный. – Да утешит, возвеселит и исцелит Господь от всякой скорби и болезни драгоценную Нашу Мать Государыню Царицу на утешение и радость всех к ней притекающих скорбящих душ».
Преосвященный уехал днем, по-видимому, тем самым поездом, на котором еще вчера поневоле намеревался увезти о. Илиодора от его паствы. Народ провожал архипастыря торжественно, с пением народного гимна. Проводив преосвященного, о. Илиодор, сопровождаемый ликующей толпой, пешком вернулся в монастырь.
Через два дня в Царицын прибыла депутация, ездившая ходатайствовать в Петербург. На вокзале депутаты были осыпаны цветами, до монастыря ехали с пением «Славься» и кликами «ура». В храме были встречены о. Илиодором, который благословил и расцеловал своих спасителей. После благодарственного молебна все вышли во двор, и священник предложил депутатам: «Сейчас в храме вы представились Богу, а теперь представьтесь русскому народу». Попов рассказал о поездке, а народ земно поклонился депутации.
Вечером 3.IV полк. Семигановский испросил разрешения распустить вызванную стражу по уездам, о чем в тот же день последовало распоряжение губернатора, а сам покинул Царицын лишь 5.IV.
Преосвященный Гермоген и о. Илиодор победили. «Царицынское стояние» закончилось. «…я пережил с православным народом определенную нам Господом Богом Голгофу», – говорил иеромонах.
Таким образом, о. Илиодор дважды за два месяца устроил скандальный протест против своего перевода, руководствуясь как пастырскими, так и идеологическими мотивами.
Объясняя свой побег из Новосиля «скорбью о пастве», о. Илиодор лукавил. Вероятнее всего, это был побочный мотив. Осмотревшись на новом месте, о. Илиодор понял, что ему тут делать нечего, и предпочел вернуться к привычному труду: «Возьмите меня оттуда, где от ветхости все разрушается, и возвратите меня туда, где моей кровью, моими трудами устроенное без меня разрушается».
Конечно, налицо была и «скорбь о пастве», и, в особенности, «скорбь паствы». О. Илиодор так сильно привязал к себе своих богомольцев, что они уже не мыслили без него свое существование в церковной ограде. В тяжелые дни обоих «стояний», как сердобского, так и царицынского, не раз высказывалось опасение, что теперь «растекется народ, как грязь», царицынцы «отобьются от церкви» и упадут «в пропасть духовного забвения, нравственного нерадения, пороков и преступлений». Взаимное желание обеих сторон скорее умереть, чем допустить расставание, – это тревожный духовный признак, симптом болезни, пустившей корни в илиодоровской общине.
Как и в прошлый раз, даже правый лагерь сожалел о слишком дерзком поведении о. Илиодора, впавшего в «искушение» «в исступлении ума и сердца». «О. иеромонах виновен, и очень виновен, и мы прямо скажем, что находим его виновным пред всею Церковью, а не перед одним Св. Синодом, – писали «Московские ведомости». – Он подрывает нам церковную дисциплину, он дает повод к расколам, он, наконец, не понимает монашеского послушания, которое основано не на повиновении властям или человекам, а на сознании того, что Воля Божия, в судьбах отдающего себя на Волю Божию, проявляет себя во всяком случае».
Однако, как уже говорилось, о. Илиодор полагал, что его обет послушания не распространяется на подчинение светской власти, по указке которой действовал в его деле Синод. Подобную же мысль выразили восемь членов правой фракции Государственной думы в ходатайстве 26.III на имя митр. Владимира, напоминая, что пастырям «Господь повелел паче заботиться о спасении заблудших овец, чем об угождении сильным мира сего», и предполагая, что, быть может, молодой инок нарушил обет послушания, помня, что «Богу надлежит более повиноваться, чем людям».
Идеологическая подоплека непослушания о. Илиодора – его попытка бороться за свободу господствующей Церкви. Он неизменно подчеркивал, что борется не со священноначалием, а с правительством: «святыню вашу почитаю, благоговею пред нею как высшей церковной властью, руководимой Духом Святым, но чиновничьему, противному Богу, засилью, особенно проявленному в царицынском деле, не подчинюсь». Объявляя свою брань, священник, по его словам, стремился отстоять самостоятельность господствующей Церкви, ее независимость от государства, поскольку не священноначалие, а обер-прокурор добился перевода о. Илиодора в Новосиль.
Преосвященный Гермоген видел «сердцевину» царицынских событий «именно в ненормальных отношениях современных представителей светской власти к власти церковной». Стремясь во что бы то ни стало арестовать о. Илиодора, администрация руководствовалась «полицейским» принципом, почти полностью отринув «церковно-пастырский». Владыка отмечал, что «светская власть сознательно подавляет, угнетает и пресекает функции церковной власти и унижает самую церковную власть».
Взгляд о. Илиодора и еп. Гермогена на «царицынское стояние» разделяли многие лица. «Протест Илиодора есть, в сущности, протест против чрезмерного угнетения духовной власти со стороны власти светской», – говорили сотруднику «Русского слова» представители московского духовенства. Анонимный священник на страницах «Московских ведомостей» отмечал, что в деле о. Илиодора «столкнулись бюрократически-церковное формальное усмотрение, направляемое внецерковной рукой, и живая, настоящая, кипучая церковная жизнь». По мнению «Русского знамени», в своем «подвиге» иеромонах явился апологетом «идеи протеста против растлевающего воздействия чиновничества на душу православного народа, против бюрократизации Церкви Христовой». «Склонившаяся перед светской властью Церковь вдруг словно вспомнила о своих божественных правах и в лице бедного, растерянного, но неподавленного монаха, вооруженного только крестом, дерзко ополчилась на их защиту», – писал И. Гофштеттер. В том же смысле Володимеров писал о «праведном стоянии» преосвященного Гермогена и его царицынских чад «за свободу святой Церкви православной и за правду Божию».
С этой точки зрения победа о. Илиодора была победой всей Церкви. Упомянутый анонимный священник отмечал, что царицынская «трагедия» дала «сильный толчок к пробуждению нашего церковного самосознания». Виленский железнодорожный отдел «Союза русского народа» писал преосвященному Гермогену, что в царской милости к о. Илиодору видит «залог грядущего освобождения Церкви Божией от полицейско-инородческих влияний». Гофштеттер приветствовал «первую победу веры над приказом, Церкви над бюрократией», «конец старой бюрократической опеки над Церковью» и предсказывал «начало широких реформ в смысле давно назревшего внутреннего освобождения православной Церкви».
Однако некоторые видные пастыри высказались о такой форме борьбы в самых резких выражениях. «Если раньше мне казалось хотя что-либо достойное словах и заявлениях Илиодора о свободе духа церкви, – писал прот. И. Восторгов, – то теперь я убеждаюсь, что мы имеем дело только с болезненной мегаломанией и безумным бунтом против законной церковной власти». Архиепископ Антоний Волынский, хорошо знавший царицынского монаха еще юношей, после его победы написал: «Илиодор вовсе не изувер-невропат, а хитрый и расчетливый интриган. … Вообще это скандальная для всех история, которую расхлебывать придется еще долго и на Волге, и на Неве и по соседству».
Публика, смотревшая на деятельность о. Илиодора сквозь политическую призму, увидела в его борьбе только то, что он борется со Столыпиным. Сторонники последнего метали в бедного монаха громы и молнии, а оппозиция негодовала, что представитель власти уступил какому-то мракобесу. Напротив, в наиболее консервативных кругах гонение, воздвигнутое на царицынского проповедника, вызвало всплеск симпатий к нему. У «дорогого нам всем отца Илиодора» нашлось множество друзей. Свидетельства этого глубокого сострадания сохранились в бумагах преосвященного Гермогена, получавшего сочувственные письма от самых разных людей «Вся верующая Россия болеет душой, сочувствуя вам, владыко, и отцу Илиодору, – телеграфировали 24.III правые члены Государственной думы. – Молим Бога, да укрепит Он вас на защиту церкви».
В новом статусе
После знаменитой «осады» царицынского монастыря облик о. Илиодора в глазах простого люда стал приобретать черты народного героя.
Еще недавно его друзья сделали попытку искусственно создать ему такую славу, напечатав беллетризованную биографию «Правда об иеромонахе Илиодоре». Попытка провалилась с конфискацией этой книги.
Но теперь героизация личности о. Илиодора произошла естественным путем. Слух о гонимом за правду иеромонахе, мученике и аскете, разнесся далеко за пределы Саратовской губернии. Этому способствовали, между прочим, рассылавшиеся им по станицам миссионеры, которые восторженно рассказывали казакам о своем великом батюшке. Едва ли это была спланированная пропагандистская кампания. Скорее всего, посланцы просто не могли не поделиться своей радостью.
Слава царицынского проповедника достигла и столицы. «…теперь попам очень трудно, – рассказывал один извозчик, – вот где-то в Царицыне был один, кажется звать Илиодором; так гнали же его, гнали, вот как гнали за то, что говорил правду, только Царь его и вызволил, а то бы пропал».
Если простые души заочно полюбили о. Илиодора как страдальца за правду, то души лукавые заинтересовались им как влиятельным лицом, которого сам Царь знает и выручает из беды. Это особенно стало заметно после майской аудиенции. В июне корреспондент «Утра России» отмечал, что сельские священники, желая выслужиться за счет связей иеромонаха, привозят на поклон ему депутации союзников.
Наглядным выражением славы о. Илиодора стала книга для записи приглашений его с крестом на пасхальные дни. В эту книгу записалось более 6 тыс. царицынцев, в том числе богачей, его бывших врагов – В.Ф. Лапшина, Бондарчука, Яковлева и др..
Сам же он не гордился победой, а лишь думал о деле.
Вербное воскресенье (3.IV) стало для илиодоровского лагеря днем сугубого торжества.
Литургию в монастыре возглавил преосвященный Гермоген. В проповеди он сказал: «Господь в этот день воскресил от смерти Лазаря, и мы получили воскресение от духовной смерти». А о. Илиодор, наконец получивший право не только служить, но и проповедовать, воздал должное своей пастве: «Вы ждете от меня обычной проповеди. Но что я могу сказать после двухмесячной молчаливой проповеди, которая раздавалась из этого священного места, из монастыря-крепости».
Оба победителя послали Государю по благодарственной телеграмме. «Да будет благословенно Твое Царство во все дни Твоей жизни, – писал преосвященный. – Да утешит, возвеселит и исцелит Господь от всякой скорби и болезни драгоценную Нашу Мать Государыню Царицу на утешение и радость всех к ней притекающих скорбящих душ».
Преосвященный уехал днем 3.IV, тем самым московским поездом в 2.45, на котором еще вчера поневоле намеревался увезти о. Илиодора от его паствы. И вот они действительно прибыли вместе на вокзал, но не с плачем, а с радостью, с букетами цветов и верб в руках. За каретой следовала с пением народного гимна ликующая толпа. Проводив преосвященного, о. Илиодор пешком, во главе той же толпы, отправился назад в монастырь. Шествие приняло характер патриотической манифестации.
А за вечерней о. Илиодор объявил пастве о переходе к новой тактике. Обличительным проповедям против богачей настал конец. «Это была моя личная вина, моя личная ошибка, что я погорячился и думал, что только одним своим пастырским словом с этого амвона я могу привести их к исправлению, привести к раскаянию…». Теперь вместо гласной борьбы предстоит тайная. «Все мы станем следить незаметно, потихоньку за жизнью всех наших богачей и лиц высокопоставленных, пользующихся особым доверием общества». На основании собранных материалов илиодоровцы будут подавать прошения губернатору, а то и высшим властям, о высылке неугодного лица из Царицына. О. Илиодор был убежден: как всенародная челобитная о его оставлении в монастыре возымела успех, так и последующие ходатайства от лица народа будут уважены.
Итак, отныне царицынские грешники были избавлены от призывов к покаянию. Почему же о. Илиодор решил отказаться от обличений – краеугольного камня своего пастырского мировоззрения?
Прежде всего, он устал. «Буду только обороняться, а они, если хотят, пусть нападают», – объяснял о. Илиодор сотруднику «Московских ведомостей». Даже подачу описанных выше ходатайств священник решил всецело передать в руки своей паствы: «Я от всего отстраняюсь». Эти слова очень характерны для его настроения в те дни.
Кроме того, о. Илиодор извлек из минувших событий немалый урок. За время вынужденного бездействия, сидя в собственной обители, как узник, он, конечно, не мог не задуматься о причинах своего положения, создавшегося именно благодаря обличительным проповедям.
Поначалу о. Илиодор выполнил свое намерение, изо всех сил попытавшись держаться тише и скромнее. Этому способствовало отсутствие тем для обличений: петербургские враги стали поочередно сходить со сцены, некоторые царицынские купцы внезапно прониклись уважением к былому обличителю. Позже, однако, о. Илиодор не выдержал и дал волю языку.
Что касается системы ходатайств, то, в сущности, подобные планы о. Илиодор излагал еще в конце 1910 г. Но раньше они включали в себя обличительную проповедь, а теперь этот пункт был вычеркнут. Как и ранее, о. Илиодор не усматривал ничего предосудительного в подобной тактике: «Какие же это доносы, если они правду напишут».
Смену тактики подметили вскоре и многие газеты, отмечавшие, что если раньше он направлял свои удары «вверх», обличая власти и капиталистов, то теперь стал бить «вниз», по крамольникам и инородцам.
В защиту этого положения А. Панкратов напечатал даже целое интервью с «одним бывшим илиодоровцем, человеком простым, малограмотным, но умным». Тот говорил, что в первое время служения в Царицыне о. Илиодор всех «привлек своим неистовым обличением властей, Синода, местных капиталистов-пауков». Теперь же «в его проповедях настоящее обличение исчезло совершенно», «он сосредоточился исключительно на "крамольниках" и "безбожниках". Грубо смеется над мусульманами, евреями, армянами. Не обличает, а издевается».
Неизвестно, кого интервьюировал Панкратов, но изложенные тут мысли никак не могли принадлежать «малограмотному» илиодоровцу. Во-первых, он рассуждал о политической конъюнктуре в подозрительно интеллигентных выражениях: «Вспомните, что это было время, когда митинги и собрания были запрещены, газеты придавлены. Негде было проявиться свободному чувству негодования». Во-вторых, ни один приверженец о. Илиодора и даже ни один житель Царицына не мог бы датировать насмешки иеромонаха над иноверцами 1911 годом: оскорбление им магометанства в марте 1908 г. было притчей во языцех и сразу пришло бы на ум любому лицу, вознамерившемуся рассуждать о подобных материях.
На самом деле новая тактика о. Илиодора заключалась не в том, чтобы выбрать более удобную цель для обличений, а в полном отказе от них и замене их ходатайствами против врагов.
Объект для ходатайства подвернулся уже на следующий день. «Царицынская мысль» напечатала заметку «Ликование в монастыре», в которой приписала о. Илиодору грубые выпады против священноначалия и обер-прокурора: «Святейший Синод увяз по колено в грязи» и т.д.. Газета сообщала, что эта речь якобы прозвучала после объявления еп. Гермогеном народу о Высочайшей милости. Подозрительно фальшивая нота для того торжественного дня! Не говоря уже о том, что о. Илиодор был слишком счастлив для подобных нападок, не так же он был глуп, чтобы устраивать новый скандал, едва выкрутившись из старого, да еще при таком авторитетном свидетеле, как архиерей.
Сам священник категорически отрицал, что говорил что-то подобное: «Клевета! С моей стороны было бы величайшей неблагодарностью нападать на иерархов после проявленного великодушия». Его приверженцы тоже опровергали газетное сообщение, призывая в свидетели «епископа Гермогена и многие тысячи православных людей». По-видимому, газеты вернулись к своему обычному приему – искажению проповедей о. Илиодора.
Поняв, что «Царицынская мысль» пытается вновь настроить священноначалие против него, он пал духом. «Удрученный отношением печати, взволнованный» – так его состояние описывал о. Благовидов. После пережитого потрясения о. Илиодор меньше всего желал нарваться на новые неприятности.
«Не успела рана зажить – и опять царапают, – жаловался он через несколько дней. – Ведь выдумали что. Не успел, мол, иеромонах Илиодор получить милость, а уж опять лезет, опять задирает. Да Бог с ними со всеми. Только бы меня оставили в покое…».
Вечером 5.IV по его просьбе представительная депутация из трех священников – о. Благовидова, о. Протоклитова и иеромонаха Гермогена – направилась к полицмейстеру и заявила, что «Царицынская мысль» лжет, приписывая о. Илиодору резкое слово. Василевский обещал принять меры. Выслушав от собратьев рассказ об их миссии, о. Илиодор «успокоился». О. Благовидов поспешил телеграфировать преосвященному, что «редактор привлечен [к] строгому административному, типография [к] судебному взысканию». На самом деле полицмейстер, не располагая такими полномочиями, лишь обратился к губернатору с ходатайством о наложении на редактора «Царицынской мысли», коим числился тогда Т.Т. Шилихин, взыскания за нарушение п.12 обязательного постановления от 8.IX.1910, то есть за возбуждение враждебного отношения к правительству.
Тем временем Царицын возвращался к обычной провинциальной тишине. Илиодоровцы успокоились, наравне со своими врагами. Вечером 3.IV полк. Семигановский испросил разрешения распустить вызванную стражу по уездам, о чем в тот же день последовало распоряжение губернатора, а сам покинул Царицын лишь 5.IV.
В тот же день 5.IV вернулась депутация, ездившая ходатайствовать за о. Илиодора в Петербург. На вокзале депутаты были осыпаны цветами, до монастыря ехали с пением «Славься» и кликами «ура». В храме были встречены о. Илиодором, который благословил и расцеловал своих спасителей. После благодарственного молебна все вышли во двор, и священник предложил депутатам: «Сейчас в храме вы представились Богу, а теперь представьтесь русскому народу». Попов рассказал о поездке, а народ земно поклонился депутации.
Затем о. Илиодор напомнил пастве о новой тактике и предложил подать первое ходатайство – о закрытии «Царицынской мысли», а второе – о высылке из города ее редактора Булгакова вместе с семьей, сотрудниками и имуществом. Затем настанет черед богачей – «разных там Максимовых с их миллионами, Зайцевых, Филимоновых и многих других».
С приездом депутации этот план приобрел особый вес: перед илиодоровцами предстало наглядное доказательство, что народное ходатайство за Петербургом не пропадет. Более того, оказалось, что депутаты заручились в столице чьей-то поддержкой: «Им, правда, предложили в Петербурге разные лица (начальствующие и неначальствующие) в случаях каких-либо недоразумений обо всем писать…». Вот они и будут писать!
«Но теперь мы не допустим, чтобы из-за клеветы народ страдал, – объясняли илиодоровцы сотруднику «Московских ведомостей». – Как только напишут что-нибудь зря, сейчас же будем писать опровержение и в газеты, и высшим властям. Им ведь там трудно разобраться, что правда и что ложь». Зато с народной помощью разберутся и непременно помогут: «Потому – мы за правду стоим».
Следуя призыву своего пастыря, его приверженцы собрали деньги на телеграмму и разослали ее текст в правые газеты на правах «уполномоченных от многих тысяч радующегося и в то же время негодующего православного царицынского народа». Отдав должное благодетелям, содействовавшим оставлению о. Илиодора в Царицыне, авторы телеграммы пригрозили врагам – «газетным клеветникам» и финансирующим их богачам – возбудить ходатайство о высылке этих лиц из города.
Самого ходатайства, по-видимому, так и не последовало. Гора родила мышь. Через несколько дней на вопрос корреспондента о. Илиодор рассмеялся: «Это они только так, по простоте. Авось, мол, осторожнее будут враги».
Прочтя текст телеграммы, некая Александра Фаворская заподозрила, что он, как и предыдущие телеграммы, является делом рук неких «агитаторов», захвативших «всю власть в царицынском подворье». На самом деле послание принадлежит перу самых близких и верных сподвижников о. Илиодора. Телеграмма подписана следующими лицами: о. Михаил Егоров, Александр Труфанов, иеромонах Гермоген, Косицын, Жуков, Аникин, Шмелев и Иванов. Все они, несомненно, действовали по благословению настоятеля, а не в тайне от него.
В свою очередь, редакция «Царицынской мысли» была не на шутку встревожена, узнав из той же телеграммы, что полицмейстер добивается 3-месячного тюремного заключения для редактора и владельца типографии. Газета разразилась пространным «словом иеромонаху Илиодору», где, путаясь в словах от волнения, предостерегала адресата от возобновления борьбы и, в свою очередь, обещала продолжать освещение монастырских событий.
«Царицынская мысль» оказалась не единственной газетой, поспешившей возобновить клевету на о. Илиодора и его паству. «Саратовский вестник», например, напечатал фантастическую заметку о настроениях илиодоровцев, которые якобы «близки к обожанию своего батюшки, при виде его они (особенно женщины) бросаются на колени, целуют край его одежд», а по отношению к внешнему миру «ведут себя крайне вызывающе».
«Мимо монастыря стало невозможно проходить, – писала газета. -
Например, проходившего случайно мимо монастыря урядника затащили в монастырь и после допроса "с пристрастием" нанесли ему оскорбление действием и почти нагого вытолкнули за монастырские стены». Однако на запрос губернатора Василевский ответил, что такого эпизода не было.
Специальный корреспондент «Речи», описывая тот же победный вечер 3.IV, сообщил, что толпы илиодоровцев ходили по городу с пением гимна и «размахивали пучками лозы (вербы)», от чего население города якобы ждет осложнений. Хотя почему не ходить по улице с вербами на Вербное воскресенье?.
Констатируя возобновление газетной травли о. Илиодора и отчасти еп. Гермогена, саратовский епархиальный миссионер-проповедник М.Л. Радченко телеграфировал «Русскому знамени»: «печать левого лагеря сумела отравить нашу радость, поместив ряд статей провокационного характера. … Пора обуздать произвол иудействующих репортеров; злонамеренная ложь должна строго караться: велик грех совращения малых сих». На страницах «Братского листка» Радченко объяснил, почему считает действия «Саратовского вестника» провокационными: газета, дескать, задумала «ослиным копытом лягнуть ненавистного человека, облить его грязью ложных измышлений, поднять систематическую травлю, чтобы отравить минуты радости, вызвать о. Илиодора, пользуясь его впечатлительным темпераментом, на то или другое выступление, которое в свою очередь будет ложно истолковано, превратно, тенденциозно освещено».
Вскоре то же «Русское знамя» напечатало статью М. Померанцева, который заступался, главным образом, за преосв. Гермогена, «того святителя, который и без того является крестоносцем наших дней».
Приближалась Пасха, вдвойне радостная от того, что паче чаяния ее предстояло служить в родном монастыре. «После пережитого вам, батюшка, должно быть, особенно радостно встретить праздники», – предположил сотрудник «Московских ведомостей». – «Да, такие праздники не часто выпадают на мою долю», – согласился о. Илиодор.
Тот же сотрудник (И.С. Ламакин) увековечил вид илиодоровского монастыря в праздничную ночь.
«Приукрасили и расцветили его в эту Пасху особенно ярко. Сплошь в лампадочках и разноцветных фонарях.
Особенно великолепны были колоссальные фонари в виде храмов, неведомых зданий и причудливых фигур, протянутые в самом центре монастыря на проволоках».
Такова была иллюминация. Но вот началась заутреня. Запели тропарь Пасхи.
«Десять тысяч голосов, как апокалипсические громы, подхватили.
"Смертию смерть поправ"…
Напев перекинулся из храма во двор, оттуда за ограду; средневековые корпуса монастыря затряслись в море звуков.
Прорвалось!
Можно было умереть от нахлынувшего неизобразимого чувства».
Однако, увидав, что о. Илиодор выходит к народу с какой-то речью, Ламакин не на шутку испугался: сейчас испортит общий молитвенный порыв политической проповедью. Но проповедь оказалась странная. О. Илиодор говорил, «что Бог приемлет пришедшего и в шестой, и в девятый, и в одиннадцатый час». «Говорил, вопреки обыкновению, на славянском языке, и это меня особенно поразило». Огласительное слово Иоанна Златоуста! Но Ламакин, по собственному признанию, об этом святителе «действительно только что слышал, да и то одним ухом». По-видимому, на том же уровне пребывали и знания журналиста о пасхальной заутрене, отчего он и оконфузился на всю Россию со своей царицынской корреспонденцией.
В первый день Пасхи после вечерни о. Илиодор раздал богомольцам красные яйца, пояснив, что сам он сейчас положит красное яичко на могилу «нашего возлюбленного брата Андрея» со словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!», и если кто последует этому примеру, то все приношения будут переданы бедным. Действительно, почти все собравшиеся в храме вслед за пастырем отправились к могиле и стали класть на нее яйца, куличи, пасхи и деньги, так что поверх могильного холма появилась гора из пожертвований.
После этого о. Илиодор дал краткое интервью Ламакину, всячески подчеркивая, что со своей стороны не желает продолжать прежнюю борьбу. На вопрос о врагах ответил: «Э, ну их совсем!». Затем Ламакин побеседовал с ближайшими сотрудниками о. Илиодора, причем у Шмелева даже побывал в гостях. Всем увиденным корреспондент остался доволен.
По-видимому, именно об этом эпизоде о. Илиодор на другой день рассказывал народу, что в неточной газетной передаче выглядело так: «Враги наши мало-помалу начинают покоряться нам. Один из главных врагов, член Государственной Думы (фамилии я не буду называть, ибо врагов у нас слишком много) пришел под Пасху в монастырь и ему понравились богослужение и монастырская благочестивая жизнь. Бог даст, все враги покорятся…». Ламакин не был членом Государственной Думы, но речь, очевидно, шла о нем.
Вскоре в «Московских ведомостях» появился цикл «царицынских впечатлений» Ламакина. Пока корреспондент писал о том, что видел своими глазами, то есть о празднике Пасхи, можно было только радоваться за монастырь, получивший такого бытописателя. Однако Ламакин счел нужным написать и о том, чего не видел, – о недавней осаде монастыря (№№89 и 93 «Московских ведомостей»), выставив преосв. Гермогена в неблагоприятном свете. Позже владыка ответил обширным письмом на имя редактора.
По случаю праздника илиодоровский лагерь обменялся поздравительными телеграммами с архипастырем, причем сподвижники о. Илиодора благодарили еп. Гермогена за защиту своего батюшки, а владыка, в свою очередь, поблагодарил всех, кто боролся в минувшие дни за свободу церковных начал.
Сам о. Илиодор, совершенно истощенный всем происшедшим, на Светлой слег с ревматизмом.
Пока плоть немоществовала, дух оставался бодр. О. Илиодор уже задумал что-то сногсшибательное. Еще в Великую Субботу (9.IV) он вместе с «Ольгой» – очевидно, О.В. Лохтиной – телеграфировал Григорию Распутину в Иерусалим: «Благослови дело [за] свободу церкви». Затем была болезнь, а на Антипасху о. Илиодор уже снова оказался на ногах с таинственной проповедью (17.IV). Вся Россия и весь мир, говорил он, удивляется молитвенным подвигам его последователей. Впереди великое дело, которое предстоит совершить Царицыну для всей России. Тогда она обновится и будет благоденствовать. Расшифровать эти туманные намеки очень сложно ввиду того, что в голове о. Илиодора всегда роилась добрая дюжина проектов такого рода, и неизвестно, какой из них подразумевался в данном случае. Однако отдельные факты складываются в любопытную картину.
Чудо с оставлением его в Царицыне породило в нем мысль о своем особом призвании именно на этой земле. «Из того, что я уже дважды по повелению Самодержавного Императора Всероссийского, вопреки беспримерно сильному желанию врагов всего свято-русского, оставлен в г. Царицыне, видно, что Господь, в руках Которого сердце Царя-Помазанника Божия, благословил сугубым благословением мое пребывание в одном из крупных центров Поволжья и совершение святого дела, ради которого, как вам известно, мне пришлось по воле Божией, для вящего торжества и православия и самодержавия и силы духа русского перетерпеть большую беду. … Полагаю, что благоугодный для меня и для русских православных людей утешительный конец царицынского дела повелительно требует от меня более широкого применения того, что мне предназначил Господь».
Для начала следует сказать, что о. Илиодор предполагал расширить свой монастырь. Во-первых, задумал выстроить еще один храм на 15 тысяч человек, поскольку существующий 7-тысячный уже не вмещал всю паству.
Кроме того, священник вновь, как и в 1908 г., обратился к городской думе с «сердечной покорнейшей просьбой» о передаче монастырю примыкающего к нему огромного пустыря. Если в прошлый раз о. Илиодор просил 3120 кв. саж., то теперь его аппетит разгулялся до 6440 кв. саж. План использования пустыря оставался прежним: «предлагаю разбить сквер для благого приличного провождения народом праздников, построить богадельни, приюты, дома трудолюбия, церковно-учительскую, причетническую и миссионерскую низшие школы с ремесленными классами и монастырским содержанием беднейших учеников».
Но дума ненавидела о. Илиодора. Не помогло даже личное обращение преосв. Гермогена к губернатору. Рассмотрев ходатайство, дума отклонила его закрытой баллотировкой большинством 21 против 14.
Конечно, о. Илиодор был огорчен отказом: «я просил площадь не для устройства кабаков, а для святого и доброго дела». Попытка добиться пересмотра думского постановления была встречена новым отказом. С горя о. Илиодор предсказал, «что благословения Божия на трудах Думы в предстоящее четырехлетие никакого не будет: денег будет истрачена целая уйма, будет надета на город долговая денежная петля, а толку будет столько, сколько у лысого на голове волос». И грозил всенародно проклясть гласных перед алтарем, как только узнает их имена.
Впереди о. Илиодора ожидало еще большее оскорбление. Отказав монастырю, дума передала пустырь под базар! Священник негодовал: «Народные лиходеи хотели отомстить Илиодору и отомстили бедному народу, которому я хотел построить школы, приюты и богадельни. В древности народ таких благодетелей, выведя в поле, побил бы камнями».
Но сейчас, в апреле, не предвидя этого будущего, о. Илиодор ожидал исполнения думой его «сердечной покорнейшей просьбы».
Однако не один Царицын владел его мыслями в эти дни. В конце апреля скончалась 75-летняя казачка Донской области Денисова, которая в прошлом году завещала илиодоровскому монастырю 100 десятин земли около станицы Александровки Ростовского округа Донской области. Перед кончиной благодетельница, уже два года проживавшая в монастыре, удвоила свое пожертвование. Там же на Дону, в Сальском округе, поблизости от станиц Великокняжеской и Павловской, и всего в 8 часах езды по железной дороге от Царицына находился Гремучий колодезь, вырытый в донских степях, по преданию, свв.Кириллом и Мефодием, святыня в руках калмыков, которую о. Илиодор посещал и в детстве, и не далее как в прошлом году.
По-видимому, собрав все эти впечатления воедино, он задумал распространить свою деятельность на родной край. Воображению о. Илиодора рисовалось колоссальное религиозно-патриотическое движение, подобное почаевскому, охватывающее Поволжье и Дон, с центром в Царицыне. «Нужно, непременно нужно Царицын сделать твердым, могучим, несокрушимым оплотом православия, русской государственности». А из него свет разольется по двум рекам – Волге и Дону. «Пока еще только одна крепость, – Царицын; нужно бы везде такие», – говорил о. Илиодор. Он мечтал о сети патриотических «благотворительно-просветительных» монастырей, таких же, как его собственный. Кроме того, о создании благотворительных учреждений и школ. Например, при Гремучем колодезе он хотел устроить миссионерскую школу для обращения калмыков в православную веру: «не пройдет 10-15 лет, как в донских степях не будет язычников, ибо мы их сделаем всех православными христианами, а то мы посылаем миссионеров в Японию, Китай и другие государства для обращения язычников в православную веру, а у себя под боком не видим их».
В конце апреля (между 20 и 26.IV) о. Илиодор таинственным образом исчез из монастыря, по слухам, вызванный какой-то телеграммой. «Вы помните, дети мои, что недавно я уезжал от вас "куда-то"? – говорил потом о. Илиодор. – Я тогда вам не сказал, куда уезжал, да и сейчас не скажу. Пусть пока это так и останется: "Куда-то уезжал"».
Впрочем, репортеры все разнюхали, и «Новое время» буднично написало, что о. Илиодор ездил в ст. Качалинскую (Донской области), в 50 верстах от Царицына, по поводу пожертвования умершей Денисовой. Однако при столь прозаической цели иеромонах не интриговал бы так свою паству. Его экивоки заставляют подозревать за простыми хлопотами по наследству другие, скрытые цели. Это предположение отчасти подтверждается следующим газетным сообщением: «Илиодор осмотрел землю и остался ею доволен. В скором времени он перенесет сюда свою деятельность из Царицына». Наивный репортер не понимал, что о. Илиодор перерос масштабы какого-либо одного города и развернется вовсю лишь тогда, когда перешагнет губернские границы.
Поздно вечером 26.IV о. Илиодор, находясь в Царицыне, уже совершенно открыто сел на пароход «Императрица Александра». Провожать явилась огромная толпа, запрудившая всю набережную. С площадки парохода виновник торжества произнес речь.
Любопытно сопоставить телеграммы разных корреспондентов в связи с этим. Согласно «Голосу Москвы», о. Илиодор говорил здесь о прощении врагов, а по словам «Речи» «Илиодор с площадки парохода говорил зажигательные речи об угнетении бедных богатыми; о раскрепощении народа, сначала физическом, потом духовном; громил русскую интеллигенцию». Набор штампов, перечисленный во втором случае, заставляет предположить, что корреспондент «Речи» на месте события не был и свой отчет сочинил.
Прощаясь с паствой, о. Илиодор не удержался от жестокой шутки по мотивам пережитых скорбей: «Вы знаете, откуда я приехал? Я приехал ведь из Крыма, а теперь еду в Новосиль…».
Наконец под пение гимна и крики «ура» он отбыл «по неизвестному направлению», как выразился корреспондент «Нового времени», хотя у Волги, казалось бы, есть только два направления – по течению и против течения. В настоящее время о. Илиодор плыл вверх по течению, наметив следующий маршрут: в Саратов, затем в Саров на богомолье, оттуда дня на два в Петербург и затем назад в Царицын, с тем расчетом, чтобы вернуться до воскресенья перед праздником Вознесения, т.е. до 15.V, и успеть последний раз пропеть Пасху вместе со своей паствой.
В Саратове о. Илиодор остановился, как обычно, в архиерейских покоях. Уже в день приезда ему предстояло важное дело: вместе с преосв. Гермогеном он посетил губернатора Стремоухова.
Губернатор уже успел невзлюбить преосвященного ввиду его роли в недавней царицынской истории. Отношения осложнил инцидент, произошедший в Великую Пятницу 8.IV. Высшие власти, по традиции, присутствовали на вечерне в кафедральном соборе, чтобы вынести Плащаницу. Свящ. Ледовский произнес проповедь, именуя гонителей о. Илиодора «Пилатами, Иудами, Каиафами, Синедрионом» и т.д. Нынешнего губернатора проповедник прямо не упомянул, зато о его предшественнике отметил, что тот был лишен «всяких нравственных и религиозных чувств».
Губернатор, ухитрившийся какую-то часть этой проповеди принять на свой счет, понял, что она произнесена с благословения архиерея, чьи «выразительные глаза засветились особым огоньком». Однако, по примеру гр. Татищева, Стремоухов сдержался. Впоследствии сетовал, что после проповеди ему «пришлось покориться судьбе, подходить к кресту и целовать руку». Правда, во время вечерни с выносом Плащаницы к кресту не прикладываются, но очевидно, что губернатор в полном соответствии с рекомендациями Столыпина старался соблюдать «все внешние формы». Сохраняя видимость мира, он считал себя в состоянии войны с архиереем.
Однако преосв. Гермоген не терял надежды на сотрудничество с новым губернатором и потому посетил его в сопровождении о. Илиодора (29.IV). Впрочем, по большей части говорил один владыка, а «Илиодор вел себя весьма скромно», как запомнилось Стремоухову.
Посетители попросили губернатора содействовать передаче царицынскому монастырю примыкающей к нему площади и, кроме того, пожаловались на Василевского и Семигановского. Между прочим, преосв. Гермоген высказал предположение, что именно Василевский информировал Ламакина в неблагоприятном для архиерея смысле, и просил об удалении полицмейстера, грозя в противном случае вынести этот вопрос на церковную кафедру. Губернатор же, в глубине души подозревавший, что источником ламакинских корреспонденций был илиодоровский лагерь, защищал Василевского, указывая, что он корректен и отрицает свою причастность к этому делу. Что до Семигановского, то посетители «очень энергично» обвиняли его в оболгании о. Илиодора.
Усилия духовенства найти общий язык с губернатором оказались тщетными. «Скоро беседа, совершенно неклеившаяся, пресеклась, и оба посетителя меня оставили», – писал он.
По-видимому, визит еп. Гермогена и его жалоба на Василевского с Семигановским стали последней каплей в чаше терпения губернатора, который 8.V написал Столыпину письмо с подробной характеристикой сложившегося положения. Стремоухов констатировал, что о. Илиодор при поддержке архиерея добивается освобождения от надзора властей и прессы, желая, таким образом, «обратить царицынский монастырь в место, недоступное для полиции и администрации», то есть «завоевать себе полную автономию», чтобы воспользоваться ею «не ко благу правительства».
Приложенный к письму доклад содержал сводку последних провинностей о. Илиодора, которых ввиду его новой тактики набралось очень мало. Однако губернатор все-таки делал вывод об опасности действий иеромонаха как в политическом, так и чисто в бытовом смысле, так как монастырь-де того и гляди развалится.
Стремоухов не смущался даже Высочайшим повелением оставить о. Илиодора в Царицыне. Во-первых, губернатор утверждал, что эта милость исторгнута из «любвеобильного сердца обожаемого монарха» обманом. Народные симпатии к священнику «возбуждались искусственно, путем систематического, строго рассчитанного взвинчивания темных масс», а часть подписей была якобы фальсифицирована. Во-вторых, «Государь Император простил иеромонаха Илиодора "во внимание к мольбам народа", однако Его Величество никогда не изволил выразить, чтобы Он признавал его правым». В-третьих, Высочайшее помилование усугубило дело: «милость Государя, упавшая в не заслуживающие того души, не просветила их, а напротив побудила их только возгордиться и далее идти по пути своеволия и презрения к существующим формам».
Да, «души» во множественном числе, потому что губернатор считал «епископа Гермогена столь же виновным в создавшемся положении, как и иеромонаха Илиодора»: «без еп. Гермогена иеромонах Илиодор ничтожен». В лучших традициях гр. Татищева Стремоухов изложил инцидент при выносе Плащаницы и требовал удаления преосвященного из Саратова. При этом условии губернатор обещал справиться с о. Илиодором уже своими силами: «я берусь свести его отрицательную деятельность на нет, если еп. Гермоген оставит Саратов». В противном случае «положение высшей правительственной власти в губернии станет совершенно невыносимо».
Словом, Стремоухов пошел по стопам своего предшественника. Сбывались опасения еп. Гермогена, что и с новым губернатором сладу не будет.
Не ограничиваясь письменным докладом, Стремоухов лично отправился в Петербург – формально для доклада о состоянии губернии, но фактически по илиодоровскому делу. Однако Столыпин «развел руками», отказался «растравливать муравейник» в правом лагере и предложил губернатору самому поднять этот вопрос перед Государем, причем будто бы советовал пригрозить отставкой.
Надо отдать должное стремоуховской силе воли – он не остановился даже перед этой крайней мерой. Вскоре губернатор получил от Столыпина еще один совет – не вмешивать имя Распутина. Совет был дан экстравагантным способом:
«Накануне аудиенции вдруг ко мне в номер гостиницы "Франция" раздался звонок по телефону.
– Кто у аппарата?
– На фотографической группе три лица. Говорите только о двух ваших, третьего не касайтесь.
– Да кто говорит?
Я услышал, как трубку повесили на аппарат, и разговор прекратился».
В своих мемуарах Стремоухов с гордостью изложил диалог, состоявшийся между ним и Государем по илиодоровскому делу. Тут уж надо отдать должное силе воли Государя: он решительно заявил, что «простил» о. Илиодора, и отказался слушать доклад о новых его «безобразиях» – «все это мелочи». Да, он гораздо лучше гр. Татищева и Стремоухова вместе взятых понимал, как нелепы придирки Семигановского к проповедям царицынского инока. Получив отпор, Стремоухов, как и было задумано, попросился в отставку. Позже через Столыпина Государь передал ему, что «повелевает» продолжать службу в Саратове.
В те же дни Стремоухов попытался добиться своего другим путем – через нового обер-прокурора В.К. Саблера, сменившего ушедшего после илиодоровской победы Лукьянова. Однако, по-видимому, обер-прокурор не разделял взгляда обоих саратовских губернаторов на невозможность совместной работы с преосв. Гермогеном: «Саблер находил, что мой предместник, гр. Татищев, сразу стал с епископом и Илиодором на слишком официальную и холодную почву и что с ними более мягкими приемами, пожалуй, можно было бы поладить». Тем не менее, Саблер попросил Стремоухова писать ему о всех осложнениях, связанных с о. Илиодором.
Таким образом, новый обер-прокурор не пошел на поводу у саратовских властей, и это был добрый знак.
Вообще по поводу кандидатуры Саблера следует сказать, что поначалу салон гр. Игнатьевой пытался провести на пост обер-прокурора Роговича, которому «очень хотелось быть прокурором». Выбор Саблера вместо него Сергей Труфанов объяснял влиянием Распутина. Впрочем, и эта кандидатура была встречена в правых кругах с радостью.
О. Илиодору приписывали следующую телеграмму, якобы посланную им новому обер-прокурору: «Поздравляю себя и православную церковь с Владимиром первой степени». По стилю этот текст слишком отдает анекдотом. Вот подлинная аттестация Саблера от о. Илиодора: «это человек русский, православный и дела церковные знает, и не такой, как был его предшественник, тот человек был светский и дел церковных не знал».
Из Саратова преосв. Гермоген и о. Илиодор отправились на богомолье в Саров, но, как ни странно, порознь: 1.V выехал о. Илиодор, на следующий день – владыка в сопровождении свящ. Сошественского.
От Дивеева до Сарова (18 км) о. Илиодор шел пешком вместе со странниками. Когда от ходьбы его ноги распухли и стали гореть, он понял, что напрасно отказался от своей обычной десятифунтовой палки. «Доехав до Саратова, я палку свою оставил и поехал в Саров, так как там люди живут мирные и можно ходить без палки, с палкой я хожу только по Царицыну, Саратову, да еще по некоторым городам». Не было у него и ножа, чтобы вырезать палку.
Окруженный странниками, опиравшимися на посохи, о. Илиодор, как неразумные девы из евангельской притчи, стал искать, у кого бы купить этот насущный предмет, и с горем пополам нашел. В воспоминаниях следует патетический рассказ о бескорыстной девочке-паломнице, подарившей бедному иеромонаху свою палку и вознагражденной им за доброту двумя рублями. Однако по свежей памяти о. Илиодор рассказывал всего лишь, что «эту вот палку купил у одного странника за двадцать коп.». Приобретенную с таким трудом сломанную кривую ветку суеверный иеромонах счел талисманом и всюду носил с собой.
В Сарове о. Илиодор служил Литургию и молебен с акафистом, после чего произнес проповедь о Высочайшем посещении Саровских торжеств в 1903 г., когда Государь собственноручно нес раку с мощами преподобного Серафима. «…когда я это говорил, народ от радости рыдал». По своему обыкновению, о. Илиодор предложил слушателям послать на Высочайшее имя поздравительную телеграмму, что и было сделано.
В Сарове же он встретился со своим архипастырем, а обратно они выехали приблизительно в одно время и тоже порознь. Преосв. Гермоген направился прямо в Саратов, а о. Илиодор – в Петербург.
Проездом о. Илиодор задержался в Нижнем Новгороде по приглашению местных союзников. Посетив помещение Союза, он направился в небольшой храм Трех Святителей. Встал там у свечного ящика и смиренно, потупясь, молился до конца службы. Почаще бы его таким видеть!
Вскоре, однако, он ощутил плоды своей всероссийской славы. По городу пронесся слух, что знаменитый Илиодор вот так запросто стоит в храме. Сбежался народ. Иеромонах героически выдержал службу, продолжая молиться под огнем любопытных взглядов. Лишь когда богослужение закончилось и народ стал расходиться, о. Илиодор все-таки сделал этой толпе замечание: «Не подобает уходить, не приложившись ко кресту».
Затем он посетил губернатора и некоторых союзников. Последние дали в его честь обед и просили произнести речь, но получили отказ: «В чужой епархии не подобает».
Сам воздерживаясь от любых выступлений, о. Илиодор наблюдал за патриотами, подвизавшимися здесь, на родине знаменитого народного ополчения. Впечатление оказалось удручающее. Вместо ожидаемых миллионов «русских людей» он нашел здесь лишь единицы, и те «бесцветные».
10.V о. Илиодор приехал в Петербург, рассчитывая пробыть здесь всего пару дней. Официально объявленной целью поездки было ходатайство иеромонаха «перед одним из министров по своему личному делу». «Я приехал сюда похлопотать», – объяснял сам о. Илиодор. Из его интервью «Новому времени» видно, что он надеялся заручиться поддержкой высокопоставленных лиц для своих проектов – расширение монастыря, распространение проповеди на Поволжье и Дон и массовое паломничество в Саров.
Однако игнатьевский кружок, который, по газетным сведениям, и вызвал сюда о. Илиодора, не позволил ему остаться в тени и настоял на его представлении Государю. Священник согласился, полагая, что аудиенция довершит и закрепит его победу: «а то вышло бы, как если человек, испачканный грязью, вымылся, переоделся в чистое, но шапку не надел». Все это было решено, по-видимому, в день приезда: уже через час о. Илиодор посетил гр. Игнатьеву, а на следующий день «Голос Москвы» написал, что он приехал «принести всеподданнейшее выражение благодарности за оставление его в Царицыне».
Устроить аудиенцию было делом не одного дня. В ожидании о. Илиодор застрял в Петербурге на целых две недели. Подлинную причину задержки он скрывал и на вопрос репортера, долго ли рассчитывает пробыть здесь, уклончиво ответил: «А это смотря по тому, как будут принимать, – смотря по делу. Во всяком случае, долго не засижусь».
Времени даром он не терял – посетил нескольких важных лиц, в частности, полчаса беседовал с Саблером. Позже среди илиодоровцев ходил неправдоподобный слух о посещении о. Илиодором самого Столыпина, который якобы осознал свое заблуждение и увидел в посетителе человека, преданного церкви и полезного для правительства.
Вторым важным делом для о. Илиодора стал сбор пожертвований для его грандиозных планов по расширению монастыря и распространению деятельности на Поволжье и Дон. Газеты писали о крупной сумме, переданной иеромонаху неким высокопоставленным лицом «для постройки церкви в пределах Саратовской губернии». Всего удалось собрать 30 тыс. руб. Для сравнения, тремя годами ранее за ту же сумму о. Илиодор сумел расширить монастырский храм и выстроить кельи.
Пребывание знаменитого иеромонаха в столице вызвало большой ажиотаж. Квартиру некоего протоиерея, где остановился о. Илиодор, осаждали любопытные. На улице его выслеживали репортеры.
Однажды утром о. Илиодор посетил редакцию «Ведомостей градоначальства» для беседы с редактором Крывошлыком. Выйдя оттуда спустя два часа, иеромонах был встречен огромной толпой, среди которой находился даже фотограф, ухитрившийся тут же сделать снимок.
В былые времена популярность такого рода, вероятно, обрадовала бы смиренного инока, но сейчас он был слишком утомлен для славы. «Илиодор производит впечатление изможденного, усталого человека», – отметил сотрудник «Русского слова». Пришлось прятаться. Репортеры писали, что «Илиодор скрывается от журналистов и почитателей» при содействии друзей, которые «окружили его трогательной заботливостью, ревниво оберегая от досужих встреч и лишних разговоров». В конце концов о. Илиодор «просто сбежал» из протоиерейской квартиры и спрятался в редакции «Колокола».
Но не одна только жадная до зрелищ петербургская публика знала теперь Илиодора. Благодаря царицынской истории даже простой люд прослышал о нем как о невинном страдальце. Священник понял это в первые же дни по приезде. Беседуя, по обыкновению, с везшим его извозчиком, о. Илиодор неожиданно выслушал собственную романизированную биографию: «теперь попам очень трудно; вот где-то в Царицыне был один, кажется звать Илиодором; так гнали же его, гнали, вот как гнали за то, что говорил правду, только Царь его и вызволил, а то бы пропал». Собеседник не отказал себе в удовольствии эффектно раскрыться: «я, мол, этот самый Илиодор и есть». Перепуганный извозчик соскочил с облучка и с земным поклоном испросил прощения за дерзкие слова. «Вот он, простой народ, – с удовольствием резюмировал потом о. Илиодор, – вот какая деликатность и забота!».
Тем временем великосветские дома наперебой приглашали популярного инока в гости. Он отказывал почти всем. Исключение было сделано лишь для некоторых лиц, в частности, для Пистолькорса, в царскосельском доме которого о. Илиодор отслужил молебен. «В Петербурге, говорят, смиренный инок вел себя как герой и в самом деле находил общество не только знатных барынь, но даже сановников, глядевших на него снизу вверх», – язвительно писал Меньшиков. Впрочем, это общество для о. Илиодора оказалось не слишком приятным.
«Мы сами были свидетелями, – отмечал «Колокол», – с каким болезненным усилием воли, с какими колебаниями, как бы чувствуя своей удивительно тонкой нервной системой добрые христианские души и коварные среди своих посетителей, он принуждал себя войти в один салон великосветского общества или выйти из своей комнаты к той или другой группе посещавших его лиц.
Повидавшись, истово благословив, – он молча садился, как-то съежившись».
Раз под благословение подошла лютеранка преклонных лет. О. Илиодор, никогда не стеснявший себя светскими приличиями, отказал: «Крестное знамение вот вам, – от души. А благословить не могу, по убеждению. Благословляя, я передаю дар духовный из сокровищницы нашей церкви; этого чужим давать нельзя, только своим».
Однако в многолюдном Петербурге нашлись и близкие ему по духу люди. Характерна серия фотографий, снятых, очевидно, в эти дни в гостиной прот. Ефрема Долганева, брата преосв. Гермогена, священника Петропавловского собора. О. Илиодор без клобука, со своей роскошной копной черных кудрей, восседает во главе стола. Слева от иеромонаха оба его деятельных сторонника, еще недавно не поленившихся доехать до захолустного Царицына, чтобы выручить своего друга из беды, – Родионов и Володимеров.
Родионов фигурирует и на других фото этой серии, где он в казачьей форме снят вместе с надевшим уже клобук о. Илиодором. На одном из дублей они даже держатся за руки, что, по-видимому, должно символизировать союз монашества и казачества для защиты русских начал. По рисунку обоев видно, что это та же самая гостиная. Однако в некоторых источниках Родионов подписан как некий «жандармский офицер Е.Е. Долгушин», очевидно, смешанный с хозяином дома.
Хозяин же виден на первой фотографии вместе с мальчиком, вероятно, сыном. Напротив, в центре кадра, сидит странник В.Ф. Ткаченко (Василий Босоногий), известный подвижник, который круглый год ходил босиком, а подле него – женщина в белом платке. Оба этих лица были, очевидно, близки о. Илиодору, особенно странник Василий, сопровождавший его по всему Петербургу, а по неправдоподобным газетным сведениям якобы даже в царском дворце. «Это мой телохранитель!» – объяснял иеромонах.
В сопровождении этой свиты 13.V о. Илиодор появился на заседании «Русского собрания», куда был приглашен своими почитателями, жаждавшими услышать из его уст доклад о царицынских событиях. От доклада он наотрез отказался, но собрание посетил.
Программа заседания этого дня состояла из двух докладов – членов Г. Думы Г.А. Шечкова и В.А. Образцова. О. Илиодор появился к концу первой части. Дождавшись завершения доклада, председательствовавший член Г. Совета Штюрмер предложил приветствовать знаменитого гостя. Раздались аплодисменты. Когда объявили перерыв, на о. Илиодора обрушился град лобызаний от посетителей собрания. Затем его проводили в столовую и забросали вопросами. Он отмалчивался.
« – Когда же вы, о. Илиодор, проповедь нам скажете? – спрашивали его.
– Эх, господа, господа! Не жалеете вы отца Илиодора, – отвечал он».
После перерыва он скромно сел слушать доклад Образцова. По завершении доклада председательствовавший Воейков пригласил о. Илиодора на эстраду, прося поделиться своими впечатлениями. Оказавшись в западне, священник вышел вперед, но вместо долгожданной речи ограничился кратким словом. О. Илиодор «сказал, что пришел сюда не сказать что-нибудь особенное, а чтобы выразить от себя и еп. Гермогена признательность за то участие, которое "Русское собрание" приняло в его деле. Сказать же что-нибудь особенное он опасается, так как это может завести его слишком далеко, а он бы не хотел в настоящий момент свернуть с правильного пути. Впрочем особенное, по его словам, уже было сказано».
Таким образом, о. Илиодор честно объяснил причины необыкновенной сдержанности, которой он неуклонно придерживался с самого Саратова. «Речь» объясняла отказ от выступления неким «авторитетным указанием со стороны», но и без советчиков он все равно держался бы в тени.
С некоторыми затруднениями о. Илиодору удалось получить благословение петербургской епархиальной власти на совершение богослужений. Глухое недовольство действиями царицынского гастролера наблюдалось и среди столичных священников. Говорили о некоем благочинном, который распорядился не оказывать о. Илиодору никакого особого внимания и не приглашать в парадные покои на чай.
Тем не менее, уже 14.V иеромонах служил молебен в часовне Спасителя на Петербургской стороне (в Домике Петра I) и говорил проповедь. Среди многочисленных молящихся репортеры заметили графиню Витте, чей супруг давно уже добивался знакомства с о. Илиодором.
На следующий, воскресный, день иеромонах служил позднюю Литургию в Иоанновском монастыре, устроенном о. Иоанном Кронштадтским. «Весть, что в монастыре будет служить о. Илиодор, проникла в самые аристократические и самые простые слои народа. Обширный храм монастыря, во имя святых двенадцати апостолов, не мог вместить и одной десятой части желающих присутствовать при богослужении. В передней части храма, за барьером, на солее и в алтарях стояли почетные богомольцы, прибывшие по приглашению, а за решеткой, на хорах, в таоре и на лестницах стояли густые массы простого народа». Здесь были все петербургские покровители иеромонаха – Володимеров, Родионов, Скворцов, гр. Игнатьева и т.д.
Не связанный более светскими узами, о. Илиодор заговорил, да еще как! Он произнес не одну проповедь, а целых четыре, словно наверстывал упущенное в «Русском собрании»! Если там каждое его слово могло быть истолковано как политический акт, то здесь, в привычной богослужебной обстановке, он говорил свободно.
После богослужения «почетные богомольцы» собрались в покоях настоятельницы игуменьи Ангелины для трапезы. Здесь-то о. Илиодор наконец поделился впечатлениями о пережитом. В самом радостном настроении он поместился во главе стола и оживленно болтал.
После трапезы фотограф Булла снял несколько исторических фотографий, запечатлев о. Илиодора, игуменью Ангелину и насельниц монастыря у дверей храма.
Наконец пришло извещение от министра двора барона Фредерикса: Высочайшая аудиенция назначена на 5 часов дня 21.V. «Предстоит представление Государю [и] Государыне, скоро приеду», – телеграфировал о. Илиодор преосв. Гермогену 17.V.
Прошло четыре года с тех пор, как юный о. Илиодор тщетно добивался Высочайшей аудиенции, чтобы сказать царю «всю правду», и вот, наконец, «заветная мечта» отчасти сбылась. Но оказалось, что «всю правду» сказать нельзя. Священник имел удовольствие выслушать от Саблера краткий курс придворного этикета: не задавать вопросов и не делать предложений, просто слушать.
Однако пустые диалоги, которыми вследствие этих правил оборачивались многие Высочайшие аудиенции, о. Илиодору были не по нраву. Еще тогда, в 1907 г., он с негодованием писал, что волынские крестьяне вместо «всей правды» рассказывали царю, «сколько у них детей, есть ли жены, где служили». Глубоко монархическое мировоззрение о. Илиодора предполагало живое взаимодействие с монархом: «по отношению к Царю со стороны Его верноподданных не может быть дерзости, а может быть только одна дерзновенность. Царь для нас – бог земной, высшая правда на земле, последняя наша надежда. Вот поэтому-то мы Царя и Бога Небесного называем на "ты"». Поэтому о. Илиодор даже при заочном телеграфном общении всегда писал Государю по существу дела.
Было очевидно, что советы Саблера пропадут впустую. Конечно, у о. Илиодора хватало теперь ума не пытаться изложить «всю правду». Но конспект вопросов и предложений был, по-видимому, заготовлен.
На счастье суеверный о. Илиодор захватил во дворец кривую палку, привезенную из Сарова, обеспечив себе удивленные взгляды придворных лакеев.
Прибыв на царскосельский вокзал за час до назначенного времени, о. Илиодор сел в присланную за ним из дворца карету. При этом священник обнаружил, что находится под наблюдением группы офицеров, стоящих вдоль платформы, и другой группы людей в штатской одежде. «Вид этих лисьих лиц, выслеживающих меня, наполнил меня жалостью к царю».
Карета подъехала к прекрасному Александровскому дворцу. Здесь о. Илиодору прежде всего предложили чай, а затем проводили в приемную. Она находилась в левом флигеле, а идти пришлось, по-видимому, из центральной части. «Дорогой я сначала считал число комнат, – простодушно рассказывал о. Илиодор, – а потом загляделся на богатое украшение их и часовых, стоявших, словно статуи, не шевеливших ни одним мускулом, и счет комнат забыл».
В приемной его встретил высокий молодой человек. О. Илиодору уже шепнули, что это князь императорской крови Иоанн Константинович. В качестве дежурного флигель-адъютанта он занимал гостя беседой в течение четверти часа. Говорили о царицынских событиях. В 4 час. 45. мин. из царского кабинета вышел дежурный камердинер и объявил: «Его Величество принимают». «Смущенный, с чувством глубокого благоговения», о. Илиодор переступил порог кабинета.
Заметив красный угол с иконами, он прежде всего перекрестился на них. Затем двинулся к хозяину кабинета, стоявшему возле письменного стола. В свою очередь, Государь тоже сделал несколько шагов навстречу гостю.
С этой минуты начались недоумения наивного о. Илиодора, ожидавшего увидеть Императора Николая II во всем блеске царского величия. Государь же оказался одет в солдатскую малиновую косоворотку – его излюбленный домашний костюм (часть обмундирования лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка, в русском стиле). «Простота внешнего вида поразила меня», – признавался о. Илиодор. Вскоре он заметил, что и кабинет под стать своему хозяину – небольшой и скромный.
О. Илиодор низко поклонился Государю. Затем они поцеловали друг другу руки.
Последовавшую 35-минутную беседу о. Илиодор по свежей памяти записал и потом по этой записи пересказывал своей пастве, конечно, с купюрами.
Прежде всего он выразил благодарность за Высочайшую милость и попросил прощения за «все события, бывшие в Царицыне». «Ничего, прощаю, прощаю», – с улыбкой ответил Государь. Ободренный явной благосклонностью, священник приступил к изложению своих просьб.
В первую очередь он сообщил о своих розысках чудотворной Казанской иконы и попросил Государя не верить в ее гибель. Рассказ был встречен сочувственно. Следствием этого разговора будто бы стал приказ возобновить поиски иконы, неизвестно только, кому отданный – самому ли священнику или кому-то другому.
Затем о. Илиодор рассказал о своем грандиозном проекте сети общежительных благотворительно-просветительных монастырей, что было Государем одобрено, о Гремучем колодезе и о бедственном состоянии, в котором сейчас пребывает эта святыня, попросил отобрать ее у язычников и передать ему для строительства школы миссионеров. Наконец, ходатайствовал за двух жителей Царицына – податного инспектора П.Е. Кузьменко и жандармского ротмистра Ежова, того самого, который не сумел предотвратить возвращение о. Илиодора к пастве. Оба лишились своих мест.
Все эти просьбы Государь внимательно выслушал и обещал разобрать каждое дело. По его предложению о. Илиодор записал адреса лиц, о которых ходатайствовал, и место нахождения Гремучего колодезя.
Дальше настал черед Государя поддерживать беседу. Тут выяснилось, что он хорошо осведомлен о делах о. Илиодора – о саровском богомолье, о планах расширения царицынского монастыря и о недавнем служении в Иоанновском монастыре.
В ходе разговора Государь как бы невзначай спросил: «Я слышал, что вы резко иногда выражаетесь против властей?». О. Илиодор возразил, что таким путем он их обличает, на что имеет право как священник. В ответ Государь будто бы посоветовал избрать другую мишень для нападок – «жидов больше и революционеров»: «не нападайте на моих министров, у них и без того достаточно врагов».
Пользуясь случаем, о. Илиодор пожаловался на полицейскую слежку и получил утешительный ответ. «Мне сам Государь Император сказал, что полиция не имеет права записывать мои проповеди…».
Несколько раз по ходу беседы гость возвращался к своему амплуа всеобщего ходатая. Когда речь зашла о недавнем паломничестве, о. Илиодор вдруг выпалил:
– Ваше Императорское Величество! Вас в Сарове ждут.
– Да, – ответил Государь, – я собираюсь туда ехать [нрзб] не знаю, как покажет время.
В другой раз священник неожиданно заговорил о Саблере, выразив благодарность за его назначение на пост обер-прокурора как лица, знакомого с церковными делами. «Да, верно, Саблер человек русский, церковный», – согласился собеседник.
Вообще Государь, по своей привычке, предоставил посетителю высказаться, а сам лишь ободряюще поддакивал.
Сергей Труфанов утверждал, что речь шла также о Григории, которого Августейший собеседник якобы именовал «отцом и спасителем», которого императорская чета «слушается» и советует о. Илиодору следовать ее примеру. «Нечего и говорить, что я, слушая Николая, стоял ни живой, ни мертвый». Все это, по-видимому, чистая беллетристика. Государь не любил затрагивать Распутина в беседах с посторонними лицами, а о. Илиодор, как видно из вышеизложенного, весьма свободно разговаривал и вовсе не «стоял ни живой, ни мертвый».
Желая закрепить успех своей аудиенции, он попросил о встрече с Императрицей и Наследником. Первое оказалось невозможно вследствие недомогания Ее Величества. «…иep. Илиодору было отказано в аудиенции», – злорадно написала «Царицынская мысль». А за Наследником, игравшим в саду, тут же послали.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71538967?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
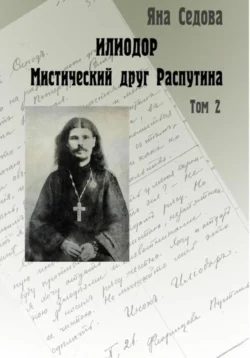
Яна Седова
Тип: электронная книга
Жанр: Историческая литература
Язык: на русском языке
Стоимость: 249.00 ₽
Издательство: Автор
Дата публикации: 15.01.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Книга посвящена одной из самых противоречивых фигур предреволюционной России – иеромонаху Илиодору (С.М.Труфанову), прошедшему путь от черносотенного идеолога до борца с монархическим строем. Опираясь на материалы шести российских архивов и дореволюционной периодической печати, автор восстанавливает биографию своего персонажа с точностью до отдельных дней, что позволяет разрушить сложившийся стереотип авантюриста и раскрывает Илиодора как личность, пережившую духовную катастрофу. Книга адресована историкам, преподавателям и всем, интересующимся русской историей.