Так просто (иронические философские заметки)
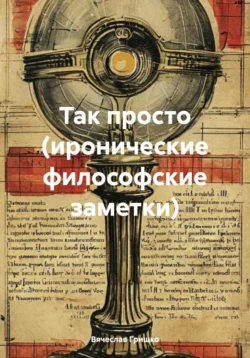
Вячеслав Гришко
Тип: электронная книга
Жанр: Книги по философии
Язык: на русском языке
Стоимость: 0.01 ₽
Статус: В продаже
Издательство: Автор
Дата публикации: 20.03.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Эта книга представляет собой изложение строгой, простой и предельно понятной концепции, согласно которой мы не только ни черта не знаем, но и не можем знать в принципе. Иронические заметки по основным проблемам философии.