Достоевский и шесть даров бессмертия
Гаянэ Левоновна Степанян
Персонажи Достоевского – бунтари, блудницы, юродивые, донкихоты и фарисеи. Они бьются над вопросами о добре, зле, источнике страданий, о Боге, вере и отрицании. Но они не вопрошают о смерти. В произведениях она существует как физический факт, а не как философская загадка. Вселенная Достоевского сама по себе является ответом на вопрос о природе бессмертия, к которому стремится человек, и ключи к нему вручаются каждому. Автор предлагает взглянуть на творчество Достоевского глазами современного читателя, знакомит с писателями и произведениями, повлиявшими на его мировоззрение, с типами и ролями персонажей, рассматривает занимающие их вопросы, прослеживает, как мысли и тексты Достоевского трансформировались и вошли в современную культуру.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Гаянэ Степанян
Достоевский и шесть даров бессмертия
Издательство и автор выражают благодарность Филологическому факультету РУДН в лице декана филологического факультета, доктора филологических наук, профессора Виктора Владимировича Барабаша
Утверждено РИС Ученого совета Российского университета дружбы народов
Рецензенты
Т. А. Кротова, доцент кафедры русского языка МГИМО (Университет) МИД России, кандидат педагогических наук;
В. В. Новикова, кандидат педагогических наук, преподаватель Центра русского языка (Лондон)
© Степанян Г. Л., 2022
© ООО «Бослен», 2022
© Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, иллюстрации, 2022
От автора
Книга лекций «Достоевский и шесть даров бессмертия» появилась во время подготовки учебного курса для филологического факультета Российского университета дружбы народов «Художественная вселенная Ф.?М.?Достоевского». Цикл лекций был апробирован в совместном проекте Манежа, лектория «Достоевский» и Storytel под названием «Достоевский и дары смерти, или Краткий путь обретения бессмертия» в честь 200-летия рождения писателя в 2021 г. И курс, и книга рассчитаны на широкую аудиторию читателей и слушателей, интересующихся жизнью и творчеством Ф.?М.?Достоевского.
Я предлагаю взглянуть на творчество Достоевского глазами современного читателя: чему может научить нас человек, который родился 200 лет назад? Зачем читать его книги? Сделает ли такое чтение нас богаче, успешнее и счастливее или оно – бесполезная роскошь, которую могут позволить себе филологи и люди, располагающие свободным временем?
Идейный сюжет книги таков. В первых двух лекциях мы знакомимся с таблицей элементов вселенной Достоевского, иными словами – с писателями и произведениями, повлиявшими на его творчество в прошлом и настоящем. Ответив на вопрос, что нового Достоевский привнес в хорошо известные его современникам тексты и факты, мы разберемся с тем, как ему удалось создать свою уникальную вселенную.
Следующие две лекции посвящены населению вселенной Достоевского, мужчинам и женщинам, их типам и ролям в решении философских и этических вопросов.
В пятой лекции мы задаемся теми вопросами, с которыми сталкиваются герои Достоевского: вопросы зла, богооставленности, свободы, личной ответственности и личного выбора.
Последняя, шестая, лекция знакомит читателя с тем, как повлиял Достоевский на XX и XXI вв., как его мысли трансформировались и вошли в вещество современной культурной материи. Он писатель, который предвидел и Ницше, и философию экзистенциализма, и потрясения XX в. В XXI в. с нами не происходит ничего, чего бы не случалось в мире Достоевского с его героями.
Представленный в книге материал не раскрывает затронутые темы во всей полноте, а иллюстрирует ход рассуждений при освещении того или иного вопроса с опорой на научную литературу, список которой представлен в конце каждой лекции.
Цитаты из произведений Достоевского приводятся по изданию: Достоевский Ф.?М.?Собрание сочинений: в 9 т. – М.: Астрель: АСТ, 2003.
Цитаты из переписки Федора Михайловича Достоевского взяты отсюда: http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/pisma- (http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/pisma-)dostoevskogo/.
Жирным шрифтом в цитатах выделены слова, на которые я хотела обратить особенно пристальное внимание читателя.
В конце книги предложена информация об упоминаемых в книге современниках Ф.?М.?Достоевского.
Введение
Федор Михайлович Достоевский умер 28 января (по новому стилю 9 февраля) 1881 г., в 8 часов 36 минут вечера в Санкт-Петербурге. Ему было пятьдесят девять лет.
31 января 1881 г. уже к десяти часам утра весь Кузнечный переулок, Владимирская площадь и прилегающие к ним улицы заполнились желающими проводить тело писателя к месту погребения.
Что же такого сказал Достоевский, что на похороны пришло столько людей? Что такого он оставил, что спустя 200 лет мы отмечаем дату его рождения?
Ответ на вопрос о том, что позволило Достоевскому длить свою жизнь в культурной памяти человечества, – это, на самом деле, ответ на вопрос о том, что нам следует длить в себе, чтоб преодолеть конечность своего существования. Книга называется «Достоевский и шесть даров бессмертия», потому что каждая из лекций не просто повествует о том или ином вопросе в связи с Достоевским, но также раскрывает природу одной из шести составляющих бессмертия.
Лекция I
Легенда о великом читателе
Достоевский был гениальным читателем, с необычайной художественной восприимчивостью к чужому творчеству.
А. Л. Бем. Достоевский – гениальный читатель
Произведения Достоевского, о которых пойдет речь в этой главе:
– «Неточка Незванова»,
– «Бедные люди»,
– «Петербургские сновидения в стихах и прозе»,
– «Пушкинская речь»,
– «Братья Карамазовы»
– «Легенда о Великом инквизиторе»,
– «Село Степанчиково и его обитатели»,
– «Преступление и наказание»,
– «Зимние заметки о летних впечатлениях»,
– «Бесы»,
– письма Достоевского,
– «Дневник писателя».
Достоевский – «гениальный читатель», по выражению А.?Л.?Бема. Д.?В.?Григорович, живший с писателем некоторое время на одной квартире, вспоминал о работе Достоевского над «Бедными людьми»: «Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга».
Круг его чтения был необъятен, и в одной лекции невозможно исчерпывающе рассказать, как прочитанное трансформировалось в его творчестве и обретало новый голос и новую интерпретацию, становилось способом разоблачить несостоятельность идей одних героев и поддержать идеи других. Реминисценция – один из ключевых писательских инструментов Достоевского, который требовал от своего читателя духовных и интеллектуальных усилий в неменьшей мере, чем от своих героев.
На примере нескольких произведений предшественников Достоевского мы проследим, как трансформация чужого слова порождает в художественном мире Достоевского неожиданные для читателя смыслы и создает новые измерения художественного пространства.
Гениальный читатель Достоевский
Достоевский в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» описывает свое чтение так: «Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа “Монастырь” Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я… я… служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю… люблю… и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию».
Похожее признание делает Неточка Незванова в одноименном романе Достоевского: «Вообразив себя героиней каждого прочитанного мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу-княжну и раздвоивала роман на две части, из которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов».
Сравните эти признания в произведениях Достоевского с описанием пушкинской Татьяны:
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя…
А в письме брату Михаилу от 24 марта 1845 г. Достоевский рассказывает: «Ты, может быть, хочешь знать, чем я занимаюсь, когда не пишу, – читаю. Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Ч-то-нибудь, давно перечитанное, прочитываю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать». Круг чтения Достоевского охватывает имена от Гомера до Бальзака.
Чтение играло двоякую роль в писательской лаборатории Достоевского. С одной стороны, оно было способом творчески переосмыслить и пережить чужие судьбы или варианты собственной будущности. С другой – прочитанное воспринималось не только как писательская школа, но и как материал для создания собственных произведений, позволявший, по выражению К.?А.?Баршта, «установить и передать читателю новый, небывалый для него ракурс видения окружающей действительности, иную сравнительно с уже известными версию смысла бытия и роли в нем человека».
А.?Л.?Бем и В.?А.?Викторович пишут, что именно читательский дар Достоевского, дар уловить сказанное другим – и развить это сказанное в своем произведении, и лежит в основании всего его творчества. В этом смысле Достоевский обладал «всесветной отзывчивостью», которой восхищался в Пушкине.
В переписке с частными лицами Достоевский составлял свой список рекомендаций к чтению. Один из его почитателей, Н.?Л.?Озмидов, попросил посоветовать книги для его юной дочери. И Достоевский в письме от 18 августа 1880 г. порекомендовал такой список (выделения жирным – Г.?С.): «Вы говорите, что до сих пор не давали читать Вашей дочери что-нибудь литературное, боясь развить фантазию. Мне вот кажется, что это не совсем правильно: фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми другими способностями, развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или обратно – дашь ей развиться именно чрезмерно (что и вредно) своими собственными уже силами. <…> Впечатления же прекрасного именно необходимы в детстве. 10 лет от роду я видел в Москве представление “Разбойников” Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно. 12-ти лет я в деревне, во время вакаций, прочел всего Вальтер Скотта, и пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими. Советую и Вам дать Вашей дочери теперь Вальтер Скотта, тем более, что он забыт у нас, русских, совсем, и потом, когда уже будет жить самостоятельно, она уже и не найдет ни возможности, ни потребности сама познакомиться с этим великим писателем; итак, ловите время познакомить ее с ним, пока она еще в родительском доме, Вальтер Скотт же имеет высокое воспитательное значение. Диккенса пусть прочтет всего без исключения. Познакомьте ее с литературой прошлых столетий (Дон Кихот и даже Жиль Блаз). Лучше всего начать со стихов. Пушкина она должна прочесть всего – и стихи, и прозу. Гоголя тоже. Тургенев, Гончаров, если хотите; мои сочинения, не думаю, чтобы все пригодились ей. Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте. Завоевание Перу, Мексики Прескотта необходимы. Вообще исторические сочинения имеют огромное воспитательное значение. Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекспир, Шиллер, Гёте – все есть и в русских, очень хороших переводах. Ну, вот этого пока довольно. Сами увидите, что впоследствии, с годами, можно бы еще прибавить!»
И вот еще список рекомендаций писателя, который я оставлю без комментариев, он красноречив сам по себе. В письме от 19 декабря 1880 г. неизвестному лицу (Николаю Александровичу) Достоевский пишет: «Каких лет Ваш сын – этого Вы не обозначаете. – Скажу лишь вообще: берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли. Если ему минуло шестнадцать лет, то пусть прочтет Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Если он любит поэзию – пусть читает Шиллера, Гёте, Шекспира в переводах и в изданиях Гербеля, Тургенева, Островского, Льва Толстого пусть читает непременно, особенно Льва Толстого. (Гоголя, без сомнения, надо дать всего.) Одним словом – все русское классическое. Весьма хорошо, если б он полюбил историю. Пусть читает Соловьева, всемирную историю Шлоссера, отдельные исторические сочинения вроде Завоевания Мексики, Перу Прескотта. Наконец, пусть читает Вальтер Скотта и Диккенса в переводах, хотя эти переводы очень трудно достать. Ну вот я Вам написал уже слишком довольно номеров. Если б прочел все это внимательно и охотно, был бы уж и с этими средствами литературно образованным человеком. Если хотите, то можете дать и Белинского. Но других критиков – повремените. Если ему менее 16 лет – то дайте эти же самые книги с выбором, руководствуясь в выборе лишь вопросом: поймет он или не поймет. Что поймет, то и давайте. Диккенса и Вальтер Скотта можно давать уже 13-летним детям.
Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе. Если же может читать и в оригинале (то есть на церковнославянском), то всего бы лучше».
СПИСОК рекомендаций к чтению для юношества от ДОСТОЕВСКОГО:
– «Разбойники» Шиллера; – весь Вальтер Скотт;
– Дон Кихот и даже Жиль Блаз;
– Диккенс;
– Пушкин;
– Гоголь;
– Тургенев;
– Гончаров;
– история Шлоссера;
– русская Соловьева;
– Карамзин;
– Завоевание Перу, Мексики Прескотта;
– Лев Толстой;
– Шекспир;
– Шиллер;
– Гёте;
– Жуковский;
– Белинский;
– Новый Завет.
«НУ, ВОТ ЭТОГО ПОКА ДОВОЛЬНО».
Ф. М. Достоевский
Ф. М.?Достоевский и А.?С.?Пушкин
Пушкинская речь и природа творчества самого Достоевского
8 июня 1880 г. в зале московского Благородного собрания состоялось заседание Общества любителей российской словесности по случаю открытия памятника Пушкину. На нем Достоевский прочитал свою Пушкинскую речь. Устное выступление имело успех чрезвычайный, Достоевский в письме жене описывает его так:
«Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. <…> Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулось ко мне на эстраду…» Рукоплескали даже те, с кем отношения складывались непросто, – И.?С.?Тургенев, Глеб Успенский.
Отношение к речи изменилось на прямо противоположное после ее публикации. Дело в том, что слушатели, по выражению В.?А.?Викторовича, восприняли ее как манифест русской культуры, а читатели – как политическую программу. Вероятно, в такой смене взгляда не последнюю роль сыграл факт, что она появилась на страницах консервативного издания – в газете Каткова «Московские новости».
«ДЛЯ МЕНЯ ПОНЯТЕН КАЖДЫЙ ВАШ НАМЕК, КАЖДЫЙ ШТРИХ, – НУ А ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ ВООБЩЕ – СЛИШКОМ, ПОВТОРЯЮ, КРУПНАЯ ПОРЦИЯ».
И. С. Аксаков
Это изменение отношения попытался объяснить И.?С.?Аксаков в письме Достоевскому 20 августа 1880 г.: «Столько было электричества, что речь сверкнула молнией, которая мгновенно пронизала туман голов и сердец и так же быстро, как молния, исчезла, прожегши души немногих. На мгновение раскрылись умы и сердца для уразумения, может, и неотчетливого, одного намека. Потому что речь ваша – не трактат обстоятельный и подробный, и многое выражено в ней лишь намеками. Как простыли, так многие даже и не могли себе объяснить толково, что же так подвигло их души? А некоторые – и, может быть, большая часть, – спохватились инстинктивно через несколько часов и были в прекомичном негодовании на самих себя! “А черт возьми, – говорил в тот же день один студент, больше всех рукоплескавший, моему знакомому студенту: – Ведь он меня чуть в мистицизм не утащил! Т-ак-таки совсем и увлек было!..” <…> Для меня понятен каждый ваш намек, каждый штрих, – ну а для читателя вообще – слишком, повторяю, крупная порция».
?
Пушкинская речь стала квинтэссенцией размышлений Достоевского и о творчестве Пушкина, и об исторической роли России, и о природе национального гения.
Перечислю основные тезисы Достоевского о роли Пушкина для русской культуры.
Достоевский связывает творчество Пушкина с ключевой для себя идеей почвенничества: «…Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего» («Дневник писателя», август 1880 г.). Эту же мысль он формулирует и в эссе «“Анна Каренина” как факт особого назначения»: «Другая мысль Пушкина – это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый, на деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям, нового после Пушкина ничего не сказала».
По мнению Достоевского, именно Пушкин дал нашей литературе типы народной русской красоты: «Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные» («Дневник писателя», август 1880 г.).
В Пушкине Достоевский видел идеал всемирной отзывчивости, который считал национальной русской чертой: «…особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного». «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди» («Дневник писателя», август 1880 г.).
Д. С.?Мережковский в статье «Пушкин» так оценил значение речи Достоевского: «Все говорят о народности, о простоте и ясности Пушкина, но до сих пор никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миросозерцание, великую мысль».
?
Почему именно Достоевский заметил «всемирную отзывчивость Пушкина», видя в ней главную черту национального гения русской литературы? Вероятно, дело в том, что сам Достоевский обладал тем же даром – улавливать сказанное другими и продлевать его, обогащая новыми смыслами.
«СПОСОБНОСТЬ ЭТА ЕСТЬ ВСЕЦЕЛО СПОСОБНОСТЬ РУССКАЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ, И ПУШКИН ТОЛЬКО ДЕЛИТ ЕЕ СО ВСЕМ НАРОДОМ НАШИМ».
Ф. М. Достоевский А. И. Теребенев. А. С. Пушкин. Модель статуэтки
Пушкин и герои Достоевского
Достоевский отсылает читателя к Пушкину в своем дебютном романе «Бедные люди». Варенька шлет Макару Девушкину «Станционного смотрителя», и эта повесть произвела на героя самое благостное впечатление: «Теперь я “Станционного смотрителя” здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам всё помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни – так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, – я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал всё подробно – вот как! Да и дело-то простое, Бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано всё!»
Достоевский соединяет две точки зрения:
?
Почему Макару Девушкину так понравилась повесть Пушкина? Потому что он уловил в ней сочувствие главному герою, с которым себя отождествил. Так пушкинский текст становится способом характеристики Девушкина, нуждающегося в человеческом сострадании.
Другой пример пушкинского влияния – образ князя Мышкина. В эпоху Достоевского в Пушкине видели идеального человека, соединявшего душевное здоровье и внутреннюю гармонию. Напомню определяющие черты Пушкина по Достоевскому:
1. Гармоничность.
2. «Всемирная отзывчивость».
?
А теперь сравним с Мышкиным (даже на фонетическом уровне его фамилия созвучна с Пушкиным).
Мышкин умеет стилизовать разные почерки, «переводя» стиль иностранных древних букв в начертание современных русских прописей. Многообразие почерков у Мышкина – своего рода синоним «всесветности» характера героя, заимствованной у Пушкина. Например, Мышкин рассуждает о почерке и семантическом значении стилей: «…это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия… шрифт площадной, шрифт публичных писцов… Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно…» Фактически перед нами метафора переосмысления Пушкиным французской литературы в контексте литературы русской.
Эпизод же, когда Аглая цитирует пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный», играет двойную роль: он не только подчеркивает образную связь Мышкина с героем пушкинской лирики, но и становится отсылкой к сверхтипу Дон Кихота, выразителем которого является князь. Эту мысль я раскрою во второй лекции.
Пушкинские тексты как криптографический шифр Достоевского
Достоевский использовал многие произведения, включая пушкинские, в виде скрытых цитат, чтоб донести свою авторскую позицию, не довлея над героями, не используя свое авторское превосходство над ними и не позволяя читателям почувствовать свое превосходство над героями незаслуженно, избегнув читательского труда. Сам Достоевский в заметках от 22 марта 1875 г. написал про свое требование к читателям: «Говорят, что Оля недостаточно объяснила, для чего она повесилась. Но я для глупцов не пишу».
Значение реминисценций в произведениях Достоевского раскрыто в трудах К.?А.?Баршта и Т.?А.?Касаткиной. Я покажу несколько примеров криптографии, построенной на скрытых цитатах из Пушкина, в «Легенде о Великом инквизиторе», вставной истории, авторство которой приписано персонажу романа «Братья Карамазовы» – атеисту Ивану Карамазову.
Сюжет такой: Христос является повторно, народ Его узнает, но, когда Великий инквизитор велит Его арестовать, никто не заступается за Него. Ночью же старик укоряет Узника за то, что Он возложил на людей непосильное для них бремя свободы. Христос ни словом не возражает ему, а в конце монолога инквизитора целует его и, не сказав ни слова в ответ, уходит. Достоевского даже упрекали в избыточной убедительности аргументов Великого инквизитора. Но правы ли были критики?
Перед писателем стояла сложнейшая художественная задача: дать авторскую точку зрения в произведении, написанном персонажем – оппонентом автора. И Достоевский решает эту задачу, прибегнув к пушкинским реминисценциям. Их подробно комментирует Т.?А.?Касаткина, я же приведу несколько ее примеров, в свете которых произведения Достоевского предстают как хитроумный филологический детектив.
Вот первая скрытая цитата: «Проходит день, настает темная, горячая и “бездыханная” севильская ночь. Воздух “лавром и лимоном пахнет”». Слова, взятые Достоевским в кавычки, расшифровываются как измененная цитата из «Каменного гостя» Пушкина:
Приди – открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух – ночь лимоном
И лавром пахнет…
Но откуда взято слово «бездыханная», тоже закавыченное в оригинальном тексте? А оно – из последней строфы «Отрывков из путешествия Онегина»:
И бездыханна и тепла
Немая ночь.
«ГОВОРЯТ, ЧТО ОЛЯ НЕДОСТАТОЧНО ОБЪЯСНИЛА, ДЛЯ ЧЕГО ОНА ПОВЕСИЛАСЬ. НО Я ДЛЯ ГЛУПЦОВ НЕ ПИШУ».
Ф. М. Достоевский
К этому тексту Достоевский обращался и в своей публицистике. В частности, в первом номере «Дневника писателя» за 1876 г. есть главка, в названии которой читаем: «Дети мыслящие и дети облегчаемые. “Обжорливая младость”». «Обжорливая младость» взята из тех же «Отрывков путешествия». Содержание же главки таково:
«Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают – не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.
Что устрицы, пришли? О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать…
Вот эта-то “обжорливая младость” (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) – вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!»
Таким образом, маркировав описание места действия единственным словом из пушкинского текста, Достоевский выявил двойственность «детской» проблематики, связанную с образом Ивана Карамазова:
Иван бунтует против Божьего мира, потому что в нем страдают дети;
Великий инквизитор утверждает, что люди – это в основном дети, и взрослая ответственность, возложенная на них Христом, невыносима для них. Инквизитор скажет, что есть лишь сотни тысяч взрослых, способных взять на себя ответственность за судьбы миллионов детей. Свою миссию и заслугу, даже мученичество инквизитор видит именно в том, чтоб принять на себя бремя ответственности, пусть и возложенное Христом не лично на него, а на все человечество.
Однако и связь с «Каменным гостем», заявленная в других скрытых цитатах, также неслучайна.
Например, имя главного героя пушкинской трагедии – Гуан – совпадает с именем Ивана, который также в своей Легенде использует отсылки к «Каменному гостю», на которых я сейчас останавливаться не стану.
Показательны наблюдения Касаткиной, связанные со словом «стогны» (то есть площади). В «Легенде…» оно встречается дважды – и оба раза в кавычках:
1. «Он [Христос] снисходит на “стогны жаркие” южного города» – в начале «Легенды…».
2. «И выпускает его [Христа] на “темные стогна града”» – в конце «Легенды…».
?
Во всем корпусе русской литературы и в творчестве самого Достоевского это настолько редкое слово, что в ткани «Легенды…» оно, безусловно, играет криптографическую роль, отсылая к тем малочисленным текстам, в которых оно встречается.
Во втором случае исследователи соотнесли «темные стогна града» со стихотворением Пушкина «Воспоминание» (1828). Оно начинается так:
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень <…>.
Далее описывается состояние лирического героя, которое близко и Великому инквизитору. Завершается же стихотворение так:
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Сравните с финалом «Легенды…»: «Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее». Таким образом, стихотворение Пушкина становится комментарием к состоянию инквизитора, одновременно и несчастного, и убежденного в своей правоте.
Но с каким текстом связаны «стогны жаркие» в первом случае? Касаткина указывает, что в Библии это словосочетание используется единожды в Евангелии от Луки: «Изыде скоро на распутия и стогны града» (Лк. 14:21). Это цитата из притчи о званых и избранных, о тех, кто будет удостоен Небесного Пира. Инквизитор бросил обвинение Христу: «К тебе придут лишь сильные и избранные, а для слабых у Тебя нет ни счастия на земле, ни места в царствии Твоем».
Суть же евангельской притчи в том, что, когда на пир к хозяину не пришли многие званые, он послал раба своего в город за больными, нищими и увечными. И Христос в «Легенде» пришел на «стогны» за теми слабыми, о судьбе которых сокрушается инквизитор, полагая, что он и подобные ему позаботятся о них лучше Бога. И в свете этой притчи поцелуй Христа выглядит как прощальный, потому что инквизитор из тех, кто добровольно отказался от Пира Небесного.
Так, единственным словом, одновременно относящимся к Пушкину и Евангелию, Достоевский разбивает все аргументы и Ивана Карамазова, и Великого инквизитора.
Ф. М.?Достоевский и Н.?В.?Гоголь
«Все мы вышли из “Шинели” Гоголя»
Приписываемая Достоевскому фраза «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя» дает основания полагать, что сам Достоевский считал себя продолжателем гоголевских традиций. Такие же ассоциации вызвал у читателей первый роман Достоевского «Бедные люди», рукопись которого Некрасов вручил Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!» Белинский отреагировал скептически: «У вас Гоголи-то как грибы растут». Но рукопись взял, а когда Некрасов вечером того же дня явился к нему снова по какому-то неотложному делу, Белинский встретил его словами: «Что ж это вы пропали? Где же этот ваш Достоевский? Что он, молод? Сколько ему? Разыщите его быстрее, нельзя же так!»
«У ВАС ГОГОЛИ-ТО КАК ГРИБЫ РАСТУТ».
В. Г. Белинский
Но отношения с наследием Гоголя у Достоевского – это отношения не столь безусловного принятия, как с наследием Пушкина, а фразу «все мы вышли из “Шинели” Гоголя» он и вовсе не произносил. Впервые она появилась в книге французского критика де Вогюэ «Современные русские писатели. Толстой – Тургенев – Достоевский» в таком виде: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя» – и так и осталась в обороте. В 1968 г. советский литературовед С.?А.?Рейсер доказал, что слова эти принадлежат самому де Вогюэ, а вовсе не Достоевскому.
Гоголь и «Бедные люди»
Двойственность отношения Достоевского к гоголевскому наследию отметил уже Н.?Н.?Страхов. Он писал: «Пушкин и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замечательным образом отразились уже в первой повести Достоевского, в “Бедных людях”. Именно тут прямо и ясно выражено, что автор не вполне доволен Гоголем и что прямым своим руководителем он признает только Пушкина… Это была смелая и решительная поправка Гоголя, существенный, глубокий поворот в нашей литературе».
С.?Бочаров в эссе «Холод, стыд и свобода» отметил, что Девушкин прочитал произведения Пушкина и Гоголя в той хронологической последовательности, в которой они были написаны, что неслучайно: ведь мог бы прочитать и наоборот.
Оба произведения герой воспринял в равной мере как правдивые, но правда «Станционного смотрителя» вызвала в нем умиление и сопереживание, а правда «Шинели» – протест и возмущение. Такое разное отношение Бочаров связывает с тем, что чтение Пушкина пришлось у Девушкина на пору радужных ожиданий, а Гоголя – на момент, когда его ожидания изменились к худшему.
Все иллюзии, которые герой питал насчет своей жизни под впечатлением от «Станционного смотрителя», разбились о «Шинель». Именно потому письмо, в котором Девушкин делится впечатлением от «Шинели», начинается словами: «Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили». В восприятии героем себя и собственной жизни под влиянием прочтения повестей Пушкина и Гоголя образовались два полюса: сентиментальный, в котором Самсон Вырин умер несчастным, но любимым, оплаканным и неодиноким в своем посмертии; и безнадежный, в котором единственное возможное посмертие для никем не оплаканного Акакая Акакиевича – это инфернальное существование в виде призрака. И между двумя этими полюсами обостряется саморефлексия героя, рождается острая потребность понять и выразить себя.
Вероятно, причина неприятия «Шинели» кроется не только в том, что герою открылась страшная правда о разверзшейся перед ним бездне. Вот чем Девушкин возмущается в своем письме: «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это, шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в Бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) – оплаканный».
Герою горько не то, что не хватает на шинель или на сапоги. Его пугает унижение, и ему кажется, что в гоголевской повести автор смеется над такими, как он: ведь, по мнению героя, в Акакии Акакиевиче не явлено ничего достойного и значительного – ни в жизни, ни в смерти. Девушкину же хочется во что бы то ни стало сохранить свое человеческое достоинство.
?
К какой традиции ближе Достоевский, изображая мир маленьких людей – пушкинской или гоголевской?
Сравним названия: «Станционный смотритель», «Шинель», «Бедные люди». В двух из них заявлены люди – а у Гоголя предмет. В именовании героев та же тенденция: Башмачкин (от неодушевленного) – Девушкин (от одушевленного). Что уж говорить об объектах любви: Вырин беззаветно любит дочь, Девушкин – Вареньку, а у Акакия Акакиевича роман с шинелью. Достоевский в большей мере продолжает пушкинскую традицию, а гоголевские реминисценции становятся способом ввести тему униженных и оскорбленных.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71779090?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
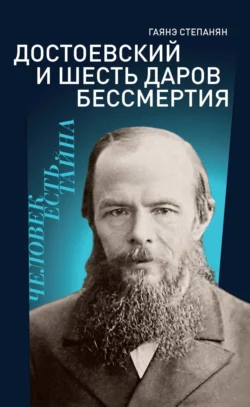
Гаянэ Степанян
Тип: электронная книга
Жанр: Популярно об истории
Язык: на русском языке
Стоимость: 350.00 ₽
Издательство: Бослен
Дата публикации: 27.03.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Персонажи Достоевского – бунтари, блудницы, юродивые, донкихоты и фарисеи. Они бьются над вопросами о добре, зле, источнике страданий, о Боге, вере и отрицании. Но они не вопрошают о смерти. В произведениях она существует как физический факт, а не как философская загадка. Вселенная Достоевского сама по себе является ответом на вопрос о природе бессмертия, к которому стремится человек, и ключи к нему вручаются каждому. Автор предлагает взглянуть на творчество Достоевского глазами современного читателя, знакомит с писателями и произведениями, повлиявшими на его мировоззрение, с типами и ролями персонажей, рассматривает занимающие их вопросы, прослеживает, как мысли и тексты Достоевского трансформировались и вошли в современную культуру.