Записки судебного деятеля
Записки судебного деятеля
Анатолий Федорович Кони
Юридическая мысль
В книгу вошли такие известные дела, как: «Игуменья Митрофа-ния», «Из казанских воспоминаний», «Дело Овсянникова», «Темное дело». Также в сборнике представлен очерк «Князь А. И. Урусов и Ф.Н Плевако», рассказывающий о выдающихся судебных ораторах, которые без предварительной подготовки вышли на один уровень с лучшими представителями западноевропейской адвокатуры.
«Записки судебного деятеля» – это демонстрация того, как много труда и энергии отдал Анатолий Федорович во имя справедливости. Он по-настоящему горел своим делом и находил выход даже из самых сложных ситуаций, выбиваясь из ряда других судебных деятелей своей неподкупностью.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Анатолий Федорович Кони
Записки судебного деятеля
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
А. Ф. Кони
Анато?лий Федорович Ко?ни (1844–1927?гг.)?– это имя известно не только людям, тесно связанным с юриспруденцией, но и весьма далеким от нее. А. Ф.?Кони?– выдающийся юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор (автор биографического очерка «Федор Петрович Гааз», произведений «На жизненном пути», «Отцы и дети судебной реформы», «Судебные речи» и многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры), судебный оратор. Его заслуги были оценены по достоинству: ему был присвоен чин действительного тайного советника, имел ученую степень доктора уголовного права Харьковского университета (1890?г.), звание Почетного академика Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности (1900?г.), он являлся членом Государственного совета Российской империи (1907–1917?гг.), также имел ученое звание профессора Петроградского университета (1918–1922?гг.).
А. Ф. Кони родился в интеллигентной семье и получал хорошее домашнее начальное образование, после чего он продолжил обучение, поступив в четвертый класс Второй Санкт-Петербургской гимназии, к этому моменту уже в совершенстве владея французским и немецким языками и занимаясь переводами литературных произведений. Гимназию он окончил с семью похвальными грамотами и в мае 1861 года сдал экзамены на математическое отделение Санкт-Петербургского университета. На экзамене по тригонометрии его ответы на сложные вопросы сверх программы так восхитили экзаменатора – академика О. И. Сомова, что он готов был немедленно на руках отнести чудо-абитуриента, чтобы представить его ректору.
Однако, в декабре того же года, университет был закрыт на неопределенное время из-за студенческих волнений и беспорядков, что заставило неожиданно прервать блестяще начатое обучение. Чтобы продолжить образование, А. Ф. Кони переехал в Москву и поступил сразу на второй курс Московского университета, но не на математический, а на юридический факультет.
Окончив университет и получив ученую степень кандидата прав, в 1865 году А. Ф. Кони начал юридическую карьеру. В университете ему было предложено остаться на должности преподавателя, но от предложения он отказался, поскольку считал неправильным преподавать не имея практического профессионального опыта.
Некоторое время прослужил на юридической должности в Главном штабе Военного министерства, что заставило его почувствовать непреодолимое влечение к судебной работе. В апреле 1866 года перешел в Санкт-Петербургскую судебную палату на должность помощника секретаря по уголовному департаменту и в последующие годы сменил несколько должностей в разных городах. В Санкт-Петербург А. Ф. Кони возвратился через 6 лет, в 1871 году, и уже прокурором Санкт-Петербургского окружного суда.
В этой должности он работал более четырех лет, в течение которых руководил расследованием наиболее сложных уголовных дел и выступал обвинителем в суде. В это время А. Ф. Кони приобрел широкую известность как судебный оратор, его обвинительные речи печатались в газетах.
В июле 1875 года он был назначен вице-директором департамента Министерства юстиции и вновь вернуться к судебной работе решил лишь в январе 1878 года – уже на должности председателя Санкт-Петербургского окружного суда.
24 января 1878 года В. И. Засулич пыталась убить выстрелами из пистолета петербургского градоначальника Трепова. Преступление вызвало широкий резонанс, причем в обществе преобладало сочувствие к обвиняемой. По этой причине следствие по делу велось в быстром темпе, с исключением всякого политического мотива; уже к концу февраля дело было готово к передаче в суд. А. Ф. Кони получил распоряжение министра юстиции графа К. И. Палена назначить дело к рассмотрению на 31 марта. Министр юстиции и император Александр II требовали от А. Ф. Кони, как только что назначенного председателя Санкт-Петербургского окружного суда, гарантий, что В. И. Засулич будет признана виновной, но Анатолий Федорович таких гарантий не дал. Тогда министр юстиции предложил ему намеренно допустить в ходе процесса какое-либо нарушение закона, чтобы была возможность отменить решение в кассационном порядке. На что А. Ф. Кони ответил: «Я председательствую всего третий раз в жизни, ошибки возможны и, вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным с достоинством судьи!»
В процессе, под председательством А. Ф. Кони, революционерка В. Засулич была оправдана присяжными, но для него самого с этого вердикта начались годы опалы.
Через много лет, будут еще и высокие чины, и звания, но, отказывая императору, судья не мог этого знать, зато А. Ф. Кони точно знал, что неминуемо попадет в немилость, последствия которой неизвестны, и сделал свой выбор – выбор в пользу Правосудия.
Дело Овсянникова
«Не знаете ли вы чего-нибудь о причинах пожара этой огромной паровой мельницы на Измайловском проспекте против станции Варшавской дороги?»?– спросил меня министр юстиции граф Пален, прибавив, что, проезжая накануне вечером мимо, он был поражен грандиозностью картины этого пожара. «Вероятно, я получу в свое время полицейское извещение, если есть признаки поджога»,?– отвечал я и, приехав в прокурорскую камеру (я был в это время, т. е. в 1874 году, прокурором Петербургского окружного суда), действительно нашел коротенькое сообщение полиции о том, что признаков поджога, вызвавшего пожар мельницы коммерции советника Овсянникова, не оказывается. Меня смутила краткость этого заявления, его ненужность по закону и его поспешная категоричность в связи с рассказом графа Палена. Я поручил моему покойному товарищу, энергичному А. А.?Маркову, поехать на место и произвести личное дознание.
Поздно вечером он привез мне целую тетрадь осмотров и расспросов на месте, из которых было до очевидности ясно, что здесь имел место поджог. Собранные на другой день сведения о договорных отношениях, существовавших между известным В. А. Кокоревым и С. Т. Овсянниковым по аренде мельницы, указывали и на то, что именно Овсянникову мог быть выгоден пожар мельницы и что есть основания сказать: «is fecit cui prodest» [1 - Сделал тот, кому выгодно (лат.).]. Я предложил судебному следователю по особо важным делам, Книриму, начать следствие и немедленно произвести обыск у Овсянникова, а наблюдение за следствием принял лично на себя Овсянников, не привыкший иметь дело с новым судом и бывший в былые годы в наилучших отношениях с местной полицией, причем за ним числилось до 15 уголовных дел, по которым он старым судом был только «оставляем в подозрении», не ожидал обыска и не припрятал поэтому многих немаловажных документов. Среди них, между прочим, оказался именной список некоторым чинам главного и местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им, влиятельным поставщиком муки, военному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Д. А. Милютину.
Высокий старик, с густыми насупленными бровями и жестким взором серых проницательных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года, Овсянников был поражен нашествием чинов судебного ведомства. Он был очень невежлив, презрительно пожимал плечами, возражал против осмотра каждого из отдельных помещений, говоря: «Ну, тут чего еще искать?!» – и под предлогом, что в комнатах холодно, надел какое-то фантастическое пальто военного образца на генеральской красной подкладке. Но «der lange Friedrich» [2 - Высокий Фридрих (нем.)], как звали у нас Книрима, невозмутимо делал свое дело… Я подошел, между прочим, к оригинальным старинным часам в длинном деревянном футляре, вроде узкого шкапа. «Вот, изволите видеть, – сказал Овсянников, желая, вероятно, показать, что и он может быть любезен и владеть собою, – вот это большая редкость, это часы прошлого века. Таких, чай, немного». Подошел и Книрим. «А где ключ?» – спросил он. «Эй, малый! – крикнул Овсянников. – Подать ключ!» Книрим подозвал понятых, отпер дверь футляра и стал исследовать его внутренность. Овсянников не вытерпел, грозно сдвинул брови и, энергически плюнув, отошел от часов.
Вечером в тот же день в камере следователя по особо важным делам был произведен допрос Овсянникова. Он отвечал неохотно, то мрачно, то насмешливо поглядывая на следователя и очень недоброжелательно относясь в своих показаниях к Кокореву. В конце допроса я отвел Книрима в сторону и сказал ему, что нахожу необходимым мерою пресечения избрать лишение свободы, так как иначе Овсянников, при своих средствах и связях, исказит весь свидетельский материал. «И я нахожу нужным то же», – отвечал Книрим. «Надо, однако, дать старику, ради здоровья, некоторые удобства, и если вы ничего не имеете против Коломенской части, где есть большие и светлые одиночные камеры, куда можно, с разрешения смотрителя, поставить свою мебель, то я распоряжусь об этом немедленно». – «Прекрасно, – сказал Книрим, – а я напишу краткое постановление». – «Господин Овсянников, – сказал я, усаживаясь сбоку стола, на котором писал Книрим, – не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоряжений, которые не могут быть отложены». – «Это еще зачем?» – спросил сурово Овсянников. «Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь». – «Что? – почти закричал он. – Под стражу! Я? Овсянников? – и он вскочил с своего места. – Да вы шутить, что ли, изволите? Меня под стражу?! Степана Тарасовича Овсянникова? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянникова!!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, этого вам не видать!» – «Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не домой», – сказал я. «Да что же это такое! – опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу. – Да что я, во сне это слышу? Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы у меня еще ответите!» Его прервал Книрим, который прочел краткое постановление о взятии под стражу и предложил ему подписать. Тут он смирился и послал на извозчике одного из сторожей за старшим сыном. Допрос, между тем, продолжался вследствие выраженного им желания дать еще некоторые разъяснения. С прибывшим сыном он обошелся очень сурово, и когда тот, по моему приглашению, хотел сесть, он так взглянул на него, что тот заколебался и сел лишь, когда отец крикнул ему: «Ну, садись, садись! Я не воспрещаю».
На свой арест Овсянников принес жалобы в окружной суд и затем в судебную палату. Жалобы эти были написаны хотя и кратко, но искусно, умелою рукою. Оказалось, что их писал известный талантливый цивилист Боровиковский, незадолго перед тем перешедший в адвокатуру из товарищей прокурора Петербургского окружного суда. За этот свой небольшой письменный труд, так как по жалобам такого рода поверенные не допускались к личным объяснениям, Боровиковский получил от Овсянникова 5 тысяч рублей. Известие об этом произвело некоторое волнение в петербургском обществе, очень чутко относившемся ко всему, что касалось дела Овсянникова. В огромном городе за небольшую работу многие были склонны видеть указание на то, что «король Калашниковской биржи» не остановится ни перед какими жертвами для того, чтобы попытаться еще раз остаться в совершенно безвредном для него «подозрении». Некоторые применяли к поверенному обвиняемого стихи Некрасова:
«Получив гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный: перед вами стоит гражданин – чище снега Альпийских вершин». Это доходило до Боровиковского и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом, так что он пришел, наконец, ко мне – своему старому сослуживцу и бывшему начальнику – и заявил, что жалобы написаны им потому, что его убедили в невиновности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения, но что он готов возвратить деньги для избежания дальнейших упреков. Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что, кроме того, огласкою возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту, так как это возвращение будет, без сомнения, истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего.
Поэтому лучше дождаться решения присяжных и затем, подчинившись ему, пожертвовать такие деньги на какое-либо доброе дело, если приговор состоится против Овсянникова. Взволнованный Боровиковский не без труда согласился последовать этому совету. В день произнесения обвинительного приговора об Овсянникове он прислал в мое распоряжение, для употребления с благотворительною целью, 5 тысяч рублей, каковые я немедленно препроводил ректору Петербургского университета П. Г. Редкину для обращения, по его усмотрению, в пользу нуждающихся студентов.
У Овсянникова нашлись и другие заступники. Одним из них была напечатана заметка, в которой горячо доказывалось, что человек, жертвовавший большие суммы на церкви и казенные благотворительные учреждения, не мог совершить корыстного преступления, причем приводился и самый список таких пожертвований в довольно крупных суммах. Указание на такие жертвы нельзя было, однако, назвать удачным. Овсянников, как он сам выразился на суде, шел «с материнской колыбели» к широкому хлебному рынку, опираясь на крупные и выгодные интендантские подряды, и, наконец, сделался одним из самых могущественных обладателей этого рынка, окруженным лицемерным поклонением менее крупных поставщиков, среди которых он привык играть властительную роль, повелительно ставя свои условия. Но с начала 70-х годов многолетний подряд на поставку муки петербургскому военному округу стал неразрывно связываться с обязанностью перемалывать хлеб на паровой мельнице, которой Овсянников был не собственником, а только арендатором, чувствующим себя в косвенной зависимости от собственника мельницы Кокорева, имевшего возможность отказать в продолжении аренды, т. е. лишить его долгосрочного контракта с казною и тем поколебать влиятельное положение честолюбивого и не знающего «препятствий своему нраву» старика, на восьмом десятке его жизни. Поэтому не корысть, а более сложные побуждения могли заставить его желать пожара мельницы перед истечением срока контракта – пожара, который обессилил бы его недруга Кокорева и заставил бы военное ведомство отказаться от ненавистного условия о временном перемоле хлеба на паровой мельнице. При том – щедрые пожертвования при надлежащей и услужливой огласке не менее щедро оплачивались различного рода почетными наградами и публичным возвеличиванием «маститого благотворителя». Не говоря уже об имевшихся в деле сведениях о суровом и черством отношении Овсянникова к тяжелому положению простых и незаметных людей, находившихся от него в трудовой зависимости, мне пришлось случайно убедиться в том, как мало трогало его горькое положение даже и таких людей, к которым он относился, по-видимому, доброжелательно.
Недели через две после арестования Овсянникова моя старая служанка, которой было категорически запрещено ходатайствовать за кого-либо или докладывать мне о каких-либо просителях по делам («чтобы никакого эхо не было», как она объясняла себе мое требование), после больших предисловий о том, что бог меня наградит и что много на свете несчастных людей, стала меня просить все-таки выслушать на дому одну бедную девушку, которая очень нуждается в моем совете, не зная, как ей быть от «мужского обмана», но в суд ко мне идти не решается, так как она «девушка порядочная и скромная и никогда по таким местам не ходила». Нечего делать, надо было уступить, и ко мне явилась миловидная, но болезненного вида девушка, лет 20, немного цыганского типа, с черными глазами и худенькими руками, одетая очень бедно. На ней был длинный темный платок, расходившиеся концы которого спереди она стыдливо и постоянно оправляла и сближала. Она печально потупляла голову, голос ее по временам дрожал, а глаза наполнялись слезами, которые она как-то трогательно и конфузливо собирала пальцами и стряхивала на пол. «Мы живем с маменькой «честно-благородно» и занимаемся по швейной части. Нам, зная нашу бедность, помогал и часто заезжал к нам купец Тарасов, холостой, был очень добр и ласков, облегчал в нужде мамашу и меня: я его почитала как отца родного, и он обещал меня не оставить своей помощью. А потом вдруг перестал ездить – совсем нас позабыл, и по адресу Тарасова оказалось совсем другое лицо. Теперь же мы очень бедствуем: приходится жить штучной работой для рынка, а много ли так наработаешь?! Да и здоровье мое стало слабое, и в люди показаться стыдно, а о маменьке и говорить нечего. Мы узнали, что купец этот – Степан Тарасович Овсянников – находится в заточении. Так это нам прискорбно, что и сказать нельзя, а пойти к нему или написать не смеем: сказывают, начальство не допустит. Бог даст, соберемся с силами и работу постоянную найдем, так и поправимся, а теперь очень трудно. Опять же и лекарства для маменьки… просто хоть руки на себя наложить! Я уж и то хотела в Неву броситься, да маменьку жаль: она этого не переживет… А как сообщить о моем положении Степану Тарасовичу – не знаем: как бы его не прогневить в несчастии. Может, у вас есть кто знакомый из начальства… Окажите божескую милость: научите, что делать?!.» Ее слезы и неподдельное участие к судьбе «благодетеля» очень тронули меня, и я, предложив ей написать Овсянникову письмо с объяснением своего грустного материального положения, обещал это письмо не только передать ему, но и попросить его ответа. Она ушла несколько успокоенная, а на следующий день прислала письмо на имя «батюшки Степана Тарасыча», написанное довольно связно и начинавшееся так: «Осведомилась я, что вы, благодетель наш, попали в руки злодеев» и т. д. В некоторых местах буквы расплывались от пролитых над письмом слез. Оно кончалось словами: «День и ночь молюсь за вас и целую, припадаючи, ручки». Один из «злодеев» – в моем лице – передал письмо товарищу прокурора Вильямсону, заведовавшему арестантскими помещениями, с просьбой вручить его Овсянникову и спросить, не будет ли какого-либо ответа. Дня через два Вильямсон рассказал мне, что, когда, приехав в Коломенскую часть, он заявил Овсянникову, что прокурор передал ему письмо на его имя с просьбой дать ответ, Овсянников чрезвычайно оживился, встрепенулся и быстро спросил: «Какое? какое письмо? от самого прокурора?» По-видимому, он вообразил себе, что старые судебные порядки снова для него оживают, хотя и в новых обличиях. Он почти вырвал у Вильямсона письмо из рук и, пытливо на него поглядывая, отошел к окну и стал читать.
Затем насупился и начал большими тяжелыми шагами ходить по комнате. «Вы знаете эту девушку?» – спросил Вильямсон. Овсянников посмотрел на вопрошающего и затем недовольным голосом сказал: «Коли пишет, значит, знавал!» – «Что же может сказать прокурор писавшей?» – Овсянников молча подошел к топившемуся камину, разорвал письмо на четыре части, бросил его в огонь и, когда оно запылало, почти крикнул: «Мне теперь не до того! Вот мой ответ: пущай горит!»
По следствию и на суде обнаружилось, что фактическим поджигателем был приказчик Левтеев, исполнивший при содействии сторожа Рудометова, заведомо для хозяина, неоднократно выраженное последним желание, чтобы мельница сгорела. Когда я предполагал быть обвинителем по этому громкому и трудному делу, я жалел, что не могу рассказать присяжным про несчастную девушку и про слова обвиняемого в камере Коломенской части. Это «пущай горит» лучше всяких сложных соображений нарисовало бы перед присяжными движущие мотивы того, в чем обвинялся Овсянников. Уж если про жертву своей старческой забавы человек, располагавший миллионами, мог сказать «пущай горит», то насколько понятнее и возможнее было сказано то же самое для того, чтобы отделаться от ненавистной мельницы и в то же время насолить врагу. Но вследствие назначения меня вице-директором департамента Министерства юстиции мне не пришлось быть обвинителем. Меня заменил талантливый и тонкий судебный оратор В. И. Жуковский, внесший в свою речь свойственный ему глубокий и неотразимый сарказм, так соответствовавший его наружности, в которой было что-то мефистофельское. Гражданскими истцами в судебном заседании явились – Кокорев от своего собственного лица и Спасович от лица страховых обществ. Первый сказал скрипучим голосом чрезвычайно обстоятельную и умную речь с убедительным разбором мотивов деяния Овсянникова, а второй со своим угловатым жестом и как бы непокорным словом, всегда заключавшим в себе глубокий смысл, превзошел, как принято говорить, самого себя в разборе и сопоставлении улик и в оценке экспертизы, произведенной над обширною моделью мельницы, принесенной в залу суда. Особенное впечатление произвела нарисованная им картина «извивающегося, как дракон», из одного отделения мельницы в другое огня, сразу показавшегося в трех местах, причем его изгибы незаметны со стороны.
Не менее удачна была характеристика подрядного дела с казной, исполненного риска. Казна сбивает цены, подрядчики отчаянно, рискуя сделаться несамостоятельными, конкурируют между собою, и «с самого низу от последнего канцеляриста протягиваются руки, которые чувствуют пустоту и которые надо занять». Поэтому лишь податливый, привычный и знающий подрядчик сумеет установить и наладить «известную среднюю недобросовестность», причем «чиновники допускают товар не совсем еще негодный, а подрядчик старается, чтоб товар не был уже совсем плох». С особенной силой ответил Спасович на упрек защитника Овсянникова, что он строит все свои выводы на одних косвенных уликах, на чертах и черточках: «Н-да! черты и черточки! – воскликнул он. – Но ведь из них складываются очертания, а из очертаний буквы, а из букв слоги, а из слогов возникает слово, и это слово: поджог!»
Признанный виновным Овсянников был сослан в Сибирь на поселение, но оттуда постоянно ходатайствовал о помиловании и взывал к высокопоставленным влиятельным лицам о поддержке своих ходатайств. Через несколько лет ему было разрешено вернуться в Европейскую Россию, но не в столицы, и он прожил последние годы своей жизни в Царском Селе. Но и в Сибири он умел создать себе исключительное среди ссыльных положение. На эту мысль наводит статья товарища прокурора одного из прикамских окружных судов господина И. М. «Миллионер в ссылке», помещенная в декабрьской книжке «Недели» за 1897 год. В ней подробно описывается ряд отступлений от устава о ссыльных в пользу Овсянникова, с которыми тщетно боролся товарищ прокурора и почин которых принадлежал приказчику или какому-то родственнику ссылаемого, тратившему, по слухам, большие суммы для доставления ему всевозможных облегчений и удобств. Нет основания предполагать, чтобы родственники Овсянникова, участливо заботясь о нем в пути, могли оставить его на произвол судьбы и в месте ссылки.
Это дело было настоящим торжеством нового суда. Немецкая сатирическая печать даже не хотела верить, чтобы двенадцатикратный (zwolffache) миллионер Овсянников мог быть арестован, а если бы это и случилось, то выражала уверенность, что на днях станет известным, что одиннадцатикратный (elffache) миллионер Овсянников выпущен на свободу.
Мне вспоминается, как была поражена привезенная из Москвы для следственных действий знаменитая игуменья Митрофания, когда при ней привели в обширную камеру Книрима не менее, хотя и в другом роде, знаменитого Овсянникова. Взглянув друг на друга и озираясь на свое еще недавнее прошлое, они могли воскликнуть: «Пан умер! великий Пан умер!»…
Из казанских воспоминаний
Если бы знаменитый криминолог Ломброзо увидал некоего Нечаева, которого мне пришлось обвинять в Казани весной 1871 года, то он, конечно, нашел бы, что это яркий представитель изобретенного итальянским ученым преступного типа и прирожденный преступник?– маттоид. Маленького роста, растрепанный, с низким лбом и злыми глазами, курносый, он всей своей повадкой и наружностью подходил к излюбленному болонским профессором искусственному типу. Он представлял вместе с тем и своего рода психологическую загадку по той смеси жестокости, нахальства и чувствительности, которые отражались в его действиях.
В 1871 году благовещение приходилось в пятницу на Страстной неделе. «Свято соблюдая обычай русской старины», старик портной Чернов решил, вместо птицы, выпустить на свободу человека. Он отправился в тюремный замок и там узнал, что есть арестант – отставной военный писарь Нечаев, обвиняемый в краже и сидящий лишь за неимением поручителя на сумму 50 рублей. Чернов обратился к начальству тюрьмы, прося отдать ему на поруки Нечаева, и, по соблюдении формальностей, получил его на свои руки и немедленно привел к себе в мастерскую, подарив ему при этом две ситцевых рубашки и рубль серебром. С ними Нечаев немедленно исчез и вернулся лишь перед самой пасхальной заутреней и, конечно, без рубашек и без рубля. Утром в день Светлого воскресения он стал требовать еще денег, но Чернов отказал. В четыре часа дня последний оказался убитым, с кровоподтеками на виске и на лбу, причем шея его была почти совершенно перерублена топором, валявшимся тут же, а голова висела лишь на широком лоскуте кожи. Карманы платья Чернова были выворочены, и со стены исчезло его новое, только что сшитое пальто. Исчез и Нечаев. Он был обнаружен ночью в доме терпимости, причем на спине его, на рубашке, найдено было большое кровавое пятно; такое же пятно было и на подкладке пальто со стороны спинки. Нечаев ни в чем не сознавался и даже отрицал свое знакомство с Черновым и пребывание в его доме. Он держал себя чрезвычайно нагло. Когда его вели в сопровождении массы любопытствующего народа на квартиру Чернова для присутствия при осмотре места преступления, он обратился к проезжавшему мимо губернатору со словами: «Ваше превосходительство, а что бы вам меня за деньги показывать? Ведь большая бы выручка была!»
Пред осмотром и вскрытием трупа убитого в анатомическом театре университета Нечаев прислал мне заявление о непременном желании своем присутствовать при этой процедуре. Во время последней он, совершенно неожиданно, держал себя весьма прилично и внимательно вглядывался и вслушивался во все, что делал и говорил профессор судебной медицины И. М. Гвоздев. Когда последний кончил, Нечаев спросил меня: «Как объясняет он кровоподтек на лбу?» Я попросил Гвоздева повторить обвиняемому это место его visum repertum [3 - Установленной картины преступления (лат.).] и заключения. «Этот кровоподтек должен быть признан посмертным, – сказал Гвоздев, – он, вероятно, получен уже умершим Черновым во время падения с нар, возле которых найден покойный, от удара обо что-нибудь тупое». Нечаев злобно усмехнулся и вдруг, обращаясь ко мне и к следователю, громко сказал: «Гм! После смерти?! Все врет дурак! Это я его обухом топора живого, а не мертвого; он еще после этого закричал». И затем Нечаев тут же, не без развязности, рассказал, как, затаив злобу на Чернова за отказ в деньгах, поджидал его возвращения с визитов и как Чернов вернулся под хмельком, но грустный, и жаловался ему, что у него сосет под сердцем «точно смертный час приходит». «Тут я, – продолжал свой рассказ Нечаев, – увидел, что действительно его час пришел. Ударом кулака в висок сбросил я его с нар, на краю которых он сидел, схватил топор и ударил его обухом по лбу. Он вскрикнул: «Что ты, разбойник, делаешь?!» – а потом забормотал и, наконец, замолчал. Я стал шарить у него в карманах, но, увидя, что он еще жив, ударил его изо всей силы топором по шее. Кровь брызнула, как кислые щи, и попала на пальто, которое Чернов повесил на стену, повернув подкладкой кверху, потому что оно было новое. Я крови не заметил, когда надевал пальто; оттого у меня она и на спине оказалась. А вы, может, и поверили, что это из носу?» – насмешливо заключил он, обращаясь к следователю и напоминая свое первое объяснение этого пятна.
В тюрьме он себя держал спокойно и просил «почитать книжек». Но, когда я однажды взошел к нему в камеру, он заявил мне какую-то совершенно нелепую жалобу на смотрителя и, не получив по ней удовлетворения, сказал мне: «Значит, теперь мне надо на вас жаловаться?» – «Да, на меня». – «А кому?» – «Прокурору судебной палаты, а еще лучше министру юстиции: он здесь будет через неделю». – «Гм, мое дело, значит, при нем пойдет?» – «Да, при нем». – «Эх-ма! В кармане-то у меня дыра, а то бы князя Урусова надо выписать. Дело мое ведь очень интересное. А кто меня будет обвинять?» – «Я». – «Вы сами?» – «Да, сам». – «То-то, я думаю, постараетесь! при министре-то?» – вызывающим тоном сказал он. «За вкус не ручаюсь, а горячо будет», – ответил я известной поговоркой. – «А вы бы меня, господин прокурор, пожалели: не весело ведь на каторгу идти». – «Об этом надо было думать прежде, чем убивать для грабежа». – «А зачем он мне денег не дал? Ведь и я хочу погулять на праздниках. Я так скажу: меня не только пожалеть надо, а даже быть мне благодарным. Не будь нашего брата, вам бы и делать было нечего, жалованье не за что получать». – «Да, по человечеству мне и впрямь жаль», – сказал я. «А коли жаль, так у меня к вам и просьба: тут как меня выводили гулять или за нуждой – что ли, забралась ко мне в камеру кошка, да и окотилась; так я просил двух котяток мне отдать: с ними занятнее, чем с книжкой. Однако не дали. Прикажите дать, явите божескую милость!» Я сказал смотрителю, что прошу исполнить просьбу Нечаева.
В заседании суда, в начале июня, действительно присутствовал граф Пален, приехавший в Казань на ревизию. Нечаев держал себя очень развязно, говорил колкости свидетелям и заявил, что убийство совершилось «фоментально» (т. е. моментально). Присяжные не дали ему снисхождения, и он был приговорен к 10 годам каторги. В тот же день казанское дворянство и городское общество давали обед графу Палену в зале дворянского собрания. В середине обеда мне сказали, что приехал смотритель тюремного замка по экстренному делу. Я вышел к нему, и он объяснил, что Нечаев, привезенный из суда, начал буйствовать, вырвал у конвойного ружье и согнул штык (он обладал громадной физической силой), а затем выломал у себя в камере из печки кирпич и грозил размозжить голову всякому, кто к нему войдет. Его удалось обезоружить, но смотритель находил необходимым заковать его в ручные и ножные кандалы, не желая, однако, это сделать без моего ведома, так как на мне лежали и обязанности старого губернского прокурора. Я отнесся отрицательно к этой крайней мере и посоветовал ему подействовать на Нечаева каким-нибудь иным образом. «Что – котята еще у него?» – «У него – он возится с ними целый день и из последних грошей поит их молоком». – «Так возьмите у него в наказание котят». Смотритель, старый служака прежних времен, посмотрел на меня с недоумением, потом презрительно пожал плечами и иронически сказал: «Слушаю-с!»
Прошло три дня. Смотритель явился ко мне вновь. «Господин прокурор, позвольте отдать котят Нечаеву». – «А что?» – «Да никак невозможно». – «Что же? буйствует?» – «Какое, помилуйте! Ничего не ест, лежит у дверей своей камеры на полу, стонет и плачет горючими слезами: «Отдайте котят, – говорит, – ради Христа отдайте! Делайте со мной, что хотите: ни в чем перечить не буду, только котяточек моих мне!» Даже жалко его стало. Так можно отдать? Он уж будет себя вести примерно. Так и говорит: «Отдайте: бога за вас молить буду!»
И котята были отданы убийце Чернова.
Из харьковских воспоминаний
Я всегда находил, что в нашей русской жизни воспитание детей построено на самых извращенных приемах, если только вообще можно говорить о существовании воспитания в истинном смысле слова между русскими людьми. Даже вполне развитые родители по большей части относятся к детям со слепотою животной любви и совершенно не думают о том, что впечатления, даваемые восприимчивой душе ребенка, должны быть строго соразмерены с его возрастом и с той работой мысли и чувства, которую они собой вызывают. В особенности это можно сказать про чтение, невнимание к выбору которого у некоторых воспитателей граничит с преступностью, тяжкие последствия которой лишь иногда парализуются чистотою детской души и свойственным возрасту непониманием тех или других отношений. Сюда же относятся неосторожность в разговорах при детях и бессмысленное, подчас доходящее до бессознательной жестокости, стремление доставлять детям развлечение, в котором детская душа менее всего нуждается, находя себе пищу в простых явлениях окружающей природы и жизни. Я знаю немало образованных и добрых людей между моими друзьями и хорошими знакомыми. Но, когда порой я вижу, как они воспитывают своих детей, спеша насытить их души преждевременными впечатлениями и болезненно развить их фантазию и тщеславие, как возят их по циркам, загородным садам и театрам, как заставляют их разыгрывать взрослых на так называемых «детских балах», как, в ущерб своему естественному авторитету, стараются поставить их в положение равноправных и ничем не стесняемых товарищей, я готов сурово порицать этих добрых и милых людей за то, что к сомнительному благодеянию?– дать жизнь?– они присоединяют еще и жестокость своей воспитательной отравы. Но об этом можно бы писать целые часы, писать слезами и кровью, широко почерпнутыми из повседневных явлений современной жизни с ее психопатами, неврастениками и самоубийцами.
И мне невольно вспоминается первое из впечатлений ужаса, которое я испытал вследствие стремления доставлять детям развлечения. Когда мне было лет восемь, меня взяли в Пассаж, в Петербурге, где был кабинет восковых фигур. Я вижу этот кабинет и все фигуры до сих пор с такой отчетливостью, как будто я стою перед ними. В конце кабинета в последней комнате помещалась темная раздвижная занавесь и пред нею маленькая рампа, за которой зажгли ряд свечей; затем хозяин кабинета на ломаном русском языке объяснил усевшимся перед рампой посетителям, что будет показана сцена из времен испанской инквизиции, представляющая пытку дочери знатного испанца, которую слуга-негр обвинял в ереси. Присутствовавшая при пытке сестра несчастной сошла, при виде ее страданий, с ума, а доносчик, запертый в соседней комнате, сознав гнусность своего поступка и слыша стоны своей жертвы, старается разбить себе голову об стену. После этого объяснения следовало меня, восприимчивого и нервного ребенка, взять за руку и немедленно увести. Но это противоречило бы теории доставления развлечений…
Занавесь раздвинулась, и предстала картина, которая никогда не изгладится из моей памяти. По стенам, в глубине сцены, стоял ряд монахов с надетыми на голову черными остроконечными капюшонами, в которых были сделаны лишь два маленьких зловещих отверстия для глаз;, перед ними, за покрытым черным сукном столом, стоял, протянув повелительно руку, главный инквизитор в красной мантии, а на первом плане один палач, в узком черном же капюшоне, но не в рясе, крепко держал стоявшую на коленях молодую и красивую девушку с растрепанными волосами, разинутым, конечно, для крика, ртом и полными страдания и ужаса глазами, а другой, схватив ее за руку, окровавленными клещами вырывал у нее ногти. В стороне, лицом к зрителю, стояла ее сестра в белом платье, устремив вдаль безумный взор и зажимая себе уши руками, а рядом, в небольшой комнатке, молодой негр или, вернее, мулат, в светлой одежде, с ужасным выражением лица, ударялся головой об стену, и кровь текла по его лицу, оставляя следы на стене и на платье. Мне трудно передать, что я перечувствовал, глядя на эту картину. Доставление мне этого жестокого развлечения сопровождалось, в том же воспитательном ослеплении, предложением книги Поля Ферраля «Тайны испанской инквизиции», а результат всего этого выразился в том, что я почти месяц не мог спать, переживая каждую ночь виденную мною картину или постоянно просыпаясь с криком ужаса, если удавалось забыться на некоторое время. С тех пор у меня явилось инстинктивное и непреодолимое отвращение к восковым фигурам, и попытки переломить себя и зайти в Panopticum [4 - Крупнейший в Германии музей восковых фигур, основанный в 1879?г.] в Берлине стоили мне насилия над собой и отравленного на целый день настроения. Говоря откровенно, если бы даже и теперь, когда мне идет восьмой десяток, мне предложили остаться на ночь в комнате, где лежит несколько трупов, хотя бы и в том виде, в каком их приходится видеть в анатомическом театре, или же в комнате, где находится несколько восковых фигур, одетых и даже красивых, я без колебаний предпочел бы первое, до того мне тягостно и тошнотворно зрелище этих остановившихся глаз и этих безжизненных рук и ног, перед которыми ноги трупа все-таки кажутся более живыми. Замечу при этом, что флорентийские раскрашенные статуи не производят па меня никакого неприятного впечатления. Очевидно, в основе всего лежит восковой кабинет в Пассаже.
Я думаю вообще, что восковые кабинеты и во многих отношениях современные нам кинематографы должны быть подчинены строгому и действительному надзору для ограждения их посетителей от вредных и противных стыдливости впечатлений, приучающих зрителей к спокойному созерцанию жестокости или к удовлетворению болезненной и кровожадной любознательности. Для меня несомненно дурное влияние на многих из посетителей музея Grevin [5 - Парижский музей восковых фигур, открытый в 1882?г.] в Париже, подносящего своим посетителям последние новинки из мира отчаяния, крови и преступлений» или так называемых «Folterkammer» [6 - Камера пыток; застенок (нем.).] немецких восковых кабинетов. При этом надо заметить, что картины страданий и вызываемый ими ужас для многих имеют в себе ядовитую привлекательность. Такое же влияние имеют иногда и те произведения живописи, в которых этическое и эстетическое чутье не подсказало художнику, что есть в изображении действительности или возможности черта, переходить за которую не следует, ибо за нею изображение уже становится проступком, и притом проступком безжалостным и дурным. Несколько лет назад на художественных выставках в Берлине и Мюнхене были две картины. Одна представляла пытку водою, причем безумные от страдания, выпученные глаза и отвратительно вздутый живот женщины, в которую вливают, зажимая ей нос, чтобы заставить глотать, второе ведро воды, были изображены с ужасающей реальностью. На другой, носившей название «Искушение святого Антония», место традиционных бесов и обнаженных женщин занимали мертвецы всех степеней разложения, пожиравшие друг друга и пившие из спиленной верхней части своего черепа, обращенной в чашу, лежавший в ней свой собственный мозг. Перед обеими картинами всегда стояла толпа, некоторые возвращались к ним по нескольку раз, и в то время, когда из их уст раздавались невольные возгласы отвращения и ужаса, глаза их жадно впивались во все отталкивающие подробности…
Конечно, я говорю о пребывании в комнате с трупами лишь при неизбежности выбора между ними и восковыми куклами, ибо и с трупами я испытал два очень тяжелых впечатления. Оба они имели место в Харькове.
На Рыбной улице был убит в своей лавке купец Белоусов жестоким ударом большого полена в лицо, которое представляло из себя не поддающийся описанию страшный вид; особенно тяжкое впечатление производил один уцелевший глаз, выпученный как бы с выражением застывшего ужаса, тогда как другой был выбит ударом и размозженный висел на каких-то синевато-красных нитях. Старик лежал поперек порога из задней комнаты в лавку, так что для перехода из одной в другую приходилось шагать через его труп, одетый в длинный белый халат. Руки старика со скорченными пальцами были подняты вверх и так и застыли, а ноги широко раскинуты. Вся фигура представляла тягостное зрелище и казалась в полусвете задней комнаты колоссальной. Было очевидно, что убийца вошел не в дверь лавки, которая была заперта тяжелым засовом с замком, ключ от которого оказался в кармане халата убитого. Он не мог войти и через чердак и проломанное в потолке отверстие, так как следы крови и рук на приставленной к этому отверстию лестнице указывали, что она была принесена после убийства и что ее протащили через труп. Оставалось прийти к выводу, что убийца проник с заднего хода, где дверь запиралась довольно слабо входившим в петлю длинным крючком. Для подтверждения этого вывода нужно было убедиться, что убийца, дергая дверь, мог заставить крючок прыгать и, наконец, совсем выскочить из петли. Затем, когда Белоусов – человек одинокий и опасливый, собиравшийся уже ложиться спать в лавке, где за прилавком стояла его кровать, быть может, привлеченный шумом, пошел в заднюю комнату и показался на ее пороге, притаившийся у стены убийца ударил его со страшной силой длинным поленом по голове и убил. Полено это, все в крови и с прилипшими к нему седыми волосами с головы и бороды старика, валялось около трупа. Для того, чтобы надеть крючок и видеть его положение при дерганье двери, нужно было кому-либо войти в заднюю комнату и в ней запереться. Судебный следователь решил остаться снаружи и в присутствии понятых дергать дверь. На мое предложение помощнику полицейского пристава войти и запереться он отвечал, что ему дурно, и он просит освободить его от этого опыта. Тогда я решил запереться сам, оставшись один в полумраке задней комнаты, в одном шаге от мертвого старика.
Тяжелый воздух стоял в комнате, и гнетущая тишина господствовала вокруг, покуда следователь Гераклитов готовился начать дергать дверь. Чем более глаза привыкали к полусвету маленькой комнаты, скорее похожей на каморку, тем явственнее рисовалась фигура убитого. Накладывая крючок, я должен был обходить полено, чтобы оставить его для описания при осмотре в прежнем положении и при этом полами своего пальто касаться одной из окоченелых рук старика. Началось дерганье двери, крючок прыгал, но не соскакивал с петли. Иногда дерганье прерывалось, смутно было слышно, что следователь что-то объяснял понятым, затем наступало несколько мгновений тишины, которые начинали казаться целой вечностью. Наконец, дерганье прекратилось вовсе, голоса замолкли, и я остался один с убитым стариком. Так прошло минуты две. Затем дерганье возобновилось с новой энергией, и я должен был собрать всю силу самообладания, чтобы не помочь крючку выскочить из петли. Но вот он стал прыгать сильнее, и наконец дверь распахнулась и в мое заточение хлынул поток света. Я был белее старикова халата, и сердце мое усиленно и нервно билось где-то у самого горла, стесняя дыхание и затрудняя речь. Сознание, что я – юный товарищ прокурора – подал пример смелости полицейскому чиновнику, не очень меня радовало, ибо в глубине души я понимал, что, продлись еще одну минуту медлительный опыт над дверью и раздумье пред нею Гераклитова, я бы лежал без чувств в объятиях старика.
Другой случай мог бы послужить материалом для одного из рассказов Эдгара По, до такой степени в нем собрался воедино ряд впечатлений, из которых каждого было бы достаточно, чтобы не быть никогда забытым. В Харькове существовал, а, быть может, существует и ныне, обычай заменять новогодние визиты раутом в дворянском собрании, где все лица общества обменивались приветствиями, а молодежь танцевала. Первого января 1869 г. я отправился на этот раут, но, выходя из дому, получил письмо, в котором меня, как товарища прокурора, извещали, что в тюремном замке товарищами по заключению был убит арестант, а начальство скрыло это происшествие. Убитого отпели, как умершего естественной смертью, несмотря на то, что многие видели боевые знаки на лице у лежавшего в гробу, и, чтобы окончательно опустить концы в воду, труп отправили в анатомический театр, откуда его возьмут, конечно, в препаровочную, и всякий след преступления потеряется.
Письмо было анонимное, но на порядках харьковского тюремного замка со времени знаменитого на юге России дела о подделке серий лежала тень подозрений. Поэтому, встретив на рауте прокурора судебной палаты Писарева, я показал ему это письмо, и мы решили, что я произведу личное дознание, немедленно отправясь в анатомический театр для разыскания трупа. На рауте был и профессор патологической анатомии, милый, глубокоученый и оригинальный друг мой Душан Федорович Лямбль. Я просил его отправиться со мною, на что он выразил согласие с большой готовностью, и мы, как были на рауте, во фраках и белых галстуках, поехали в университет, где не без труда разыскали полупьяного сторожа, и этот своеобразный Виргилий повел нас по кругам анатомического ада. Миновав несколько комнат, мы вступили в амфитеатр, перед пустыми скамьями которого стоял стол с мраморной доской, и на нем сидела обнаженная молодая женщина, прислоненная к особой подпорке, поддерживавшей ее голову. Молодое и красивое тело ее было немного подернуто зеленью разложения, окоченелые руки и ноги были слегка согнуты в коленях и локтях, а лицо… лица было не видно, ибо головная кожа была подрезана от одного уха до другого через шею ниже затылка и вывернутая наизнанку, зияя мясом и мелкими сосудами, была надвинута на лоб и на лицо. Густые белокурые волосы спускались из-под нее и совершенно закрывали лицо это и верхнюю часть груди. В таком виде она была приготовлена накануне для какого-то анатомо-патологического исследования, которое должно было произойти 2 января. Трудно передать то ощущение сострадания и вместе отвращения, которое вызывала своим видом эта ужасная фигура… Миновав ее, мы вошли в длинный коридор с небольшими и тусклыми окнами, бывшими, если не изменяет память, на уровне выше роста человека. Я несколько раз оглядывался назад, и каждый раз мой взор встречал все ту же фигуру, сидевшую на столе прямо против дверей. Издали казалось, что это сидит голый бородатый человек, нахлобучивший на себя красную шапку. В конце коридора несколько ступенек вели в кладовую, освещенную одним окном, где хранились трупы, присланные для вскрытия и для студенческих работ из полиции и больниц. Это были разные бездомные, смертные останки которых не приняли любящие руки; были опившиеся или замерзшие, подобранные на улицах и в уезде. За праздники их накопилось много, и они лежали на низких и широких нарах друг на друге, голые, позеленевшие, покрытые трупными пятнами, с застывшей гримасой на лице или со скорбной складкой синих губ, по большей части с открытыми глазами, бессмысленно глядящими мертвым взором. На большом пальце правой ноги каждого из них, на веревочке был привязан номер по реестру, в котором значилось – кто и откуда прислан. Лямбль послал за реестром, и мы стали курить и ходить по коридору, где было весьма холодно.
В обоих концах коридора нас постоянно встречало одно и то же зрелище: то сидящая женщина, то груда мертвых тел. Наконец, сторож принес реестр и стал отыскивать ноги трупа, присланного из тюрьмы. Так как некоторые из этих трупов лежали головами в противоположных направлениях, то их пришлось переворачивать, чтобы отыскивать номера ног, обращенных к стене, и сторож, должно быть по дороге еще выпивший, ворча себе под нос, для сокращения своей работы, влез на эти трупы и стал их разбирать, как дрова, вытаскивая одного из-под другого. Искомый нами номер оказался на ноге мертвеца, лежавшего в самом низу, головой к стене. Сторож стал тянугь его за ноги, причем лежавшие сверху стали поворачиваться. Вот показались тело и руки, задевавшие других мертвецов и в них упиравшиеся, – вот грудь и плечи, но где же голова?! Оказалось, что голова отрезана умелою рукою и исчезла вместе со своими «боевыми знаками». Сторож припомнил, что голова отрезана и унесена прозектором для каких-то специальных надобностей. Посланный тотчас же к прозектору, жившему тут же на дворе, сторож, продолжая ворчать, пошел ленивою походкой, предварительно прислонив безголовый труп к его товарищам по несчастью. Мы снова стали ходить по коридору и курить. Между тем короткий зимний день начал сменяться надвигающимися сумерками. Сторож не возвращался. Наконец Лямбль потерял терпение и, сказав мне: «Я пойду за головою сам», быстро удалился, так что я не успел, возбудить вопроса о том, не пойти ли с ним и мне. Притом сторож мог вернуться без него, пройдя с какого-нибудь другого хода, и, не найдя никого, исчезнуть уже на целый день.
Подавляя в себе ощущение невольной робости, я стал ходить по коридору, а сумерки все сгущались. Вскоре уже трудно стало различать все подробности в подвале и большой зале, и, по мере приближения к ним, из густой полутьмы выступали только белое тело сидящей женщины и зеленоватое грузное тело человека без головы. Из залы слышалось таинственное и зловещее молчание. Из подвала проникал насыщенный тяжким запахом разложения воздух, приносивший иногда похожие на вздохи звуки, издаваемые газами во внутренностях потревоженных трупов. Наконец, стемнело совершенно. Я перестал ходить, смущаемый гулом моих шагов, и остановился посредине коридора, сторожимый с двух сторон мертвыми товарищами моего тяжелого одиночества. Вспоминая, что менее чем за два часа перед этим я был в светлой и праздничной зале, видел веселую и нарядную толпу, говорил с изящными, полными жизни и веселья женщинами, я начинал думать, что видел все это во сне или, наоборот, что то, что меня окружает, какой-то тяжкий кошмар, который сейчас рассеется, и грудь, в которую начинал заползать неотвратимый ужас, вздохнет облегченно. Не могу дать себе отчета, сколько времени провел я в этом состоянии. Но вот в зале показался слабый свет, и затем в конце коридора послышались шаги, и появился Лямбль с мешком в руках, а за ним сторож с фонарем. В мешке была голова с ярко-красными пятнами на лице. Лямбль приладил ее к шее стоявшего трупа и, убедившись, что она на своем месте, снова снял ее и, рассматривая внимательно, сказал мне: «В письме написан вздор: это не кровоподтеки от побоев, это воспалительное состояние кожи; это, вероятно и даже несомненно, следы местного воспаления. Я пришлю вам завтра письменный об этом отзыв». И, взяв с собою голову, он вместе со мною удалился.
Мне пришлось и в другой раз посетить харьковский анатомический театр, отыскивая Лямбля для получения его совета относительно экспертизы по вопросу о психозе беременной женщины, обвинявшейся в Валках в покушении на жизнь мужа. Я нашел его перед памятным мне мраморным столом, окруженным группою студентов. Он делал вскрытие трупа, в подтверждение постановленного диагноза, и производил его с изумительным искусством, точностью и знанием, которые так и развертывались под каждым движением его скальпеля. Весь отдавшись разрешению патологического вопроса, оживленный и уверенный в себе, жадно посасывая маленький окурок сигары, каким-то чудом не обжигавший ему нос, он казался настоящим жрецом науки на исключительном ей служении. Когда вскрытие было окончено и заключено его блестящим выводом, он, дав мне требуемое указание, сказал: «Пойдемте в мой патолого-анатомический кабинет: я вам покажу, что осталось от госпожи NN…». Эта NN была жизнерадостная, изящная красавица с белокурыми пепельного цвета волосами и большими «бархатными» черными глазами. Она составляла предмет явного восхищения и тайного злословия местного общества, в котором играла весьма заметную роль. Ей льстили в глаза, а за глаза – некоторые не без зависти – обвиняли ее в близких отношениях со знатным и чрезвычайно богатым местным обывателем. Если это было верно, то надо сказать, что между свойствами, которыми он взял ее сердце, – любовь с его стороны, нежная и искренняя, играла во всяком случае главную роль. Любовь эта пережила ее кончину и вызвала со стороны осиротевшего покупку дома, где она жила, и устройство часовни в спальне, где она испустила в страшных страданиях последнее дыхание. Несчастная женщина, которую я видел дней за десять до свидания с Лямблем во всем блеске ее красоты, молодости и внешнего успеха на одном бале, вероятно, хотела избавиться от беременности. Это, под видом какой-то операции, было совершено поспешно и неумело. Предполагался прорыв стенки… Молва обвиняла в этом одного из видных врачей, и прокурор судебной палаты Писарев возбудил по этому поводу предварительное следствие. Чем оно окончилось, я не знаю, так как вскоре был переведен из Харькова.
Придя в патолого-анатомический кабинет, Лямбль показал мне плоский открытый сосуд, наполненный спиртом, и в нем пострадавшие внутренние органы несчастной женщины. В главном из них был заметный прорыв, происшедший от ошибочного направления какого-нибудь инструмента или, вернее, согнутого пальца. Сердце мое сжалось, и тщета всего житейского предстала предо мною со всей ясностью. С каким восторженным обожанием относились к той, кому принадлежали эти бескровные, похожие на серые тряпки, внутренности! И вот, освобожденная от них, лежит в сырой земле и уже сделалась добычей червей очаровательная красавица с большими радостными и наивными глазами, которым так улыбалась принимаемая не всерьез жизнь. Над ее еще живым в памяти образом извиваются злоречие и злорадство, а над содержимым сосуда равнодушно скользит безучастный взгляд судебного врача и следователя…
Упомянув о Лямбле и вызвав перед собой его симпатичный и оригинальный образ, я не могу удержаться, чтобы не сказать о нем несколько слов. Ученик знаменитого Гиртля, подвижный, энергический, с прекрасными, полными жизни, умными карими глазами на сухощавом лице, под нависшим хохлом седеющих волос, Лямбль производил впечатление выдающегося человека и был таковым в действительности. Хозяин в своей части, он не был узким специалистом, а отзывался на всевозможные духовные запросы человеческой природы. Любитель и знаток европейской литературы, тонкий ценитель искусства, он мог с полным правом сказать о себе «nihil humanum me alienum puto» [7 - Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).]. Он, например, в подробности изучал и знал Данга, а своими объяснениями и замечаниями внушил мне любовь и интерес к художественной деятельности Гогарта. Как практический врач он подсмеивался над узкой специализацией, столь развившейся в последнее время, и в понимании картины и значения болезни давал ход собственной творческой мысли, а не следовал рабски за тем, что ему скажет последнее слово заграничных книжек и в особенности разные химические и другие исследования. Он лечил не теоретически понимаемую болезнь, а каждого больного, индивидуализируя свои приемы и указания и отводя широкое место психологическому наблюдению. Его называли часто оригиналом и чудаком, но чудак этот мог записать себе в актив не мало блестящих исцелений там, где был серьезный и определенный недуг, и там, где нужно было лишь поднять душевный строй человека, не привязывая к нему непременно определенного медицинского ярлыка с неизбежной, предустановленной процедурой лечения и режима.
Судебная реформа в первые годы своего осуществления требовала от судебных деятелей большого напряжения сил. Любовь к новому, благородному делу, явившемуся на смену застарелого неправосудия и бесправия, у многих из этих деятелей превышала их физические силы, и по временам некоторые из них «надрывались». Надорвался в 1868 году и я. Появились чрезвычайная слабость, упадок сил, малокровие и, после более или менее продолжительного напряжения голоса, частые горловые кровотечения. Выдающиеся врачи Харькова признали мое положение весьма серьезным, но в определении лечения разошлись, хотя, по-видимому, некоторые подозревали скоротечную чахотку. Один посылал меня в Соден, другой в Зальцбрун, третий в горы, четвертый, наконец, в Железноводск. Я не знал, что делать, тем более, что и самое путешествие за границу представлялось для меня затруднительным в материальном отношении. Заслышав о моем нездоровье, ко мне пришел Лямбль. «Надо ехать за границу», – сказал он с чешским акцентом, пощипывая любимым жестом свою эспаньолку. «Но куда, куда?» – «А куда глаза глядят, т. е. в Европу… Вам нужны новые впечатления и отдых, но отдых деятельный и поучительный. Поезжайте сначала в Прагу (ну, конечно! подумал я), там вы встретите – я дам вам письма – хороших людей, а оттуда в Мюнхен, где зайдете в старую Пинакотеку, потом прокатитесь по Рейну, во Фландрию, посмотрите Рубенса и Мемлинга в Брюгге, а затем в Париж, где вам, может быть, удастся послушать Тардье…» – «Но что же мне пить? какие воды?» – «А пить необходимо, необходимо пить, но не воды, а пиво. Вы так и делайте, – поезжайте от одного пива к другому пиву, а приедете во Францию – пейте красное вино. А главное – не думайте о своей болезни. Она называется: молодость (мне было 23 года), слабые силы при большом труде и нервность; вы в сущности один нерв. Новые впечатления и пиво! вот и все…» И теперь, дожив, несмотря на многие испытания, почти до восьмидесяти лет, я с благодарным чувством вспоминаю этот совет «чудака», которому вполне и с успехом в свое время последовал. Лямбль действительно был оригинален во всем. После своего венчания он пригласил нас – своих шаферов – из церкви в свою квартиру, богатую книжками и скудной мебелью, переоделся в свой обычный рабочий костюм и, попросив нас посидеть с новобрачною, ушел присутствовать при какой-то интересной в медицинском отношении консультации, продолжавшейся до поздней ночи.
С особым блеском сказывались его знание и способности в тех случаях, когда по приглашению суда или сторон он являлся экспертом в уголовных делах. Лучших по обстоятельности, рельефности и художественной удобопонятности экспертиз, по самым затруднительным вопросам, мне не приходилось потом, во время моей долгой судебной деятельности, слышать. Это были целые лекции, глубоко и научно продуманные по содержанию, популярные по форме. К сожалению, в те годы (конец шестидесятых) между профессорами харьковского медицинского факультета существовала значительная рознь. Если одна из сторон в процессе, ввиду предстоящего состязания на суде, вызывала Лямбля, то другая непременно вызывала одного из его недоброжелателей – и в научный спор нередко вносился элемент личных обостренных отношений. Надо было видеть, как умело и с достоинством истинного знания отражал Лямбль направленные на него удары, сколько тонкой иронии и остроумия бывало в его ответах на недоумения суда или сторон! Не только лиц прокурорского надзора, обыкновенно довольно беззаботных по части судебномедицинских сведений, но и своих товарищей по профессии он побивал легко и неотразимо. Надо заметить, что особой глубиной и всесторонностью отличались психиатрические экспертизы этого профессора патологической анатомии. В них он являлся настоящим служителем науки, который понимает задачи истинного правосудия с теплотою доброго, с широтою просвещенного человека. По поводу одной из них в Варшаве, в начале восьмидесятых годов, по делу об убийстве врача Курциуша, он писал мне своим своеобразным слогом: «Я завидую дару слова прокурора, набросавшего на черном фоне небосклона великолепную логическую радугу, которою все восхищались, забывая, что внизу, под нею, на сырой холодной земле лежит смятое существо, побитое градом роковых событий; оно едва дышит, и между ним и этой радугой нет никакой связи. Прокурор стер в порошок всю мою, трудом добытую, экспертизу с лица земли, успокаивая меня тем, что вся эта моя отвратительная истина – «асимметрия черепа, неравенство зрачков, наследственность» и прочие гадости, все это на втором плане. Да! на втором, на третьем, если угодно на последнем плане, но на этом же плане и сам подсудимый, и с этого плана его надо понимать, а не с надоблачной высоты этических соображений…»
Мы расстались в 1870 году, чтобы видеться затем лишь урывками. Он перешел в Варшаву, я оставил Харьков. Чуждый всякой рутины, ставивший впереди всего исключительно интересы дела, он, по-видимому, судя по некоторым местам его писем, переживал подчас трудные дни. Чех по рождению, он горячо любил Россию и‘ желал ей истинного величия и сопричастия культурным задачам Запада. Действительность, окружавшая его, шла нередко вразрез с этими его желаниями… «В наших сферах, – писал он мне в сентябре 1880 года, – все то же водотолчение. Попечитель выходит из себя потому, что студенты ходят в студенческих шапках без студенческих мундиров, а ректор страдает бессонницей потому, что попечитель принимает студенческие шапки к сердцу. Между тем, как вопрос о шапках тревожит умы, возбуждает кровь и грызет печень, другие дела себе гуляют, например одна клиника остается без преподавателя, а другой преподаватель остается без клиники. Вы знаете, Анатолий Федорович, как иногда бывает стыдно за человека, но поверьте, что еще стыднее иногда быть профессором университета в России». «Здесь тоже веет каким-то ветерком, пахнувшим богатыми надеждами, – писал он в начале 1881 года. – Газета «Врач» напечатала докладную записку медицинского факультета о нуждах клиник, статья была принята с глубоким сочувствием со стороны зрячих и со скрежетом зубовным со стороны бездушных представителей злополучной бюрократии». В следующем году по поводу несчастий, обрушившихся, как из рога изобилия, на одного нашего общего близкого знакомого, он прислал мне строки, отлично характеризующие склад его собственной души, всегда, впрочем, ясный для тех, кто знал его ближе. «Я вполне понимаю удручающее горе нашего друга, – писал он, – но мне кажется, что если несчастие вообще облагораживает хорошую душу, то не может не быть, чтобы тяжелые страдания его чуткого сердца не придали бы еще больше цены тому твердому закалу характера, которым он стольких к себе привлекает. Пусть идет он именно этой дорогой горестей, которая называется per aspera ad astra [8 - Через тернии к звездам (лат.).]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69581572) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Сделал тот, кому выгодно (лат.).
2
Высокий Фридрих (нем.)
3
Установленной картины преступления (лат.).
4
Крупнейший в Германии музей восковых фигур, основанный в 1879?г.
5
Парижский музей восковых фигур, открытый в 1882?г.
6
Камера пыток; застенок (нем.).
7
Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
8
Через тернии к звездам (лат.).
Анатолий Федорович Кони
Юридическая мысль
В книгу вошли такие известные дела, как: «Игуменья Митрофа-ния», «Из казанских воспоминаний», «Дело Овсянникова», «Темное дело». Также в сборнике представлен очерк «Князь А. И. Урусов и Ф.Н Плевако», рассказывающий о выдающихся судебных ораторах, которые без предварительной подготовки вышли на один уровень с лучшими представителями западноевропейской адвокатуры.
«Записки судебного деятеля» – это демонстрация того, как много труда и энергии отдал Анатолий Федорович во имя справедливости. Он по-настоящему горел своим делом и находил выход даже из самых сложных ситуаций, выбиваясь из ряда других судебных деятелей своей неподкупностью.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Анатолий Федорович Кони
Записки судебного деятеля
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
А. Ф. Кони
Анато?лий Федорович Ко?ни (1844–1927?гг.)?– это имя известно не только людям, тесно связанным с юриспруденцией, но и весьма далеким от нее. А. Ф.?Кони?– выдающийся юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор (автор биографического очерка «Федор Петрович Гааз», произведений «На жизненном пути», «Отцы и дети судебной реформы», «Судебные речи» и многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры), судебный оратор. Его заслуги были оценены по достоинству: ему был присвоен чин действительного тайного советника, имел ученую степень доктора уголовного права Харьковского университета (1890?г.), звание Почетного академика Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности (1900?г.), он являлся членом Государственного совета Российской империи (1907–1917?гг.), также имел ученое звание профессора Петроградского университета (1918–1922?гг.).
А. Ф. Кони родился в интеллигентной семье и получал хорошее домашнее начальное образование, после чего он продолжил обучение, поступив в четвертый класс Второй Санкт-Петербургской гимназии, к этому моменту уже в совершенстве владея французским и немецким языками и занимаясь переводами литературных произведений. Гимназию он окончил с семью похвальными грамотами и в мае 1861 года сдал экзамены на математическое отделение Санкт-Петербургского университета. На экзамене по тригонометрии его ответы на сложные вопросы сверх программы так восхитили экзаменатора – академика О. И. Сомова, что он готов был немедленно на руках отнести чудо-абитуриента, чтобы представить его ректору.
Однако, в декабре того же года, университет был закрыт на неопределенное время из-за студенческих волнений и беспорядков, что заставило неожиданно прервать блестяще начатое обучение. Чтобы продолжить образование, А. Ф. Кони переехал в Москву и поступил сразу на второй курс Московского университета, но не на математический, а на юридический факультет.
Окончив университет и получив ученую степень кандидата прав, в 1865 году А. Ф. Кони начал юридическую карьеру. В университете ему было предложено остаться на должности преподавателя, но от предложения он отказался, поскольку считал неправильным преподавать не имея практического профессионального опыта.
Некоторое время прослужил на юридической должности в Главном штабе Военного министерства, что заставило его почувствовать непреодолимое влечение к судебной работе. В апреле 1866 года перешел в Санкт-Петербургскую судебную палату на должность помощника секретаря по уголовному департаменту и в последующие годы сменил несколько должностей в разных городах. В Санкт-Петербург А. Ф. Кони возвратился через 6 лет, в 1871 году, и уже прокурором Санкт-Петербургского окружного суда.
В этой должности он работал более четырех лет, в течение которых руководил расследованием наиболее сложных уголовных дел и выступал обвинителем в суде. В это время А. Ф. Кони приобрел широкую известность как судебный оратор, его обвинительные речи печатались в газетах.
В июле 1875 года он был назначен вице-директором департамента Министерства юстиции и вновь вернуться к судебной работе решил лишь в январе 1878 года – уже на должности председателя Санкт-Петербургского окружного суда.
24 января 1878 года В. И. Засулич пыталась убить выстрелами из пистолета петербургского градоначальника Трепова. Преступление вызвало широкий резонанс, причем в обществе преобладало сочувствие к обвиняемой. По этой причине следствие по делу велось в быстром темпе, с исключением всякого политического мотива; уже к концу февраля дело было готово к передаче в суд. А. Ф. Кони получил распоряжение министра юстиции графа К. И. Палена назначить дело к рассмотрению на 31 марта. Министр юстиции и император Александр II требовали от А. Ф. Кони, как только что назначенного председателя Санкт-Петербургского окружного суда, гарантий, что В. И. Засулич будет признана виновной, но Анатолий Федорович таких гарантий не дал. Тогда министр юстиции предложил ему намеренно допустить в ходе процесса какое-либо нарушение закона, чтобы была возможность отменить решение в кассационном порядке. На что А. Ф. Кони ответил: «Я председательствую всего третий раз в жизни, ошибки возможны и, вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным с достоинством судьи!»
В процессе, под председательством А. Ф. Кони, революционерка В. Засулич была оправдана присяжными, но для него самого с этого вердикта начались годы опалы.
Через много лет, будут еще и высокие чины, и звания, но, отказывая императору, судья не мог этого знать, зато А. Ф. Кони точно знал, что неминуемо попадет в немилость, последствия которой неизвестны, и сделал свой выбор – выбор в пользу Правосудия.
Дело Овсянникова
«Не знаете ли вы чего-нибудь о причинах пожара этой огромной паровой мельницы на Измайловском проспекте против станции Варшавской дороги?»?– спросил меня министр юстиции граф Пален, прибавив, что, проезжая накануне вечером мимо, он был поражен грандиозностью картины этого пожара. «Вероятно, я получу в свое время полицейское извещение, если есть признаки поджога»,?– отвечал я и, приехав в прокурорскую камеру (я был в это время, т. е. в 1874 году, прокурором Петербургского окружного суда), действительно нашел коротенькое сообщение полиции о том, что признаков поджога, вызвавшего пожар мельницы коммерции советника Овсянникова, не оказывается. Меня смутила краткость этого заявления, его ненужность по закону и его поспешная категоричность в связи с рассказом графа Палена. Я поручил моему покойному товарищу, энергичному А. А.?Маркову, поехать на место и произвести личное дознание.
Поздно вечером он привез мне целую тетрадь осмотров и расспросов на месте, из которых было до очевидности ясно, что здесь имел место поджог. Собранные на другой день сведения о договорных отношениях, существовавших между известным В. А. Кокоревым и С. Т. Овсянниковым по аренде мельницы, указывали и на то, что именно Овсянникову мог быть выгоден пожар мельницы и что есть основания сказать: «is fecit cui prodest» [1 - Сделал тот, кому выгодно (лат.).]. Я предложил судебному следователю по особо важным делам, Книриму, начать следствие и немедленно произвести обыск у Овсянникова, а наблюдение за следствием принял лично на себя Овсянников, не привыкший иметь дело с новым судом и бывший в былые годы в наилучших отношениях с местной полицией, причем за ним числилось до 15 уголовных дел, по которым он старым судом был только «оставляем в подозрении», не ожидал обыска и не припрятал поэтому многих немаловажных документов. Среди них, между прочим, оказался именной список некоторым чинам главного и местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им, влиятельным поставщиком муки, военному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Д. А. Милютину.
Высокий старик, с густыми насупленными бровями и жестким взором серых проницательных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года, Овсянников был поражен нашествием чинов судебного ведомства. Он был очень невежлив, презрительно пожимал плечами, возражал против осмотра каждого из отдельных помещений, говоря: «Ну, тут чего еще искать?!» – и под предлогом, что в комнатах холодно, надел какое-то фантастическое пальто военного образца на генеральской красной подкладке. Но «der lange Friedrich» [2 - Высокий Фридрих (нем.)], как звали у нас Книрима, невозмутимо делал свое дело… Я подошел, между прочим, к оригинальным старинным часам в длинном деревянном футляре, вроде узкого шкапа. «Вот, изволите видеть, – сказал Овсянников, желая, вероятно, показать, что и он может быть любезен и владеть собою, – вот это большая редкость, это часы прошлого века. Таких, чай, немного». Подошел и Книрим. «А где ключ?» – спросил он. «Эй, малый! – крикнул Овсянников. – Подать ключ!» Книрим подозвал понятых, отпер дверь футляра и стал исследовать его внутренность. Овсянников не вытерпел, грозно сдвинул брови и, энергически плюнув, отошел от часов.
Вечером в тот же день в камере следователя по особо важным делам был произведен допрос Овсянникова. Он отвечал неохотно, то мрачно, то насмешливо поглядывая на следователя и очень недоброжелательно относясь в своих показаниях к Кокореву. В конце допроса я отвел Книрима в сторону и сказал ему, что нахожу необходимым мерою пресечения избрать лишение свободы, так как иначе Овсянников, при своих средствах и связях, исказит весь свидетельский материал. «И я нахожу нужным то же», – отвечал Книрим. «Надо, однако, дать старику, ради здоровья, некоторые удобства, и если вы ничего не имеете против Коломенской части, где есть большие и светлые одиночные камеры, куда можно, с разрешения смотрителя, поставить свою мебель, то я распоряжусь об этом немедленно». – «Прекрасно, – сказал Книрим, – а я напишу краткое постановление». – «Господин Овсянников, – сказал я, усаживаясь сбоку стола, на котором писал Книрим, – не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоряжений, которые не могут быть отложены». – «Это еще зачем?» – спросил сурово Овсянников. «Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь». – «Что? – почти закричал он. – Под стражу! Я? Овсянников? – и он вскочил с своего места. – Да вы шутить, что ли, изволите? Меня под стражу?! Степана Тарасовича Овсянникова? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянникова!!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, этого вам не видать!» – «Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не домой», – сказал я. «Да что же это такое! – опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу. – Да что я, во сне это слышу? Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы у меня еще ответите!» Его прервал Книрим, который прочел краткое постановление о взятии под стражу и предложил ему подписать. Тут он смирился и послал на извозчике одного из сторожей за старшим сыном. Допрос, между тем, продолжался вследствие выраженного им желания дать еще некоторые разъяснения. С прибывшим сыном он обошелся очень сурово, и когда тот, по моему приглашению, хотел сесть, он так взглянул на него, что тот заколебался и сел лишь, когда отец крикнул ему: «Ну, садись, садись! Я не воспрещаю».
На свой арест Овсянников принес жалобы в окружной суд и затем в судебную палату. Жалобы эти были написаны хотя и кратко, но искусно, умелою рукою. Оказалось, что их писал известный талантливый цивилист Боровиковский, незадолго перед тем перешедший в адвокатуру из товарищей прокурора Петербургского окружного суда. За этот свой небольшой письменный труд, так как по жалобам такого рода поверенные не допускались к личным объяснениям, Боровиковский получил от Овсянникова 5 тысяч рублей. Известие об этом произвело некоторое волнение в петербургском обществе, очень чутко относившемся ко всему, что касалось дела Овсянникова. В огромном городе за небольшую работу многие были склонны видеть указание на то, что «король Калашниковской биржи» не остановится ни перед какими жертвами для того, чтобы попытаться еще раз остаться в совершенно безвредном для него «подозрении». Некоторые применяли к поверенному обвиняемого стихи Некрасова:
«Получив гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный: перед вами стоит гражданин – чище снега Альпийских вершин». Это доходило до Боровиковского и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом, так что он пришел, наконец, ко мне – своему старому сослуживцу и бывшему начальнику – и заявил, что жалобы написаны им потому, что его убедили в невиновности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения, но что он готов возвратить деньги для избежания дальнейших упреков. Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что, кроме того, огласкою возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту, так как это возвращение будет, без сомнения, истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего.
Поэтому лучше дождаться решения присяжных и затем, подчинившись ему, пожертвовать такие деньги на какое-либо доброе дело, если приговор состоится против Овсянникова. Взволнованный Боровиковский не без труда согласился последовать этому совету. В день произнесения обвинительного приговора об Овсянникове он прислал в мое распоряжение, для употребления с благотворительною целью, 5 тысяч рублей, каковые я немедленно препроводил ректору Петербургского университета П. Г. Редкину для обращения, по его усмотрению, в пользу нуждающихся студентов.
У Овсянникова нашлись и другие заступники. Одним из них была напечатана заметка, в которой горячо доказывалось, что человек, жертвовавший большие суммы на церкви и казенные благотворительные учреждения, не мог совершить корыстного преступления, причем приводился и самый список таких пожертвований в довольно крупных суммах. Указание на такие жертвы нельзя было, однако, назвать удачным. Овсянников, как он сам выразился на суде, шел «с материнской колыбели» к широкому хлебному рынку, опираясь на крупные и выгодные интендантские подряды, и, наконец, сделался одним из самых могущественных обладателей этого рынка, окруженным лицемерным поклонением менее крупных поставщиков, среди которых он привык играть властительную роль, повелительно ставя свои условия. Но с начала 70-х годов многолетний подряд на поставку муки петербургскому военному округу стал неразрывно связываться с обязанностью перемалывать хлеб на паровой мельнице, которой Овсянников был не собственником, а только арендатором, чувствующим себя в косвенной зависимости от собственника мельницы Кокорева, имевшего возможность отказать в продолжении аренды, т. е. лишить его долгосрочного контракта с казною и тем поколебать влиятельное положение честолюбивого и не знающего «препятствий своему нраву» старика, на восьмом десятке его жизни. Поэтому не корысть, а более сложные побуждения могли заставить его желать пожара мельницы перед истечением срока контракта – пожара, который обессилил бы его недруга Кокорева и заставил бы военное ведомство отказаться от ненавистного условия о временном перемоле хлеба на паровой мельнице. При том – щедрые пожертвования при надлежащей и услужливой огласке не менее щедро оплачивались различного рода почетными наградами и публичным возвеличиванием «маститого благотворителя». Не говоря уже об имевшихся в деле сведениях о суровом и черством отношении Овсянникова к тяжелому положению простых и незаметных людей, находившихся от него в трудовой зависимости, мне пришлось случайно убедиться в том, как мало трогало его горькое положение даже и таких людей, к которым он относился, по-видимому, доброжелательно.
Недели через две после арестования Овсянникова моя старая служанка, которой было категорически запрещено ходатайствовать за кого-либо или докладывать мне о каких-либо просителях по делам («чтобы никакого эхо не было», как она объясняла себе мое требование), после больших предисловий о том, что бог меня наградит и что много на свете несчастных людей, стала меня просить все-таки выслушать на дому одну бедную девушку, которая очень нуждается в моем совете, не зная, как ей быть от «мужского обмана», но в суд ко мне идти не решается, так как она «девушка порядочная и скромная и никогда по таким местам не ходила». Нечего делать, надо было уступить, и ко мне явилась миловидная, но болезненного вида девушка, лет 20, немного цыганского типа, с черными глазами и худенькими руками, одетая очень бедно. На ней был длинный темный платок, расходившиеся концы которого спереди она стыдливо и постоянно оправляла и сближала. Она печально потупляла голову, голос ее по временам дрожал, а глаза наполнялись слезами, которые она как-то трогательно и конфузливо собирала пальцами и стряхивала на пол. «Мы живем с маменькой «честно-благородно» и занимаемся по швейной части. Нам, зная нашу бедность, помогал и часто заезжал к нам купец Тарасов, холостой, был очень добр и ласков, облегчал в нужде мамашу и меня: я его почитала как отца родного, и он обещал меня не оставить своей помощью. А потом вдруг перестал ездить – совсем нас позабыл, и по адресу Тарасова оказалось совсем другое лицо. Теперь же мы очень бедствуем: приходится жить штучной работой для рынка, а много ли так наработаешь?! Да и здоровье мое стало слабое, и в люди показаться стыдно, а о маменьке и говорить нечего. Мы узнали, что купец этот – Степан Тарасович Овсянников – находится в заточении. Так это нам прискорбно, что и сказать нельзя, а пойти к нему или написать не смеем: сказывают, начальство не допустит. Бог даст, соберемся с силами и работу постоянную найдем, так и поправимся, а теперь очень трудно. Опять же и лекарства для маменьки… просто хоть руки на себя наложить! Я уж и то хотела в Неву броситься, да маменьку жаль: она этого не переживет… А как сообщить о моем положении Степану Тарасовичу – не знаем: как бы его не прогневить в несчастии. Может, у вас есть кто знакомый из начальства… Окажите божескую милость: научите, что делать?!.» Ее слезы и неподдельное участие к судьбе «благодетеля» очень тронули меня, и я, предложив ей написать Овсянникову письмо с объяснением своего грустного материального положения, обещал это письмо не только передать ему, но и попросить его ответа. Она ушла несколько успокоенная, а на следующий день прислала письмо на имя «батюшки Степана Тарасыча», написанное довольно связно и начинавшееся так: «Осведомилась я, что вы, благодетель наш, попали в руки злодеев» и т. д. В некоторых местах буквы расплывались от пролитых над письмом слез. Оно кончалось словами: «День и ночь молюсь за вас и целую, припадаючи, ручки». Один из «злодеев» – в моем лице – передал письмо товарищу прокурора Вильямсону, заведовавшему арестантскими помещениями, с просьбой вручить его Овсянникову и спросить, не будет ли какого-либо ответа. Дня через два Вильямсон рассказал мне, что, когда, приехав в Коломенскую часть, он заявил Овсянникову, что прокурор передал ему письмо на его имя с просьбой дать ответ, Овсянников чрезвычайно оживился, встрепенулся и быстро спросил: «Какое? какое письмо? от самого прокурора?» По-видимому, он вообразил себе, что старые судебные порядки снова для него оживают, хотя и в новых обличиях. Он почти вырвал у Вильямсона письмо из рук и, пытливо на него поглядывая, отошел к окну и стал читать.
Затем насупился и начал большими тяжелыми шагами ходить по комнате. «Вы знаете эту девушку?» – спросил Вильямсон. Овсянников посмотрел на вопрошающего и затем недовольным голосом сказал: «Коли пишет, значит, знавал!» – «Что же может сказать прокурор писавшей?» – Овсянников молча подошел к топившемуся камину, разорвал письмо на четыре части, бросил его в огонь и, когда оно запылало, почти крикнул: «Мне теперь не до того! Вот мой ответ: пущай горит!»
По следствию и на суде обнаружилось, что фактическим поджигателем был приказчик Левтеев, исполнивший при содействии сторожа Рудометова, заведомо для хозяина, неоднократно выраженное последним желание, чтобы мельница сгорела. Когда я предполагал быть обвинителем по этому громкому и трудному делу, я жалел, что не могу рассказать присяжным про несчастную девушку и про слова обвиняемого в камере Коломенской части. Это «пущай горит» лучше всяких сложных соображений нарисовало бы перед присяжными движущие мотивы того, в чем обвинялся Овсянников. Уж если про жертву своей старческой забавы человек, располагавший миллионами, мог сказать «пущай горит», то насколько понятнее и возможнее было сказано то же самое для того, чтобы отделаться от ненавистной мельницы и в то же время насолить врагу. Но вследствие назначения меня вице-директором департамента Министерства юстиции мне не пришлось быть обвинителем. Меня заменил талантливый и тонкий судебный оратор В. И. Жуковский, внесший в свою речь свойственный ему глубокий и неотразимый сарказм, так соответствовавший его наружности, в которой было что-то мефистофельское. Гражданскими истцами в судебном заседании явились – Кокорев от своего собственного лица и Спасович от лица страховых обществ. Первый сказал скрипучим голосом чрезвычайно обстоятельную и умную речь с убедительным разбором мотивов деяния Овсянникова, а второй со своим угловатым жестом и как бы непокорным словом, всегда заключавшим в себе глубокий смысл, превзошел, как принято говорить, самого себя в разборе и сопоставлении улик и в оценке экспертизы, произведенной над обширною моделью мельницы, принесенной в залу суда. Особенное впечатление произвела нарисованная им картина «извивающегося, как дракон», из одного отделения мельницы в другое огня, сразу показавшегося в трех местах, причем его изгибы незаметны со стороны.
Не менее удачна была характеристика подрядного дела с казной, исполненного риска. Казна сбивает цены, подрядчики отчаянно, рискуя сделаться несамостоятельными, конкурируют между собою, и «с самого низу от последнего канцеляриста протягиваются руки, которые чувствуют пустоту и которые надо занять». Поэтому лишь податливый, привычный и знающий подрядчик сумеет установить и наладить «известную среднюю недобросовестность», причем «чиновники допускают товар не совсем еще негодный, а подрядчик старается, чтоб товар не был уже совсем плох». С особенной силой ответил Спасович на упрек защитника Овсянникова, что он строит все свои выводы на одних косвенных уликах, на чертах и черточках: «Н-да! черты и черточки! – воскликнул он. – Но ведь из них складываются очертания, а из очертаний буквы, а из букв слоги, а из слогов возникает слово, и это слово: поджог!»
Признанный виновным Овсянников был сослан в Сибирь на поселение, но оттуда постоянно ходатайствовал о помиловании и взывал к высокопоставленным влиятельным лицам о поддержке своих ходатайств. Через несколько лет ему было разрешено вернуться в Европейскую Россию, но не в столицы, и он прожил последние годы своей жизни в Царском Селе. Но и в Сибири он умел создать себе исключительное среди ссыльных положение. На эту мысль наводит статья товарища прокурора одного из прикамских окружных судов господина И. М. «Миллионер в ссылке», помещенная в декабрьской книжке «Недели» за 1897 год. В ней подробно описывается ряд отступлений от устава о ссыльных в пользу Овсянникова, с которыми тщетно боролся товарищ прокурора и почин которых принадлежал приказчику или какому-то родственнику ссылаемого, тратившему, по слухам, большие суммы для доставления ему всевозможных облегчений и удобств. Нет основания предполагать, чтобы родственники Овсянникова, участливо заботясь о нем в пути, могли оставить его на произвол судьбы и в месте ссылки.
Это дело было настоящим торжеством нового суда. Немецкая сатирическая печать даже не хотела верить, чтобы двенадцатикратный (zwolffache) миллионер Овсянников мог быть арестован, а если бы это и случилось, то выражала уверенность, что на днях станет известным, что одиннадцатикратный (elffache) миллионер Овсянников выпущен на свободу.
Мне вспоминается, как была поражена привезенная из Москвы для следственных действий знаменитая игуменья Митрофания, когда при ней привели в обширную камеру Книрима не менее, хотя и в другом роде, знаменитого Овсянникова. Взглянув друг на друга и озираясь на свое еще недавнее прошлое, они могли воскликнуть: «Пан умер! великий Пан умер!»…
Из казанских воспоминаний
Если бы знаменитый криминолог Ломброзо увидал некоего Нечаева, которого мне пришлось обвинять в Казани весной 1871 года, то он, конечно, нашел бы, что это яркий представитель изобретенного итальянским ученым преступного типа и прирожденный преступник?– маттоид. Маленького роста, растрепанный, с низким лбом и злыми глазами, курносый, он всей своей повадкой и наружностью подходил к излюбленному болонским профессором искусственному типу. Он представлял вместе с тем и своего рода психологическую загадку по той смеси жестокости, нахальства и чувствительности, которые отражались в его действиях.
В 1871 году благовещение приходилось в пятницу на Страстной неделе. «Свято соблюдая обычай русской старины», старик портной Чернов решил, вместо птицы, выпустить на свободу человека. Он отправился в тюремный замок и там узнал, что есть арестант – отставной военный писарь Нечаев, обвиняемый в краже и сидящий лишь за неимением поручителя на сумму 50 рублей. Чернов обратился к начальству тюрьмы, прося отдать ему на поруки Нечаева, и, по соблюдении формальностей, получил его на свои руки и немедленно привел к себе в мастерскую, подарив ему при этом две ситцевых рубашки и рубль серебром. С ними Нечаев немедленно исчез и вернулся лишь перед самой пасхальной заутреней и, конечно, без рубашек и без рубля. Утром в день Светлого воскресения он стал требовать еще денег, но Чернов отказал. В четыре часа дня последний оказался убитым, с кровоподтеками на виске и на лбу, причем шея его была почти совершенно перерублена топором, валявшимся тут же, а голова висела лишь на широком лоскуте кожи. Карманы платья Чернова были выворочены, и со стены исчезло его новое, только что сшитое пальто. Исчез и Нечаев. Он был обнаружен ночью в доме терпимости, причем на спине его, на рубашке, найдено было большое кровавое пятно; такое же пятно было и на подкладке пальто со стороны спинки. Нечаев ни в чем не сознавался и даже отрицал свое знакомство с Черновым и пребывание в его доме. Он держал себя чрезвычайно нагло. Когда его вели в сопровождении массы любопытствующего народа на квартиру Чернова для присутствия при осмотре места преступления, он обратился к проезжавшему мимо губернатору со словами: «Ваше превосходительство, а что бы вам меня за деньги показывать? Ведь большая бы выручка была!»
Пред осмотром и вскрытием трупа убитого в анатомическом театре университета Нечаев прислал мне заявление о непременном желании своем присутствовать при этой процедуре. Во время последней он, совершенно неожиданно, держал себя весьма прилично и внимательно вглядывался и вслушивался во все, что делал и говорил профессор судебной медицины И. М. Гвоздев. Когда последний кончил, Нечаев спросил меня: «Как объясняет он кровоподтек на лбу?» Я попросил Гвоздева повторить обвиняемому это место его visum repertum [3 - Установленной картины преступления (лат.).] и заключения. «Этот кровоподтек должен быть признан посмертным, – сказал Гвоздев, – он, вероятно, получен уже умершим Черновым во время падения с нар, возле которых найден покойный, от удара обо что-нибудь тупое». Нечаев злобно усмехнулся и вдруг, обращаясь ко мне и к следователю, громко сказал: «Гм! После смерти?! Все врет дурак! Это я его обухом топора живого, а не мертвого; он еще после этого закричал». И затем Нечаев тут же, не без развязности, рассказал, как, затаив злобу на Чернова за отказ в деньгах, поджидал его возвращения с визитов и как Чернов вернулся под хмельком, но грустный, и жаловался ему, что у него сосет под сердцем «точно смертный час приходит». «Тут я, – продолжал свой рассказ Нечаев, – увидел, что действительно его час пришел. Ударом кулака в висок сбросил я его с нар, на краю которых он сидел, схватил топор и ударил его обухом по лбу. Он вскрикнул: «Что ты, разбойник, делаешь?!» – а потом забормотал и, наконец, замолчал. Я стал шарить у него в карманах, но, увидя, что он еще жив, ударил его изо всей силы топором по шее. Кровь брызнула, как кислые щи, и попала на пальто, которое Чернов повесил на стену, повернув подкладкой кверху, потому что оно было новое. Я крови не заметил, когда надевал пальто; оттого у меня она и на спине оказалась. А вы, может, и поверили, что это из носу?» – насмешливо заключил он, обращаясь к следователю и напоминая свое первое объяснение этого пятна.
В тюрьме он себя держал спокойно и просил «почитать книжек». Но, когда я однажды взошел к нему в камеру, он заявил мне какую-то совершенно нелепую жалобу на смотрителя и, не получив по ней удовлетворения, сказал мне: «Значит, теперь мне надо на вас жаловаться?» – «Да, на меня». – «А кому?» – «Прокурору судебной палаты, а еще лучше министру юстиции: он здесь будет через неделю». – «Гм, мое дело, значит, при нем пойдет?» – «Да, при нем». – «Эх-ма! В кармане-то у меня дыра, а то бы князя Урусова надо выписать. Дело мое ведь очень интересное. А кто меня будет обвинять?» – «Я». – «Вы сами?» – «Да, сам». – «То-то, я думаю, постараетесь! при министре-то?» – вызывающим тоном сказал он. «За вкус не ручаюсь, а горячо будет», – ответил я известной поговоркой. – «А вы бы меня, господин прокурор, пожалели: не весело ведь на каторгу идти». – «Об этом надо было думать прежде, чем убивать для грабежа». – «А зачем он мне денег не дал? Ведь и я хочу погулять на праздниках. Я так скажу: меня не только пожалеть надо, а даже быть мне благодарным. Не будь нашего брата, вам бы и делать было нечего, жалованье не за что получать». – «Да, по человечеству мне и впрямь жаль», – сказал я. «А коли жаль, так у меня к вам и просьба: тут как меня выводили гулять или за нуждой – что ли, забралась ко мне в камеру кошка, да и окотилась; так я просил двух котяток мне отдать: с ними занятнее, чем с книжкой. Однако не дали. Прикажите дать, явите божескую милость!» Я сказал смотрителю, что прошу исполнить просьбу Нечаева.
В заседании суда, в начале июня, действительно присутствовал граф Пален, приехавший в Казань на ревизию. Нечаев держал себя очень развязно, говорил колкости свидетелям и заявил, что убийство совершилось «фоментально» (т. е. моментально). Присяжные не дали ему снисхождения, и он был приговорен к 10 годам каторги. В тот же день казанское дворянство и городское общество давали обед графу Палену в зале дворянского собрания. В середине обеда мне сказали, что приехал смотритель тюремного замка по экстренному делу. Я вышел к нему, и он объяснил, что Нечаев, привезенный из суда, начал буйствовать, вырвал у конвойного ружье и согнул штык (он обладал громадной физической силой), а затем выломал у себя в камере из печки кирпич и грозил размозжить голову всякому, кто к нему войдет. Его удалось обезоружить, но смотритель находил необходимым заковать его в ручные и ножные кандалы, не желая, однако, это сделать без моего ведома, так как на мне лежали и обязанности старого губернского прокурора. Я отнесся отрицательно к этой крайней мере и посоветовал ему подействовать на Нечаева каким-нибудь иным образом. «Что – котята еще у него?» – «У него – он возится с ними целый день и из последних грошей поит их молоком». – «Так возьмите у него в наказание котят». Смотритель, старый служака прежних времен, посмотрел на меня с недоумением, потом презрительно пожал плечами и иронически сказал: «Слушаю-с!»
Прошло три дня. Смотритель явился ко мне вновь. «Господин прокурор, позвольте отдать котят Нечаеву». – «А что?» – «Да никак невозможно». – «Что же? буйствует?» – «Какое, помилуйте! Ничего не ест, лежит у дверей своей камеры на полу, стонет и плачет горючими слезами: «Отдайте котят, – говорит, – ради Христа отдайте! Делайте со мной, что хотите: ни в чем перечить не буду, только котяточек моих мне!» Даже жалко его стало. Так можно отдать? Он уж будет себя вести примерно. Так и говорит: «Отдайте: бога за вас молить буду!»
И котята были отданы убийце Чернова.
Из харьковских воспоминаний
Я всегда находил, что в нашей русской жизни воспитание детей построено на самых извращенных приемах, если только вообще можно говорить о существовании воспитания в истинном смысле слова между русскими людьми. Даже вполне развитые родители по большей части относятся к детям со слепотою животной любви и совершенно не думают о том, что впечатления, даваемые восприимчивой душе ребенка, должны быть строго соразмерены с его возрастом и с той работой мысли и чувства, которую они собой вызывают. В особенности это можно сказать про чтение, невнимание к выбору которого у некоторых воспитателей граничит с преступностью, тяжкие последствия которой лишь иногда парализуются чистотою детской души и свойственным возрасту непониманием тех или других отношений. Сюда же относятся неосторожность в разговорах при детях и бессмысленное, подчас доходящее до бессознательной жестокости, стремление доставлять детям развлечение, в котором детская душа менее всего нуждается, находя себе пищу в простых явлениях окружающей природы и жизни. Я знаю немало образованных и добрых людей между моими друзьями и хорошими знакомыми. Но, когда порой я вижу, как они воспитывают своих детей, спеша насытить их души преждевременными впечатлениями и болезненно развить их фантазию и тщеславие, как возят их по циркам, загородным садам и театрам, как заставляют их разыгрывать взрослых на так называемых «детских балах», как, в ущерб своему естественному авторитету, стараются поставить их в положение равноправных и ничем не стесняемых товарищей, я готов сурово порицать этих добрых и милых людей за то, что к сомнительному благодеянию?– дать жизнь?– они присоединяют еще и жестокость своей воспитательной отравы. Но об этом можно бы писать целые часы, писать слезами и кровью, широко почерпнутыми из повседневных явлений современной жизни с ее психопатами, неврастениками и самоубийцами.
И мне невольно вспоминается первое из впечатлений ужаса, которое я испытал вследствие стремления доставлять детям развлечения. Когда мне было лет восемь, меня взяли в Пассаж, в Петербурге, где был кабинет восковых фигур. Я вижу этот кабинет и все фигуры до сих пор с такой отчетливостью, как будто я стою перед ними. В конце кабинета в последней комнате помещалась темная раздвижная занавесь и пред нею маленькая рампа, за которой зажгли ряд свечей; затем хозяин кабинета на ломаном русском языке объяснил усевшимся перед рампой посетителям, что будет показана сцена из времен испанской инквизиции, представляющая пытку дочери знатного испанца, которую слуга-негр обвинял в ереси. Присутствовавшая при пытке сестра несчастной сошла, при виде ее страданий, с ума, а доносчик, запертый в соседней комнате, сознав гнусность своего поступка и слыша стоны своей жертвы, старается разбить себе голову об стену. После этого объяснения следовало меня, восприимчивого и нервного ребенка, взять за руку и немедленно увести. Но это противоречило бы теории доставления развлечений…
Занавесь раздвинулась, и предстала картина, которая никогда не изгладится из моей памяти. По стенам, в глубине сцены, стоял ряд монахов с надетыми на голову черными остроконечными капюшонами, в которых были сделаны лишь два маленьких зловещих отверстия для глаз;, перед ними, за покрытым черным сукном столом, стоял, протянув повелительно руку, главный инквизитор в красной мантии, а на первом плане один палач, в узком черном же капюшоне, но не в рясе, крепко держал стоявшую на коленях молодую и красивую девушку с растрепанными волосами, разинутым, конечно, для крика, ртом и полными страдания и ужаса глазами, а другой, схватив ее за руку, окровавленными клещами вырывал у нее ногти. В стороне, лицом к зрителю, стояла ее сестра в белом платье, устремив вдаль безумный взор и зажимая себе уши руками, а рядом, в небольшой комнатке, молодой негр или, вернее, мулат, в светлой одежде, с ужасным выражением лица, ударялся головой об стену, и кровь текла по его лицу, оставляя следы на стене и на платье. Мне трудно передать, что я перечувствовал, глядя на эту картину. Доставление мне этого жестокого развлечения сопровождалось, в том же воспитательном ослеплении, предложением книги Поля Ферраля «Тайны испанской инквизиции», а результат всего этого выразился в том, что я почти месяц не мог спать, переживая каждую ночь виденную мною картину или постоянно просыпаясь с криком ужаса, если удавалось забыться на некоторое время. С тех пор у меня явилось инстинктивное и непреодолимое отвращение к восковым фигурам, и попытки переломить себя и зайти в Panopticum [4 - Крупнейший в Германии музей восковых фигур, основанный в 1879?г.] в Берлине стоили мне насилия над собой и отравленного на целый день настроения. Говоря откровенно, если бы даже и теперь, когда мне идет восьмой десяток, мне предложили остаться на ночь в комнате, где лежит несколько трупов, хотя бы и в том виде, в каком их приходится видеть в анатомическом театре, или же в комнате, где находится несколько восковых фигур, одетых и даже красивых, я без колебаний предпочел бы первое, до того мне тягостно и тошнотворно зрелище этих остановившихся глаз и этих безжизненных рук и ног, перед которыми ноги трупа все-таки кажутся более живыми. Замечу при этом, что флорентийские раскрашенные статуи не производят па меня никакого неприятного впечатления. Очевидно, в основе всего лежит восковой кабинет в Пассаже.
Я думаю вообще, что восковые кабинеты и во многих отношениях современные нам кинематографы должны быть подчинены строгому и действительному надзору для ограждения их посетителей от вредных и противных стыдливости впечатлений, приучающих зрителей к спокойному созерцанию жестокости или к удовлетворению болезненной и кровожадной любознательности. Для меня несомненно дурное влияние на многих из посетителей музея Grevin [5 - Парижский музей восковых фигур, открытый в 1882?г.] в Париже, подносящего своим посетителям последние новинки из мира отчаяния, крови и преступлений» или так называемых «Folterkammer» [6 - Камера пыток; застенок (нем.).] немецких восковых кабинетов. При этом надо заметить, что картины страданий и вызываемый ими ужас для многих имеют в себе ядовитую привлекательность. Такое же влияние имеют иногда и те произведения живописи, в которых этическое и эстетическое чутье не подсказало художнику, что есть в изображении действительности или возможности черта, переходить за которую не следует, ибо за нею изображение уже становится проступком, и притом проступком безжалостным и дурным. Несколько лет назад на художественных выставках в Берлине и Мюнхене были две картины. Одна представляла пытку водою, причем безумные от страдания, выпученные глаза и отвратительно вздутый живот женщины, в которую вливают, зажимая ей нос, чтобы заставить глотать, второе ведро воды, были изображены с ужасающей реальностью. На другой, носившей название «Искушение святого Антония», место традиционных бесов и обнаженных женщин занимали мертвецы всех степеней разложения, пожиравшие друг друга и пившие из спиленной верхней части своего черепа, обращенной в чашу, лежавший в ней свой собственный мозг. Перед обеими картинами всегда стояла толпа, некоторые возвращались к ним по нескольку раз, и в то время, когда из их уст раздавались невольные возгласы отвращения и ужаса, глаза их жадно впивались во все отталкивающие подробности…
Конечно, я говорю о пребывании в комнате с трупами лишь при неизбежности выбора между ними и восковыми куклами, ибо и с трупами я испытал два очень тяжелых впечатления. Оба они имели место в Харькове.
На Рыбной улице был убит в своей лавке купец Белоусов жестоким ударом большого полена в лицо, которое представляло из себя не поддающийся описанию страшный вид; особенно тяжкое впечатление производил один уцелевший глаз, выпученный как бы с выражением застывшего ужаса, тогда как другой был выбит ударом и размозженный висел на каких-то синевато-красных нитях. Старик лежал поперек порога из задней комнаты в лавку, так что для перехода из одной в другую приходилось шагать через его труп, одетый в длинный белый халат. Руки старика со скорченными пальцами были подняты вверх и так и застыли, а ноги широко раскинуты. Вся фигура представляла тягостное зрелище и казалась в полусвете задней комнаты колоссальной. Было очевидно, что убийца вошел не в дверь лавки, которая была заперта тяжелым засовом с замком, ключ от которого оказался в кармане халата убитого. Он не мог войти и через чердак и проломанное в потолке отверстие, так как следы крови и рук на приставленной к этому отверстию лестнице указывали, что она была принесена после убийства и что ее протащили через труп. Оставалось прийти к выводу, что убийца проник с заднего хода, где дверь запиралась довольно слабо входившим в петлю длинным крючком. Для подтверждения этого вывода нужно было убедиться, что убийца, дергая дверь, мог заставить крючок прыгать и, наконец, совсем выскочить из петли. Затем, когда Белоусов – человек одинокий и опасливый, собиравшийся уже ложиться спать в лавке, где за прилавком стояла его кровать, быть может, привлеченный шумом, пошел в заднюю комнату и показался на ее пороге, притаившийся у стены убийца ударил его со страшной силой длинным поленом по голове и убил. Полено это, все в крови и с прилипшими к нему седыми волосами с головы и бороды старика, валялось около трупа. Для того, чтобы надеть крючок и видеть его положение при дерганье двери, нужно было кому-либо войти в заднюю комнату и в ней запереться. Судебный следователь решил остаться снаружи и в присутствии понятых дергать дверь. На мое предложение помощнику полицейского пристава войти и запереться он отвечал, что ему дурно, и он просит освободить его от этого опыта. Тогда я решил запереться сам, оставшись один в полумраке задней комнаты, в одном шаге от мертвого старика.
Тяжелый воздух стоял в комнате, и гнетущая тишина господствовала вокруг, покуда следователь Гераклитов готовился начать дергать дверь. Чем более глаза привыкали к полусвету маленькой комнаты, скорее похожей на каморку, тем явственнее рисовалась фигура убитого. Накладывая крючок, я должен был обходить полено, чтобы оставить его для описания при осмотре в прежнем положении и при этом полами своего пальто касаться одной из окоченелых рук старика. Началось дерганье двери, крючок прыгал, но не соскакивал с петли. Иногда дерганье прерывалось, смутно было слышно, что следователь что-то объяснял понятым, затем наступало несколько мгновений тишины, которые начинали казаться целой вечностью. Наконец, дерганье прекратилось вовсе, голоса замолкли, и я остался один с убитым стариком. Так прошло минуты две. Затем дерганье возобновилось с новой энергией, и я должен был собрать всю силу самообладания, чтобы не помочь крючку выскочить из петли. Но вот он стал прыгать сильнее, и наконец дверь распахнулась и в мое заточение хлынул поток света. Я был белее старикова халата, и сердце мое усиленно и нервно билось где-то у самого горла, стесняя дыхание и затрудняя речь. Сознание, что я – юный товарищ прокурора – подал пример смелости полицейскому чиновнику, не очень меня радовало, ибо в глубине души я понимал, что, продлись еще одну минуту медлительный опыт над дверью и раздумье пред нею Гераклитова, я бы лежал без чувств в объятиях старика.
Другой случай мог бы послужить материалом для одного из рассказов Эдгара По, до такой степени в нем собрался воедино ряд впечатлений, из которых каждого было бы достаточно, чтобы не быть никогда забытым. В Харькове существовал, а, быть может, существует и ныне, обычай заменять новогодние визиты раутом в дворянском собрании, где все лица общества обменивались приветствиями, а молодежь танцевала. Первого января 1869 г. я отправился на этот раут, но, выходя из дому, получил письмо, в котором меня, как товарища прокурора, извещали, что в тюремном замке товарищами по заключению был убит арестант, а начальство скрыло это происшествие. Убитого отпели, как умершего естественной смертью, несмотря на то, что многие видели боевые знаки на лице у лежавшего в гробу, и, чтобы окончательно опустить концы в воду, труп отправили в анатомический театр, откуда его возьмут, конечно, в препаровочную, и всякий след преступления потеряется.
Письмо было анонимное, но на порядках харьковского тюремного замка со времени знаменитого на юге России дела о подделке серий лежала тень подозрений. Поэтому, встретив на рауте прокурора судебной палаты Писарева, я показал ему это письмо, и мы решили, что я произведу личное дознание, немедленно отправясь в анатомический театр для разыскания трупа. На рауте был и профессор патологической анатомии, милый, глубокоученый и оригинальный друг мой Душан Федорович Лямбль. Я просил его отправиться со мною, на что он выразил согласие с большой готовностью, и мы, как были на рауте, во фраках и белых галстуках, поехали в университет, где не без труда разыскали полупьяного сторожа, и этот своеобразный Виргилий повел нас по кругам анатомического ада. Миновав несколько комнат, мы вступили в амфитеатр, перед пустыми скамьями которого стоял стол с мраморной доской, и на нем сидела обнаженная молодая женщина, прислоненная к особой подпорке, поддерживавшей ее голову. Молодое и красивое тело ее было немного подернуто зеленью разложения, окоченелые руки и ноги были слегка согнуты в коленях и локтях, а лицо… лица было не видно, ибо головная кожа была подрезана от одного уха до другого через шею ниже затылка и вывернутая наизнанку, зияя мясом и мелкими сосудами, была надвинута на лоб и на лицо. Густые белокурые волосы спускались из-под нее и совершенно закрывали лицо это и верхнюю часть груди. В таком виде она была приготовлена накануне для какого-то анатомо-патологического исследования, которое должно было произойти 2 января. Трудно передать то ощущение сострадания и вместе отвращения, которое вызывала своим видом эта ужасная фигура… Миновав ее, мы вошли в длинный коридор с небольшими и тусклыми окнами, бывшими, если не изменяет память, на уровне выше роста человека. Я несколько раз оглядывался назад, и каждый раз мой взор встречал все ту же фигуру, сидевшую на столе прямо против дверей. Издали казалось, что это сидит голый бородатый человек, нахлобучивший на себя красную шапку. В конце коридора несколько ступенек вели в кладовую, освещенную одним окном, где хранились трупы, присланные для вскрытия и для студенческих работ из полиции и больниц. Это были разные бездомные, смертные останки которых не приняли любящие руки; были опившиеся или замерзшие, подобранные на улицах и в уезде. За праздники их накопилось много, и они лежали на низких и широких нарах друг на друге, голые, позеленевшие, покрытые трупными пятнами, с застывшей гримасой на лице или со скорбной складкой синих губ, по большей части с открытыми глазами, бессмысленно глядящими мертвым взором. На большом пальце правой ноги каждого из них, на веревочке был привязан номер по реестру, в котором значилось – кто и откуда прислан. Лямбль послал за реестром, и мы стали курить и ходить по коридору, где было весьма холодно.
В обоих концах коридора нас постоянно встречало одно и то же зрелище: то сидящая женщина, то груда мертвых тел. Наконец, сторож принес реестр и стал отыскивать ноги трупа, присланного из тюрьмы. Так как некоторые из этих трупов лежали головами в противоположных направлениях, то их пришлось переворачивать, чтобы отыскивать номера ног, обращенных к стене, и сторож, должно быть по дороге еще выпивший, ворча себе под нос, для сокращения своей работы, влез на эти трупы и стал их разбирать, как дрова, вытаскивая одного из-под другого. Искомый нами номер оказался на ноге мертвеца, лежавшего в самом низу, головой к стене. Сторож стал тянугь его за ноги, причем лежавшие сверху стали поворачиваться. Вот показались тело и руки, задевавшие других мертвецов и в них упиравшиеся, – вот грудь и плечи, но где же голова?! Оказалось, что голова отрезана умелою рукою и исчезла вместе со своими «боевыми знаками». Сторож припомнил, что голова отрезана и унесена прозектором для каких-то специальных надобностей. Посланный тотчас же к прозектору, жившему тут же на дворе, сторож, продолжая ворчать, пошел ленивою походкой, предварительно прислонив безголовый труп к его товарищам по несчастью. Мы снова стали ходить по коридору и курить. Между тем короткий зимний день начал сменяться надвигающимися сумерками. Сторож не возвращался. Наконец Лямбль потерял терпение и, сказав мне: «Я пойду за головою сам», быстро удалился, так что я не успел, возбудить вопроса о том, не пойти ли с ним и мне. Притом сторож мог вернуться без него, пройдя с какого-нибудь другого хода, и, не найдя никого, исчезнуть уже на целый день.
Подавляя в себе ощущение невольной робости, я стал ходить по коридору, а сумерки все сгущались. Вскоре уже трудно стало различать все подробности в подвале и большой зале, и, по мере приближения к ним, из густой полутьмы выступали только белое тело сидящей женщины и зеленоватое грузное тело человека без головы. Из залы слышалось таинственное и зловещее молчание. Из подвала проникал насыщенный тяжким запахом разложения воздух, приносивший иногда похожие на вздохи звуки, издаваемые газами во внутренностях потревоженных трупов. Наконец, стемнело совершенно. Я перестал ходить, смущаемый гулом моих шагов, и остановился посредине коридора, сторожимый с двух сторон мертвыми товарищами моего тяжелого одиночества. Вспоминая, что менее чем за два часа перед этим я был в светлой и праздничной зале, видел веселую и нарядную толпу, говорил с изящными, полными жизни и веселья женщинами, я начинал думать, что видел все это во сне или, наоборот, что то, что меня окружает, какой-то тяжкий кошмар, который сейчас рассеется, и грудь, в которую начинал заползать неотвратимый ужас, вздохнет облегченно. Не могу дать себе отчета, сколько времени провел я в этом состоянии. Но вот в зале показался слабый свет, и затем в конце коридора послышались шаги, и появился Лямбль с мешком в руках, а за ним сторож с фонарем. В мешке была голова с ярко-красными пятнами на лице. Лямбль приладил ее к шее стоявшего трупа и, убедившись, что она на своем месте, снова снял ее и, рассматривая внимательно, сказал мне: «В письме написан вздор: это не кровоподтеки от побоев, это воспалительное состояние кожи; это, вероятно и даже несомненно, следы местного воспаления. Я пришлю вам завтра письменный об этом отзыв». И, взяв с собою голову, он вместе со мною удалился.
Мне пришлось и в другой раз посетить харьковский анатомический театр, отыскивая Лямбля для получения его совета относительно экспертизы по вопросу о психозе беременной женщины, обвинявшейся в Валках в покушении на жизнь мужа. Я нашел его перед памятным мне мраморным столом, окруженным группою студентов. Он делал вскрытие трупа, в подтверждение постановленного диагноза, и производил его с изумительным искусством, точностью и знанием, которые так и развертывались под каждым движением его скальпеля. Весь отдавшись разрешению патологического вопроса, оживленный и уверенный в себе, жадно посасывая маленький окурок сигары, каким-то чудом не обжигавший ему нос, он казался настоящим жрецом науки на исключительном ей служении. Когда вскрытие было окончено и заключено его блестящим выводом, он, дав мне требуемое указание, сказал: «Пойдемте в мой патолого-анатомический кабинет: я вам покажу, что осталось от госпожи NN…». Эта NN была жизнерадостная, изящная красавица с белокурыми пепельного цвета волосами и большими «бархатными» черными глазами. Она составляла предмет явного восхищения и тайного злословия местного общества, в котором играла весьма заметную роль. Ей льстили в глаза, а за глаза – некоторые не без зависти – обвиняли ее в близких отношениях со знатным и чрезвычайно богатым местным обывателем. Если это было верно, то надо сказать, что между свойствами, которыми он взял ее сердце, – любовь с его стороны, нежная и искренняя, играла во всяком случае главную роль. Любовь эта пережила ее кончину и вызвала со стороны осиротевшего покупку дома, где она жила, и устройство часовни в спальне, где она испустила в страшных страданиях последнее дыхание. Несчастная женщина, которую я видел дней за десять до свидания с Лямблем во всем блеске ее красоты, молодости и внешнего успеха на одном бале, вероятно, хотела избавиться от беременности. Это, под видом какой-то операции, было совершено поспешно и неумело. Предполагался прорыв стенки… Молва обвиняла в этом одного из видных врачей, и прокурор судебной палаты Писарев возбудил по этому поводу предварительное следствие. Чем оно окончилось, я не знаю, так как вскоре был переведен из Харькова.
Придя в патолого-анатомический кабинет, Лямбль показал мне плоский открытый сосуд, наполненный спиртом, и в нем пострадавшие внутренние органы несчастной женщины. В главном из них был заметный прорыв, происшедший от ошибочного направления какого-нибудь инструмента или, вернее, согнутого пальца. Сердце мое сжалось, и тщета всего житейского предстала предо мною со всей ясностью. С каким восторженным обожанием относились к той, кому принадлежали эти бескровные, похожие на серые тряпки, внутренности! И вот, освобожденная от них, лежит в сырой земле и уже сделалась добычей червей очаровательная красавица с большими радостными и наивными глазами, которым так улыбалась принимаемая не всерьез жизнь. Над ее еще живым в памяти образом извиваются злоречие и злорадство, а над содержимым сосуда равнодушно скользит безучастный взгляд судебного врача и следователя…
Упомянув о Лямбле и вызвав перед собой его симпатичный и оригинальный образ, я не могу удержаться, чтобы не сказать о нем несколько слов. Ученик знаменитого Гиртля, подвижный, энергический, с прекрасными, полными жизни, умными карими глазами на сухощавом лице, под нависшим хохлом седеющих волос, Лямбль производил впечатление выдающегося человека и был таковым в действительности. Хозяин в своей части, он не был узким специалистом, а отзывался на всевозможные духовные запросы человеческой природы. Любитель и знаток европейской литературы, тонкий ценитель искусства, он мог с полным правом сказать о себе «nihil humanum me alienum puto» [7 - Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).]. Он, например, в подробности изучал и знал Данга, а своими объяснениями и замечаниями внушил мне любовь и интерес к художественной деятельности Гогарта. Как практический врач он подсмеивался над узкой специализацией, столь развившейся в последнее время, и в понимании картины и значения болезни давал ход собственной творческой мысли, а не следовал рабски за тем, что ему скажет последнее слово заграничных книжек и в особенности разные химические и другие исследования. Он лечил не теоретически понимаемую болезнь, а каждого больного, индивидуализируя свои приемы и указания и отводя широкое место психологическому наблюдению. Его называли часто оригиналом и чудаком, но чудак этот мог записать себе в актив не мало блестящих исцелений там, где был серьезный и определенный недуг, и там, где нужно было лишь поднять душевный строй человека, не привязывая к нему непременно определенного медицинского ярлыка с неизбежной, предустановленной процедурой лечения и режима.
Судебная реформа в первые годы своего осуществления требовала от судебных деятелей большого напряжения сил. Любовь к новому, благородному делу, явившемуся на смену застарелого неправосудия и бесправия, у многих из этих деятелей превышала их физические силы, и по временам некоторые из них «надрывались». Надорвался в 1868 году и я. Появились чрезвычайная слабость, упадок сил, малокровие и, после более или менее продолжительного напряжения голоса, частые горловые кровотечения. Выдающиеся врачи Харькова признали мое положение весьма серьезным, но в определении лечения разошлись, хотя, по-видимому, некоторые подозревали скоротечную чахотку. Один посылал меня в Соден, другой в Зальцбрун, третий в горы, четвертый, наконец, в Железноводск. Я не знал, что делать, тем более, что и самое путешествие за границу представлялось для меня затруднительным в материальном отношении. Заслышав о моем нездоровье, ко мне пришел Лямбль. «Надо ехать за границу», – сказал он с чешским акцентом, пощипывая любимым жестом свою эспаньолку. «Но куда, куда?» – «А куда глаза глядят, т. е. в Европу… Вам нужны новые впечатления и отдых, но отдых деятельный и поучительный. Поезжайте сначала в Прагу (ну, конечно! подумал я), там вы встретите – я дам вам письма – хороших людей, а оттуда в Мюнхен, где зайдете в старую Пинакотеку, потом прокатитесь по Рейну, во Фландрию, посмотрите Рубенса и Мемлинга в Брюгге, а затем в Париж, где вам, может быть, удастся послушать Тардье…» – «Но что же мне пить? какие воды?» – «А пить необходимо, необходимо пить, но не воды, а пиво. Вы так и делайте, – поезжайте от одного пива к другому пиву, а приедете во Францию – пейте красное вино. А главное – не думайте о своей болезни. Она называется: молодость (мне было 23 года), слабые силы при большом труде и нервность; вы в сущности один нерв. Новые впечатления и пиво! вот и все…» И теперь, дожив, несмотря на многие испытания, почти до восьмидесяти лет, я с благодарным чувством вспоминаю этот совет «чудака», которому вполне и с успехом в свое время последовал. Лямбль действительно был оригинален во всем. После своего венчания он пригласил нас – своих шаферов – из церкви в свою квартиру, богатую книжками и скудной мебелью, переоделся в свой обычный рабочий костюм и, попросив нас посидеть с новобрачною, ушел присутствовать при какой-то интересной в медицинском отношении консультации, продолжавшейся до поздней ночи.
С особым блеском сказывались его знание и способности в тех случаях, когда по приглашению суда или сторон он являлся экспертом в уголовных делах. Лучших по обстоятельности, рельефности и художественной удобопонятности экспертиз, по самым затруднительным вопросам, мне не приходилось потом, во время моей долгой судебной деятельности, слышать. Это были целые лекции, глубоко и научно продуманные по содержанию, популярные по форме. К сожалению, в те годы (конец шестидесятых) между профессорами харьковского медицинского факультета существовала значительная рознь. Если одна из сторон в процессе, ввиду предстоящего состязания на суде, вызывала Лямбля, то другая непременно вызывала одного из его недоброжелателей – и в научный спор нередко вносился элемент личных обостренных отношений. Надо было видеть, как умело и с достоинством истинного знания отражал Лямбль направленные на него удары, сколько тонкой иронии и остроумия бывало в его ответах на недоумения суда или сторон! Не только лиц прокурорского надзора, обыкновенно довольно беззаботных по части судебномедицинских сведений, но и своих товарищей по профессии он побивал легко и неотразимо. Надо заметить, что особой глубиной и всесторонностью отличались психиатрические экспертизы этого профессора патологической анатомии. В них он являлся настоящим служителем науки, который понимает задачи истинного правосудия с теплотою доброго, с широтою просвещенного человека. По поводу одной из них в Варшаве, в начале восьмидесятых годов, по делу об убийстве врача Курциуша, он писал мне своим своеобразным слогом: «Я завидую дару слова прокурора, набросавшего на черном фоне небосклона великолепную логическую радугу, которою все восхищались, забывая, что внизу, под нею, на сырой холодной земле лежит смятое существо, побитое градом роковых событий; оно едва дышит, и между ним и этой радугой нет никакой связи. Прокурор стер в порошок всю мою, трудом добытую, экспертизу с лица земли, успокаивая меня тем, что вся эта моя отвратительная истина – «асимметрия черепа, неравенство зрачков, наследственность» и прочие гадости, все это на втором плане. Да! на втором, на третьем, если угодно на последнем плане, но на этом же плане и сам подсудимый, и с этого плана его надо понимать, а не с надоблачной высоты этических соображений…»
Мы расстались в 1870 году, чтобы видеться затем лишь урывками. Он перешел в Варшаву, я оставил Харьков. Чуждый всякой рутины, ставивший впереди всего исключительно интересы дела, он, по-видимому, судя по некоторым местам его писем, переживал подчас трудные дни. Чех по рождению, он горячо любил Россию и‘ желал ей истинного величия и сопричастия культурным задачам Запада. Действительность, окружавшая его, шла нередко вразрез с этими его желаниями… «В наших сферах, – писал он мне в сентябре 1880 года, – все то же водотолчение. Попечитель выходит из себя потому, что студенты ходят в студенческих шапках без студенческих мундиров, а ректор страдает бессонницей потому, что попечитель принимает студенческие шапки к сердцу. Между тем, как вопрос о шапках тревожит умы, возбуждает кровь и грызет печень, другие дела себе гуляют, например одна клиника остается без преподавателя, а другой преподаватель остается без клиники. Вы знаете, Анатолий Федорович, как иногда бывает стыдно за человека, но поверьте, что еще стыднее иногда быть профессором университета в России». «Здесь тоже веет каким-то ветерком, пахнувшим богатыми надеждами, – писал он в начале 1881 года. – Газета «Врач» напечатала докладную записку медицинского факультета о нуждах клиник, статья была принята с глубоким сочувствием со стороны зрячих и со скрежетом зубовным со стороны бездушных представителей злополучной бюрократии». В следующем году по поводу несчастий, обрушившихся, как из рога изобилия, на одного нашего общего близкого знакомого, он прислал мне строки, отлично характеризующие склад его собственной души, всегда, впрочем, ясный для тех, кто знал его ближе. «Я вполне понимаю удручающее горе нашего друга, – писал он, – но мне кажется, что если несчастие вообще облагораживает хорошую душу, то не может не быть, чтобы тяжелые страдания его чуткого сердца не придали бы еще больше цены тому твердому закалу характера, которым он стольких к себе привлекает. Пусть идет он именно этой дорогой горестей, которая называется per aspera ad astra [8 - Через тернии к звездам (лат.).]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69581572) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Сделал тот, кому выгодно (лат.).
2
Высокий Фридрих (нем.)
3
Установленной картины преступления (лат.).
4
Крупнейший в Германии музей восковых фигур, основанный в 1879?г.
5
Парижский музей восковых фигур, открытый в 1882?г.
6
Камера пыток; застенок (нем.).
7
Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
8
Через тернии к звездам (лат.).
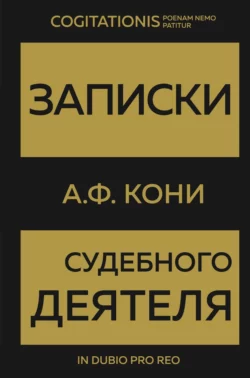
Анатолий Кони
Тип: электронная книга
Жанр: Юриспруденция
Язык: на русском языке
Стоимость: 349.00 ₽
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 15.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В книгу вошли такие известные дела, как: «Игуменья Митрофа-ния», «Из казанских воспоминаний», «Дело Овсянникова», «Темное дело». Также в сборнике представлен очерк «Князь А. И. Урусов и Ф.Н Плевако», рассказывающий о выдающихся судебных ораторах, которые без предварительной подготовки вышли на один уровень с лучшими представителями западноевропейской адвокатуры.