Всё предельно (сборник)
Всё предельно (сборник)
Стивен Кинг
«Команда скелетов». «Ночная смена». «Ночные кошмары и фантастические видения»… Вы помните эти названия? Как известно, Стивен Кинг дарит почитателям своего таланта новый сборник повестей и рассказов примерно раз в семь лет. И теперь перед вами – новый сборник «короля ужасов». Сборник, где Стивен Кинг наконец-то предстает перед читателем во всей многогранности своего таланта – то тонкого и интеллектуального, то жесткого и мрачного…
Это – Стивен Кинг, каков он есть.
Стивен Кинг
Все предельно (сборник)
Посвящается Шейн Леонард
Я поступил просто: достал из колоды все пики и добавил к ним джокера. От туза до короля – 13. Плюс джокер – четырнадцать. Перемешал карты и разложил. Как они выпали, в таком порядке я и расставил рассказы, отталкиваясь от списка, который прислал издатель. В итоге получился на удивление удачный баланс между литературными рассказами и «ужастиками». Прибавил также несколько строк комментариев до или после каждого рассказа, в зависимости от того, где они уместнее. Итак, сборник рассказов, место которых определено картами.
Предисловие: работа в утерянном (почти) жанре
Я уже многократно писал о радости, получаемой от самого процесса писательства, и не вижу смысла повторяться, но должен сделать одно признание: я также получаю дилетантское удовольствие, вмешиваясь в деловые вопросы, связанные с моим творчеством. Нравится мне придумывать что-то новенькое, использовать какой-нибудь нестандартный ход. Я пытался писать визуальные романы («Буря столетия», «Красная роза»), сериальные романы («Зеленая миля»), сериальные романы в Интернете («Растение»). Речь идет не о том, чтобы заработать больше денег и даже не о создании новых рынков. Это попытка взглянуть на творчество, писательство под иным углом и таким образом внести свежую струю в процесс создания артефактов, в моем случае – литературных произведений, а если говорить конкретно об этом сборнике – рассказов, дабы они доставляли читателям как можно больше удовольствия.
Сперва я хотел добавить «меня сам процесс радовал новизной», но потом вычеркнул эти слова, чтобы не кривить душой. Скажите, дамы и господа, кому я этим могу запудрить мозги, кроме как себе? Я продал свой первый рассказ в двадцать один год, когда учился в колледже. Сейчас мне пятьдесят четыре, и очень, очень много слов прошло через компьютер весом в 2,2 фунта, на котором я ношу бейсболку «Ред сокс». В написании рассказов нового для меня давно уже ничего нет, но это не означает, что сам процесс потерял привлекательность. Однако, если бы я не находил способов сохранять это занятие захватывающим и интересным, оно наверняка мне надоело. Я не хочу, чтобы такое произошло, потому что не считаю возможным обманывать тех, кто читает мои произведения (а это вы, дорогой Постоянный Читатель), и не намерен обманывать себя. Мы в конце концов пара. У нас свидание. Мы должны развлекаться. Танцевать. Наслаждаться временем, проведенным вместе.
Пожалуйста, помните об этом, а пока другая история. Нам с женой принадлежат две радиостанции, смекаете? WZON-AM, она специализируется на спорте, и WKIT-FM, ее конек – классический рок (как мы говорим, «Рок Бангора»). Радио – далеко не самый прибыльный бизнес, особенно в Бангоре, где слишком много радиостанций и недостаток слушателей. Мы крутили современную кантри, классическую кантри, ретро, классическое ретро, Раша Лимбау, Пола Харви, Кейзи Казема. Радиостанции Стива и Тэбби Кинг многие годы приносили одни убытки, не слишком большие, но достаточные, чтобы нервировать меня. Мне нравится ходить в победителях, и хотя мы выигрывали в рейтингах компании «Арбитрон», которые для радио то же самое, что рейтинги Нилсена для ТV, в конце каждого года выяснялось, что потратили больше денег, чем заработали. Мне объясняли, что рекламный бюджет рынка Бангора не столь велик, и пирог режется на слишком много кусков.
И тогда у меня возникла идея. Напишу радиопьесу, решил я, вроде тех, что любил слушать с дедушкой в Дархэме, штат Мэн. Хэллоуинскую радиопьесу, черт побери! Я знал, разумеется, о знаменитой, или позорной, хэллоуинской адаптации «Войны миров», которую Орсон Уэллс сделал на «Меркури тиэтре». Идея Орсона Уэллса (безусловно, гениальная идея) состояла в том, чтобы превратить классический роман Герберта Уэллса о вторжении марсиан на Землю в серию информационных выпусков и репортажей. Идея сработала. Сработала настолько блестяще, что страну охватила паника, и Уэллсу (Орсону – не Герберту) на следующей неделе пришлось извиняться перед радиослушателями (готов спорить, извинялся он с улыбкой на лице… знаю, что я улыбался бы, если довелось столь убедительно лгать).
Я подумал: что сработало для Орсона Уэллса, сработает и для меня. Вместо танцевальной музыки, с которой начиналась адаптация Уэллса, я намеревался начать свою пьесу с песни Теда Ньюджента «Кошачья лихорадка». А потом в эфир вышел бы один из наших настоящих радиоведущих (ди-джеями их уже никто не называет). «Это Джи-Джи Уэст, новости WKIT, – скажет он. – Я нахожусь в деловом центре Бангора, где более тысячи человек столпилось на Пикеринг-сквер, наблюдая, как большой серебристый дискообразный объект опускается на землю… одну минутку, если я подниму микрофон, вы, возможно, все услышите сами».
И пошло-поехало. Я мог бы использовать домашнюю студию для создания необходимых звуковых эффектов, актеров местного муниципального театра, но каков главный плюс? Самый главный плюс? Записанную пьесу мы могли продавать радиостанциям по всей стране! Так что прибыль, полагал я (и мой бухгалтер со мной согласился), пошла бы по статье «Доходы радиостанции», а не «Доходы от продажи литературного произведения». Таким образом можно было компенсировать недостаток денег, получаемых от рекламы, и в конце года вывести наши радиостанции из зоны убытков!
Идея написать радиопьесу захватила меня так же, как и возможность превратить наши радиостанции из убыточных в прибыльные благодаря писательскому мастерству. И что из этого получилось? Я не смог этого сделать, вот что. Как ни пытался, все, что выходило из-под моего пера, вернее, появлялось на дисплее компьютера, звучало как повествование. Не пьеса, развитие действия которой легко рисуется в вашем воображении (те, кто постарше и помнит такие радиопрограммы, как «В тревожном ожидании» и «Дымящееся ружье», понимают, о чем я), а наговоренная на пленку книга. Уверен, с тем, что я написал, мы все равно могли выйти на рынок и заработать какие-то деньги, но я знал, что успеха эта пьеса иметь не могла. Она скучна. Обманывает ожидания слушателей. Не получилась она у меня, и я не знаю, как ее выправить. Радиопьесы, как мне представляется, – утерянный жанр. Мы лишились способности видеть нашими ушами, которой не так уж давно обладали. Я же собственными ушами слышал по радио, как какой-то парень постукивал костяшками пальцев по полому куску дерева… и ясно, как божий день, видел Мэтта Диллона, в пыльных сапогах подходившего к стойке бара в салуне «Лонг Бранч». Увы. Те дни канули в Лету.
Писать пьесы в шекспировском стиле, комедии и трагедии, вырастающие из белого стиха, – еще один утерянный жанр. Люди пока ходят на студенческие постановки «Гамлета» и «Короля Лира», но будем честны перед собой: как вы думаете, сможет ли хоть одна из этих пьес составить конкуренцию передаче «Слабое звено» или сериалу «Сервайвер Пять: прикованный к Луне», даже если Гамлета сыграет Брэд Питт, а Полония – Джек Николсон. И хотя народ любит разгул страстей, бушующих в «Короле Лире» или «Макбете», от наслаждения неким жанром до способности сказать новое слово в этом жанре – дистанция огромного размера. Время от времени кто-то пытается поставить пьесу, написанную белым стихом на Бродвее или рядом с ним. Все эти попытки неизменно проваливаются.
Поэзия – не утерянный жанр. Поэзия чувствует себя даже лучше, чем раньше. Разумеется, привычная банда идиотов (как называли себя сотрудники журнала «Мэд») никуда не делась, это люди, путающие претенциозность с талантом, но при этом достаточно и настоящих мастеров своего дела. Если вы мне не верите, загляните в литературные журналы или местный книжный магазин. На каждые шесть никудышных стихотворений вы найдете одно или два хороших. А это, уверяю вас, очень приличное соотношение пустой породы и полезного продукта.
Рассказ – пока еще не утерянный жанр, но я готов спорить, что в сравнении с поэзией он стоит гораздо ближе к краю пропасти небытия. Продав свой первый рассказ в 1968 году, я уже слышал стоны по поводу неуклонного сокращения рынка: дешевые журналы ушли, дайджесты уходили, еженедельные приложения (вроде «Сэтеди ивнинг пост») умирали. За прошедшие годы я собственными глазами видел, как сужается рынок рассказов. Господи, благослови те маленькие журналы, где молодые писатели до сих пор могут публиковать рассказы, получая за это авторские экземпляры. Господи, благослови тех редакторов, которые до сих пор читают горы самотека (значительно увеличившиеся из-за страха, вызванного приходом нового тысячелетия). Господи, благослови тех издателей, которые еще дают зеленый свет антологиям новых рассказов, но Богу нет нужды проводить целый день, даже обеденный перерыв, благословляя этих людей. Хватит десяти или пятнадцати минут. Их мало, и с каждым годом становится все меньше. Журнала «Story», трамплина для молодых писателей (включая меня, хотя я на его страницах практически не публиковался), уже не существует. Так же как и журнала «Amazing Stories», несмотря на регулярно повторяющиеся попытки оживить его. Интересные научно-фантастические журналы, вроде «Vertex», закрылись, как и журналы, специализирующиеся на «ужастиках», такие, как «Creepy» и «Eerie». Этих прекрасных периодических изданий давно уже нет. Время от времени кто-то пытается возобновить издание одного из них. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, такая попытка предпринимается в отношении «Weird Tales». Практически все они заканчиваются неудачно. Как и в случае с пьесами, написанными белым стихом, не успеешь моргнуть, как открывшиеся журналы уже закрываются. Ушедшее вернуть невозможно. У потерянного есть свойство оставаться потерянным.
Я из года в год продолжаю писать рассказы, частично потому, что время от времени по-прежнему приходят идеи, отличные компактные идеи, на реализацию которых требуется три тысячи слов, может, девять, максимум пятнадцать, частично, потому что это способ доказать, как минимум себе, что я не исписался, что бы там ни говорили недоброжелательные критики. Рассказы – все та же штучная работа, аналог уникальных авторских экземпляров, которые можно купить только в магазине художественных изделий. Если у вас хватит терпения и вы подождете, пока их сделают прямо при вас в подсобке.
Но нет никаких причин, чтобы рассказы продавались теми же дедовскими методами только потому, что создаются они, как и прежде. Нет причин утверждать (как это делают многие критики), что способ, каким продается творение писателя, может в какой-то степени бросить тень на само творение или ухудшить его качество.
Здесь я говорю о большом рассказе (можно сказать, повести) «Катаясь на „Пуле“», который я продал самым необычным для себя способом, рассказе, иллюстрирующем многие из высказанных мною положений: утерянное не так-то легко вернуть, если что-то ушло в прошлое, значит, ни в настоящем, ни в будущем в прежнем виде ему не место, но новые подходы к одному из аспектов писательства, коммерческому аспекту, иногда могут оживить весь процесс.
Над «Пулей» я работал, завершив «Как писать книги», когда выздоравливал после автомобильной аварии и пребывал в весьма неважнецком состоянии. Творчество отвлекало меня от боли (и продолжает отвлекать), действовало лучше любого болеутоляющего. История, которую я хотел рассказать, очень проста; в чем-то похожа на те истории, что иногда рассказывают воспитатели у костра в летнем лагере. Речь в ней идет о человеке, остановившем попутную машину, за рулем которой сидел мертвец.
Когда, работая над рассказом, я углублялся в нереальный мир своих фантазий, высокотехнологичные «виртуальные» компании росли как на дрожжах в таком же нереальном мире интернет-коммерции. Крепла убежденность, что так называемые электронные книги несут в себе смерть обычным, с обложкой, страницами, которые надо переворачивать руками (страницы эти иногда еще и выпадали, если клей был слабым, а переплет – старым). В начале 2000 года огромный интерес вызвало эссе Артура Кларка, опубликованное только в киберпространстве.
Оно оказалось исключительно коротким (как сестринский поцелуй, подумал я, когда первый раз прочитал его). Мое творение, когда я поставил последнюю точку, оказалось достаточно длинным. Сюзан Молдоу, мой редактор в «Скрибнере» (будучи фанатом «Секретных материалов», я зову ее агент Молдоу… вы с этим справитесь), как-то позвонила мне, с подачи Вичинанцы, и спросила, нет ли у меня чего-то такого, с чем можно попытаться выйти на электронный рынок. Я отослал ей «Пулю», и мы трое, Сюзан, «Скрибнер» и я, отметились в истории издательского дела. Несколько сотен тысяч человек скачали рассказ, и я заработал неприлично много денег (только это ложь, неприлично много денег заработать нельзя). Даже права на аудиокнигу принесли больше ста тысяч долларов, на удивление крупную сумму.
Я хвалюсь? Раздуваю щеки? Пожалуй, да. Но я также говорю вам, что «Катаясь на „Пуле“» чуть не довела меня до безумия. Обычно, если я попадал в зал отдыха аэропорта, остальные клиенты меня не замечали. Все они разговаривали по мобильникам или заключали сделки в баре. Меня это вполне устраивало. Изредка, сознаюсь, кто-то да подходил и просил расписаться на салфетке для его жены. Жена, сообщал мне этот одетый в строгий костюм, вооруженный брифкейсом мужчина, прочитала все ваши книги. Он, к сожалению, ни одной. Он хотел, чтобы я знал и об этом. Слишком занят. Зато прочитал «Семь привычек людей, добившихся успеха». Надо торопиться, знаете ли, до первого инфаркта каких-то четыре года, за оставшееся время необходимо обеспечить свое будущее.
После того как «Пулю» опубликовали в виде интернет-книги (с виртуальной обложкой, логотипом «Скрибнера» и всем остальным), покой мне только снится. В залах отдыха аэропортов меня осаждала толпа. Даже в зале отдыха «Амтрака» в Бостоне. Меня останавливали на улице. Я чуть ли не по три раза на день отказываюсь от участия в ток-шоу (хотел выступить в «Спрингере»[1 - «Спрингер» – одно из самых популярных и скандальных ток-шоу США, которое покупают телекомпании многих стран мира. Создатель и ведущий шоу – Джерри Спрингер.], но Джерри меня не пригласил). Я даже попал на обложку «Тайм». «Нью-Йорк таймс» с важным видом отметила успех «Катаясь на „Пуле“» и предрекла неудачу моему следующего киберпроизведению, «Растению». Святый Боже, моя физиономия украсила первую страницу «Уолл-стрит джорнал». По собственной неосторожности я стал важной персоной.
Так что сводило меня с ума? Почему мне казалось, что я потерпел неудачу? Да потому, что до самого рассказа никому не было дела. Черт, да никто даже не задал вопроса о нем, и знаете, что я вам скажу? Это очень неплохой рассказ, если вас интересует мое мнение. Простой, но забавный. Выполняет свою работу. Если он заставит вас отвлечься от телевизора (а он заставит, как и остальные рассказы этого сборника), значит, я добился успеха.
После появления «Пули» в Интернете все эти господа в галстуках хотели знать: «Как идут дела? Как продается рассказ?» Как я мог объяснить им, что мне наплевать на цифры продаж, что для меня главное – отклик, который нашел рассказ в сердцах читателей. Задел за живое? Оставил равнодушным? Шевельнулись ли волосы на затылке, все-таки это одно из требований к качественному «ужастику». Со временем до меня дошло, что передо мной – еще одно свидетельство отступления жанра, еще один шаг по дороге, ведущей к полному его забвению. Есть что-то декадентское в появлении на обложке ведущего периодического издания только потому, что ты нашел альтернативный путь на рынок. Крайне неприятно сознавать, что твоих читателей прежде всего интересует новизна электронной упаковки, а не ее содержимое. Хочу ли я узнать, сколько читателей, скачавших «Катаясь на „Пуле“», прочитали «Катаясь на „Пуле“»? Нет. Думаю, что меня ждет сильное разочарование.
Интернет-публикации могут стать – а могут и не стать – хитом будущего. Поверьте, мне это без разницы. Для меня это лишь еще один способ подстегнуть свое увлечение писательством. С тем, чтобы потом мои произведения увидело как можно больше людей.
Эта книга скорее всего какое-то время пробудет в списке бестселлеров; с этим мне везет. Но, если вы отыщете ее там, задайтесь вопросом: а сколько других сборников рассказов попадало в списки бестселлеров в течение любого, отдельно взятого года и как долго издатели будут продолжать публиковать книги, не вызывающие особого интереса читателей? А вот для меня одно из самых больших удовольствий в жизни – это холодным вечером сесть в любимое кресло с чашкой горячего чая и, прислушиваясь к воющему за стенами ветру, погрузиться в хорошую историю, которую можно прочитать за один вечер.
Писать их далеко не столь приятно. Я могу назвать только два рассказа из этого сборника, титульный и «Теорию домашних любимцев: постулат Л.Т.», которые не потребовали усилий, несоизмеримо больших в сравнении с достигнутым результатом. И однако, я думаю, что мне удается поддерживать интерес к написанию рассказов, во всяком случае, в себе, потому что не проходит и года, чтобы я не написал как минимум один или два. Не ради денег, даже не из любви к искусству, но из чувства долга. Потому что, если ты хочешь писать рассказы, ты должен не только размышлять – а не написать ли рассказ, но и что-то делать. Написание рассказов больше напоминает не езду на велосипеде, а занятия в тренажерном зале. Выбор принадлежит тебе: или ты тренируешься, или забываешь, как это делается.
Увидеть собранные под одной обложкой рассказы для меня большая радость. Надеюсь, и вы разделите ее со мной. Вы можете дать мне знать об этом на сайте www.stephenking.com, и вы можете сделать мне (и себе) приятное: если эти рассказы вам понравятся, купите еще один сборник. Например, «Кот Сэм» Меттью Клэма или «Отель „Эдем“» Рона Карлтона. И это только двое из многих хороших писателей, мастерски пишущих рассказы, и, хотя официально на дворе двадцать первый век, они продолжают работать по старинке, пишут слово за словом. И формат, в котором работают, нисколько не меняется. Если вам не хочется, чтобы жанр рассказа умер, поддержите их. И лучший способ поддержки также не изменился: прочитайте их рассказы.
Мне хотелось бы поблагодарить нескольких из тех людей, кто читал мои рассказы: Билла Буфорда из «Нью-Йокера», Сюзан Молдоу из «Скрибнера», Чака Веррилла, который на протяжении многих лет редактирует мои произведения, Ральфа Вичинанцу, Артура Грина, Гордона ван Гелдера и Эда Фермана из «Magazine of Fantasy and Science Fiction», Ная Уиллдена из «Cavalier», ушедшего от нас Роберта А.У. Лаундеза, который купил мой первый рассказ в 1968 году. И, самое главное, мою жену, Табиту, остающуюся моим любимым Постоянным Читателем. Эти люди многое сделали и делают для того, чтобы рассказ не превратился в утерянный жанр. Я тоже. И вы, благодаря тому, что покупаете (тем самым способствуя допечаткам тиража) и читаете. Вы прежде всего, Постоянный Читатель. Именно вы.
Стивен Кинг
Бангор, штат Мэн
11 декабря 2001 г.
Секционный зал номер четыре
Какое-то время очень темно, как долго – не знаю, но думаю, я по-прежнему без сознания. Потом, очень медленно, соображаю, что в бессознательном состоянии люди не ощущают движения во тьме, сопровождаемого слабым ритмичным звуком, издавать который может только вращающееся поскрипывающее колесо. И я чувствую прикосновения, от макушки до пяток, а в нос бьет запах резины или винила. Я в сознании, здесь что-то другое… но что? Ощущения слишком уж конкретные, я определенно не сплю.
Тогда что со мной?
Кто я?
Что вообще происходит?
Скрип колеса прекращается вместе с движением. Материал с резиновым запахом, в который я упакован, потрескивает.
– Куда, они говорят, его? – чей-то голос.
Пауза.
– В четвертый, думаю. Да, в четвертый.
Мы вновь начинаем двигаться, но медленнее. Я слышу шуршание обуви по полу. Подошвы мягкие, возможно, это кроссовки. Обладатели голосов, они же владельцы кроссовок, вновь останавливают меня. Глухой стук, потом едва слышный свист. По-моему, открылась дверь с пневматическим доводчиком.
«Что здесь происходит?» Я кричу, но крик раздается только в моей голове. Губы не двигаются. Я чувствую их, и язык, лежащий на дне рта, как оглушенный крот, но не могу ими пошевелить.
Штуковина, на которой я лежу, катится вновь. Движущаяся кровать? Да. Каталка, другими словами. Мне уже приходилось иметь с ними дело, давным-давно, во время гребаной азиатской авантюры Линдона Джонсона. До меня доходит, что я в больнице, что-то плохое случилось со мной, что-то вроде взрыва, едва не отправившего меня к праотцам двадцать три года назад, и меня будут оперировать. Логичная вроде бы мысль, да только у меня ничего не болит. Если не считать одного пустячка – я до смерти напуган, в остальном со мной полный порядок. Опять же, если санитары везут меня в операционную, почему я ничего не вижу? Почему не могу говорить?
Третий голос: «Сюда, ребята».
Мою каталку разворачивают в новом направлении, а в голосе бьется вопрос: «В какую я угодил передрягу?»
«Разве это не зависит от того, кто ты?» – спрашиваю я себя, и тут выясняется, что последнее я как раз и знаю. Я – Говард Коттрелл. Биржевой брокер, прозванный коллегами Говардом Завоевателем.
Второй голос (аккурат над моей головой): «Вы сегодня просто красавица, док».
Четвертый голос (женский, очень холодный, просто ледяной): «Твоя оценка для меня очень важна, Расти. Не могли бы вы поторопиться? Я обещала няне, что вернусь к семи вечера. Она должна обедать с родителями».
Вернуться к семи, вернуться к семи. Еще вторая половина дня, может, и ранний вечер, но здесь темно, темень, что твоя шляпа, темно, как в заднице у сурка, темно, как в Персии в полночь, так что же происходит? Где я был? Что делал? Почему не сидел на телефонах?
«Потому что сегодня суббота, – шепчет внутренний голос. – Ты был… был…»
БАЦ. Короткий резкий удар. Звук, который мне нравится. Звук, ради которого я в некотором смысле живу. Звук… чего? Удара клюшки для гольфа по мячу, который лежит на метке[2 - Метка – горка песка, конусообразная деревянная или пластмассовая подставка, на которую кладут мяч для первого удара.]. Я стою, наблюдая, как он улетает в синеву…
Меня хватают за плечи и бедра, поднимают. От неожиданности я пытаюсь закричать. Ни звука не срывается с губ… ну, может, один тоненький писк, гораздо тише скрипа колеса. Может, не срывался и он. Может, мне прислышалось.
Меня несут по воздуху в коконе тьмы… «Эй, только не бросайте, у меня больная спина!» – пытаюсь сказать я, но вновь ни губы, ни зубы не двигаются; язык лежит на дне рта, крот, возможно, не просто оглушенный, а мертвый, и тут у меня возникает ужасная мысль, подталкивающая к пучине паники: если они положат меня не так, а язык соскользнет назад и перекроет трахею? Я же не смогу дышать! Именно это имеется в виду, когда говорят, что «кто-то проглотил язык», не так ли?
Второй голос (Расти): «Этот вам понравится, док, он выглядит, как Майкл Болтон»[3 - Болтон Майкл (р. 1953) – известный музыкант, композитор, исполнитель и автор баллад в стиле соул.].
Женщина-врач: «Это кто?»
Третий голос – по звуку молодой человек, почти подросток: «Белый певец, который хочет быть черным. Не думаю, что это он».
Мужчины смеются, женский голос присоединяется к ним (после короткой паузы), а меня кладут, по ощущениям, на набитый ворсом или ватой стол, Расти отпускает какую-то новую шутку, у него их, похоже, неиссякаемый запас. Я ее не воспринимаю, потому что в этот момент меня охватывает безотчетный ужас. Я не смогу дышать, если язык перекроет мне трахею, эта мысль только что буравила мне мозг, но теперь ей на смену пришла другая: а что, если я уже не дышу?
Что, если умер? Что, если это и есть смерть?
Все сходится. До мельчайших подробностей. Темнота. Запах резины. Это сегодня я Говард Завоеватель, уникальный биржевой брокер, звезда «Загородного муниципального клуба Дерри», завсегдатай, как говорят на многих полях для гольфа, разбросанных по всему миру, Девятнадцатой лунки[4 - Максимальное число лунок на поле для гольфа – восемнадцать. Девятнадцатая – бар в гольф-клубе.], но в 1971 году я состоял в санитарной команде в дельте Меконга – испуганный мальчишка, часто просыпающийся с заплаканными глазами, потому что ему снилась оставшаяся дома собака. И я сразу понимаю, откуда мне известны эти ощущения, этот запах.
Святой Боже, я в мешке для трупов.
Первый голос: «Распишитесь вот здесь, док. Нажимайте сильнее… чтобы пропечаталось на всех трех экземплярах».
Звук ручки, царапающей по бумаге. Я представляю себе, как обладатель первого голоса держит папку, в которой лежат три экземпляра сопроводительного листа.
О дорогой Иисус, не дай мне умереть! Я пытаюсь закричать, но ни единого звука не слетает с моих губ.
Но я при этом дышу… не так ли? Нет, я не чувствую, что дышу, но легкие у меня вроде в порядке, они же не трепыхаются, не требуют воздуха, как случается, если надолго уходишь под воду, значит, я в норме?
«Только учти, если ты мертв, – шепчет внутренний голос, – воздуха они требовать не будут, правда? Не будут, потому что мертвым легким дышать не надо. Мертвые легкие могут… обходиться без него».
Расти: «А что вы делаете вечером в следующую субботу, док?»
Но, если я мертв, как могу чувствовать? Как могу ощущать запах мешка, в котором лежу? Как могу слышать голоса, вот и док сейчас говорит, что в следующую субботу она будет мыть шампунем свою собаку, звать ее Расти, какое совпадение, и все они смеются. Если я мертв, почему не вышел из тела или не окружен белым светом, о чем постоянно талдычат на ток-шоу Опры?
Резкий треск, словно что-то рвется, и мгновенно я в белом свете, он ослепляет, как солнечный луч, ударивший в разрыв облаков в зимний день. Я стараюсь прищуриться, закрыть глаза, но ничего не выходит. Мои веки неподвижны, как две скалы.
Лицо наклоняется надо мной, блокируя часть света, который идет не от некой астральной плоскости, а от висящих под потолком флюоресцентных ламп. Лицо принадлежит молодому симпатичному мужчине лет двадцати пяти. Выглядит он, как пляжные мальчики в «Спасателях Малибу» или «Мелроуз Плейс»[5 - «Спасатели Малибу», «Мелроуз Плейс» – телесериалы, соответственно 1989–1999 и 1995–1997 гг.]. Разве что интеллект у него гораздо выше. Из-под небрежно надетой зеленой хирургической шапочки торчат черные волосы. Глаза у молодого человека темно-синие, какие сводят девушек с ума. На скулах россыпь веснушек.
– Это ж надо, – восклицает он. Третий голос. – И впрямь вылитый Майкл Болтон! Ну очень похож… – Он наклоняется ниже. Одна из завязок на шее его зеленого халата щекочет мне лоб. – Безусловно. Эй, Майкл, спой что-нибудь.
«Помоги мне!» – вот единственное, что я пытаюсь спеть, но лишь смотрю в его темно-синие глаза немигающим взглядом мертвеца; я могу только гадать, мертвец ли я, неужели все так и происходит и каждый проходит через такое, когда останавливается насос? Если я еще жив, почему он не видит, как мои зрачки сужаются, реагируя на яркий свет? Но я знаю ответ на этот вопрос… или думаю, что знаю. Они не сужаются. Вот почему свет флюоресцентных ламп столь болезненный.
Завязка щекочет мне лоб, как перышко.
«Помоги мне! – кричу я пляжному красавчику, который, возможно, интерн, а то и вообще студент. – Помоги мне, пожалуйста!»
Но губы даже не дрожат.
Его лицо удаляется, завязка больше не щекочет меня, и весь этот белый свет струится в мои беспомощные глаза, которые не могут ни закрыться, ни отвернуться, проникает в мозг. Ощущение отвратительное, словно тебя насилуют. «Я ослепну, если придется долго смотреть на этот свет, – думаю я, – и это будет счастье».
БАЦ! Опять удар клюшки для гольфа по мячу, но не столь четкий. Хорошего результата ждать не приходится. Мяч в воздухе… но отклоняется в сторону… отклоняется от… отклоняется к…
Черт!
Я по уши в дерьме.
Другое лицо попадает в поле моего зрения. Белый халат вместо зеленого, над ним – копна нечесаных рыжих волос. С ай-кью по первому взгляду просто беда. Конечно же, это Расти. На лице – широкая тупая улыбка, я называю ее школьной улыбкой, уместная для парня с татуировкой на здоровенном бицепсе: «СРЫВАЮ ЛИФЧИКИ».
– Майкл! – восклицает Расти. – Парень, ты прекрасно выглядишь! Это такая честь! Спой для нас, большой мальчик! Порадуй своим сладеньким голоском!
Откуда-то сзади раздается голос дока, холодный, по всему чувствуется, что кривляние Расти даме надоело.
– Прекрати, Расти, – затем, обращаясь к кому-то еще: – Как все вышло, Майк?
Майк – это первый голос, напарник Расти. Ему определенно не нравится работать с человеком, который хочет стать Эндрю Дайсом Клеем[6 - Клей Эндрю Дайс – ведущий современный комик США, «король комедии».], когда вырастет.
– Его нашли на четырнадцатой лунке «Дерри». Не на самом поле, в кустах. Если бы он играл один, если бы идущие следом игроки не увидели его ногу, торчащую из кустов, муравьи обглодали бы беднягу до костей.
В голове опять раздается звук «БАЦ!» – только на этот раз его сопровождает другой, куда менее приятный: шуршание кустов, в которых я шебуршусь крюком клюшки. Должно быть, на четырнадцатой лунке. Все знают эти кусты. Увитые плющом и…
Расти все всматривается в меня с неподдельным интересом. Его интересует не смерть, а мое сходство с Майклом Болтоном. Да, конечно, я в курсе, не раз и не два пользовался этим в общении с клиентками. В остальном – никакого проку. А в сложившихся обстоятельствах… Боже.
– Кто подписал сопроводиловку? – спрашивает женщина-врач. – Казалян?
– Нет, – отвечает Майк и несколько мгновений смотрит на меня. Старше Расти лет на десять. Черные волосы, тронутые сединой. Очки. Как такое может быть? Почему никто из этих людей не видит, что я не труп? – Среди тех четверых, что нашли его, был врач. Его подпись на первой странице… видите?
Шорох бумаг.
– Господи, Дженнингс. Я его знаю. Проводил Ною диспансеризацию, когда ковчег вынесло на склон Арарата.
По лицу Расти видно, что шутка ему непонятна, но он все равно ржет, как лошадь. Меня обдает запахом лука, а если я улавливаю запах лука, значит – дышу. Должен дышать, правда? Если только…
Прежде чем я успеваю закончить мысль, Расти наклоняется ниже и во мне просыпается надежда. Он что-то заметил! Что-то заметил и собрался сделать мне искусственное дыхание. Рот в рот. Благослови тебя Господи, Расти! Господи, благослови Расти и его луковое дыхание!
Но глупая улыбка не меняется, и вместо того чтобы приложить свои губы к моим, его рука скользит по моей челюсти. А теперь он зажимает ее между большим и остальными пальцами.
– Он живой! – кричит Расти. – Он живой и сейчас споет для клуба поклонников Майкла Болтона из секционного зала номер четыре.
Пальцы сжимаются сильнее, я даже чувствую боль, очень слабую, как при новокаиновой блокаде, начинают двигать челюсть вверх-вниз, зубы щелкают.
– Если она жесто-ока, она ничего не видит, – поет Расти отвратительным, напрочь лишенным мелодичности голосом, от которого голова Перси Следжа[7 - Следж Перси – знаменитый исполнитель в стиле соул, прозванный «Золотым голосом души».] просто бы взорвалась. Зубы сжимаются и разжимаются, подчиняясь грубым движениям его руки, язык поднимается и падает, как дохлая собака, качающаяся на волнах.
– Прекрати! – рявкает на него женщина-врач. Она шокирована до глубины души. Расти, похоже, это чувствует, но не прекращает своего занятия. Теперь его пальцы щипают мои щеки. Мои замороженные глаза по-прежнему смотрят верх.
– Повернись спиной к лучшему другу, если…
А вот и она, женщина в зеленом халате, завязки шапочки болтаются на спине, как у сомбреро Сиско Кида[8 - Сиско Кид – герой фильмов, телесериалов, комиксов, Робин Гуд Старого Запада, которого всегда сопровождает верный друг Панчо.], на лбу челка, лицо миловидное, но строгое, не красавица, однако посмотреть есть на что. Хватает Расти одной рукой (ногти коротко подстрижены) и оттаскивает от меня.
– Эй! – негодует Расти. – Не трогайте меня!
– Тогда и ты не трогай его. – В голосе слышна злость, двух мнений тут быть не может. – Ты достал меня своими идиотскими шуточками, Расти. Еще раз что-нибудь выкинешь, я напишу докладную.
– Давайте все успокоимся, – вмешивается пляжный красавчик, ассистент дока. В голосе тревога, словно он боится, что его шефиня и Расти прямо сейчас вцепятся друг другу в горло. – Просто поставим точку.
– Почему она цепляется ко мне? – Расти еще пытается возмущаться, но на самом деле жалобно скулит. Потом обращается к доку: – Почему вы такая злая? У вас месячные или что?
Док (с отвращением): «Уберите его отсюда».
Майк: «Пойдем, Расти. Нам надо расписаться в журнале».
Расти: «Да. И глотнуть свежего воздуха».
Я все слышу, как по радио.
По удаляющимся шагам понимаю, что они идут к двери. Расти, сильно обиженный, напоследок советует доку надевать на грудь табличку, дабы все знали, в каком она настроении. Мягкие подошвы чуть шуршат по кафельным плиткам, но внезапно звуки сменяются другим шуршанием, шуршанием кустов, которые я гну клюшкой в поисках своего чертова мяча. Где он, он же не мог закатиться далеко, Господи, как я ненавижу четырнадцатую, со всеми этими кустами, тут немудрено нарваться и на…
И в этот момент меня кто-то кусает, не правда ли? Да, я уверен, так и было. В левую ногу, повыше высокого белого носка. Раскаленная игла боли, сначала в одной точке, потом растекается по телу…
…и небытие. До того момента, как я очухиваюсь на каталке, в резиновом мешке, застегнутом на молнию, и слышу Майка («Куда, они говорят, его?») и Расти («В четвертый, думаю. Да, в четвертый»).
Мне хочется думать, что меня укусила змея, но, может, потому что я вспомнил о них, когда искал мяч. Возможно, это было насекомое, я же помню только боль, да и потом, какое это имеет значение? Беда в другом: я жив, а они об этом не подозревают. Разумеется, мне не повезло. Я знаю доктора Дженнингса, помнится, говорил с ним, когда обошел их четверку на одиннадцатой лунке. Очень милый человек, но рассеянный, старый. И этот старикан объявил меня мертвым. Потом Расти, с его пустыми зелеными глазами и дебильной улыбкой, объявил меня мертвым. Женщина-врач, мисс Малыш Сиско, еще не взглянула на меня, как положено. Когда взглянет, возможно…
– Ненавижу этого кретина, – говорит она, как только дверь закрывается. Теперь нас трое, хотя мисс Малыш Сиско, разумеется, думает, что двое: я не в счет. – Почему мне всегда приходится иметь дело с кретинами, Питер?
– Не знаю, – отвечает мистер Мелроуз Плейс, – но Расти – особый случай, даже среди знаменитых кретинов. Ходячая атрофия мозга.
Она смеется, что-то звякает. Потом раздаются звуки, пугающие меня до смерти: кто-то перебирает стальные инструменты. Мужчина и женщина слева от меня, я их не вижу, но знаю, что они делают: готовятся к вскрытию. Готовятся разрезать меня. Собираются вырезать сердце Говарда Коттрелла и посмотреть, лопнула стенка или забился клапан.
«Моя нога! – кричу я в собственной голове. – Посмотрите на мою ногу! С ней проблемы – не с сердцем!»
Возможно, мои глаза хоть чуть-чуть, но могут перемещаться. Теперь я вижу, самым уголком глаза, длинный тонкий цилиндр из нержавеющей стали. Он похож на державку дантиста, только заканчивается не гнездом под сверло, а пилой. Откуда-то из глубокого подвала памяти, где мозг собирает информацию, которая может потребоваться, лишь когда играешь в «Риск»[9 - «Риск» – телевикторина, требующая от участников высокой эрудиции. Идет с 1974 года. Российский аналог – «Своя игра».] по телевизору, выплывает название. Пила Джигли. Используется, чтобы срезать верхнюю часть черепа. После того как с тебя стянут лицо, на манер детской хэллоуинской маски, вместе с волосами.
А уж потом они достанут твой мозг.
Продолжается легкое позвякивание, свидетельствующее, что они продолжают перебирать инструменты. Затем что-то громко лязгает. Так громко, что я бы подскочил, если б мог подскакивать.
– Хочешь сделать перикардиальный разрез? – спрашивает она.
– Ты позволишь мне сделать его? – осторожно спрашивает Пит.
– Да, думаю, что да. – Голос доктора Сиско очень благожелательный, она намерена оказать услугу приятному ей человеку.
– Хорошо, – соглашается Питер. – Будешь мне ассистировать?
– Твой верный второй пилот. – Она смеется. Смех перемещается щелчками. Я догадываюсь: ножницы режут воздух.
Теперь паника мечется в голове и рвется наружу, как стая скворцов, пойманная на чердаке. Вьетнам в далеком прошлом: я видел с полдюжины вскрытий, проводившихся в полевых условиях, врачи называли их «палаточная аутопсия», и знаю, что собираются делать Сиско и Панчо. У ножниц длинные острые лезвия и толстые широкие гнезда под пальцы. Чтобы работать с ними, требуется немалая сила. Нижнее лезвие входит в живот, как в масло. Затем режет нервный узел в солнечном сплетении, мышцы и сухожилия, расположенные выше. Добирается до грудины. Когда лезвия сходятся, раздается скрежет, ребра разваливаются в стороны, как две половины бочонка, стянутые веревкой (похожими ножницами пользуются мясники супермаркетов при разделке птицы). Будут резать мышцы и кости, освобождая легкие, подбираясь к трахее, превращая Говарда Завоевателя в рождественский обед, который никто есть не будет.
Пронзительный вой… словно включили бормашину.
Питер: «Можно я…»
Доктор Сиско как заботливая мамаша: «Нет. Возьми вот эти». Щелк-щелк. Демонстрирует.
– Почему? – спрашивает он.
– Потому что я так хочу, – материнских ноток в голосе куда как меньше. – Когда будешь проводить вскрытия сам, Пити-бой, будешь делать, что тебе заблагорассудится. Но в секционном зале Кэти Арлен первым делом берутся за перикардиальные ножницы.
Секционный зал. Вот мы со всем и определились. От страха хочется покрыться мурашками, но разумеется, не тут-то было – кожа остается гладкой.
– Помни, – теперь доктор Арлен читает лекцию, – любой дурак может научиться пользоваться доильным агрегатом… но наилучшие результаты дает ручная дойка, – в ее тоне слышится агрессивность. – Понятно?
– Понятно.
Они собираются сделать это. Я должен шевельнуться или вскрикнуть, а не то они действительно это сделают. Если кровь польется или ударит струей после того, как лезвие ножниц войдет в меня, они сообразят: что-то не так, но скорее всего будет уже поздно. Лезвия уже успеют сомкнуться, ребра будут лежать на моих предплечьях, а сердце испуганно пульсировать под флюоресцентными лампами в блестящей от крови околосердечной сумке…
Я сосредоточиваюсь на своей груди. Раздуваю ее… или пытаюсь… и что-то происходит.
Звук!
Я издаю звук!
Он в основном остался в закрытом рте, но я также могу услышать его и почувствовать в носу: низкое бубнение.
Сосредоточившись, собрав всю волю в кулак, я повторяю попытку, и на этот раз звук получается громче, выплескивается из ноздрей, как сигаретный дым: «Н-н-н-н…» Звук этот заставляет вспомнить телевизионную программу Альфреда Хичкока, которую я видел много лет назад. Джозефа Коттена парализовало в автомобильной аварии, и он в конце концов сумел дать им знать, что не умер, выжав из себя одну-единственную слезу.
Как ничто другое, этот едва слышный комариный писк доказал мне, что я живой, что я – не просто душа, пребывающая в глиняном саркофаге тела.
Вновь сконцентрировавшись, я ощущаю, как воздух проходит в горло, заменяя тот, что я только что выдохнул, и снова я выдыхаю его, прилагая все силы, больше сил, чем тратил юношей, когда летом подрабатывал в «Дорожно-строительной компании». Я очень стараюсь, потому что борюсь за жизнь, и они должны услышать меня, святой Боже, должны.
«Н-н-н-н-н…»
– Хочешь послушать музыку? – спрашивает женщина-врач. – У меня есть Марти Стюарт[10 - Марти Стюарт (р. 1958) – американский певец, гитарист.], Тони Беннетт[11 - Беннетт Тони (р. 1926) – настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто, известный певец, тенор.]…
Он вроде бы фыркает. Я едва его слышу, не сразу понимаю смысл ее слов… возможно, к счастью для себя.
– Ладно. – Она смеется. – У меня есть и «Роллинг стоунз».
– У тебя?
– У меня. Я не такой «синий чулок», какой выгляжу, Питер.
– Я не хотел… – Он, похоже, залился краской.
«Услышьте меня! – кричу я внутри головы, а мои замороженные глаза смотрят в снежно-белый свет. – Перестаньте трещать, вы же не сороки, услышьте меня!»
Я уже чувствую, как воздух тонкой струйкой течет по горлу, и меня вдруг осеняет: эффект случившегося со мной слабеет, но мысли мои направлены на другое. Может, эффект и слабеет, да очень скоро отпадет сама возможность выздоровления. Теперь все мои силы направлены, чтобы они услышали меня, и на этот раз они обязательно услышат, я знаю.
– «Стоунз», значит, – говорит она. – Если только ты не захочешь, чтобы я сбегала за си-ди Майкла Болтона в честь твоего первого перикардиального разреза.
– Пожалуйста, не надо! – восклицает он, и они смеются.
Звук вырывается из меня, и на этот раз он громче. Не такой громкий, как мне хотелось бы, но уже что-то. Они услышат, должны.
И тут, когда я начинаю выдавливать из носа звук, комната наполняется грохотом гитар, а голос Мика Джаггера, как мяч для пинг-понга, отлетает от стен: «Да, это всего лишь рок-н-ролл, но я его ЛЮ-Ю-Ю-Ю-Б-Л-Ю-Ю-Ю…»
– Приглуши звук! – кричит доктор Сиско, очень громко, и среди всего этого шума мой носовой звук, отчаянная попытка бубнить носом, конечно же, никто не слышит, как шепот в кузнечном цехе.
Теперь ее лицо склоняется надо мной, и вновь я испытываю ужас, увидев, что глаза у нее закрыты прозрачным пластиковым щитком, а рот и нос – маской. Она оборачивается.
– Я раздену его для тебя, – говорит она Питеру и наклоняется еще ниже, со сверкающим скальпелем в руке, обтянутой перчаткой, наклоняется сквозь гитарный грохот «Роллинг стоунз».
Я отчаянно бубню, но толку – ноль. Сам себя не слышу.
Скальпель замирает надо мной, потом начинает резать.
Я кричу в собственной голове, но боли нет, только моя водолазка распадается на две части, которые соскальзывают по бокам. Точно так же должна распасться и моя грудная клетка, когда Питер, не ведая что творит, сделает свой первый перикардиальный разрез на живом пациенте.
Меня поднимают. Моя голова откидывается назад, и я вижу Питера, надевающего прозрачный пластмассовый щиток. Он стоит за стальным столиком, где разложены инструменты. Почетное место на столике занимают большущие ножницы. Лишь на мгновение попадают они в мое поле зрения – лезвия блестят, как атлас. Потом меня вновь укладывают, но водолазки на мне уже нет. Теперь я по пояс голый. А в комнате холодно.
«Посмотрите на мою грудь! – кричу я ей. – Вы должны видеть, что она поднимается и опадает, хотя воздух в нее поступает по минимуму! Вы же специалист, черт бы вас побрал!»
Вместо этого она смотрит на Питера, повышает голос, чтобы перекричать музыку. («Мне нравится, нравится, нравится…» – поют «Стоунз», и думаю, что целую вечность буду слышать эти идиотские гнусавые вопли в стенах чистилища). – Твоя ставка? Боксерские трусы или плавки?
В ужасе и ярости я понимаю, о чем речь.
– Боксерские! – отзывается он. – Само собой. Достаточно взглянуть на этого парня!
«Говнюк! – пытаюсь закричать я. – Ты, должно быть, думаешь, что все старше сорока носят боксерские трусы! Ты, должно быть, думаешь, что, перевалив за сорок…»
Она расстегивает пуговичку на моих «бермудах», потом молнию. В другой ситуации такие действия красивой женщины (строгой, но все равно красивой) доставили бы мне несказанное удовольствие. Сегодня, однако…
– Ты проиграл, Пити-бой, – говорит она. – Плавки. С тебя доллар.
– Отдам с получки. – Он подходит. Его лицо появляется рядом с ее. Они смотрят на меня сквозь пластиковые щитки, как два инопланетянина на похищенного обитателя Земли. Я пытаюсь заставить их увидеть мои глаза, увидеть, что я смотрю на них, но эти дураки таращатся на мои трусы.
– О, да они еще и красные! – восклицает Пит. – Круто!
– Хорошо хоть не розовые, – усмехается она. – Подними его, Питер, он весит с тонну. Неудивительно, что у него случился инфаркт. Пусть это будет тебе уроком.
«Я в отличной форме! – мысленно кричу я ей. – Возможно, здоровье у меня крепче, чем у тебя, сука!»
Сильные руки отрывают от стола мои бедра. Трещит позвоночник; от этого звука проваливается сердце.
– Извини, приятель, – говорит Пит, и внезапно мне становится еще холоднее, потому что с меня стягивают шорты и красные трусы.
– Поднимем одну ножку, – воркует женщина-врач. – Поднимем вторую ножку. Снимем ботиночки, теперь носочки…
Она внезапно поворачивает голову к Питеру, и я опять надеюсь на лучшее.
– Эй, Пит.
– Что?
– Мужчины обычно надевают «бермуды» и мокасины, когда играют в гольф?
За ее спиной (там только источник шума, сам шум плотно окружает нас со всех сторон) «Роллинг стоунз» переходят к «Эмоциональному спасению». «Я буду твоим рыцарем…» – поет Мик Джаггер, и я думаю, как бы ему танцевалось с тремя динамитными шашками, подвешенными к его тощей заднице.
– Если хочешь знать мое мнение, этот парень просто нарывался на неприятности, – продолжает она. – Я думала, они надевают специальную обувь, уродливую, специфическую, предназначенную исключительно для гольфа, с маленькими бугорками на подошвах.
– Да, но носить ее не обязательно. Нет такого закона. – Руки в перчатках Пита над моим лицом, он отгибает растопыренные пальцы назад. Костяшки хрустят, тальк сыплется на меня, как пудра. – Пока еще нет. Не то, что в боулинге. Если ты будешь играть в боулинг не в специальной обуви и тебя засекут, можно получить срок.
– Неужели?
– Да.
– Хочешь провести внешнее освидетельствование?
«Нет! – кричу я. – Нет, он же еще мальчишка, что вы ДЕЛАЕТЕ?»
Он смотрит на нее, словно и ему в голову пришла та же мысль.
– Это же… э… не совсем законно, правда, Кэти? Я хочу сказать…
Она оглядывается, слушая его, осматривает секционный зал, и я начинаю подозревать, что меня ждут дурные вести: при всей ее суровости, эта Сиско, она же доктор Кэти Арлен, неровно дышит к темно-синим глазам Пити. Святой Боже, меня, парализованного, привезли с поля для гольфа в телесериал «Клиническая больница», на этой неделе многочисленной аудитории предлагается серия под названием «Любовь в секционном зале номер четыре».
– Слушай, – она переходит на заговорческий шепот, – тут никого нет, только ты и я.
– Запись…
– Еще не включена. А когда мы ее включим, я буду рядом, при каждом твоем шаге. В основном буду. Я просто хочу разобраться с этими картами и предметными стеклами. Если, конечно, у тебя нет должной уверенности…
«Да! – Крик так и рвется с моего застывшего лица. – Почувствуй неуверенность! СИЛЬНУЮ неуверенность! ОЧЕНЬ СИЛЬНУЮ неуверенность!»
Но ему двадцать четыре года, и что он может сказать этой красивой строгой женщине, которая стоит вплотную к нему, приглашает проявить себя? Речь, собственно, не о вскрытии. «Нет, мамочка, я боюсь»? А кроме того, у него чешутся руки. Я вижу желание в глазах за пластиковым щитком. Ему просто не терпится всадить в меня ножницы.
– Слушай, если, конечно, ты меня прикроешь…
– Можешь не сомневаться, – заверяет она. – Надо же когда-то начинать, Питер. А если я тебе действительно понадоблюсь, пленку мы перемотаем и запишем снова.
На его лице изумление.
– Ты можешь это сделать?
Она улыбается.
– Ф шекшионном жале номер шетыре у наш мнохо шекретоф, mein Herr[12 - Mein Herr – мой господин (нем.).].
– Охотно верю. – Он улыбается в ответ и уходит из моего поля зрения. Когда его рука возвращается – пальцы охватывают микрофон, свисающий с потолка на черном шнуре. Микрофон формой напоминает стальную слезинку. От одного его вида охвативший меня ужас усиливается стократ. Конечно же, они не разрежут меня, не так ли?
Пит еще не ветеран, но какой-то опыт у него, безусловно, есть; он обязательно увидит следы от укуса, уж не знаю, кто там укусил меня, пока я искал в кустах мяч, и тогда они заподозрят, что что-то не так. Они должны заподозрить.
Но пока я по-прежнему вижу ножницы с их бессердечным атласным блеском, ножницы, похожие на те, какими режут кур… и поневоле задаюсь вопросом: буду ли я еще жив, когда он вытащит сердце, сочащееся кровью, из моей груди и подержит секунду-другую над моими застывшими глазами, прежде чем бросить на чашку весов? Мне представляется, что я могу это увидеть. Действительно могу. Говорят же, что после остановки сердца мозг может нормально функционировать чуть ли не три минуты.
– Готов, доктор, – официальным тоном говорит Пит. Где-то перематывается магнитофонная лента: пошла запись.
Процедура вскрытия началась.
– Давай опишем этого господина, – весело восклицает она, и меня ловко переворачивают. Правая рука описывает широкую дугу, ударяется о край стола, падает вниз, металлическая кромка впивается в бицепс. Мне больно, но я приветствую боль, радуюсь ей. Молюсь, чтобы кромка порвала кожу, молюсь, чтобы пошла кровь, чтобы произошло что-то такое, чего не случается обычно с трупами.
– Гопля! – продолжает доктор Арлен, поднимает мою руку и укладывает рядом с телом.
Теперь меня больше всего заботит нос. Он прижат к столу и легкие впервые посылают сигнал бедствия: жалобно трепыхаются. Рот закрыт, нос, прижатый к столу, закрыт частично (на сколько, сказать не могу; я же не ощущаю собственного дыхания, практически не ощущаю). Что, если я задохнусь?
Потом что-то происходит, заставляющее забыть о носе. Огромный предмет, по ощущениям – стеклянную бейсбольную биту, загоняют мне в задний проход. Вновь пытаюсь кричать, и мне-таки удается выжать из себя слабое бубнение.
– Измеряю температуру, – говорит Питер. – Таймер включен.
– Дельная мысль. – Она подвигается. Освобождает ему место. Дозволяет потренироваться на этом трупе. Дозволяет потренироваться на мне. Музыка становится тише.
– Субъект – белый, возраст сорок четыре года, – говорит Пит в микрофон, говорит для вечности. – Его зовут Говард Рандольф Коттрелл, проживал по адресу: 1566 Лорел-крест-лайн, здесь, в Дерри.
Доктор Арлен, издалека: «Мэри-Мид».
Пауза, Пит продолжает с легким раздражением в голосе: «Доктор Арлен сообщает мне, что субъект в действительности живет в Мэри-Мид, который отделился от Дерри в…»
– Довольно истории, Пит.
Святой Боже, что они воткнули мне в задницу? Термометр для скота? Будь он чуть длиннее, думаю, головка достала бы до горла. И на смазке они сэкономили… но с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов я для них труп.
Труп.
– Извините, доктор. – Пит держит паузу, вероятно, вспоминает, на чем остановился. Вспомнил. – Это информация из сопроводительного листа, полученного от санитаров машины «скорой помощи». Первоначально она взята из водительского удостоверения, выданного штатом Мэн. Подписал сопроводительный лист доктор… э… Френк Дженнингс. Субъект найден мертвым на территории гольф-клуба «Дерри».
Теперь я надеюсь на свой нос. Надеюсь, что он начнет кровить. «Пожалуйста, – прошу я его, – начни кровить. Не просто крови, пусть кровь льется рекой».
– Причиной смерти может быть инфаркт, – продолжает Питер. Чья-то легкая рука скользит по моей спине к расщелине между ягодиц. Я рассчитываю, что она вынет термометр. Напрасно. – Позвоночник, похоже, не поврежден. Видимых признаков травмы нет.
Видимых признаков. Видимых признаков! Что они несут?
Он поднимает мою голову, ощупывает подушечками пальцев скулы, а я отчаянно бубню: «Н-н-н-н-н», – зная, что он не сможет услышать меня, слишком уж громко бренчит гитара Кейта Ричардса, но надеясь, что почувствует вибрацию воздуха в моих носовых каналах.
Не чувствует. Вместо этого поворачивает голову из стороны в сторону.
– Никаких видимых травм шеи, никакого трупного окоченения, – говорит он, и мне так хочется, чтобы он просто отпустил мою голову, позволил ей шмякнуться об стол, вот тогда нос обязательно закровит, если только я не мертв. Но он осторожно укладывает ее, нос сплющивается, мне опять грозит удушье.
– Видимых повреждений нет ни на спине, ни на ягодицах, хотя на верхней задней части правого бедра старый шрам, выглядит, как давняя рана, возможно, от попадания шрапнели. Уродливый шрам.
Шрам уродливый, и действительно от шрапнели. На нем война для меня закончилась. Мина угодила в зону расположения служб снабжения, двоих убило, одному – мне – повезло. Он еще уродливее спереди, в более чувствительном месте, но детородный орган функционирует… вернее, функционировал до этого дня. Четверть дюйма левее – и им пришлось снабжать меня ручным насосом и баллончиком углекислого газа для удовлетворения сексуальных потребностей.
Наконец он вынимает термометр (Боже, какое облегчение), и на стене я вижу длинную тень, когда Пит поднимает термометр на уровень глаз.
– Девяносто четыре и две десятые[13 - 94,2 градуса по Фаренгейту соответствуют 34,9 по Цельсию.], – объявляет он. – Многовато. Словно этот парень живой, Кэти… доктор Арлен.
– Вспомни, где они его нашли, – откликается она от дальней стены секционного зала. Одну песню «Роллинги» допели, следующую еще не начали, поэтому я четко слышу в голосе лекторские интонации. – Поле для гольфа. Вторая половина летнего дня. Я бы не удивилась, если термометр показал девяносто восемь и шесть десятых[14 - 98,6 градуса по Фаренгейту соответствуют 36,6 по Цельсию, то есть нормальной температуре человеческого тела.].
– Конечно, конечно. – Голос обиженный, как у наказанного ребенка. – На пленке это будет звучать странно, не так ли? – Перевод: «Послушать пленку, так я круглый дурак?»
– Ничего странного, обычное практическое занятие. Собственно, так оно и есть.
– Ладно, отлично. Поехали дальше.
Его обтянутые резиной пальцы раздвигают мне ягодицы, движутся вниз, к бедрам. Я бы напряг мышцы, если мог.
«Левая нога. – Я посылаю ему телепатический сигнал. – Левая нога, Пити-бой, левая голень, видишь?»
Он должен видеть, должен, потому что я чувствую, чувствую, это место пульсирует болью, как после укуса пчелы или укола, сделанного неумехой медсестрой, вместо вены впрыскивающей содержимое шприца в мышцу.
– Известно, что играть в гольф в шортах – идея не из лучших, и субъект – наглядное тому подтверждение, – говорит он, и я желаю ему родиться слепым. Черт, может, он и родился слепым, ведет себя так, будто глаз у него нет. – Я вижу множество укусов насекомых, царапины…
– Майк говорит, что его нашли в кустах, – подает голос Арлен. От нее столько шума. Такое ощущение, что она моет посуду в кафетерии, а не раскладывает предметные стекла и карты. – Предполагаю, у него случился инфаркт, когда он искал мяч.
– Ага…
– Продолжай, Питер, все у тебя идет хорошо.
Я нахожу, что с этим утверждением можно поспорить.
– Ладно.
Вновь прикосновения и нажатия. Нежные. Возможно, слишком нежные.
– Укусы москитов на левой голени выглядят воспаленными. – Его прикосновения остаются нежными, но пульсирующая боль усиливается настолько, что я бы закричал, если мог кричать, а не едва слышно бубнить. И тут мне приходит в голову мысль, что моя жизнь зависит от времени записи «Роллинг стоунз», которую они слушают… я полагаю, это кассета, а не си-ди – на последнем одна песня сразу следует за другой. Если запись закончится до того, как они начнут резать… если я смогу пробубнить что-нибудь достаточно громко и один из них услышит меня прежде, чем они перевернут кассету…
– Я, возможно, захочу взглянуть на эти укусы после общего вскрытия, – говорит она, – хотя если наше предположение насчет его сердца верно, нужды в этом не будет. Или… ты хочешь, чтобы я взглянула на них прямо сейчас? Они тебя тревожат?
– Нет, обычные укусы москитов, – лопочет этот болван. – Здесь крупные москиты. У него пять… семь… восемь… почти дюжина укусов только на левой ноге.
– Забыл, куда пошел.
– Куда, может, и не забыл, а вот захватить «дигиталин» точно не удосужился, – отвечает он, и они на пару смеются отменной для секционного зала шутке.
На сей раз он переворачивает меня сам, должно быть, вне себя от счастья, поскольку может продемонстрировать силу накачанных в тренажерном зале мышц, пряча от посторонних глаз укусы змеи в обрамлении москитных укусов. Я вновь не мигая смотрю во флюоресцентные лампы. Пит отступает на шаг, исчезает из поля моего зрения. Стол начинает наклоняться, и я знаю почему. Когда они меня вскроют, жидкость потечет вниз, в специальные сборники у изножья. Чтобы центральной лаборатории штата в Огасте[15 - Огаста – столица (с 1931 г.) штата Мэн.] было что анализировать, если при вскрытии возникнут какие-то вопросы.
Я концентрирую волю и усилия, чтобы закрыть глаза, пока он смотрит на мое лицо, но не могу даже пошевелить веками. Во вторую половину этой субботы я хотел всего лишь пройти восемнадцать лунок, а вместо этого превратился в Спящую Красавицу с волосами на груди. И никак не могу отделаться от мысли: что я буду чувствовать, когда ножницы вонзятся мне в живот?
Пит держит в руке какой-то листок. Сверяется с ним, откладывает в сторону, начинает говорить в микрофон. Голос его звучит увереннее. Он только что поставил самый неправильный диагноз в своей жизни, но не знает об этом, а потому нисколько не сомневается – все идет, как положено.
– Я провожу это вскрытие в пять часов сорок девять минут пополудни, в субботу, 20 августа 1994 года.
Он оттягивает мои губы, смотрит на них, как человек, подумывающий о покупке лошади, затем тянет вниз челюсть.
– Хороший цвет, – комментирует он, – и никакого петехиального кровоизлияния на щеках. – Очередная песня заканчивается, и я слышу щелчок: он наступает на педаль, останавливающую запись. – Можно подумать, что этот парень все еще жив.
Я изо всех сил бубню, но в этот самый момент доктор Арлен что-то роняет, по звуку – подкладное судно.
– Как бы он этого хотел, – смеется она. Он ей вторит – и в этот момент я желаю им заболеть раком, неоперабельным и вызывающим длительные страдания.
Он наклоняется над моим телом, ощупывает грудь («Никаких синяков, припухлостей, других внешних признаков инфаркта», – оглашает он результаты – большой сюрприз), потом пальпирует живот.
Я рыгаю.
Он смотрит на меня, глаза округляются, челюсть чуть отвисает, я вновь отчаянно пытаюсь бубнить, зная, что он не услышит меня: уже пошла песня «Начни со мной сначала». Но очень хочется думать, что бубнение вкупе с рыганием прочистят ему мозги, убедят, что вскрывать он собирается отнюдь не труп.
– Извиняюсь за тебя, Гоуви. – Доктор Арлен, эта сука, подает голос, стоя за моей головой, и хихикает. – Будь осторожен, Пит, у посмертной отрыжки отвратительный запах.
Он театральным жестом разгоняет воздух перед собой, потом возвращается к прерванному занятию. Практически не касается паха, походя отмечая шрам на правой ноге, который с задней стороны бедра переходит на переднюю.
«Не заметил важную подробность, – думаю я, – возможно, потому, что она находится выше, чем ты смотришь. Невелика беда, мой дорогой Пляжный Мальчик, но ты также упустил из виду, что Я ЖИВОЙ, а вот это уже катастрофа!»
Он продолжает наговаривать в микрофон, по голосу чувствуется, что осваивается в новой для себя обстановке (напоминает голос Джека Клугмана из «Куинси, М.Э.»[16 - «Куинси, М.Э.» – детективный телесериал 1976–1983 гг., главным героем которого являлся доктор Куинси, медицинский эксперт.]), и я знаю, что у его напарницы, стоящей за моей головой, Полианны[17 - Полианна – героиня одноименной детской книжки Элинор Поттер, символ ничем не оправданного оптимизма.] местного врачебного сообщества, нет мысли, что придется перематывать назад пленку с записью этой части «практического занятия». Если не считать одного пустяка: первый труп, который он собирается вскрывать, – живой человек, у Пита отлично все получается.
Наконец он говорит: «Полагаю, я готов перейти к следующему этапу», – в голосе, правда, проскальзывает сомнение.
Она подходит, мельком смотрит на меня, потом сжимает плечо Питу.
– Хорошо. Действуй.
Теперь я стараюсь высунуть язык. Так вот по-детски продемонстрировать свое отношение к красавчику. Этого вполне хватило бы… мне кажется, я чувствую язык и губы, подобное ощущение возникает, когда начинает отходить новокаиновая блокада. Вроде бы и язык дернулся. Нет, наверное, я принимаю желаемое за действ…
Да! Да! Дернулся, но только раз, вторая попытка оканчивается полным провалом.
Когда Пит берется за ножницы, «Роллинг стоунз» переходят к следующей песне – «Подхвати огонь».
«Поднесите зеркало к моему носу! – кричу я им. – И увидите, как оно затуманится! Неужели такая мысль не приходит вам в голову?»
Чик, чик, чик, щелкают ножницы.
Пит поворачивает ножницы так, что свет отражается от их блестящих лезвий, и впервые я уверен, на все сто процентов уверен, что это безумие будет доведено до логического конца. Режиссер не собирается останавливать съемку. Рефери не собирается останавливать поединок в десятом раунде. Мы не собираемся брать паузу, чтобы узнать мнение наших спонсоров. Пити-бой намерен вонзить ножницы в мой живот, пока я, беспомощный, лежу на этом столе, а потом вскрыть меня, как бандероль, прибывшую из «Хоршоу коллекшн»[18 - «Хоршоу коллекшн» – фирма, торгующая по каталогам и через Интернет.].
Он вопросительно смотрит на доктора Арлен.
«Нет! – воплю я, голос бьется о темные стенки моего черепа, но не выплескивается изо рта. – Нет, пожалуйста, нет!»
Она кивает.
– Давай. Все у тебя получится.
– Э… ты не хочешь выключить музыку?
«Да! Да, выключи ее!»
– Она тебе мешает?
«Да! Она ему мешает! Она до предела затуманила ему мозги! Он даже решил, что его пациент мертв!»
– Ну…
– Конечно, – отвечает она и исчезает из поля моего зрения. Мгновением позже Мик и Кейт наконец-то замолкают. Я пытаюсь бубнить, но к своему ужасу обнаруживаю: не получается. Я слишком напуган. Страх сковал мои голосовые связки. Я могу только наблюдать, как она присоединяется к нему, вдвоем они смотрят на меня сверху вниз, как несущие гроб – в открытую могилу.
– Спасибо, – благодарит он. Потом набирает полную грудь воздуха и поднимает ножницы. – Провожу перикардиальный разрез.
Медленно опускает ножницы. Я их вижу… вижу… потом они скрываются за пределами поля моего зрения. А чуть позже чувствую, как холодная сталь прижимается к верхней части живота.
Он с сомнением смотрит на врача.
– Ты уверена, что…
– Хочешь ты учиться проводить вскрытия или нет, Питер? – В голосе звучат резкие нотки.
– Ты знаешь, что хочу, но…
– Тогда режь.
Он кивает, плотно сжимает губы. Я бы закрыл глаза, если смог, но, разумеется, не могу; я только готовлюсь к боли, которую почувствую через секунду или две, говорю себе: «Крепись!»
– Режу. – Он чуть наклоняется вперед.
– Одну секунду! – кричит она.
Давление чуть ниже солнечного сплетения ослабевает. Он поворачивается к ней, на лице – удивление, легкое раздражение, а может, и облегчение, потому что удалось оттянуть критический момент.
Я чувствую, как ее рука охватывает мой пенис, словно она собралась погонять мне шкурку, этакий безопасный секс с мертвыми.
– Ты упустил вот это, Питер.
Он наклоняется, смотрит на ее находку – шрам чуть не в самом паху, на верхней части правого бедра, вывороченная, блестящая, без единой поры кожа.
Ее рука все еще держит мой член, держит, чтобы он не заслонял шрам, только ради этого. Точно так же она держала бы и диванную подушку, чтобы показать кому-то сокровище, которое ей удалось там обнаружить: монетки, бумажник, придушенную кошкой мышку… но что-то происходит.
Господи Иисусе, что-то происходит!
– И посмотри. – Ее пальцы гладят правую часть мошонки, движутся дальше, к бедру. – Посмотри на эти нитевидные шрамы. Его яички, должно быть, раздулись до размеров грейпфрутов.
– Ему повезло, что он не потерял одно, а то и оба.
– Можешь поспорить на… можешь поспорить, знаешь на что. – Она смеется, и в смехе определенно слышатся сексуальные нотки. Пальцы то сжимаются, то расслабляются, рука движется, чтобы шрам оставался на виду. Движения спонтанные, но она могла бы заработать двадцать или тридцать баксов, если проделывала бы все это сознательно… при других обстоятельствах, разумеется. – Думаю, это боевое ранение. Дай-ка мне увеличительное стекло, Пит.
– Но не следует ли мне…
– Я отниму у тебя лишь несколько секунд. – Она полностью поглощена моим шрамом. – Он все равно никуда не уйдет. – Ее рука по-прежнему охватывает мой пенис, сжимает, отпускает, и я чувствую – что-то продолжает происходить, но, возможно, ошибаюсь. Должно быть, ошибаюсь, иначе он бы это увидел, она бы это почувствовала…
Она склоняется так низко, что я вижу только спину, обтянутую зеленым халатом, завязки шапочки, напоминающие тоненькие косички. Теперь, о-го-го, тем самым местом я ощущаю ее дыхание.
– Обрати внимание, как расходятся эти лучевидные шрамы. Это осколочное ранение, полученное лет десять тому назад. Мы можем проверить его послужной…
Распахивается дверь. Пит от неожиданности вскрикивает. Доктор Арлен – нет, но ее рука непроизвольно сжимается, сдвигается, и выглядит все так, будто разбитная медсестра ублажает прикованного к постели пациента.
– Не вскрывайте его! – Голос такой пронзительный, такой испуганный, что я едва узнаю Расти. – Не вскрывайте его! В сумке с клюшками змея – она укусила Майка!
Они поворачиваются к нему, глаза широко раскрыты, челюсти отвисли. Она по-прежнему сжимает мой конец, не осознает этого, уже какое-то время не осознает, как Пити-бой не осознает, что одной рукой держится за сердце. И выглядит он так, словно именно у него отказал главный насос.
– Что… что ты… – лепечет Пит.
– Уложила его на землю. – Расти трещит, как пулемет. – Думаю, он оклемается, но сейчас едва может говорить! Маленькая коричневая змейка, я таких не видел никогда в жизни, она уползла под разгрузочную платформу и сейчас лежит там, но это не важно! Наверное, она укусила и парня, которого мы привезли. Я думаю… Срань Господня, док, что это вы делаете? Возвращаете его к жизни по частям?
Она поворачивает голову ко мне, не понимая, о чем он… пока до нее не доходит, что ее ладонь обжимает стоящий столбом пенис. А когда она начинает кричать… с криком выхватывает ножницы из повисшей плетью, затянутой в резиновую перчатку руки Пита… я вновь думаю о старом телефильме Альфреда Хичкока.
«Бедный старый Джозеф Коттен», – думаю я.
Он мог только плакать.
Послесловие
Прошел год с тех пор, как я побывал в секционном зале номер четыре, и я уже полностью поправился, хотя паралич никак не хотел сдаваться: только через месяц начал шевелить пальцами рук и ног. Я по-прежнему не могу играть на пианино, но, с другой стороны, и раньше не мог. Это шутка, и я за нее не извиняюсь. Думаю, в первые три месяца после злосчастного инцидента именно моя способность шутить обеспечила пусть минимальный, но жизненно важный запас прочности, позволивший избежать нервного срыва и сохранить здоровую психику. И вам не понять, что я хочу этим сказать, если вы не чувствовали, как стальные ножницы, используемые при вскрытии, упираются вам в живот.
Через две недели после того, как меня доставили в морг, женщина с Дюпон-стрит позвонила в полицию Дерри и пожаловалась на ужасный запах, идущий из соседнего дома. Дом этот принадлежал холостяку, банковскому клерку, по имени Уолтер Керр. Полиция обнаружила, что людей в доме нет. Зато в подвале копы нашли более шестидесяти самых разных змей. Почти половина сдохла от голода и обезвоживания, но остальные были живы… и очень опасны. Среди них нашлось несколько очень редких, а одна принадлежала к виду, считавшемуся исчезнувшим с середины столетия. Так, во всяком случае, заявили консультанты-герпетологи.
Керр не вышел на работу в Городской банк Дерри 22 августа, через два дня после того, как меня укусила змея, через день после того, как об этой истории прознала пресса. «ПАРАЛИЗОВАННЫЙ МУЖЧИНА ИЗБЕГАЕТ ПОСМЕРТНОГО ВСКРЫТИЯ» – гласил заголовок. В одном из абзацев репортер процитировал мои слова. Вроде бы я ему сказал, что «окаменел от страха».
В подземном зверинце Керра в каждой клетке, кроме одной, сидело по змее. На пустой клетке таблички не было, а змею, выползшую из сумки с клюшками (санитары «скорой помощи» привезли ее вместе с моим «трупом», а потом решили попрактиковаться на стоянке), так и не нашли. Наличие яда в моей крови, этот же яд, но в гораздо меньшей концентрации, обнаружили в крови Майка, установили, но идентифицировать не смогли. За последний год я прочитал множество книг о змеях и нашел как минимум одну, укус которой вызывает у людей полный паралич. Это перуанский бумсланг, отвратительная тварь, которую в последний раз видели в двадцатых годах. Дюпон-стрит отделяют от поля для гольфа «Муниципального клуба Дерри» меньше чем полмили. Пустыри и перелески.
И последнее. Кэти Арлен и я встречались четыре месяца, с ноября 1994-го по февраль 1995-го. Расстались по взаимному согласию в силу сексуальной несовместимости.
У меня вставало, лишь когда она надевала резиновые перчатки.
Думаю, на каком-то этапе своего творческого пути каждый автор «ужастиков» должен коснуться погребения заживо, потому что люди этого действительно боятся. Когда мне было лет семь, самым страшным телесериалом по праву считался «Альфред Хичкок представляет», а самой страшной серией «АХП» (в этом все друзья полностью со мной соглашались) стала та, где Джозеф Коттен сыграл человека, получившего травмы в автомобильной аварии. Травмы такие тяжелые, что врачи сочли его мертвым. Они даже не смогли прощупать пульс. И уже собрались провести посмертное вскрытие, хотя он был жив и заходился внутренним криком, короче, та серия, где он выжал из себя единственную слезу, чтобы дать им знать, что жив. Это очень трогательный момент, но трогательность – не из моего репертуара. Поэтому, когда я задумался над рассказом на эту тему, в голову пришла мысль о другом (может, более современном?) методе коммуникации. Вы прочитали о нем выше. И наконец о змее: сомневаюсь, что существовала ползучая тварь, названная учеными перуанским бумслангом, но в одном из своих детективов о мисс Марпл дама Агата Кристи упомянула африканского бумсланга. Мне так понравилось это слово (бумсланг – не африканский), что я вставил его в свой рассказ.
Человек в черном костюме
еперь я уже очень стар, а все это случилось со мной, когда я был еще мальчишкой – девяти лет от роду. Случилось в 1914 году, через несколько месяцев после того, как умер мой брат Дэн, и за три года до того, как Америка вступила в Первую мировую войну. Никогда ни единому человеку на свете еще не рассказывал я, что произошло со мной в тот день у развилки ручья. И никогда не расскажу… во всяком случае, устно. Предпочитаю написать об этом и оставить тетрадь на столике возле своей кровати. Писать долго трудно, потому что руки у меня в последнее время сильно дрожат, былой силы в них почти не осталось. Впрочем, не думаю, что это займет много времени.
Позже кто-нибудь найдет эти мои записи. Человек любопытен по природе своей и никогда не упустит возможности заглянуть в оставленную другим тетрадь под названием «ДНЕВНИК», особенно если автор его отошел в мир иной. Так что написанное мною почти наверняка будет прочитано, уверен в этом. Другое дело, поверят написанному или нет. Почти с той же уверенностью смею заметить, что нет, но это не важно. Меня интересует не это, а свобода. А писание, как я обнаружил, как раз и может дать человеку такую свободу. На протяжении почти двадцати лет я писал в колонку под названием «Давно и далеко» в газете «Колл», издаваемой в Кэстл-Рок. И по опыту знаю, что чаще всего так и получается: стоит написать о каком-то событии, и оно перестает мучить тебя. Оставляет в покое, уходит, точно изображение на старых выцветших снимках – с каждым днем становится все светлее, стирается, блекнет, пока не остается лишь желтовато-белый прямоугольник бумаги.
И я молю Создателя о таком утешении.
Старцу под девяносто давно пора бы расстаться с детскими страхами, но по мере того, как немощь медленно, но верно берет верх, наползает на тебя, точно лижущие берег волны, постепенно подбирающиеся к замку из песка, это ужасное лицо все явственнее встает перед глазами. Грозно сверкает, подобно темной звезде в созвездии моего детства. Все, что я мог сделать еще вчера, кого я мог видеть здесь, в этой комнатке дома для престарелых, все, что я говорил им или они мне… все это исчезло, пропало, растаяло вдали. А вот лицо человека в черном костюме становится все четче, все ближе. И я до сих пор помню каждое его слово. Мне вовсе не хочется думать и вспоминать о нем, но я, против воли, думаю и вспоминаю все время. А иногда по ночам мое одряхлевшее сердце начинает стучать так быстро и сильно, что, кажется, вот-вот вырвется из груди. И вот я беру авторучку, снимаю с нее колпачок и заставляю старую дрожащую руку выводить в дневнике эти строки, описывать этот бессмысленный и странный случай. Дневник подарила мне правнучка… черт, никак не могу вспомнить ее имя, во всяком случае, сейчас, но точно знаю, что начинается оно с буквы «С». Она подарила мне этот самый дневник на прошлое Рождество, и до этого момента я не написал в нем ни строчки. Но сейчас напишу. Опишу, как повстречал того человека в черном костюме на берегу Кэстл-Стрим летом 1914 года.
Городок под названием Моттон был в те дни совсем отдельным, особым мирком – слов не хватит описать, насколько отличался он от сегодняшнего провинциального американского городка. То был мир без аэропланов, гудящих над головой, мир, где автомобили и грузовики были редкостью. Мир, где небо не разрезали на прямоугольники и квадраты провода высоковольтных линий.
Во всем городке не было ни одного мощеного тротуара. Единственными же признаками цивилизации в нем были: универмаг Корсона, конюшня и лавка по торговле скобяных товаров Тутта, методистская церковь на Крист Корнер, школа, муниципалитет да ресторанчик «У Гарри» в полумиле от центра, который моя мама с плохо сдерживаемым неодобрением в голосе называла «питейным заведением».
Но главное различие было в том, как жили тогда люди. Насколько они тогда были разделены. Не уверен, что люди, родившиеся во второй половине двадцатого века, могут похвастаться тем же. Хотя, грех жаловаться, они изо всех сил стараются быть приветливыми и вежливыми со стариками, подобными мне. Никаких телефонов в ту пору в Западном Мэне не было. Первый установили только лет через пять, а у нас в доме телефон появился, лишь когда мне исполнилось девятнадцать, я тогда поступил в Университет Мэна в Ороно.
Но это еще цветочки. На всю округу был лишь один врач, в Каско, а весь городок состоял из дюжины домов, не больше. Никаких соседей в нынешнем понимании этого слова тогда не было (не уверен даже, что нам было знакомо само это слово, «соседи», хоть люди и дружили, и собирались вместе, как правило, в церкви и на танцах у амбара). А вот пустующие поля были скорее исключением, нежели правилом. Городок окружали фермы, удаленные одна от другой на значительное расстояние; с декабря по март все жители торчали по домам и грелись у печек, семьями. Сидели и слушали завывание ветра в каминных трубах. И от души надеялись, что ни один из членов семьи не заболеет, не сломает ногу или руку или, не дай Бог, не свихнется, подобно одному фермеру, что жил неподалеку от Кэстл-Рока. Этот самый фермер три года тому назад вдруг ни с того ни с сего зарезал свою жену и троих ребятишек, а позже в суде говорил, что сделать это его заставили злые духи. В те дни, перед Первой мировой, окрестности Моттона состояли сплошь из непролазных лесов и болот, где кишели москиты, водились лоси, змеи и прочая нечисть. В те дни злые духи были повсюду.
То, о чем я собираюсь рассказать, случилось в субботу. Отец выдал мне целый список заданий, в числе прочих там были и такие, что пришлось бы исполнять Дэну, будь он жив. Дэн был моим единственным братом и скончался от укуса пчелы. С тех пор прошел почти год, но мама все отказывалась в это верить. И говорила, что причина смерти наверняка крылась в чем-то другом, что человек просто не может умереть от укуса пчелы. И когда однажды Мама Свит, самая старая дама из женского благотворительного общества при методистской церкви, прошлой зимой попробовала объяснить ей, что то же самое произошло с ее любимым дядей еще в 1873 году, мама заткнула уши, вскочила и выбежала на улицу. И больше ни разу не зашла в церковь и ни разу не посетила ни одного заседания благотворительного общества, вопреки всем уговорам и увещеваниям отца. Она говорила, что раз и навсегда покончила с церковью и что если еще хоть раз встретится с Хелен Робичод (то было настоящее имя Мамы Свит), то выцарапает этой мерзавке глаза. Просто не сдержусь, всегда добавляла она.
В тот день отец велел мне принести дров для кухонной плиты, нарвать на огороде бобов и огурцов, натаскать на сеновал свежего сена, набрать два ведра воды, поставить их охлаждаться в погреб и соскоблить старую краску со стен подвала, сколько смогу. А после этого, сказал он, можешь пойти порыбачить. Если, конечно, не против пойти один, потому как он собирается повидать Билла Эвершема, потолковать с ним насчет коров. На что я ответил, что ничуть не против, и отец улыбнулся – с таким видом, точно заранее знал, что я скажу. Неделю назад он подарил мне новенькую бамбуковую удочку – не потому, что у меня был день рождения или что-то в этом роде, просто ему нравилось иногда дарить мне разные вещицы. И мне до смерти не терпелось опробовать ее в Кэстл Стрим, самом богатом форелью ручье из всех, где мне доводилось рыбачить.
– Но только смотри, в лес далеко не заходи, – предупредил меня отец. – Не дальше развилки.
– Хорошо, сэр.
– Обещай.
– Да, сэр. Обещаю.
– А теперь обещай то же самое матери.
Мы стояли на заднем крыльце. Я как раз собирался пойти к ключу с двумя ведрами воды, когда отец остановил меня. Он взял меня за плечо и развернул – я увидел маму. Она стояла на кухне за мраморным разделочным столиком, освещенная потоком ярких солнечных лучей, врывавшихся сквозь двойные окна над раковиной. На лоб падал завиток светлых волос, касался брови – видите, с какой отчетливостью я до сих пор помню эту картину? Так и стоит перед глазами. Солнечный свет золотил этот маленький завиток, и мне захотелось подбежать к маме и крепко-крепко ее обнять. Наверное, в тот момент я впервые увидел в ней женщину, увидел маму глазами отца. Еще помню, на ней было ситцевое домашнее платье в мелких красных розочках, и она месила тесто. Кэнди Билл, наш маленький черный скотч-терьер, стоял настороже у ее ног. Стоял, задрав голову, в надежде, что ему хоть что-нибудь перепадет. А мама смотрела на меня.
– Обещаю, – сказал я ей.
Она улыбнулась, но какой-то тревожной и нерадостной улыбкой. Она начала улыбаться так с тех пор, как отец принес на руках Дэна с поля. Отец бежал бегом, он рыдал и был без рубашки. Рубашку он снял и обернул ею лицо Дэнни, которое чудовищно распухло и покраснело. «Мой мальчик! – кричал он. – Вы только посмотрите, что сталось с моим мальчиком! О Боже, мой мальчик!» Помню все, точно это случилось вчера. То был единственный на моей памяти случай, когда отец поминал имя Господа нашего всуе.
– Так что ты обещаешь, Гэри? – спросила мама.
– Обещаю, что не буду заходить дальше развилки, мэм.
– Ни шагу дальше.
– Ни шагу.
Тут она как-то устало посмотрела на меня, а руки меж тем продолжали делать свое дело, месить кусок теста, поверхность которого приобрела теперь маслянистый желтоватый оттенок.
– Обещаю, что и шагу не ступлю дальше, чем той развилки, мэм.
– Спасибо, Гэри, – сказала она. – И помни, грамматика существует не только в школе, она и в жизни всегда пригодится.
– Да, мэм.
Весь день Кэнди Билл так и бегал за мной как хвостик, не отставал, когда я работал по хозяйству, сидел у моих ног, когда я ел ленч, смотрел на меня с той же мольбой и сосредоточенностью, как на маму, когда та месила тесто. Но когда я взял новенькую бамбуковую удочку и старую потрескавшуюся корзинку для рыбы и вышел со двора, пес остановился и остался стоять в пыли у дороги, провожая меня тоскливым взглядом. Я позвал его, но терьер не сдвинулся с места. Лишь гавкнул пару раз, словно призывая меня поскорее вернуться, но следом не пошел.
– Ладно, оставайся, – сказал ему я таким тоном, точно мне было все равно. На самом деле мне было не все равно. Потому что Кэнди Билл всегда сопровождал меня на рыбалку.
Мама подошла к двери и тоже смотрела мне вслед, приложив руку козырьком к глазам, чтоб не слепило солнце. Так и вижу ее до сих пор, точно живую, – это все равно что разглядывать фотографию человека, который позже был очень несчастен или внезапно скончался. «Помни, что говорил тебе отец, Гэри!»
– Да, мэм. Обязательно.
Она махнула мне рукой. Я тоже помахал. А потом повернулся и зашагал по дороге.
Первые четверть мили горячее солнце немилосердно палило шею, но когда я вошел в лес, где над дорогой сгустились тени, повеяло прохладой. И еще там приятно пахло мхом, и было слышно, как шелестит в ветвях ветер. Я шагал, перекинув удочку через плечо, как делали в ту пору все мальчишки, а в другой руке нес корзинку для рыбы – ну, точь-в-точь коммивояжер с чемоданчиком, где у него образцы товаров. Пройдя по лесу примерно мили две, по дороге, являвшей собой две колеи с травянистой полоской посредине, я услышал торопливое бормотание ручья под названием Кэстл Стрим. И тут же подумал о форели с радужно-пятнистыми спинками и белыми брюшками, сердце так и замерло в радостном предвкушении.
Ручей протекал под маленьким деревянным мостом. Круто спускающиеся к воде берега густо поросли травой и кустарником. Я стал осторожно спускаться вниз, цепляясь за ветки и стараясь тверже ставить ногу при каждом шаге. Мне показалось, что я попал из лета в весну. От ручья веяло свежестью, прохладой и резким запахом зелени. Подойдя к самой кромке воды, я остановился. И стоял, полной грудью вдыхая этот чудесный запах и наблюдая, как кружат над заводью стрекозы и скользят по воде водомерки. Вдруг чуть дальше за заводью выпрыгнула за бабочкой форель – такая славная крупная рыбина, дюймов четырнадцать в длину. И только тут я вспомнил, что пришел сюда не красотами природы любоваться.
Я пошел вдоль берега, вниз по течению, и первый раз забросил новенькую удочку в том месте, откуда был еще виден мост. Поплавок пару раз дернулся, я вытянул леску и увидел, что от червяка осталась половинка. Возможно, добыча оказалась слишком мелкой или рыба была не очень голодна и не стала рисковать, заглатывая всю приманку. А потому я решил перейти на новое место.
Еще два или три раза закидывал удочку, а потом вдруг понял, что дошел почти до самой развилки. До того места, где Кэстл Стрим раздваивается, и одна его половинка течет на юго-запад, к Кэстл Рок, а вторая – на юго-восток, где впадает в Кашвакамак. И вот именно в этом месте мне вдруг удалось поймать самую крупную в моей жизни форель на катушку с блесной, которую я постоянно держал в корзинке. Красавица, доложу вам, ровно девятнадцати дюймов в длину от носа до кончика хвоста! Даже в те дни то был настоящий великан, чемпион среди ручейных форелей!..
Если б я тогда счел, что этим подарком судьбы можно ограничиться, и двинулся бы к дому, то не писал бы всего этого сейчас (причем я уже понял, что писать придется еще ох как долго, так что советую вам набраться терпения). Но я тогда этого не сделал. Решил вместо этого заняться уловом, как учил меня отец. Выпотрошил рыбину, очистил от чешуи, потом положил ее на сухую траву на дно корзины, а сверху прикрыл свежей травой. И двинулся дальше. Видно, тогда, девяти лет от роду, я вовсе не считал поимку ручейной форели девятнадцати дюймов в длину столь уж замечательным и необыкновенным событием. Хоть и дивился тому, как это не порвалась у меня леска, когда я неумело и неуклюже подтягивал к берегу бьющуюся на крючке и изогнутую дугой пятнистую красавицу.
И вот десять минут спустя я оказался у того места, где ручей разветвлялся надвое (теперь этого места нет и в помине; там, где пролегало устье Кэстл Стрим, настроили домов на две семьи каждый, там же находится районная средняя школа, а русло ручья если и сохранилось, то пролегает под землей). В той точке, где два потока расходились в разные стороны, высилась огромная серая скала величиной с наш дом. А берег там был широкий, открытый, весь порос мягкой светло-зеленой травкой, и с него открывался вид на место, которое мы с отцом называли Южной Веткой. Я присел на корточки, забросил удочку, и почти тотчас же на приманку клюнула чудесная радужная форель. Нет, конечно, ей было далеко до моей красавицы-рекордсменки – длиной всего в фут, не больше, – но все равно славная рыбина. Я выпотрошил и ее, снял чешую, пока не затвердела, и уложил в корзинку. А потом снова закинул удочку.
На сей раз клюнуло не сразу. А потому я устроился поудобнее, привалился спиной к камню и уставился в синее небо. Но и на поплавок поглядывать не забывал. По небу с запада на восток плыли облака, и я пытался угадать, на что они похожи. Одно напоминало единорога, второе – петуха, третье – собаку, немножко похожую на нашего Кэнди Билла. Я стал искать взглядом следующее, и именно в этот момент, должно быть, задремал.
А может, просто заснул. Не знаю, не помню. Единственное, что точно помню, – разбудил меня рывок удочки. Она едва не выскользнула из рук, и я тут же очнулся, вернулся в реальность. Выпрямился, покрепче ухватил удочку и вдруг почувствовал, что на носу у меня кто-то сидит. Скосил глаза и увидел пчелу. Тут сердце у меня просто в пятки от страха ушло, и я едва не описался.
Древко удочки снова задергалось, на этот раз еще сильнее, но я даже не пытался вытащить улов, хоть и впился в удочку обеими руками изо всей силы, чтобы, не дай Бог, не вырвало и не унесло потоком (кажется, мне в тот момент даже хватило ума придерживать леску указательным пальцем). Мне было не до улова. Все внимание было сосредоточено на толстой твари в черно-желтую полоску, которой вздумалось отдохнуть у меня на носу.
Я медленно приподнял нижнюю губу и подул вверх. Пчела затрепетала крылышками, но улетать не стала. Я снова дунул, и она снова затрепетала крылышками… мало того, принялась перебирать ножками. И тут я дуть перестал – из страха, что эта мерзкая и назойливая тварь вдруг потеряет терпение и ужалит меня. Она находилась слишком близко, чтоб я мог разглядеть каждое ее движение, но очень живо представил, как она запускает жало мне в одну из ноздрей, прокалывает кожу и выпускает яд, который тотчас же попадет в глаза. И в мозг – тоже.
Тут вдруг мне пришла в голову совершенно ужасная мысль. Что, если это та же самая пчела, которая убила моего брата?.. Я понимал, что этого не может быть, хотя бы потому, что пчелы-медоносы дольше года не живут (хотя насчет маток не знаю, не уверен). Этого не могло быть просто потому, что пчела, потеряв жало, тут же умирает, даже в девять лет я это точно знал. Жало намертво застревает в коже укушенного пчелой. И когда эта тварь, сотворив свое черное дело, пытается взлететь, ее просто разрывает пополам. Но страшная мысль все равно не оставляла. То была особая, дьявольская пчела, она вернулась, чтобы прикончить и второго сына Лоретты.
Существовал, правда, один утешительный фактор. Меня уже кусали пчелы, и хотя место укуса сильно распухало и болело (возможно, больше, чем у других людей в подобных случаях, точно не знаю, не уверен), я от этих укусов не умер. Погиб мой брат, угодил в предназначенную ему природой ужасную ловушку, но мне до сих пор удавалось счастливо избегать такой участи. Однако, когда я почти до боли скашивал глаза, чтобы разглядеть сидевшее на носу чудовище, логика переставала существовать. Существовала лишь пчела, только она, пчела, погубившая моего брата, принесшая ему столь ужасную и мучительную смерть, что отцу пришлось сорвать с себя рубашку и прикрыть ею несчастное изуродованное распухшее до неузнаваемости лицо Дэна. Охваченный горем и ужасом, он сделал это, чтобы уберечь жену, не хотел, чтобы мать видела, во что превратился ее первенец. И вот теперь пчела вернулась и хочет убить меня. И она наверняка убьет меня, я буду корчиться в муках и конвульсиях здесь, на берегу. Дергаться и извиваться, точно форель, когда выдергиваешь из ее рта стальной крючок.
И вот когда я сидел на берегу ручья, с головы до пят дрожа от страха, вдруг за спиной послышался хлопок. Довольно громкий и резкий, он напоминал выстрел из пистолета, но я сразу понял, что никакой это не выстрел. Просто кто-то громко хлопнул в ладоши. Всего один раз. И тут же, словно по команде, пчела сорвалась с моего носа и шлепнулась прямо мне на колени. И лежала там, а вылезшее из брюшка черное жало отчетливо вырисовывалось на фоне моих старых вылинявших вельветовых брюк. Она была мертва, мертвее не бывает, я это сразу понял. И почти в тот же миг снова запрыгал поплавок и сильно задергалось удилище, и я едва удержал его в руках.
Я покрепче ухватился за него и сильно рванул вверх. Обычно, когда я делал такой маневр в присутствии отца, тот хватался за голову. Из воды, точно вспышка, вырвалась, разбрызгивая хвостом мелкую водяную пыль, радужная форель. Гораздо крупнее той, что мне удалось поймать в первый раз. Такого рода соблазнительные кадры в сороковые – пятидесятые годы украшали порой обложки журналов для мужчин, к примеру, «Факты» и «Мир приключений настоящего мужчины». Вид этой прекрасной добычи моментально отогнал все прочие мысли, но тут леска не выдержала, лопнула, и рыба плюхнулась обратно в воду. Я оглянулся посмотреть, кто ж это хлопнул в ладоши. На опушке леса стоял человек. Лицо продолговатое и необычайно бледное. Черные волосы плотно прилегают к черепу узкой головы и аккуратно разделены пробором слева. И еще он был очень высокий. Одет он был в черный костюм-тройку, но я сразу понял – это не человеческое существо, потому что глаза у него были оранжево-красные, точно угольки в дровяной печке. Причем я не имею в виду радужную оболочку глаз, потому что никакой оболочки вовсе не было, и зрачков тоже не было, и белков. Сплошь оранжевые глаза – они двигались и мерцали. Короче, надеюсь, вы уже поняли, что я имею в виду? Внутри у этого существа пылал огонь, а глаза служили эдакими маленькими оконцами, через которые можно было заглянуть внутрь, в самую его глубину и сущность, ну, как через стеклянные глазки, через которые мы заглядываем в печь.
И тут мой мочевой пузырь меня подвел, и в том месте, где лежала мертвая пчела, расползлось на линялом коричневом вельвете брюк темное пятно. Я плохо соображал, что происходит, и просто не мог оторвать глаз от мужчины, стоящего на берегу и смотрящего на меня. Мужчины, который умудрился прошагать миль тридцать через дремучие леса Западного Мэна, ничуть не испачкав при этом ни черного костюма-тройки, ни узких начищенных до блеска кожаных черных туфель. Я также заметил сверкающую в лучах солнца цепочку от карманных часов. Весь чистенький, ни пылинки, ни единой сосновой иголочки. И еще он улыбался мне.
– О, кого я вижу! Мальчик – рыбак! – воскликнул он приятным низким голосом. – Только вообразите! Счастлив познакомиться, малыш!
– Здравствуйте, сэр, – сказал я. Голос у меня не дрожал, но как-то не слишком походил на мой обычный голос. Точно говорил им человек постарше. Ну, скажем, в возрасте Дэна. Или даже отца. Я мог думать только об одном: отпустит ли он меня, если я притворюсь, что не понял, кто он такой? Если притворюсь, что не вижу танцующие и мерцающие язычки пламени в том месте, где положено быть глазам?..
– А я спас тебя от опасного укуса, – сказал он. И тут же, к моему ужасу, начал спускаться к воде, к тому месту, где продолжал сидеть я с мертвой пчелой на промокших штанишках и бамбуковой удочкой в онемевшей руке. В этих нарядных городских туфлях на кожаной подошве он наверняка должен был поскользнуться на крутом, поросшем сорняками склоне, но этого не произошло. Мало того, я заметил, что он даже не оставляет следов. Там, где его ступня касалась земли – или просто казалось, что касалась, – не оставалось ни сломанной веточки, ни раздавленного стебелька или листка, ни углубления от каблука в сырой земле.
Он еще не успел подойти ко мне, но я уже ощущал запах, исходивший от кожи под костюмом, – запах горелых спичек. Человек в черном костюме был самим Дьяволом. Он вышел из дремучих лесов, что раскинулись между Моттоном и Кашвакамаком, и вот теперь стоит рядом со мной. Уголком глаза я видел бледную, как у манекена в витрине, руку. А пальцы были неестественно длинными.
Он присел со мной рядом, прямо на траву. Колени при этом торчали, как у любого нормального мужчины, но когда он пошевелил руками, свободно болтающимися между колен, я заметил, что каждый из длинных белых пальцев заканчивается не ногтем, но продолговатым желтым когтем.
– Ты не ответил на мой вопрос, маленький рыбачок, – сказал он своим низким и сладким голосом. Теперь, когда я вспоминаю об этом, кажется, что точь-в-точь такими же голосами говорили дикторы, рекламирующие по радио разные товары, вроде жеритола, серутана, овалтина, а также каких-то трубочек доктора Грейбоу. – Правда, здорово, что мы встретились?
– Пожалуйста, не обижайте меня, – произнес я таким тихим шепотом, что сам едва расслышал собственные слова. Я был напуган так, что просто не в силах выразить это сейчас, на бумаге, напуган, как еще никогда не пугался в жизни. Но это чистая правда. Так оно и было. Тогда мне даже в голову не пришло, что это может быть сон. Хотя могло прийти, будь я несколькими годами старше. Но я не был старше, мне было всего девять. И я понял, что это правда, что это происходит в реальности, как только он присел рядом со мной. Уж кто-кто, а я всегда умел отличить шило от мыла, так говаривал мой отец. Мужчина, вышедший из леса тем субботним летним днем, был не кем иным, как самим Дьяволом, и сквозь пустые оранжевые его глазницы я видел, как пылают его мозги.
– Ой, чую, чем-то пахнет! Интересно, чем же это, а? – воскликнул он, точно и не слышал меня вовсе, хотя я понимал, прекрасно слышал. – Чем-то таким… мокрым, что ли?
И он подался ко мне всем телом, вытянув и без того длинный нос, с видом человека, собравшегося понюхать цветок. Тут я заметил еще одну совершенно ужасную вещь: на земле, там, где двигалась тень от его головы, трава тут же желтела и высыхала. Он опустил голову к моим штанишкам и еще сильнее принюхался. А потом даже полузакрыл полыхающие оранжевым пламенем глаза, точно вдыхал какой-то совершенно божественный, тонкий и неземной аромат, желая сосредоточиться на нем целиком и полностью.
– Ужас! – воскликнул он. – Прелесть-кошмар! – А затем забормотал нараспев: – Опал! Алмаз! Сапфир! Агат! Браслеты, ожерелья! Откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри! – Тут он откинулся на спину и дико расхохотался. Смеялся как сумасшедший.
Надо бежать, подумал я, но ноги, казалось, не принадлежали телу. Я не плакал, нет; хоть и обмочился, как какой-нибудь младенец, но не плакал. Слишком уж был напуган, чтобы плакать. Я понял, что умру скорее всего мучительной смертью, но хуже всего было то, что я понимал: это еще не самое худшее, что может со мной случиться.
Худшее может произойти позже. После того, как я умру.
Тут он вдруг резко сел. Запах горелых спичек, исходивший от его костюма, стал еще резче, я почувствовал, что задыхаюсь, что в горле стоит противный ком. Он мрачно смотрел на меня пылающими на узком бледном лице глазами, мрачно и в то же время – с юмором. Вообще было в его лице нечто такое, что заставляло думать, что он вот-вот рассмеется.
– Плохие новости, мальчик рыбачок, – сказал он. – Я принес тебе плохие новости.
Я молча смотрел на него – черный костюм, дорогие черные туфли, длинные белые пальцы с когтями вместо ногтей.
– Твоя мать умерла.
– Нет! – крикнул я. И вспомнил, как мама утром месила тесто, вспомнил о маленьком завитке светлых волос, падающем на лоб, вспомнил, как она стояла, освещенная ярким утренним солнцем, и тут душу мою снова обуял ужас… Вот только испугался я на сей раз не за себя, нет. А потом вспомнил, как она стояла в дверях и смотрела мне вслед, заслоняя глаза от солнца. Смотрела на меня так, точно разглядывала фотографию человека, которого хотела увидеть снова, но при этом знала, что никогда не увидит.
– Нет, ты лжешь! – заорал я.
Он улыбнулся – грустной и преисполненной терпения улыбкой человека, которого часто и несправедливо обвиняют.
– Боюсь, что нет, – сказал он. – С ней произошло то же самое, что с твоим братом, Гэри. Пчела.
– Нет, это неправда, – сказал я. И тут наконец заплакал. – Она уже старая, ей целых тридцать пять, и если б пчела могла убить ее, как убила Дэнни, это уже давным-давно случилось бы, а сам ты лживый ублюдок и урод!
Я осмелился обозвать Дьявола лживым ублюдком и уродом!.. В глубине души я понимал, что делать этого не стоило, но слишком уж был потрясен несуразностью его слов. Моя мама умерла? Но это все равно что сказать, что на месте Скалистых гор образовался новый океан. И одновременно я ему верил. Одновременно верил ему целиком и полностью, как верит в глубине души человек, что с ним может случиться самое худшее.
– Понимаю и сочувствую твоему горю, мальчик рыбачок, но боюсь, твой последний аргумент не выдерживает никакой критики. – Он произнес эти слова деланно спокойным и ласковым тоном, без тени сожаления или сочувствия, отчего они показались мне еще более омерзительными. – Человек может прожить всю жизнь, ни разу не увидев пересмешника, но ведь это вовсе не означает, что пересмешников не существует в природе, верно? Твоя мать…
Тут из воды неподалеку от нас выпрыгнула рыба. Мужчина в черном костюме нахмурился, потом указал на нее длинным бледным пальцем. Форель перекувырнулась в воздухе, так резко изогнувшись при этом, что показалось, она кусает себя за хвост, и тут же с плеском упала обратно в воду. Но не погрузилась в нее, а поплыла, уносимая потоком прочь, безжизненно плоская, мертвая. Вот тело ее врезалось в огромный серый камень, в том месте, где разделялся поток, завертелось в водовороте, а затем поплыло по направлению к Кэстл Рок. Страшный незнакомец перевел взгляд на меня, глядя огненными глазами, а тонкие губы раздвинулись и обнажили в улыбке-оскале ряд крошечных острых, как иголки, зубов.
– Просто твою маму еще ни разу в жизни не кусала пчела, – сказал он. – Ей везло. А потом, примерно час назад, одна такая тварь влетела в кухонное окно, как раз в тот момент, когда мама вынимала из печи хлеб, чтобы положить его остывать на стол. И тут…
– Не желаю этого слушать! Не хочу, не хочу этого слушать!
Я закрыл уши ладонями. Он сложил губы трубочкой, точно собирался свистнуть, и подул на меня. И вонь от его дыхания была просто чудовищной, невыносимой – запахло гнилью, сточными водами, несвежим бельем, протухшими и разложившимися курами.
Я тут же убрал руки от лица.
– Вот так-то лучше, – сказал он. – Тебе придется выслушать это, Гэри, ты должен выслушать все это, маленький рыбачок. Именно от твоей матери передалась по наследству Дэнни эта фатальная особенность. В тебе она тоже есть, но несколько разбавлена кровью отца, а вот у бедного Дэна такой защиты не было. – Он снова сложил губы трубочкой, но на этот раз дуть на меня не стал, а просто почмокал ими, тцк-тцк, словно целует. – И хотя не в моих правилах плохо говорить о мертвых, должен заметить, что во всей этой истории присутствует некая романтическая справедливость, ты согласен? Ведь в конечном счете именно она убила твоего брата Дэна. Как если бы приставила револьвер ему к голове и нажала на спусковой крючок.
– Нет, – прошептал я. – Нет, это неправда.
– Уверяю тебя, именно так оно и было, – сказал он. – Пчела влетела в окно и села ей на шею. И она прихлопнула ее ладонью, даже не успев сообразить, что делать этого не следует. Ты бы никогда не стал так поступать, верно, Гэри?.. Ну и, естественно, пчела ее ужалила. И она почти сразу же начала задыхаться. Так, знаешь ли, всегда происходит с людьми, страдающими аллергией на пчелиный яд. Горло распухает, перехватывает дыхание, и они словно тонут, но не в воде, а на воздухе. Вот почему лицо у Дэна было таким распухшим и красным. Вот почему твой отец прикрыл его рубашкой.
Я смотрел на него, не в силах вымолвить и слова. По щекам катились слезы. Мне не хотелось верить ему, к тому же в воскресной церковной школе учили, что дьявол – это отец всей лжи на земле, но все равно я ему верил. Верил, что он стоял у нас во дворе и заглядывал в кухонное окно, и видел, как моя мама упала на колени и схватилась за горло, а Кэнди Билл прыгал и танцевал вокруг нее, громко лая от страха.
– Надо сказать, она издавала совершенно жуткие звуки, – небрежно заметил человек в черном костюме. – И еще при этом ужасно исцарапала себе лицо. А глаза так просто вылезали из орбит, прямо как у лягушки. Ну и, разумеется, она плакала. – Тут он на миг умолк, а затем добавил: – Она плакала, умирая, разве это не прекрасно? Ну а потом произошла уже совершенно прелестная вещь. После того как она умерла… после того как пролежала на полу минут пятнадцать или около того, а вокруг тишина, ни звука, ничего, кроме потрескивания угольков в печи… И еще это пчелиное жало, оно застряло у нее в коже, торчало, такое черное и крохотное-крохотное, после всего этого, знаешь, что сделал Кэнди Билл? Этот маленький негодник начал слизывать у нее со щек слезы! Сначала с одной щеки… потом – с другой. Представляешь?..
Он уставился на быстро бегущую воду и какое-то время молчал. Лицо печальное, задумчивое. А потом обернулся ко мне, и это выражение исчезло, как сон. Теперь лицо у него было осунувшееся, изнуренное, как у человека, умершего голодной смертью. Глаза сверкали. И еще между бледными губами я видел мелкие и острые зубы.
– Я умираю с голоду, – жестко и громко произнес он. – Я убью тебя, разорву пополам и сожру твои внутренности, мальчик рыбак. Как тебе такая перспектива?
Нет, хотелось крикнуть мне, нет, пожалуйста, не надо, прошу вас! Но не получилось выдавить и звука. И еще я сразу понял: он действительно намерен так поступить со мной. И поступит.
– Просто жуть до чего проголодался, – раздраженным и дразнящим тоном протянул он. – К тому же теперь тебе будет совсем не сладко жить без твоей драгоценной мамочки, поверь мне на слово. Мало того, твой папаша – мужчина того сорта, которому непременно надо вставить свой член в тепленькую дырку, ты уж поверь, я в людях разбираюсь. А стало быть, за неимением лучшего он будет пользовать тебя. А я могу спасти тебя от всех этих неприятностей, унижений и страданий. К тому же ты отправишься прямехонько на небеса, только подумай! Души убитых и мучеников всегда отправляются в рай. Так что оба мы сегодня сослужим добрую службу Господу Богу. Ну скажи, Гэри, разве не славно?
Он протянул ко мне длинную и бледную когтистую лапу. И тут я, даже толком не соображая, что делаю, схватил корзинку, запустил руку под траву, на дно, и извлек огромную форель, того самого «монстра», с которым мне так подфартило в самом начале рыбалки и на чем следовало остановиться. Достал рыбину и слепо протянул ему – пальцы у меня были скользкими от крови, а в белом брюшке рыбы зиял глубокий разрез, в том месте, где я выпотрошил ее внутренности, – то есть сделал примерно то же самое, что собирался сотворить со мной человек в черном костюме. На меня сонно смотрел стеклянный глаз форели, золотое колечко, украшавшее темную спинку, напомнило мне об обручальном кольце мамы. Тут же я увидел ее лежащей в гробу, кольцо блестело в падавшем на него луче солнца, и я сразу же понял: все это правда. Ее действительно ужалила пчела, и она захлебнулась в теплом, пахнущем хлебом воздухе кухни, и Кэнди Билл слизывал слезы с ее распухших щек.
– Большая рыба! – низким жадным голосом воскликнул мужчина в черном костюме. – О, какая боль-ша-а-ая ры-ы-бина!
Он вырвал форель у меня из рук и запихнул ее в рот, целиком. При этом рот у него раскрылся невообразимо широко, ни один человек на свете не способен так широко разинуть рот. Много лет спустя, когда мне было шестьдесят пять (я точно помню, что шестьдесят пять, потому что в том году вышел на пенсию), я ездил на экскурсию в «Аквариум», в Новой Англии. И первый раз в жизни увидел там живую акулу. Так вот, рот у мужчины в черном, когда он раскрыл его, точь-в-точь походил на пасть акулы. С той только разницей, что глотка у него была оранжево-красная, огненная, как и его ужасные глаза. И еще, когда он раскрыл эту самую пасть, то есть рот, на меня так и полыхнуло жаром, точно из камина, куда только что подбросили сухих дров, которые моментально занялись пламенем. Впрочем, я, наверное, не слишком убедительно описал, какой жар исходил у него изо рта; заметил лишь, что, прежде чем он успел раздавить голову крупной форели зубами, чешуйки и плавники у рыбины приподнялись, встали дыбом и тут же начали сворачиваться, как сворачиваются завитками листы бумаги, если швыряешь ее в печь.
Короче, он заглотил рыбину, как заглатывает бродячий фокусник шпагу. Он не разжевывал ее, только сверкающие глаза на миг вылезли из орбит от усилия. Рыба провалилась вниз, прошла по горлу, от чего оно вспучилось, и тут он заплакал. Но не человеческими слезами, нет. По щекам поползли алые густые капли крови.
Думаю, что именно созерцание этих кровавых слез вдруг придало мне сил. Ноги ожили. Я вскочил, как чертик из шкатулки, и, не выпуская из рук бамбуковую удочку, бросился бежать вверх по склону, продираясь сквозь заросли кустарника, время от времени хватаясь свободной рукой за траву и ветки, чтоб, не дай Бог, не споткнуться и как можно быстрее преодолеть подъем.
Он издал сдавленный разъяренный возглас – звук, который может издать человек с набитым ртом. Забравшись на гребень склона, я обернулся, чтобы взглянуть на него. Он бросился за мной вдогонку, полы черного пиджака раздувались на ветру, вспыхивала на солнце золотая цепочка от карманных часов. Изо рта все еще торчал рыбий хвост, и до меня доносился запах жареной форели – все остальное успело сгореть в пламени его ненасытной глотки.
Он догонял меня, тянул длинные руки с когтями, и я помчался по гребню горы, как ветер. Пробежав ярдов сто, вдруг снова обрел голос и закричал – от ужаса в основном, но в этом крике слышалась скорбь по моей несчастной красивой, так нелепо погибшей маме.
Он не отставал. Я слышал за спиной треск и шорох ломающихся веток и топот, но не осмеливался обернуться. Мчался, опустив голову, чтобы не оступиться, видел перед собой лишь кусты, кочки и траву и бежал что есть духу. Каждую секунду ждал, что вот-вот в плечо мне вопьется его когтистая лапа, и тогда я неминуемо окажусь в его смертельно жарких и душных объятиях.
Но этого не случилось. Через некоторое время – не могу точно сказать, сколько именно прошло времени, пять минут, десять, но они показались мне вечностью – я увидел сквозь листву деревянный мостик. Все еще продолжая вопить низким, осипшим от ужаса, каким-то булькающим голосом, я бросился вниз по склону, к ручью.
Где-то на середине пути поскользнулся, упал на колени и обернулся. Человек в черном костюме почти настиг меня. Я отчетливо видел его искаженное яростью и вожделением бледное лицо. Щеки забрызганы кровавыми слезами, акулья пасть ощерена.
– Рыбачок! – рявкнул он и принялся спускаться к берегу следом. А потом протянул длинную лапу и вцепился мне в ногу. Сам не понимаю как, но мне удалось вырваться. А потом я метнул в него удочкой. Он перехватил ее на лету, но тут ноги у него запутались в высокой траве, и он рухнул на колени. Я не стал ждать, что произойдет с ним дальше, развернулся и помчался к мосту. Бежал, скользя на склоне на каждом шагу, и едва не скатился в воду, но в последний момент успел ухватиться за одну из деревянных опор, тянущихся по всей длине под мостом, и спасся.
– Не убегай, куда же ты, рыбачок? – окликнул меня он. Похоже, он был в ярости, но в то же время в голосе проскальзывали насмешливые нотки. – Чтоб я наелся досыта, нужно нечто покрупнее, чем какая-то жалкая форель!
– Оставьте меня в покое! – крикнул я в ответ. Ухватился за перекладину и, неуклюже перевалившись через нее, оказался на мостике. При этом занозил ладони и так сильно стукнулся головой о дощатый настил, что прямо искры из глаз посыпались. Тут же перекатился на живот и пополз прочь. На ноги поднялся, уже когда дополз почти до конца моста, споткнулся, потом вошел в ритм и пустился наутек. Бежал, как могут бегать только девятилетние мальчишки, мчался как ветер. Казалось, ноги касаются земли лишь на третий или четвертый раз, а может, так оно и было. Все остальное время я словно плыл в воздухе. Нашел лесную дорогу, побежал по правой колее, бежал до тех пор, пока в висках не застучали молоточки, бежал, пока глаза не начали вылезать из орбит, бежал, пока не закололо в левом боку, под ребрами, бежал до тех пор, пока не почувствовал во рту металлический привкус крови. И когда уже больше не было сил бежать, перешел на шаг, потом и вовсе остановился и, хрипя и отдуваясь, точно загнанная лошадь, обернулся через плечо. Я был просто убежден, что увижу его за спиной. Увижу, как он стоит на лесной дороге в своем пижонском черном костюме, на животе поблескивает золотая цепочка от часов, а прическа аккуратная, ни одного выбившегося волоска.
Но там никого не было. Он исчез. Дорога, тянувшаяся до Кэстл Стрим между высокими колоннообразными стволами сосен и зелеными мхами, была пуста. И, однако же, я чувствовал: он где-то здесь, рядом, укрылся в лесу, следит за мной, не сводит жутких огненных глаз, пахнет горелыми спичками и жареной рыбой.
Я развернулся и зашагал по дороге, немного прихрамывая – видно, растянул икроножные мышцы, и на следующее утро, едва встав с постели, почувствовал, как страшно ноют и болят ноги, прямо шагу нельзя ступить. Впрочем, в детстве и юности на такие вещи особенно внимания не обращаешь, все нипочем. Я продолжал торопливо шагать по дороге, то и дело оглядываясь через плечо – убедиться, что за спиной у меня никого. И всякий раз так и оказывалось – никого. Но это почему-то не уменьшало, а лишь усугубляло мой страх. Лес казался непроницаемо темным, мрачным, зловещим, чудилось, что где-то там, в самой его глубине, среди спутанных ветвей, непролазного бурелома, в глубоких оврагах затаилось и живет нечто ужасное. До той субботы 1914 года мне, как и большинству детей, казалось, что страшнее медведя в лесу зверя нет.
Теперь я понял, что это не так.
Я прошагал по дороге еще примерно с милю и добрался до места, где она выходила из леса на опушку и сливалась с Джиган Флэт-роуд. И вдруг увидел отца. Он шел мне навстречу и весело насвистывал песню «Старая дубовая бочка». И нес в руке свою удочку с колесиком спиннинга, приобретенную в «Манки Уорд». В другой руке у него была корзина для рыбы, с ручкой, отделанной вязаной лентой. Ее сделала мама еще при жизни Дэна. На ленте была вышита надпись: «ПОСВЯЩАЕТСЯ ИИСУСУ». Едва завидев отца, я пустился бежать ему навстречу с дикими криками: «Папа! Папа! Папочка!» Ноги плохо слушались, и меня качало из стороны в сторону, точно пьяного матроса.
Отец, едва завидев меня, улыбнулся, но веселое, даже игривое выражение лица тут же сменилось озабоченным. Он не глядя швырнул удочку и корзину на дорогу и опрометью бросился ко мне. Прежде я никогда не видел, чтоб отец бегал так быстро, просто удивительно, что мы с ним не сшибли друг друга с ног, когда он подскочил ко мне. Я пребольно ударился лицом о его пряжку на ремне, даже кровь из носа немножко пошла. Впрочем, я тогда этого даже не заметил. Лишь прижимался к нему всем телом и обнимал обеими руками что есть сил, пачкая его старенькую голубую рубашку кровью, слезами и соплями.
– Что такое, Гэри? Что случилось? Ты в порядке?
– Ма умерла! – прорыдал я. – Я встретил человека, там, в лесу, и он сказал мне, что мама умерла! Ее ужалила пчела, и она вся распухла, в точности так же, как было с Дэном, а потом умерла! Лежит в кухне, на полу, а Кэнди Билл… он слизывает с-с-слезы… у нее со… со…
«Щек» – хотел выдавить я это последнее слово, но не смог, дыхание перехватило. Слезы бежали ручьем. Я почувствовал, как вздрогнул отец, и, подняв голову, увидел, что его испуганное лицо двоится и троится у меня в глазах. Тут я завыл, но не как маленький мальчик, разбивший в кровь коленки, а как пес, учуявший нечто страшное в лунном свете. И тогда отец снова крепко прижал меня к себе. Но я выскользнул, вывернулся у него из-под руки и обернулся через плечо. Хотел убедиться, что к нам не идет тот ужасный мужчина в черном костюме. Видно его не было; на дороге, уходящей в лес, ни души. И тогда я про себя поклялся, что никогда и ни за что больше не ступлю на эту дорогу, ни при каких обстоятельствах. Не столь давно я пришел к выводу, что наш Бог и Создатель, видно, очень милостив к нам, его детям, поскольку не позволяет им заглянуть в будущее. В тот момент я бы, наверное, просто с ума сошел, если б знал, что мне предстоит вернуться на эту дорогу, что не пройдет и двух часов, как я снова буду шагать по ней. Но тогда я ничего этого еще не знал. И увидев, что ни на дороге, ни на опушке его нет, испытал невероятное облегчение. А потом вдруг снова вспомнил о маме – своей дорогой милой доброй и красивой умершей мамочке, – прижался щекой к животу отца и снова завыл.
– Послушай, Гэри, – сказал он секунду-другую спустя. Но я не унимался. Он позволил мне повыть еще немножко, потом наклонился, взял за подбородок и, глядя мне прямо в глаза, произнес: – Твоя мама в полном порядке, понял?
Я молча смотрел на него, слезы продолжали катиться по щекам. Я ему не верил.
– Не знаю, кто это тебе сказал, что за подлая тварь осмелилась плести все эти небылицы и пугать ребенка, но, клянусь Богом, наша мама жива и чувствует себя замечательно.
– Но он… он сказал…
– Да мне плевать, что он там сказал. Я вернулся от Эвершема раньше, чем думал, просто выяснилось, что Билл никаких коров не продает, все это сплетни. Вот и подумал, пойду посмотрю, как там успехи у моего сыночка. Взял удочку, корзинку, а мама сделала нам пару бутербродов с джемом. Из свежевыпеченного хлеба, еще тепленького. Так что ровно полчаса тому назад она была в полном порядке, Гэри, и нет никаких причин думать иначе. Слово даю. Ничего страшного за эти последние полчаса с ней произойти не могло. – Он обернулся и взглянул на опушку. – Кто этот человек? И где он теперь? Найду гада и вышибу ему мозги!
За несколько секунд я передумал массу самых разных вещей, но одна все же превалировала над остальными: если папа повстречает того человека в черном костюме, то вряд ли удастся вышибить ему мозги. И целым от него папе не уйти, это точно.
Перед глазами у меня так и стояли эти бледные длинные пальцы с острыми желтоватыми когтями.
– Так где, Гэри?
– Не знаю, не помню, – ответил я.
– Там, где ручей разделяется надвое? У большого камня?
Я просто не мог солгать отцу, особенно когда он задавал вопрос в лоб, был не в силах солгать даже ради спасения его или моей жизни.
– Да, там. Но только не ходи туда, ладно, пап? – И я вцепился ему в руку. – Пожалуйста, не надо, не ходи! Это очень страшный человек! – Тут меня, что называется, осенило: – Кажется, у него есть ружье.
Отец задумчиво смотрел на меня.
– Может, то и не человек был вовсе, – произнес он после паузы, с особым нажимом на слово «человек» и слегка вопросительной интонацией. – Может, ты просто уснул, закинув удочку, и тебе приснился дурной сон. Ну, вроде того сна о Дэнни, прошлой зимой.
Прошлой зимой мне часто снились страшные сны о Дэнни. Особенно часто снилось, как я открываю дверь в чулан или в темный погреб, пропитанный кисловатым запахом сидра, и вижу, что он стоит там и смотрит прямо на меня. И лицо у него просто ужасное, все красное и распухшее. Тут я с криком просыпался и будил родителей. А ведь отец, наверное, прав. Я действительно ненадолго задремал, сидя на берегу ручья. Да, задремал, но потом проснулся, как раз незадолго перед тем, как человек в черном хлопнул в ладоши и пчела свалилась мне на колени мертвая. Однако тот человек снился мне совсем не так, как Дэнни, я был в этом совершенно уверен, хотя встреча с ним уже успела приобрести некоторый оттенок нереальности, как всегда бывает, когда сталкиваешься с чем-то сверхъестественным. Что ж, раз папа считает, что этот страшный человек существует лишь в моем воображении, тем лучше. Тем лучше для него.
– Наверное, так оно и было, – пробормотал я.
– Ладно. Тогда вернемся и найдем твою удочку. И корзинку.
И он уже двинулся к лесу, но тут я снова намертво вцепился ему в руку и стал тянуть назад.
– Потом! – воскликнул я. – Пожалуйста, не надо, не ходи туда, пап! Просто мне хочется поскорее увидеть маму. Убедиться, что она жива и здорова.
Он задумался на секунду, потом кивнул.
– Да, наверное, так будет лучше. Сперва заглянем домой, а уж потом, попозже, пойдем искать твою удочку.
Мы вместе двинулись к ферме. Отец шел, закинув свою длинную удочку на плечо, и оба мы жевали на ходу чудесные свежайшие ломти хлеба, щедро смазанные джемом из черной смородины.
– Что-нибудь поймал? – спросил отец, когда впереди показался амбар.
– Да, сэр, – ответил я. – Радужную форель. Довольно здоровую. – А та, первая, была куда как больше, подумал я, но решил этого не говорить. – Если честно, то более здоровой рыбины я просто раньше не видел. Но теперь ее у меня нет, папа, и показать тебе я не могу. Пришлось отдать тому человеку в черном костюме, чтоб он меня не сожрал. И знаешь, помогло… хоть и ненадолго.
– И все? Больше ничего?
– Да сразу задремал, как только поймал. – Не вся правда, но и не ложь тоже.
– Хорошо хоть удочку не потерял. Ты ведь не потерял ее, а, Гэри?
– Нет, сэр, – неуверенно ответил я. Лгать не хотелось, к тому же никак не удавалось придумать подходящее объяснение. Особенно если он твердо намерен отправиться на поиски пропавшей удочки, а по его лицу я сразу понял, что намерен.
Впереди показался Кэнди Билл. Он с пронзительным лаем стрелой вылетел из амбара и помчался навстречу нам, умудряясь вилять не только обрубком хвоста, но и всем задом, как делают только скотч-терьеры, когда донельзя возбуждены. И я, подгоняемый надеждой и тревогой одновременно, не выдержал. Вырвал руку у отца и помчался к дому, все еще в глубине души убежденный, что найду маму мертвой. Найду на полу в кухне, с безобразно распухшим пурпурным, как у Дэна, лицом, как тогда, когда отец принес его на руках с поля, плача и поминая имя Господа Бога всуе.
Но она стояла у разделочного столика, живая, здоровая и невредимая, и, мурлыкая под нос какую-то песенку, чистила бобы. Обернулась, взглянула на меня – сначала с удивлением, затем, заметив мои заплаканные глаза и бледное лицо, с тревогой.
– Что такое, Гэри, сынок? Что случилось?
Я не ответил. Подбежал к ней, начал обнимать и целовать. Тут вошел и отец. И сказал:
– Не волнуйся, Ло, все в порядке. Просто парень задремал у реки и ему приснился дурной сон.
– Бог даст, на этот раз последний, – сказала мама и еще крепче обняла меня. А Кэнди Билл танцевал у наших ног и заливался пронзительным лаем.
– Если не хочешь, можешь, конечно, со мной не ходить, Гэри, – сказал отец, хоть и говорил раньше, что пойти с ним я должен, просто обязан. Хотя бы для того, чтоб взглянуть в лицо собственным страхам. Единственный способ избавиться от них – так, во всяком случае, принято думать в нынешнее время. Рассуждать со стороны, конечно, хорошо и просто, но с момента моей встречи с тем ужасным человеком в черном костюме не прошло и двух часов, я до сих пор был убежден, что существо это вполне реальное. Но убедить в этом отца никак не получалось, что, впрочем, вполне объяснимо. Ну сами подумайте: легко ли девятилетнему мальчишке убедить отца, что он видел самого Дьявола, выходящего из леса в черном костюме?..
– Ладно, пошли, – сказал я. И выбежал из дома за ним следом, собрав все остатки мужества, хотя сердце снова ушло в пятки, и ноги отказывались идти. Догнал отца, и мы остановились во дворе, возле поленницы дров.
– Что это у тебя за спиной? – спросил он.
Я медленно вынул руку из-за спины. Я твердо вознамерился идти с отцом и решил подготовиться. При этом я от души надеялся, что человек в черном костюме, с ровным, как стрела, пробором прилизанных черных волос на голове, исчез. Но если не исчез… Короче, на этот случай я захватил с собой нашу семейную Библию. И медленно достал ее из-за спины. Сначала я хотел захватить Новый Завет, который получил в воскресной школе в награду за выученные наизусть псалмы (выучить удалось почти все, за исключением двадцать третьего, который ровно через неделю напрочь вылетел из головы). Но потом мне показалось, что этой маленькой красной книжицы недостаточно, чтоб отпугнуть самого Дьявола, пусть даже все изречения Иисуса выделены в ней красным шрифтом.
Отец взглянул на старую Библию, распухшую от вложенных в нее семейных документов и фотографий, и я уже подумал, что он сейчас велит мне отнести ее обратно в дом. Но этого не случилось. Он печально и сочувственно кивнул.
– Хорошо, – сказал он. – А мама знает, что ты ее взял?
– Нет, сэр.
Он снова кивнул.
– Тогда остается надеяться, она не хватится ее, пока мы не вернемся. Ладно, пошли. Но только смотри не потеряй.
Примерно полчаса спустя оба мы стояли на берегу, неподалеку от того места, где Кэстл Стрим раздваивался. Там, где я встретился с мужчиной с красно-оранжевыми глазами. Бамбуковая удочка нашлась – я подобрал ее под мостом и теперь держал в руке. Корзинка для рыбы валялась ниже, на камнях. Плетеная крышка была откинута. Довольно долго мы с отцом смотрели вниз, ни один из нас не произносил ни слова.
«Опал! Алмаз! Сапфир! Агат! Браслеты, ожерелья! Откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри!» Я вспомнил эти противные слова, вспомнил, как он, говоря их, откинулся на спину с диким хохотом – ну точь-в-точь как ребенок, вдруг обнаруживший, что у него достало храбрости произнести вслух неприличные сортирные словечки типа «писать» или «какать». Лужайка на склоне поросла густой и зеленой травой, как и положено лужайке в штате Мэн в начале июня… за исключением того места, где лежал мужчина в черном. Там вся трава выгорела и пожелтела, и на земле осталось пятно в форме человеческой фигуры.
Я снова посмотрел вниз, а потом заметил, что сжимаю нашу толстую старую семейную Библию так крепко, что пальцы даже побелели от напряжения. В точности так же сжимал в руках ивовый прут муж Мамы Свит Норвилль перед тем, как вонзить в землю, чтобы обнаружить подпочвенные воды и уже потом вырыть там колодец.
– Побудь здесь, – сказал отец и начал спускаться с берега к воде, соскальзывая и утопая подошвами башмаков в жирной почве и растопырив руки, чтобы не потерять равновесия. Я остался стоять на месте, продолжая сжимать Библию и чувствуя, как бешено колотится у меня сердце. Не знаю, ощущал ли я в тот момент, что кто-то наблюдает за нами. Был слишком напуган, чтобы ощущать что-либо, меня обуревало одно лишь желание – оказаться как можно дальше от этого проклятого места и леса.
Отец наклонился и стал принюхиваться к земле – в том месте, где выгорела трава. И скорчил брезгливую гримасу. Я знал почему – он учуял запах горелых спичек. Затем схватил мою корзинку и начал торопливо подниматься вверх по склону. Подошел ко мне, запыхавшись, затем бросил взгляд через плечо – убедиться, что там больше ничего не осталось. И протянул корзинку мне. Откинутая крышка болталась на двух маленьких кожаных петлях, на дне – ничего, кроме двух пучков травы.
– Ты вроде бы говорил, что поймал радужную форель, – сказал он. – Но, может, тебе и это приснилось?
И тут я вдруг страшно на него обиделся.
– Ничего подобного, сэр. Форель я поймал.
– Но не могла же она выпрыгнуть отсюда в выпотрошенном виде. И ведь ты не стал бы класть ее в корзину, предварительно не выпотрошив и не почистив, как я тебя учил, верно, Гэри? Учил я тебя или нет?
– Да, сэр, учили, но…
– Хорошо. Раз все это тебе не приснилось и она лежала в корзинке мертвая и выпотрошенная, тогда, наверное, кто-то пришел и съел ее, – сказал отец и снова настороженно покосился через плечо, точно услышал в лесу какие-то звуки. И я ничуть не удивился, что на лбу у него выступили крупные и прозрачные капли пота. – Ладно, пошли, – сказал он. – Надо сматываться отсюда к чертовой матери.
Я целиком и полностью поддерживал это его предложение. Мы быстро и в полном молчании зашагали обратно к мосту. Добравшись до него, отец опустился на одно колено и начал осматривать место, где нашел мою удочку. Там виднелось еще одно пятно выгоревшей травы и валялась дамская туфелька, вся почерневшая и скукожившаяся, точно ее опалило огнем. Я снова заглянул в корзинку.
– Должно быть, он вернулся и съел и вторую рыбу тоже, – сказал я.
Отец удивленно поднял на меня глаза.
– Вторую рыбу?
– Да, сэр. Я вам не сказал, но мне удалось поймать еще и ручейную форель. Очень большую. А тот парень, он был страшно голоден… – Я хотел рассказать ему все до конца, но слова так и застыли на языке.
Мы поднялись к мостику и помогли друг другу взобраться через перила на настил. Отец взял у меня из рук корзину, заглянул в нее, потом размахнулся и бросил ее в воду. Я подошел к перилам и увидел, как она поплыла, точно лодочка, постепенно погружаясь все глубже и глубже, по мере того как вода просачивалась сквозь щели между ивовыми прутьями.
– От нее воняло, – сказал отец, не глядя на меня и каким-то непривычным тоном, словно оправдывался. Прежде я никогда не слышал, чтобы он говорил вот так.
– Да, сэр.
– Скажем маме, что мы ее не нашли. Если спросит. А если не спросит, вообще ничего не будем говорить.
– Понял, сэр. Не будем.
И она не стала спрашивать, и мы ничего не сказали ей. Так уж оно получилось.
Эта история в лесу произошла со мной восемьдесят один год тому назад, и все эти годы я не думал и не вспоминал о случившемся… во всяком случае, в состоянии бодрствования. А что касается снов, не знаю, не уверен; да и потом, как и другие люди, я не слишком помню, что там мне снилось по ночам. Но теперь я стар, мне случается грезить наяву. Немощь одолевает меня, накатывает, точно волны, грозящие смыть замок из песка, который построил на берегу, а потом забросил ребенок. Одолевают и воспоминания, подкрадываются незаметно – и иногда вспоминаются строки из старой детской песенки: «Оставьте их в покое, / Тогда явятся сами, / Виляя и махая / Пушистыми хвостами». Помню блюда, которые я ел в детстве; игры, в которые играл; девочку, которую поцеловал в школьной раздевалке; мальчишек, с которыми дрался. Помню свою первую выпивку, первую выкуренную сигарету (то была набитая кукурузной соломкой самокрутка, и затягивались мы ею по очереди, спрятавшись за свинарником Дики Хэммера; потом меня вырвало). И все же из всех воспоминаний воспоминание о человеке в черном костюме самое сильное, яркое и глубокое – так и манит, так и дразнит, так и мучает переливчатым своим светом. Он был реален, он был настоящий, этот Дьявол, и в тот день мне просто повезло. Мне несказанно повезло, что я удрал от него. С каждым днем и годом во мне крепнет убеждение, что к избавлению от него приложила руку госпожа Удача. Всего лишь удача, а вовсе не вмешательство Господа Бога, которому я поклонялся и пел гимны всю свою жизнь.
Я лежу в постели, в своей комнате дома для престарелых, и тело мое напоминает разрушенный замок из песка. Лежу и твержу себе, что мне незачем бояться Дьявола. Я прожил долгую, честную, полную трудов жизнь, был добр к людям, и мне незачем бояться Дьявола. Потом напоминаю себе, что именно я, а не отец, заставил тем же летом маму вернуться в церковь. Впрочем, в темноте ночи все эти мысли кажутся не слишком утешительными и не слишком успокаивают. В темноте мне слышится голос, тот самый голос, что нашептывал девятилетнему мальчику разные ужасы и гадости. А подтекст все тот же: я не сделал в этой жизни ничего такого, что позволяло бы бояться Дьявола, и однако же Дьявол явился. В темноте я слышу, как голос становится все ниже, басистее, в нем появляются нечеловеческие нотки. «Большая рыба! – нашептывает он мне с нескрываемой жадностью, и перед этим голодным шепотом отступают все истины и моральные устои мира. – Бо-о-ольшая ры-ы-ыбина!»
Дьявол приходил ко мне давно, очень давно, но что, если он придет снова? Ведь теперь я слишком стар, и мне от него не убежать; я даже до ванной едва доползаю и не могу ходить без палки. И у меня нет большой форели, которую можно было бы скормить ему, отвлечь хотя бы на секунду-другую. Я стар и слаб, и моя корзинка пуста. Что, если он явится снова?
И что, если он будет голоден?
Мой любимый рассказ Натаниэля Готорна называется «Молодой Гудмен Браун». Считаю, что он входит в десятку лучших рассказов, написанных американскими писателями. «Человеком в черном костюме» я отдаю дань уважения этому произведению и его автору. Что же до частностей, то могу сказать следующее: как-то я разговорился с одним своим приятелем, и тот сказал, что его дед поведал ему одну странную историю. И что будто бы его дед верил – действительно верил, – что видел в лесу Дьявола, давно, еще в начале двадцатого века, когда дед моего знакомого был маленьким мальчиком. Дед рассказывал, что Дьявол вышел из леса и заговорил с ним, и выглядел вроде как обыкновенный человек. Но тут вдруг мальчик заметил, что у этого человека из леса красные, как огонь, глаза, и что от него пахнет серой. Тогда деду моего друга пришла в голову мысль, что если Дьявол поймет, что он раскусил его, то тут же убьет. Поэтому он продолжал болтать с ним, а затем, улучив удобный момент, просто удрал. Вот и получился у меня из этой истории рассказ. Писать его было не слишком весело, но я не сдавался. Дело в том, что порой рассказ так и просится, так и кричит диким голосом, чтобы его написали, и заткнуть ему глотку можно лишь одним путем – сесть и написать. Думаю, что конечный продукт мало чем отличается от навязших в зубах фольклорных историй, и уж конечно, до моего любимого рассказа Готорна ему далеко, как до звезды. И когда в «Нью-Йоркер» вдруг предложили опубликовать его, я был просто потрясен. А уж когда он получил первый приз на Конкурсе лучшего короткого рассказа имени О’Генри, я был просто убежден, что там что-то перепутали (что, впрочем, не помешало мне с благодарностью принять этот приз). И отзывы читателей были самыми положительными. Так что этот рассказ лишний раз свидетельствует о том, что зачастую писатели являются худшими судьями собственных произведений.
Все, что ты любил когда-то, ветром унесет
Это был «Мотель 6» на 80-й федеральной автостраде, что к западу от Линкольна, штат Небраска. В январе темнело рано, и снегопад, начавшийся еще в середине дня, придавал теперь ядовито-желтой неоновой вывеске более мягкий, пастельный оттенок. А ветер усиливался и, казалось, дул сразу со всех сторон – так зимой бывает только на плоских равнинных пространствах. Пока что это означало лишь некоторый дискомфорт, но если ночью выпадет много снега – метеослужбы, похоже, не определились окончательно, – то к утру федеральную автостраду попросту закроют. Но Альфи Зиммеру было плевать.
Он получил ключ от служащего в красной жилетке, снова забрался в машину и поехал вдоль длинного здания, слепленного из ряда выстроившихся бок о бок пепельно-серых блочных домиков. Он торговал на Среднем Западе вот уже двадцать лет и выработал четыре основных и неукоснительных правила по поводу выбора пристанища на ночь. Первое: всегда резервируй номер заранее. Второе: старайся по возможности зарезервировать место в мотеле с лицензией от крупной компании, занимающейся гостиничным бизнесом, к примеру, в системе «Холидей Инн», «Рамада Инн», «Комфорт Инн», на крайний случай вполне сгодится и «Мотель 6». Третье: всегда выбирай комнату в самом конце. Тогда по крайней мере у тебя будут только одни шумные соседи. И наконец, последнее. Проси комнату под номером, начинающимся с единицы. Альфи было сорок четыре – слишком стар, чтобы трахать придорожных шлюх, есть на ужин гамбургер с куриным мясом или таскать свой багаж наверх. В наши дни номера на первом этаже отводятся обычно для некурящих. Альфи вселялся в номер на первом этаже и курил.
Парковка перед номером 190 была занята. Вообще вокруг здания все места для парковки оказались заняты. Но Альфи это ничуть не удивило. Можно зарезервировать номер, получить все необходимые гарантии, но если приехать поздно (в такой день, как сегодня, поздно начиналось с четырех часов дня), то придется оставить машину и идти пешком. Автомобили, принадлежащие ранним пташкам, уже угнездились на подходе к длинной серой постройке; длинный ряд ярко-желтых дверей, окна покрыты инеем.
Альфи свернул за угол постройки и запарковал свой «шевроле» так, что нос его смотрел на огромное белое поле, принадлежавшее какому-то фермеру. Тянулось оно, казалось, бесконечно и таяло в сгущающихся сумерках на горизонте. Вдали поблескивали огоньки фермы. Несладко им там, должно быть, приходится зимой. Да и здесь тоже не сахар – ветер дул с такой силой, что того и гляди перевернет машину. Он нес с собой снежные заряды. Огоньки фермы то и дело исчезали из виду.
Альфи был крупным мужчиной с цветущим лицом и сиплым дыханием курильщика. Он носил пальто, потому что, когда работаешь коммивояжером, люди предпочитают видеть тебя в пальто, а не в какой-то там легкомысленной куртке или пиджаке. Оптовики продают товар людям в пиджаках и шляпах a-ля Джон Дир[19 - Джон Дир (1804–1887) – американский изобретатель и промышленник, в 1837 году изобрел новый тип плуга.], но никогда и ничего у них не покупают. Ключ от комнаты лежал на сиденье рядом. К нему был прицеплен брелок в виде большого камня из зеленого пластика. Ключ был настоящий, нормальный, не какая-то там жалкая картонка от фирмы «МагКард». Клинт Блэк пел по радио «Лишь хвостовые огни вдали». Песенка в стиле кантри. Теперь в Линкольне есть своя радиостанция, работающая на частоте FM, и на этой частоте передают исключительно рок-н-ролл и еще тяжелый рок, но Альфи никогда не был поклонником такого рода музыки. Тем более здесь и сейчас. К чему все это, когда можно спокойно переключиться на длинноволновую частоту и услышать, как рассерженный чернокожий старик ниспосылает на головы грешников адское проклятие.
Он выключил мотор, сунул ключ от номера 190 в пальто, потом ощупал карман, желая убедиться, что записная книжка на месте. Она была на месте, старая добрая его подружка. «Спасай евреев из России, – напомнил он себе. – Получишь ценные призы».
Альфи вылез из машины, и тут ему прямо в лицо резко и больно ударил порыв ветра. Его даже качнуло назад, а широкие брючины заполоскались вокруг ног. Но Альфи выдержал удар, лишь хохотнул удивленным и скрипучим смехом заядлого курильщика.
Образцы товаров лежали в багажнике, но сегодня они ему не понадобятся. Нет, сегодня они ему совсем ни к чему. Он взял с заднего сиденья портфель и чемодан, захлопнул дверь, затем надавил на черную кнопку пульта. Она запирала все двери машины сразу. Красная включала сигнализацию. Ею пользовались, когда существовала вероятность ограбления. Но Альфи никогда не грабили. Он подозревал, что это относилось и ко всем остальным немногочисленным торговцам деликатесными продуктами, особенно здесь, в этих краях. Вы можете не поверить, но рынок деликатесных продуктов существовал в Небраске, Айове, Оклахоме и Канзасе, даже в Дакоте. И Альфи вполне преуспевал, особенно последние два года, хоть и понимал: сфера его деятельности куда как уже, чем, допустим, тот же рынок удобрений. Даже сейчас ветер, леденящий его щеки, приносил с заснеженных полей запах удобрений. А щеки у Альфи раскраснелись еще больше и приобрели свекольный оттенок.
Он постоял у машины еще с полминуты, ожидая, когда уляжется ветер. И вот он стих, и вдалеке снова замерцали огоньки. Ферма. Возможно, там, в этом доме, жена фермера как раз подогревает сейчас кастрюлю с «Фасолевым супом» марки «Дачник»? Или же ставит в микроволновку «Пастуший пирог» или «Цыплят по-французски»? Возможно. Еще как возможно, черт побери!.. А ее муж, скинув башмаки и поставив ноги в толстых носках на пуфик, смотрит первый выпуск вечерних новостей. А наверху, на втором этаже, их сын играет в какую-нибудь видеоигру, а дочь нежится в этот момент в ванной, до подбородка погрузившись в ароматную пену. Волосы у нее подхвачены на затылке ленточкой, и она читает «Золотой компас» Филипа Пульмана или же одну из книжек про Гарри Поттера, которыми так увлекалась дочь Альфи Карлин. Все, что происходило там, вдали, где мерцали огоньки, было понятно и близко сердцу Альфи, хоть его отделяли от этого уютного семейного гнездышка добрые полторы мили белого заснеженного поля, убегающего вдаль под низко нависшим серым коматозным небом. И Альфи очень живо представил, как шагает по этому полю в городских туфлях, с портфелем в одной руке и чемоданом в другой, пробирается через заносы, поминутно проваливается в сугробы, оскальзывается и вот, наконец, добирается до двери и стучит. Дверь тут же распахивается, и в ноздри ему ударяет запах фасолевого супа, такой густой, ароматный, такой домашний. И он слышит доносящийся из соседней комнаты голос метеоролога, вещающего по ТВ: «А теперь взглянем на этот циклон, область низкого давления, что надвигается на нас со стороны Скалистых гор».
Но что скажет он, Альфи, жене фермера? Что просто заглянул к ним на обед? Посоветует ей спасать евреев из России и получать ценные призы? Начнет ли разговор со следующих слов: «Знаете, мэм, буквально на днях узнал из одного источника, что то, что ты любил когда-то, ветром унесет»? А что, очень даже неплохое начало для беседы и уж наверняка заинтригует жену фермера, особенно если она услышит эти слова от странника, прошагавшего через огромное заснеженное поле, чтобы постучаться к ним в дверь. И когда она пригласит его войти, он наговорит ей еще целую кучу разных разностей, потом откроет портфель и продемонстрирует пару каталогов с образцами товара. И скажет, что раз она уже открыла для себя все прелести замороженных продуктов «Дачник», возможно, ей стоит перейти на новую высшую ступень и ознакомиться с более утонченными прелестями продуктов фирмы «Моя матушка»? И кстати, как она относится к икре? Многим очень нравится. Даже здесь, в Небраске.
Боже, до чего же холодно! Простоишь здесь еще секунду и вконец окоченеешь.
Он повернулся спиной к полю и мерцающим вдалеке огонькам и зашагал к мотелю, слегка враскоряку, мелкими утиными шажками, чтобы, не дай бог, не грохнуться на льду. Ему доводилось проделывать это и прежде, Господь свидетель. Оп-па! Черт его знает сколько раз, на полусотне стоянок у мотелей. И ничего, обходилось, до сих пор жив и здоров.
Вдоль дверей тянулся навес, тут снега было немного. Он вошел. Автомат по продаже кока-колы с табличкой «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МОНЕТЫ УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ ДОСТОИНСТВА». Автомат по продаже мороженого, автомат по продаже плиточного шоколада и пакетиков с чипсами, виднеющихся за стеклянной панелью, среди металлических пружин. На последнем автомате таблички с надписью «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МОНЕТЫ УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ ДОСТОИНСТВА» не было. Из номера, соседнего с тем, где Альфи собирался свести счеты с жизнью, доносился голос диктора, ведущего первый выпуск вечерних новостей. Но Альфи почему-то был уверен, что там, через поле, в фермерском доме, звук у телевизора лучше. На улице гудел и завывал ветер, Альфи потопал, сбивая снег с туфель, и вошел в номер. Выключатель находился справа. Он включил свет и захлопнул за собой дверь.
Он знал эту комнату вдоль и поперек. Не комната, а мечта коммивояжера. Квадратная. Стены белые. На одной картина: маленький мальчик в соломенной шляпе задремал с удочкой в руках на берегу реки. На полу зеленый коврик из какой-то узловатой синтетической ткани. Пока что в комнате холодно, но если включить калорифер под окном, прогреется она быстро. Даже, может, еще и жарко будет. Вдоль стены тянулся столик-прилавок. На нем стоял телевизор. На телевизоре карточка с надписью «ВИДЕОФИЛЬМЫ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ!».
Две двуспальные кровати, на каждой – ярко-золотистое покрывало, подвернутое под подушку, а потом натянутое на нее; так что каждая подушка напоминала трупик младенца. Между кроватями размещался столик. На нем лежала Библия издательства «Гидеон», телевизионная программа на неделю, а также телесного цвета телефонный аппарат. За второй кроватью виднелась дверь в ванную. Стоило включить там свет, как тут же, автоматически, включался фен. Короче, если вам нужен был свет, вы получали и работающий фен в придачу. Иначе никак. Свет флюоресцентный, внутри голубоватых стеклянных трубочек просматривались засохшие трупики мух. На полочке рядом с раковиной электрочайник фирмы «Проктор-Сайлекс», а также коробочка с пакетиками растворимого кофе. И еще здесь стоял специфический запах. Резко и кисло пахло каким-то моющим средством, а шторка в душе попахивала плесенью. О, как же хорошо знакомо было это все Альфи! Даже снилось по ночам, каждая мелочь и деталь, вплоть до зеленого коврика на полу, но никакого продолжения этот сон не имел, хоть и кошмаром, пожалуй, назвать его было нельзя. Он хотел было включить калорифер, но тут же раздумал. Будет тарахтеть и щелкать, да и какой смысл?..
Альфи расстегнул пальто, потом поставил чемодан на пол, рядом с кроватью, той, что ближе к ванной. Опустил портфель на золотистое покрывало. И тяжело сел, при этом полы его пальто распахнулись и стали походить на раскинутую юбку дамского платья. Затем он открыл портфель, пошарил среди брошюр, каталогов и бланков заказов. И извлек на свет божий свою пушку. Револьвер «смит-вессон» 38-го калибра. Он положил его на подушку в изголовье кровати.
Закурил сигарету, потянулся к телефону, но тут вспомнил про записную книжку. Сунул руку в правый карман пальто и достал ее. Книжка была старенькая и довольно истрепанная, странички едва держались на спирали, а куплена она была за один бакс и сорок девять центов в каком-то заплеванном магазинчике на окраине то ли Омахи, то ли Сиу-Сити, а может, даже в городке под названием Джубили, штат Канзас. Обложка засаленная, все буквы на ней стерлись, что там было прежде написано, уже не разобрать. Некоторые странички почти совсем оторвались от спирали, но ни одна не затерялась. Альфи постоянно носил эту книжку с собой, вот уже лет семь, еще с тех времен, когда торговал универсальными считывателями кодов фирмы «Симонекс».
На столике рядом с телефоном стояла пепельница. Здесь, в глубинке, администрация до сих пор исправно снабжает пепельницами все номера мотелей, даже для некурящих. Альфи придвинул пепельницу к себе, положил недокуренную сигарету в желобок и открыл записную книжку. Начал перелистывать странички, исписанные сотней разноцветных шариковых ручек (и несколькими карандашами). Время от времени останавливался и читал очередное изречение. К примеру, одно из них гласило: «Я сосал член Джима Моррисона своими пухлыми мальчишескими губками» (ЛОУРЕНС КАНЗ.). Туалеты дешевых гостиниц и мотелей просто пестрят граффити на гомосексуальную тему, по большей части однообразными и неинтересными, но «пухлые мальчишеские губки» – в этом определенно что-то было. Надпись ниже гласила: «Альберт Гор – пидер и вор!»
Три четверти книжки были уже исписаны, на последней странице красовались два изречения: «Не жуй „Троянскую“ ты жвачку, похожа будешь на мудачку» (ЭЙВОКА АЙОВА). И вот еще: «Здесь я сидел и долго плакал, что мало ел, но много какал» (ПАПИЙОН НЕБР). Альфи был просто без ума от этого последнего перла. Какая совершенная форма изложения, какая безупречная рифма! Какой трагизм самой ситуации! Так и видишь перед собой эту трогательную картину. И потом, если разобраться, в самой этой ситуации нет ничего смешного. Человек мало ел, разве это не прискорбно? Но игривость изложения, некая скрытая ухмылочка над самим собой все равно остается. И Альфи казалось, что здесь чувствуется вызов обществу, эдакий бунтарский дух, присущий поэзии э.э. каммингса[20 - Э.э. каммингс – Каммингс Эдуард Эстлин (1894–1962) – американский поэт, во многом близкий европейским футуристам. Отвергал конформизм, снобизм и несвободу людей. Отказался от многих грамматических норм, знаков препинания, заглавных букв, в том числе в написании собственного имени.].
Альфи пошарил во внутреннем кармане пальто. Нащупал там какие-то бумажки, счет за междугородный телефонный разговор, пузырек с таблетками – он их принимал – и вот, наконец, нашел перьевую авторучку, которая вечно норовила спрятаться от него в каком-то хламе. Самое время записать сегодняшние поступления. Оба изречения, вполне симпатичные, были почерпнуты им в мотелях одного и того же района. Первое было выведено над бачком туалета, которым он пользовался; второе выцарапано каким-то острым предметом рядом с автоматом «Хэв-э-Байт» по торговле шоколадками и закусками (фирма «Снэкс», по мнению Альфи, торговала куда лучшими продуктами, нежели «Хэв-э-Байт», но по некой неизвестной ему причине года четыре назад лишилась лицензии на поставку автоматов в районах, прилегающих к 80-й автостраде федерального значения). Сегодня Альфи мог находиться в разъездах две недели кряду и преодолеть три тысячи миль, так и не увидев ничего новенького, даже достойная вариация на старую тему попадалась редко. А тут сразу две за один день. Две в последний его день. Прямо как знак свыше.
На ручке рядом с логотипом фирмы (хижина под тростниковой кровлей, из кривой трубы вьется дымок) было выведено золотыми буквами: ПРОДУКТЫ «ДАЧНИК» – ХОРОШАЯ ШТУКА!
Сидя на кровати, все еще в пальто, Альфи прилежно склонился над старенькой записной книжкой, пристроился так, чтобы тень от головы не падала на страницу. И написал под «Не жуй „Троянскую“ ты жвачку» и «Я здесь сидел и долго плакал» следующее: «Спасай евреев из России, получишь ценные призы» (УОЛТОН НЕБ.) и «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет» (УОЛТОН НЕБ.). Потом ручка нерешительно зависла над бумагой. Он редко добавлял комментарии, всегда стремился к тому, чтобы каждое изречение красовалось на отдельной страничке. Нет, конечно, объяснения придавали определенную экзотику (так, во всяком случае, ему казалось; в ранние годы, начав собирать «перлы», он куда охотнее сопровождал их пространными примечаниями), и порой они казались даже более занятными, чем само изречение, но особой ясности не вносили.
Он смотрел на второе: «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет» (УОЛТОН НЕБ.), потом провел внизу две жирные линии и…
И сунул ручку обратно в карман, задаваясь одной простой мыслью: к чему ему или же кому-то другому продолжать все это, раз так или иначе конец один? Ответа на вопрос не было. Нет, конечно, ты все еще дышишь, а стало быть, пока тебе не конец. И без грубого хирургического вмешательства тут не обойтись.
На улице завывал ветер. Альфи покосился в сторону окна за задернутой занавеской (тоже зеленая, только немножко другого тона, чем ковер). Если отодвинуть ее, станет видна цепочка огоньков, ползущих по 80-й автостраде федерального значения, и каждая эта яркая бусинка отмечает место, где находится в пути живое, думающее и чувствующее человеческое существо. Потом он снова перевел взгляд на записную книжку. Нет, он твердо намерен осуществить задуманное. Это было… это было просто мгновение…
– Я просто дышал, – произнес он вслух и улыбнулся. Взял из пепельницы сигарету, глубоко затянулся, потом вернул ее в желобок пепельницы и снова принялся перелистывать записную книжку. При взгляде на эти записи вспоминались тысячи придорожных стоянок, закусочных, торгующих жареными цыплятами, дешевых мотелей. В точности так же какая-нибудь песенка, случайно услышанная по радио, вдруг со всей ясностью и остротой позволит вспомнить место, где ты ее слышал, человека, с которым тогда был, напомнит, что тогда пили, о чем говорили и думали.
«Вот сижу я на толчке и гляжу я букою, не получится покакать, от души попукаю». Все знают это популярнейшее изречение, но под ним красовалась еще более занимательная, даже философская его вариация, обнаруженная Альфи в закусочной «Дабл Д Стикс» в Хукере, штат Оклахома: «Вот сижу я на толчке с мордой перекошенной. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Ничего хорошего!» А вот еще, из Кейси, штат Айова, со стоянки, где шоссе 25 пересекалось с 80-й федеральной автострадой: «Это мать сделала меня шлюхой». Ниже другим, более твердым мужским почерком было приписано: «Черкни адресок, пусть спроворит мне еще одну».
Он начал коллекционировать их, когда торговал универсальными считывателями кодов, просто переписывал граффити в книжку на спиральке, даже не задумываясь, зачем он это делает. Попадались смешные, неприличные, просто похабные, а также совершенно непонятные, порой ставящие в тупик. И вот мало-помалу он начал попадать под своеобразное обаяние этих посланий с автомагистралей, где единственным средством общения между людьми были мигающие огоньки фар под дождем. Нет, иногда еще водитель, пребывающий в скверном настроении, мог соорудить тебе кукиш или сделать неприличный жест рукой, если показалось, что ты его подрезал. Он постепенно начал входить во вкус, начал понимать – или только казалось? – что в этом что-то есть. В веселой песенке от э.э. каммингса «Я здесь сидел и долго плакал, что много ел и мало какал», или же, к примеру, в пышущем трагизмом и яростью следующем изречении: «1380 Вест-авеню, убей мою мать, ЗАБЕРИ ЕЕ ЦАЦКИ» – во всем этом явно что-то есть.
Или вот эта, уже старенькая: «Вот сижу я на толчке и готовлюсь к бою, просто я родить хочу техасского ковбоя». Написана ямбом, правда, в конце есть сбой в размере, но это не суть важно и не смертельно. Скорее даже напротив – сбой придает пикантности, оттенок эдакого залихватского выверта незамысловатому шедевру. Альфи не раз подумывал, что неплохо было бы поступить в какой-нибудь колледж или на курсы и вызубрить назубок все эти рифмы, размеры и прочую мутоту. Надо твердо знать, с чем имеет дело, когда попадается новое любопытное изречение, а не блуждать во мраке собственного невежества, руководствуясь лишь интуицией. Но со школьной скамьи почему-то запомнился лишь пятистопный ямб: «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Некогда в мужском туалете на 70-й автостраде федерального значения он увидел выцарапанные на стене знаменитые строки Шекспира, под которыми кто-то приписал карандашом: «Вопрос не в том. Вопрос в том, откуда берутся такие кретины, урод!»
Ну взять, к примеру, хотя бы эти триплеты. Как их правильно называть? Хореические, что ли?.. Он не знал. Но факт, что он так никогда этого и не узнает, уже не казался столь важным. Хотя если захотеть… да, конечно, можно узнать. Другие люди смогли этому научиться, так что не такая уж это и трудность.
Или эта вариация, Альфи она попадалась в самых разных уголках страны. «Здесь сижу и не тужу, море по колено, поднатужусь и рожу десантника из Мэна». И всегда почему-то Мэн, не важно, в каком штате ты оказался, вечно этот десантник из Мэна! Интересно, почему?.. Наверное, просто потому, что названия всех остальных штатов длиннее и не вписываются в размер. Мэн – единственный из пятидесяти штатов, который состоит всего из одного слога. «Здесь сижу и не тужу…»
Он не раз подумывал, что неплохо было бы написать книгу. Совсем небольшую такую книжечку. И сначала даже хотел назвать ее «Глаз не поднимать, иначе описаешь туфли», но и ослу понятно, что так книгу называть нельзя. Просто нельзя, особенно если надеешься увидеть ее на прилавках магазинов. Кроме того, как-то легкомысленно. Несерьезно. За семь лет он успел убедиться, что в этих изречениях явно что-то есть, что подходить к ним следует со всей серьезностью. Наконец он остановился на адаптации некогда увиденного им в туалете, в мотеле на окраине Форт Скотт, штат Канзас, изречения: «Я убил Теда Банди: Тайны транзитного кода американских автострад». Автор: Альфред Зиммер. Звучало таинственно и многозначительно, даже как-то наукообразно. Однако он так и не сделал этого. Не написал книги. И хотя по всей стране видел приписанные к «Это мать сделала меня шлюхой» строки: «Черкни адресок, пусть спроворит мне еще одну», – ни разу даже не попытался истолковать (по крайней мере в письменном виде) поразительное отсутствие сострадания к девушке, которую мать сделала шлюхой, прямой и слишком уж «деловой» подход к проблеме в целом, чем так и сквозила приписка. Или вот эта: «Мамона – царь Нью-Джерси». Как и чем можно объяснить, что именно название штата, Нью-Джерси, делает высказывание смешным, а если заменить его названием какого-то другого штата, смешно уже не будет?.. Даже и пытаться не стоит, бесполезно. Ведь, в конечном счете, кто он такой? Всего лишь маленький человечек. Маленький человечек, и работа у него соответствующая. Он мелкий торговец. В настоящее время торгует замороженными продуктами.
А уж тем более теперь… теперь…
Альфи еще раз глубоко затянулся сигаретой, раздавил окурок в пепельнице и набрал номер своего домашнего телефона. Он не ожидал застать Майру, так и оказалось, ее дома не было. Ответил его собственный, записанный на автоответчик голос. В конце – телефон мобильника. Что теперь толку от этого мобильника, лежит сломанный в багажнике «шевроле». С аппаратурой ему никогда не везло, вечно ломалась.
После гудка он заговорил в трубку: «Привет, это я. Я в Линкольне. Здесь идет снег. Не забудь передать моей маме кастрюлю из жаропрочного материала. Она ждет. И еще она просила этикетки от „Ред Булл“. Тебе смешно, а для нее занятие. Она же старенькая, так что отнеси ей, доставь удовольствие, о’кей? Скажи Карлин, что папа передает ей привет. – Тут он сделал паузу, а затем впервые за пять лет добавил: – Я люблю тебя».
Альфи положил трубку, потом подумал, не выкурить ли еще сигаретку – на рак легких плевать, теперь это не важно, – но затем решил, что все же не стоит. Положил записную книжку, открытую на последней странице, рядом с телефоном. Взял револьвер и крутанул барабан. Заряжен, полностью. Затем легким движением пальца спустил с предохранителя, взвел курок и сунул дуло в рот. Почувствовал вкус металла и смазки. Подумал: «Вот сижу я на толчке с мордой перекошенной». И усмехнулся, не выпуская дула изо рта. Это ужасно. Не следовало записывать этого в книжку.
Тут вдруг в голову пришла другая мысль, он вынул дуло изо рта и положил револьвер в ложбинку на подушке. Придвинул к себе телефон и снова набрал домашний номер. И снова услышал свой голос по автоответчику, а когда закончился номер мобильника, бросил в трубку: «Это опять я. Не забудь, Рэмбо на завтра назначено к ветеринару. И не забывай давать ему на ночь сухарики с морской капустой, о’кей? Она очень полезна для костей. Пока».
Он опустил трубку и снова взял револьвер. Но не успел вставить дуло в рот – глаза заметили книжку. Открыта на последней странице, и там целых четыре новых поступления. Первое, что заметят вошедшие сюда после выстрела люди, – тело, распростертое поперек кровати, той, что ближе к двери в ванную, голова свисает, на зеленом узлистом ковре лужа крови. Второе, что они непременно заметят, – записную книжку с потрепанными листками на спиральке, открытую на последней странице.
Альфи представил себе копа, эдакого простоватого провинциального парня из Небраски. Такой никогда и ни за что не будет писать на стенках туалетов – воспитание и дисциплина не позволят. И вот он увидит последнюю страничку, прочтет последние изречения, а возможно, даже примется перелистывать книжку кончиком авторучки. И прочтет первые три: «Троянская жвачка», «Я здесь сидел и долго плакал», а также «Спаси евреев из России». И придет в ужас или просто сочтет все это бредом сумасшедшего. А потом прочтет и последнюю строчку: «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». И решит, что покойник, должно быть, лишь в самом конце жизни обрел толику здравого смысла, которого ему хватило, чтобы сочинить подобие предсмертной записки.
Последнее, чего хотелось Альфи, так это чтоб кто-то счел его сумасшедшим (при дальнейшем просмотре книжки может обнаружиться, к примеру, информация, что «Меджер Иверс жив, здоров и в Диснейленде», она лишь подтвердила бы подозрения на этот счет). Сумасшедшим он не был, да и изречения, собранные здесь за долгие годы, тоже не свидетельствовали о безумии. Он был просто убежден в этом. А если даже и ошибался, если все написанное здесь казалось полным бредом, все же, пожалуй, стоило приглядеться повнимательнее. Взять, к примеру, хотя бы запись «Глаз не поднимать, иначе описаешь туфли», это что, юмор? А может, вопль отчаяния?..
Секунду-другую он размышлял над тем, что, может, лучше вообще взять проклятую записную книжку и спустить в унитаз. Но затем покачал головой. В результате он будет сидеть рядом с унитазом на корточках и, засучив рукава, выуживать эту чертову книжку. А фен будет гудеть, и над головой будет мигать флюоресцентная лампа. И хоть частично чернила расплывутся, все записи не сотрутся, это ясно. Так что проку почти никакого. Кроме того, эта записная книжка была с ним так долго, проехала в его кармане столько миль по безлюдным просторам Среднего Запада. Ему просто претила мысль, что придется выуживать ее из унитаза.
Может, тогда только последнюю страничку? Да, конечно, вырвать эту последнюю страничку, скатать в шарик, бросить в унитаз и спустить воду. Но как же тогда с остальными записями? Они (всегда эти «они») неизбежно обнаружат их, все эти свидетельства его нездоровой психики. И скажут: «Еще повезло, что этот типчик не зашел куда-нибудь на школьный двор с автоматом Калашникова. И не прихватил с собой на тот свет целую толпу ребятишек». И тогда это будет преследовать Майру, точно консервная жестянка, привязанная к хвосту собаки. «Слыхали, что произошло с ее мужем? – станут говорить люди где-нибудь в супермаркете. – Покончил с собой в мотеле. И оставил книжку с какими-то бредовыми записями. Еще слава Богу, что ее не пришил». Ладно, это еще куда ни шло, это можно пережить. В конце концов Майра взрослая женщина. А вот Карлин… с Карлин, конечно, сложнее. Потому что Карлин сейчас…
Альфи взглянул на часы. Где сейчас Карлин? Ах, ну да, конечно, Карлин сейчас на баскетбольном матче школьной юниорской команды. И ее подружки по команде будут говорить то же самое, что и дамочки в супермаркете, только уже где-нибудь в раздевалке, и все эти разговоры будут сопровождаться мерзкими и ехидными девчоночьими смешками. А в глазах – ужас и радостное возбуждение одновременно. Разве это честно по отношению к ребенку? Нет, конечно, нет, но ведь и с ним тоже жизнь поступила несправедливо. Иногда, проезжая по шоссе, видишь сваленные вдоль обочины старые и рваные резиновые покрышки. Вот как он чувствовал себя сейчас – старой, никому не нужной, выброшенной покрышкой. А от таблеток становилось еще хуже. Они лишь просветляли сознание, и ты с еще большей ясностью и отчетливостью начинал понимать, в какое жуткое дерьмо угодил.
– И все равно я не сумасшедший, – произнес он вслух. – Все это вовсе не означает, что я сумасшедший.
Нет. Но, может, быть сумасшедшим даже лучше.
Альфи снова взял записную книжку, быстро перелистал ее, примерно тем же жестом, каким крутанул барабан револьвера. А потом довольно долго сидел, похлопывая книжкой по колену. Нет, это просто нелепо, смехотворно!
Смехотворно или нет, но это почему-то мучило его. Как мучила, к примеру, мысль, что газовая горелка на плите, возможно, осталась включенной (это когда он бывал дома). И он лежал в постели и маялся этой мыслью, а потом не выдерживал, вставал и шел на кухню проверить, и плита всегда оказывалась холодной. Только это еще хуже, чем с плитой. Потому что ему страшно нравились эти записи в книжке. Он их любил. И все последние годы настоящей его работой было именно собирательство всех этих поразительных граффити – это надо же, слово какое, граффити! – а вовсе не торговля универсальными считывателями кодов или замороженными продуктами, которые, если сунуть их в хорошую современную микроволновку, мало чем отличались от продуктов фирмы «Свенсонс» или же «Фризер Квинс». Взять, к примеру, хотя бы вот это, отчаянно откровенное и будоражащее воображение заявление: «Хелен Келлер трахает ротвейлер». И при всем при том, когда он умрет, книжка кого угодно может ввергнуть в недоумение. Все равно что случайно задохнуться в гардеробе, экспериментируя с новым, особо изощренным способом мастурбации, где тебя найдут со спущенными трусами да еще обкакавшегося. А может, часть записей из книжки опубликуют в какой-нибудь газетенке, под его снимком? В старые добрые времена такая мысль и в голову не пришла бы, зато теперь, в наши дни, когда вполне солидные газеты запросто рассуждают о родинке на пенисе самого президента, идея выглядит не столь уж и абсурдной.
Сжечь ее тогда, что ли? Не получится – в номере автоматически включится это треклятое противопожарное устройство.
Или спрятать за картинкой на стене? Картинкой, на которой изображен маленький мальчик в соломенной шляпе и с удочкой?
Альфи задумался, потом кивнул. А что, идея совсем недурна. Там записная книжка может пробыть годы, никто ее не заметит и не найдет. А потом, в каком-то отдаленном будущем, она сама выпадет из-под картины на пол. И кто-то – постоялец, но скорей всего все же горничная – подберет ее, сгорая от любопытства. И начнет перелистывать. И какова же будет реакция? Шок? Смех? Растерянность и недоумение? Альфи надеялся на последнее. Потому что эти записи в книжке способны поставить в тупик кого угодно. «Элвис убил Большую Киску», написал какой-то тип из Хэкберри, штат Техас. «Безмятежность – это квадрат», написал кто-то в Рэпид-Сити, Южная Дакота. А ниже кто-то другой приписал следующее: «Да нет, глупенький, безмятежность = (va)
+ b, где v = безмятежность, а = удовлетворение и b = сексуальная совместимость».
Так, значит, за картину.
И Альфи уже находился на полпути к ней, как вдруг вспомнил о таблетках в кармане пальто. А в бардачке машины лежали еще, другие, но от той же хворобы. Таблетки эти выписывали только по рецепту. Но они вовсе не принадлежали к разряду снадобий, которыми потчует тебя врач, когда ты… ну, скажем, немного на взводе. Так что копы наверняка будут обыскивать комнату в поисках других таблеток и непременно заглянут под картину, а из-под нее выпадет на зеленый ковер записная книжка. И тогда все будет выглядеть еще хуже, во всяком случае, гораздо подозрительнее, поскольку они сразу поймут, что сумасшедший прятал свидетельство своего безумия.
И примут последние строчки за предсмертную записку, хотя бы просто потому, что они последние. Не важно, где он оставит или спрячет книжку, так оно и будет. Точно и наверняка, как палка в задницу этой гребаной Америке – так написал некий неизвестный ему лирик из Восточного Техаса.
– Если, конечно, они ее найдут, – пробормотал он. И тут его осенило.
Снег валил все гуще, ветер усилился, и огоньков, мерцавших на дальнем конце поля, видно не было. Альфи стоял на краю парковки рядом со своим заваленным снегом автомобилем, полы широкого пальто бешено трепал ветер. Наверняка на ферме все они уже уселись смотреть телевизор. Всей своей хреновой семейкой. Если, конечно, тарелку спутниковой антенны не снесло с крыши амбара. А дома у него жена с дочерью, должно быть, уже вернулись с баскетбольного матча. Майра и Карлин жили в мире, имеющем мало общего с автострадами федерального значения, с заведениями «фаст-фуд», выросшими вдоль обочин, точно грибы после дождя, а также со свистом проносящихся мимо тебя на скорости семьдесят, восемьдесят, а то и все девяносто миль в час автофургонов и трейлеров. Нет, он не то чтобы жалуется (да и потом это совсем не в его характере). Нет, он просто констатирует факт. «Здесь никого, даже если кто-то и есть», написал некто в Чок Левел, штат Миссури, на стене деревянного уличного сортира. А иногда он видел в ванных мотелей кровь, правда, в небольших количествах. Хотя, извините, однажды он видел под раковиной со стальным исцарапанным зеркалом грязный обшарпанный тазик, наполовину заполненный кровью. Неужели никто до него не заметил? А если заметил, почему не сообщил куда следует? Или сообщать о таких находках тут было не принято?..
И еще в некоторых мотелях беспрестанно передавали по радио прогноз погоды, и голос диктора казался Альфи каким-то нереальным, призрачным. Голос привидения, с трудом пробивающийся через голосовые связки трупа. В Кэнди, штат Канзас, в платном сортире на шоссе 283 кто-то написал: «Ку-ку! Стою у двери и стучу». А ниже красовалась приписка: «Если ты не из компании ассенизаторов, пошел прочь, паршивец и педераст!»
Альфи стоял на краю тротуара и даже задыхался немного – уж больно холоден и насыщен снегом был воздух. Стоял и сжимал в левой руке записную книжку – так крепко, что она согнулась пополам. Уничтожать ее нет никакого смысла. Он просто забросит ее на поле фермера, здесь, на окраине Линкольна, забросит как можно дальше от дороги. И в этом ему поможет ветер. Книжка может пролететь футов двадцать, а там ветер подхватит ее и понесет еще дальше, пока она не зацепится за кочку или сугроб и останется лежать там. И ее заметет снегом. Книжка пролежит там всю зиму, еще долго после того, как тело его отправят домой родственникам. А весной фермер Джон проедет по полю на своем тракторе, и в кабинке у него будет звучать веселая музыка, и наедет он плугом на его любимую записную книжку. И зароет ее глубоко-глубоко в землю, где она и останется лежать навеки, постепенно превращаясь в другую материю. Всегда почему-то хочется думать, что ничто на свете не исчезает бесследно, лишь переходит в другую субстанцию. «Не напрягайся, все вернется на круги своя», накорябал некто на стенке телефона-автомата на автостраде 35, неподалеку от городка под названием Кеймерон, штат Миссури.
Альфи размахнулся, чтобы бросить книжку, но потом вдруг опустил руку. Ему жутко не хотелось с ней расставаться, вот в чем вся штука. Есть предел человеческому терпению, так почему-то принято думать. И у него дела обстоят просто хуже некуда. Он снова поднял руку, потом опять опустил. От отчаяния и нерешительности заплакал, хоть и не замечал своих слез. Кругом завывал ледяной ветер, словно подталкивал его на этом пути в никуда. Он просто больше не может жить так, как живет сейчас, – вот что главное. Не выдержит больше и дня. Выстрелить себе в рот из револьвера куда как легче, чем продолжать всю эту канитель, он это твердо знал. Куда как легче, чем, допустим, написать книгу, которую прочтут несколько человек (это еще в лучшем случае). Он снова поднял руку, слегка отвел ее, поднес к уху ладонь с зажатой в ней записной книжкой – так делает питчер перед броском – и застыл. Ему пришла в голову новая мысль. Надо досчитать до шестидесяти. Если во время счета блеснут вдали огоньки фермы, он все же попробует написать книгу.
А начать такую книгу, подумал он, следует с разговора, как измерять расстояние в милях на карте зеленым маркером, не только расстояние, но и саму необъятность Земли. С описания, как свистит и завывает ветер, когда выходишь из машины возле одного из мотелей где-нибудь в Оклахоме или Северной Дакоте. Он звучит совершенно особенно, этот ветер, он словно нашептывает тебе слова. Не забыть также описать тишину, и что в туалете всегда попахивает мочой и газами съехавших постояльцев, и что в тишине стены мотеля вдруг начинают говорить их голосами. Голосами тех, кто оставил все эти надписи, а потом уехал. И писать об этом будет больно, но если вдруг ветер стихнет и вдали замерцают огоньки фермы, он напишет эту книгу, чего бы это ни стоило.
А если так и не увидит огоньков, то забросит записную книжку в поле, вернется в мотель, в свою комнату под номером 190 (первая дверь слева от автомата), и застрелится, как собирался.
Одно из двух. Одно из двух.
Альфи стоял и считал про себя до шестидесяти. Стоял и ждал, когда стихнет ветер.
Я люблю водить машину, и особенно нравится мне ехать по бесконечно длинным прямым, как стрела, автострадам, когда по обе стороны от дороги ничего, кроме прерий, а до ближайшего мотеля миль сорок или около того. Ванные и туалеты этих придорожных мотелей сплошь исписаные граффити; попадаются среди них загадочные и непонятные. И вот я начал собирать эти изречения – записывать в блокнот, который постоянно ношу при себе. Одни попадались, как я уже упомянул, на стенках туалетов и телефонов-автоматов, другие скачивал из Интернета (там есть два или три сайта, посвященных исключительно такого рода надписям), а потом, наконец, придумал рассказ, где их можно употребить. Вот и получилась история про Альфи Зиммера. А уж как получилась, судить вам. Хочу сказать одно: мне далеко не безразличен ее главный герой, страшно одинокий человек; от души надеюсь, что все у него будет хорошо. В первом варианте так оно и было, но Билл Бьюфорд из журнала «Нью-Йоркер» предложил сделать более неопределенный финал. Возможно, он прав, однако единственное, что мы можем сделать для Альфи Зиммера, это молиться за него всем миром.
Смерть Джека Гамильтона
Хочу, чтобы вы поняли с самого начала: за исключением Мелвина Первиса из ФБР не было на свете человека, кому бы не нравился мой дружок Джонни Диллинджер. Первис был правой рукой Джона Эдгара Гувера и смертельно ненавидел Джонни. Что касается остальных… короче, все кругом были просто без ума от Джонни, в том-то и штука. И еще он умел смешить людей. Бог любит, чтобы все его дела доводились до конца, так он частенько говаривал. Ну и чем, скажите, может не нравиться человек, исповедующий такую философию?
И людям вовсе было ни к чему, чтобы такой человек умер. Вы удивитесь, но до сих пор многие считают, что вовсе не Джонни был застрелен федами 22 июля 1934 года в Чикаго возле кинотеатра «Биограф». А возглавлял охоту на Джонни не кто иной, как Мелвин Первис. И надо сказать, что он был не только подлый, но и чертовски неумный парень (из тех, что норовят пописать из окна, забыв его предварительно открыть). Короче, ничего хорошего о нем сказать просто не могу. Дешевый пижон, и, Господи, как же я его ненавидел! Как мы ненавидели этого типа!
И нам всем удалось благополучно удрать от Первиса и его уродов после перестрелки в «Маленькой Богеме», штат Висконсин, – всем до единого! Как после такого этому гребаному педику удалось удержаться на работе – настоящая загадка. Помню, Джонни тогда сказал: «Лучше б на его место Джон Эдгар какую бабу поставил, и то было бы больше проку». Как же мы хохотали! Разумеется, в конце концов Первис все же достал нашего Джонни. Но только потому, что устроил засаду у кинотеатра «Биограф» и выстрелил ему в спину, когда тот, почуяв неладное, пытался удрать через боковой проулок. И наш Джонни, упав лицом в грязь и кошачье дерьмо, пробормотал: «Как прикажете это понимать?» И умер.
Но люди до сих пор не верят в его смерть. Наш Джонни настоящий красавчик, говорили они, не парень, а прямо кинозвезда! А у типа, которого феды застрелили у кинотеатра, морда была жуткая, вся распухшая, того и гляди лопнет, как переваренная сосиска! Нашему Джонни только-только стукнуло тридцать один, а тот тип, которого прихлопнули копы у кинотеатра, выглядел на все сорок, если не больше! Кроме того (тут они обычно понижали голос до шепота), каждому дураку известно, что у Джона Диллинджера был член размером с бейсбольную биту. А у типа, на которого устроил засаду возле «Маленькой Богемы» придурок Первис, – ничего особенного, стандартные шесть дюймов в длину. И потом еще этот шрам на верхней губе. На снимках, сделанных в морге, шрам виден очень четко. (Похоже, что, когда они там фотографировали тело, какой-то ублюдок специально приподнял и придерживал голову моего старого друга, скорчив при этом мрачную и многозначительную рожу, словно желая тем самым подчеркнуть: Каждый Преступник Получит по Заслугам.) И этот шрам как бы разрезал усы Джонни надвое. Но все знают, что у Джонни Диллинджера никогда не было такого жуткого шрама. Да вы поглядите на другие его снимки, сразу убедитесь, говорили люди. Господь свидетель, снимков этих полным-полно.
Потом даже появилась книжка, где писали, что Джонни вовсе не умер. Что он скрылся, обманув преследователей, а затем долго и счастливо жил себе в Мексике на роскошной гасиенде, ублажая всяких там сеньор и сеньорит огромным своим «прибором». И еще в этой книжке написано, что мой старый друг умер 20 ноября 1963 года – ровно за два дня до смерти Кеннеди – в возрасте шестидесяти лет. И что жизнь отняла у него вовсе не пуля, выпущенная каким-нибудь ублюдком федом, а самый что ни на есть заурядный сердечный приступ. Так что Джон Диллинджер скончался дома в постели.
Славная история, не спорю, только все это неправда.
Лицо Джонни выглядит на последних снимках таким широким и толстым, потому что он последнее время действительно прибавил в весе. Он принадлежал к тому типу людей, которые, когда нервничают, начинают есть практически без передышки и все подряд. А основания нервничать у него были, особенно после того, как в городке Аврора, штат Иллинойс, погиб его дружок Джек Гамильтон. Джонни понял, что он – следующий. Так прямо и сказал этими самыми словами у могилы бедняги Джека.
Что же касается его «прибора»… что ж, мы с Джонни познакомились еще в исправительной колонии в Пендлтоне, штат Индиана. И я видал его в разных видах – и одетым, и в чем мать родила тоже. И Гомер Ван Митер, что находится здесь со мной, может подтвердить, что «прибор» у него был вполне приличных размеров, но совсем не такой уж и огромный, как свидетельствует молва. (Я вам скажу, у кого эта штука была действительно выдающихся размеров, но только чтоб между нами. У Дока Баркера, да благослови Господь его мамашу! Ха!)
Теперь о шраме на верхней губе, который прорезает усы на всех тех снимках, что сделаны в морге. Тут особая история. На других снимках шрама не видно по одной простой причине – он схлопотал свое украшение уже в самом конце. Случилось это в городке под названием Аврора, когда Джек (он же Ред) Гамильтон, наш старый добрый приятель, находился на смертном одре. Собственно, об этом я и хотел вам рассказать. О том, как Джонни Диллинджер схлопотал шрам на верхней губе.
Мне, Джонни и Реду Гамильтону удалось улизнуть от копов во время заварушки в «Маленькой Богеме». Мы выбрались через окно на кухне и были уже по ту сторону озера, но этот дебил Первис со своими кретинами продолжал поливать свинцом фасад и входную дверь. Бог ты мой! От души надеюсь, что у несчастного владельца этого заведения была оформлена страховка! Первая машина, которую мы нашли, принадлежала пожилой паре, обитавшей по соседству, и этот их гребаный драндулет никак не желал заводиться. Со второй повезло больше – «форд»-купе был живущего через дорогу плотника. Джонни затолкал хозяина на переднее сиденье, тот взялся за баранку и отвез нас на приличное расстояние от Сент-Пола. Затем его попросили выйти – что он сделал весьма охотно – и за руль сел я.
Мы пересекли Миссисипи примерно милях в двадцати ниже по течению от Сент-Пола. И хотя местные копы все еще продолжали искать то, что называли бандой Диллинджера, думаю, что все обошлось бы, не потеряй Джек Гамильтон во время всей этой заварушки свою шляпу. Он был весь потный, как свинья, – всегда потел, когда нервничал. Нашел на заднем сиденье плотницкой машины какой-то коврик, разодрал на полоски и соорудил вокруг головы нечто вроде индусского тюрбана. Собственно, именно эта повязка и привлекла внимание копов, блокировавших выезд со Спирального моста, там, где уже начинался штат Висконсин. Они заметили нас и пустились в погоню.
И конец бы нам, но Джонни всегда просто чертовски везло, ну, до той истории у кинотеатра «Богема», разумеется. Он захватил фургон с коровами, развернул его поперек дороги и преградил путь полицейским машинам.
– А теперь жми на полную катушку, Гомер! – крикнул мне Джонни. Сам он сидел на заднем сиденье и, похоже, пребывал в отличном расположении духа. – А ребята пусть прогуляются пешком!
Я вдавил педаль газа, позади скрылся в пыли груженный скотом трейлер, и копы, естественно, отстали. Так что, прости прощай, мамуля, обязательно черкну тебе письмецо, как только устроюсь на работу! Ха!
Однако теперь, когда все неприятности вроде бы остались позади, Джек заметил:
– Да сбрось ты скорость, идиот чертов! Не хватало, чтоб нас остановили за превышение скорости!
Я сбросил до тридцати пяти, и на протяжении примерно четверти часа все у нас шло просто отлично. Мы обсуждали заварушку в «Богеме», гадали, удалось Лестеру (по прозвищу Мордашка) удрать оттуда или нет. И вдруг защелкали ружейные и пистолетные выстрелы. Пули начали с визгом рикошетить от тротуара. То были те самые копы с моста, чертова деревенщина. Они нас нагнали и ехали сейчас позади ярдах в девяноста – ста, прямо так и повисли на хвосте и еще, суки, принялись палить по шинам. Хотя даже тогда вовсе не были уверены, что это Диллинджер.
Впрочем, сомневались они недолго. Джонни выбил стволом пистолета заднее стекло «форда» и открыл ответный огонь. Я снова вдавил педаль газа в пол, и мы помчались со скоростью около пятидесяти миль в час, что по тем временам считалось прямо-таки рекордом. Движение на дороге было слабым, но там, где было, я ловко обходил все автомобили – то справа, то слева, то одним колесом в канаве. Дважды левые от меня колеса отрывались от земли, но мы каким-то чудом не перевернулись. Нет машины лучше «форда», когда отрываешься от преследования, прямо должен вам заявить. Как-то раз Джонни даже написал письмо самому Генри Форду. «Когда я еду в „форде“, все остальные машины вынуждены жрать мою пыль», говорилось в этом письме. И уж будьте уверены, в тот день они досыта нажрались этой самой пыли.
Но и нам пришлось заплатить свою цену. Послышались странные щелчки – пинк! пинк! пинк! – и по ветровому стеклу расползлась трещина. Пуля – просто уверен, что 45-го калибра, никак не меньше – упала прямо на приборную доску. И лежала там, похожая на большого черного жука.
Джек Гамильтон находился на сиденье рядом. Поднял с пола автомат Томпсона[21 - Автомат (пистолет-пулемет) Томпсона – оружие периода Первой мировой войны, созданное оружейником Дж. Томпсоном; широко использовался гангстерами в период «сухого закона», они называли его «чикагской скрипкой», поскольку автомат легко умещался в футляре для скрипки.] и стал проверять барабан, уже готовый открыть ответную стрельбу из окна. Но в этот момент снова защелкало: пинк! пинк! И Джек тихо выдохнул: «Вот твари! Похоже, меня зацепило!» Оказалось, что пуля прошла сквозь заднее стекло, и как она не попала в Джонни, а ранила Джека – до сих пор ума не приложу.
– Ты как, в порядке? – крикнул я. В этот момент я повис на руле, как обезьяна, да и управлял машиной примерно так же, как могла бы делать эта тварь. Предстояло обойти справа тяжеленный молоковоз, и я непрерывно жал на клаксон и орал этому сукиному сыну в белом халате, чтоб убрался с дороги. – Как ты, а, Джек?
– О’кей, в полном порядке, лучше не бывает! – отвечает он мне. И с этими словами высовывается из окна чуть ли не по пояс вместе со своим автоматом. Только сперва ему мешал этот гребаный молоковоз. Я видел водителя в зеркальце – парень в дурацкой маленькой шапочке с ужасом пялился на нас. А потом я перевел взгляд на вывалившегося из окна Джека и увидел дырочку, аккуратную и круглую, точно выведенную карандашом, прямо посреди пиджака. Никакой крови, заметьте, не было, только маленькая черная дырочка.
– Ничего, Джек! Делай свое дело, обойди этого придурка! – крикнул мне Джонни.
И я его обошел. На обгоне молоковоза мы выиграли с полмили, и копы немного поотстали, поскольку с одной стороны движение ограничивала разделительная полоса, а с другой – поток медленно двигающихся автомобилей. Мы резко свернули вправо, такой уж мудреный попался в этом месте поворот, и на секунду и молоковоз, и автомобиль копов скрылись из виду. И вдруг мы увидели по правую руку узкую дорогу, мощенную гравием и заросшую сорняком.
– Туда! – выдохнул Джек и откинулся на спинку сиденья, но я уже и без того сворачивал на эту дорогу.
То оказалось старое шоссе. Проехав по нему примерно семьдесят ярдов, я увидел впереди ферму, с виду – давно заброшенную. Выключил мотор, и все мы вышли из машины и стали за ней.
– Если появятся, устроим им представление, – сказал Джек. – Потому как я в отличие от Гарри Пирпонта на электрический стул не тороплюсь.
Но никто не появился, и минут через десять мы все снова сели в машину и поехали по главной дороге, причем ехали медленно и очень аккуратно. А потом я увидел одну вещь, которая мне дико не понравилась.
– Джек, – сказал я, – у тебя изо рта кровь идет. Ты вытри, а то еще рубашка запачкается.
Джек оттер губы большим пальцем правой руки, посмотрел, увидел на нем кровь, а потом улыбнулся мне – эта улыбка до сих пор снится мне по ночам. Широкая, радостная, но в ней так и светится ужас.
– Просто прикусил щеку изнутри, – сказал он. – Ничего страшного.
– Ты уверен? – спросил его Джонни.
– И еще чего-то дышать трудновато, – сказал Джек. Снова вытер губы пальцем, на этот раз крови было меньше, и это, похоже, его успокоило. – Давайте уматывать отсюда к чертовой бабушке!
– Заворачивай обратно, к Спиральному мосту, Гомер, – сказал Джонни. И мне это тоже не понравилось. Далеко не всё в байках о Джонни Диллинджере правда, но он всегда умел найти дорогу к дому, даже когда этого дома у него не было вовсе. И я всегда верил в это его чутье.
Мы опять ехали на законной и добропорядочной скорости в тридцать миль в час, когда вдруг Джонни заметил бензоколонку «Тексако» и велел мне свернуть вправо. И вот мы снова помчались по сельским ухабистым дорогам, и Джонни приказывал мне свернуть то вправо, то влево, хотя, лично на мой взгляд, все эти дороги казались совершенно одинаковыми: просто проложенные в грязи колеи от колес между давно убранных кукурузных полей. Грязь тут была страшеннейшая, на полях попадались участки, где еще лежал снег. И время от времени нашу машину провожал глазами какой-нибудь постреленок. Джек становился все тише и тише. Я спросил, как он себя чувствует, и он ответил: «Я в полном порядке».
– Надо бы осмотреть тебя как следует, когда все устаканится, – заметил Джонни. – Ну и привести в порядок пиджак. Иначе с такой дыркой на спине люди подумают, что кто-то тебя подстрелил! – Он громко расхохотался, я тоже заржал. Даже Джек засмеялся. Этот Джонни, он кого хочешь мог развеселить.
– Не думаю, что зацепило глубоко, – заметил Джек, когда мы выехали на шоссе под номером 43. – Кровь изо рта больше не идет, вот, смотри, – и с этими словами он обернулся к Джонни и показал ему палец с засохшим пятном крови. Потом откинулся на спинку сиденья, и тут кровь так и хлынула у него изо рта и носа.
– Думаю, мы отъехали на безопасное расстояние, – сказал Джонни. – Самое время позаботиться о тебе. Хотя лично я не вижу ничего страшного. Раз можешь говорить, ты скорее всего в порядке.
– Конечно, – ответил Джек. – Я в полном порядке, – но голосок у него был довольно слабенький.
– В порядке, как тот хрен на грядке, – сказал я.
– Да заткнись ты, придурок хренов! – сказал он, и все мы снова заржали. Они смеялись надо мной. Прямо чуть не лопнули от смеха.
По главной дороге мы проехали минут пять, и тут вдруг Джек вырубился. Привалился мордой к стеклу, из уголка рта поползла тонкая струйка крови и запачкала окно. Все равно что раздавить насосавшегося крови москита, подумал я. У Джека до сих пор красовался на голове тюрбан из коврика, только теперь он слегка съехал набок. Джонни снял тюрбан и оттер им кровь с лица Джека. Джек что-то забормотал, даже руки приподнял, чтоб оттолкнуть Джонни, но они тут же безвольно упали на колени.
– Эти копы уже успели предупредить своих по радио, – сказал Джонни. – Стоит сунуться в Сент-Пол, и нам кранты. Так мне кажется. А ты что думаешь, Гомер?
– Да то же самое, – ответил я. – И что тогда у нас остается? Куда двинем, в Чикаго?
– Ага, – согласился он. – Только перво-наперво надобно бросить эту тачку. Они и номера уже знают. А даже если нет, все равно, невезучая она, эта тачка. Чертовски невезучая!
– А что с Джеком? – спросил я.
– Джек будет в полном порядке, – ответил он, и у меня достало ума и сообразительности не затрагивать больше эту тему.
Проехав еще примерно с милю, мы остановились, и Джонни прострелил переднюю шину невезучего «форда». Джек сидел на земле, привалившись к капоту, и лицо у него было жутко бледное.
Когда нам нужна машина, в дело всегда вступаю я. «Интересная штука, – заметил как-то Джонни. – Ни одна собака не остановится, сколько ни сигналь, но стоит тебе поднять руку, и все машины к твоим услугам. Почему, хоть убей не пойму!»
Гарри Пирпонт как-то объяснил ему, в чем секрет. Было это, когда банды Диллинджера еще не существовало в природе, а была банда Пирпонта. «Да потому, – сказал тогда Гарри, – что он выглядит, как Гомер. Сроду не встречал человека, который больше походил бы на Гомера, чем наш Гомер Ван Митер».
Помню, мы все тогда долго ржали, и вот теперь настал момент, когда мне снова пришлось вступать в дело. Но только сейчас нам было не до шуток, потому как теперь это был вопрос жизни и смерти.
Мимо проехали три или четыре машины, все это время я притворялся, что вожусь с лопнувшей шиной. Затем показался трактор, но он нам не годился – слишком уж медленный и шумный. К тому же в прицепе ехали трое парней. Водитель замедлил ход и спросил: «Нужна помощь, амиго?»
– Ничего, все в порядке, – ответил я. – Маленько поработать, нагулять аппетит перед обедом, никогда не помешает. Так что не смею вас задерживать.
Он осклабился в ухмылке и поехал дальше. Парни в прицепе сделали нам ручкой.
Затем появился «форд», самое то, что надо. Я замахал руками, делая знак остановиться. И при этом стоял так, чтобы сидевшие в нем видели лопнувшую шину. И еще я улыбался им во весь рот. Улыбка эта говорила – я всего лишь безобидный Гомер. Вот, застрял на обочине, и без вас мне никак.
Сработало. В машине сидели трое – мужчина и молодая женщина с толстым младенцем на руках. Семья.
– А у тебя, похоже, прокол, приятель, – сказал мужчина. Он был в костюме и плаще, вещи чистенькие, но, прямо скажем, не первого класса.
– Прямо ума не приложу, как это получилось, – сказал я. – Лопнула, что твоя жаба, в Бога душу мать!
Мы все еще ржали над этой незамысловатой шуткой, как вдруг из-за кустов вышли Джонни и Джек со своими пушками.
– Не дергайтесь, сэр, – сказал мужчине Джек. – И тогда мы не причиним вам вреда.
Мужчина молча переводил взгляд с Джека на Джонни, потом опять на Джека. Потом снова взглянул на Джонни, челюсть у него прямо так и отвалилась. Подобную реакцию мне доводилось наблюдать тысячу раз, но всегда она меня страшно забавляла.
– Да ведь это Диллинджер! – взвизгнул мужчина и поднял руки вверх.
– Рад познакомиться, сэр, – говорит ему Джонни и хватает мужчину за руку. – Будьте любезны, снимите-ка эти рукавицы!
Тут мимо проехали две или три машины с типами из местных. Деревня едет в город, сидят за рулем с прямыми спинами, точно палки проглотили, в своих старых, заляпанных грязью седанах. Видимо, мы не показались им подозрительными – стоит себе у обочины группа парней, решает, что делать с проколотой шиной.
Тем временем Джек подошел к водительской дверце новенького «форда», выключил зажигание и забрал ключи. Небо в тот день было белесое, точно вот-вот пойдет снег, но лицо у Джека было еще бледнее.
– Ваше имя, мэм? – осведомился Джек у женщины. На ней было длинное серое пальто, на голове – лихая шляпка наподобие матросской бескозырки.
– Дили Фрэнсис, – ответила она. А глаза у нее были большие и темные, как сливы. – А это Рой. Мой муж. Вы нас убьете, да?
Джонни окинул ее строгим взглядом и надменно заметил:
– Мы банда Диллинджера, миссис Фрэнсис. А люди Диллинджера никогда никого не убивают. – Джонни никогда не упускал случая подчеркнуть этот факт. При этом Гарри Пирпонт всегда смеялся над ним и спрашивал, на кой ляд он впустую тратит слова, но лично я думаю, что Джонни поступал правильно. То была одна из причин, по которой именно его будут долго помнить люди. А этого педераста в соломенной шляпке все уже давно забыли.
– Золотые твои слова, – сказал Джек. – Мы грабим банки, причем ровно вполовину меньше, чем говорят. А кто этот славный маленький человечек? – и он ущипнул малыша за подбородок. Упитанный был младенец, ничего не скажешь; точная копия У. К. Филдза[22 - Филдз Уильям Клод (1880–1946) – больше известен как «У.К. Филдс». Актер, автор сценариев многих фильмов, выступал на эстраде с комическими номерами, в 30-е годы – ведущий комик и острослов Америки.].
– Это Бастер, – ответила Дили Фрэнсис.
– Да он настоящий здоровяк, верно? – улыбнулся Джек. Зубы у него были в крови. – Сколько ему? Три или около того?
– Только что исполнилось два с половиной, – с гордостью ответила миссис Фрэнсис.
– Неужели?
– Да, крупный мальчик для своего возраста. Скажите, мистер, а вы в порядке? Вы ужасно бледный. И потом, эта кровь на…
Тут вмешался Джонни:
– Сможешь завести эту тачку в лес, Джек? – и он указал пальцем на старенький «форд» плотника.
– Само собой, – ответил Джек.
– Несмотря на шину и прочее?
– Спрашиваешь. Вот только… Мне жуть до чего хочется пить. Скажите, мэм, то есть миссис Фрэнсис, у вас с собой, случайно, нет ничего попить, а?
Она развернулась, склонилась над задним сиденьем – что было далеко не просто с этим ребенком-боровом на руках – и достала термос.
Мимо пролетела еще пара машин. Сидевшие в них люди махали нам руками, и мы махнули в ответ. Я продолжал улыбаться, ощерив пасть не хуже крокодила, пытаясь выглядеть, как подобает Гомеру. Меня беспокоил Джек, я просто не понимал, как он все еще держится на ногах. Так он мало того, что держался – этот сукин сын еще открыл термос, посмотреть, что там внутри. Чай со льдом, сказала она, но он словно не слышал. А когда протянул ей термос обратно, все увидели, что по щекам его катятся слезы. Потом Джек поблагодарил дамочку, и она снова спросила, в порядке ли он.
– Теперь в порядке, – ответил Джек. Забрался в старенький «форд» и повел его к кустам на обочине, машина при этом нещадно раскачивалась и подпрыгивала – еще бы, считай, одного колеса у нее не было вовсе, ехала на голом ободке.
– Нет, чтобы заднее прострелить, урод несчастный! – сердито буркнул Джек, но голос у него был совсем слабенький. И вот наконец машина въехала в лес и скрылась из виду, а вскоре и сам он показался на опушке. Шел медленно и все время смотрел под ноги – словно старик на льду.
– Вот и славненько, – заметил Джонни. И сделал вид, что чересчур внимательно рассматривает кроличью лапку – брелок, прикрепленный к ключам мистера Фрэнсиса. Как бы давая мне тем самым понять, что мистер Фрэнсис не увидит больше своего «форда». – Стало быть, теперь мы все познакомились, подружились, самое время совершить небольшую прогулку.
Джонни сел за руль, Джек – рядом, я втиснулся на заднее сиденье между Фрэнсисами и пытался рассмешить их маленького поросенка.
– Едем до ближайшего городка, – не оборачиваясь, объявил Джонни Фрэнсисам. – Там вы сходите на автобусной остановке, и езжайте себе, куда собирались, денег на дорогу вам оставлю. А мы заберем машину. Обещаю, что будем обращаться с ней аккуратно, никаких там дырок от пуль, ничего подобного, вернем новенькой, с иголочки. Один из нас позвонит и скажет, где ее можно забрать.
– Но у нас еще не установили телефон, – робко возразила Дили. И голосок у нее был такой противный, жалобный и писклявый, прямо руки чесались врезать как следует. Потому как она явно принадлежала к тому разряду женщин, которым минимум раз в две недели следует устраивать хорошую выволочку, чтоб не поднимала хвост. – Вообще-то мы в списке очередников, но эти люди с телефонной станции прямо как вареные, никогда не спешат.
– Что ж, тогда, – ничуть не растерявшись, заметил Джонни, – мы позвоним в полицию, и уж они свяжутся с вами. Но если станете вякать, машины вам не видать как своих ушей.
Мистер Фрэнсис закивал – с таким видом, точно верил каждому его слову. А может, и правда верил. Ведь то, как-никак, была банда самого Диллинджера.
Джонни остановился у бензоколонки, заправился и купил всем содовой. Джек присосался к своей бутылочке, точно там была не содовая, а волшебный нектар, точно он помирал от жажды где-нибудь в пустыне. Но женщина не очень-то позволяла своему поросенку пить. Дала только отхлебнуть, один глоточек. Малыш тянулся к бутылочке и орал, точно его режут.
– Не хочу испортить аппетит перед ленчем, – сказала она Джонни. – Что это с вами, а?..
Джек сидел, закрыв глаза и привалившись головой к боковому стеклу автомобиля. Я было подумал, что он снова вырубился, но тут он открывает глаза и говорит дамочке:
– Заткните пасть своему выродку, мэм, иначе это сделаю я.
– Кажется, вы забыли, в чьей едете машине, – эдак с подковыркой замечает она.
– Дай ему бутылку, сучка! – говорит Джонни. Он по-прежнему улыбается, но только это совсем другая улыбка. Она смотрит на него и бледнеет, прямо вся краска отливает от щек. Мистер Поросенок получает свою бутылочку, а будет или не будет он есть ленч, это уже никого не колышет. Еще через двадцать миль мы высаживаем семейство в маленьком городке и направляемся в Чикаго уже без них.
– Мужчина, женившийся на такой женщине, имеет то, что заслуживает, – замечает Джонни. – И уж он-то получит сполна, будьте уверены!
– Она позвонит копам, – говорит Джек, по-прежнему не открывая глаз.
– Ни хрена не позвонит, – небрежно и уверенно отвечает Джонни. – Да такая скорее удавится, прежде чем никель потратит. – Он оказался прав. На всем пути в Чи мы видели лишь двух синих «жучков», но каждый ехал себе своей дорогой, а сидевшие в них парни даже не притормозили, чтобы взглянуть на нас хорошенько. Так что Джонни, как всегда, везло. А вот Джеку – нет, достаточно было хотя бы мельком взглянуть на него, как тут же становилось ясно, что вся везуха для него кончилась. Мы еще и к «Луп»[23 - «Луп» («Петля») – деловой, культурный и торговый центр Чикаго.] не успели подъехать, как он начал бредить и звать мать.
– Гомер? – окликнул меня Джонни и игриво покосился в мою сторону. Знал, чертяка, как это меня всегда раздражает. В такие моменты он походил на девицу, собравшуюся пофлиртовать.
– Чего? – грубо огрызнулся я.
– Нам некуда ехать. Здесь еще хуже, чем в Сент-Поле.
– Езжай в «Мерфи», – сказал вдруг Джек, по-прежнему не открывая глаз. – До смерти охота холодненького пивка. Умираю от жажды.
– «Мерфи», – задумчиво повторил Джонни. – А что, недурная идейка.
Так назывался ирландский салун на Саут-Сайд. На полу опилки, мокрые и грязные столы, два официанта, трое вышибал, дружелюбно настроенные девушки за стойкой бара и комната наверху, где с ними вполне можно найти приют. Еще несколько комнат находились в задней части помещения, там иногда устраивались деловые встречи, но чаще они пустовали. Таких заведений в Сент-Поле насчитывалось целых четыре, а вот в Чи их было всего два. Я запарковал «форд» Фрэнсисов в боковом проулке. Джонни находился на заднем сиденье, рядом с нашим бредящим другом – мы все еще не решались называть Джека нашим умирающим другом. Сидел и прижимал голову Джека к лацкану пиджака.
– Ступай и приведи из этого крысятника Брайана Муни, – сказал он мне.
– А что, если его там нет?
– Ну, тогда даже не знаю, – задумчиво протянул Джонни.
– Гарри! – вдруг заорал Джек. Наверное, звал Гарри Пирпонта. – Эта шлюха, которую ты мне подкинул, наградила меня чертовой гонореей!
– Ступай, – повторил Джонни и погладил Джека по голове, да так ласково, прямо как мать родная.
Однако Брайан Муни оказался на месте – Джонни опять повезло, и мы договорились остаться в комнате на ночь, хоть это и обошлось нам в две сотни баксов. Жутко дорого, особенно если учесть вид из окна (в грязный проулок) и туалет, находившийся в дальнем конце коридора.
– А вы, как погляжу, серьезные ребятишки, – заметил Брайан. – Будь на моем месте Мики Макклюр, тут же вылетели обратно на улицу. Такого шухеру понаделали в этой «Маленькой Богеме» – до сих пор все газеты трезвонят. И по радио тоже.
Джек присел на койку в углу и попросил сигарету и холодного пива. Последнее возымело на него просто чудодейственный эффект – он снова стал почти самим собой.
– А что, Лестер смылся? – вдруг спросил он Муни. Я посмотрел на него и вдруг заметил нечто ужасное. Стоило ему затянуться «Лаки» и выдохнуть, как из дырки на спине пиджака выходила тоненькая струйка дыма.
– Ты имеешь в виду Мордашку? – спросил Муни.
– Зря ты его так называешь, не ровен час еще услышит, – усмехнулся Джонни. Он явно воспрял духом, увидев, что Джеку стало лучше. Правда, он пока что не видел, как из дырки в спине у него выходил дым. Да и я лучше б не видел.
– Затеял перестрелку с целой оравой копов и смылся, – сказал Муни. – Одного уложил, это точно, а может, даже двух. Короче, ничего хорошего. На ночь можете остаться здесь, но чтоб завтра к полудню и духу вашего не было!
Он ушел. Джонни выждал несколько секунд, а потом показал ему вслед язык – ну точно малое дитя. Я заржал – Джоннни всегда умел рассмешить меня. Джек тоже засмеялся, но тихонько. Видно, больно было.
– Так, приятель, – сказал Джонни. – Теперь самое время взглянуть, что там с тобой стряслось. Снимай пиджак.
Процедура раздевания заняла минут пять. Ко времени, когда на Джеке осталась одна майка, все мы трое прямо взмокли от пота. А мне раза четыре пришлось зажимать Джеку рот ладонью, чтоб, не дай Бог, не заорал. И все манжеты у меня были в крови.
На подкладке пиджака красовалось лишь небольшое алое пятнышко, но половина белой рубашки была в крови, а майка так сплошь пропиталась кровью. И слева, прямо под лопаткой, красовалась шишка с небольшой дырочкой посередине – прямо миниатюрный вулкан.
– Не надо! – прорыдал Джек. – Пожалуйста, перестаньте!
– Ничего, все о’кей, – сказал Джонни и снова погладил его по голове, как маленького. – Мы все устали. Теперь можешь прилечь. Давай поспи. Тебе надо отдохнуть.
– Да не могу я! – говорит он. – Прямо жуть до чего больно! О Господи, если б вы знали, до чего больно!.. И еще я хочу пива. Умираю от жажды. Только не солите его, как тогда. Где Гарри, где Чарли?
Насколько я понял, речь шла о Гарри Пирпонте и Чарли Мэкли. И Чарли оказался тем самым Фейгином, который приобщил к ремеслу Гарри и Джека, когда те были еще сопляками.
– Ну вот, опять завел свою шарманку, – сказал Джонни. – Ему нужен врач. И ты, Гомер, мальчик мой, должен найти этого самого врача.
– О Господи, Джонни, да я ж в этом городе ни одной собаки не знаю!
– Не важно, – отмахнулся Джонни. – Стоит мне только высунуться на улицу, сам знаешь, что будет. Сейчас дам тебе несколько имен и адресов.
Закончилось тем, что он дал только одно имя и адрес, и мой поход по нему успехом не увенчался. Врачишка, подторговывающий разными пилюлями, подрабатывающий подпольными абортами, а также вытравлением папиллярных узоров с помощью разных кислот, оказывается, искал утешения от трудов праведных в настойке опия и отдал Богу душу два месяца назад.
Мы проторчали в этой вонючей комнатушке у «Мерфи» пять дней. Время от времени заявлялся Мики Макклюр и пытался вышвырнуть нас вон, но Джонни всякий раз говорил с ним по душам. Как умел говорить только он, Джонни, сплошной шарм и очарование, и было просто невозможно отказать ему. Да и, кроме того, мы платили за эту комнату. К концу с нас стали драть уже четыреста баксов за ночь, к тому же мы не смели высовывать носа дальше сортира, чтоб нас никто не узнал. Но никто не узнал, и мне кажется, копы до сих пор понятия не имеют, где мы скрывались все эти пять дней в конце апреля. Интересно, сколько сумел заработать на нас Мики Макклюр – по моим скромным подсчетам, никак не меньше куска. Недурненько.
В поисках врача я сначала обошел с полдюжины косметологов, которые переделывали носы и подбородки актерам, а также наращивали им волосы. Но среди них не нашлось ни одного, кто согласился бы прийти и посмотреть Джека. Слишком опасно, твердили они. Короче, дела тогда у нас шли хуже некуда, просто противно об этом вспоминать. Фигурально выражаясь, мы с Джонни только тогда поняли, какие примерно чувства испытывал Иисус, когда Петр трижды отрекся от Него в Гефсиманском саду.
Джек то впадал в забытье, то выходил из него, но последнее случалось с ним все реже. Говорил о своей матери, о Гарри Пирпонте, вспоминал Бобби Кларка, знаменитого педика из Мичиган-Сити, которого мы все знали.
– Бобби хотел меня поцеловать, – сказал однажды ночью Джек; он повторял это снова и снова, и мне уже начало казаться, что я схожу с ума. А Джонни не обращал внимания. Сидел на койке рядом с Джеком и гладил его по голове. Он вырезал из майки Джека квадратик ткани, в том месте, где находилась дырка от пули, и смазывал рану ртутной мазью, но кожа вокруг раны приобрела зеленовато-серый оттенок, и запах от дырки исходил просто чудовищный. Достаточно было нюхнуть всего раз – и глаза начинали слезиться.
– У него гангрена, – как-то сказал Мики Макклюр, зайдя за очередной порцией ренты. – Он, почитай, уже покойник.
– Он не покойник, – сказал Джонни.
Мики подался вперед, сложив пухлые ручки на толстом животике. Принюхался к дыханию Джека – так принюхиваются копы, стараясь уловить запах спиртного изо рта водителя. Потом отпрянул и удрученно покачал головой.
– Надобно найти врача, и быстро. Когда пахнет рана, это скверно. Но когда вот так пахнет изо рта, это… – Он еще раз сокрушенно потряс головой и вышел из комнаты.
– Да пошел он! – огрызнулся Джонни и принялся снова поглаживать Джека по голове. – Много он понимает.
А Джек ничего не говорил. Он спал. Несколько часов спустя, когда мы с Джонни тоже улеглись спать, Джек вдруг начал орать и угрожать Генри Клоди, надзирателю Мичиганской тюрьмы. Мы прозвали этого типа Клоди Ей-Богу, потому как он имел привычку повторять: ей-богу, сейчас сделаю то-то и то-то. Или: ей-богу, сейчас ты у меня сделаешь то-то и то-то. Джек кричал, что просто убьет Клоди, если тот сейчас же, немедленно, не выпустит нас отсюда. Тут кто-то заколотил в стенку, и незнакомый голос велел нам заткнуть пасть этому придурку.
Джонни уселся рядом с Джеком, поговорил с ним, погладил по волосам, и тот успокоился.
– Гомер? – вдруг окликнул меня Джек.
– Да, Джек? – ответил я.
– Послушай, ты не покажешь мне тот фокус с мухами?
Я удивился: надо же, помнит такое!
– Я бы и рад, Джек, – ответил я, – только мух тут нет. Сезон мух в этих краях еще не наступил.
И тут вдруг Джек запел тихим и хриплым голосом:
– Может, и есть мухи на вашей макухе, но только не на моей! Правильно, Чамма?
Я понятия не имел, кто такой этот Чамма, но кивнул и похлопал его по плечу. Оно было горячим и липким от пота.
– Правильно, Джек.
Под глазами у него залегли большие пурпурные круги, губы пересохли и потрескались. Он сильно исхудал. И еще я отчетливо ощущал исходивший от него запах. Запах мочи, но это не так уж страшно. Гораздо хуже был тот, другой запах – гангрены. А Джонни, так тот даже виду не подавал, будто от Джека дурно пахнет.
– Пройдись на руках. Сделай это для меня, Джон, – вдруг попросил Джек. – Ну, ты ведь умеешь.
– Минутку, – ответил Джонни. И налил Джеку стакан воды. – Вот, выпей прежде. Смочи глотку. А потом посмотрим, смогу ли я пройтись посреди комнаты на руках. Помнишь, как я бегал на руках на фабрике, где мы шили рубашки? Добежал до самых ворот, только там они меня скрутили и кинули в яму.
– Помню, – сказал Джек.
Но той ночью Джонни не пришлось ходить на руках. Джек отпил глоток воды из стакана и тут же вырубился, заснул, привалившись головой к плечу Джонни.
– Он умрет, – сказал я.
– Не умрет, – сказал Джонни.
Наутро я спросил Джонни, что нам теперь делать. Что мы можем сделать.
– Выудил из Макклюра имя одного парня. Джой Моран. Макклюр говорит, будто бы он был посредником при похищении Бремера. И что он сможет вылечить Джека, но это обойдется мне в тысячу баксов.
– У меня шесть сотен, – сказал я. Я бы с радостью расстался с этими бабками, но только не ради Джека Гамильтона. Потому как никакой врач Джеку уже не помог бы, это и ослу понятно, ему нужен священник. Но я делал это ради Джонни Диллинджера.
– Спасибо, Гомер, – сказал он. – Ладно, я пошел, вернусь через час. А ты присматривай за нашим малышом. – Но смотрел Джонни кисло. Он знал, что, если Моран не поможет, нам придется убраться из города. А стало быть, предстоит везти Джека обратно в Сент-Пол и попытать счастья там. И мы прекрасно понимали, что означало возращение в этот город на украденном «форде». Этой весной 1934 года все мы трое – я, Джек и особенно Джонни – числились в списке «врагов общества», составленного Дж. Эдгаром Гувером.
– Что ж, удачи тебе, – сказал я. И огляделся. Меня уже давно тошнило от этой комнаты. Все равно что вернуться в Мичиган-Сити, только еще хуже. Потому что ты всегда уязвим, особенно когда в бегах. И здесь, в этой комнатушке у «Мерфи», мы были особенно уязвимы.
Джек невнятно пробормотал что-то, потом снова вырубился.
Возле его койки стояло кресло с подушкой. Я снял подушку и уселся рядом с Джеком. И подумал: долго ему все равно не протянуть. А когда Джонни вернется, просто скажу, что бедный старина Джек испустил последний вздох, отдал Богу душу, отмучился наконец. И подушка снова будет лежать в кресле. Нет, я делаю это для блага Джонни. И Джека – тоже.
– Вижу тебя, Чамма, – вдруг отчетливо произнес Джек. Надо сказать, он перепугал меня просто до смерти.
– Джек! – окликнул я его, упершись локтями в подушку. – Ты как, а, приятель?
Взор его затуманился.
– Покажи… тот фокус, с мухами, – пробормотал он и снова уснул. Но проснулся, надо сказать, как раз вовремя, иначе бы Джонни, вернувшись, нашел на койке мертвеца.
Джонни вернулся, с грохотом распахнул дверь и ввалился в комнату. Я даже выдернул пушку. Он увидел ее и заржал.
– Убери свою пукалку приятель! И давай пакуй барахло!
– Что случилось?
– Съезжаем отсюда, к чертовой бабушке! – Он выглядел лет на пять моложе. – Давно пора, правильно я говорю?
– Да уж.
– Как он тут без меня? В порядке?
– Ага, – ответил я. Подушка лежала на кресле, на ней было вышито «ДО ВСТРЕЧИ В ЧИКАГО».
– Так никаких изменений?
– Никаких изменений.
– Аврора, – сказал Джонни. – Есть тут такой маленький городок неподалеку. И мы едем туда с Волни Дэвисом и его подружкой. – Он склонился над койкой. Рыжие волосы Джека и без того не слишком густые начали выпадать. Вся подушка была в этих тонких волосках, а на макушке у него образовалась белая как снег проплешина. – Ты что, оглох, Джек? – рявкнул Джонни. – Времени у нас в обрез, надо сматываться, и побыстрее! Усек?
– Пройдись на руках, как делал Джонни Диллинджер, – пробормотал Джек, не открывая глаз.
Джонни продолжал улыбаться. И подмигнул мне.
– Видишь, он все понимает, – сказал он мне. – Просто притворяется, что спит, правда?
– Ясное дело, – ответил я.
Мы ехали в Аврору, Джек сидел, привалившись к дверце, и голова его билась о стекло всякий раз, когда машина подпрыгивала на ухабах. Сидел с закрытыми глазами и вел долгий и путаный разговор с людьми, которых никто из нас не видел. Выехав из города, мы с Джонни опустили стекла – вонь в машине стояла невыносимая. Джек сгнивал заживо, изнутри, но все никак не умирал. Где-то я слышал высказывание, что жизнь человека хрупка и скоротечна, но, глядя на Джека, как-то не слишком верилось в это.
– Этот доктор Моран оказался сущим сопляком, – сказал Джонни. Мы ехали через лес, город остался позади. – И я решил, что просто не могу доверить какому-то сопляку и недоноску жизнь моего товарища. Но и с пустыми руками тоже не собирался уходить. – Джонни всегда путешествовал с заткнутым за пояс брюк револьвером 38-го калибра. И вот он вытащил его и показал мне, как, должно быть, показывал доктору Морану. – И вот я ему и говорю: «Знаете что, док, когда у человека больше нечего взять, я отбираю у него жизнь». Он сразу понял, что я не шучу, и позвонил своему приятелю Волни Дэвису.
Я кивнул – с таким видом, точно это имя мне что-то говорило. Позже выяснилось, что Волни Дэвис был членом банды Ма Баркера. Очень славный оказался парень. И Док Баркер – тоже. А подружка Волни носила прозвище Крольчиха. Прозвали ее так потому, что эта дамочка несколько раз сбегала из тюрьмы с помощью подкопа. И вообще она была самой крутой из всех. Козырная дамочка, иначе не скажешь! Она единственная из всех согласилась помочь нашему бедному Джеку. Ни от кого другого не было толку – ни от всех этих торговцев пилюлями, ни от хирургов, которые только и умели, что измываться над физиономиями актеров, и уж определенно – ни от доктора Джозефа Морана (он же Сопляк, он же Недоносок).
Баркеры были в бегах после неудавшегося киднепинга. Сам Ма Баркер давным-давно смылся – кажется, во Флориду. Их притончик в Авроре был не бог весть что – четыре комнатушки, никакого тебе электричества, сортир во дворе. Но все равно лучше, чем комната в салуне «Мерфи». Ну и, как я уже сказал, подружка Волни по крайней мере хоть старалась что-то сделать для нас. Мы находились здесь уже вторую ночь.
Она расставила вокруг кровати керосиновые лампы, потом простерилизовала нож для чистки картофеля в котелке с кипящей водой.
– Если вам, ребятишки, вдруг приспичит блевануть, – предупредила она, – постарайтесь потерпеть до тех пор, пока не закончу.
– За нас не переживай, – сказал Джонни. – Мы будем о’кей, правда, Гомер?
Я кивнул, но без особой уверенности. Меня уже начало подташнивать при виде всей этой подготовки. Джек лежал на животе, повернув голову набок, и что-то бормотал себе под нос. Не умолкал ни на секунду. Что бы ни происходило, для него комната была наполнена людьми, которых видел только он.
– Надеюсь на это, – сказала Крольчиха. – Потому как если начну, обратной дороги уже не будет. – Тут она подняла голову и увидела стоявшего в дверях Дока. А рядом – Волни Дэвиса. – Вали отсюда, лысый, – сказала она Доку. – И не забудь прихватить с собой Большого Вождя.
Волни Дэвис был таким же индейцем, как я – китайским императором, но его вечно так подкалывали, потому что вырос он среди чероки. Еще мальчишкой он стырил пару башмаков, и какой-то умник судья влепил ему за это три года тюрьмы. С этого и начал Волни Дэвис свой путь преступника.
Волни с Доком вышли. Как только они скрылись из виду, Крольчиха решительным движением сделала на спине Джека надрез в виде буквы «Х». Колени у меня подогнулись, я просто был не в силах видеть все это. Я держал Джека за ноги. Джонни сидел рядом, в изголовье, и бормотал какие-то слова утешения, но это не помогало. Когда Джек начал орать, Джонни накрыл ему голову кухонным полотенцем и кивком дал Крольчихе понять, чтобы продолжала. А потом все время гладил Джека по голове и говорил, чтобы тот не волновался, все будет просто чудесно.
Ох уж эти Крольчихи! Почему-то женщин принято называть хрупкими созданиями, но про нашу подругу сказать этого было никак нельзя. Да у нее даже рука ни разу не дрогнула, честное слово! Из надреза хлестала кровь, то алая, то с черными сгустками, а она врезалась в рану все глубже, и вот, наконец, из нее пошел гной. Желтовато-белый, но попадались в нем крупные зеленые сгустки, и все это было очень похоже на сопли. Короче, кошмар какой-то!.. Но когда она добралась до легкого, вонь стала просто невыносимой. Наверное, в тысячу раз хуже, чем во Франции во время газовой атаки.
Джек судорожно и со свистом втягивал воздух. В горле у него клокотало, те же звуки доносились и из легкого.
– Тебе лучше поспешить, – заметил Джонни. – У него утечка, как в воздушном насосе.
– Без тебя знаю, – огрызнулась Крольчиха. – Пуля засела в легком. А ну-ка, держи его крепче, красавчик!
Вообще-то Джек не слишком сильно брыкался. Здорово ослаб за последнее время. И посвистывание становилось все тише и тише. В комнате было чудовищно жарко – из-за расставленных вокруг постели керосиновых ламп. К тому же они нещадно коптили, и эта вонь смешивалась со страшным запахом гангрены. Надо было открыть окно перед тем, как начинать операцию, но мы не догадались это сделать и теперь в любом случае было уже поздно.
Крольчиха запаслась целым набором щипчиков, но ей никак не удавалось ввести их в рану.
– Мать твою! – выругалась она, отшвырнула щипцы, а потом запустила в кровавую рану всю пятерню и стала шарить там. И вот наконец нашла пулю, подцепила ее, выдернула и бросила на пол. Джонни наклонился, чтобы поднять, но она строго заметила: – Успеешь забрать сувенир, красавчик. Лучше держи своего дружка, и крепче!
Она принялась запихивать в рану марлю.
Джонни приподнял край кухонного полотенца, заглянул под него.
– Успели как раз вовремя, – с ухмылкой заметил он. – Старина Ред Гамильтон уже стал синеть.
За окном послышался шорох шин, подъехала какая-то машина. Вполне возможно, что копы, но тут уж мы ничего не могли поделать.
– А ну-ка, нажми хорошенько, – сказала она мне и показала на дырку с торчащей из нее марлей. – Гладильщица из меня никакая, да и швея тоже, но все же попробую подштопать парнишку.
Мне страшно не хотелось прикасаться к ране, но делать было нечего, пришлось повиноваться. Я надавил на края раны, из нее вытекло еще немного гноя, на сей раз – более водянистого. Тут желудок у меня начало выворачивать наизнанку, и я рыгнул несколько раз. Просто не мог сдержаться.
– Кончай, – сказала она. – Коли считаешь себя мужчиной, способным спустить курок и проделать в человеке дырку, должен и с дыркой уметь обращаться, – и принялась зашивать рану длинными стежками крест-накрест, проталкивая иглу в распухшую плоть. После первых двух я отвел глаза – просто не в силах был смотреть.
– Спасибо тебе, – сказал Джонни, когда она закончила. – И еще хочу, чтоб ты знала, я у тебя в вечном долгу.
– Рано радуешься, – заметила она. – И одного шанса против двадцати не дала бы, что он выкарабкается.
– Он выкарабкается обязательно, вот увидишь, – сказал Джонни.
Тут в комнату ввалились Док и Волни. За ними маячил еще один член банды, Бастер Дэггз, или Дрэггз, точно теперь не помню. Тем не менее именно он бегал звонить по телефону на станции автосервиса, и ему сообщили, что феды вовсю шуруют в Чикаго, гребут всех подряд, кто, как им кажется, мог бы иметь отношение к похищению Бремера – последнему крупному делу банды Баркера. В числе арестованных оказались: Джон Дж. (Босс) Маклафин, у которого были свои люди в среде виднейших чикагских политиков, а также доктор Джозеф Моран по прозвищу Плакса.
– Моран сдаст федам это местечко, – сказал Волни. – Ему это раз плюнуть.
– Может, это вообще вранье, – заметил Джонни. Джек лежал без сознания. Рыжие пряди разметались по подушке и напоминали кусочки мелко скрученной проволоки.
– Ты не хочешь верить, не надо, никто тебя не заставляет, – сказал Бастер. – Мне сообщил это Тимми О’Ши, лично.
– А кто такой этот Тимми О’Ши? Шестерка у Попа? – презрительно заметил Джонни.
– Он племянник Морана, – ответил Док, закрывая тем самым тему.
– Знаю, о чем ты думаешь, красавчик, – сказала Джонни Крольчиха. – Но только зря. Если посадить этого парня в машину и везти в Сент-Пол объездными путями, где не дороги, а сплошь кочки да ухабы, он к утру Богу душу отдаст.
– Вполне можете оставить его здесь, – заметил Волни. – Приедут копы, они о нем и позаботятся.
Джонни сидел в кресле, пот градом катился по лицу. Он выглядел страшно усталым, но улыбался. Джони всегда улыбался.
– Да уж позаботятся, это точно, – выдавил он. – Но только ни в какую больницу они его не повезут. Скорее всего положат подушку на лицо и сядут на нее. – Тут я вздрогнул, вы наверняка догадываетесь почему.
– Что ж, вам решать, – сказал Бастер. – Потому как к рассвету они непременно окружат эту забегаловку. Лично я собираюсь рвать когти.
– Да, поезжайте все, – сказал Джонни. – Это и к тебе относится, Гомер. А я останусь здесь, с Джеком.
– Ну уж нет, черта с два, – сказал Док. – Я тоже остаюсь.
– И то правда. Почему бы нет? – кивнул Волни Дэвис.
Бастер Дэггз, или Дрэггз, посмотрел на них, как смотрят на сумасшедших. И знаете что? Лично меня это ничуть не удивило. Уж кому, как не мне, было знать, каким воздействием на людей обладал наш Джонни.
– Я тоже остаюсь, – сказал я.
– А я сматываюсь, – сказал Бастер.
– Вот и славненько, – заметил Док. – Заодно заберешь с собой Крольчиху.
– Да ну вас к чертям собачьим! – огрызнулась Крольчиха. – Лично я как раз собиралась сварганить чего-нибудь пожрать.
– Совсем, что ли, сбрендила? – спросил ее Док. – Какая еще жратва? На дворе час ночи, и лапы у тебя по локоть в крови.
– Да мне плевать, сколько там сейчас времени, а кровь можно смыть, – сказала она. – Сейчас сварганю вам, мальчики, самый роскошный завтрак в жизни – яйца, бекон, соус, поджаристые такие булочки с хрустящей корочкой.
– Я люблю тебя! Выходи за меня замуж! – сказал Джонни, и мы дружно расхохотались.
– Ладно, – проворчал Бастер. – Раз обещан такой завтрак, я что, рыжий, что ли? Я тоже остаюсь, ненадолго.
Вот так и получилось, что мы остались в том фермерском доме на задворках Авроры. Остались и были готовы умереть ради парня, который – причем не важно, нравилось это Джонни или нет – был уже одной ногой в могиле. Мы забаррикадировали входную дверь диваном и креслами, а черный ход – газовой плитой, которая все равно не работала. Зато дровяная печь еще как работала! Мы с Джонни принесли из «форда» автоматы, Док достал с чердака несколько пушек. И еще – целый ящик гранат, миномет и ящик снарядов к этому самому миномету. Готов побиться об заклад: у армейских частей, стоявших в тех краях, не было такого вооружения! Ха-ха-ха!
– Лично мне плевать, сколько у нас этого добра! – проворчал Док. – Главное, что этот сучий потрох Мелвин Первис с ними, вот что меня угнетает.
К этому времени Крольчиха успела накрыть на стол, время еще раннее, но фермеры встают и завтракают еще засветло. Ели мы по очереди, двое постоянно вели наблюдение за подъездом к дому. Один раз Бастер поднял тревогу, и все разбежались по своим местам, но тревога оказалась ложной – просто по дороге проехал грузовик с молоком. А копы так и не явились. Можете считать, что информация была ложной. Но лично я приписываю это удачливости Джонни.
Джеку тем временем становилось все хуже. К середине следующего дня даже Джонни, наверное, стало ясно, что дружку его долго не протянуть, но он предпочитал помалкивать об этом. Лично мне было жалко ту женщину. Крольчиха увидела, как между крупными черными стежками на ране снова просачивается гной, и заплакала. Сидела и лила слезы. Точно знала Джека Гамильтона всю свою жизнь.
– Не переживай, – сказал ей Джонни. – Не убивайся так, красотка! Ты сделала все, что могла. И потом, может, он еще выкрутится.
– А все потому, что я доставала эту чертову пулю пальцами! – всхлипнула Крольчиха. – Не надо было этого делать. Уж мне лучше знать.
– Ничего подобного, – встрял я. – Дело совсем не в том. Дело в гангрене. Гангрена, она уже была там.
– Много ты понимаешь! – огрызнулся Джонни и гневно сверкнул глазами. – Инфекция, возможно, но только не гангрена. И уж тем более сейчас никакой гангрены у него нет.
Как же, как же, подумал я. Да у него был гнойный запах этой самой гангрены. Но что мы могли поделать?..
Джонни все еще не сводил с меня сердитых глаз. «Помнишь, как Гарри называл тебя еще тогда, в Пендлтоне?»
Я кивнул. Гарри Пирпонт и Джонни всегда были закадычными дружками, а вот я Гарри никогда не нравился. Если б не Джонни, он бы никогда не взял меня в банду, а ведь с самого начала, если вы помните, это была банда Гарри Пирпонта. Гарри считал меня дураком. Еще одна вещь, которую никогда не признавал Джонни, даже отказывался это обсуждать. Джонни хотел, чтобы все были друзьями.
– Хочу, чтоб ты пошел и заарканил несколько тварей, но только покрупнее. Самых жирных, визгливых и зловредных, – сказал мне Джонни. – Ну, помнишь, как тогда, в Пендлтоне. – Как только он попросил меня об этом, я сразу понял: теперь и до него наконец дошло, что Джеку кранты.
Мальчик-Муха – так прозвал меня Гарри Пирпонт в исправительной тюрьме Пендлтон, еще в ту пору, когда все мы были мальчишками. И где я плакал по ночам, закрыв голову подушкой, чтобы не услышали охранники. Что ж, с тех пор немало воды утекло, а Гарри кончил дни на электрическом стуле в тюрьме штата Огайо, так что не один я, как выяснилось, был дураком.
Крольчиха хлопотала на кухне, готовила обед, резала овощи. На плите что-то кипело в горшочке. Я спросил, не найдется ли у нее нитки, на что она ответила, что мне, черт возьми, прекрасно известно, нитки у нее имеются, разве я сам не стоял рядом и не видел, чем именно она зашивает моего дружка? Не спорю, ответил я, но только то были черные нитки, а мне нужны белые. С полдюжины кусков, примерно вот такой длины. И я растопырил пальцы ладони дюймов на восемь. Тут ей понадобилось знать, для чего мне они. На что я ответил, что если ей так интересно, может подойти вон к тому окну, над раковиной, и посмотреть.
– Да оттуда ни хрена не видать, кроме сортира, – сказала она. – И знаете, мне совсем не интересно смотреть, как вы справляете личную нужду, мистер Ван Митер, – язвительно добавила она.
На двери в кладовую у нее висела сумочка. Она порылась в ней, достала моток белых ниток и отрезала мне шесть кусков. Я сердечно поблагодарил Крольчиху, а потом спросил, не найдется ли у нее пластыря. Пластырь нашелся – она достала его из ящика буфета и объяснила, что держит здесь потому, что постоянно режет пальцы. Я взял пластырь и вышел на улицу.
В исправительную тюрьму Пендлтон я попал за то, что воровал кошельки в поездах на Нью-Йоркской центральной железной дороге. С тем же «диагнозом» угодил туда и Чарли Мэкли – мир, как говорится, тесен. Ха! Власти стремились занять плохих парней каким-то делом, и исправительная тюрьма Пендлтон, штат Индиана, была забита под завязку. Там имелась прачечная, плотницкая мастерская, а также целая фабрика по пошиву одежды, где заключенные шили штаны и рубашки, в основном для охранников и прочих сотрудников пенитенциарной системы штата Индиана. Кое-кто из ребят называл это портковым ателье, другие – просто дерьмовым. Там я и познакомился с Джонни и Гарри Пирпонтом. У Гарри и Джонни никогда не возникало проблем с выполнением плана, мне же всякий раз не хватало десяти рубах или пяти пар штанов, и в наказание меня заставляли стоять на циновке. Охранники считали, что все это потому, что я постоянно валяю дурака, Гарри думал то же самое. Но истинная причина крылась в том, что я был нерасторопен и неуклюж, и Джонни это понимал. С этого-то всё и началось.
Если заключенный не выполнял плана, его на весь следующий день отправляли в будку для охранников, где на полу была постелена тростниковая циновка размером два квадратных фута. Заключенному полагалось снять с себя все, кроме носков, и простоять на этой циновке весь день. Стоило хоть раз сойти с нее, и ты получал плеткой по заднице. Стоило сойти дважды – ты получал уже нешуточную взбучку, когда один из охранников держал тебя, а другой метелил почем зря. Стоило сойти в третий раз – и тебя на неделю отправляли в одиночную камеру. Разрешалось пить воду, сколько хочешь, от пуза, но в том-то и заключалась главная подлость – в туалет водили только один раз в день. А если тебя заставали стоящим на циновке и писающим прямо на нее, ты получал такую взбучку, что небо казалось с овчинку, после чего тебя бросали в яму.
Все это было страшно утомительно и скучно. Скучно в Пендлтоне, скучно в Мичиган-Сити, в тюрьме для взрослых ребят. И заключенные пытались хоть как-то разнообразить свое существование. Кто-то рассказывал разные байки. Кто-то пел. Другие составляли списки женщин, которых собирались трахнуть, выйдя на свободу.
Что касается меня, так я научился ловить арканом мух.
Лучшего места, чем сортир, для ловли мух не сыскать. Я занял боевой пост у двери и принялся делать петли на нитках, которые дала мне Крольчиха. После этого оставалось только ждать. И не шевелиться, чтобы не спугнуть добычу. Всему этому я научился во время долгих стояний на циновке. Такие навыки не забываются.
Ждать пришлось недолго. В начале мая мух появляется предостаточно, причем они еще достаточно сонные, а потому двигаются медленно. И любой, кто думает, что заарканить муху или слепня с помощью лассо невозможно… что ж, считайте, как хотите, можете для разнообразия заарканить комара.
После трех попыток я наконец добыл первую. Это еще цветочки; иногда, стоя на циновке, я проводил полдня, прежде чем удавалось заарканить хотя бы одну. А после этого добыча так и пошла косяком. Крольчиха крикнула из окна:
– Эй, чем это ты там занимаешься, черт бы тебя побрал? Колдуешь, что ли?
Издали это вполне могло показаться колдовством. Можете вообразить, как это выглядело с расстояния, скажем, двадцати ярдов: стоит у сортира мужчина и забрасывает лассо из тоненькой нитки – издали ее даже не видно, – и вместо того чтобы упасть на землю, нитка зависает в воздухе! А все потому, что в петлю попался солидных размеров слепень. Джонни бы наверняка увидел, но в том, что касается остроты зрения, никто не мог тягаться с нашим Джонни, даже Крольчиха.
Я потянул за свободный конец нитки и прилепил ее к дверной ручке сортира с помощью пластыря. Затем начал охотиться за следующей мухой. А потом – еще за одной. Из дома вышла снедаемая любопытством Крольчиха. Я разрешил ей остаться, но только предупредил, чтобы вела себя тихо. И она старалась вести себя тихо, но не очень-то получалось; в результате я сказал, что она распугала мне всю добычу, и велел убираться, откуда пришла.
У сортира я проторчал часа полтора – достаточно долго, чтобы уже не чувствовать запаха. Похолодало, и мухи стали совсем вялыми. В общей сложности удалось поймать пять. По меркам Пендлтона, это считалось бы целым стадом, но лично я считаю такое сравнение неуместным. Ведь там далеко не всякому ловцу мух удавалось занять столь выгодную позицию, возле сортира. Как бы там ни было, но охоту пришлось прекратить, холод разогнал всех мух в округе.
Я медленно прошел через кухню, Док, Волни и Крольчиха хлопали в ладоши и хохотали. Спальня Джека находилась в глубине дома, и там было темно. Именно поэтому я и попросил белые нитки, а не черные. Наверное, в тот момент я походил на человека, несущего связку невидимых воздушных шаров на ниточках. За тем разве что исключением, что мухи громко жужжали. Небось недоумевали и возмущались, бедняжки, что же такое с ними произошло.
– Провалиться мне на этом самом месте! – воскликнул Док Баркер. – Нет, правда, Гомер! Где ты этому научился?
– В исправительной тюрьме Пендлтон, – сказал я.
– И кто тебе показал эту хохму?
– Да никто, – ответил я. – Просто попробовал раз и получилось.
– Но почему нитки у них не спутались? – спросил Волни. Глаза у него были круглыми, как виноградины. И мне почему-то стало страшно приятно.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/stiven-king/vse-predelno-165038/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
«Спрингер» – одно из самых популярных и скандальных ток-шоу США, которое покупают телекомпании многих стран мира. Создатель и ведущий шоу – Джерри Спрингер.
2
Метка – горка песка, конусообразная деревянная или пластмассовая подставка, на которую кладут мяч для первого удара.
3
Болтон Майкл (р. 1953) – известный музыкант, композитор, исполнитель и автор баллад в стиле соул.
4
Максимальное число лунок на поле для гольфа – восемнадцать. Девятнадцатая – бар в гольф-клубе.
5
«Спасатели Малибу», «Мелроуз Плейс» – телесериалы, соответственно 1989–1999 и 1995–1997 гг.
6
Клей Эндрю Дайс – ведущий современный комик США, «король комедии».
7
Следж Перси – знаменитый исполнитель в стиле соул, прозванный «Золотым голосом души».
8
Сиско Кид – герой фильмов, телесериалов, комиксов, Робин Гуд Старого Запада, которого всегда сопровождает верный друг Панчо.
9
«Риск» – телевикторина, требующая от участников высокой эрудиции. Идет с 1974 года. Российский аналог – «Своя игра».
10
Марти Стюарт (р. 1958) – американский певец, гитарист.
11
Беннетт Тони (р. 1926) – настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто, известный певец, тенор.
12
Mein Herr – мой господин (нем.).
13
94,2 градуса по Фаренгейту соответствуют 34,9 по Цельсию.
14
98,6 градуса по Фаренгейту соответствуют 36,6 по Цельсию, то есть нормальной температуре человеческого тела.
15
Огаста – столица (с 1931 г.) штата Мэн.
16
«Куинси, М.Э.» – детективный телесериал 1976–1983 гг., главным героем которого являлся доктор Куинси, медицинский эксперт.
17
Полианна – героиня одноименной детской книжки Элинор Поттер, символ ничем не оправданного оптимизма.
18
«Хоршоу коллекшн» – фирма, торгующая по каталогам и через Интернет.
19
Джон Дир (1804–1887) – американский изобретатель и промышленник, в 1837 году изобрел новый тип плуга.
20
Э.э. каммингс – Каммингс Эдуард Эстлин (1894–1962) – американский поэт, во многом близкий европейским футуристам. Отвергал конформизм, снобизм и несвободу людей. Отказался от многих грамматических норм, знаков препинания, заглавных букв, в том числе в написании собственного имени.
21
Автомат (пистолет-пулемет) Томпсона – оружие периода Первой мировой войны, созданное оружейником Дж. Томпсоном; широко использовался гангстерами в период «сухого закона», они называли его «чикагской скрипкой», поскольку автомат легко умещался в футляре для скрипки.
22
Филдз Уильям Клод (1880–1946) – больше известен как «У.К. Филдс». Актер, автор сценариев многих фильмов, выступал на эстраде с комическими номерами, в 30-е годы – ведущий комик и острослов Америки.
23
«Луп» («Петля») – деловой, культурный и торговый центр Чикаго.
Стивен Кинг
«Команда скелетов». «Ночная смена». «Ночные кошмары и фантастические видения»… Вы помните эти названия? Как известно, Стивен Кинг дарит почитателям своего таланта новый сборник повестей и рассказов примерно раз в семь лет. И теперь перед вами – новый сборник «короля ужасов». Сборник, где Стивен Кинг наконец-то предстает перед читателем во всей многогранности своего таланта – то тонкого и интеллектуального, то жесткого и мрачного…
Это – Стивен Кинг, каков он есть.
Стивен Кинг
Все предельно (сборник)
Посвящается Шейн Леонард
Я поступил просто: достал из колоды все пики и добавил к ним джокера. От туза до короля – 13. Плюс джокер – четырнадцать. Перемешал карты и разложил. Как они выпали, в таком порядке я и расставил рассказы, отталкиваясь от списка, который прислал издатель. В итоге получился на удивление удачный баланс между литературными рассказами и «ужастиками». Прибавил также несколько строк комментариев до или после каждого рассказа, в зависимости от того, где они уместнее. Итак, сборник рассказов, место которых определено картами.
Предисловие: работа в утерянном (почти) жанре
Я уже многократно писал о радости, получаемой от самого процесса писательства, и не вижу смысла повторяться, но должен сделать одно признание: я также получаю дилетантское удовольствие, вмешиваясь в деловые вопросы, связанные с моим творчеством. Нравится мне придумывать что-то новенькое, использовать какой-нибудь нестандартный ход. Я пытался писать визуальные романы («Буря столетия», «Красная роза»), сериальные романы («Зеленая миля»), сериальные романы в Интернете («Растение»). Речь идет не о том, чтобы заработать больше денег и даже не о создании новых рынков. Это попытка взглянуть на творчество, писательство под иным углом и таким образом внести свежую струю в процесс создания артефактов, в моем случае – литературных произведений, а если говорить конкретно об этом сборнике – рассказов, дабы они доставляли читателям как можно больше удовольствия.
Сперва я хотел добавить «меня сам процесс радовал новизной», но потом вычеркнул эти слова, чтобы не кривить душой. Скажите, дамы и господа, кому я этим могу запудрить мозги, кроме как себе? Я продал свой первый рассказ в двадцать один год, когда учился в колледже. Сейчас мне пятьдесят четыре, и очень, очень много слов прошло через компьютер весом в 2,2 фунта, на котором я ношу бейсболку «Ред сокс». В написании рассказов нового для меня давно уже ничего нет, но это не означает, что сам процесс потерял привлекательность. Однако, если бы я не находил способов сохранять это занятие захватывающим и интересным, оно наверняка мне надоело. Я не хочу, чтобы такое произошло, потому что не считаю возможным обманывать тех, кто читает мои произведения (а это вы, дорогой Постоянный Читатель), и не намерен обманывать себя. Мы в конце концов пара. У нас свидание. Мы должны развлекаться. Танцевать. Наслаждаться временем, проведенным вместе.
Пожалуйста, помните об этом, а пока другая история. Нам с женой принадлежат две радиостанции, смекаете? WZON-AM, она специализируется на спорте, и WKIT-FM, ее конек – классический рок (как мы говорим, «Рок Бангора»). Радио – далеко не самый прибыльный бизнес, особенно в Бангоре, где слишком много радиостанций и недостаток слушателей. Мы крутили современную кантри, классическую кантри, ретро, классическое ретро, Раша Лимбау, Пола Харви, Кейзи Казема. Радиостанции Стива и Тэбби Кинг многие годы приносили одни убытки, не слишком большие, но достаточные, чтобы нервировать меня. Мне нравится ходить в победителях, и хотя мы выигрывали в рейтингах компании «Арбитрон», которые для радио то же самое, что рейтинги Нилсена для ТV, в конце каждого года выяснялось, что потратили больше денег, чем заработали. Мне объясняли, что рекламный бюджет рынка Бангора не столь велик, и пирог режется на слишком много кусков.
И тогда у меня возникла идея. Напишу радиопьесу, решил я, вроде тех, что любил слушать с дедушкой в Дархэме, штат Мэн. Хэллоуинскую радиопьесу, черт побери! Я знал, разумеется, о знаменитой, или позорной, хэллоуинской адаптации «Войны миров», которую Орсон Уэллс сделал на «Меркури тиэтре». Идея Орсона Уэллса (безусловно, гениальная идея) состояла в том, чтобы превратить классический роман Герберта Уэллса о вторжении марсиан на Землю в серию информационных выпусков и репортажей. Идея сработала. Сработала настолько блестяще, что страну охватила паника, и Уэллсу (Орсону – не Герберту) на следующей неделе пришлось извиняться перед радиослушателями (готов спорить, извинялся он с улыбкой на лице… знаю, что я улыбался бы, если довелось столь убедительно лгать).
Я подумал: что сработало для Орсона Уэллса, сработает и для меня. Вместо танцевальной музыки, с которой начиналась адаптация Уэллса, я намеревался начать свою пьесу с песни Теда Ньюджента «Кошачья лихорадка». А потом в эфир вышел бы один из наших настоящих радиоведущих (ди-джеями их уже никто не называет). «Это Джи-Джи Уэст, новости WKIT, – скажет он. – Я нахожусь в деловом центре Бангора, где более тысячи человек столпилось на Пикеринг-сквер, наблюдая, как большой серебристый дискообразный объект опускается на землю… одну минутку, если я подниму микрофон, вы, возможно, все услышите сами».
И пошло-поехало. Я мог бы использовать домашнюю студию для создания необходимых звуковых эффектов, актеров местного муниципального театра, но каков главный плюс? Самый главный плюс? Записанную пьесу мы могли продавать радиостанциям по всей стране! Так что прибыль, полагал я (и мой бухгалтер со мной согласился), пошла бы по статье «Доходы радиостанции», а не «Доходы от продажи литературного произведения». Таким образом можно было компенсировать недостаток денег, получаемых от рекламы, и в конце года вывести наши радиостанции из зоны убытков!
Идея написать радиопьесу захватила меня так же, как и возможность превратить наши радиостанции из убыточных в прибыльные благодаря писательскому мастерству. И что из этого получилось? Я не смог этого сделать, вот что. Как ни пытался, все, что выходило из-под моего пера, вернее, появлялось на дисплее компьютера, звучало как повествование. Не пьеса, развитие действия которой легко рисуется в вашем воображении (те, кто постарше и помнит такие радиопрограммы, как «В тревожном ожидании» и «Дымящееся ружье», понимают, о чем я), а наговоренная на пленку книга. Уверен, с тем, что я написал, мы все равно могли выйти на рынок и заработать какие-то деньги, но я знал, что успеха эта пьеса иметь не могла. Она скучна. Обманывает ожидания слушателей. Не получилась она у меня, и я не знаю, как ее выправить. Радиопьесы, как мне представляется, – утерянный жанр. Мы лишились способности видеть нашими ушами, которой не так уж давно обладали. Я же собственными ушами слышал по радио, как какой-то парень постукивал костяшками пальцев по полому куску дерева… и ясно, как божий день, видел Мэтта Диллона, в пыльных сапогах подходившего к стойке бара в салуне «Лонг Бранч». Увы. Те дни канули в Лету.
Писать пьесы в шекспировском стиле, комедии и трагедии, вырастающие из белого стиха, – еще один утерянный жанр. Люди пока ходят на студенческие постановки «Гамлета» и «Короля Лира», но будем честны перед собой: как вы думаете, сможет ли хоть одна из этих пьес составить конкуренцию передаче «Слабое звено» или сериалу «Сервайвер Пять: прикованный к Луне», даже если Гамлета сыграет Брэд Питт, а Полония – Джек Николсон. И хотя народ любит разгул страстей, бушующих в «Короле Лире» или «Макбете», от наслаждения неким жанром до способности сказать новое слово в этом жанре – дистанция огромного размера. Время от времени кто-то пытается поставить пьесу, написанную белым стихом на Бродвее или рядом с ним. Все эти попытки неизменно проваливаются.
Поэзия – не утерянный жанр. Поэзия чувствует себя даже лучше, чем раньше. Разумеется, привычная банда идиотов (как называли себя сотрудники журнала «Мэд») никуда не делась, это люди, путающие претенциозность с талантом, но при этом достаточно и настоящих мастеров своего дела. Если вы мне не верите, загляните в литературные журналы или местный книжный магазин. На каждые шесть никудышных стихотворений вы найдете одно или два хороших. А это, уверяю вас, очень приличное соотношение пустой породы и полезного продукта.
Рассказ – пока еще не утерянный жанр, но я готов спорить, что в сравнении с поэзией он стоит гораздо ближе к краю пропасти небытия. Продав свой первый рассказ в 1968 году, я уже слышал стоны по поводу неуклонного сокращения рынка: дешевые журналы ушли, дайджесты уходили, еженедельные приложения (вроде «Сэтеди ивнинг пост») умирали. За прошедшие годы я собственными глазами видел, как сужается рынок рассказов. Господи, благослови те маленькие журналы, где молодые писатели до сих пор могут публиковать рассказы, получая за это авторские экземпляры. Господи, благослови тех редакторов, которые до сих пор читают горы самотека (значительно увеличившиеся из-за страха, вызванного приходом нового тысячелетия). Господи, благослови тех издателей, которые еще дают зеленый свет антологиям новых рассказов, но Богу нет нужды проводить целый день, даже обеденный перерыв, благословляя этих людей. Хватит десяти или пятнадцати минут. Их мало, и с каждым годом становится все меньше. Журнала «Story», трамплина для молодых писателей (включая меня, хотя я на его страницах практически не публиковался), уже не существует. Так же как и журнала «Amazing Stories», несмотря на регулярно повторяющиеся попытки оживить его. Интересные научно-фантастические журналы, вроде «Vertex», закрылись, как и журналы, специализирующиеся на «ужастиках», такие, как «Creepy» и «Eerie». Этих прекрасных периодических изданий давно уже нет. Время от времени кто-то пытается возобновить издание одного из них. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, такая попытка предпринимается в отношении «Weird Tales». Практически все они заканчиваются неудачно. Как и в случае с пьесами, написанными белым стихом, не успеешь моргнуть, как открывшиеся журналы уже закрываются. Ушедшее вернуть невозможно. У потерянного есть свойство оставаться потерянным.
Я из года в год продолжаю писать рассказы, частично потому, что время от времени по-прежнему приходят идеи, отличные компактные идеи, на реализацию которых требуется три тысячи слов, может, девять, максимум пятнадцать, частично, потому что это способ доказать, как минимум себе, что я не исписался, что бы там ни говорили недоброжелательные критики. Рассказы – все та же штучная работа, аналог уникальных авторских экземпляров, которые можно купить только в магазине художественных изделий. Если у вас хватит терпения и вы подождете, пока их сделают прямо при вас в подсобке.
Но нет никаких причин, чтобы рассказы продавались теми же дедовскими методами только потому, что создаются они, как и прежде. Нет причин утверждать (как это делают многие критики), что способ, каким продается творение писателя, может в какой-то степени бросить тень на само творение или ухудшить его качество.
Здесь я говорю о большом рассказе (можно сказать, повести) «Катаясь на „Пуле“», который я продал самым необычным для себя способом, рассказе, иллюстрирующем многие из высказанных мною положений: утерянное не так-то легко вернуть, если что-то ушло в прошлое, значит, ни в настоящем, ни в будущем в прежнем виде ему не место, но новые подходы к одному из аспектов писательства, коммерческому аспекту, иногда могут оживить весь процесс.
Над «Пулей» я работал, завершив «Как писать книги», когда выздоравливал после автомобильной аварии и пребывал в весьма неважнецком состоянии. Творчество отвлекало меня от боли (и продолжает отвлекать), действовало лучше любого болеутоляющего. История, которую я хотел рассказать, очень проста; в чем-то похожа на те истории, что иногда рассказывают воспитатели у костра в летнем лагере. Речь в ней идет о человеке, остановившем попутную машину, за рулем которой сидел мертвец.
Когда, работая над рассказом, я углублялся в нереальный мир своих фантазий, высокотехнологичные «виртуальные» компании росли как на дрожжах в таком же нереальном мире интернет-коммерции. Крепла убежденность, что так называемые электронные книги несут в себе смерть обычным, с обложкой, страницами, которые надо переворачивать руками (страницы эти иногда еще и выпадали, если клей был слабым, а переплет – старым). В начале 2000 года огромный интерес вызвало эссе Артура Кларка, опубликованное только в киберпространстве.
Оно оказалось исключительно коротким (как сестринский поцелуй, подумал я, когда первый раз прочитал его). Мое творение, когда я поставил последнюю точку, оказалось достаточно длинным. Сюзан Молдоу, мой редактор в «Скрибнере» (будучи фанатом «Секретных материалов», я зову ее агент Молдоу… вы с этим справитесь), как-то позвонила мне, с подачи Вичинанцы, и спросила, нет ли у меня чего-то такого, с чем можно попытаться выйти на электронный рынок. Я отослал ей «Пулю», и мы трое, Сюзан, «Скрибнер» и я, отметились в истории издательского дела. Несколько сотен тысяч человек скачали рассказ, и я заработал неприлично много денег (только это ложь, неприлично много денег заработать нельзя). Даже права на аудиокнигу принесли больше ста тысяч долларов, на удивление крупную сумму.
Я хвалюсь? Раздуваю щеки? Пожалуй, да. Но я также говорю вам, что «Катаясь на „Пуле“» чуть не довела меня до безумия. Обычно, если я попадал в зал отдыха аэропорта, остальные клиенты меня не замечали. Все они разговаривали по мобильникам или заключали сделки в баре. Меня это вполне устраивало. Изредка, сознаюсь, кто-то да подходил и просил расписаться на салфетке для его жены. Жена, сообщал мне этот одетый в строгий костюм, вооруженный брифкейсом мужчина, прочитала все ваши книги. Он, к сожалению, ни одной. Он хотел, чтобы я знал и об этом. Слишком занят. Зато прочитал «Семь привычек людей, добившихся успеха». Надо торопиться, знаете ли, до первого инфаркта каких-то четыре года, за оставшееся время необходимо обеспечить свое будущее.
После того как «Пулю» опубликовали в виде интернет-книги (с виртуальной обложкой, логотипом «Скрибнера» и всем остальным), покой мне только снится. В залах отдыха аэропортов меня осаждала толпа. Даже в зале отдыха «Амтрака» в Бостоне. Меня останавливали на улице. Я чуть ли не по три раза на день отказываюсь от участия в ток-шоу (хотел выступить в «Спрингере»[1 - «Спрингер» – одно из самых популярных и скандальных ток-шоу США, которое покупают телекомпании многих стран мира. Создатель и ведущий шоу – Джерри Спрингер.], но Джерри меня не пригласил). Я даже попал на обложку «Тайм». «Нью-Йорк таймс» с важным видом отметила успех «Катаясь на „Пуле“» и предрекла неудачу моему следующего киберпроизведению, «Растению». Святый Боже, моя физиономия украсила первую страницу «Уолл-стрит джорнал». По собственной неосторожности я стал важной персоной.
Так что сводило меня с ума? Почему мне казалось, что я потерпел неудачу? Да потому, что до самого рассказа никому не было дела. Черт, да никто даже не задал вопроса о нем, и знаете, что я вам скажу? Это очень неплохой рассказ, если вас интересует мое мнение. Простой, но забавный. Выполняет свою работу. Если он заставит вас отвлечься от телевизора (а он заставит, как и остальные рассказы этого сборника), значит, я добился успеха.
После появления «Пули» в Интернете все эти господа в галстуках хотели знать: «Как идут дела? Как продается рассказ?» Как я мог объяснить им, что мне наплевать на цифры продаж, что для меня главное – отклик, который нашел рассказ в сердцах читателей. Задел за живое? Оставил равнодушным? Шевельнулись ли волосы на затылке, все-таки это одно из требований к качественному «ужастику». Со временем до меня дошло, что передо мной – еще одно свидетельство отступления жанра, еще один шаг по дороге, ведущей к полному его забвению. Есть что-то декадентское в появлении на обложке ведущего периодического издания только потому, что ты нашел альтернативный путь на рынок. Крайне неприятно сознавать, что твоих читателей прежде всего интересует новизна электронной упаковки, а не ее содержимое. Хочу ли я узнать, сколько читателей, скачавших «Катаясь на „Пуле“», прочитали «Катаясь на „Пуле“»? Нет. Думаю, что меня ждет сильное разочарование.
Интернет-публикации могут стать – а могут и не стать – хитом будущего. Поверьте, мне это без разницы. Для меня это лишь еще один способ подстегнуть свое увлечение писательством. С тем, чтобы потом мои произведения увидело как можно больше людей.
Эта книга скорее всего какое-то время пробудет в списке бестселлеров; с этим мне везет. Но, если вы отыщете ее там, задайтесь вопросом: а сколько других сборников рассказов попадало в списки бестселлеров в течение любого, отдельно взятого года и как долго издатели будут продолжать публиковать книги, не вызывающие особого интереса читателей? А вот для меня одно из самых больших удовольствий в жизни – это холодным вечером сесть в любимое кресло с чашкой горячего чая и, прислушиваясь к воющему за стенами ветру, погрузиться в хорошую историю, которую можно прочитать за один вечер.
Писать их далеко не столь приятно. Я могу назвать только два рассказа из этого сборника, титульный и «Теорию домашних любимцев: постулат Л.Т.», которые не потребовали усилий, несоизмеримо больших в сравнении с достигнутым результатом. И однако, я думаю, что мне удается поддерживать интерес к написанию рассказов, во всяком случае, в себе, потому что не проходит и года, чтобы я не написал как минимум один или два. Не ради денег, даже не из любви к искусству, но из чувства долга. Потому что, если ты хочешь писать рассказы, ты должен не только размышлять – а не написать ли рассказ, но и что-то делать. Написание рассказов больше напоминает не езду на велосипеде, а занятия в тренажерном зале. Выбор принадлежит тебе: или ты тренируешься, или забываешь, как это делается.
Увидеть собранные под одной обложкой рассказы для меня большая радость. Надеюсь, и вы разделите ее со мной. Вы можете дать мне знать об этом на сайте www.stephenking.com, и вы можете сделать мне (и себе) приятное: если эти рассказы вам понравятся, купите еще один сборник. Например, «Кот Сэм» Меттью Клэма или «Отель „Эдем“» Рона Карлтона. И это только двое из многих хороших писателей, мастерски пишущих рассказы, и, хотя официально на дворе двадцать первый век, они продолжают работать по старинке, пишут слово за словом. И формат, в котором работают, нисколько не меняется. Если вам не хочется, чтобы жанр рассказа умер, поддержите их. И лучший способ поддержки также не изменился: прочитайте их рассказы.
Мне хотелось бы поблагодарить нескольких из тех людей, кто читал мои рассказы: Билла Буфорда из «Нью-Йокера», Сюзан Молдоу из «Скрибнера», Чака Веррилла, который на протяжении многих лет редактирует мои произведения, Ральфа Вичинанцу, Артура Грина, Гордона ван Гелдера и Эда Фермана из «Magazine of Fantasy and Science Fiction», Ная Уиллдена из «Cavalier», ушедшего от нас Роберта А.У. Лаундеза, который купил мой первый рассказ в 1968 году. И, самое главное, мою жену, Табиту, остающуюся моим любимым Постоянным Читателем. Эти люди многое сделали и делают для того, чтобы рассказ не превратился в утерянный жанр. Я тоже. И вы, благодаря тому, что покупаете (тем самым способствуя допечаткам тиража) и читаете. Вы прежде всего, Постоянный Читатель. Именно вы.
Стивен Кинг
Бангор, штат Мэн
11 декабря 2001 г.
Секционный зал номер четыре
Какое-то время очень темно, как долго – не знаю, но думаю, я по-прежнему без сознания. Потом, очень медленно, соображаю, что в бессознательном состоянии люди не ощущают движения во тьме, сопровождаемого слабым ритмичным звуком, издавать который может только вращающееся поскрипывающее колесо. И я чувствую прикосновения, от макушки до пяток, а в нос бьет запах резины или винила. Я в сознании, здесь что-то другое… но что? Ощущения слишком уж конкретные, я определенно не сплю.
Тогда что со мной?
Кто я?
Что вообще происходит?
Скрип колеса прекращается вместе с движением. Материал с резиновым запахом, в который я упакован, потрескивает.
– Куда, они говорят, его? – чей-то голос.
Пауза.
– В четвертый, думаю. Да, в четвертый.
Мы вновь начинаем двигаться, но медленнее. Я слышу шуршание обуви по полу. Подошвы мягкие, возможно, это кроссовки. Обладатели голосов, они же владельцы кроссовок, вновь останавливают меня. Глухой стук, потом едва слышный свист. По-моему, открылась дверь с пневматическим доводчиком.
«Что здесь происходит?» Я кричу, но крик раздается только в моей голове. Губы не двигаются. Я чувствую их, и язык, лежащий на дне рта, как оглушенный крот, но не могу ими пошевелить.
Штуковина, на которой я лежу, катится вновь. Движущаяся кровать? Да. Каталка, другими словами. Мне уже приходилось иметь с ними дело, давным-давно, во время гребаной азиатской авантюры Линдона Джонсона. До меня доходит, что я в больнице, что-то плохое случилось со мной, что-то вроде взрыва, едва не отправившего меня к праотцам двадцать три года назад, и меня будут оперировать. Логичная вроде бы мысль, да только у меня ничего не болит. Если не считать одного пустячка – я до смерти напуган, в остальном со мной полный порядок. Опять же, если санитары везут меня в операционную, почему я ничего не вижу? Почему не могу говорить?
Третий голос: «Сюда, ребята».
Мою каталку разворачивают в новом направлении, а в голосе бьется вопрос: «В какую я угодил передрягу?»
«Разве это не зависит от того, кто ты?» – спрашиваю я себя, и тут выясняется, что последнее я как раз и знаю. Я – Говард Коттрелл. Биржевой брокер, прозванный коллегами Говардом Завоевателем.
Второй голос (аккурат над моей головой): «Вы сегодня просто красавица, док».
Четвертый голос (женский, очень холодный, просто ледяной): «Твоя оценка для меня очень важна, Расти. Не могли бы вы поторопиться? Я обещала няне, что вернусь к семи вечера. Она должна обедать с родителями».
Вернуться к семи, вернуться к семи. Еще вторая половина дня, может, и ранний вечер, но здесь темно, темень, что твоя шляпа, темно, как в заднице у сурка, темно, как в Персии в полночь, так что же происходит? Где я был? Что делал? Почему не сидел на телефонах?
«Потому что сегодня суббота, – шепчет внутренний голос. – Ты был… был…»
БАЦ. Короткий резкий удар. Звук, который мне нравится. Звук, ради которого я в некотором смысле живу. Звук… чего? Удара клюшки для гольфа по мячу, который лежит на метке[2 - Метка – горка песка, конусообразная деревянная или пластмассовая подставка, на которую кладут мяч для первого удара.]. Я стою, наблюдая, как он улетает в синеву…
Меня хватают за плечи и бедра, поднимают. От неожиданности я пытаюсь закричать. Ни звука не срывается с губ… ну, может, один тоненький писк, гораздо тише скрипа колеса. Может, не срывался и он. Может, мне прислышалось.
Меня несут по воздуху в коконе тьмы… «Эй, только не бросайте, у меня больная спина!» – пытаюсь сказать я, но вновь ни губы, ни зубы не двигаются; язык лежит на дне рта, крот, возможно, не просто оглушенный, а мертвый, и тут у меня возникает ужасная мысль, подталкивающая к пучине паники: если они положат меня не так, а язык соскользнет назад и перекроет трахею? Я же не смогу дышать! Именно это имеется в виду, когда говорят, что «кто-то проглотил язык», не так ли?
Второй голос (Расти): «Этот вам понравится, док, он выглядит, как Майкл Болтон»[3 - Болтон Майкл (р. 1953) – известный музыкант, композитор, исполнитель и автор баллад в стиле соул.].
Женщина-врач: «Это кто?»
Третий голос – по звуку молодой человек, почти подросток: «Белый певец, который хочет быть черным. Не думаю, что это он».
Мужчины смеются, женский голос присоединяется к ним (после короткой паузы), а меня кладут, по ощущениям, на набитый ворсом или ватой стол, Расти отпускает какую-то новую шутку, у него их, похоже, неиссякаемый запас. Я ее не воспринимаю, потому что в этот момент меня охватывает безотчетный ужас. Я не смогу дышать, если язык перекроет мне трахею, эта мысль только что буравила мне мозг, но теперь ей на смену пришла другая: а что, если я уже не дышу?
Что, если умер? Что, если это и есть смерть?
Все сходится. До мельчайших подробностей. Темнота. Запах резины. Это сегодня я Говард Завоеватель, уникальный биржевой брокер, звезда «Загородного муниципального клуба Дерри», завсегдатай, как говорят на многих полях для гольфа, разбросанных по всему миру, Девятнадцатой лунки[4 - Максимальное число лунок на поле для гольфа – восемнадцать. Девятнадцатая – бар в гольф-клубе.], но в 1971 году я состоял в санитарной команде в дельте Меконга – испуганный мальчишка, часто просыпающийся с заплаканными глазами, потому что ему снилась оставшаяся дома собака. И я сразу понимаю, откуда мне известны эти ощущения, этот запах.
Святой Боже, я в мешке для трупов.
Первый голос: «Распишитесь вот здесь, док. Нажимайте сильнее… чтобы пропечаталось на всех трех экземплярах».
Звук ручки, царапающей по бумаге. Я представляю себе, как обладатель первого голоса держит папку, в которой лежат три экземпляра сопроводительного листа.
О дорогой Иисус, не дай мне умереть! Я пытаюсь закричать, но ни единого звука не слетает с моих губ.
Но я при этом дышу… не так ли? Нет, я не чувствую, что дышу, но легкие у меня вроде в порядке, они же не трепыхаются, не требуют воздуха, как случается, если надолго уходишь под воду, значит, я в норме?
«Только учти, если ты мертв, – шепчет внутренний голос, – воздуха они требовать не будут, правда? Не будут, потому что мертвым легким дышать не надо. Мертвые легкие могут… обходиться без него».
Расти: «А что вы делаете вечером в следующую субботу, док?»
Но, если я мертв, как могу чувствовать? Как могу ощущать запах мешка, в котором лежу? Как могу слышать голоса, вот и док сейчас говорит, что в следующую субботу она будет мыть шампунем свою собаку, звать ее Расти, какое совпадение, и все они смеются. Если я мертв, почему не вышел из тела или не окружен белым светом, о чем постоянно талдычат на ток-шоу Опры?
Резкий треск, словно что-то рвется, и мгновенно я в белом свете, он ослепляет, как солнечный луч, ударивший в разрыв облаков в зимний день. Я стараюсь прищуриться, закрыть глаза, но ничего не выходит. Мои веки неподвижны, как две скалы.
Лицо наклоняется надо мной, блокируя часть света, который идет не от некой астральной плоскости, а от висящих под потолком флюоресцентных ламп. Лицо принадлежит молодому симпатичному мужчине лет двадцати пяти. Выглядит он, как пляжные мальчики в «Спасателях Малибу» или «Мелроуз Плейс»[5 - «Спасатели Малибу», «Мелроуз Плейс» – телесериалы, соответственно 1989–1999 и 1995–1997 гг.]. Разве что интеллект у него гораздо выше. Из-под небрежно надетой зеленой хирургической шапочки торчат черные волосы. Глаза у молодого человека темно-синие, какие сводят девушек с ума. На скулах россыпь веснушек.
– Это ж надо, – восклицает он. Третий голос. – И впрямь вылитый Майкл Болтон! Ну очень похож… – Он наклоняется ниже. Одна из завязок на шее его зеленого халата щекочет мне лоб. – Безусловно. Эй, Майкл, спой что-нибудь.
«Помоги мне!» – вот единственное, что я пытаюсь спеть, но лишь смотрю в его темно-синие глаза немигающим взглядом мертвеца; я могу только гадать, мертвец ли я, неужели все так и происходит и каждый проходит через такое, когда останавливается насос? Если я еще жив, почему он не видит, как мои зрачки сужаются, реагируя на яркий свет? Но я знаю ответ на этот вопрос… или думаю, что знаю. Они не сужаются. Вот почему свет флюоресцентных ламп столь болезненный.
Завязка щекочет мне лоб, как перышко.
«Помоги мне! – кричу я пляжному красавчику, который, возможно, интерн, а то и вообще студент. – Помоги мне, пожалуйста!»
Но губы даже не дрожат.
Его лицо удаляется, завязка больше не щекочет меня, и весь этот белый свет струится в мои беспомощные глаза, которые не могут ни закрыться, ни отвернуться, проникает в мозг. Ощущение отвратительное, словно тебя насилуют. «Я ослепну, если придется долго смотреть на этот свет, – думаю я, – и это будет счастье».
БАЦ! Опять удар клюшки для гольфа по мячу, но не столь четкий. Хорошего результата ждать не приходится. Мяч в воздухе… но отклоняется в сторону… отклоняется от… отклоняется к…
Черт!
Я по уши в дерьме.
Другое лицо попадает в поле моего зрения. Белый халат вместо зеленого, над ним – копна нечесаных рыжих волос. С ай-кью по первому взгляду просто беда. Конечно же, это Расти. На лице – широкая тупая улыбка, я называю ее школьной улыбкой, уместная для парня с татуировкой на здоровенном бицепсе: «СРЫВАЮ ЛИФЧИКИ».
– Майкл! – восклицает Расти. – Парень, ты прекрасно выглядишь! Это такая честь! Спой для нас, большой мальчик! Порадуй своим сладеньким голоском!
Откуда-то сзади раздается голос дока, холодный, по всему чувствуется, что кривляние Расти даме надоело.
– Прекрати, Расти, – затем, обращаясь к кому-то еще: – Как все вышло, Майк?
Майк – это первый голос, напарник Расти. Ему определенно не нравится работать с человеком, который хочет стать Эндрю Дайсом Клеем[6 - Клей Эндрю Дайс – ведущий современный комик США, «король комедии».], когда вырастет.
– Его нашли на четырнадцатой лунке «Дерри». Не на самом поле, в кустах. Если бы он играл один, если бы идущие следом игроки не увидели его ногу, торчащую из кустов, муравьи обглодали бы беднягу до костей.
В голове опять раздается звук «БАЦ!» – только на этот раз его сопровождает другой, куда менее приятный: шуршание кустов, в которых я шебуршусь крюком клюшки. Должно быть, на четырнадцатой лунке. Все знают эти кусты. Увитые плющом и…
Расти все всматривается в меня с неподдельным интересом. Его интересует не смерть, а мое сходство с Майклом Болтоном. Да, конечно, я в курсе, не раз и не два пользовался этим в общении с клиентками. В остальном – никакого проку. А в сложившихся обстоятельствах… Боже.
– Кто подписал сопроводиловку? – спрашивает женщина-врач. – Казалян?
– Нет, – отвечает Майк и несколько мгновений смотрит на меня. Старше Расти лет на десять. Черные волосы, тронутые сединой. Очки. Как такое может быть? Почему никто из этих людей не видит, что я не труп? – Среди тех четверых, что нашли его, был врач. Его подпись на первой странице… видите?
Шорох бумаг.
– Господи, Дженнингс. Я его знаю. Проводил Ною диспансеризацию, когда ковчег вынесло на склон Арарата.
По лицу Расти видно, что шутка ему непонятна, но он все равно ржет, как лошадь. Меня обдает запахом лука, а если я улавливаю запах лука, значит – дышу. Должен дышать, правда? Если только…
Прежде чем я успеваю закончить мысль, Расти наклоняется ниже и во мне просыпается надежда. Он что-то заметил! Что-то заметил и собрался сделать мне искусственное дыхание. Рот в рот. Благослови тебя Господи, Расти! Господи, благослови Расти и его луковое дыхание!
Но глупая улыбка не меняется, и вместо того чтобы приложить свои губы к моим, его рука скользит по моей челюсти. А теперь он зажимает ее между большим и остальными пальцами.
– Он живой! – кричит Расти. – Он живой и сейчас споет для клуба поклонников Майкла Болтона из секционного зала номер четыре.
Пальцы сжимаются сильнее, я даже чувствую боль, очень слабую, как при новокаиновой блокаде, начинают двигать челюсть вверх-вниз, зубы щелкают.
– Если она жесто-ока, она ничего не видит, – поет Расти отвратительным, напрочь лишенным мелодичности голосом, от которого голова Перси Следжа[7 - Следж Перси – знаменитый исполнитель в стиле соул, прозванный «Золотым голосом души».] просто бы взорвалась. Зубы сжимаются и разжимаются, подчиняясь грубым движениям его руки, язык поднимается и падает, как дохлая собака, качающаяся на волнах.
– Прекрати! – рявкает на него женщина-врач. Она шокирована до глубины души. Расти, похоже, это чувствует, но не прекращает своего занятия. Теперь его пальцы щипают мои щеки. Мои замороженные глаза по-прежнему смотрят верх.
– Повернись спиной к лучшему другу, если…
А вот и она, женщина в зеленом халате, завязки шапочки болтаются на спине, как у сомбреро Сиско Кида[8 - Сиско Кид – герой фильмов, телесериалов, комиксов, Робин Гуд Старого Запада, которого всегда сопровождает верный друг Панчо.], на лбу челка, лицо миловидное, но строгое, не красавица, однако посмотреть есть на что. Хватает Расти одной рукой (ногти коротко подстрижены) и оттаскивает от меня.
– Эй! – негодует Расти. – Не трогайте меня!
– Тогда и ты не трогай его. – В голосе слышна злость, двух мнений тут быть не может. – Ты достал меня своими идиотскими шуточками, Расти. Еще раз что-нибудь выкинешь, я напишу докладную.
– Давайте все успокоимся, – вмешивается пляжный красавчик, ассистент дока. В голосе тревога, словно он боится, что его шефиня и Расти прямо сейчас вцепятся друг другу в горло. – Просто поставим точку.
– Почему она цепляется ко мне? – Расти еще пытается возмущаться, но на самом деле жалобно скулит. Потом обращается к доку: – Почему вы такая злая? У вас месячные или что?
Док (с отвращением): «Уберите его отсюда».
Майк: «Пойдем, Расти. Нам надо расписаться в журнале».
Расти: «Да. И глотнуть свежего воздуха».
Я все слышу, как по радио.
По удаляющимся шагам понимаю, что они идут к двери. Расти, сильно обиженный, напоследок советует доку надевать на грудь табличку, дабы все знали, в каком она настроении. Мягкие подошвы чуть шуршат по кафельным плиткам, но внезапно звуки сменяются другим шуршанием, шуршанием кустов, которые я гну клюшкой в поисках своего чертова мяча. Где он, он же не мог закатиться далеко, Господи, как я ненавижу четырнадцатую, со всеми этими кустами, тут немудрено нарваться и на…
И в этот момент меня кто-то кусает, не правда ли? Да, я уверен, так и было. В левую ногу, повыше высокого белого носка. Раскаленная игла боли, сначала в одной точке, потом растекается по телу…
…и небытие. До того момента, как я очухиваюсь на каталке, в резиновом мешке, застегнутом на молнию, и слышу Майка («Куда, они говорят, его?») и Расти («В четвертый, думаю. Да, в четвертый»).
Мне хочется думать, что меня укусила змея, но, может, потому что я вспомнил о них, когда искал мяч. Возможно, это было насекомое, я же помню только боль, да и потом, какое это имеет значение? Беда в другом: я жив, а они об этом не подозревают. Разумеется, мне не повезло. Я знаю доктора Дженнингса, помнится, говорил с ним, когда обошел их четверку на одиннадцатой лунке. Очень милый человек, но рассеянный, старый. И этот старикан объявил меня мертвым. Потом Расти, с его пустыми зелеными глазами и дебильной улыбкой, объявил меня мертвым. Женщина-врач, мисс Малыш Сиско, еще не взглянула на меня, как положено. Когда взглянет, возможно…
– Ненавижу этого кретина, – говорит она, как только дверь закрывается. Теперь нас трое, хотя мисс Малыш Сиско, разумеется, думает, что двое: я не в счет. – Почему мне всегда приходится иметь дело с кретинами, Питер?
– Не знаю, – отвечает мистер Мелроуз Плейс, – но Расти – особый случай, даже среди знаменитых кретинов. Ходячая атрофия мозга.
Она смеется, что-то звякает. Потом раздаются звуки, пугающие меня до смерти: кто-то перебирает стальные инструменты. Мужчина и женщина слева от меня, я их не вижу, но знаю, что они делают: готовятся к вскрытию. Готовятся разрезать меня. Собираются вырезать сердце Говарда Коттрелла и посмотреть, лопнула стенка или забился клапан.
«Моя нога! – кричу я в собственной голове. – Посмотрите на мою ногу! С ней проблемы – не с сердцем!»
Возможно, мои глаза хоть чуть-чуть, но могут перемещаться. Теперь я вижу, самым уголком глаза, длинный тонкий цилиндр из нержавеющей стали. Он похож на державку дантиста, только заканчивается не гнездом под сверло, а пилой. Откуда-то из глубокого подвала памяти, где мозг собирает информацию, которая может потребоваться, лишь когда играешь в «Риск»[9 - «Риск» – телевикторина, требующая от участников высокой эрудиции. Идет с 1974 года. Российский аналог – «Своя игра».] по телевизору, выплывает название. Пила Джигли. Используется, чтобы срезать верхнюю часть черепа. После того как с тебя стянут лицо, на манер детской хэллоуинской маски, вместе с волосами.
А уж потом они достанут твой мозг.
Продолжается легкое позвякивание, свидетельствующее, что они продолжают перебирать инструменты. Затем что-то громко лязгает. Так громко, что я бы подскочил, если б мог подскакивать.
– Хочешь сделать перикардиальный разрез? – спрашивает она.
– Ты позволишь мне сделать его? – осторожно спрашивает Пит.
– Да, думаю, что да. – Голос доктора Сиско очень благожелательный, она намерена оказать услугу приятному ей человеку.
– Хорошо, – соглашается Питер. – Будешь мне ассистировать?
– Твой верный второй пилот. – Она смеется. Смех перемещается щелчками. Я догадываюсь: ножницы режут воздух.
Теперь паника мечется в голове и рвется наружу, как стая скворцов, пойманная на чердаке. Вьетнам в далеком прошлом: я видел с полдюжины вскрытий, проводившихся в полевых условиях, врачи называли их «палаточная аутопсия», и знаю, что собираются делать Сиско и Панчо. У ножниц длинные острые лезвия и толстые широкие гнезда под пальцы. Чтобы работать с ними, требуется немалая сила. Нижнее лезвие входит в живот, как в масло. Затем режет нервный узел в солнечном сплетении, мышцы и сухожилия, расположенные выше. Добирается до грудины. Когда лезвия сходятся, раздается скрежет, ребра разваливаются в стороны, как две половины бочонка, стянутые веревкой (похожими ножницами пользуются мясники супермаркетов при разделке птицы). Будут резать мышцы и кости, освобождая легкие, подбираясь к трахее, превращая Говарда Завоевателя в рождественский обед, который никто есть не будет.
Пронзительный вой… словно включили бормашину.
Питер: «Можно я…»
Доктор Сиско как заботливая мамаша: «Нет. Возьми вот эти». Щелк-щелк. Демонстрирует.
– Почему? – спрашивает он.
– Потому что я так хочу, – материнских ноток в голосе куда как меньше. – Когда будешь проводить вскрытия сам, Пити-бой, будешь делать, что тебе заблагорассудится. Но в секционном зале Кэти Арлен первым делом берутся за перикардиальные ножницы.
Секционный зал. Вот мы со всем и определились. От страха хочется покрыться мурашками, но разумеется, не тут-то было – кожа остается гладкой.
– Помни, – теперь доктор Арлен читает лекцию, – любой дурак может научиться пользоваться доильным агрегатом… но наилучшие результаты дает ручная дойка, – в ее тоне слышится агрессивность. – Понятно?
– Понятно.
Они собираются сделать это. Я должен шевельнуться или вскрикнуть, а не то они действительно это сделают. Если кровь польется или ударит струей после того, как лезвие ножниц войдет в меня, они сообразят: что-то не так, но скорее всего будет уже поздно. Лезвия уже успеют сомкнуться, ребра будут лежать на моих предплечьях, а сердце испуганно пульсировать под флюоресцентными лампами в блестящей от крови околосердечной сумке…
Я сосредоточиваюсь на своей груди. Раздуваю ее… или пытаюсь… и что-то происходит.
Звук!
Я издаю звук!
Он в основном остался в закрытом рте, но я также могу услышать его и почувствовать в носу: низкое бубнение.
Сосредоточившись, собрав всю волю в кулак, я повторяю попытку, и на этот раз звук получается громче, выплескивается из ноздрей, как сигаретный дым: «Н-н-н-н…» Звук этот заставляет вспомнить телевизионную программу Альфреда Хичкока, которую я видел много лет назад. Джозефа Коттена парализовало в автомобильной аварии, и он в конце концов сумел дать им знать, что не умер, выжав из себя одну-единственную слезу.
Как ничто другое, этот едва слышный комариный писк доказал мне, что я живой, что я – не просто душа, пребывающая в глиняном саркофаге тела.
Вновь сконцентрировавшись, я ощущаю, как воздух проходит в горло, заменяя тот, что я только что выдохнул, и снова я выдыхаю его, прилагая все силы, больше сил, чем тратил юношей, когда летом подрабатывал в «Дорожно-строительной компании». Я очень стараюсь, потому что борюсь за жизнь, и они должны услышать меня, святой Боже, должны.
«Н-н-н-н-н…»
– Хочешь послушать музыку? – спрашивает женщина-врач. – У меня есть Марти Стюарт[10 - Марти Стюарт (р. 1958) – американский певец, гитарист.], Тони Беннетт[11 - Беннетт Тони (р. 1926) – настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто, известный певец, тенор.]…
Он вроде бы фыркает. Я едва его слышу, не сразу понимаю смысл ее слов… возможно, к счастью для себя.
– Ладно. – Она смеется. – У меня есть и «Роллинг стоунз».
– У тебя?
– У меня. Я не такой «синий чулок», какой выгляжу, Питер.
– Я не хотел… – Он, похоже, залился краской.
«Услышьте меня! – кричу я внутри головы, а мои замороженные глаза смотрят в снежно-белый свет. – Перестаньте трещать, вы же не сороки, услышьте меня!»
Я уже чувствую, как воздух тонкой струйкой течет по горлу, и меня вдруг осеняет: эффект случившегося со мной слабеет, но мысли мои направлены на другое. Может, эффект и слабеет, да очень скоро отпадет сама возможность выздоровления. Теперь все мои силы направлены, чтобы они услышали меня, и на этот раз они обязательно услышат, я знаю.
– «Стоунз», значит, – говорит она. – Если только ты не захочешь, чтобы я сбегала за си-ди Майкла Болтона в честь твоего первого перикардиального разреза.
– Пожалуйста, не надо! – восклицает он, и они смеются.
Звук вырывается из меня, и на этот раз он громче. Не такой громкий, как мне хотелось бы, но уже что-то. Они услышат, должны.
И тут, когда я начинаю выдавливать из носа звук, комната наполняется грохотом гитар, а голос Мика Джаггера, как мяч для пинг-понга, отлетает от стен: «Да, это всего лишь рок-н-ролл, но я его ЛЮ-Ю-Ю-Ю-Б-Л-Ю-Ю-Ю…»
– Приглуши звук! – кричит доктор Сиско, очень громко, и среди всего этого шума мой носовой звук, отчаянная попытка бубнить носом, конечно же, никто не слышит, как шепот в кузнечном цехе.
Теперь ее лицо склоняется надо мной, и вновь я испытываю ужас, увидев, что глаза у нее закрыты прозрачным пластиковым щитком, а рот и нос – маской. Она оборачивается.
– Я раздену его для тебя, – говорит она Питеру и наклоняется еще ниже, со сверкающим скальпелем в руке, обтянутой перчаткой, наклоняется сквозь гитарный грохот «Роллинг стоунз».
Я отчаянно бубню, но толку – ноль. Сам себя не слышу.
Скальпель замирает надо мной, потом начинает резать.
Я кричу в собственной голове, но боли нет, только моя водолазка распадается на две части, которые соскальзывают по бокам. Точно так же должна распасться и моя грудная клетка, когда Питер, не ведая что творит, сделает свой первый перикардиальный разрез на живом пациенте.
Меня поднимают. Моя голова откидывается назад, и я вижу Питера, надевающего прозрачный пластмассовый щиток. Он стоит за стальным столиком, где разложены инструменты. Почетное место на столике занимают большущие ножницы. Лишь на мгновение попадают они в мое поле зрения – лезвия блестят, как атлас. Потом меня вновь укладывают, но водолазки на мне уже нет. Теперь я по пояс голый. А в комнате холодно.
«Посмотрите на мою грудь! – кричу я ей. – Вы должны видеть, что она поднимается и опадает, хотя воздух в нее поступает по минимуму! Вы же специалист, черт бы вас побрал!»
Вместо этого она смотрит на Питера, повышает голос, чтобы перекричать музыку. («Мне нравится, нравится, нравится…» – поют «Стоунз», и думаю, что целую вечность буду слышать эти идиотские гнусавые вопли в стенах чистилища). – Твоя ставка? Боксерские трусы или плавки?
В ужасе и ярости я понимаю, о чем речь.
– Боксерские! – отзывается он. – Само собой. Достаточно взглянуть на этого парня!
«Говнюк! – пытаюсь закричать я. – Ты, должно быть, думаешь, что все старше сорока носят боксерские трусы! Ты, должно быть, думаешь, что, перевалив за сорок…»
Она расстегивает пуговичку на моих «бермудах», потом молнию. В другой ситуации такие действия красивой женщины (строгой, но все равно красивой) доставили бы мне несказанное удовольствие. Сегодня, однако…
– Ты проиграл, Пити-бой, – говорит она. – Плавки. С тебя доллар.
– Отдам с получки. – Он подходит. Его лицо появляется рядом с ее. Они смотрят на меня сквозь пластиковые щитки, как два инопланетянина на похищенного обитателя Земли. Я пытаюсь заставить их увидеть мои глаза, увидеть, что я смотрю на них, но эти дураки таращатся на мои трусы.
– О, да они еще и красные! – восклицает Пит. – Круто!
– Хорошо хоть не розовые, – усмехается она. – Подними его, Питер, он весит с тонну. Неудивительно, что у него случился инфаркт. Пусть это будет тебе уроком.
«Я в отличной форме! – мысленно кричу я ей. – Возможно, здоровье у меня крепче, чем у тебя, сука!»
Сильные руки отрывают от стола мои бедра. Трещит позвоночник; от этого звука проваливается сердце.
– Извини, приятель, – говорит Пит, и внезапно мне становится еще холоднее, потому что с меня стягивают шорты и красные трусы.
– Поднимем одну ножку, – воркует женщина-врач. – Поднимем вторую ножку. Снимем ботиночки, теперь носочки…
Она внезапно поворачивает голову к Питеру, и я опять надеюсь на лучшее.
– Эй, Пит.
– Что?
– Мужчины обычно надевают «бермуды» и мокасины, когда играют в гольф?
За ее спиной (там только источник шума, сам шум плотно окружает нас со всех сторон) «Роллинг стоунз» переходят к «Эмоциональному спасению». «Я буду твоим рыцарем…» – поет Мик Джаггер, и я думаю, как бы ему танцевалось с тремя динамитными шашками, подвешенными к его тощей заднице.
– Если хочешь знать мое мнение, этот парень просто нарывался на неприятности, – продолжает она. – Я думала, они надевают специальную обувь, уродливую, специфическую, предназначенную исключительно для гольфа, с маленькими бугорками на подошвах.
– Да, но носить ее не обязательно. Нет такого закона. – Руки в перчатках Пита над моим лицом, он отгибает растопыренные пальцы назад. Костяшки хрустят, тальк сыплется на меня, как пудра. – Пока еще нет. Не то, что в боулинге. Если ты будешь играть в боулинг не в специальной обуви и тебя засекут, можно получить срок.
– Неужели?
– Да.
– Хочешь провести внешнее освидетельствование?
«Нет! – кричу я. – Нет, он же еще мальчишка, что вы ДЕЛАЕТЕ?»
Он смотрит на нее, словно и ему в голову пришла та же мысль.
– Это же… э… не совсем законно, правда, Кэти? Я хочу сказать…
Она оглядывается, слушая его, осматривает секционный зал, и я начинаю подозревать, что меня ждут дурные вести: при всей ее суровости, эта Сиско, она же доктор Кэти Арлен, неровно дышит к темно-синим глазам Пити. Святой Боже, меня, парализованного, привезли с поля для гольфа в телесериал «Клиническая больница», на этой неделе многочисленной аудитории предлагается серия под названием «Любовь в секционном зале номер четыре».
– Слушай, – она переходит на заговорческий шепот, – тут никого нет, только ты и я.
– Запись…
– Еще не включена. А когда мы ее включим, я буду рядом, при каждом твоем шаге. В основном буду. Я просто хочу разобраться с этими картами и предметными стеклами. Если, конечно, у тебя нет должной уверенности…
«Да! – Крик так и рвется с моего застывшего лица. – Почувствуй неуверенность! СИЛЬНУЮ неуверенность! ОЧЕНЬ СИЛЬНУЮ неуверенность!»
Но ему двадцать четыре года, и что он может сказать этой красивой строгой женщине, которая стоит вплотную к нему, приглашает проявить себя? Речь, собственно, не о вскрытии. «Нет, мамочка, я боюсь»? А кроме того, у него чешутся руки. Я вижу желание в глазах за пластиковым щитком. Ему просто не терпится всадить в меня ножницы.
– Слушай, если, конечно, ты меня прикроешь…
– Можешь не сомневаться, – заверяет она. – Надо же когда-то начинать, Питер. А если я тебе действительно понадоблюсь, пленку мы перемотаем и запишем снова.
На его лице изумление.
– Ты можешь это сделать?
Она улыбается.
– Ф шекшионном жале номер шетыре у наш мнохо шекретоф, mein Herr[12 - Mein Herr – мой господин (нем.).].
– Охотно верю. – Он улыбается в ответ и уходит из моего поля зрения. Когда его рука возвращается – пальцы охватывают микрофон, свисающий с потолка на черном шнуре. Микрофон формой напоминает стальную слезинку. От одного его вида охвативший меня ужас усиливается стократ. Конечно же, они не разрежут меня, не так ли?
Пит еще не ветеран, но какой-то опыт у него, безусловно, есть; он обязательно увидит следы от укуса, уж не знаю, кто там укусил меня, пока я искал в кустах мяч, и тогда они заподозрят, что что-то не так. Они должны заподозрить.
Но пока я по-прежнему вижу ножницы с их бессердечным атласным блеском, ножницы, похожие на те, какими режут кур… и поневоле задаюсь вопросом: буду ли я еще жив, когда он вытащит сердце, сочащееся кровью, из моей груди и подержит секунду-другую над моими застывшими глазами, прежде чем бросить на чашку весов? Мне представляется, что я могу это увидеть. Действительно могу. Говорят же, что после остановки сердца мозг может нормально функционировать чуть ли не три минуты.
– Готов, доктор, – официальным тоном говорит Пит. Где-то перематывается магнитофонная лента: пошла запись.
Процедура вскрытия началась.
– Давай опишем этого господина, – весело восклицает она, и меня ловко переворачивают. Правая рука описывает широкую дугу, ударяется о край стола, падает вниз, металлическая кромка впивается в бицепс. Мне больно, но я приветствую боль, радуюсь ей. Молюсь, чтобы кромка порвала кожу, молюсь, чтобы пошла кровь, чтобы произошло что-то такое, чего не случается обычно с трупами.
– Гопля! – продолжает доктор Арлен, поднимает мою руку и укладывает рядом с телом.
Теперь меня больше всего заботит нос. Он прижат к столу и легкие впервые посылают сигнал бедствия: жалобно трепыхаются. Рот закрыт, нос, прижатый к столу, закрыт частично (на сколько, сказать не могу; я же не ощущаю собственного дыхания, практически не ощущаю). Что, если я задохнусь?
Потом что-то происходит, заставляющее забыть о носе. Огромный предмет, по ощущениям – стеклянную бейсбольную биту, загоняют мне в задний проход. Вновь пытаюсь кричать, и мне-таки удается выжать из себя слабое бубнение.
– Измеряю температуру, – говорит Питер. – Таймер включен.
– Дельная мысль. – Она подвигается. Освобождает ему место. Дозволяет потренироваться на этом трупе. Дозволяет потренироваться на мне. Музыка становится тише.
– Субъект – белый, возраст сорок четыре года, – говорит Пит в микрофон, говорит для вечности. – Его зовут Говард Рандольф Коттрелл, проживал по адресу: 1566 Лорел-крест-лайн, здесь, в Дерри.
Доктор Арлен, издалека: «Мэри-Мид».
Пауза, Пит продолжает с легким раздражением в голосе: «Доктор Арлен сообщает мне, что субъект в действительности живет в Мэри-Мид, который отделился от Дерри в…»
– Довольно истории, Пит.
Святой Боже, что они воткнули мне в задницу? Термометр для скота? Будь он чуть длиннее, думаю, головка достала бы до горла. И на смазке они сэкономили… но с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов я для них труп.
Труп.
– Извините, доктор. – Пит держит паузу, вероятно, вспоминает, на чем остановился. Вспомнил. – Это информация из сопроводительного листа, полученного от санитаров машины «скорой помощи». Первоначально она взята из водительского удостоверения, выданного штатом Мэн. Подписал сопроводительный лист доктор… э… Френк Дженнингс. Субъект найден мертвым на территории гольф-клуба «Дерри».
Теперь я надеюсь на свой нос. Надеюсь, что он начнет кровить. «Пожалуйста, – прошу я его, – начни кровить. Не просто крови, пусть кровь льется рекой».
– Причиной смерти может быть инфаркт, – продолжает Питер. Чья-то легкая рука скользит по моей спине к расщелине между ягодиц. Я рассчитываю, что она вынет термометр. Напрасно. – Позвоночник, похоже, не поврежден. Видимых признаков травмы нет.
Видимых признаков. Видимых признаков! Что они несут?
Он поднимает мою голову, ощупывает подушечками пальцев скулы, а я отчаянно бубню: «Н-н-н-н-н», – зная, что он не сможет услышать меня, слишком уж громко бренчит гитара Кейта Ричардса, но надеясь, что почувствует вибрацию воздуха в моих носовых каналах.
Не чувствует. Вместо этого поворачивает голову из стороны в сторону.
– Никаких видимых травм шеи, никакого трупного окоченения, – говорит он, и мне так хочется, чтобы он просто отпустил мою голову, позволил ей шмякнуться об стол, вот тогда нос обязательно закровит, если только я не мертв. Но он осторожно укладывает ее, нос сплющивается, мне опять грозит удушье.
– Видимых повреждений нет ни на спине, ни на ягодицах, хотя на верхней задней части правого бедра старый шрам, выглядит, как давняя рана, возможно, от попадания шрапнели. Уродливый шрам.
Шрам уродливый, и действительно от шрапнели. На нем война для меня закончилась. Мина угодила в зону расположения служб снабжения, двоих убило, одному – мне – повезло. Он еще уродливее спереди, в более чувствительном месте, но детородный орган функционирует… вернее, функционировал до этого дня. Четверть дюйма левее – и им пришлось снабжать меня ручным насосом и баллончиком углекислого газа для удовлетворения сексуальных потребностей.
Наконец он вынимает термометр (Боже, какое облегчение), и на стене я вижу длинную тень, когда Пит поднимает термометр на уровень глаз.
– Девяносто четыре и две десятые[13 - 94,2 градуса по Фаренгейту соответствуют 34,9 по Цельсию.], – объявляет он. – Многовато. Словно этот парень живой, Кэти… доктор Арлен.
– Вспомни, где они его нашли, – откликается она от дальней стены секционного зала. Одну песню «Роллинги» допели, следующую еще не начали, поэтому я четко слышу в голосе лекторские интонации. – Поле для гольфа. Вторая половина летнего дня. Я бы не удивилась, если термометр показал девяносто восемь и шесть десятых[14 - 98,6 градуса по Фаренгейту соответствуют 36,6 по Цельсию, то есть нормальной температуре человеческого тела.].
– Конечно, конечно. – Голос обиженный, как у наказанного ребенка. – На пленке это будет звучать странно, не так ли? – Перевод: «Послушать пленку, так я круглый дурак?»
– Ничего странного, обычное практическое занятие. Собственно, так оно и есть.
– Ладно, отлично. Поехали дальше.
Его обтянутые резиной пальцы раздвигают мне ягодицы, движутся вниз, к бедрам. Я бы напряг мышцы, если мог.
«Левая нога. – Я посылаю ему телепатический сигнал. – Левая нога, Пити-бой, левая голень, видишь?»
Он должен видеть, должен, потому что я чувствую, чувствую, это место пульсирует болью, как после укуса пчелы или укола, сделанного неумехой медсестрой, вместо вены впрыскивающей содержимое шприца в мышцу.
– Известно, что играть в гольф в шортах – идея не из лучших, и субъект – наглядное тому подтверждение, – говорит он, и я желаю ему родиться слепым. Черт, может, он и родился слепым, ведет себя так, будто глаз у него нет. – Я вижу множество укусов насекомых, царапины…
– Майк говорит, что его нашли в кустах, – подает голос Арлен. От нее столько шума. Такое ощущение, что она моет посуду в кафетерии, а не раскладывает предметные стекла и карты. – Предполагаю, у него случился инфаркт, когда он искал мяч.
– Ага…
– Продолжай, Питер, все у тебя идет хорошо.
Я нахожу, что с этим утверждением можно поспорить.
– Ладно.
Вновь прикосновения и нажатия. Нежные. Возможно, слишком нежные.
– Укусы москитов на левой голени выглядят воспаленными. – Его прикосновения остаются нежными, но пульсирующая боль усиливается настолько, что я бы закричал, если мог кричать, а не едва слышно бубнить. И тут мне приходит в голову мысль, что моя жизнь зависит от времени записи «Роллинг стоунз», которую они слушают… я полагаю, это кассета, а не си-ди – на последнем одна песня сразу следует за другой. Если запись закончится до того, как они начнут резать… если я смогу пробубнить что-нибудь достаточно громко и один из них услышит меня прежде, чем они перевернут кассету…
– Я, возможно, захочу взглянуть на эти укусы после общего вскрытия, – говорит она, – хотя если наше предположение насчет его сердца верно, нужды в этом не будет. Или… ты хочешь, чтобы я взглянула на них прямо сейчас? Они тебя тревожат?
– Нет, обычные укусы москитов, – лопочет этот болван. – Здесь крупные москиты. У него пять… семь… восемь… почти дюжина укусов только на левой ноге.
– Забыл, куда пошел.
– Куда, может, и не забыл, а вот захватить «дигиталин» точно не удосужился, – отвечает он, и они на пару смеются отменной для секционного зала шутке.
На сей раз он переворачивает меня сам, должно быть, вне себя от счастья, поскольку может продемонстрировать силу накачанных в тренажерном зале мышц, пряча от посторонних глаз укусы змеи в обрамлении москитных укусов. Я вновь не мигая смотрю во флюоресцентные лампы. Пит отступает на шаг, исчезает из поля моего зрения. Стол начинает наклоняться, и я знаю почему. Когда они меня вскроют, жидкость потечет вниз, в специальные сборники у изножья. Чтобы центральной лаборатории штата в Огасте[15 - Огаста – столица (с 1931 г.) штата Мэн.] было что анализировать, если при вскрытии возникнут какие-то вопросы.
Я концентрирую волю и усилия, чтобы закрыть глаза, пока он смотрит на мое лицо, но не могу даже пошевелить веками. Во вторую половину этой субботы я хотел всего лишь пройти восемнадцать лунок, а вместо этого превратился в Спящую Красавицу с волосами на груди. И никак не могу отделаться от мысли: что я буду чувствовать, когда ножницы вонзятся мне в живот?
Пит держит в руке какой-то листок. Сверяется с ним, откладывает в сторону, начинает говорить в микрофон. Голос его звучит увереннее. Он только что поставил самый неправильный диагноз в своей жизни, но не знает об этом, а потому нисколько не сомневается – все идет, как положено.
– Я провожу это вскрытие в пять часов сорок девять минут пополудни, в субботу, 20 августа 1994 года.
Он оттягивает мои губы, смотрит на них, как человек, подумывающий о покупке лошади, затем тянет вниз челюсть.
– Хороший цвет, – комментирует он, – и никакого петехиального кровоизлияния на щеках. – Очередная песня заканчивается, и я слышу щелчок: он наступает на педаль, останавливающую запись. – Можно подумать, что этот парень все еще жив.
Я изо всех сил бубню, но в этот самый момент доктор Арлен что-то роняет, по звуку – подкладное судно.
– Как бы он этого хотел, – смеется она. Он ей вторит – и в этот момент я желаю им заболеть раком, неоперабельным и вызывающим длительные страдания.
Он наклоняется над моим телом, ощупывает грудь («Никаких синяков, припухлостей, других внешних признаков инфаркта», – оглашает он результаты – большой сюрприз), потом пальпирует живот.
Я рыгаю.
Он смотрит на меня, глаза округляются, челюсть чуть отвисает, я вновь отчаянно пытаюсь бубнить, зная, что он не услышит меня: уже пошла песня «Начни со мной сначала». Но очень хочется думать, что бубнение вкупе с рыганием прочистят ему мозги, убедят, что вскрывать он собирается отнюдь не труп.
– Извиняюсь за тебя, Гоуви. – Доктор Арлен, эта сука, подает голос, стоя за моей головой, и хихикает. – Будь осторожен, Пит, у посмертной отрыжки отвратительный запах.
Он театральным жестом разгоняет воздух перед собой, потом возвращается к прерванному занятию. Практически не касается паха, походя отмечая шрам на правой ноге, который с задней стороны бедра переходит на переднюю.
«Не заметил важную подробность, – думаю я, – возможно, потому, что она находится выше, чем ты смотришь. Невелика беда, мой дорогой Пляжный Мальчик, но ты также упустил из виду, что Я ЖИВОЙ, а вот это уже катастрофа!»
Он продолжает наговаривать в микрофон, по голосу чувствуется, что осваивается в новой для себя обстановке (напоминает голос Джека Клугмана из «Куинси, М.Э.»[16 - «Куинси, М.Э.» – детективный телесериал 1976–1983 гг., главным героем которого являлся доктор Куинси, медицинский эксперт.]), и я знаю, что у его напарницы, стоящей за моей головой, Полианны[17 - Полианна – героиня одноименной детской книжки Элинор Поттер, символ ничем не оправданного оптимизма.] местного врачебного сообщества, нет мысли, что придется перематывать назад пленку с записью этой части «практического занятия». Если не считать одного пустяка: первый труп, который он собирается вскрывать, – живой человек, у Пита отлично все получается.
Наконец он говорит: «Полагаю, я готов перейти к следующему этапу», – в голосе, правда, проскальзывает сомнение.
Она подходит, мельком смотрит на меня, потом сжимает плечо Питу.
– Хорошо. Действуй.
Теперь я стараюсь высунуть язык. Так вот по-детски продемонстрировать свое отношение к красавчику. Этого вполне хватило бы… мне кажется, я чувствую язык и губы, подобное ощущение возникает, когда начинает отходить новокаиновая блокада. Вроде бы и язык дернулся. Нет, наверное, я принимаю желаемое за действ…
Да! Да! Дернулся, но только раз, вторая попытка оканчивается полным провалом.
Когда Пит берется за ножницы, «Роллинг стоунз» переходят к следующей песне – «Подхвати огонь».
«Поднесите зеркало к моему носу! – кричу я им. – И увидите, как оно затуманится! Неужели такая мысль не приходит вам в голову?»
Чик, чик, чик, щелкают ножницы.
Пит поворачивает ножницы так, что свет отражается от их блестящих лезвий, и впервые я уверен, на все сто процентов уверен, что это безумие будет доведено до логического конца. Режиссер не собирается останавливать съемку. Рефери не собирается останавливать поединок в десятом раунде. Мы не собираемся брать паузу, чтобы узнать мнение наших спонсоров. Пити-бой намерен вонзить ножницы в мой живот, пока я, беспомощный, лежу на этом столе, а потом вскрыть меня, как бандероль, прибывшую из «Хоршоу коллекшн»[18 - «Хоршоу коллекшн» – фирма, торгующая по каталогам и через Интернет.].
Он вопросительно смотрит на доктора Арлен.
«Нет! – воплю я, голос бьется о темные стенки моего черепа, но не выплескивается изо рта. – Нет, пожалуйста, нет!»
Она кивает.
– Давай. Все у тебя получится.
– Э… ты не хочешь выключить музыку?
«Да! Да, выключи ее!»
– Она тебе мешает?
«Да! Она ему мешает! Она до предела затуманила ему мозги! Он даже решил, что его пациент мертв!»
– Ну…
– Конечно, – отвечает она и исчезает из поля моего зрения. Мгновением позже Мик и Кейт наконец-то замолкают. Я пытаюсь бубнить, но к своему ужасу обнаруживаю: не получается. Я слишком напуган. Страх сковал мои голосовые связки. Я могу только наблюдать, как она присоединяется к нему, вдвоем они смотрят на меня сверху вниз, как несущие гроб – в открытую могилу.
– Спасибо, – благодарит он. Потом набирает полную грудь воздуха и поднимает ножницы. – Провожу перикардиальный разрез.
Медленно опускает ножницы. Я их вижу… вижу… потом они скрываются за пределами поля моего зрения. А чуть позже чувствую, как холодная сталь прижимается к верхней части живота.
Он с сомнением смотрит на врача.
– Ты уверена, что…
– Хочешь ты учиться проводить вскрытия или нет, Питер? – В голосе звучат резкие нотки.
– Ты знаешь, что хочу, но…
– Тогда режь.
Он кивает, плотно сжимает губы. Я бы закрыл глаза, если смог, но, разумеется, не могу; я только готовлюсь к боли, которую почувствую через секунду или две, говорю себе: «Крепись!»
– Режу. – Он чуть наклоняется вперед.
– Одну секунду! – кричит она.
Давление чуть ниже солнечного сплетения ослабевает. Он поворачивается к ней, на лице – удивление, легкое раздражение, а может, и облегчение, потому что удалось оттянуть критический момент.
Я чувствую, как ее рука охватывает мой пенис, словно она собралась погонять мне шкурку, этакий безопасный секс с мертвыми.
– Ты упустил вот это, Питер.
Он наклоняется, смотрит на ее находку – шрам чуть не в самом паху, на верхней части правого бедра, вывороченная, блестящая, без единой поры кожа.
Ее рука все еще держит мой член, держит, чтобы он не заслонял шрам, только ради этого. Точно так же она держала бы и диванную подушку, чтобы показать кому-то сокровище, которое ей удалось там обнаружить: монетки, бумажник, придушенную кошкой мышку… но что-то происходит.
Господи Иисусе, что-то происходит!
– И посмотри. – Ее пальцы гладят правую часть мошонки, движутся дальше, к бедру. – Посмотри на эти нитевидные шрамы. Его яички, должно быть, раздулись до размеров грейпфрутов.
– Ему повезло, что он не потерял одно, а то и оба.
– Можешь поспорить на… можешь поспорить, знаешь на что. – Она смеется, и в смехе определенно слышатся сексуальные нотки. Пальцы то сжимаются, то расслабляются, рука движется, чтобы шрам оставался на виду. Движения спонтанные, но она могла бы заработать двадцать или тридцать баксов, если проделывала бы все это сознательно… при других обстоятельствах, разумеется. – Думаю, это боевое ранение. Дай-ка мне увеличительное стекло, Пит.
– Но не следует ли мне…
– Я отниму у тебя лишь несколько секунд. – Она полностью поглощена моим шрамом. – Он все равно никуда не уйдет. – Ее рука по-прежнему охватывает мой пенис, сжимает, отпускает, и я чувствую – что-то продолжает происходить, но, возможно, ошибаюсь. Должно быть, ошибаюсь, иначе он бы это увидел, она бы это почувствовала…
Она склоняется так низко, что я вижу только спину, обтянутую зеленым халатом, завязки шапочки, напоминающие тоненькие косички. Теперь, о-го-го, тем самым местом я ощущаю ее дыхание.
– Обрати внимание, как расходятся эти лучевидные шрамы. Это осколочное ранение, полученное лет десять тому назад. Мы можем проверить его послужной…
Распахивается дверь. Пит от неожиданности вскрикивает. Доктор Арлен – нет, но ее рука непроизвольно сжимается, сдвигается, и выглядит все так, будто разбитная медсестра ублажает прикованного к постели пациента.
– Не вскрывайте его! – Голос такой пронзительный, такой испуганный, что я едва узнаю Расти. – Не вскрывайте его! В сумке с клюшками змея – она укусила Майка!
Они поворачиваются к нему, глаза широко раскрыты, челюсти отвисли. Она по-прежнему сжимает мой конец, не осознает этого, уже какое-то время не осознает, как Пити-бой не осознает, что одной рукой держится за сердце. И выглядит он так, словно именно у него отказал главный насос.
– Что… что ты… – лепечет Пит.
– Уложила его на землю. – Расти трещит, как пулемет. – Думаю, он оклемается, но сейчас едва может говорить! Маленькая коричневая змейка, я таких не видел никогда в жизни, она уползла под разгрузочную платформу и сейчас лежит там, но это не важно! Наверное, она укусила и парня, которого мы привезли. Я думаю… Срань Господня, док, что это вы делаете? Возвращаете его к жизни по частям?
Она поворачивает голову ко мне, не понимая, о чем он… пока до нее не доходит, что ее ладонь обжимает стоящий столбом пенис. А когда она начинает кричать… с криком выхватывает ножницы из повисшей плетью, затянутой в резиновую перчатку руки Пита… я вновь думаю о старом телефильме Альфреда Хичкока.
«Бедный старый Джозеф Коттен», – думаю я.
Он мог только плакать.
Послесловие
Прошел год с тех пор, как я побывал в секционном зале номер четыре, и я уже полностью поправился, хотя паралич никак не хотел сдаваться: только через месяц начал шевелить пальцами рук и ног. Я по-прежнему не могу играть на пианино, но, с другой стороны, и раньше не мог. Это шутка, и я за нее не извиняюсь. Думаю, в первые три месяца после злосчастного инцидента именно моя способность шутить обеспечила пусть минимальный, но жизненно важный запас прочности, позволивший избежать нервного срыва и сохранить здоровую психику. И вам не понять, что я хочу этим сказать, если вы не чувствовали, как стальные ножницы, используемые при вскрытии, упираются вам в живот.
Через две недели после того, как меня доставили в морг, женщина с Дюпон-стрит позвонила в полицию Дерри и пожаловалась на ужасный запах, идущий из соседнего дома. Дом этот принадлежал холостяку, банковскому клерку, по имени Уолтер Керр. Полиция обнаружила, что людей в доме нет. Зато в подвале копы нашли более шестидесяти самых разных змей. Почти половина сдохла от голода и обезвоживания, но остальные были живы… и очень опасны. Среди них нашлось несколько очень редких, а одна принадлежала к виду, считавшемуся исчезнувшим с середины столетия. Так, во всяком случае, заявили консультанты-герпетологи.
Керр не вышел на работу в Городской банк Дерри 22 августа, через два дня после того, как меня укусила змея, через день после того, как об этой истории прознала пресса. «ПАРАЛИЗОВАННЫЙ МУЖЧИНА ИЗБЕГАЕТ ПОСМЕРТНОГО ВСКРЫТИЯ» – гласил заголовок. В одном из абзацев репортер процитировал мои слова. Вроде бы я ему сказал, что «окаменел от страха».
В подземном зверинце Керра в каждой клетке, кроме одной, сидело по змее. На пустой клетке таблички не было, а змею, выползшую из сумки с клюшками (санитары «скорой помощи» привезли ее вместе с моим «трупом», а потом решили попрактиковаться на стоянке), так и не нашли. Наличие яда в моей крови, этот же яд, но в гораздо меньшей концентрации, обнаружили в крови Майка, установили, но идентифицировать не смогли. За последний год я прочитал множество книг о змеях и нашел как минимум одну, укус которой вызывает у людей полный паралич. Это перуанский бумсланг, отвратительная тварь, которую в последний раз видели в двадцатых годах. Дюпон-стрит отделяют от поля для гольфа «Муниципального клуба Дерри» меньше чем полмили. Пустыри и перелески.
И последнее. Кэти Арлен и я встречались четыре месяца, с ноября 1994-го по февраль 1995-го. Расстались по взаимному согласию в силу сексуальной несовместимости.
У меня вставало, лишь когда она надевала резиновые перчатки.
Думаю, на каком-то этапе своего творческого пути каждый автор «ужастиков» должен коснуться погребения заживо, потому что люди этого действительно боятся. Когда мне было лет семь, самым страшным телесериалом по праву считался «Альфред Хичкок представляет», а самой страшной серией «АХП» (в этом все друзья полностью со мной соглашались) стала та, где Джозеф Коттен сыграл человека, получившего травмы в автомобильной аварии. Травмы такие тяжелые, что врачи сочли его мертвым. Они даже не смогли прощупать пульс. И уже собрались провести посмертное вскрытие, хотя он был жив и заходился внутренним криком, короче, та серия, где он выжал из себя единственную слезу, чтобы дать им знать, что жив. Это очень трогательный момент, но трогательность – не из моего репертуара. Поэтому, когда я задумался над рассказом на эту тему, в голову пришла мысль о другом (может, более современном?) методе коммуникации. Вы прочитали о нем выше. И наконец о змее: сомневаюсь, что существовала ползучая тварь, названная учеными перуанским бумслангом, но в одном из своих детективов о мисс Марпл дама Агата Кристи упомянула африканского бумсланга. Мне так понравилось это слово (бумсланг – не африканский), что я вставил его в свой рассказ.
Человек в черном костюме
еперь я уже очень стар, а все это случилось со мной, когда я был еще мальчишкой – девяти лет от роду. Случилось в 1914 году, через несколько месяцев после того, как умер мой брат Дэн, и за три года до того, как Америка вступила в Первую мировую войну. Никогда ни единому человеку на свете еще не рассказывал я, что произошло со мной в тот день у развилки ручья. И никогда не расскажу… во всяком случае, устно. Предпочитаю написать об этом и оставить тетрадь на столике возле своей кровати. Писать долго трудно, потому что руки у меня в последнее время сильно дрожат, былой силы в них почти не осталось. Впрочем, не думаю, что это займет много времени.
Позже кто-нибудь найдет эти мои записи. Человек любопытен по природе своей и никогда не упустит возможности заглянуть в оставленную другим тетрадь под названием «ДНЕВНИК», особенно если автор его отошел в мир иной. Так что написанное мною почти наверняка будет прочитано, уверен в этом. Другое дело, поверят написанному или нет. Почти с той же уверенностью смею заметить, что нет, но это не важно. Меня интересует не это, а свобода. А писание, как я обнаружил, как раз и может дать человеку такую свободу. На протяжении почти двадцати лет я писал в колонку под названием «Давно и далеко» в газете «Колл», издаваемой в Кэстл-Рок. И по опыту знаю, что чаще всего так и получается: стоит написать о каком-то событии, и оно перестает мучить тебя. Оставляет в покое, уходит, точно изображение на старых выцветших снимках – с каждым днем становится все светлее, стирается, блекнет, пока не остается лишь желтовато-белый прямоугольник бумаги.
И я молю Создателя о таком утешении.
Старцу под девяносто давно пора бы расстаться с детскими страхами, но по мере того, как немощь медленно, но верно берет верх, наползает на тебя, точно лижущие берег волны, постепенно подбирающиеся к замку из песка, это ужасное лицо все явственнее встает перед глазами. Грозно сверкает, подобно темной звезде в созвездии моего детства. Все, что я мог сделать еще вчера, кого я мог видеть здесь, в этой комнатке дома для престарелых, все, что я говорил им или они мне… все это исчезло, пропало, растаяло вдали. А вот лицо человека в черном костюме становится все четче, все ближе. И я до сих пор помню каждое его слово. Мне вовсе не хочется думать и вспоминать о нем, но я, против воли, думаю и вспоминаю все время. А иногда по ночам мое одряхлевшее сердце начинает стучать так быстро и сильно, что, кажется, вот-вот вырвется из груди. И вот я беру авторучку, снимаю с нее колпачок и заставляю старую дрожащую руку выводить в дневнике эти строки, описывать этот бессмысленный и странный случай. Дневник подарила мне правнучка… черт, никак не могу вспомнить ее имя, во всяком случае, сейчас, но точно знаю, что начинается оно с буквы «С». Она подарила мне этот самый дневник на прошлое Рождество, и до этого момента я не написал в нем ни строчки. Но сейчас напишу. Опишу, как повстречал того человека в черном костюме на берегу Кэстл-Стрим летом 1914 года.
Городок под названием Моттон был в те дни совсем отдельным, особым мирком – слов не хватит описать, насколько отличался он от сегодняшнего провинциального американского городка. То был мир без аэропланов, гудящих над головой, мир, где автомобили и грузовики были редкостью. Мир, где небо не разрезали на прямоугольники и квадраты провода высоковольтных линий.
Во всем городке не было ни одного мощеного тротуара. Единственными же признаками цивилизации в нем были: универмаг Корсона, конюшня и лавка по торговле скобяных товаров Тутта, методистская церковь на Крист Корнер, школа, муниципалитет да ресторанчик «У Гарри» в полумиле от центра, который моя мама с плохо сдерживаемым неодобрением в голосе называла «питейным заведением».
Но главное различие было в том, как жили тогда люди. Насколько они тогда были разделены. Не уверен, что люди, родившиеся во второй половине двадцатого века, могут похвастаться тем же. Хотя, грех жаловаться, они изо всех сил стараются быть приветливыми и вежливыми со стариками, подобными мне. Никаких телефонов в ту пору в Западном Мэне не было. Первый установили только лет через пять, а у нас в доме телефон появился, лишь когда мне исполнилось девятнадцать, я тогда поступил в Университет Мэна в Ороно.
Но это еще цветочки. На всю округу был лишь один врач, в Каско, а весь городок состоял из дюжины домов, не больше. Никаких соседей в нынешнем понимании этого слова тогда не было (не уверен даже, что нам было знакомо само это слово, «соседи», хоть люди и дружили, и собирались вместе, как правило, в церкви и на танцах у амбара). А вот пустующие поля были скорее исключением, нежели правилом. Городок окружали фермы, удаленные одна от другой на значительное расстояние; с декабря по март все жители торчали по домам и грелись у печек, семьями. Сидели и слушали завывание ветра в каминных трубах. И от души надеялись, что ни один из членов семьи не заболеет, не сломает ногу или руку или, не дай Бог, не свихнется, подобно одному фермеру, что жил неподалеку от Кэстл-Рока. Этот самый фермер три года тому назад вдруг ни с того ни с сего зарезал свою жену и троих ребятишек, а позже в суде говорил, что сделать это его заставили злые духи. В те дни, перед Первой мировой, окрестности Моттона состояли сплошь из непролазных лесов и болот, где кишели москиты, водились лоси, змеи и прочая нечисть. В те дни злые духи были повсюду.
То, о чем я собираюсь рассказать, случилось в субботу. Отец выдал мне целый список заданий, в числе прочих там были и такие, что пришлось бы исполнять Дэну, будь он жив. Дэн был моим единственным братом и скончался от укуса пчелы. С тех пор прошел почти год, но мама все отказывалась в это верить. И говорила, что причина смерти наверняка крылась в чем-то другом, что человек просто не может умереть от укуса пчелы. И когда однажды Мама Свит, самая старая дама из женского благотворительного общества при методистской церкви, прошлой зимой попробовала объяснить ей, что то же самое произошло с ее любимым дядей еще в 1873 году, мама заткнула уши, вскочила и выбежала на улицу. И больше ни разу не зашла в церковь и ни разу не посетила ни одного заседания благотворительного общества, вопреки всем уговорам и увещеваниям отца. Она говорила, что раз и навсегда покончила с церковью и что если еще хоть раз встретится с Хелен Робичод (то было настоящее имя Мамы Свит), то выцарапает этой мерзавке глаза. Просто не сдержусь, всегда добавляла она.
В тот день отец велел мне принести дров для кухонной плиты, нарвать на огороде бобов и огурцов, натаскать на сеновал свежего сена, набрать два ведра воды, поставить их охлаждаться в погреб и соскоблить старую краску со стен подвала, сколько смогу. А после этого, сказал он, можешь пойти порыбачить. Если, конечно, не против пойти один, потому как он собирается повидать Билла Эвершема, потолковать с ним насчет коров. На что я ответил, что ничуть не против, и отец улыбнулся – с таким видом, точно заранее знал, что я скажу. Неделю назад он подарил мне новенькую бамбуковую удочку – не потому, что у меня был день рождения или что-то в этом роде, просто ему нравилось иногда дарить мне разные вещицы. И мне до смерти не терпелось опробовать ее в Кэстл Стрим, самом богатом форелью ручье из всех, где мне доводилось рыбачить.
– Но только смотри, в лес далеко не заходи, – предупредил меня отец. – Не дальше развилки.
– Хорошо, сэр.
– Обещай.
– Да, сэр. Обещаю.
– А теперь обещай то же самое матери.
Мы стояли на заднем крыльце. Я как раз собирался пойти к ключу с двумя ведрами воды, когда отец остановил меня. Он взял меня за плечо и развернул – я увидел маму. Она стояла на кухне за мраморным разделочным столиком, освещенная потоком ярких солнечных лучей, врывавшихся сквозь двойные окна над раковиной. На лоб падал завиток светлых волос, касался брови – видите, с какой отчетливостью я до сих пор помню эту картину? Так и стоит перед глазами. Солнечный свет золотил этот маленький завиток, и мне захотелось подбежать к маме и крепко-крепко ее обнять. Наверное, в тот момент я впервые увидел в ней женщину, увидел маму глазами отца. Еще помню, на ней было ситцевое домашнее платье в мелких красных розочках, и она месила тесто. Кэнди Билл, наш маленький черный скотч-терьер, стоял настороже у ее ног. Стоял, задрав голову, в надежде, что ему хоть что-нибудь перепадет. А мама смотрела на меня.
– Обещаю, – сказал я ей.
Она улыбнулась, но какой-то тревожной и нерадостной улыбкой. Она начала улыбаться так с тех пор, как отец принес на руках Дэна с поля. Отец бежал бегом, он рыдал и был без рубашки. Рубашку он снял и обернул ею лицо Дэнни, которое чудовищно распухло и покраснело. «Мой мальчик! – кричал он. – Вы только посмотрите, что сталось с моим мальчиком! О Боже, мой мальчик!» Помню все, точно это случилось вчера. То был единственный на моей памяти случай, когда отец поминал имя Господа нашего всуе.
– Так что ты обещаешь, Гэри? – спросила мама.
– Обещаю, что не буду заходить дальше развилки, мэм.
– Ни шагу дальше.
– Ни шагу.
Тут она как-то устало посмотрела на меня, а руки меж тем продолжали делать свое дело, месить кусок теста, поверхность которого приобрела теперь маслянистый желтоватый оттенок.
– Обещаю, что и шагу не ступлю дальше, чем той развилки, мэм.
– Спасибо, Гэри, – сказала она. – И помни, грамматика существует не только в школе, она и в жизни всегда пригодится.
– Да, мэм.
Весь день Кэнди Билл так и бегал за мной как хвостик, не отставал, когда я работал по хозяйству, сидел у моих ног, когда я ел ленч, смотрел на меня с той же мольбой и сосредоточенностью, как на маму, когда та месила тесто. Но когда я взял новенькую бамбуковую удочку и старую потрескавшуюся корзинку для рыбы и вышел со двора, пес остановился и остался стоять в пыли у дороги, провожая меня тоскливым взглядом. Я позвал его, но терьер не сдвинулся с места. Лишь гавкнул пару раз, словно призывая меня поскорее вернуться, но следом не пошел.
– Ладно, оставайся, – сказал ему я таким тоном, точно мне было все равно. На самом деле мне было не все равно. Потому что Кэнди Билл всегда сопровождал меня на рыбалку.
Мама подошла к двери и тоже смотрела мне вслед, приложив руку козырьком к глазам, чтоб не слепило солнце. Так и вижу ее до сих пор, точно живую, – это все равно что разглядывать фотографию человека, который позже был очень несчастен или внезапно скончался. «Помни, что говорил тебе отец, Гэри!»
– Да, мэм. Обязательно.
Она махнула мне рукой. Я тоже помахал. А потом повернулся и зашагал по дороге.
Первые четверть мили горячее солнце немилосердно палило шею, но когда я вошел в лес, где над дорогой сгустились тени, повеяло прохладой. И еще там приятно пахло мхом, и было слышно, как шелестит в ветвях ветер. Я шагал, перекинув удочку через плечо, как делали в ту пору все мальчишки, а в другой руке нес корзинку для рыбы – ну, точь-в-точь коммивояжер с чемоданчиком, где у него образцы товаров. Пройдя по лесу примерно мили две, по дороге, являвшей собой две колеи с травянистой полоской посредине, я услышал торопливое бормотание ручья под названием Кэстл Стрим. И тут же подумал о форели с радужно-пятнистыми спинками и белыми брюшками, сердце так и замерло в радостном предвкушении.
Ручей протекал под маленьким деревянным мостом. Круто спускающиеся к воде берега густо поросли травой и кустарником. Я стал осторожно спускаться вниз, цепляясь за ветки и стараясь тверже ставить ногу при каждом шаге. Мне показалось, что я попал из лета в весну. От ручья веяло свежестью, прохладой и резким запахом зелени. Подойдя к самой кромке воды, я остановился. И стоял, полной грудью вдыхая этот чудесный запах и наблюдая, как кружат над заводью стрекозы и скользят по воде водомерки. Вдруг чуть дальше за заводью выпрыгнула за бабочкой форель – такая славная крупная рыбина, дюймов четырнадцать в длину. И только тут я вспомнил, что пришел сюда не красотами природы любоваться.
Я пошел вдоль берега, вниз по течению, и первый раз забросил новенькую удочку в том месте, откуда был еще виден мост. Поплавок пару раз дернулся, я вытянул леску и увидел, что от червяка осталась половинка. Возможно, добыча оказалась слишком мелкой или рыба была не очень голодна и не стала рисковать, заглатывая всю приманку. А потому я решил перейти на новое место.
Еще два или три раза закидывал удочку, а потом вдруг понял, что дошел почти до самой развилки. До того места, где Кэстл Стрим раздваивается, и одна его половинка течет на юго-запад, к Кэстл Рок, а вторая – на юго-восток, где впадает в Кашвакамак. И вот именно в этом месте мне вдруг удалось поймать самую крупную в моей жизни форель на катушку с блесной, которую я постоянно держал в корзинке. Красавица, доложу вам, ровно девятнадцати дюймов в длину от носа до кончика хвоста! Даже в те дни то был настоящий великан, чемпион среди ручейных форелей!..
Если б я тогда счел, что этим подарком судьбы можно ограничиться, и двинулся бы к дому, то не писал бы всего этого сейчас (причем я уже понял, что писать придется еще ох как долго, так что советую вам набраться терпения). Но я тогда этого не сделал. Решил вместо этого заняться уловом, как учил меня отец. Выпотрошил рыбину, очистил от чешуи, потом положил ее на сухую траву на дно корзины, а сверху прикрыл свежей травой. И двинулся дальше. Видно, тогда, девяти лет от роду, я вовсе не считал поимку ручейной форели девятнадцати дюймов в длину столь уж замечательным и необыкновенным событием. Хоть и дивился тому, как это не порвалась у меня леска, когда я неумело и неуклюже подтягивал к берегу бьющуюся на крючке и изогнутую дугой пятнистую красавицу.
И вот десять минут спустя я оказался у того места, где ручей разветвлялся надвое (теперь этого места нет и в помине; там, где пролегало устье Кэстл Стрим, настроили домов на две семьи каждый, там же находится районная средняя школа, а русло ручья если и сохранилось, то пролегает под землей). В той точке, где два потока расходились в разные стороны, высилась огромная серая скала величиной с наш дом. А берег там был широкий, открытый, весь порос мягкой светло-зеленой травкой, и с него открывался вид на место, которое мы с отцом называли Южной Веткой. Я присел на корточки, забросил удочку, и почти тотчас же на приманку клюнула чудесная радужная форель. Нет, конечно, ей было далеко до моей красавицы-рекордсменки – длиной всего в фут, не больше, – но все равно славная рыбина. Я выпотрошил и ее, снял чешую, пока не затвердела, и уложил в корзинку. А потом снова закинул удочку.
На сей раз клюнуло не сразу. А потому я устроился поудобнее, привалился спиной к камню и уставился в синее небо. Но и на поплавок поглядывать не забывал. По небу с запада на восток плыли облака, и я пытался угадать, на что они похожи. Одно напоминало единорога, второе – петуха, третье – собаку, немножко похожую на нашего Кэнди Билла. Я стал искать взглядом следующее, и именно в этот момент, должно быть, задремал.
А может, просто заснул. Не знаю, не помню. Единственное, что точно помню, – разбудил меня рывок удочки. Она едва не выскользнула из рук, и я тут же очнулся, вернулся в реальность. Выпрямился, покрепче ухватил удочку и вдруг почувствовал, что на носу у меня кто-то сидит. Скосил глаза и увидел пчелу. Тут сердце у меня просто в пятки от страха ушло, и я едва не описался.
Древко удочки снова задергалось, на этот раз еще сильнее, но я даже не пытался вытащить улов, хоть и впился в удочку обеими руками изо всей силы, чтобы, не дай Бог, не вырвало и не унесло потоком (кажется, мне в тот момент даже хватило ума придерживать леску указательным пальцем). Мне было не до улова. Все внимание было сосредоточено на толстой твари в черно-желтую полоску, которой вздумалось отдохнуть у меня на носу.
Я медленно приподнял нижнюю губу и подул вверх. Пчела затрепетала крылышками, но улетать не стала. Я снова дунул, и она снова затрепетала крылышками… мало того, принялась перебирать ножками. И тут я дуть перестал – из страха, что эта мерзкая и назойливая тварь вдруг потеряет терпение и ужалит меня. Она находилась слишком близко, чтоб я мог разглядеть каждое ее движение, но очень живо представил, как она запускает жало мне в одну из ноздрей, прокалывает кожу и выпускает яд, который тотчас же попадет в глаза. И в мозг – тоже.
Тут вдруг мне пришла в голову совершенно ужасная мысль. Что, если это та же самая пчела, которая убила моего брата?.. Я понимал, что этого не может быть, хотя бы потому, что пчелы-медоносы дольше года не живут (хотя насчет маток не знаю, не уверен). Этого не могло быть просто потому, что пчела, потеряв жало, тут же умирает, даже в девять лет я это точно знал. Жало намертво застревает в коже укушенного пчелой. И когда эта тварь, сотворив свое черное дело, пытается взлететь, ее просто разрывает пополам. Но страшная мысль все равно не оставляла. То была особая, дьявольская пчела, она вернулась, чтобы прикончить и второго сына Лоретты.
Существовал, правда, один утешительный фактор. Меня уже кусали пчелы, и хотя место укуса сильно распухало и болело (возможно, больше, чем у других людей в подобных случаях, точно не знаю, не уверен), я от этих укусов не умер. Погиб мой брат, угодил в предназначенную ему природой ужасную ловушку, но мне до сих пор удавалось счастливо избегать такой участи. Однако, когда я почти до боли скашивал глаза, чтобы разглядеть сидевшее на носу чудовище, логика переставала существовать. Существовала лишь пчела, только она, пчела, погубившая моего брата, принесшая ему столь ужасную и мучительную смерть, что отцу пришлось сорвать с себя рубашку и прикрыть ею несчастное изуродованное распухшее до неузнаваемости лицо Дэна. Охваченный горем и ужасом, он сделал это, чтобы уберечь жену, не хотел, чтобы мать видела, во что превратился ее первенец. И вот теперь пчела вернулась и хочет убить меня. И она наверняка убьет меня, я буду корчиться в муках и конвульсиях здесь, на берегу. Дергаться и извиваться, точно форель, когда выдергиваешь из ее рта стальной крючок.
И вот когда я сидел на берегу ручья, с головы до пят дрожа от страха, вдруг за спиной послышался хлопок. Довольно громкий и резкий, он напоминал выстрел из пистолета, но я сразу понял, что никакой это не выстрел. Просто кто-то громко хлопнул в ладоши. Всего один раз. И тут же, словно по команде, пчела сорвалась с моего носа и шлепнулась прямо мне на колени. И лежала там, а вылезшее из брюшка черное жало отчетливо вырисовывалось на фоне моих старых вылинявших вельветовых брюк. Она была мертва, мертвее не бывает, я это сразу понял. И почти в тот же миг снова запрыгал поплавок и сильно задергалось удилище, и я едва удержал его в руках.
Я покрепче ухватился за него и сильно рванул вверх. Обычно, когда я делал такой маневр в присутствии отца, тот хватался за голову. Из воды, точно вспышка, вырвалась, разбрызгивая хвостом мелкую водяную пыль, радужная форель. Гораздо крупнее той, что мне удалось поймать в первый раз. Такого рода соблазнительные кадры в сороковые – пятидесятые годы украшали порой обложки журналов для мужчин, к примеру, «Факты» и «Мир приключений настоящего мужчины». Вид этой прекрасной добычи моментально отогнал все прочие мысли, но тут леска не выдержала, лопнула, и рыба плюхнулась обратно в воду. Я оглянулся посмотреть, кто ж это хлопнул в ладоши. На опушке леса стоял человек. Лицо продолговатое и необычайно бледное. Черные волосы плотно прилегают к черепу узкой головы и аккуратно разделены пробором слева. И еще он был очень высокий. Одет он был в черный костюм-тройку, но я сразу понял – это не человеческое существо, потому что глаза у него были оранжево-красные, точно угольки в дровяной печке. Причем я не имею в виду радужную оболочку глаз, потому что никакой оболочки вовсе не было, и зрачков тоже не было, и белков. Сплошь оранжевые глаза – они двигались и мерцали. Короче, надеюсь, вы уже поняли, что я имею в виду? Внутри у этого существа пылал огонь, а глаза служили эдакими маленькими оконцами, через которые можно было заглянуть внутрь, в самую его глубину и сущность, ну, как через стеклянные глазки, через которые мы заглядываем в печь.
И тут мой мочевой пузырь меня подвел, и в том месте, где лежала мертвая пчела, расползлось на линялом коричневом вельвете брюк темное пятно. Я плохо соображал, что происходит, и просто не мог оторвать глаз от мужчины, стоящего на берегу и смотрящего на меня. Мужчины, который умудрился прошагать миль тридцать через дремучие леса Западного Мэна, ничуть не испачкав при этом ни черного костюма-тройки, ни узких начищенных до блеска кожаных черных туфель. Я также заметил сверкающую в лучах солнца цепочку от карманных часов. Весь чистенький, ни пылинки, ни единой сосновой иголочки. И еще он улыбался мне.
– О, кого я вижу! Мальчик – рыбак! – воскликнул он приятным низким голосом. – Только вообразите! Счастлив познакомиться, малыш!
– Здравствуйте, сэр, – сказал я. Голос у меня не дрожал, но как-то не слишком походил на мой обычный голос. Точно говорил им человек постарше. Ну, скажем, в возрасте Дэна. Или даже отца. Я мог думать только об одном: отпустит ли он меня, если я притворюсь, что не понял, кто он такой? Если притворюсь, что не вижу танцующие и мерцающие язычки пламени в том месте, где положено быть глазам?..
– А я спас тебя от опасного укуса, – сказал он. И тут же, к моему ужасу, начал спускаться к воде, к тому месту, где продолжал сидеть я с мертвой пчелой на промокших штанишках и бамбуковой удочкой в онемевшей руке. В этих нарядных городских туфлях на кожаной подошве он наверняка должен был поскользнуться на крутом, поросшем сорняками склоне, но этого не произошло. Мало того, я заметил, что он даже не оставляет следов. Там, где его ступня касалась земли – или просто казалось, что касалась, – не оставалось ни сломанной веточки, ни раздавленного стебелька или листка, ни углубления от каблука в сырой земле.
Он еще не успел подойти ко мне, но я уже ощущал запах, исходивший от кожи под костюмом, – запах горелых спичек. Человек в черном костюме был самим Дьяволом. Он вышел из дремучих лесов, что раскинулись между Моттоном и Кашвакамаком, и вот теперь стоит рядом со мной. Уголком глаза я видел бледную, как у манекена в витрине, руку. А пальцы были неестественно длинными.
Он присел со мной рядом, прямо на траву. Колени при этом торчали, как у любого нормального мужчины, но когда он пошевелил руками, свободно болтающимися между колен, я заметил, что каждый из длинных белых пальцев заканчивается не ногтем, но продолговатым желтым когтем.
– Ты не ответил на мой вопрос, маленький рыбачок, – сказал он своим низким и сладким голосом. Теперь, когда я вспоминаю об этом, кажется, что точь-в-точь такими же голосами говорили дикторы, рекламирующие по радио разные товары, вроде жеритола, серутана, овалтина, а также каких-то трубочек доктора Грейбоу. – Правда, здорово, что мы встретились?
– Пожалуйста, не обижайте меня, – произнес я таким тихим шепотом, что сам едва расслышал собственные слова. Я был напуган так, что просто не в силах выразить это сейчас, на бумаге, напуган, как еще никогда не пугался в жизни. Но это чистая правда. Так оно и было. Тогда мне даже в голову не пришло, что это может быть сон. Хотя могло прийти, будь я несколькими годами старше. Но я не был старше, мне было всего девять. И я понял, что это правда, что это происходит в реальности, как только он присел рядом со мной. Уж кто-кто, а я всегда умел отличить шило от мыла, так говаривал мой отец. Мужчина, вышедший из леса тем субботним летним днем, был не кем иным, как самим Дьяволом, и сквозь пустые оранжевые его глазницы я видел, как пылают его мозги.
– Ой, чую, чем-то пахнет! Интересно, чем же это, а? – воскликнул он, точно и не слышал меня вовсе, хотя я понимал, прекрасно слышал. – Чем-то таким… мокрым, что ли?
И он подался ко мне всем телом, вытянув и без того длинный нос, с видом человека, собравшегося понюхать цветок. Тут я заметил еще одну совершенно ужасную вещь: на земле, там, где двигалась тень от его головы, трава тут же желтела и высыхала. Он опустил голову к моим штанишкам и еще сильнее принюхался. А потом даже полузакрыл полыхающие оранжевым пламенем глаза, точно вдыхал какой-то совершенно божественный, тонкий и неземной аромат, желая сосредоточиться на нем целиком и полностью.
– Ужас! – воскликнул он. – Прелесть-кошмар! – А затем забормотал нараспев: – Опал! Алмаз! Сапфир! Агат! Браслеты, ожерелья! Откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри! – Тут он откинулся на спину и дико расхохотался. Смеялся как сумасшедший.
Надо бежать, подумал я, но ноги, казалось, не принадлежали телу. Я не плакал, нет; хоть и обмочился, как какой-нибудь младенец, но не плакал. Слишком уж был напуган, чтобы плакать. Я понял, что умру скорее всего мучительной смертью, но хуже всего было то, что я понимал: это еще не самое худшее, что может со мной случиться.
Худшее может произойти позже. После того, как я умру.
Тут он вдруг резко сел. Запах горелых спичек, исходивший от его костюма, стал еще резче, я почувствовал, что задыхаюсь, что в горле стоит противный ком. Он мрачно смотрел на меня пылающими на узком бледном лице глазами, мрачно и в то же время – с юмором. Вообще было в его лице нечто такое, что заставляло думать, что он вот-вот рассмеется.
– Плохие новости, мальчик рыбачок, – сказал он. – Я принес тебе плохие новости.
Я молча смотрел на него – черный костюм, дорогие черные туфли, длинные белые пальцы с когтями вместо ногтей.
– Твоя мать умерла.
– Нет! – крикнул я. И вспомнил, как мама утром месила тесто, вспомнил о маленьком завитке светлых волос, падающем на лоб, вспомнил, как она стояла, освещенная ярким утренним солнцем, и тут душу мою снова обуял ужас… Вот только испугался я на сей раз не за себя, нет. А потом вспомнил, как она стояла в дверях и смотрела мне вслед, заслоняя глаза от солнца. Смотрела на меня так, точно разглядывала фотографию человека, которого хотела увидеть снова, но при этом знала, что никогда не увидит.
– Нет, ты лжешь! – заорал я.
Он улыбнулся – грустной и преисполненной терпения улыбкой человека, которого часто и несправедливо обвиняют.
– Боюсь, что нет, – сказал он. – С ней произошло то же самое, что с твоим братом, Гэри. Пчела.
– Нет, это неправда, – сказал я. И тут наконец заплакал. – Она уже старая, ей целых тридцать пять, и если б пчела могла убить ее, как убила Дэнни, это уже давным-давно случилось бы, а сам ты лживый ублюдок и урод!
Я осмелился обозвать Дьявола лживым ублюдком и уродом!.. В глубине души я понимал, что делать этого не стоило, но слишком уж был потрясен несуразностью его слов. Моя мама умерла? Но это все равно что сказать, что на месте Скалистых гор образовался новый океан. И одновременно я ему верил. Одновременно верил ему целиком и полностью, как верит в глубине души человек, что с ним может случиться самое худшее.
– Понимаю и сочувствую твоему горю, мальчик рыбачок, но боюсь, твой последний аргумент не выдерживает никакой критики. – Он произнес эти слова деланно спокойным и ласковым тоном, без тени сожаления или сочувствия, отчего они показались мне еще более омерзительными. – Человек может прожить всю жизнь, ни разу не увидев пересмешника, но ведь это вовсе не означает, что пересмешников не существует в природе, верно? Твоя мать…
Тут из воды неподалеку от нас выпрыгнула рыба. Мужчина в черном костюме нахмурился, потом указал на нее длинным бледным пальцем. Форель перекувырнулась в воздухе, так резко изогнувшись при этом, что показалось, она кусает себя за хвост, и тут же с плеском упала обратно в воду. Но не погрузилась в нее, а поплыла, уносимая потоком прочь, безжизненно плоская, мертвая. Вот тело ее врезалось в огромный серый камень, в том месте, где разделялся поток, завертелось в водовороте, а затем поплыло по направлению к Кэстл Рок. Страшный незнакомец перевел взгляд на меня, глядя огненными глазами, а тонкие губы раздвинулись и обнажили в улыбке-оскале ряд крошечных острых, как иголки, зубов.
– Просто твою маму еще ни разу в жизни не кусала пчела, – сказал он. – Ей везло. А потом, примерно час назад, одна такая тварь влетела в кухонное окно, как раз в тот момент, когда мама вынимала из печи хлеб, чтобы положить его остывать на стол. И тут…
– Не желаю этого слушать! Не хочу, не хочу этого слушать!
Я закрыл уши ладонями. Он сложил губы трубочкой, точно собирался свистнуть, и подул на меня. И вонь от его дыхания была просто чудовищной, невыносимой – запахло гнилью, сточными водами, несвежим бельем, протухшими и разложившимися курами.
Я тут же убрал руки от лица.
– Вот так-то лучше, – сказал он. – Тебе придется выслушать это, Гэри, ты должен выслушать все это, маленький рыбачок. Именно от твоей матери передалась по наследству Дэнни эта фатальная особенность. В тебе она тоже есть, но несколько разбавлена кровью отца, а вот у бедного Дэна такой защиты не было. – Он снова сложил губы трубочкой, но на этот раз дуть на меня не стал, а просто почмокал ими, тцк-тцк, словно целует. – И хотя не в моих правилах плохо говорить о мертвых, должен заметить, что во всей этой истории присутствует некая романтическая справедливость, ты согласен? Ведь в конечном счете именно она убила твоего брата Дэна. Как если бы приставила револьвер ему к голове и нажала на спусковой крючок.
– Нет, – прошептал я. – Нет, это неправда.
– Уверяю тебя, именно так оно и было, – сказал он. – Пчела влетела в окно и села ей на шею. И она прихлопнула ее ладонью, даже не успев сообразить, что делать этого не следует. Ты бы никогда не стал так поступать, верно, Гэри?.. Ну и, естественно, пчела ее ужалила. И она почти сразу же начала задыхаться. Так, знаешь ли, всегда происходит с людьми, страдающими аллергией на пчелиный яд. Горло распухает, перехватывает дыхание, и они словно тонут, но не в воде, а на воздухе. Вот почему лицо у Дэна было таким распухшим и красным. Вот почему твой отец прикрыл его рубашкой.
Я смотрел на него, не в силах вымолвить и слова. По щекам катились слезы. Мне не хотелось верить ему, к тому же в воскресной церковной школе учили, что дьявол – это отец всей лжи на земле, но все равно я ему верил. Верил, что он стоял у нас во дворе и заглядывал в кухонное окно, и видел, как моя мама упала на колени и схватилась за горло, а Кэнди Билл прыгал и танцевал вокруг нее, громко лая от страха.
– Надо сказать, она издавала совершенно жуткие звуки, – небрежно заметил человек в черном костюме. – И еще при этом ужасно исцарапала себе лицо. А глаза так просто вылезали из орбит, прямо как у лягушки. Ну и, разумеется, она плакала. – Тут он на миг умолк, а затем добавил: – Она плакала, умирая, разве это не прекрасно? Ну а потом произошла уже совершенно прелестная вещь. После того как она умерла… после того как пролежала на полу минут пятнадцать или около того, а вокруг тишина, ни звука, ничего, кроме потрескивания угольков в печи… И еще это пчелиное жало, оно застряло у нее в коже, торчало, такое черное и крохотное-крохотное, после всего этого, знаешь, что сделал Кэнди Билл? Этот маленький негодник начал слизывать у нее со щек слезы! Сначала с одной щеки… потом – с другой. Представляешь?..
Он уставился на быстро бегущую воду и какое-то время молчал. Лицо печальное, задумчивое. А потом обернулся ко мне, и это выражение исчезло, как сон. Теперь лицо у него было осунувшееся, изнуренное, как у человека, умершего голодной смертью. Глаза сверкали. И еще между бледными губами я видел мелкие и острые зубы.
– Я умираю с голоду, – жестко и громко произнес он. – Я убью тебя, разорву пополам и сожру твои внутренности, мальчик рыбак. Как тебе такая перспектива?
Нет, хотелось крикнуть мне, нет, пожалуйста, не надо, прошу вас! Но не получилось выдавить и звука. И еще я сразу понял: он действительно намерен так поступить со мной. И поступит.
– Просто жуть до чего проголодался, – раздраженным и дразнящим тоном протянул он. – К тому же теперь тебе будет совсем не сладко жить без твоей драгоценной мамочки, поверь мне на слово. Мало того, твой папаша – мужчина того сорта, которому непременно надо вставить свой член в тепленькую дырку, ты уж поверь, я в людях разбираюсь. А стало быть, за неимением лучшего он будет пользовать тебя. А я могу спасти тебя от всех этих неприятностей, унижений и страданий. К тому же ты отправишься прямехонько на небеса, только подумай! Души убитых и мучеников всегда отправляются в рай. Так что оба мы сегодня сослужим добрую службу Господу Богу. Ну скажи, Гэри, разве не славно?
Он протянул ко мне длинную и бледную когтистую лапу. И тут я, даже толком не соображая, что делаю, схватил корзинку, запустил руку под траву, на дно, и извлек огромную форель, того самого «монстра», с которым мне так подфартило в самом начале рыбалки и на чем следовало остановиться. Достал рыбину и слепо протянул ему – пальцы у меня были скользкими от крови, а в белом брюшке рыбы зиял глубокий разрез, в том месте, где я выпотрошил ее внутренности, – то есть сделал примерно то же самое, что собирался сотворить со мной человек в черном костюме. На меня сонно смотрел стеклянный глаз форели, золотое колечко, украшавшее темную спинку, напомнило мне об обручальном кольце мамы. Тут же я увидел ее лежащей в гробу, кольцо блестело в падавшем на него луче солнца, и я сразу же понял: все это правда. Ее действительно ужалила пчела, и она захлебнулась в теплом, пахнущем хлебом воздухе кухни, и Кэнди Билл слизывал слезы с ее распухших щек.
– Большая рыба! – низким жадным голосом воскликнул мужчина в черном костюме. – О, какая боль-ша-а-ая ры-ы-бина!
Он вырвал форель у меня из рук и запихнул ее в рот, целиком. При этом рот у него раскрылся невообразимо широко, ни один человек на свете не способен так широко разинуть рот. Много лет спустя, когда мне было шестьдесят пять (я точно помню, что шестьдесят пять, потому что в том году вышел на пенсию), я ездил на экскурсию в «Аквариум», в Новой Англии. И первый раз в жизни увидел там живую акулу. Так вот, рот у мужчины в черном, когда он раскрыл его, точь-в-точь походил на пасть акулы. С той только разницей, что глотка у него была оранжево-красная, огненная, как и его ужасные глаза. И еще, когда он раскрыл эту самую пасть, то есть рот, на меня так и полыхнуло жаром, точно из камина, куда только что подбросили сухих дров, которые моментально занялись пламенем. Впрочем, я, наверное, не слишком убедительно описал, какой жар исходил у него изо рта; заметил лишь, что, прежде чем он успел раздавить голову крупной форели зубами, чешуйки и плавники у рыбины приподнялись, встали дыбом и тут же начали сворачиваться, как сворачиваются завитками листы бумаги, если швыряешь ее в печь.
Короче, он заглотил рыбину, как заглатывает бродячий фокусник шпагу. Он не разжевывал ее, только сверкающие глаза на миг вылезли из орбит от усилия. Рыба провалилась вниз, прошла по горлу, от чего оно вспучилось, и тут он заплакал. Но не человеческими слезами, нет. По щекам поползли алые густые капли крови.
Думаю, что именно созерцание этих кровавых слез вдруг придало мне сил. Ноги ожили. Я вскочил, как чертик из шкатулки, и, не выпуская из рук бамбуковую удочку, бросился бежать вверх по склону, продираясь сквозь заросли кустарника, время от времени хватаясь свободной рукой за траву и ветки, чтоб, не дай Бог, не споткнуться и как можно быстрее преодолеть подъем.
Он издал сдавленный разъяренный возглас – звук, который может издать человек с набитым ртом. Забравшись на гребень склона, я обернулся, чтобы взглянуть на него. Он бросился за мной вдогонку, полы черного пиджака раздувались на ветру, вспыхивала на солнце золотая цепочка от карманных часов. Изо рта все еще торчал рыбий хвост, и до меня доносился запах жареной форели – все остальное успело сгореть в пламени его ненасытной глотки.
Он догонял меня, тянул длинные руки с когтями, и я помчался по гребню горы, как ветер. Пробежав ярдов сто, вдруг снова обрел голос и закричал – от ужаса в основном, но в этом крике слышалась скорбь по моей несчастной красивой, так нелепо погибшей маме.
Он не отставал. Я слышал за спиной треск и шорох ломающихся веток и топот, но не осмеливался обернуться. Мчался, опустив голову, чтобы не оступиться, видел перед собой лишь кусты, кочки и траву и бежал что есть духу. Каждую секунду ждал, что вот-вот в плечо мне вопьется его когтистая лапа, и тогда я неминуемо окажусь в его смертельно жарких и душных объятиях.
Но этого не случилось. Через некоторое время – не могу точно сказать, сколько именно прошло времени, пять минут, десять, но они показались мне вечностью – я увидел сквозь листву деревянный мостик. Все еще продолжая вопить низким, осипшим от ужаса, каким-то булькающим голосом, я бросился вниз по склону, к ручью.
Где-то на середине пути поскользнулся, упал на колени и обернулся. Человек в черном костюме почти настиг меня. Я отчетливо видел его искаженное яростью и вожделением бледное лицо. Щеки забрызганы кровавыми слезами, акулья пасть ощерена.
– Рыбачок! – рявкнул он и принялся спускаться к берегу следом. А потом протянул длинную лапу и вцепился мне в ногу. Сам не понимаю как, но мне удалось вырваться. А потом я метнул в него удочкой. Он перехватил ее на лету, но тут ноги у него запутались в высокой траве, и он рухнул на колени. Я не стал ждать, что произойдет с ним дальше, развернулся и помчался к мосту. Бежал, скользя на склоне на каждом шагу, и едва не скатился в воду, но в последний момент успел ухватиться за одну из деревянных опор, тянущихся по всей длине под мостом, и спасся.
– Не убегай, куда же ты, рыбачок? – окликнул меня он. Похоже, он был в ярости, но в то же время в голосе проскальзывали насмешливые нотки. – Чтоб я наелся досыта, нужно нечто покрупнее, чем какая-то жалкая форель!
– Оставьте меня в покое! – крикнул я в ответ. Ухватился за перекладину и, неуклюже перевалившись через нее, оказался на мостике. При этом занозил ладони и так сильно стукнулся головой о дощатый настил, что прямо искры из глаз посыпались. Тут же перекатился на живот и пополз прочь. На ноги поднялся, уже когда дополз почти до конца моста, споткнулся, потом вошел в ритм и пустился наутек. Бежал, как могут бегать только девятилетние мальчишки, мчался как ветер. Казалось, ноги касаются земли лишь на третий или четвертый раз, а может, так оно и было. Все остальное время я словно плыл в воздухе. Нашел лесную дорогу, побежал по правой колее, бежал до тех пор, пока в висках не застучали молоточки, бежал, пока глаза не начали вылезать из орбит, бежал, пока не закололо в левом боку, под ребрами, бежал до тех пор, пока не почувствовал во рту металлический привкус крови. И когда уже больше не было сил бежать, перешел на шаг, потом и вовсе остановился и, хрипя и отдуваясь, точно загнанная лошадь, обернулся через плечо. Я был просто убежден, что увижу его за спиной. Увижу, как он стоит на лесной дороге в своем пижонском черном костюме, на животе поблескивает золотая цепочка от часов, а прическа аккуратная, ни одного выбившегося волоска.
Но там никого не было. Он исчез. Дорога, тянувшаяся до Кэстл Стрим между высокими колоннообразными стволами сосен и зелеными мхами, была пуста. И, однако же, я чувствовал: он где-то здесь, рядом, укрылся в лесу, следит за мной, не сводит жутких огненных глаз, пахнет горелыми спичками и жареной рыбой.
Я развернулся и зашагал по дороге, немного прихрамывая – видно, растянул икроножные мышцы, и на следующее утро, едва встав с постели, почувствовал, как страшно ноют и болят ноги, прямо шагу нельзя ступить. Впрочем, в детстве и юности на такие вещи особенно внимания не обращаешь, все нипочем. Я продолжал торопливо шагать по дороге, то и дело оглядываясь через плечо – убедиться, что за спиной у меня никого. И всякий раз так и оказывалось – никого. Но это почему-то не уменьшало, а лишь усугубляло мой страх. Лес казался непроницаемо темным, мрачным, зловещим, чудилось, что где-то там, в самой его глубине, среди спутанных ветвей, непролазного бурелома, в глубоких оврагах затаилось и живет нечто ужасное. До той субботы 1914 года мне, как и большинству детей, казалось, что страшнее медведя в лесу зверя нет.
Теперь я понял, что это не так.
Я прошагал по дороге еще примерно с милю и добрался до места, где она выходила из леса на опушку и сливалась с Джиган Флэт-роуд. И вдруг увидел отца. Он шел мне навстречу и весело насвистывал песню «Старая дубовая бочка». И нес в руке свою удочку с колесиком спиннинга, приобретенную в «Манки Уорд». В другой руке у него была корзина для рыбы, с ручкой, отделанной вязаной лентой. Ее сделала мама еще при жизни Дэна. На ленте была вышита надпись: «ПОСВЯЩАЕТСЯ ИИСУСУ». Едва завидев отца, я пустился бежать ему навстречу с дикими криками: «Папа! Папа! Папочка!» Ноги плохо слушались, и меня качало из стороны в сторону, точно пьяного матроса.
Отец, едва завидев меня, улыбнулся, но веселое, даже игривое выражение лица тут же сменилось озабоченным. Он не глядя швырнул удочку и корзину на дорогу и опрометью бросился ко мне. Прежде я никогда не видел, чтоб отец бегал так быстро, просто удивительно, что мы с ним не сшибли друг друга с ног, когда он подскочил ко мне. Я пребольно ударился лицом о его пряжку на ремне, даже кровь из носа немножко пошла. Впрочем, я тогда этого даже не заметил. Лишь прижимался к нему всем телом и обнимал обеими руками что есть сил, пачкая его старенькую голубую рубашку кровью, слезами и соплями.
– Что такое, Гэри? Что случилось? Ты в порядке?
– Ма умерла! – прорыдал я. – Я встретил человека, там, в лесу, и он сказал мне, что мама умерла! Ее ужалила пчела, и она вся распухла, в точности так же, как было с Дэном, а потом умерла! Лежит в кухне, на полу, а Кэнди Билл… он слизывает с-с-слезы… у нее со… со…
«Щек» – хотел выдавить я это последнее слово, но не смог, дыхание перехватило. Слезы бежали ручьем. Я почувствовал, как вздрогнул отец, и, подняв голову, увидел, что его испуганное лицо двоится и троится у меня в глазах. Тут я завыл, но не как маленький мальчик, разбивший в кровь коленки, а как пес, учуявший нечто страшное в лунном свете. И тогда отец снова крепко прижал меня к себе. Но я выскользнул, вывернулся у него из-под руки и обернулся через плечо. Хотел убедиться, что к нам не идет тот ужасный мужчина в черном костюме. Видно его не было; на дороге, уходящей в лес, ни души. И тогда я про себя поклялся, что никогда и ни за что больше не ступлю на эту дорогу, ни при каких обстоятельствах. Не столь давно я пришел к выводу, что наш Бог и Создатель, видно, очень милостив к нам, его детям, поскольку не позволяет им заглянуть в будущее. В тот момент я бы, наверное, просто с ума сошел, если б знал, что мне предстоит вернуться на эту дорогу, что не пройдет и двух часов, как я снова буду шагать по ней. Но тогда я ничего этого еще не знал. И увидев, что ни на дороге, ни на опушке его нет, испытал невероятное облегчение. А потом вдруг снова вспомнил о маме – своей дорогой милой доброй и красивой умершей мамочке, – прижался щекой к животу отца и снова завыл.
– Послушай, Гэри, – сказал он секунду-другую спустя. Но я не унимался. Он позволил мне повыть еще немножко, потом наклонился, взял за подбородок и, глядя мне прямо в глаза, произнес: – Твоя мама в полном порядке, понял?
Я молча смотрел на него, слезы продолжали катиться по щекам. Я ему не верил.
– Не знаю, кто это тебе сказал, что за подлая тварь осмелилась плести все эти небылицы и пугать ребенка, но, клянусь Богом, наша мама жива и чувствует себя замечательно.
– Но он… он сказал…
– Да мне плевать, что он там сказал. Я вернулся от Эвершема раньше, чем думал, просто выяснилось, что Билл никаких коров не продает, все это сплетни. Вот и подумал, пойду посмотрю, как там успехи у моего сыночка. Взял удочку, корзинку, а мама сделала нам пару бутербродов с джемом. Из свежевыпеченного хлеба, еще тепленького. Так что ровно полчаса тому назад она была в полном порядке, Гэри, и нет никаких причин думать иначе. Слово даю. Ничего страшного за эти последние полчаса с ней произойти не могло. – Он обернулся и взглянул на опушку. – Кто этот человек? И где он теперь? Найду гада и вышибу ему мозги!
За несколько секунд я передумал массу самых разных вещей, но одна все же превалировала над остальными: если папа повстречает того человека в черном костюме, то вряд ли удастся вышибить ему мозги. И целым от него папе не уйти, это точно.
Перед глазами у меня так и стояли эти бледные длинные пальцы с острыми желтоватыми когтями.
– Так где, Гэри?
– Не знаю, не помню, – ответил я.
– Там, где ручей разделяется надвое? У большого камня?
Я просто не мог солгать отцу, особенно когда он задавал вопрос в лоб, был не в силах солгать даже ради спасения его или моей жизни.
– Да, там. Но только не ходи туда, ладно, пап? – И я вцепился ему в руку. – Пожалуйста, не надо, не ходи! Это очень страшный человек! – Тут меня, что называется, осенило: – Кажется, у него есть ружье.
Отец задумчиво смотрел на меня.
– Может, то и не человек был вовсе, – произнес он после паузы, с особым нажимом на слово «человек» и слегка вопросительной интонацией. – Может, ты просто уснул, закинув удочку, и тебе приснился дурной сон. Ну, вроде того сна о Дэнни, прошлой зимой.
Прошлой зимой мне часто снились страшные сны о Дэнни. Особенно часто снилось, как я открываю дверь в чулан или в темный погреб, пропитанный кисловатым запахом сидра, и вижу, что он стоит там и смотрит прямо на меня. И лицо у него просто ужасное, все красное и распухшее. Тут я с криком просыпался и будил родителей. А ведь отец, наверное, прав. Я действительно ненадолго задремал, сидя на берегу ручья. Да, задремал, но потом проснулся, как раз незадолго перед тем, как человек в черном хлопнул в ладоши и пчела свалилась мне на колени мертвая. Однако тот человек снился мне совсем не так, как Дэнни, я был в этом совершенно уверен, хотя встреча с ним уже успела приобрести некоторый оттенок нереальности, как всегда бывает, когда сталкиваешься с чем-то сверхъестественным. Что ж, раз папа считает, что этот страшный человек существует лишь в моем воображении, тем лучше. Тем лучше для него.
– Наверное, так оно и было, – пробормотал я.
– Ладно. Тогда вернемся и найдем твою удочку. И корзинку.
И он уже двинулся к лесу, но тут я снова намертво вцепился ему в руку и стал тянуть назад.
– Потом! – воскликнул я. – Пожалуйста, не надо, не ходи туда, пап! Просто мне хочется поскорее увидеть маму. Убедиться, что она жива и здорова.
Он задумался на секунду, потом кивнул.
– Да, наверное, так будет лучше. Сперва заглянем домой, а уж потом, попозже, пойдем искать твою удочку.
Мы вместе двинулись к ферме. Отец шел, закинув свою длинную удочку на плечо, и оба мы жевали на ходу чудесные свежайшие ломти хлеба, щедро смазанные джемом из черной смородины.
– Что-нибудь поймал? – спросил отец, когда впереди показался амбар.
– Да, сэр, – ответил я. – Радужную форель. Довольно здоровую. – А та, первая, была куда как больше, подумал я, но решил этого не говорить. – Если честно, то более здоровой рыбины я просто раньше не видел. Но теперь ее у меня нет, папа, и показать тебе я не могу. Пришлось отдать тому человеку в черном костюме, чтоб он меня не сожрал. И знаешь, помогло… хоть и ненадолго.
– И все? Больше ничего?
– Да сразу задремал, как только поймал. – Не вся правда, но и не ложь тоже.
– Хорошо хоть удочку не потерял. Ты ведь не потерял ее, а, Гэри?
– Нет, сэр, – неуверенно ответил я. Лгать не хотелось, к тому же никак не удавалось придумать подходящее объяснение. Особенно если он твердо намерен отправиться на поиски пропавшей удочки, а по его лицу я сразу понял, что намерен.
Впереди показался Кэнди Билл. Он с пронзительным лаем стрелой вылетел из амбара и помчался навстречу нам, умудряясь вилять не только обрубком хвоста, но и всем задом, как делают только скотч-терьеры, когда донельзя возбуждены. И я, подгоняемый надеждой и тревогой одновременно, не выдержал. Вырвал руку у отца и помчался к дому, все еще в глубине души убежденный, что найду маму мертвой. Найду на полу в кухне, с безобразно распухшим пурпурным, как у Дэна, лицом, как тогда, когда отец принес его на руках с поля, плача и поминая имя Господа Бога всуе.
Но она стояла у разделочного столика, живая, здоровая и невредимая, и, мурлыкая под нос какую-то песенку, чистила бобы. Обернулась, взглянула на меня – сначала с удивлением, затем, заметив мои заплаканные глаза и бледное лицо, с тревогой.
– Что такое, Гэри, сынок? Что случилось?
Я не ответил. Подбежал к ней, начал обнимать и целовать. Тут вошел и отец. И сказал:
– Не волнуйся, Ло, все в порядке. Просто парень задремал у реки и ему приснился дурной сон.
– Бог даст, на этот раз последний, – сказала мама и еще крепче обняла меня. А Кэнди Билл танцевал у наших ног и заливался пронзительным лаем.
– Если не хочешь, можешь, конечно, со мной не ходить, Гэри, – сказал отец, хоть и говорил раньше, что пойти с ним я должен, просто обязан. Хотя бы для того, чтоб взглянуть в лицо собственным страхам. Единственный способ избавиться от них – так, во всяком случае, принято думать в нынешнее время. Рассуждать со стороны, конечно, хорошо и просто, но с момента моей встречи с тем ужасным человеком в черном костюме не прошло и двух часов, я до сих пор был убежден, что существо это вполне реальное. Но убедить в этом отца никак не получалось, что, впрочем, вполне объяснимо. Ну сами подумайте: легко ли девятилетнему мальчишке убедить отца, что он видел самого Дьявола, выходящего из леса в черном костюме?..
– Ладно, пошли, – сказал я. И выбежал из дома за ним следом, собрав все остатки мужества, хотя сердце снова ушло в пятки, и ноги отказывались идти. Догнал отца, и мы остановились во дворе, возле поленницы дров.
– Что это у тебя за спиной? – спросил он.
Я медленно вынул руку из-за спины. Я твердо вознамерился идти с отцом и решил подготовиться. При этом я от души надеялся, что человек в черном костюме, с ровным, как стрела, пробором прилизанных черных волос на голове, исчез. Но если не исчез… Короче, на этот случай я захватил с собой нашу семейную Библию. И медленно достал ее из-за спины. Сначала я хотел захватить Новый Завет, который получил в воскресной школе в награду за выученные наизусть псалмы (выучить удалось почти все, за исключением двадцать третьего, который ровно через неделю напрочь вылетел из головы). Но потом мне показалось, что этой маленькой красной книжицы недостаточно, чтоб отпугнуть самого Дьявола, пусть даже все изречения Иисуса выделены в ней красным шрифтом.
Отец взглянул на старую Библию, распухшую от вложенных в нее семейных документов и фотографий, и я уже подумал, что он сейчас велит мне отнести ее обратно в дом. Но этого не случилось. Он печально и сочувственно кивнул.
– Хорошо, – сказал он. – А мама знает, что ты ее взял?
– Нет, сэр.
Он снова кивнул.
– Тогда остается надеяться, она не хватится ее, пока мы не вернемся. Ладно, пошли. Но только смотри не потеряй.
Примерно полчаса спустя оба мы стояли на берегу, неподалеку от того места, где Кэстл Стрим раздваивался. Там, где я встретился с мужчиной с красно-оранжевыми глазами. Бамбуковая удочка нашлась – я подобрал ее под мостом и теперь держал в руке. Корзинка для рыбы валялась ниже, на камнях. Плетеная крышка была откинута. Довольно долго мы с отцом смотрели вниз, ни один из нас не произносил ни слова.
«Опал! Алмаз! Сапфир! Агат! Браслеты, ожерелья! Откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри!» Я вспомнил эти противные слова, вспомнил, как он, говоря их, откинулся на спину с диким хохотом – ну точь-в-точь как ребенок, вдруг обнаруживший, что у него достало храбрости произнести вслух неприличные сортирные словечки типа «писать» или «какать». Лужайка на склоне поросла густой и зеленой травой, как и положено лужайке в штате Мэн в начале июня… за исключением того места, где лежал мужчина в черном. Там вся трава выгорела и пожелтела, и на земле осталось пятно в форме человеческой фигуры.
Я снова посмотрел вниз, а потом заметил, что сжимаю нашу толстую старую семейную Библию так крепко, что пальцы даже побелели от напряжения. В точности так же сжимал в руках ивовый прут муж Мамы Свит Норвилль перед тем, как вонзить в землю, чтобы обнаружить подпочвенные воды и уже потом вырыть там колодец.
– Побудь здесь, – сказал отец и начал спускаться с берега к воде, соскальзывая и утопая подошвами башмаков в жирной почве и растопырив руки, чтобы не потерять равновесия. Я остался стоять на месте, продолжая сжимать Библию и чувствуя, как бешено колотится у меня сердце. Не знаю, ощущал ли я в тот момент, что кто-то наблюдает за нами. Был слишком напуган, чтобы ощущать что-либо, меня обуревало одно лишь желание – оказаться как можно дальше от этого проклятого места и леса.
Отец наклонился и стал принюхиваться к земле – в том месте, где выгорела трава. И скорчил брезгливую гримасу. Я знал почему – он учуял запах горелых спичек. Затем схватил мою корзинку и начал торопливо подниматься вверх по склону. Подошел ко мне, запыхавшись, затем бросил взгляд через плечо – убедиться, что там больше ничего не осталось. И протянул корзинку мне. Откинутая крышка болталась на двух маленьких кожаных петлях, на дне – ничего, кроме двух пучков травы.
– Ты вроде бы говорил, что поймал радужную форель, – сказал он. – Но, может, тебе и это приснилось?
И тут я вдруг страшно на него обиделся.
– Ничего подобного, сэр. Форель я поймал.
– Но не могла же она выпрыгнуть отсюда в выпотрошенном виде. И ведь ты не стал бы класть ее в корзину, предварительно не выпотрошив и не почистив, как я тебя учил, верно, Гэри? Учил я тебя или нет?
– Да, сэр, учили, но…
– Хорошо. Раз все это тебе не приснилось и она лежала в корзинке мертвая и выпотрошенная, тогда, наверное, кто-то пришел и съел ее, – сказал отец и снова настороженно покосился через плечо, точно услышал в лесу какие-то звуки. И я ничуть не удивился, что на лбу у него выступили крупные и прозрачные капли пота. – Ладно, пошли, – сказал он. – Надо сматываться отсюда к чертовой матери.
Я целиком и полностью поддерживал это его предложение. Мы быстро и в полном молчании зашагали обратно к мосту. Добравшись до него, отец опустился на одно колено и начал осматривать место, где нашел мою удочку. Там виднелось еще одно пятно выгоревшей травы и валялась дамская туфелька, вся почерневшая и скукожившаяся, точно ее опалило огнем. Я снова заглянул в корзинку.
– Должно быть, он вернулся и съел и вторую рыбу тоже, – сказал я.
Отец удивленно поднял на меня глаза.
– Вторую рыбу?
– Да, сэр. Я вам не сказал, но мне удалось поймать еще и ручейную форель. Очень большую. А тот парень, он был страшно голоден… – Я хотел рассказать ему все до конца, но слова так и застыли на языке.
Мы поднялись к мостику и помогли друг другу взобраться через перила на настил. Отец взял у меня из рук корзину, заглянул в нее, потом размахнулся и бросил ее в воду. Я подошел к перилам и увидел, как она поплыла, точно лодочка, постепенно погружаясь все глубже и глубже, по мере того как вода просачивалась сквозь щели между ивовыми прутьями.
– От нее воняло, – сказал отец, не глядя на меня и каким-то непривычным тоном, словно оправдывался. Прежде я никогда не слышал, чтобы он говорил вот так.
– Да, сэр.
– Скажем маме, что мы ее не нашли. Если спросит. А если не спросит, вообще ничего не будем говорить.
– Понял, сэр. Не будем.
И она не стала спрашивать, и мы ничего не сказали ей. Так уж оно получилось.
Эта история в лесу произошла со мной восемьдесят один год тому назад, и все эти годы я не думал и не вспоминал о случившемся… во всяком случае, в состоянии бодрствования. А что касается снов, не знаю, не уверен; да и потом, как и другие люди, я не слишком помню, что там мне снилось по ночам. Но теперь я стар, мне случается грезить наяву. Немощь одолевает меня, накатывает, точно волны, грозящие смыть замок из песка, который построил на берегу, а потом забросил ребенок. Одолевают и воспоминания, подкрадываются незаметно – и иногда вспоминаются строки из старой детской песенки: «Оставьте их в покое, / Тогда явятся сами, / Виляя и махая / Пушистыми хвостами». Помню блюда, которые я ел в детстве; игры, в которые играл; девочку, которую поцеловал в школьной раздевалке; мальчишек, с которыми дрался. Помню свою первую выпивку, первую выкуренную сигарету (то была набитая кукурузной соломкой самокрутка, и затягивались мы ею по очереди, спрятавшись за свинарником Дики Хэммера; потом меня вырвало). И все же из всех воспоминаний воспоминание о человеке в черном костюме самое сильное, яркое и глубокое – так и манит, так и дразнит, так и мучает переливчатым своим светом. Он был реален, он был настоящий, этот Дьявол, и в тот день мне просто повезло. Мне несказанно повезло, что я удрал от него. С каждым днем и годом во мне крепнет убеждение, что к избавлению от него приложила руку госпожа Удача. Всего лишь удача, а вовсе не вмешательство Господа Бога, которому я поклонялся и пел гимны всю свою жизнь.
Я лежу в постели, в своей комнате дома для престарелых, и тело мое напоминает разрушенный замок из песка. Лежу и твержу себе, что мне незачем бояться Дьявола. Я прожил долгую, честную, полную трудов жизнь, был добр к людям, и мне незачем бояться Дьявола. Потом напоминаю себе, что именно я, а не отец, заставил тем же летом маму вернуться в церковь. Впрочем, в темноте ночи все эти мысли кажутся не слишком утешительными и не слишком успокаивают. В темноте мне слышится голос, тот самый голос, что нашептывал девятилетнему мальчику разные ужасы и гадости. А подтекст все тот же: я не сделал в этой жизни ничего такого, что позволяло бы бояться Дьявола, и однако же Дьявол явился. В темноте я слышу, как голос становится все ниже, басистее, в нем появляются нечеловеческие нотки. «Большая рыба! – нашептывает он мне с нескрываемой жадностью, и перед этим голодным шепотом отступают все истины и моральные устои мира. – Бо-о-ольшая ры-ы-ыбина!»
Дьявол приходил ко мне давно, очень давно, но что, если он придет снова? Ведь теперь я слишком стар, и мне от него не убежать; я даже до ванной едва доползаю и не могу ходить без палки. И у меня нет большой форели, которую можно было бы скормить ему, отвлечь хотя бы на секунду-другую. Я стар и слаб, и моя корзинка пуста. Что, если он явится снова?
И что, если он будет голоден?
Мой любимый рассказ Натаниэля Готорна называется «Молодой Гудмен Браун». Считаю, что он входит в десятку лучших рассказов, написанных американскими писателями. «Человеком в черном костюме» я отдаю дань уважения этому произведению и его автору. Что же до частностей, то могу сказать следующее: как-то я разговорился с одним своим приятелем, и тот сказал, что его дед поведал ему одну странную историю. И что будто бы его дед верил – действительно верил, – что видел в лесу Дьявола, давно, еще в начале двадцатого века, когда дед моего знакомого был маленьким мальчиком. Дед рассказывал, что Дьявол вышел из леса и заговорил с ним, и выглядел вроде как обыкновенный человек. Но тут вдруг мальчик заметил, что у этого человека из леса красные, как огонь, глаза, и что от него пахнет серой. Тогда деду моего друга пришла в голову мысль, что если Дьявол поймет, что он раскусил его, то тут же убьет. Поэтому он продолжал болтать с ним, а затем, улучив удобный момент, просто удрал. Вот и получился у меня из этой истории рассказ. Писать его было не слишком весело, но я не сдавался. Дело в том, что порой рассказ так и просится, так и кричит диким голосом, чтобы его написали, и заткнуть ему глотку можно лишь одним путем – сесть и написать. Думаю, что конечный продукт мало чем отличается от навязших в зубах фольклорных историй, и уж конечно, до моего любимого рассказа Готорна ему далеко, как до звезды. И когда в «Нью-Йоркер» вдруг предложили опубликовать его, я был просто потрясен. А уж когда он получил первый приз на Конкурсе лучшего короткого рассказа имени О’Генри, я был просто убежден, что там что-то перепутали (что, впрочем, не помешало мне с благодарностью принять этот приз). И отзывы читателей были самыми положительными. Так что этот рассказ лишний раз свидетельствует о том, что зачастую писатели являются худшими судьями собственных произведений.
Все, что ты любил когда-то, ветром унесет
Это был «Мотель 6» на 80-й федеральной автостраде, что к западу от Линкольна, штат Небраска. В январе темнело рано, и снегопад, начавшийся еще в середине дня, придавал теперь ядовито-желтой неоновой вывеске более мягкий, пастельный оттенок. А ветер усиливался и, казалось, дул сразу со всех сторон – так зимой бывает только на плоских равнинных пространствах. Пока что это означало лишь некоторый дискомфорт, но если ночью выпадет много снега – метеослужбы, похоже, не определились окончательно, – то к утру федеральную автостраду попросту закроют. Но Альфи Зиммеру было плевать.
Он получил ключ от служащего в красной жилетке, снова забрался в машину и поехал вдоль длинного здания, слепленного из ряда выстроившихся бок о бок пепельно-серых блочных домиков. Он торговал на Среднем Западе вот уже двадцать лет и выработал четыре основных и неукоснительных правила по поводу выбора пристанища на ночь. Первое: всегда резервируй номер заранее. Второе: старайся по возможности зарезервировать место в мотеле с лицензией от крупной компании, занимающейся гостиничным бизнесом, к примеру, в системе «Холидей Инн», «Рамада Инн», «Комфорт Инн», на крайний случай вполне сгодится и «Мотель 6». Третье: всегда выбирай комнату в самом конце. Тогда по крайней мере у тебя будут только одни шумные соседи. И наконец, последнее. Проси комнату под номером, начинающимся с единицы. Альфи было сорок четыре – слишком стар, чтобы трахать придорожных шлюх, есть на ужин гамбургер с куриным мясом или таскать свой багаж наверх. В наши дни номера на первом этаже отводятся обычно для некурящих. Альфи вселялся в номер на первом этаже и курил.
Парковка перед номером 190 была занята. Вообще вокруг здания все места для парковки оказались заняты. Но Альфи это ничуть не удивило. Можно зарезервировать номер, получить все необходимые гарантии, но если приехать поздно (в такой день, как сегодня, поздно начиналось с четырех часов дня), то придется оставить машину и идти пешком. Автомобили, принадлежащие ранним пташкам, уже угнездились на подходе к длинной серой постройке; длинный ряд ярко-желтых дверей, окна покрыты инеем.
Альфи свернул за угол постройки и запарковал свой «шевроле» так, что нос его смотрел на огромное белое поле, принадлежавшее какому-то фермеру. Тянулось оно, казалось, бесконечно и таяло в сгущающихся сумерках на горизонте. Вдали поблескивали огоньки фермы. Несладко им там, должно быть, приходится зимой. Да и здесь тоже не сахар – ветер дул с такой силой, что того и гляди перевернет машину. Он нес с собой снежные заряды. Огоньки фермы то и дело исчезали из виду.
Альфи был крупным мужчиной с цветущим лицом и сиплым дыханием курильщика. Он носил пальто, потому что, когда работаешь коммивояжером, люди предпочитают видеть тебя в пальто, а не в какой-то там легкомысленной куртке или пиджаке. Оптовики продают товар людям в пиджаках и шляпах a-ля Джон Дир[19 - Джон Дир (1804–1887) – американский изобретатель и промышленник, в 1837 году изобрел новый тип плуга.], но никогда и ничего у них не покупают. Ключ от комнаты лежал на сиденье рядом. К нему был прицеплен брелок в виде большого камня из зеленого пластика. Ключ был настоящий, нормальный, не какая-то там жалкая картонка от фирмы «МагКард». Клинт Блэк пел по радио «Лишь хвостовые огни вдали». Песенка в стиле кантри. Теперь в Линкольне есть своя радиостанция, работающая на частоте FM, и на этой частоте передают исключительно рок-н-ролл и еще тяжелый рок, но Альфи никогда не был поклонником такого рода музыки. Тем более здесь и сейчас. К чему все это, когда можно спокойно переключиться на длинноволновую частоту и услышать, как рассерженный чернокожий старик ниспосылает на головы грешников адское проклятие.
Он выключил мотор, сунул ключ от номера 190 в пальто, потом ощупал карман, желая убедиться, что записная книжка на месте. Она была на месте, старая добрая его подружка. «Спасай евреев из России, – напомнил он себе. – Получишь ценные призы».
Альфи вылез из машины, и тут ему прямо в лицо резко и больно ударил порыв ветра. Его даже качнуло назад, а широкие брючины заполоскались вокруг ног. Но Альфи выдержал удар, лишь хохотнул удивленным и скрипучим смехом заядлого курильщика.
Образцы товаров лежали в багажнике, но сегодня они ему не понадобятся. Нет, сегодня они ему совсем ни к чему. Он взял с заднего сиденья портфель и чемодан, захлопнул дверь, затем надавил на черную кнопку пульта. Она запирала все двери машины сразу. Красная включала сигнализацию. Ею пользовались, когда существовала вероятность ограбления. Но Альфи никогда не грабили. Он подозревал, что это относилось и ко всем остальным немногочисленным торговцам деликатесными продуктами, особенно здесь, в этих краях. Вы можете не поверить, но рынок деликатесных продуктов существовал в Небраске, Айове, Оклахоме и Канзасе, даже в Дакоте. И Альфи вполне преуспевал, особенно последние два года, хоть и понимал: сфера его деятельности куда как уже, чем, допустим, тот же рынок удобрений. Даже сейчас ветер, леденящий его щеки, приносил с заснеженных полей запах удобрений. А щеки у Альфи раскраснелись еще больше и приобрели свекольный оттенок.
Он постоял у машины еще с полминуты, ожидая, когда уляжется ветер. И вот он стих, и вдалеке снова замерцали огоньки. Ферма. Возможно, там, в этом доме, жена фермера как раз подогревает сейчас кастрюлю с «Фасолевым супом» марки «Дачник»? Или же ставит в микроволновку «Пастуший пирог» или «Цыплят по-французски»? Возможно. Еще как возможно, черт побери!.. А ее муж, скинув башмаки и поставив ноги в толстых носках на пуфик, смотрит первый выпуск вечерних новостей. А наверху, на втором этаже, их сын играет в какую-нибудь видеоигру, а дочь нежится в этот момент в ванной, до подбородка погрузившись в ароматную пену. Волосы у нее подхвачены на затылке ленточкой, и она читает «Золотой компас» Филипа Пульмана или же одну из книжек про Гарри Поттера, которыми так увлекалась дочь Альфи Карлин. Все, что происходило там, вдали, где мерцали огоньки, было понятно и близко сердцу Альфи, хоть его отделяли от этого уютного семейного гнездышка добрые полторы мили белого заснеженного поля, убегающего вдаль под низко нависшим серым коматозным небом. И Альфи очень живо представил, как шагает по этому полю в городских туфлях, с портфелем в одной руке и чемоданом в другой, пробирается через заносы, поминутно проваливается в сугробы, оскальзывается и вот, наконец, добирается до двери и стучит. Дверь тут же распахивается, и в ноздри ему ударяет запах фасолевого супа, такой густой, ароматный, такой домашний. И он слышит доносящийся из соседней комнаты голос метеоролога, вещающего по ТВ: «А теперь взглянем на этот циклон, область низкого давления, что надвигается на нас со стороны Скалистых гор».
Но что скажет он, Альфи, жене фермера? Что просто заглянул к ним на обед? Посоветует ей спасать евреев из России и получать ценные призы? Начнет ли разговор со следующих слов: «Знаете, мэм, буквально на днях узнал из одного источника, что то, что ты любил когда-то, ветром унесет»? А что, очень даже неплохое начало для беседы и уж наверняка заинтригует жену фермера, особенно если она услышит эти слова от странника, прошагавшего через огромное заснеженное поле, чтобы постучаться к ним в дверь. И когда она пригласит его войти, он наговорит ей еще целую кучу разных разностей, потом откроет портфель и продемонстрирует пару каталогов с образцами товара. И скажет, что раз она уже открыла для себя все прелести замороженных продуктов «Дачник», возможно, ей стоит перейти на новую высшую ступень и ознакомиться с более утонченными прелестями продуктов фирмы «Моя матушка»? И кстати, как она относится к икре? Многим очень нравится. Даже здесь, в Небраске.
Боже, до чего же холодно! Простоишь здесь еще секунду и вконец окоченеешь.
Он повернулся спиной к полю и мерцающим вдалеке огонькам и зашагал к мотелю, слегка враскоряку, мелкими утиными шажками, чтобы, не дай бог, не грохнуться на льду. Ему доводилось проделывать это и прежде, Господь свидетель. Оп-па! Черт его знает сколько раз, на полусотне стоянок у мотелей. И ничего, обходилось, до сих пор жив и здоров.
Вдоль дверей тянулся навес, тут снега было немного. Он вошел. Автомат по продаже кока-колы с табличкой «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МОНЕТЫ УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ ДОСТОИНСТВА». Автомат по продаже мороженого, автомат по продаже плиточного шоколада и пакетиков с чипсами, виднеющихся за стеклянной панелью, среди металлических пружин. На последнем автомате таблички с надписью «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МОНЕТЫ УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ ДОСТОИНСТВА» не было. Из номера, соседнего с тем, где Альфи собирался свести счеты с жизнью, доносился голос диктора, ведущего первый выпуск вечерних новостей. Но Альфи почему-то был уверен, что там, через поле, в фермерском доме, звук у телевизора лучше. На улице гудел и завывал ветер, Альфи потопал, сбивая снег с туфель, и вошел в номер. Выключатель находился справа. Он включил свет и захлопнул за собой дверь.
Он знал эту комнату вдоль и поперек. Не комната, а мечта коммивояжера. Квадратная. Стены белые. На одной картина: маленький мальчик в соломенной шляпе задремал с удочкой в руках на берегу реки. На полу зеленый коврик из какой-то узловатой синтетической ткани. Пока что в комнате холодно, но если включить калорифер под окном, прогреется она быстро. Даже, может, еще и жарко будет. Вдоль стены тянулся столик-прилавок. На нем стоял телевизор. На телевизоре карточка с надписью «ВИДЕОФИЛЬМЫ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ!».
Две двуспальные кровати, на каждой – ярко-золотистое покрывало, подвернутое под подушку, а потом натянутое на нее; так что каждая подушка напоминала трупик младенца. Между кроватями размещался столик. На нем лежала Библия издательства «Гидеон», телевизионная программа на неделю, а также телесного цвета телефонный аппарат. За второй кроватью виднелась дверь в ванную. Стоило включить там свет, как тут же, автоматически, включался фен. Короче, если вам нужен был свет, вы получали и работающий фен в придачу. Иначе никак. Свет флюоресцентный, внутри голубоватых стеклянных трубочек просматривались засохшие трупики мух. На полочке рядом с раковиной электрочайник фирмы «Проктор-Сайлекс», а также коробочка с пакетиками растворимого кофе. И еще здесь стоял специфический запах. Резко и кисло пахло каким-то моющим средством, а шторка в душе попахивала плесенью. О, как же хорошо знакомо было это все Альфи! Даже снилось по ночам, каждая мелочь и деталь, вплоть до зеленого коврика на полу, но никакого продолжения этот сон не имел, хоть и кошмаром, пожалуй, назвать его было нельзя. Он хотел было включить калорифер, но тут же раздумал. Будет тарахтеть и щелкать, да и какой смысл?..
Альфи расстегнул пальто, потом поставил чемодан на пол, рядом с кроватью, той, что ближе к ванной. Опустил портфель на золотистое покрывало. И тяжело сел, при этом полы его пальто распахнулись и стали походить на раскинутую юбку дамского платья. Затем он открыл портфель, пошарил среди брошюр, каталогов и бланков заказов. И извлек на свет божий свою пушку. Револьвер «смит-вессон» 38-го калибра. Он положил его на подушку в изголовье кровати.
Закурил сигарету, потянулся к телефону, но тут вспомнил про записную книжку. Сунул руку в правый карман пальто и достал ее. Книжка была старенькая и довольно истрепанная, странички едва держались на спирали, а куплена она была за один бакс и сорок девять центов в каком-то заплеванном магазинчике на окраине то ли Омахи, то ли Сиу-Сити, а может, даже в городке под названием Джубили, штат Канзас. Обложка засаленная, все буквы на ней стерлись, что там было прежде написано, уже не разобрать. Некоторые странички почти совсем оторвались от спирали, но ни одна не затерялась. Альфи постоянно носил эту книжку с собой, вот уже лет семь, еще с тех времен, когда торговал универсальными считывателями кодов фирмы «Симонекс».
На столике рядом с телефоном стояла пепельница. Здесь, в глубинке, администрация до сих пор исправно снабжает пепельницами все номера мотелей, даже для некурящих. Альфи придвинул пепельницу к себе, положил недокуренную сигарету в желобок и открыл записную книжку. Начал перелистывать странички, исписанные сотней разноцветных шариковых ручек (и несколькими карандашами). Время от времени останавливался и читал очередное изречение. К примеру, одно из них гласило: «Я сосал член Джима Моррисона своими пухлыми мальчишескими губками» (ЛОУРЕНС КАНЗ.). Туалеты дешевых гостиниц и мотелей просто пестрят граффити на гомосексуальную тему, по большей части однообразными и неинтересными, но «пухлые мальчишеские губки» – в этом определенно что-то было. Надпись ниже гласила: «Альберт Гор – пидер и вор!»
Три четверти книжки были уже исписаны, на последней странице красовались два изречения: «Не жуй „Троянскую“ ты жвачку, похожа будешь на мудачку» (ЭЙВОКА АЙОВА). И вот еще: «Здесь я сидел и долго плакал, что мало ел, но много какал» (ПАПИЙОН НЕБР). Альфи был просто без ума от этого последнего перла. Какая совершенная форма изложения, какая безупречная рифма! Какой трагизм самой ситуации! Так и видишь перед собой эту трогательную картину. И потом, если разобраться, в самой этой ситуации нет ничего смешного. Человек мало ел, разве это не прискорбно? Но игривость изложения, некая скрытая ухмылочка над самим собой все равно остается. И Альфи казалось, что здесь чувствуется вызов обществу, эдакий бунтарский дух, присущий поэзии э.э. каммингса[20 - Э.э. каммингс – Каммингс Эдуард Эстлин (1894–1962) – американский поэт, во многом близкий европейским футуристам. Отвергал конформизм, снобизм и несвободу людей. Отказался от многих грамматических норм, знаков препинания, заглавных букв, в том числе в написании собственного имени.].
Альфи пошарил во внутреннем кармане пальто. Нащупал там какие-то бумажки, счет за междугородный телефонный разговор, пузырек с таблетками – он их принимал – и вот, наконец, нашел перьевую авторучку, которая вечно норовила спрятаться от него в каком-то хламе. Самое время записать сегодняшние поступления. Оба изречения, вполне симпатичные, были почерпнуты им в мотелях одного и того же района. Первое было выведено над бачком туалета, которым он пользовался; второе выцарапано каким-то острым предметом рядом с автоматом «Хэв-э-Байт» по торговле шоколадками и закусками (фирма «Снэкс», по мнению Альфи, торговала куда лучшими продуктами, нежели «Хэв-э-Байт», но по некой неизвестной ему причине года четыре назад лишилась лицензии на поставку автоматов в районах, прилегающих к 80-й автостраде федерального значения). Сегодня Альфи мог находиться в разъездах две недели кряду и преодолеть три тысячи миль, так и не увидев ничего новенького, даже достойная вариация на старую тему попадалась редко. А тут сразу две за один день. Две в последний его день. Прямо как знак свыше.
На ручке рядом с логотипом фирмы (хижина под тростниковой кровлей, из кривой трубы вьется дымок) было выведено золотыми буквами: ПРОДУКТЫ «ДАЧНИК» – ХОРОШАЯ ШТУКА!
Сидя на кровати, все еще в пальто, Альфи прилежно склонился над старенькой записной книжкой, пристроился так, чтобы тень от головы не падала на страницу. И написал под «Не жуй „Троянскую“ ты жвачку» и «Я здесь сидел и долго плакал» следующее: «Спасай евреев из России, получишь ценные призы» (УОЛТОН НЕБ.) и «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет» (УОЛТОН НЕБ.). Потом ручка нерешительно зависла над бумагой. Он редко добавлял комментарии, всегда стремился к тому, чтобы каждое изречение красовалось на отдельной страничке. Нет, конечно, объяснения придавали определенную экзотику (так, во всяком случае, ему казалось; в ранние годы, начав собирать «перлы», он куда охотнее сопровождал их пространными примечаниями), и порой они казались даже более занятными, чем само изречение, но особой ясности не вносили.
Он смотрел на второе: «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет» (УОЛТОН НЕБ.), потом провел внизу две жирные линии и…
И сунул ручку обратно в карман, задаваясь одной простой мыслью: к чему ему или же кому-то другому продолжать все это, раз так или иначе конец один? Ответа на вопрос не было. Нет, конечно, ты все еще дышишь, а стало быть, пока тебе не конец. И без грубого хирургического вмешательства тут не обойтись.
На улице завывал ветер. Альфи покосился в сторону окна за задернутой занавеской (тоже зеленая, только немножко другого тона, чем ковер). Если отодвинуть ее, станет видна цепочка огоньков, ползущих по 80-й автостраде федерального значения, и каждая эта яркая бусинка отмечает место, где находится в пути живое, думающее и чувствующее человеческое существо. Потом он снова перевел взгляд на записную книжку. Нет, он твердо намерен осуществить задуманное. Это было… это было просто мгновение…
– Я просто дышал, – произнес он вслух и улыбнулся. Взял из пепельницы сигарету, глубоко затянулся, потом вернул ее в желобок пепельницы и снова принялся перелистывать записную книжку. При взгляде на эти записи вспоминались тысячи придорожных стоянок, закусочных, торгующих жареными цыплятами, дешевых мотелей. В точности так же какая-нибудь песенка, случайно услышанная по радио, вдруг со всей ясностью и остротой позволит вспомнить место, где ты ее слышал, человека, с которым тогда был, напомнит, что тогда пили, о чем говорили и думали.
«Вот сижу я на толчке и гляжу я букою, не получится покакать, от души попукаю». Все знают это популярнейшее изречение, но под ним красовалась еще более занимательная, даже философская его вариация, обнаруженная Альфи в закусочной «Дабл Д Стикс» в Хукере, штат Оклахома: «Вот сижу я на толчке с мордой перекошенной. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Ничего хорошего!» А вот еще, из Кейси, штат Айова, со стоянки, где шоссе 25 пересекалось с 80-й федеральной автострадой: «Это мать сделала меня шлюхой». Ниже другим, более твердым мужским почерком было приписано: «Черкни адресок, пусть спроворит мне еще одну».
Он начал коллекционировать их, когда торговал универсальными считывателями кодов, просто переписывал граффити в книжку на спиральке, даже не задумываясь, зачем он это делает. Попадались смешные, неприличные, просто похабные, а также совершенно непонятные, порой ставящие в тупик. И вот мало-помалу он начал попадать под своеобразное обаяние этих посланий с автомагистралей, где единственным средством общения между людьми были мигающие огоньки фар под дождем. Нет, иногда еще водитель, пребывающий в скверном настроении, мог соорудить тебе кукиш или сделать неприличный жест рукой, если показалось, что ты его подрезал. Он постепенно начал входить во вкус, начал понимать – или только казалось? – что в этом что-то есть. В веселой песенке от э.э. каммингса «Я здесь сидел и долго плакал, что много ел и мало какал», или же, к примеру, в пышущем трагизмом и яростью следующем изречении: «1380 Вест-авеню, убей мою мать, ЗАБЕРИ ЕЕ ЦАЦКИ» – во всем этом явно что-то есть.
Или вот эта, уже старенькая: «Вот сижу я на толчке и готовлюсь к бою, просто я родить хочу техасского ковбоя». Написана ямбом, правда, в конце есть сбой в размере, но это не суть важно и не смертельно. Скорее даже напротив – сбой придает пикантности, оттенок эдакого залихватского выверта незамысловатому шедевру. Альфи не раз подумывал, что неплохо было бы поступить в какой-нибудь колледж или на курсы и вызубрить назубок все эти рифмы, размеры и прочую мутоту. Надо твердо знать, с чем имеет дело, когда попадается новое любопытное изречение, а не блуждать во мраке собственного невежества, руководствуясь лишь интуицией. Но со школьной скамьи почему-то запомнился лишь пятистопный ямб: «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Некогда в мужском туалете на 70-й автостраде федерального значения он увидел выцарапанные на стене знаменитые строки Шекспира, под которыми кто-то приписал карандашом: «Вопрос не в том. Вопрос в том, откуда берутся такие кретины, урод!»
Ну взять, к примеру, хотя бы эти триплеты. Как их правильно называть? Хореические, что ли?.. Он не знал. Но факт, что он так никогда этого и не узнает, уже не казался столь важным. Хотя если захотеть… да, конечно, можно узнать. Другие люди смогли этому научиться, так что не такая уж это и трудность.
Или эта вариация, Альфи она попадалась в самых разных уголках страны. «Здесь сижу и не тужу, море по колено, поднатужусь и рожу десантника из Мэна». И всегда почему-то Мэн, не важно, в каком штате ты оказался, вечно этот десантник из Мэна! Интересно, почему?.. Наверное, просто потому, что названия всех остальных штатов длиннее и не вписываются в размер. Мэн – единственный из пятидесяти штатов, который состоит всего из одного слога. «Здесь сижу и не тужу…»
Он не раз подумывал, что неплохо было бы написать книгу. Совсем небольшую такую книжечку. И сначала даже хотел назвать ее «Глаз не поднимать, иначе описаешь туфли», но и ослу понятно, что так книгу называть нельзя. Просто нельзя, особенно если надеешься увидеть ее на прилавках магазинов. Кроме того, как-то легкомысленно. Несерьезно. За семь лет он успел убедиться, что в этих изречениях явно что-то есть, что подходить к ним следует со всей серьезностью. Наконец он остановился на адаптации некогда увиденного им в туалете, в мотеле на окраине Форт Скотт, штат Канзас, изречения: «Я убил Теда Банди: Тайны транзитного кода американских автострад». Автор: Альфред Зиммер. Звучало таинственно и многозначительно, даже как-то наукообразно. Однако он так и не сделал этого. Не написал книги. И хотя по всей стране видел приписанные к «Это мать сделала меня шлюхой» строки: «Черкни адресок, пусть спроворит мне еще одну», – ни разу даже не попытался истолковать (по крайней мере в письменном виде) поразительное отсутствие сострадания к девушке, которую мать сделала шлюхой, прямой и слишком уж «деловой» подход к проблеме в целом, чем так и сквозила приписка. Или вот эта: «Мамона – царь Нью-Джерси». Как и чем можно объяснить, что именно название штата, Нью-Джерси, делает высказывание смешным, а если заменить его названием какого-то другого штата, смешно уже не будет?.. Даже и пытаться не стоит, бесполезно. Ведь, в конечном счете, кто он такой? Всего лишь маленький человечек. Маленький человечек, и работа у него соответствующая. Он мелкий торговец. В настоящее время торгует замороженными продуктами.
А уж тем более теперь… теперь…
Альфи еще раз глубоко затянулся сигаретой, раздавил окурок в пепельнице и набрал номер своего домашнего телефона. Он не ожидал застать Майру, так и оказалось, ее дома не было. Ответил его собственный, записанный на автоответчик голос. В конце – телефон мобильника. Что теперь толку от этого мобильника, лежит сломанный в багажнике «шевроле». С аппаратурой ему никогда не везло, вечно ломалась.
После гудка он заговорил в трубку: «Привет, это я. Я в Линкольне. Здесь идет снег. Не забудь передать моей маме кастрюлю из жаропрочного материала. Она ждет. И еще она просила этикетки от „Ред Булл“. Тебе смешно, а для нее занятие. Она же старенькая, так что отнеси ей, доставь удовольствие, о’кей? Скажи Карлин, что папа передает ей привет. – Тут он сделал паузу, а затем впервые за пять лет добавил: – Я люблю тебя».
Альфи положил трубку, потом подумал, не выкурить ли еще сигаретку – на рак легких плевать, теперь это не важно, – но затем решил, что все же не стоит. Положил записную книжку, открытую на последней странице, рядом с телефоном. Взял револьвер и крутанул барабан. Заряжен, полностью. Затем легким движением пальца спустил с предохранителя, взвел курок и сунул дуло в рот. Почувствовал вкус металла и смазки. Подумал: «Вот сижу я на толчке с мордой перекошенной». И усмехнулся, не выпуская дула изо рта. Это ужасно. Не следовало записывать этого в книжку.
Тут вдруг в голову пришла другая мысль, он вынул дуло изо рта и положил револьвер в ложбинку на подушке. Придвинул к себе телефон и снова набрал домашний номер. И снова услышал свой голос по автоответчику, а когда закончился номер мобильника, бросил в трубку: «Это опять я. Не забудь, Рэмбо на завтра назначено к ветеринару. И не забывай давать ему на ночь сухарики с морской капустой, о’кей? Она очень полезна для костей. Пока».
Он опустил трубку и снова взял револьвер. Но не успел вставить дуло в рот – глаза заметили книжку. Открыта на последней странице, и там целых четыре новых поступления. Первое, что заметят вошедшие сюда после выстрела люди, – тело, распростертое поперек кровати, той, что ближе к двери в ванную, голова свисает, на зеленом узлистом ковре лужа крови. Второе, что они непременно заметят, – записную книжку с потрепанными листками на спиральке, открытую на последней странице.
Альфи представил себе копа, эдакого простоватого провинциального парня из Небраски. Такой никогда и ни за что не будет писать на стенках туалетов – воспитание и дисциплина не позволят. И вот он увидит последнюю страничку, прочтет последние изречения, а возможно, даже примется перелистывать книжку кончиком авторучки. И прочтет первые три: «Троянская жвачка», «Я здесь сидел и долго плакал», а также «Спаси евреев из России». И придет в ужас или просто сочтет все это бредом сумасшедшего. А потом прочтет и последнюю строчку: «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». И решит, что покойник, должно быть, лишь в самом конце жизни обрел толику здравого смысла, которого ему хватило, чтобы сочинить подобие предсмертной записки.
Последнее, чего хотелось Альфи, так это чтоб кто-то счел его сумасшедшим (при дальнейшем просмотре книжки может обнаружиться, к примеру, информация, что «Меджер Иверс жив, здоров и в Диснейленде», она лишь подтвердила бы подозрения на этот счет). Сумасшедшим он не был, да и изречения, собранные здесь за долгие годы, тоже не свидетельствовали о безумии. Он был просто убежден в этом. А если даже и ошибался, если все написанное здесь казалось полным бредом, все же, пожалуй, стоило приглядеться повнимательнее. Взять, к примеру, хотя бы запись «Глаз не поднимать, иначе описаешь туфли», это что, юмор? А может, вопль отчаяния?..
Секунду-другую он размышлял над тем, что, может, лучше вообще взять проклятую записную книжку и спустить в унитаз. Но затем покачал головой. В результате он будет сидеть рядом с унитазом на корточках и, засучив рукава, выуживать эту чертову книжку. А фен будет гудеть, и над головой будет мигать флюоресцентная лампа. И хоть частично чернила расплывутся, все записи не сотрутся, это ясно. Так что проку почти никакого. Кроме того, эта записная книжка была с ним так долго, проехала в его кармане столько миль по безлюдным просторам Среднего Запада. Ему просто претила мысль, что придется выуживать ее из унитаза.
Может, тогда только последнюю страничку? Да, конечно, вырвать эту последнюю страничку, скатать в шарик, бросить в унитаз и спустить воду. Но как же тогда с остальными записями? Они (всегда эти «они») неизбежно обнаружат их, все эти свидетельства его нездоровой психики. И скажут: «Еще повезло, что этот типчик не зашел куда-нибудь на школьный двор с автоматом Калашникова. И не прихватил с собой на тот свет целую толпу ребятишек». И тогда это будет преследовать Майру, точно консервная жестянка, привязанная к хвосту собаки. «Слыхали, что произошло с ее мужем? – станут говорить люди где-нибудь в супермаркете. – Покончил с собой в мотеле. И оставил книжку с какими-то бредовыми записями. Еще слава Богу, что ее не пришил». Ладно, это еще куда ни шло, это можно пережить. В конце концов Майра взрослая женщина. А вот Карлин… с Карлин, конечно, сложнее. Потому что Карлин сейчас…
Альфи взглянул на часы. Где сейчас Карлин? Ах, ну да, конечно, Карлин сейчас на баскетбольном матче школьной юниорской команды. И ее подружки по команде будут говорить то же самое, что и дамочки в супермаркете, только уже где-нибудь в раздевалке, и все эти разговоры будут сопровождаться мерзкими и ехидными девчоночьими смешками. А в глазах – ужас и радостное возбуждение одновременно. Разве это честно по отношению к ребенку? Нет, конечно, нет, но ведь и с ним тоже жизнь поступила несправедливо. Иногда, проезжая по шоссе, видишь сваленные вдоль обочины старые и рваные резиновые покрышки. Вот как он чувствовал себя сейчас – старой, никому не нужной, выброшенной покрышкой. А от таблеток становилось еще хуже. Они лишь просветляли сознание, и ты с еще большей ясностью и отчетливостью начинал понимать, в какое жуткое дерьмо угодил.
– И все равно я не сумасшедший, – произнес он вслух. – Все это вовсе не означает, что я сумасшедший.
Нет. Но, может, быть сумасшедшим даже лучше.
Альфи снова взял записную книжку, быстро перелистал ее, примерно тем же жестом, каким крутанул барабан револьвера. А потом довольно долго сидел, похлопывая книжкой по колену. Нет, это просто нелепо, смехотворно!
Смехотворно или нет, но это почему-то мучило его. Как мучила, к примеру, мысль, что газовая горелка на плите, возможно, осталась включенной (это когда он бывал дома). И он лежал в постели и маялся этой мыслью, а потом не выдерживал, вставал и шел на кухню проверить, и плита всегда оказывалась холодной. Только это еще хуже, чем с плитой. Потому что ему страшно нравились эти записи в книжке. Он их любил. И все последние годы настоящей его работой было именно собирательство всех этих поразительных граффити – это надо же, слово какое, граффити! – а вовсе не торговля универсальными считывателями кодов или замороженными продуктами, которые, если сунуть их в хорошую современную микроволновку, мало чем отличались от продуктов фирмы «Свенсонс» или же «Фризер Квинс». Взять, к примеру, хотя бы вот это, отчаянно откровенное и будоражащее воображение заявление: «Хелен Келлер трахает ротвейлер». И при всем при том, когда он умрет, книжка кого угодно может ввергнуть в недоумение. Все равно что случайно задохнуться в гардеробе, экспериментируя с новым, особо изощренным способом мастурбации, где тебя найдут со спущенными трусами да еще обкакавшегося. А может, часть записей из книжки опубликуют в какой-нибудь газетенке, под его снимком? В старые добрые времена такая мысль и в голову не пришла бы, зато теперь, в наши дни, когда вполне солидные газеты запросто рассуждают о родинке на пенисе самого президента, идея выглядит не столь уж и абсурдной.
Сжечь ее тогда, что ли? Не получится – в номере автоматически включится это треклятое противопожарное устройство.
Или спрятать за картинкой на стене? Картинкой, на которой изображен маленький мальчик в соломенной шляпе и с удочкой?
Альфи задумался, потом кивнул. А что, идея совсем недурна. Там записная книжка может пробыть годы, никто ее не заметит и не найдет. А потом, в каком-то отдаленном будущем, она сама выпадет из-под картины на пол. И кто-то – постоялец, но скорей всего все же горничная – подберет ее, сгорая от любопытства. И начнет перелистывать. И какова же будет реакция? Шок? Смех? Растерянность и недоумение? Альфи надеялся на последнее. Потому что эти записи в книжке способны поставить в тупик кого угодно. «Элвис убил Большую Киску», написал какой-то тип из Хэкберри, штат Техас. «Безмятежность – это квадрат», написал кто-то в Рэпид-Сити, Южная Дакота. А ниже кто-то другой приписал следующее: «Да нет, глупенький, безмятежность = (va)
+ b, где v = безмятежность, а = удовлетворение и b = сексуальная совместимость».
Так, значит, за картину.
И Альфи уже находился на полпути к ней, как вдруг вспомнил о таблетках в кармане пальто. А в бардачке машины лежали еще, другие, но от той же хворобы. Таблетки эти выписывали только по рецепту. Но они вовсе не принадлежали к разряду снадобий, которыми потчует тебя врач, когда ты… ну, скажем, немного на взводе. Так что копы наверняка будут обыскивать комнату в поисках других таблеток и непременно заглянут под картину, а из-под нее выпадет на зеленый ковер записная книжка. И тогда все будет выглядеть еще хуже, во всяком случае, гораздо подозрительнее, поскольку они сразу поймут, что сумасшедший прятал свидетельство своего безумия.
И примут последние строчки за предсмертную записку, хотя бы просто потому, что они последние. Не важно, где он оставит или спрячет книжку, так оно и будет. Точно и наверняка, как палка в задницу этой гребаной Америке – так написал некий неизвестный ему лирик из Восточного Техаса.
– Если, конечно, они ее найдут, – пробормотал он. И тут его осенило.
Снег валил все гуще, ветер усилился, и огоньков, мерцавших на дальнем конце поля, видно не было. Альфи стоял на краю парковки рядом со своим заваленным снегом автомобилем, полы широкого пальто бешено трепал ветер. Наверняка на ферме все они уже уселись смотреть телевизор. Всей своей хреновой семейкой. Если, конечно, тарелку спутниковой антенны не снесло с крыши амбара. А дома у него жена с дочерью, должно быть, уже вернулись с баскетбольного матча. Майра и Карлин жили в мире, имеющем мало общего с автострадами федерального значения, с заведениями «фаст-фуд», выросшими вдоль обочин, точно грибы после дождя, а также со свистом проносящихся мимо тебя на скорости семьдесят, восемьдесят, а то и все девяносто миль в час автофургонов и трейлеров. Нет, он не то чтобы жалуется (да и потом это совсем не в его характере). Нет, он просто констатирует факт. «Здесь никого, даже если кто-то и есть», написал некто в Чок Левел, штат Миссури, на стене деревянного уличного сортира. А иногда он видел в ванных мотелей кровь, правда, в небольших количествах. Хотя, извините, однажды он видел под раковиной со стальным исцарапанным зеркалом грязный обшарпанный тазик, наполовину заполненный кровью. Неужели никто до него не заметил? А если заметил, почему не сообщил куда следует? Или сообщать о таких находках тут было не принято?..
И еще в некоторых мотелях беспрестанно передавали по радио прогноз погоды, и голос диктора казался Альфи каким-то нереальным, призрачным. Голос привидения, с трудом пробивающийся через голосовые связки трупа. В Кэнди, штат Канзас, в платном сортире на шоссе 283 кто-то написал: «Ку-ку! Стою у двери и стучу». А ниже красовалась приписка: «Если ты не из компании ассенизаторов, пошел прочь, паршивец и педераст!»
Альфи стоял на краю тротуара и даже задыхался немного – уж больно холоден и насыщен снегом был воздух. Стоял и сжимал в левой руке записную книжку – так крепко, что она согнулась пополам. Уничтожать ее нет никакого смысла. Он просто забросит ее на поле фермера, здесь, на окраине Линкольна, забросит как можно дальше от дороги. И в этом ему поможет ветер. Книжка может пролететь футов двадцать, а там ветер подхватит ее и понесет еще дальше, пока она не зацепится за кочку или сугроб и останется лежать там. И ее заметет снегом. Книжка пролежит там всю зиму, еще долго после того, как тело его отправят домой родственникам. А весной фермер Джон проедет по полю на своем тракторе, и в кабинке у него будет звучать веселая музыка, и наедет он плугом на его любимую записную книжку. И зароет ее глубоко-глубоко в землю, где она и останется лежать навеки, постепенно превращаясь в другую материю. Всегда почему-то хочется думать, что ничто на свете не исчезает бесследно, лишь переходит в другую субстанцию. «Не напрягайся, все вернется на круги своя», накорябал некто на стенке телефона-автомата на автостраде 35, неподалеку от городка под названием Кеймерон, штат Миссури.
Альфи размахнулся, чтобы бросить книжку, но потом вдруг опустил руку. Ему жутко не хотелось с ней расставаться, вот в чем вся штука. Есть предел человеческому терпению, так почему-то принято думать. И у него дела обстоят просто хуже некуда. Он снова поднял руку, потом опять опустил. От отчаяния и нерешительности заплакал, хоть и не замечал своих слез. Кругом завывал ледяной ветер, словно подталкивал его на этом пути в никуда. Он просто больше не может жить так, как живет сейчас, – вот что главное. Не выдержит больше и дня. Выстрелить себе в рот из револьвера куда как легче, чем продолжать всю эту канитель, он это твердо знал. Куда как легче, чем, допустим, написать книгу, которую прочтут несколько человек (это еще в лучшем случае). Он снова поднял руку, слегка отвел ее, поднес к уху ладонь с зажатой в ней записной книжкой – так делает питчер перед броском – и застыл. Ему пришла в голову новая мысль. Надо досчитать до шестидесяти. Если во время счета блеснут вдали огоньки фермы, он все же попробует написать книгу.
А начать такую книгу, подумал он, следует с разговора, как измерять расстояние в милях на карте зеленым маркером, не только расстояние, но и саму необъятность Земли. С описания, как свистит и завывает ветер, когда выходишь из машины возле одного из мотелей где-нибудь в Оклахоме или Северной Дакоте. Он звучит совершенно особенно, этот ветер, он словно нашептывает тебе слова. Не забыть также описать тишину, и что в туалете всегда попахивает мочой и газами съехавших постояльцев, и что в тишине стены мотеля вдруг начинают говорить их голосами. Голосами тех, кто оставил все эти надписи, а потом уехал. И писать об этом будет больно, но если вдруг ветер стихнет и вдали замерцают огоньки фермы, он напишет эту книгу, чего бы это ни стоило.
А если так и не увидит огоньков, то забросит записную книжку в поле, вернется в мотель, в свою комнату под номером 190 (первая дверь слева от автомата), и застрелится, как собирался.
Одно из двух. Одно из двух.
Альфи стоял и считал про себя до шестидесяти. Стоял и ждал, когда стихнет ветер.
Я люблю водить машину, и особенно нравится мне ехать по бесконечно длинным прямым, как стрела, автострадам, когда по обе стороны от дороги ничего, кроме прерий, а до ближайшего мотеля миль сорок или около того. Ванные и туалеты этих придорожных мотелей сплошь исписаные граффити; попадаются среди них загадочные и непонятные. И вот я начал собирать эти изречения – записывать в блокнот, который постоянно ношу при себе. Одни попадались, как я уже упомянул, на стенках туалетов и телефонов-автоматов, другие скачивал из Интернета (там есть два или три сайта, посвященных исключительно такого рода надписям), а потом, наконец, придумал рассказ, где их можно употребить. Вот и получилась история про Альфи Зиммера. А уж как получилась, судить вам. Хочу сказать одно: мне далеко не безразличен ее главный герой, страшно одинокий человек; от души надеюсь, что все у него будет хорошо. В первом варианте так оно и было, но Билл Бьюфорд из журнала «Нью-Йоркер» предложил сделать более неопределенный финал. Возможно, он прав, однако единственное, что мы можем сделать для Альфи Зиммера, это молиться за него всем миром.
Смерть Джека Гамильтона
Хочу, чтобы вы поняли с самого начала: за исключением Мелвина Первиса из ФБР не было на свете человека, кому бы не нравился мой дружок Джонни Диллинджер. Первис был правой рукой Джона Эдгара Гувера и смертельно ненавидел Джонни. Что касается остальных… короче, все кругом были просто без ума от Джонни, в том-то и штука. И еще он умел смешить людей. Бог любит, чтобы все его дела доводились до конца, так он частенько говаривал. Ну и чем, скажите, может не нравиться человек, исповедующий такую философию?
И людям вовсе было ни к чему, чтобы такой человек умер. Вы удивитесь, но до сих пор многие считают, что вовсе не Джонни был застрелен федами 22 июля 1934 года в Чикаго возле кинотеатра «Биограф». А возглавлял охоту на Джонни не кто иной, как Мелвин Первис. И надо сказать, что он был не только подлый, но и чертовски неумный парень (из тех, что норовят пописать из окна, забыв его предварительно открыть). Короче, ничего хорошего о нем сказать просто не могу. Дешевый пижон, и, Господи, как же я его ненавидел! Как мы ненавидели этого типа!
И нам всем удалось благополучно удрать от Первиса и его уродов после перестрелки в «Маленькой Богеме», штат Висконсин, – всем до единого! Как после такого этому гребаному педику удалось удержаться на работе – настоящая загадка. Помню, Джонни тогда сказал: «Лучше б на его место Джон Эдгар какую бабу поставил, и то было бы больше проку». Как же мы хохотали! Разумеется, в конце концов Первис все же достал нашего Джонни. Но только потому, что устроил засаду у кинотеатра «Биограф» и выстрелил ему в спину, когда тот, почуяв неладное, пытался удрать через боковой проулок. И наш Джонни, упав лицом в грязь и кошачье дерьмо, пробормотал: «Как прикажете это понимать?» И умер.
Но люди до сих пор не верят в его смерть. Наш Джонни настоящий красавчик, говорили они, не парень, а прямо кинозвезда! А у типа, которого феды застрелили у кинотеатра, морда была жуткая, вся распухшая, того и гляди лопнет, как переваренная сосиска! Нашему Джонни только-только стукнуло тридцать один, а тот тип, которого прихлопнули копы у кинотеатра, выглядел на все сорок, если не больше! Кроме того (тут они обычно понижали голос до шепота), каждому дураку известно, что у Джона Диллинджера был член размером с бейсбольную биту. А у типа, на которого устроил засаду возле «Маленькой Богемы» придурок Первис, – ничего особенного, стандартные шесть дюймов в длину. И потом еще этот шрам на верхней губе. На снимках, сделанных в морге, шрам виден очень четко. (Похоже, что, когда они там фотографировали тело, какой-то ублюдок специально приподнял и придерживал голову моего старого друга, скорчив при этом мрачную и многозначительную рожу, словно желая тем самым подчеркнуть: Каждый Преступник Получит по Заслугам.) И этот шрам как бы разрезал усы Джонни надвое. Но все знают, что у Джонни Диллинджера никогда не было такого жуткого шрама. Да вы поглядите на другие его снимки, сразу убедитесь, говорили люди. Господь свидетель, снимков этих полным-полно.
Потом даже появилась книжка, где писали, что Джонни вовсе не умер. Что он скрылся, обманув преследователей, а затем долго и счастливо жил себе в Мексике на роскошной гасиенде, ублажая всяких там сеньор и сеньорит огромным своим «прибором». И еще в этой книжке написано, что мой старый друг умер 20 ноября 1963 года – ровно за два дня до смерти Кеннеди – в возрасте шестидесяти лет. И что жизнь отняла у него вовсе не пуля, выпущенная каким-нибудь ублюдком федом, а самый что ни на есть заурядный сердечный приступ. Так что Джон Диллинджер скончался дома в постели.
Славная история, не спорю, только все это неправда.
Лицо Джонни выглядит на последних снимках таким широким и толстым, потому что он последнее время действительно прибавил в весе. Он принадлежал к тому типу людей, которые, когда нервничают, начинают есть практически без передышки и все подряд. А основания нервничать у него были, особенно после того, как в городке Аврора, штат Иллинойс, погиб его дружок Джек Гамильтон. Джонни понял, что он – следующий. Так прямо и сказал этими самыми словами у могилы бедняги Джека.
Что же касается его «прибора»… что ж, мы с Джонни познакомились еще в исправительной колонии в Пендлтоне, штат Индиана. И я видал его в разных видах – и одетым, и в чем мать родила тоже. И Гомер Ван Митер, что находится здесь со мной, может подтвердить, что «прибор» у него был вполне приличных размеров, но совсем не такой уж и огромный, как свидетельствует молва. (Я вам скажу, у кого эта штука была действительно выдающихся размеров, но только чтоб между нами. У Дока Баркера, да благослови Господь его мамашу! Ха!)
Теперь о шраме на верхней губе, который прорезает усы на всех тех снимках, что сделаны в морге. Тут особая история. На других снимках шрама не видно по одной простой причине – он схлопотал свое украшение уже в самом конце. Случилось это в городке под названием Аврора, когда Джек (он же Ред) Гамильтон, наш старый добрый приятель, находился на смертном одре. Собственно, об этом я и хотел вам рассказать. О том, как Джонни Диллинджер схлопотал шрам на верхней губе.
Мне, Джонни и Реду Гамильтону удалось улизнуть от копов во время заварушки в «Маленькой Богеме». Мы выбрались через окно на кухне и были уже по ту сторону озера, но этот дебил Первис со своими кретинами продолжал поливать свинцом фасад и входную дверь. Бог ты мой! От души надеюсь, что у несчастного владельца этого заведения была оформлена страховка! Первая машина, которую мы нашли, принадлежала пожилой паре, обитавшей по соседству, и этот их гребаный драндулет никак не желал заводиться. Со второй повезло больше – «форд»-купе был живущего через дорогу плотника. Джонни затолкал хозяина на переднее сиденье, тот взялся за баранку и отвез нас на приличное расстояние от Сент-Пола. Затем его попросили выйти – что он сделал весьма охотно – и за руль сел я.
Мы пересекли Миссисипи примерно милях в двадцати ниже по течению от Сент-Пола. И хотя местные копы все еще продолжали искать то, что называли бандой Диллинджера, думаю, что все обошлось бы, не потеряй Джек Гамильтон во время всей этой заварушки свою шляпу. Он был весь потный, как свинья, – всегда потел, когда нервничал. Нашел на заднем сиденье плотницкой машины какой-то коврик, разодрал на полоски и соорудил вокруг головы нечто вроде индусского тюрбана. Собственно, именно эта повязка и привлекла внимание копов, блокировавших выезд со Спирального моста, там, где уже начинался штат Висконсин. Они заметили нас и пустились в погоню.
И конец бы нам, но Джонни всегда просто чертовски везло, ну, до той истории у кинотеатра «Богема», разумеется. Он захватил фургон с коровами, развернул его поперек дороги и преградил путь полицейским машинам.
– А теперь жми на полную катушку, Гомер! – крикнул мне Джонни. Сам он сидел на заднем сиденье и, похоже, пребывал в отличном расположении духа. – А ребята пусть прогуляются пешком!
Я вдавил педаль газа, позади скрылся в пыли груженный скотом трейлер, и копы, естественно, отстали. Так что, прости прощай, мамуля, обязательно черкну тебе письмецо, как только устроюсь на работу! Ха!
Однако теперь, когда все неприятности вроде бы остались позади, Джек заметил:
– Да сбрось ты скорость, идиот чертов! Не хватало, чтоб нас остановили за превышение скорости!
Я сбросил до тридцати пяти, и на протяжении примерно четверти часа все у нас шло просто отлично. Мы обсуждали заварушку в «Богеме», гадали, удалось Лестеру (по прозвищу Мордашка) удрать оттуда или нет. И вдруг защелкали ружейные и пистолетные выстрелы. Пули начали с визгом рикошетить от тротуара. То были те самые копы с моста, чертова деревенщина. Они нас нагнали и ехали сейчас позади ярдах в девяноста – ста, прямо так и повисли на хвосте и еще, суки, принялись палить по шинам. Хотя даже тогда вовсе не были уверены, что это Диллинджер.
Впрочем, сомневались они недолго. Джонни выбил стволом пистолета заднее стекло «форда» и открыл ответный огонь. Я снова вдавил педаль газа в пол, и мы помчались со скоростью около пятидесяти миль в час, что по тем временам считалось прямо-таки рекордом. Движение на дороге было слабым, но там, где было, я ловко обходил все автомобили – то справа, то слева, то одним колесом в канаве. Дважды левые от меня колеса отрывались от земли, но мы каким-то чудом не перевернулись. Нет машины лучше «форда», когда отрываешься от преследования, прямо должен вам заявить. Как-то раз Джонни даже написал письмо самому Генри Форду. «Когда я еду в „форде“, все остальные машины вынуждены жрать мою пыль», говорилось в этом письме. И уж будьте уверены, в тот день они досыта нажрались этой самой пыли.
Но и нам пришлось заплатить свою цену. Послышались странные щелчки – пинк! пинк! пинк! – и по ветровому стеклу расползлась трещина. Пуля – просто уверен, что 45-го калибра, никак не меньше – упала прямо на приборную доску. И лежала там, похожая на большого черного жука.
Джек Гамильтон находился на сиденье рядом. Поднял с пола автомат Томпсона[21 - Автомат (пистолет-пулемет) Томпсона – оружие периода Первой мировой войны, созданное оружейником Дж. Томпсоном; широко использовался гангстерами в период «сухого закона», они называли его «чикагской скрипкой», поскольку автомат легко умещался в футляре для скрипки.] и стал проверять барабан, уже готовый открыть ответную стрельбу из окна. Но в этот момент снова защелкало: пинк! пинк! И Джек тихо выдохнул: «Вот твари! Похоже, меня зацепило!» Оказалось, что пуля прошла сквозь заднее стекло, и как она не попала в Джонни, а ранила Джека – до сих пор ума не приложу.
– Ты как, в порядке? – крикнул я. В этот момент я повис на руле, как обезьяна, да и управлял машиной примерно так же, как могла бы делать эта тварь. Предстояло обойти справа тяжеленный молоковоз, и я непрерывно жал на клаксон и орал этому сукиному сыну в белом халате, чтоб убрался с дороги. – Как ты, а, Джек?
– О’кей, в полном порядке, лучше не бывает! – отвечает он мне. И с этими словами высовывается из окна чуть ли не по пояс вместе со своим автоматом. Только сперва ему мешал этот гребаный молоковоз. Я видел водителя в зеркальце – парень в дурацкой маленькой шапочке с ужасом пялился на нас. А потом я перевел взгляд на вывалившегося из окна Джека и увидел дырочку, аккуратную и круглую, точно выведенную карандашом, прямо посреди пиджака. Никакой крови, заметьте, не было, только маленькая черная дырочка.
– Ничего, Джек! Делай свое дело, обойди этого придурка! – крикнул мне Джонни.
И я его обошел. На обгоне молоковоза мы выиграли с полмили, и копы немного поотстали, поскольку с одной стороны движение ограничивала разделительная полоса, а с другой – поток медленно двигающихся автомобилей. Мы резко свернули вправо, такой уж мудреный попался в этом месте поворот, и на секунду и молоковоз, и автомобиль копов скрылись из виду. И вдруг мы увидели по правую руку узкую дорогу, мощенную гравием и заросшую сорняком.
– Туда! – выдохнул Джек и откинулся на спинку сиденья, но я уже и без того сворачивал на эту дорогу.
То оказалось старое шоссе. Проехав по нему примерно семьдесят ярдов, я увидел впереди ферму, с виду – давно заброшенную. Выключил мотор, и все мы вышли из машины и стали за ней.
– Если появятся, устроим им представление, – сказал Джек. – Потому как я в отличие от Гарри Пирпонта на электрический стул не тороплюсь.
Но никто не появился, и минут через десять мы все снова сели в машину и поехали по главной дороге, причем ехали медленно и очень аккуратно. А потом я увидел одну вещь, которая мне дико не понравилась.
– Джек, – сказал я, – у тебя изо рта кровь идет. Ты вытри, а то еще рубашка запачкается.
Джек оттер губы большим пальцем правой руки, посмотрел, увидел на нем кровь, а потом улыбнулся мне – эта улыбка до сих пор снится мне по ночам. Широкая, радостная, но в ней так и светится ужас.
– Просто прикусил щеку изнутри, – сказал он. – Ничего страшного.
– Ты уверен? – спросил его Джонни.
– И еще чего-то дышать трудновато, – сказал Джек. Снова вытер губы пальцем, на этот раз крови было меньше, и это, похоже, его успокоило. – Давайте уматывать отсюда к чертовой бабушке!
– Заворачивай обратно, к Спиральному мосту, Гомер, – сказал Джонни. И мне это тоже не понравилось. Далеко не всё в байках о Джонни Диллинджере правда, но он всегда умел найти дорогу к дому, даже когда этого дома у него не было вовсе. И я всегда верил в это его чутье.
Мы опять ехали на законной и добропорядочной скорости в тридцать миль в час, когда вдруг Джонни заметил бензоколонку «Тексако» и велел мне свернуть вправо. И вот мы снова помчались по сельским ухабистым дорогам, и Джонни приказывал мне свернуть то вправо, то влево, хотя, лично на мой взгляд, все эти дороги казались совершенно одинаковыми: просто проложенные в грязи колеи от колес между давно убранных кукурузных полей. Грязь тут была страшеннейшая, на полях попадались участки, где еще лежал снег. И время от времени нашу машину провожал глазами какой-нибудь постреленок. Джек становился все тише и тише. Я спросил, как он себя чувствует, и он ответил: «Я в полном порядке».
– Надо бы осмотреть тебя как следует, когда все устаканится, – заметил Джонни. – Ну и привести в порядок пиджак. Иначе с такой дыркой на спине люди подумают, что кто-то тебя подстрелил! – Он громко расхохотался, я тоже заржал. Даже Джек засмеялся. Этот Джонни, он кого хочешь мог развеселить.
– Не думаю, что зацепило глубоко, – заметил Джек, когда мы выехали на шоссе под номером 43. – Кровь изо рта больше не идет, вот, смотри, – и с этими словами он обернулся к Джонни и показал ему палец с засохшим пятном крови. Потом откинулся на спинку сиденья, и тут кровь так и хлынула у него изо рта и носа.
– Думаю, мы отъехали на безопасное расстояние, – сказал Джонни. – Самое время позаботиться о тебе. Хотя лично я не вижу ничего страшного. Раз можешь говорить, ты скорее всего в порядке.
– Конечно, – ответил Джек. – Я в полном порядке, – но голосок у него был довольно слабенький.
– В порядке, как тот хрен на грядке, – сказал я.
– Да заткнись ты, придурок хренов! – сказал он, и все мы снова заржали. Они смеялись надо мной. Прямо чуть не лопнули от смеха.
По главной дороге мы проехали минут пять, и тут вдруг Джек вырубился. Привалился мордой к стеклу, из уголка рта поползла тонкая струйка крови и запачкала окно. Все равно что раздавить насосавшегося крови москита, подумал я. У Джека до сих пор красовался на голове тюрбан из коврика, только теперь он слегка съехал набок. Джонни снял тюрбан и оттер им кровь с лица Джека. Джек что-то забормотал, даже руки приподнял, чтоб оттолкнуть Джонни, но они тут же безвольно упали на колени.
– Эти копы уже успели предупредить своих по радио, – сказал Джонни. – Стоит сунуться в Сент-Пол, и нам кранты. Так мне кажется. А ты что думаешь, Гомер?
– Да то же самое, – ответил я. – И что тогда у нас остается? Куда двинем, в Чикаго?
– Ага, – согласился он. – Только перво-наперво надобно бросить эту тачку. Они и номера уже знают. А даже если нет, все равно, невезучая она, эта тачка. Чертовски невезучая!
– А что с Джеком? – спросил я.
– Джек будет в полном порядке, – ответил он, и у меня достало ума и сообразительности не затрагивать больше эту тему.
Проехав еще примерно с милю, мы остановились, и Джонни прострелил переднюю шину невезучего «форда». Джек сидел на земле, привалившись к капоту, и лицо у него было жутко бледное.
Когда нам нужна машина, в дело всегда вступаю я. «Интересная штука, – заметил как-то Джонни. – Ни одна собака не остановится, сколько ни сигналь, но стоит тебе поднять руку, и все машины к твоим услугам. Почему, хоть убей не пойму!»
Гарри Пирпонт как-то объяснил ему, в чем секрет. Было это, когда банды Диллинджера еще не существовало в природе, а была банда Пирпонта. «Да потому, – сказал тогда Гарри, – что он выглядит, как Гомер. Сроду не встречал человека, который больше походил бы на Гомера, чем наш Гомер Ван Митер».
Помню, мы все тогда долго ржали, и вот теперь настал момент, когда мне снова пришлось вступать в дело. Но только сейчас нам было не до шуток, потому как теперь это был вопрос жизни и смерти.
Мимо проехали три или четыре машины, все это время я притворялся, что вожусь с лопнувшей шиной. Затем показался трактор, но он нам не годился – слишком уж медленный и шумный. К тому же в прицепе ехали трое парней. Водитель замедлил ход и спросил: «Нужна помощь, амиго?»
– Ничего, все в порядке, – ответил я. – Маленько поработать, нагулять аппетит перед обедом, никогда не помешает. Так что не смею вас задерживать.
Он осклабился в ухмылке и поехал дальше. Парни в прицепе сделали нам ручкой.
Затем появился «форд», самое то, что надо. Я замахал руками, делая знак остановиться. И при этом стоял так, чтобы сидевшие в нем видели лопнувшую шину. И еще я улыбался им во весь рот. Улыбка эта говорила – я всего лишь безобидный Гомер. Вот, застрял на обочине, и без вас мне никак.
Сработало. В машине сидели трое – мужчина и молодая женщина с толстым младенцем на руках. Семья.
– А у тебя, похоже, прокол, приятель, – сказал мужчина. Он был в костюме и плаще, вещи чистенькие, но, прямо скажем, не первого класса.
– Прямо ума не приложу, как это получилось, – сказал я. – Лопнула, что твоя жаба, в Бога душу мать!
Мы все еще ржали над этой незамысловатой шуткой, как вдруг из-за кустов вышли Джонни и Джек со своими пушками.
– Не дергайтесь, сэр, – сказал мужчине Джек. – И тогда мы не причиним вам вреда.
Мужчина молча переводил взгляд с Джека на Джонни, потом опять на Джека. Потом снова взглянул на Джонни, челюсть у него прямо так и отвалилась. Подобную реакцию мне доводилось наблюдать тысячу раз, но всегда она меня страшно забавляла.
– Да ведь это Диллинджер! – взвизгнул мужчина и поднял руки вверх.
– Рад познакомиться, сэр, – говорит ему Джонни и хватает мужчину за руку. – Будьте любезны, снимите-ка эти рукавицы!
Тут мимо проехали две или три машины с типами из местных. Деревня едет в город, сидят за рулем с прямыми спинами, точно палки проглотили, в своих старых, заляпанных грязью седанах. Видимо, мы не показались им подозрительными – стоит себе у обочины группа парней, решает, что делать с проколотой шиной.
Тем временем Джек подошел к водительской дверце новенького «форда», выключил зажигание и забрал ключи. Небо в тот день было белесое, точно вот-вот пойдет снег, но лицо у Джека было еще бледнее.
– Ваше имя, мэм? – осведомился Джек у женщины. На ней было длинное серое пальто, на голове – лихая шляпка наподобие матросской бескозырки.
– Дили Фрэнсис, – ответила она. А глаза у нее были большие и темные, как сливы. – А это Рой. Мой муж. Вы нас убьете, да?
Джонни окинул ее строгим взглядом и надменно заметил:
– Мы банда Диллинджера, миссис Фрэнсис. А люди Диллинджера никогда никого не убивают. – Джонни никогда не упускал случая подчеркнуть этот факт. При этом Гарри Пирпонт всегда смеялся над ним и спрашивал, на кой ляд он впустую тратит слова, но лично я думаю, что Джонни поступал правильно. То была одна из причин, по которой именно его будут долго помнить люди. А этого педераста в соломенной шляпке все уже давно забыли.
– Золотые твои слова, – сказал Джек. – Мы грабим банки, причем ровно вполовину меньше, чем говорят. А кто этот славный маленький человечек? – и он ущипнул малыша за подбородок. Упитанный был младенец, ничего не скажешь; точная копия У. К. Филдза[22 - Филдз Уильям Клод (1880–1946) – больше известен как «У.К. Филдс». Актер, автор сценариев многих фильмов, выступал на эстраде с комическими номерами, в 30-е годы – ведущий комик и острослов Америки.].
– Это Бастер, – ответила Дили Фрэнсис.
– Да он настоящий здоровяк, верно? – улыбнулся Джек. Зубы у него были в крови. – Сколько ему? Три или около того?
– Только что исполнилось два с половиной, – с гордостью ответила миссис Фрэнсис.
– Неужели?
– Да, крупный мальчик для своего возраста. Скажите, мистер, а вы в порядке? Вы ужасно бледный. И потом, эта кровь на…
Тут вмешался Джонни:
– Сможешь завести эту тачку в лес, Джек? – и он указал пальцем на старенький «форд» плотника.
– Само собой, – ответил Джек.
– Несмотря на шину и прочее?
– Спрашиваешь. Вот только… Мне жуть до чего хочется пить. Скажите, мэм, то есть миссис Фрэнсис, у вас с собой, случайно, нет ничего попить, а?
Она развернулась, склонилась над задним сиденьем – что было далеко не просто с этим ребенком-боровом на руках – и достала термос.
Мимо пролетела еще пара машин. Сидевшие в них люди махали нам руками, и мы махнули в ответ. Я продолжал улыбаться, ощерив пасть не хуже крокодила, пытаясь выглядеть, как подобает Гомеру. Меня беспокоил Джек, я просто не понимал, как он все еще держится на ногах. Так он мало того, что держался – этот сукин сын еще открыл термос, посмотреть, что там внутри. Чай со льдом, сказала она, но он словно не слышал. А когда протянул ей термос обратно, все увидели, что по щекам его катятся слезы. Потом Джек поблагодарил дамочку, и она снова спросила, в порядке ли он.
– Теперь в порядке, – ответил Джек. Забрался в старенький «форд» и повел его к кустам на обочине, машина при этом нещадно раскачивалась и подпрыгивала – еще бы, считай, одного колеса у нее не было вовсе, ехала на голом ободке.
– Нет, чтобы заднее прострелить, урод несчастный! – сердито буркнул Джек, но голос у него был совсем слабенький. И вот наконец машина въехала в лес и скрылась из виду, а вскоре и сам он показался на опушке. Шел медленно и все время смотрел под ноги – словно старик на льду.
– Вот и славненько, – заметил Джонни. И сделал вид, что чересчур внимательно рассматривает кроличью лапку – брелок, прикрепленный к ключам мистера Фрэнсиса. Как бы давая мне тем самым понять, что мистер Фрэнсис не увидит больше своего «форда». – Стало быть, теперь мы все познакомились, подружились, самое время совершить небольшую прогулку.
Джонни сел за руль, Джек – рядом, я втиснулся на заднее сиденье между Фрэнсисами и пытался рассмешить их маленького поросенка.
– Едем до ближайшего городка, – не оборачиваясь, объявил Джонни Фрэнсисам. – Там вы сходите на автобусной остановке, и езжайте себе, куда собирались, денег на дорогу вам оставлю. А мы заберем машину. Обещаю, что будем обращаться с ней аккуратно, никаких там дырок от пуль, ничего подобного, вернем новенькой, с иголочки. Один из нас позвонит и скажет, где ее можно забрать.
– Но у нас еще не установили телефон, – робко возразила Дили. И голосок у нее был такой противный, жалобный и писклявый, прямо руки чесались врезать как следует. Потому как она явно принадлежала к тому разряду женщин, которым минимум раз в две недели следует устраивать хорошую выволочку, чтоб не поднимала хвост. – Вообще-то мы в списке очередников, но эти люди с телефонной станции прямо как вареные, никогда не спешат.
– Что ж, тогда, – ничуть не растерявшись, заметил Джонни, – мы позвоним в полицию, и уж они свяжутся с вами. Но если станете вякать, машины вам не видать как своих ушей.
Мистер Фрэнсис закивал – с таким видом, точно верил каждому его слову. А может, и правда верил. Ведь то, как-никак, была банда самого Диллинджера.
Джонни остановился у бензоколонки, заправился и купил всем содовой. Джек присосался к своей бутылочке, точно там была не содовая, а волшебный нектар, точно он помирал от жажды где-нибудь в пустыне. Но женщина не очень-то позволяла своему поросенку пить. Дала только отхлебнуть, один глоточек. Малыш тянулся к бутылочке и орал, точно его режут.
– Не хочу испортить аппетит перед ленчем, – сказала она Джонни. – Что это с вами, а?..
Джек сидел, закрыв глаза и привалившись головой к боковому стеклу автомобиля. Я было подумал, что он снова вырубился, но тут он открывает глаза и говорит дамочке:
– Заткните пасть своему выродку, мэм, иначе это сделаю я.
– Кажется, вы забыли, в чьей едете машине, – эдак с подковыркой замечает она.
– Дай ему бутылку, сучка! – говорит Джонни. Он по-прежнему улыбается, но только это совсем другая улыбка. Она смотрит на него и бледнеет, прямо вся краска отливает от щек. Мистер Поросенок получает свою бутылочку, а будет или не будет он есть ленч, это уже никого не колышет. Еще через двадцать миль мы высаживаем семейство в маленьком городке и направляемся в Чикаго уже без них.
– Мужчина, женившийся на такой женщине, имеет то, что заслуживает, – замечает Джонни. – И уж он-то получит сполна, будьте уверены!
– Она позвонит копам, – говорит Джек, по-прежнему не открывая глаз.
– Ни хрена не позвонит, – небрежно и уверенно отвечает Джонни. – Да такая скорее удавится, прежде чем никель потратит. – Он оказался прав. На всем пути в Чи мы видели лишь двух синих «жучков», но каждый ехал себе своей дорогой, а сидевшие в них парни даже не притормозили, чтобы взглянуть на нас хорошенько. Так что Джонни, как всегда, везло. А вот Джеку – нет, достаточно было хотя бы мельком взглянуть на него, как тут же становилось ясно, что вся везуха для него кончилась. Мы еще и к «Луп»[23 - «Луп» («Петля») – деловой, культурный и торговый центр Чикаго.] не успели подъехать, как он начал бредить и звать мать.
– Гомер? – окликнул меня Джонни и игриво покосился в мою сторону. Знал, чертяка, как это меня всегда раздражает. В такие моменты он походил на девицу, собравшуюся пофлиртовать.
– Чего? – грубо огрызнулся я.
– Нам некуда ехать. Здесь еще хуже, чем в Сент-Поле.
– Езжай в «Мерфи», – сказал вдруг Джек, по-прежнему не открывая глаз. – До смерти охота холодненького пивка. Умираю от жажды.
– «Мерфи», – задумчиво повторил Джонни. – А что, недурная идейка.
Так назывался ирландский салун на Саут-Сайд. На полу опилки, мокрые и грязные столы, два официанта, трое вышибал, дружелюбно настроенные девушки за стойкой бара и комната наверху, где с ними вполне можно найти приют. Еще несколько комнат находились в задней части помещения, там иногда устраивались деловые встречи, но чаще они пустовали. Таких заведений в Сент-Поле насчитывалось целых четыре, а вот в Чи их было всего два. Я запарковал «форд» Фрэнсисов в боковом проулке. Джонни находился на заднем сиденье, рядом с нашим бредящим другом – мы все еще не решались называть Джека нашим умирающим другом. Сидел и прижимал голову Джека к лацкану пиджака.
– Ступай и приведи из этого крысятника Брайана Муни, – сказал он мне.
– А что, если его там нет?
– Ну, тогда даже не знаю, – задумчиво протянул Джонни.
– Гарри! – вдруг заорал Джек. Наверное, звал Гарри Пирпонта. – Эта шлюха, которую ты мне подкинул, наградила меня чертовой гонореей!
– Ступай, – повторил Джонни и погладил Джека по голове, да так ласково, прямо как мать родная.
Однако Брайан Муни оказался на месте – Джонни опять повезло, и мы договорились остаться в комнате на ночь, хоть это и обошлось нам в две сотни баксов. Жутко дорого, особенно если учесть вид из окна (в грязный проулок) и туалет, находившийся в дальнем конце коридора.
– А вы, как погляжу, серьезные ребятишки, – заметил Брайан. – Будь на моем месте Мики Макклюр, тут же вылетели обратно на улицу. Такого шухеру понаделали в этой «Маленькой Богеме» – до сих пор все газеты трезвонят. И по радио тоже.
Джек присел на койку в углу и попросил сигарету и холодного пива. Последнее возымело на него просто чудодейственный эффект – он снова стал почти самим собой.
– А что, Лестер смылся? – вдруг спросил он Муни. Я посмотрел на него и вдруг заметил нечто ужасное. Стоило ему затянуться «Лаки» и выдохнуть, как из дырки на спине пиджака выходила тоненькая струйка дыма.
– Ты имеешь в виду Мордашку? – спросил Муни.
– Зря ты его так называешь, не ровен час еще услышит, – усмехнулся Джонни. Он явно воспрял духом, увидев, что Джеку стало лучше. Правда, он пока что не видел, как из дырки в спине у него выходил дым. Да и я лучше б не видел.
– Затеял перестрелку с целой оравой копов и смылся, – сказал Муни. – Одного уложил, это точно, а может, даже двух. Короче, ничего хорошего. На ночь можете остаться здесь, но чтоб завтра к полудню и духу вашего не было!
Он ушел. Джонни выждал несколько секунд, а потом показал ему вслед язык – ну точно малое дитя. Я заржал – Джоннни всегда умел рассмешить меня. Джек тоже засмеялся, но тихонько. Видно, больно было.
– Так, приятель, – сказал Джонни. – Теперь самое время взглянуть, что там с тобой стряслось. Снимай пиджак.
Процедура раздевания заняла минут пять. Ко времени, когда на Джеке осталась одна майка, все мы трое прямо взмокли от пота. А мне раза четыре пришлось зажимать Джеку рот ладонью, чтоб, не дай Бог, не заорал. И все манжеты у меня были в крови.
На подкладке пиджака красовалось лишь небольшое алое пятнышко, но половина белой рубашки была в крови, а майка так сплошь пропиталась кровью. И слева, прямо под лопаткой, красовалась шишка с небольшой дырочкой посередине – прямо миниатюрный вулкан.
– Не надо! – прорыдал Джек. – Пожалуйста, перестаньте!
– Ничего, все о’кей, – сказал Джонни и снова погладил его по голове, как маленького. – Мы все устали. Теперь можешь прилечь. Давай поспи. Тебе надо отдохнуть.
– Да не могу я! – говорит он. – Прямо жуть до чего больно! О Господи, если б вы знали, до чего больно!.. И еще я хочу пива. Умираю от жажды. Только не солите его, как тогда. Где Гарри, где Чарли?
Насколько я понял, речь шла о Гарри Пирпонте и Чарли Мэкли. И Чарли оказался тем самым Фейгином, который приобщил к ремеслу Гарри и Джека, когда те были еще сопляками.
– Ну вот, опять завел свою шарманку, – сказал Джонни. – Ему нужен врач. И ты, Гомер, мальчик мой, должен найти этого самого врача.
– О Господи, Джонни, да я ж в этом городе ни одной собаки не знаю!
– Не важно, – отмахнулся Джонни. – Стоит мне только высунуться на улицу, сам знаешь, что будет. Сейчас дам тебе несколько имен и адресов.
Закончилось тем, что он дал только одно имя и адрес, и мой поход по нему успехом не увенчался. Врачишка, подторговывающий разными пилюлями, подрабатывающий подпольными абортами, а также вытравлением папиллярных узоров с помощью разных кислот, оказывается, искал утешения от трудов праведных в настойке опия и отдал Богу душу два месяца назад.
Мы проторчали в этой вонючей комнатушке у «Мерфи» пять дней. Время от времени заявлялся Мики Макклюр и пытался вышвырнуть нас вон, но Джонни всякий раз говорил с ним по душам. Как умел говорить только он, Джонни, сплошной шарм и очарование, и было просто невозможно отказать ему. Да и, кроме того, мы платили за эту комнату. К концу с нас стали драть уже четыреста баксов за ночь, к тому же мы не смели высовывать носа дальше сортира, чтоб нас никто не узнал. Но никто не узнал, и мне кажется, копы до сих пор понятия не имеют, где мы скрывались все эти пять дней в конце апреля. Интересно, сколько сумел заработать на нас Мики Макклюр – по моим скромным подсчетам, никак не меньше куска. Недурненько.
В поисках врача я сначала обошел с полдюжины косметологов, которые переделывали носы и подбородки актерам, а также наращивали им волосы. Но среди них не нашлось ни одного, кто согласился бы прийти и посмотреть Джека. Слишком опасно, твердили они. Короче, дела тогда у нас шли хуже некуда, просто противно об этом вспоминать. Фигурально выражаясь, мы с Джонни только тогда поняли, какие примерно чувства испытывал Иисус, когда Петр трижды отрекся от Него в Гефсиманском саду.
Джек то впадал в забытье, то выходил из него, но последнее случалось с ним все реже. Говорил о своей матери, о Гарри Пирпонте, вспоминал Бобби Кларка, знаменитого педика из Мичиган-Сити, которого мы все знали.
– Бобби хотел меня поцеловать, – сказал однажды ночью Джек; он повторял это снова и снова, и мне уже начало казаться, что я схожу с ума. А Джонни не обращал внимания. Сидел на койке рядом с Джеком и гладил его по голове. Он вырезал из майки Джека квадратик ткани, в том месте, где находилась дырка от пули, и смазывал рану ртутной мазью, но кожа вокруг раны приобрела зеленовато-серый оттенок, и запах от дырки исходил просто чудовищный. Достаточно было нюхнуть всего раз – и глаза начинали слезиться.
– У него гангрена, – как-то сказал Мики Макклюр, зайдя за очередной порцией ренты. – Он, почитай, уже покойник.
– Он не покойник, – сказал Джонни.
Мики подался вперед, сложив пухлые ручки на толстом животике. Принюхался к дыханию Джека – так принюхиваются копы, стараясь уловить запах спиртного изо рта водителя. Потом отпрянул и удрученно покачал головой.
– Надобно найти врача, и быстро. Когда пахнет рана, это скверно. Но когда вот так пахнет изо рта, это… – Он еще раз сокрушенно потряс головой и вышел из комнаты.
– Да пошел он! – огрызнулся Джонни и принялся снова поглаживать Джека по голове. – Много он понимает.
А Джек ничего не говорил. Он спал. Несколько часов спустя, когда мы с Джонни тоже улеглись спать, Джек вдруг начал орать и угрожать Генри Клоди, надзирателю Мичиганской тюрьмы. Мы прозвали этого типа Клоди Ей-Богу, потому как он имел привычку повторять: ей-богу, сейчас сделаю то-то и то-то. Или: ей-богу, сейчас ты у меня сделаешь то-то и то-то. Джек кричал, что просто убьет Клоди, если тот сейчас же, немедленно, не выпустит нас отсюда. Тут кто-то заколотил в стенку, и незнакомый голос велел нам заткнуть пасть этому придурку.
Джонни уселся рядом с Джеком, поговорил с ним, погладил по волосам, и тот успокоился.
– Гомер? – вдруг окликнул меня Джек.
– Да, Джек? – ответил я.
– Послушай, ты не покажешь мне тот фокус с мухами?
Я удивился: надо же, помнит такое!
– Я бы и рад, Джек, – ответил я, – только мух тут нет. Сезон мух в этих краях еще не наступил.
И тут вдруг Джек запел тихим и хриплым голосом:
– Может, и есть мухи на вашей макухе, но только не на моей! Правильно, Чамма?
Я понятия не имел, кто такой этот Чамма, но кивнул и похлопал его по плечу. Оно было горячим и липким от пота.
– Правильно, Джек.
Под глазами у него залегли большие пурпурные круги, губы пересохли и потрескались. Он сильно исхудал. И еще я отчетливо ощущал исходивший от него запах. Запах мочи, но это не так уж страшно. Гораздо хуже был тот, другой запах – гангрены. А Джонни, так тот даже виду не подавал, будто от Джека дурно пахнет.
– Пройдись на руках. Сделай это для меня, Джон, – вдруг попросил Джек. – Ну, ты ведь умеешь.
– Минутку, – ответил Джонни. И налил Джеку стакан воды. – Вот, выпей прежде. Смочи глотку. А потом посмотрим, смогу ли я пройтись посреди комнаты на руках. Помнишь, как я бегал на руках на фабрике, где мы шили рубашки? Добежал до самых ворот, только там они меня скрутили и кинули в яму.
– Помню, – сказал Джек.
Но той ночью Джонни не пришлось ходить на руках. Джек отпил глоток воды из стакана и тут же вырубился, заснул, привалившись головой к плечу Джонни.
– Он умрет, – сказал я.
– Не умрет, – сказал Джонни.
Наутро я спросил Джонни, что нам теперь делать. Что мы можем сделать.
– Выудил из Макклюра имя одного парня. Джой Моран. Макклюр говорит, будто бы он был посредником при похищении Бремера. И что он сможет вылечить Джека, но это обойдется мне в тысячу баксов.
– У меня шесть сотен, – сказал я. Я бы с радостью расстался с этими бабками, но только не ради Джека Гамильтона. Потому как никакой врач Джеку уже не помог бы, это и ослу понятно, ему нужен священник. Но я делал это ради Джонни Диллинджера.
– Спасибо, Гомер, – сказал он. – Ладно, я пошел, вернусь через час. А ты присматривай за нашим малышом. – Но смотрел Джонни кисло. Он знал, что, если Моран не поможет, нам придется убраться из города. А стало быть, предстоит везти Джека обратно в Сент-Пол и попытать счастья там. И мы прекрасно понимали, что означало возращение в этот город на украденном «форде». Этой весной 1934 года все мы трое – я, Джек и особенно Джонни – числились в списке «врагов общества», составленного Дж. Эдгаром Гувером.
– Что ж, удачи тебе, – сказал я. И огляделся. Меня уже давно тошнило от этой комнаты. Все равно что вернуться в Мичиган-Сити, только еще хуже. Потому что ты всегда уязвим, особенно когда в бегах. И здесь, в этой комнатушке у «Мерфи», мы были особенно уязвимы.
Джек невнятно пробормотал что-то, потом снова вырубился.
Возле его койки стояло кресло с подушкой. Я снял подушку и уселся рядом с Джеком. И подумал: долго ему все равно не протянуть. А когда Джонни вернется, просто скажу, что бедный старина Джек испустил последний вздох, отдал Богу душу, отмучился наконец. И подушка снова будет лежать в кресле. Нет, я делаю это для блага Джонни. И Джека – тоже.
– Вижу тебя, Чамма, – вдруг отчетливо произнес Джек. Надо сказать, он перепугал меня просто до смерти.
– Джек! – окликнул я его, упершись локтями в подушку. – Ты как, а, приятель?
Взор его затуманился.
– Покажи… тот фокус, с мухами, – пробормотал он и снова уснул. Но проснулся, надо сказать, как раз вовремя, иначе бы Джонни, вернувшись, нашел на койке мертвеца.
Джонни вернулся, с грохотом распахнул дверь и ввалился в комнату. Я даже выдернул пушку. Он увидел ее и заржал.
– Убери свою пукалку приятель! И давай пакуй барахло!
– Что случилось?
– Съезжаем отсюда, к чертовой бабушке! – Он выглядел лет на пять моложе. – Давно пора, правильно я говорю?
– Да уж.
– Как он тут без меня? В порядке?
– Ага, – ответил я. Подушка лежала на кресле, на ней было вышито «ДО ВСТРЕЧИ В ЧИКАГО».
– Так никаких изменений?
– Никаких изменений.
– Аврора, – сказал Джонни. – Есть тут такой маленький городок неподалеку. И мы едем туда с Волни Дэвисом и его подружкой. – Он склонился над койкой. Рыжие волосы Джека и без того не слишком густые начали выпадать. Вся подушка была в этих тонких волосках, а на макушке у него образовалась белая как снег проплешина. – Ты что, оглох, Джек? – рявкнул Джонни. – Времени у нас в обрез, надо сматываться, и побыстрее! Усек?
– Пройдись на руках, как делал Джонни Диллинджер, – пробормотал Джек, не открывая глаз.
Джонни продолжал улыбаться. И подмигнул мне.
– Видишь, он все понимает, – сказал он мне. – Просто притворяется, что спит, правда?
– Ясное дело, – ответил я.
Мы ехали в Аврору, Джек сидел, привалившись к дверце, и голова его билась о стекло всякий раз, когда машина подпрыгивала на ухабах. Сидел с закрытыми глазами и вел долгий и путаный разговор с людьми, которых никто из нас не видел. Выехав из города, мы с Джонни опустили стекла – вонь в машине стояла невыносимая. Джек сгнивал заживо, изнутри, но все никак не умирал. Где-то я слышал высказывание, что жизнь человека хрупка и скоротечна, но, глядя на Джека, как-то не слишком верилось в это.
– Этот доктор Моран оказался сущим сопляком, – сказал Джонни. Мы ехали через лес, город остался позади. – И я решил, что просто не могу доверить какому-то сопляку и недоноску жизнь моего товарища. Но и с пустыми руками тоже не собирался уходить. – Джонни всегда путешествовал с заткнутым за пояс брюк револьвером 38-го калибра. И вот он вытащил его и показал мне, как, должно быть, показывал доктору Морану. – И вот я ему и говорю: «Знаете что, док, когда у человека больше нечего взять, я отбираю у него жизнь». Он сразу понял, что я не шучу, и позвонил своему приятелю Волни Дэвису.
Я кивнул – с таким видом, точно это имя мне что-то говорило. Позже выяснилось, что Волни Дэвис был членом банды Ма Баркера. Очень славный оказался парень. И Док Баркер – тоже. А подружка Волни носила прозвище Крольчиха. Прозвали ее так потому, что эта дамочка несколько раз сбегала из тюрьмы с помощью подкопа. И вообще она была самой крутой из всех. Козырная дамочка, иначе не скажешь! Она единственная из всех согласилась помочь нашему бедному Джеку. Ни от кого другого не было толку – ни от всех этих торговцев пилюлями, ни от хирургов, которые только и умели, что измываться над физиономиями актеров, и уж определенно – ни от доктора Джозефа Морана (он же Сопляк, он же Недоносок).
Баркеры были в бегах после неудавшегося киднепинга. Сам Ма Баркер давным-давно смылся – кажется, во Флориду. Их притончик в Авроре был не бог весть что – четыре комнатушки, никакого тебе электричества, сортир во дворе. Но все равно лучше, чем комната в салуне «Мерфи». Ну и, как я уже сказал, подружка Волни по крайней мере хоть старалась что-то сделать для нас. Мы находились здесь уже вторую ночь.
Она расставила вокруг кровати керосиновые лампы, потом простерилизовала нож для чистки картофеля в котелке с кипящей водой.
– Если вам, ребятишки, вдруг приспичит блевануть, – предупредила она, – постарайтесь потерпеть до тех пор, пока не закончу.
– За нас не переживай, – сказал Джонни. – Мы будем о’кей, правда, Гомер?
Я кивнул, но без особой уверенности. Меня уже начало подташнивать при виде всей этой подготовки. Джек лежал на животе, повернув голову набок, и что-то бормотал себе под нос. Не умолкал ни на секунду. Что бы ни происходило, для него комната была наполнена людьми, которых видел только он.
– Надеюсь на это, – сказала Крольчиха. – Потому как если начну, обратной дороги уже не будет. – Тут она подняла голову и увидела стоявшего в дверях Дока. А рядом – Волни Дэвиса. – Вали отсюда, лысый, – сказала она Доку. – И не забудь прихватить с собой Большого Вождя.
Волни Дэвис был таким же индейцем, как я – китайским императором, но его вечно так подкалывали, потому что вырос он среди чероки. Еще мальчишкой он стырил пару башмаков, и какой-то умник судья влепил ему за это три года тюрьмы. С этого и начал Волни Дэвис свой путь преступника.
Волни с Доком вышли. Как только они скрылись из виду, Крольчиха решительным движением сделала на спине Джека надрез в виде буквы «Х». Колени у меня подогнулись, я просто был не в силах видеть все это. Я держал Джека за ноги. Джонни сидел рядом, в изголовье, и бормотал какие-то слова утешения, но это не помогало. Когда Джек начал орать, Джонни накрыл ему голову кухонным полотенцем и кивком дал Крольчихе понять, чтобы продолжала. А потом все время гладил Джека по голове и говорил, чтобы тот не волновался, все будет просто чудесно.
Ох уж эти Крольчихи! Почему-то женщин принято называть хрупкими созданиями, но про нашу подругу сказать этого было никак нельзя. Да у нее даже рука ни разу не дрогнула, честное слово! Из надреза хлестала кровь, то алая, то с черными сгустками, а она врезалась в рану все глубже, и вот, наконец, из нее пошел гной. Желтовато-белый, но попадались в нем крупные зеленые сгустки, и все это было очень похоже на сопли. Короче, кошмар какой-то!.. Но когда она добралась до легкого, вонь стала просто невыносимой. Наверное, в тысячу раз хуже, чем во Франции во время газовой атаки.
Джек судорожно и со свистом втягивал воздух. В горле у него клокотало, те же звуки доносились и из легкого.
– Тебе лучше поспешить, – заметил Джонни. – У него утечка, как в воздушном насосе.
– Без тебя знаю, – огрызнулась Крольчиха. – Пуля засела в легком. А ну-ка, держи его крепче, красавчик!
Вообще-то Джек не слишком сильно брыкался. Здорово ослаб за последнее время. И посвистывание становилось все тише и тише. В комнате было чудовищно жарко – из-за расставленных вокруг постели керосиновых ламп. К тому же они нещадно коптили, и эта вонь смешивалась со страшным запахом гангрены. Надо было открыть окно перед тем, как начинать операцию, но мы не догадались это сделать и теперь в любом случае было уже поздно.
Крольчиха запаслась целым набором щипчиков, но ей никак не удавалось ввести их в рану.
– Мать твою! – выругалась она, отшвырнула щипцы, а потом запустила в кровавую рану всю пятерню и стала шарить там. И вот наконец нашла пулю, подцепила ее, выдернула и бросила на пол. Джонни наклонился, чтобы поднять, но она строго заметила: – Успеешь забрать сувенир, красавчик. Лучше держи своего дружка, и крепче!
Она принялась запихивать в рану марлю.
Джонни приподнял край кухонного полотенца, заглянул под него.
– Успели как раз вовремя, – с ухмылкой заметил он. – Старина Ред Гамильтон уже стал синеть.
За окном послышался шорох шин, подъехала какая-то машина. Вполне возможно, что копы, но тут уж мы ничего не могли поделать.
– А ну-ка, нажми хорошенько, – сказала она мне и показала на дырку с торчащей из нее марлей. – Гладильщица из меня никакая, да и швея тоже, но все же попробую подштопать парнишку.
Мне страшно не хотелось прикасаться к ране, но делать было нечего, пришлось повиноваться. Я надавил на края раны, из нее вытекло еще немного гноя, на сей раз – более водянистого. Тут желудок у меня начало выворачивать наизнанку, и я рыгнул несколько раз. Просто не мог сдержаться.
– Кончай, – сказала она. – Коли считаешь себя мужчиной, способным спустить курок и проделать в человеке дырку, должен и с дыркой уметь обращаться, – и принялась зашивать рану длинными стежками крест-накрест, проталкивая иглу в распухшую плоть. После первых двух я отвел глаза – просто не в силах был смотреть.
– Спасибо тебе, – сказал Джонни, когда она закончила. – И еще хочу, чтоб ты знала, я у тебя в вечном долгу.
– Рано радуешься, – заметила она. – И одного шанса против двадцати не дала бы, что он выкарабкается.
– Он выкарабкается обязательно, вот увидишь, – сказал Джонни.
Тут в комнату ввалились Док и Волни. За ними маячил еще один член банды, Бастер Дэггз, или Дрэггз, точно теперь не помню. Тем не менее именно он бегал звонить по телефону на станции автосервиса, и ему сообщили, что феды вовсю шуруют в Чикаго, гребут всех подряд, кто, как им кажется, мог бы иметь отношение к похищению Бремера – последнему крупному делу банды Баркера. В числе арестованных оказались: Джон Дж. (Босс) Маклафин, у которого были свои люди в среде виднейших чикагских политиков, а также доктор Джозеф Моран по прозвищу Плакса.
– Моран сдаст федам это местечко, – сказал Волни. – Ему это раз плюнуть.
– Может, это вообще вранье, – заметил Джонни. Джек лежал без сознания. Рыжие пряди разметались по подушке и напоминали кусочки мелко скрученной проволоки.
– Ты не хочешь верить, не надо, никто тебя не заставляет, – сказал Бастер. – Мне сообщил это Тимми О’Ши, лично.
– А кто такой этот Тимми О’Ши? Шестерка у Попа? – презрительно заметил Джонни.
– Он племянник Морана, – ответил Док, закрывая тем самым тему.
– Знаю, о чем ты думаешь, красавчик, – сказала Джонни Крольчиха. – Но только зря. Если посадить этого парня в машину и везти в Сент-Пол объездными путями, где не дороги, а сплошь кочки да ухабы, он к утру Богу душу отдаст.
– Вполне можете оставить его здесь, – заметил Волни. – Приедут копы, они о нем и позаботятся.
Джонни сидел в кресле, пот градом катился по лицу. Он выглядел страшно усталым, но улыбался. Джони всегда улыбался.
– Да уж позаботятся, это точно, – выдавил он. – Но только ни в какую больницу они его не повезут. Скорее всего положат подушку на лицо и сядут на нее. – Тут я вздрогнул, вы наверняка догадываетесь почему.
– Что ж, вам решать, – сказал Бастер. – Потому как к рассвету они непременно окружат эту забегаловку. Лично я собираюсь рвать когти.
– Да, поезжайте все, – сказал Джонни. – Это и к тебе относится, Гомер. А я останусь здесь, с Джеком.
– Ну уж нет, черта с два, – сказал Док. – Я тоже остаюсь.
– И то правда. Почему бы нет? – кивнул Волни Дэвис.
Бастер Дэггз, или Дрэггз, посмотрел на них, как смотрят на сумасшедших. И знаете что? Лично меня это ничуть не удивило. Уж кому, как не мне, было знать, каким воздействием на людей обладал наш Джонни.
– Я тоже остаюсь, – сказал я.
– А я сматываюсь, – сказал Бастер.
– Вот и славненько, – заметил Док. – Заодно заберешь с собой Крольчиху.
– Да ну вас к чертям собачьим! – огрызнулась Крольчиха. – Лично я как раз собиралась сварганить чего-нибудь пожрать.
– Совсем, что ли, сбрендила? – спросил ее Док. – Какая еще жратва? На дворе час ночи, и лапы у тебя по локоть в крови.
– Да мне плевать, сколько там сейчас времени, а кровь можно смыть, – сказала она. – Сейчас сварганю вам, мальчики, самый роскошный завтрак в жизни – яйца, бекон, соус, поджаристые такие булочки с хрустящей корочкой.
– Я люблю тебя! Выходи за меня замуж! – сказал Джонни, и мы дружно расхохотались.
– Ладно, – проворчал Бастер. – Раз обещан такой завтрак, я что, рыжий, что ли? Я тоже остаюсь, ненадолго.
Вот так и получилось, что мы остались в том фермерском доме на задворках Авроры. Остались и были готовы умереть ради парня, который – причем не важно, нравилось это Джонни или нет – был уже одной ногой в могиле. Мы забаррикадировали входную дверь диваном и креслами, а черный ход – газовой плитой, которая все равно не работала. Зато дровяная печь еще как работала! Мы с Джонни принесли из «форда» автоматы, Док достал с чердака несколько пушек. И еще – целый ящик гранат, миномет и ящик снарядов к этому самому миномету. Готов побиться об заклад: у армейских частей, стоявших в тех краях, не было такого вооружения! Ха-ха-ха!
– Лично мне плевать, сколько у нас этого добра! – проворчал Док. – Главное, что этот сучий потрох Мелвин Первис с ними, вот что меня угнетает.
К этому времени Крольчиха успела накрыть на стол, время еще раннее, но фермеры встают и завтракают еще засветло. Ели мы по очереди, двое постоянно вели наблюдение за подъездом к дому. Один раз Бастер поднял тревогу, и все разбежались по своим местам, но тревога оказалась ложной – просто по дороге проехал грузовик с молоком. А копы так и не явились. Можете считать, что информация была ложной. Но лично я приписываю это удачливости Джонни.
Джеку тем временем становилось все хуже. К середине следующего дня даже Джонни, наверное, стало ясно, что дружку его долго не протянуть, но он предпочитал помалкивать об этом. Лично мне было жалко ту женщину. Крольчиха увидела, как между крупными черными стежками на ране снова просачивается гной, и заплакала. Сидела и лила слезы. Точно знала Джека Гамильтона всю свою жизнь.
– Не переживай, – сказал ей Джонни. – Не убивайся так, красотка! Ты сделала все, что могла. И потом, может, он еще выкрутится.
– А все потому, что я доставала эту чертову пулю пальцами! – всхлипнула Крольчиха. – Не надо было этого делать. Уж мне лучше знать.
– Ничего подобного, – встрял я. – Дело совсем не в том. Дело в гангрене. Гангрена, она уже была там.
– Много ты понимаешь! – огрызнулся Джонни и гневно сверкнул глазами. – Инфекция, возможно, но только не гангрена. И уж тем более сейчас никакой гангрены у него нет.
Как же, как же, подумал я. Да у него был гнойный запах этой самой гангрены. Но что мы могли поделать?..
Джонни все еще не сводил с меня сердитых глаз. «Помнишь, как Гарри называл тебя еще тогда, в Пендлтоне?»
Я кивнул. Гарри Пирпонт и Джонни всегда были закадычными дружками, а вот я Гарри никогда не нравился. Если б не Джонни, он бы никогда не взял меня в банду, а ведь с самого начала, если вы помните, это была банда Гарри Пирпонта. Гарри считал меня дураком. Еще одна вещь, которую никогда не признавал Джонни, даже отказывался это обсуждать. Джонни хотел, чтобы все были друзьями.
– Хочу, чтоб ты пошел и заарканил несколько тварей, но только покрупнее. Самых жирных, визгливых и зловредных, – сказал мне Джонни. – Ну, помнишь, как тогда, в Пендлтоне. – Как только он попросил меня об этом, я сразу понял: теперь и до него наконец дошло, что Джеку кранты.
Мальчик-Муха – так прозвал меня Гарри Пирпонт в исправительной тюрьме Пендлтон, еще в ту пору, когда все мы были мальчишками. И где я плакал по ночам, закрыв голову подушкой, чтобы не услышали охранники. Что ж, с тех пор немало воды утекло, а Гарри кончил дни на электрическом стуле в тюрьме штата Огайо, так что не один я, как выяснилось, был дураком.
Крольчиха хлопотала на кухне, готовила обед, резала овощи. На плите что-то кипело в горшочке. Я спросил, не найдется ли у нее нитки, на что она ответила, что мне, черт возьми, прекрасно известно, нитки у нее имеются, разве я сам не стоял рядом и не видел, чем именно она зашивает моего дружка? Не спорю, ответил я, но только то были черные нитки, а мне нужны белые. С полдюжины кусков, примерно вот такой длины. И я растопырил пальцы ладони дюймов на восемь. Тут ей понадобилось знать, для чего мне они. На что я ответил, что если ей так интересно, может подойти вон к тому окну, над раковиной, и посмотреть.
– Да оттуда ни хрена не видать, кроме сортира, – сказала она. – И знаете, мне совсем не интересно смотреть, как вы справляете личную нужду, мистер Ван Митер, – язвительно добавила она.
На двери в кладовую у нее висела сумочка. Она порылась в ней, достала моток белых ниток и отрезала мне шесть кусков. Я сердечно поблагодарил Крольчиху, а потом спросил, не найдется ли у нее пластыря. Пластырь нашелся – она достала его из ящика буфета и объяснила, что держит здесь потому, что постоянно режет пальцы. Я взял пластырь и вышел на улицу.
В исправительную тюрьму Пендлтон я попал за то, что воровал кошельки в поездах на Нью-Йоркской центральной железной дороге. С тем же «диагнозом» угодил туда и Чарли Мэкли – мир, как говорится, тесен. Ха! Власти стремились занять плохих парней каким-то делом, и исправительная тюрьма Пендлтон, штат Индиана, была забита под завязку. Там имелась прачечная, плотницкая мастерская, а также целая фабрика по пошиву одежды, где заключенные шили штаны и рубашки, в основном для охранников и прочих сотрудников пенитенциарной системы штата Индиана. Кое-кто из ребят называл это портковым ателье, другие – просто дерьмовым. Там я и познакомился с Джонни и Гарри Пирпонтом. У Гарри и Джонни никогда не возникало проблем с выполнением плана, мне же всякий раз не хватало десяти рубах или пяти пар штанов, и в наказание меня заставляли стоять на циновке. Охранники считали, что все это потому, что я постоянно валяю дурака, Гарри думал то же самое. Но истинная причина крылась в том, что я был нерасторопен и неуклюж, и Джонни это понимал. С этого-то всё и началось.
Если заключенный не выполнял плана, его на весь следующий день отправляли в будку для охранников, где на полу была постелена тростниковая циновка размером два квадратных фута. Заключенному полагалось снять с себя все, кроме носков, и простоять на этой циновке весь день. Стоило хоть раз сойти с нее, и ты получал плеткой по заднице. Стоило сойти дважды – ты получал уже нешуточную взбучку, когда один из охранников держал тебя, а другой метелил почем зря. Стоило сойти в третий раз – и тебя на неделю отправляли в одиночную камеру. Разрешалось пить воду, сколько хочешь, от пуза, но в том-то и заключалась главная подлость – в туалет водили только один раз в день. А если тебя заставали стоящим на циновке и писающим прямо на нее, ты получал такую взбучку, что небо казалось с овчинку, после чего тебя бросали в яму.
Все это было страшно утомительно и скучно. Скучно в Пендлтоне, скучно в Мичиган-Сити, в тюрьме для взрослых ребят. И заключенные пытались хоть как-то разнообразить свое существование. Кто-то рассказывал разные байки. Кто-то пел. Другие составляли списки женщин, которых собирались трахнуть, выйдя на свободу.
Что касается меня, так я научился ловить арканом мух.
Лучшего места, чем сортир, для ловли мух не сыскать. Я занял боевой пост у двери и принялся делать петли на нитках, которые дала мне Крольчиха. После этого оставалось только ждать. И не шевелиться, чтобы не спугнуть добычу. Всему этому я научился во время долгих стояний на циновке. Такие навыки не забываются.
Ждать пришлось недолго. В начале мая мух появляется предостаточно, причем они еще достаточно сонные, а потому двигаются медленно. И любой, кто думает, что заарканить муху или слепня с помощью лассо невозможно… что ж, считайте, как хотите, можете для разнообразия заарканить комара.
После трех попыток я наконец добыл первую. Это еще цветочки; иногда, стоя на циновке, я проводил полдня, прежде чем удавалось заарканить хотя бы одну. А после этого добыча так и пошла косяком. Крольчиха крикнула из окна:
– Эй, чем это ты там занимаешься, черт бы тебя побрал? Колдуешь, что ли?
Издали это вполне могло показаться колдовством. Можете вообразить, как это выглядело с расстояния, скажем, двадцати ярдов: стоит у сортира мужчина и забрасывает лассо из тоненькой нитки – издали ее даже не видно, – и вместо того чтобы упасть на землю, нитка зависает в воздухе! А все потому, что в петлю попался солидных размеров слепень. Джонни бы наверняка увидел, но в том, что касается остроты зрения, никто не мог тягаться с нашим Джонни, даже Крольчиха.
Я потянул за свободный конец нитки и прилепил ее к дверной ручке сортира с помощью пластыря. Затем начал охотиться за следующей мухой. А потом – еще за одной. Из дома вышла снедаемая любопытством Крольчиха. Я разрешил ей остаться, но только предупредил, чтобы вела себя тихо. И она старалась вести себя тихо, но не очень-то получалось; в результате я сказал, что она распугала мне всю добычу, и велел убираться, откуда пришла.
У сортира я проторчал часа полтора – достаточно долго, чтобы уже не чувствовать запаха. Похолодало, и мухи стали совсем вялыми. В общей сложности удалось поймать пять. По меркам Пендлтона, это считалось бы целым стадом, но лично я считаю такое сравнение неуместным. Ведь там далеко не всякому ловцу мух удавалось занять столь выгодную позицию, возле сортира. Как бы там ни было, но охоту пришлось прекратить, холод разогнал всех мух в округе.
Я медленно прошел через кухню, Док, Волни и Крольчиха хлопали в ладоши и хохотали. Спальня Джека находилась в глубине дома, и там было темно. Именно поэтому я и попросил белые нитки, а не черные. Наверное, в тот момент я походил на человека, несущего связку невидимых воздушных шаров на ниточках. За тем разве что исключением, что мухи громко жужжали. Небось недоумевали и возмущались, бедняжки, что же такое с ними произошло.
– Провалиться мне на этом самом месте! – воскликнул Док Баркер. – Нет, правда, Гомер! Где ты этому научился?
– В исправительной тюрьме Пендлтон, – сказал я.
– И кто тебе показал эту хохму?
– Да никто, – ответил я. – Просто попробовал раз и получилось.
– Но почему нитки у них не спутались? – спросил Волни. Глаза у него были круглыми, как виноградины. И мне почему-то стало страшно приятно.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/stiven-king/vse-predelno-165038/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
«Спрингер» – одно из самых популярных и скандальных ток-шоу США, которое покупают телекомпании многих стран мира. Создатель и ведущий шоу – Джерри Спрингер.
2
Метка – горка песка, конусообразная деревянная или пластмассовая подставка, на которую кладут мяч для первого удара.
3
Болтон Майкл (р. 1953) – известный музыкант, композитор, исполнитель и автор баллад в стиле соул.
4
Максимальное число лунок на поле для гольфа – восемнадцать. Девятнадцатая – бар в гольф-клубе.
5
«Спасатели Малибу», «Мелроуз Плейс» – телесериалы, соответственно 1989–1999 и 1995–1997 гг.
6
Клей Эндрю Дайс – ведущий современный комик США, «король комедии».
7
Следж Перси – знаменитый исполнитель в стиле соул, прозванный «Золотым голосом души».
8
Сиско Кид – герой фильмов, телесериалов, комиксов, Робин Гуд Старого Запада, которого всегда сопровождает верный друг Панчо.
9
«Риск» – телевикторина, требующая от участников высокой эрудиции. Идет с 1974 года. Российский аналог – «Своя игра».
10
Марти Стюарт (р. 1958) – американский певец, гитарист.
11
Беннетт Тони (р. 1926) – настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто, известный певец, тенор.
12
Mein Herr – мой господин (нем.).
13
94,2 градуса по Фаренгейту соответствуют 34,9 по Цельсию.
14
98,6 градуса по Фаренгейту соответствуют 36,6 по Цельсию, то есть нормальной температуре человеческого тела.
15
Огаста – столица (с 1931 г.) штата Мэн.
16
«Куинси, М.Э.» – детективный телесериал 1976–1983 гг., главным героем которого являлся доктор Куинси, медицинский эксперт.
17
Полианна – героиня одноименной детской книжки Элинор Поттер, символ ничем не оправданного оптимизма.
18
«Хоршоу коллекшн» – фирма, торгующая по каталогам и через Интернет.
19
Джон Дир (1804–1887) – американский изобретатель и промышленник, в 1837 году изобрел новый тип плуга.
20
Э.э. каммингс – Каммингс Эдуард Эстлин (1894–1962) – американский поэт, во многом близкий европейским футуристам. Отвергал конформизм, снобизм и несвободу людей. Отказался от многих грамматических норм, знаков препинания, заглавных букв, в том числе в написании собственного имени.
21
Автомат (пистолет-пулемет) Томпсона – оружие периода Первой мировой войны, созданное оружейником Дж. Томпсоном; широко использовался гангстерами в период «сухого закона», они называли его «чикагской скрипкой», поскольку автомат легко умещался в футляре для скрипки.
22
Филдз Уильям Клод (1880–1946) – больше известен как «У.К. Филдс». Актер, автор сценариев многих фильмов, выступал на эстраде с комическими номерами, в 30-е годы – ведущий комик и острослов Америки.
23
«Луп» («Петля») – деловой, культурный и торговый центр Чикаго.
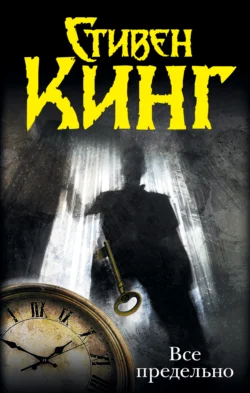
Стивен Кинг
Тип: электронная книга
Жанр: Ужасы
Язык: на русском языке
Стоимость: 479.00 ₽
Издательство: АСТ
Дата публикации: 27.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Команда скелетов». «Ночная смена». «Ночные кошмары и фантастические видения»… Вы помните эти названия? Как известно, Стивен Кинг дарит почитателям своего таланта новый сборник повестей и рассказов примерно раз в семь лет. И теперь перед вами – новый сборник «короля ужасов». Сборник, где Стивен Кинг наконец-то предстает перед читателем во всей многогранности своего таланта – то тонкого и интеллектуального, то жесткого и мрачного…