Рассказ
Рассказ
Алексей Еремин
Художественное исследование процесса творчества. Описание создания рассказа писателем от рождения замысла и бесконечных неудач до завершения работы.
Рассказ
Алексей Еремин
«…И тогда мы узнаем кое-что о тех таинственных процессах, которые незаметно происходят в периферийных областях человеческого сознания, о безграничном хаосе ощущений, причудливой фантазии, высвеченной нашими чувствами; о слепых порывах мысли и чувств, немых и бесследных коллизиях между ними, о загадочности нервных явлений, шёпоте крови, мольбе суставов, всей жизни подсознания».
Кнут Гамсун «О бессознательной духовной жизни»
© Алексей Еремин, 2023
ISBN 978-5-4474-2174-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
Идёт дождь. На чистом стекле в белой раме набухают беременные капли, рожают, сочатся, оставляя длинные влажные следы, мутное стекло оживает и шевелится.
Дождю рад. Рад, что тёплый халат.
Самое время работать, но ничего не пишу. Довольно посмотреть на «самое время работать» и «довольно посмотреть». Я вижу отсутствие вдохновения… Завершающим аккордом многоточие пошлости. Триумф победившей пошлости! Где, где победоносный император? Пусть внесут трофеи, туш прозвучал!
Хлопнуть дверью на улицу, стать в халате под дождь! Дрожать в холодной луже, в дурацких тряпичных, в жёлто-чёрных клетках тапочках, прилипших к коже.
Если бы никто не увидел, то вышел. Стоял бы под дождём.
Мокрая крыса на задних лапках!
Заснул бы на день.
Нет! Жалкий, в толпе, ору всем голосом: Слава дождю в его мерзости, слава его мерзости!
Титул.
Ору одно и тоже до хрипоты в горле, каждый раз громче и громче, пока сила не срывает голос. Окружающие осуждающе зашептали, понимающе забормотали, а я ящером ползу по грязной луже. Я шлёпаю пятипалой лапой по воде, вытягиваю горло к небу, кричу ненависть.
Дождь скотина.
Скотина дождь? Шум дождя – бурчание в животе коровы. Капли летят, – сыплются волоски со шкуры. Бредёт корова тучи, в ведро города из вымени стекает молоко.
Почему люди на улице? Куколки в пледах обязаны греться у батарей, обхватив ладонями горячие чашки, пить чай, а не гулять под дождём под зонтами.
Гулять под небом, под дождём, под зонтами, по городу, по улицам, по асфальту.
Меня вырвало на бумагу. После жирной пищи в желудке несварение, меня вырвало. Но как римский патриций не чувствую брезгливости. Напротив, вожу пальцем по жёлтой луже, выбирая вкусные кусочки.
Встал из-за стола, подумав, что не только рассказ, даже страницу написать не могу.
От окна вернулся к столу (чёрные ветви за прозрачным стеклом, оспинки высохших капель, – истлевший чешуйчатый доспех); здесь заполняет соты листа испражнениями чёрный червь.
Наполняет пустые соты листа жирный чёрный червь. Рука смахнула тварь. Она отлетела к жёлтой стене, отскочила, покатилась к исписанному наполовину листу, дрожа ребристым стволом на тёмно-красно-коричневом столе. Я отшвырнул её к стене; мерзко дребезжа, она накатывалась на лист, я бросил её в стену; она отскочила и легла, чертой перечеркнув строчки. Я наотмашь бросил правую ладонь к столу, ударил пальцы, но ручка, отскочив к стене, залегла, копьём острия касаясь жёлтых обоев, с синими укусами раздвоенного жала.
«Сдача Бреды». В полупоклоне, отступив ногой шаг, склоняется вельможа в камзоле, протягивает лист капитуляции. Реляция: «После непродолжительного штурма, не исчерпав всех возможностей обороны, крепость пала».
С угла стола на пол перенёс здание книг. Выдвинул широкий ящик, цвета ядра спелого каштана, вытянул толстые журналы, лёг на кровать и придавил ими живот. Голова покоится в седле подушки, затылок поддерживает бок письменного стола. Утром письменный стол представился продолжением головы. Я встал, и со мной поднялся письменный стол, гладкой крышкой высоким продолжением лба, выставив назад четыре длинные ножки. В столе, на отдельных листах и в журналах записано пережитое, часто до неузнаваемости оплавленное фантазией. Оплавленное фантазией хорошо. Ком из разноцветного стекла. День удачный для работы?
Две недели медленно, как после болезни, переписывал набело два рассказа. Откладываю готовые рассказы, чтобы забыть, прочитать заново, как чужие, и без жалости, как чужие, переправить, перепечатать вместе с мамой, вновь поправляя и уже прощаясь, совершая ритуал, после которого сдаю записанный труд в редакцию (не спешу сдавать рассказы в печать; меня кормят авторские деньги, и пока они есть, храню рассказы, словно вклады в банке, пытаясь застраховаться на близкое будущее и в случае получить страховку). Из-за этой работы нового не писал, лишь записывал мимолётности. Правка вчерне готовых рассказов литературный труд. Но здесь уже сложен скелет. При ремонте есть дом. Дом нужно отделать и окрасить. Совсем не то, что рыть котлован под фундамент и складывать кирпичную стену Градова.
Снимаю крышу дома. Твёрдая обложка под белый мрамор с тонкими сиреневыми и розовыми прожилками. Бунин расписался по воле издателя золотым росчерком.
«В три дня Ян написал полностью первую часть «Деревни». Всегда казалось чем-то пошлым это «Ян» его жены. Он такой же Ян, как я Мордухай. Первая часть это 47 страниц текста. В день по 15 страниц.
Ничего удивительного. Такого текста можно и 50 страниц в день написать.
Вру.
Он отбирал «типичное», думал, вспоминал, пытался «соответствовать». 15 станиц даже такого текста много. Слишком много для меня. Я уже два дня только пытаюсь писать. Когда доделывал рассказы, к листам крепил доски строк, прибивал последние гвозди точек, крепил вывеску, проверял ордера жильцов на вселение, рассказ не давал покоя. Вечным жильцом поселился в городе мыслей, наводнением заливал страницы, затоплял синими ручьями набросков, я говорил Лене, как легко напишу рассказ. И ничего не пишу! И в голове вновь живёт страшная мысль: «Я больше не смогу писать. Желание отделывать рассказы было знаком неизбежного фиаско».
Может быть, не выполнил нечто, нарушил условия?
Ага, (турецкий офицер в алом ведёрке фески, в синих шароварах вскочил на бруствер из мешков с песком, кричит красным седоусым лицом, подтягивая над собой шашку (ятаган, если янычар), здесь себя уже мучил. Листочек размером с ладонь младенца: «Гончаров 7 недель 280 страниц романа!» Страница романа то же что страница рассказа. Часть романа не равна равной части рассказа.
Кафка за ночь написал «Приговор».
Это приговор.
Какое же свинство. «14,17,18,20,21,22.10.40. Писал и кончил «Таню». Я посмотрю. Свинство! В «Тане» за 6 дней поместилось 16 страниц хорошего текста. «25 и 26 10.40 написал «В Париже». Отслаиваю корочку мраморного тома, последняя страница бухгалтерская ведомость; имена и ровной колонкой получка в цифрах. Откровенное свинство! За два дня 11 страниц, пять с половиной в день, хорошо написанного рассказа. «27 и 28 10.40. Написал «Галю Ганскую» (кончил в 4.40 28.10)» За два дня 7 страниц. Тут легче.
Но я же ничего не написал!
Поймал себя бегущим по комнате. Чувства поглощают, сгоняют с места, и пока уровень не понизится, меня нет. Есть я, но не осознающий существование.
У Бунина неплохая идея; великая книга, когда бы Пушкин просто описывал день за днём свою жизнь. Описывать избранное, как в дневнике, поэтическая свобода, значит, вдохновение заполняет любую форму, а замысел не насилует вдохновение, не заставляет заполнять пустоты между краями формы и вдохновенным текстом.
Чувствую ужасно, не пишу и не хочу писать.
Из-под пресса мраморного Бунина взял зелёный, как спелый тополиный лист, сборник стихов. Сборник стихов раскрываю наугад, как священную книгу. Асеев дочери.
Рука тяжёлая, прохладная,
Легла доверчиво на эту,
Как кисть большая, виноградная,
Захолодевшая к рассвету.
Я знаю всю тебя по пальчикам,
По прядке, где пробора грядка,
И сколько в жизни было мальчиков,
И как с теперешним не сладко.
И часто за тебя мне боязно,
Что кто-нибудь ещё и кроме,
Такую тонкую у пояса,
Тебя возмёт и переломит,
И ты пойдёшь свой пыл раздаривать.
И станут гаснуть окна дома,
И станет повторенье старого
Тебе до ужаса знакомо…
И ты пойдёшь свой пыл растрачивать…
Пока ж с весной не распрощаешься,
Давай, всерьёз, по-настоящему,
Поговорим с тобой про счастье.
Нежное стихотворение. С искрой грубости, и от грубости любовь и нежность чётче. Грустно. Слёзы подступают к глазам только потому, что Асеев сумел написать красиво и ясно.
Печально счастлив; неизвестный мне человек, кто давно умер, почти забыт, написал ТАКОЕ стихотворение. Хотя, про «мальчиков, несладко» не слишком. Но счастлив за Асеева до слёз. Звучит словно «Я рад за вас, – хрипло сказал, подавая сухую ладонь, бывший начальник подчинённому, который уже сидел в его кресле». Только две последние строчки:
«Давай, всерьёз, по-настоящему,
Поговорим с тобой про счастье».
Неплохо, как бы завершение, некий обязательный вывод.
Зачем он только нужен?!
Встал, надел наушники ладоней, походил как маятник от окна к двери, отмеряя шагами секунды. Постоял перед белой дверью, раскрыл дверь, пошёл по квартире, – стучат тапочки, глуше на коврах, звонче на паркете. Отец с мамой нарочно ушли, чтобы не мешать. Асеев сидит у плиты, пьёт чай, я говорю ему. Он улыбается, равнодушно выслушивает. Он прав оттого, что уже написал. Хотя мы оба знаем, что и он, неожиданно прочитав своё стихотворение, сможет его почувствовать. Тогда и вспомнит обо мне.
Попить бы сейчас чаю.
Надо идти за хлебом и маслом в магазин.
Надо звонить в редакцию за деньгами.
Позвонить Лене на работу?
Сейчас всплывут, как трупы со дна реки, давно похороненные мысли. Они вырвутся из временных могил в облаках донного песка, плавно поднимутся на поверхность, часто неузнаваемые, как покойники долго пролежавшие в воде.
Всплывает мечта написать роман, – твёрдая синяя обложка отдельного издания, золотом моя фамилия, – и томит отдалённостью, страшит громадным возрастом. Всплывает желание найти работу, помочь себе жить, – но буду меньше писать, – лучше бы платили больше. Хорошо бы печататься за границей, быть популярным автором. Быть популярным значит плохим. Быть известной личностью, получать большие гонорары, читать лекции, путешествовать по презентациям своих книг. Вхожу в зал, все встают, встречают аплодисментами. Я присаживаюсь за небольшой стол на сцене, перед собой ставлю руки в замке, у рта камыш микрофона. Я здороваюсь. Я рад представить книгу рассказов. Я рассказываю о рассказах, отвечаю на вопросы журналистов. Вспыхивают, на мгновения ослепляя меня, вспышки фотоаппаратов. Я встаю, склоняюсь в полупоклоне, благодарю, прикладываю правую ладонь к сердцу. Вечером для приглашённых фуршет. Ко мне подходят, говорят ласкающие слова, мне пожимают руки, меня благодарят за книги, удовольствие от чтения. Кругом люди всех рас, многих национальностей. Чёрная ручка у стены. Пухлый воробей прыгает по карнизу как теннисный мячик. Зря отказался идти играть в настольный теннис. Но тогда работал, а сейчас нет. Если бы приехала Лена, но она на работе. Когда увидимся, буду думать о рассказе. Отчего от настольного тенниса прыгнул к Лене? На воробья не похожа. В теннис не играет. Но связь же есть. От неудовольствия, что не играл в теннис, к неудовольствию, что нет Лены. Или она появилась ничем не связанная, просто от желания её видеть?
Я могу думать! Сейчас думаю, не устаю, значит, могу работать! Не верю в высшее надо мной, но сейчас кажется, что нарушил закон, не исполнил долг.
Творчество то, чем никогда не стану рисковать.
Что нарушил, что исправить ради творчества? Надо было играть в теннис? Подбираю первое в пути! Надо было бросить отделывать рассказы. Когда уколола идея нового, надо было всё бросить!
Ложь!
Рассказ как ребёнка нужно выносить. Должны пройти условные месяцы, собранные в минуты или растянутые на годы. Я ничего не знал тогда, только идею, отношения неизвестной женщины и бойкого холостяка. Кажется, она молода. Их отношения и разрыв. Дальше не думается, словно каменная стена.
Зачем стена?! Четверть мгновения назад, поверив в неудачу, выстроил стену. Я задумался, и секунду назад, не вспомни о противодействии, мысль бы сама, не подгоняемая волей, развилась бы дальше.
Сел на диван. Лёг. Письменный стол пиявкой прилип к голове, высасывает мысли, разбухает, словно резиновый. Растолстели ножки, надулась горбом крышка, раздулись и чуть приоткрылись ящики с мягкими боками.
Письменный стол образ творчества, насос, выкачивающий силы.
Распял пятерню на обложке журнала. Сминая скользкую обнажённую женщину, поднял журнал над собой, – нижние листы повисли надо мной. Растопырил пальцы, журнал упал на грудь. Раскрывая страницы вспомнил, как несколько лет писал первые рассказы. Уже забыл, какой здесь, среди страниц о женщинах, духах, фуршетах, модном творчестве.
Раскрыв название увидел имя. Это был один из первых, на которых выучился писать. Когда меня заметили, его перепечатали здесь. Чувство, с которым читаешь свой текст, прочитанный тысячами людей, похоже на чувство старого строителя, – через 50 лет он смотрит на построенный дом; чувство матери, – как в зеркало она смотрится в отличные отметки в дневнике дочери; чувство художника, – после выставки, один в огромном зале, он изучает свою картину.
Художник не рассматривает каждый мазок, а видит всю картину, ловит общее впечатление. А я напротив, никогда не перечитываю весь рассказ, я помню впечатление, а в строках высматриваю лишь ответы на вопросы. Просмотрю начало, конец, пробегу глазами по тексту, перечитаю абзац, вспомнив, найду сравнение или описание, часть диалога, подчеркну строки карандашом, напишу на полях похабное ругательство, шпаргалку изучения ошибок и удач, поставлю минус или коротко отмечу: «Гений».
Слишком ярко выглядит альбом Эль Греко. Искажает суть.
Ещё похоже на встречу с когда то любимой. Вспоминаешь знакомство, поворот её головы, удивлённое лицо, обрывок разговора, быстрый взгляд из-под бровей, снизу-вверх, смех, её острые ногти на спине, долгий грустный взгляд, который впервые выдерживаешь как испытание, случайный укус нижней губы, как она расчёсывала перед тобой мокрые жёлтые волосы и на лицо падали капельки с её волос, как прижимала мои руки к телу, или молча завтракала, иногда поднимая серьёзные глаза, как в красном приподнималась на цыпочках и задёргивала шторы, или перегнувшись над кроватью взбивала белую подушку, как смотрела иногда в разговоре наедине или в комнате с людьми, или как в тишине комнаты, глядя в глаза, снимала халат, что ложился лужей, разбитой камнем, у её ног, или снова и снова перед зеркалом поправляла шарф на шее, чернила тушью ресницы, широко раскрывая карие глаза, устало садилась в кресло, цепляя носком каблук, стягивала сапог, как становился перед ней на колени, и придерживая за икру ногу, схватившись над каблуком снимал сапог, как вздрогнул, когда нежно укусила за ухо.
Это же Наташа! Улики в карих глазах, жёлтых волосах, она испытывала взглядом. Сравнение обернулось реальным образом. Образ вспомнил с рассказом, с которым она связана сотней осознанных нитей. Она скользнула бесшумно в море, проплыла под водой, и вдруг взрывом брызг вырвалась на воздух, капли с её волос на лице. Сравнение возникло из её сосуществования с рассказом.
Удивительно вспомнилось лишь начало наших отношений. Тогда писал большой рассказ о том, как появляется текст, описывал его рождение. Пытался описывать, подневольный рабский труд не продуктивен.
Когда влюблён, в теле нет рассказа. В сознании побеждает любовь; если гоню от себя мысли о любимой, значит думаю о ней, значит любовь врастает в душу, словно семя, брошенное в землю. Не заглубляй семя, и оно погибнет. Но прими его, оно пустит корни в душу, опутает сознание, врастая всё глубже. Силой заставлял себя обращаться к рассказу, думать о нём, пытался привить к душе рассказ, пытался лелеять, но душу высасывала любовь. Я думал только о ней. Вопреки направленной к цели воле переправлялся по волшебно возникшим мосткам от отношений героев к нашим, услышав телефонный звонок, безумно представлял, зная, что этого не может быть, она не знает, что я в редакции, не знает номер телефона, верил, что звонила она, вёл разговоры о публикации, а ждал когда она войдёт, я кушал, но мы обедали вместе, ударился, – она меня жалела; целовала в щёку, спрашивала, не больно ли ушибся, я отвечал «спасибо», – «зачем ты сказал спасибо?» – «не знаю», мы говорили о глупостях, и сочинялся уже не рассказ, а вдохновенная фантазия нашей любви, вдохновенная, как рассказ редко воплотится.
Сочинялись фантазии, которые никогда, никогда не осуществятся. То ли от бесконечности возможностей жизни, то ли от внешней силы, устанавливающей свои законы, один из которых – не воплощать вдохновенные фантазии.
Знаю за собой способность верить в высшее, когда объяснения не знаю.
Не верю в высшую силу, но и боюсь её, потому всегда пишу. Верю в долг и знаю, что каждый должен исполнить свой. Знаю, что когда отхожу от работы, случайности обрушиваются карой. Боюсь кары и верю, что наказание последует за ослушание.
Конечно, могу объяснить иначе. Когда пишу, я дома, за письменным столом. Здесь может приключиться со мной много меньше неожиданностей, чем на улице, в жизни. Конечно, когда пишу, то зарабатываю деньги, когда нет, вешаю на шею гири бедности, поросшие полипами вины и стыда.
От трусости, или от знания о наказании за безделье, от земли или свыше, я продолжаю работать. Творчество для меня самое интересное и поэтому буду работать. Творчество для меня… И начинается новый виток, словно разматываю бесконечный клубок. Так бы подумал, если б верил, что я лишь проводник приходящего извне. Я же представлю, будто сам из пряжи жизни свиваю бесконечную, обрезаемую лишь ножницами существования, нить, в которую сплетаются разноцветные волоски, переходят один в другой, вьются один из другого.
Представляюсь ткацким станком, куда загружают пряжу, а он свивает нити и вышивает. Но выбираю ли пряжу сам, или меня наполняют определёнными сортами, заранее угадывая узор?
Подбираю обрывки шерсти, – отчего они попадаются на пути? Случается в жизни случайное событие. Неожиданная встреча. Рассказ о смерти. Нищенка-калека. Ремонт дороги. Посещение Консерватории. Шумный день рождения или полная впечатлений ночная прогулка по городу. Всё это попадает преломлённым отражением через меня в текст. И я ощущаю, что случилась не случайность, а необходимое дополнение текста. Родился второй слой, появилась нужная сцена, новое русло течения. Я уверен, случилась не случайность, нечто меня подправило, дополнило.
Довольно!!!
Три часа. На столе два вырванных листа из одного. Ничего больше. Ах, как же посмел забыть? Выпитый чаёк из чашечки с длинноногими птичками на болоте, бесконечное путешествие от окна к двери и ещё много, много достижений!
Поворачиваюсь и силой сбрасываю тапочек с правой ноги. Он мчится снизу-вверх и вперёд, взлетает самолёт в чёрно-жёлтых шашечках небесного такси, мгновенно проносится через комнату и в прихожей с грохотом врезается в стекло двухдверного шкафа.
Прохожу в прихожую, припадая на короткую босую ногу, замирая, провожу рукой по стеклу, мечтая не пасть жертвой в паутине трещин. Отпускаю невольный воздух, вползаю ступнёй в тёплую пещерку, иду по квартире. В неторопливость свободных мыслей и воспоминаний уходят силы.
Думать о рассказе.
Что о нём помню?
Что о нём помню?
Наваливается усталость. Подчиняясь упорству задаю вопрос, но не задаюсь вопросом. Простейшие умственные действия: понять вопрос, дать ответ. Что помню о замысле рассказа? Что помню… Выпил бы чаю. Достоевский пил чай, когда работал. Держали горячим огромный блестящий жёлтый самовар. Жена открывала кран, из крючковатого носика струился тонкой струйкой кипяток. Из чашки парило.
Подлая фантазия, заметив чайник, скачет от жажды к самовару, за которым прячется от работы.
Вышагиваю по квартире. Как Маяковский или Толстой вышагиваю идеи, образы, предложения. Утренние прогулки Толстого в одиночестве лишь способ упорядочить работу на день. «Может быть, наша судьба метаться между двумя именами, Достоевским и Толстым?» Мне нужен свет окна, а я брожу по чердаку головы, заваленному рухлядью. Темно, под ногами неровные доски с крупными щелями, горячий пыльный воздух, нагретый солнцем через покрывало крыши. Чёрная конторка, за которой стоял Лев Толстой. У подножья печатная машинка Алексея Толстого и Хемингуэя. На полу, освещённый сквозь щели лучами света, закопчённый самовар Достоевского. С потолка свисает на шнурке пенсне Чехова. Его не замечаю и натыкаюсь лицом, от неожиданности вздрогнув телом. Стопку пыльных книг, перевязанных верёвкой, в тёмном углу забыл мелиоратор Платонов. Хрустят под подошвой карандаши Набокова. В белом луче дымится пыльный воздух. В конце тёмного коридора подсвечено распятие рамы.
Легко отдаться дикой фантазии, трудно направить уздой воли вслед за мыслью. Протянуть за иглой нить и сшить гобелен. Прорыть канал и пустить, пока не поздно, воду в пустыню души. Двое? Да. Обычные люди? Да. Отношения главное. Он ищет, встречает её. Он активен, знакомится. У зеркала мама оставила смятый, как ком бумаги, пакет. Просила купить сметану, молоко, кажется, масло. Надо забрать деньги из редакции. Заехать к Лене вечером?
Надо войти в рассказ, ни с кем не встречаться.
Как надоели. Он использует её, бросает. Банальность. Но любимый «Дом с мезонином» банальность. Любовь художника и девушки. Их отношения и невозможность совместной жизни. Всё банально. Но великолепно.
У моих ног голые ветви деревьев. Справа двор огораживает серый дом, пристроенный под прямым углом к моему. Восьмиэтажная, мышиного цвета стена как в сотах в рядах окон с белыми рамами. Из гладкой стены нависают вертикальными ярусами друг над другом, словно выставленные вперёд вставные челюсти, серые балконы с толстыми перилами на фигурных колонках, похожих на кувшины, на толстые человеческие икры. Тень дома заштриховала двор прямоугольником.
Приподнимаюсь на цыпочках, касаюсь лбом холодного окна, чтоб увидеть начало дорожки у подъезда. Сквозь шевелящиеся паутинные лапки вижу прямую, тёмно-серую в тени дорожку, что начинается у моего подъезда и разрезает двор пополам. Справа и слева лохматые деревья, обожжённые весенним солнцем. Деревья справа и дорожка покрыты тенью, что косой уменьшается к дому. Под ветвями чёрная грязная земля в редких чёрно-белых лепёшках стаявших сугробов, в опавших лепестках сугробов, в тёмных пятнах луж, старческих пятнах луж.
Через извилистые сучья смотрю, как от меня уходят две женщины. Одна ещё в длинной чёрной шубе. Другая в зелёном плаще. Они идут бок о бок, иногда расходятся, обходя влажные язвы. В правой раме окна, среди деревьев в тени дома носятся две крупные собаки. Одна с чёрной мохнатой шерстью, другая голая, белая, в рыжих пятнах, с вытянутой мордой и изогнутым дугой худым телом на длинных ногах. Вдруг собаки остановились, замерли на пол секунды, и неожиданно большая чёрная собака, похожая на телёнка, сорвалась с места. За ней помчалась борзая. Они сильно отталкивались лапами, из под лап взлетали комья грязи. Они проскочили границу тени и ворвались, словно в другой мир, в другую створку окна, на освещённую солнцем землю, где блестят лужи и лежат длинные тени стволов, где их преследуют две тёмные собаки. Чёрная, прыгнув, замерла, проехала задними лапами по грязи, и тут же понеслась от меня вдоль изгороди чугунных копий.
За изгородью, изнутри опушённой облезлым мехом чёрно-бурых кустов, жёлтое прямоугольное четырёхэтажное здание техникума, вытянутое от меня длинным бараком. Золотыми монетами блестит под солнцем белая крыша, надломленная гранью на два ската. Под квадратными окнами жёлтый барак серым овалом очертила дорожка, лежащая в широком прямоугольнике жухлой травы, очерченном линией забора, изнутри заштрихованной валом кустов.
За иголками ограды и за деревьями, где заканчивался маленький парк моего двора, хоккейная площадка. В подзаборной тени дальнего белого борта, иссеченного коньками и клюшками, тает узкая кромка льда, по которой можно пройти, покачивая расправленными в стороны руками, и успеть ухватиться за перила, соскальзывая с ледяного каната. Площадка светло освещена солнцем. Блестит громадная, во всё поле лужа, затопившая чёрный асфальт, где плевком белеет последний лёд. В луже лежат хоккейные ворота, рамой, где прежде стоял вратарь, на асфальте. Сквозь ржавую сеть в воду протекли облака. Есть одиночество в воротах без пары. Даже в единственном числе они вдвоём. Наделяю бесчувственные предметы своими чувствами. Но сейчас не чувствую одиночества. Может где-то глубже скрыто чувство без Лены? Или без Наташи? Но к Наташе не чувствую ничего. Или воспоминанием она намекнула о тайной жизни во мне?
По луже вокруг ворот хороводом бродят дети, рассматривая ноги. Дети в оранжевых, малиновой, голубых, светло-зелёной, белых штанишках, куртках, шапках. За бортом застыли тёмной группой взрослые; пришельцы из тени серого дома.
За площадкой похожей на корабль чёрные кораллы корявых деревьев. За негритянскими танцорами серая лава ручья в железных берегах легковых машин. В глаз попал солнечный мяч.
На другом берегу разбросаны в обгоревшей траве детские кубики; дома с проросшими между ними деревьями. Дальше возвышается квадратная в основании красная башня жилого дома. Башню со всех сторон освещает солнце, но слева завалилась на деревья отражением будущего её длинная тень.
Проворачиваю ключ в двери, запираю неудачу в квартире. Замок проворачивается и щёлкает на оборотах, словно человек чавкает.
Открыл замок, распахнул дверь, пнул носком ботинка преграду в комнату, бросился к столу, записал, что замок проворачивается, словно человек за едой чавкает.
Дверь захлопнулась, ключ заёрзал в железном чреве замка. Передавая словами образ, озвучить действие слогами предложения! Ключ в замочной скважине поворачивается, как человек за пищей чавкает!
Прокрутив рычаг пробежал к столу, записал предложение, приписав: «За пищей чавкает ужасно. Словосочетание изменить, созвучие сохранить».
Поворачивая ключ в замке, оглянулся на надутую чёрной кожей дверь. Вдруг соседи видели?! Они расскажут маме, она расстроится. Очень-очень глупо, по-дурацки выглядит внешне творчество. Но появилась идея, которой украшу рассказ!
Совершить свершение, прожужжать звуками движение!
Жужжащие с языка не слетят. Словно шмель во рту. Шуршащие о ступени подошвы отчасти шипящие, отчасти чёткие сочетания с т, тч.
Скриип двери на улицу. Слово скрип подражание писку петель?
Почти те же сочетания от чётких шагов, отсчитывающих части асфальта.
Справа раскрыты игольчатые створки ворот, ладони тянутся меня обнять. Теневая дорожка между отразивших друг друга пятиэтажных домов. Стены из грязных, когда-то бежевых кирпичей. Вдоль фасадов растут деревья. Крючковатые пальцы шевелятся, гнутся к земле, тянутся, чтобы схватить меня. Маленького героя в волшебном лесу.
Дома слишком близки, из окон спален видны чужие кровати. Нарастает грохот и шипящий шум дороги.
Ох, сколько людей.
Маленький герой внутри присел от неожиданности.
Перед бетонным вокзалом скован серым льдом овальный остров с жухлой травой, прозрачными домиками остановок. Машины, словно тараканы от света светофоров, разбегаются в разные стороны. За опустевшей дорогой, в чёрном скворечнике на тонком серебристом стволе появился зелёный человечек, широко шагнул, но застыл на месте. Может ногу потянул. Мы пошли к нему на помощь, вдоль ряда застывших, но рычащих автомобилей, глядящих слепыми от света дня глазами фар.
Сумасшедший за рулём. Автомобиль вонзается в толпу, выдавливает людей в смерть. Меня вряд ли задавит убийца, я иду в середине толпы. Подленькая мысль. Если умру, а предсмертные предложения узнает возможный вполне исследователь меня, то сможет написать: «Какой человек! Он трудился даже на пороге смерти. А подумав о чём мы думаем часто и спокойно, он корит себя за ужасный проступок мысли лишь!»
К чёрту! Сейчас сорвётся машина. Собьёт меня. Ненавижу думать о неожиданной и реальной возможности смерти. Завизжали тормоза.
Встал под упавший столб тени.
Придавило тенью столба.
Предзнаменование?!
С шипением складывается троллейбусная дверь. Снова ничего не написал. Страх смерти в любую секунду. Я заперт четырьмя дверьми от неудачи, дремлющей в комнате. Дверь комнаты, дверь квартиры, две подъездных двери, складные створки троллейбуса – пять. Голова болит напряжением мысли. Кажется, схожу с ума. Варваром совершаю ритуалы. Невозможно тяжело, когда в голове борются за выживание мысли. Я считаю двери, боюсь, что потерял дар, опровергаю смертоносные знамения, презираю трусость, заставляю задуматься над рассказом, а сквозь хаос пробивается, полная ужаса, словно холодная металлическая игла шприца, входит в мозг, висок зудит ощущением, игла протыкает тонкую кость, – мысль, что здесь, в салоне, прячется больной человек, который хочет убить, всё равно кого, и ему попадусь я. Поворачиваю подбородок за спину; по глазам пробегают окна, сиденья, спины людей.
Вот это рожа! Крупная голова, оттопыренные уши, от которых треугольником к острому подбородку сужается челюсть. Короткие тёмно-русые волосы, словно маленькая шерстяная шапочка. Перед ушами прилипло по тонкой сопельке волос. Затравленный взгляд ищет нечто, что украли. Большие чёрные зрачки, как круглые камни, в тонкой малахитовой оправе. Сросшиеся на переносице русые брови, летит птица, расправив крылья. Длинный острый нос с видным профилем хрящей, похожий на сучок ветки, росшей вниз. Изображение вздрогнуло от испуга, когда взвизгнув пилой, залив кровью, по лицу пронеслась алая машина. Зубья пилы разрезают кости, взлетают клочья, разлетается моё, секунду назад живое лицо. Не думать, не думать.
Какая мерзость.
А вдруг сбудется?
Или погибну под автомобилем? БПБУМ, приглушённый телом удар. Биограф, узнав мой страх на переходе, узнав как отражённо промчалась машина, узрит провидца. «Скрытое от людских взоров ему открывалось в образах». А я смеюсь над глупым совпадением.
И ужасно боюсь так смело думать! И верю в возможность предсказания. Но думаю через страх: и оттого, что не до конца верю, и оттого, что не могу не думать, и оттого, что писать обязан.
Думаю!
Гнилая грязная нить рвётся при каждом движении. Не думаю, а вяло тянусь за жизнью мыслью. Хлопают складные створки.
Запер за дверями безделье! Надо открыть в своём доме пять тысяч дверей, чтоб найти безделье и запереть в чулан. Несу пухлый серый мешок, раскрываю низкую дверцу в темноту каморки; световой полосой освещает чулан дневной свет; от притолоки к полу горкой опускается потолок. Чулан пустой, с серым бетонным полом и грязно-бежевыми кирпичными стенами. Я швыряю мешок. Он скользит по полу и упирается в стену. Всё упирается в стену!
Глупый замысел о несчастной дурнушке.
Какие мерзкие люди. Неужели трудно мыться, душиться?
В чулане пропустил остановку. Варвар, дикий варвар в городе.
Вот разговорчивый пример уродства. Красивая пышнотелая женщина с пустыми глазами, как потухшими белыми фарами, узким горлышком, гордо поднятой головой, – пустая бутылка с разбитым дном, где жалкие остатки от жизни по стенам души.
Первобытно-болотное представление о душе как о сущности в некой форме, с детства со словами поселившееся в сознании.
Кажется вот, подумай о толстухе, присмотрись к ней. Наблюдай жизнь. Замечай нарочно, чтобы в будущем подчиняться наблюдательности. Что-то похожее было у Чехова. Но нет, мы спешим, у нас нет времени остановиться. Мысль скачет блохой без цели и пользы.
Старуха с клюкой и сумкой в левой руке. Ругает правительство и дрожащий троллейбусный пол трибуна на митинге. Неужели не понимает, как мешает? С ненавистью кричит, вокруг видит виноватых, считает себя умной, объясняет, кто страну разорил, а говорит лозунгами требованиями обвинениями. А если сбудутся её желания? Успокоится и уже по привычке, как упражнения утренней зарядки, будет выдавать две-три фразы. Нет, найдёт новых гадов.
Как невозможно орёт!
Но я не посмею и слова сказать.
Чёрт побери, почти не знакомый район. Вылез! Волосы мягкие, но уже кажется длинные, надо подстричься. Пока не буду стричься. Нет, постригусь назло приметам! У старухи был жест. Она вкручивала левую руку с сумкой, словно шуруп вворачивала, в тяжёлый воздух над собой.
Пустая улица. Редкие машины проносятся мимо. Запомнить, как быстро возникает чувство одиночества.
Крохотный розовый домик с остроконечной крышей фасада между развернувшимися вдоль улицы бежевыми зданиями, как карлик отец между громадными сыновьями. В прицельную планку я вижу фасад следующего дома, весь в веснушках солнечных окон и прыщах балконов. Я покачиваюсь из стороны в сторону, и между двумя стенами то появляются, то исчезают новые ряды окон. Хорошо никого нет. А вдруг кто—нибудь сейчас появится? Страх очищает грудь.
Троллейбус! Синяя рогатая гусеница. Приползла успокоить меня. Мне подарили подарок. Женщина водитель с пышной шевелюрой, вьющейся как у белого барашка, удивилась моей улыбке. Наверно очень глупо. Ну и пусть! Хорошо троллейбус почти пустой. Троллейбус вздрогнул, закрывая двери, дёрнулся, качнув меня вперёд, и отъехал. Как-то неуклюже мило.
Гришков, ты выходишь? Гришков, Грешков. Мелкоподлый человек.
Фамилия во второй готовый рассказ. Удача! Набухает влагой сухая губка.
– Я тоже хорошо вчера наелся. Бабушка сделала луковый салат.
– Бррр. – От соседа к окну отвернулся белобрысый затылок. – Не люблю луковый.
– Она дольками нарезала. Вкусны-ы-ый!
Седой, похожий на луковицу репчатого лука пучок на затылке. От блестящей влажной луковицы, водянисто-жёлтого цвета, простроченной золотыми нитями, отваливаются плоские колёсики. Рядом, худая и высокая её дочь. Она режет помидоры.
– Ты что, плачешь?
– Нет, мама, что ты? – Она улыбается, по щекам стекают слёзы. – Лук глаза, щиплет. Всё хорошо. Левой ладонью, подушечкой большого пальца стирает слёзы. Наклоняется, режет помидор пополам, сжимает двумя пальцами, режет на четвертинки. Отнимает руку, помидор распадается, четыре красных кораблика покачиваются на лёгкой зыби. Она вспоминает, как кричал муж, с не выбритой синевой до глаз на красном лице: «Нет тебе никакого дела где был. Ходил гулял по улицам. Не ори! Не ори я сказал. Я хозяин в доме. Ты не имеешь права орать. Я не обязан отчитываться перед такой ненормальной как ты, если муж пришёл позже. Всё вынюхиваешь, высматриваешь, шизофреничка психованная!», – и на его толстых губах вспыхивали и гасли пузырьки пены яростного прибоя. Её мать отняла руку от луковицы, заложила за затылок, потрогала седую луковицу волос. Она внимательно посмотрела на дочь. Она сомневается в луковых слезах дочери. Ох, это же гастроном, сейчас выходить.
Отчего необходимо подтолкнуть меня в спину в пустом троллейбусе?
Луковые слёзы плохо. Вспоминается Оле Лукое, который и не помню откуда. И не бывает луковых слёз. Есть слёзы от лука. Кажется, момент серьёзный в возможном рассказе. Изменив, его можно сделать кульминацией возможных читательских чувств. Подталкивая читателя к вершине, разработчик маршрута должен обеспечить достижение цели. Проводник обязан избежать обвала иных чувств, которые сметут проложенный путь. Полускрытые смыслы прекрасны и опасны. Для лукавого ума луковые слёзы размером с луковицу. Текст часто читается иначе, чем мечталось. Сметану, кажется, просила. Сначала додумать. О чём думал? Надо купить и молоко. Нет! Текст, Текст! От любого препятствия волнуюсь, как от самой азартной игры. Не отвлекаться! Приказы отсылаются в сознание, но не всегда доставляются, часто не исполняются. Надоело. Какая же последняя, последняя мысль? Чок, чок – щёлкали кассовые аппараты. Иначе – моё словечко. Ч возникло само. Не от того, что подсознание доработало за меня, отчеканив в звучных сочетаниях звуки касс, а потому что думал словами с «Ч». Действует выработанная годами привычка, когда-то давно настроенная, сочленять слова в тексте не только по смыслу, но и по звуку. Мысль о звуке «Ч» родилась после сочетания в одном предложении по ясному, но скрытому за тучами, обряду шипящих, в первую очередь чету «Ч». Если бы записывал, то не писал бы «в первую очередь», (словно стреляют, словно в магазине очередь), искал бы иное сочетание. Поезд разогнался, промчался и встал в тупике. ТуПИК. Тупик бывает на железной дороге, где заканчиваются рельсы. Сметана. Молоко и кажется творог. Вино. Взять бутылку, цветы и неожиданно с праздником приехать к Лене. Мгновение радости, душа мысли вошла в душу.
Не поеду, хотя всё равно не верю в возможность высшей власти. Чиркая подошвами, прошёл через площадку мимо кассы. Кассирша встречает взглядом, смотрит на покупки, считает, мельком смотрит, получая деньги, и, если я ей интересен, замечает снова, возвращая сдачу.
Запишу Грешкова и «тупик». Почерк корявый. Поезд разогнался, промчался и встал в тупике. Перечитывая, прочту вместо тупик туман. Смысл, – остановка, – остался, а видимая связь творения – разрушена. Остались развалины арок римского акведука, железнодорожного моста.
Прохожу дом через полукруглую арку в стене, широкую, низкую, словно для плоского жука. В конце узкого переулка в бледно-розовой тупиковой стене темнеет нора. Справа кирпичный забор густо поросший травой, украшенный на гребне плюмажем куста. Жёлтый куб стеснил переулок до асфальтовой тропы. Узкое горло пропихнуло меня в желудок переулка. Здесь глухая стена жёлтого дома тянется вглубь двора, от неё начинается более высокая, вровень с зелёной крышей, набухшей норкой чердака, ограда, закрашенная жёлтой краской. Из ограды в переулок выступает белый трехэтажный дом с бордовой крышей, от макушки к углам расходятся грани невозможно широкого кола. Над этой крышей толпа развёрнутых стен, оледенели ряды бегущих вверх блестящих жуков, замёрзла золотая капля в голубом небе.
Я оглядываюсь, сумка плоско ударяет в ногу.
Чудо, подарок, дар, чудо! Противоположная сторона переулка в один длинный розовый дом. Восемь подъездов, коричневые двери отворили темноту внутренностей. Девять или десять стежков сплошных окон на розовой стене. Розовая стена освещена солнцем, но ниже, тремя зубцами, её атакуют тени.
Осадные орудия придвигают к стене, кое-где осадные башни подошли почти вплотную. Из боковых ворот вот-вот вырвутся легионеры в круглых шлемах, с орехами на макушках, прикрываясь овальными щитами, держа в руках короткие мечи. Из окон льют смолу, бросают бочки. С закопченных в дыму осадных башен в крепость летят по плавным дугам траекторий громадные камни из катапульт, проламывая стены, выбивая облака розовой пыли.
Пустынный переулок в один дом, а над ним чистое голубое небо. Словно щель в другой мир. Какой-то символ моей приниженности перед красотой.
Этот дворовый переулок может быть метафорой моей жизни. Здесь живу, изучаю соседние дома, иногда выхожу из переулка в мир.
Я переулок, сквозь меня проходят люди, приходят в гости, живут во мне, уходят, оставляя следы.
Небесная щель; сочится дорожка, её изгибают стены, пока не сжирают арки.
Белые блики солнца в окнах дома.
Ночью в тёмной арке невидимая в тени тень сбивает с ног, звонко ударяет голова об асфальт.
Бреду по тротуару вдоль домов, в бреду несутся машины, на мгновение скрывая подножье древесного ствола за чёрной ажурной оградой бульвара. Машина может вырваться на волю, с дороги на тротуар.
Жёлтые, серые, голубые дома примерно одного роста, в два-три этажа. Бульвар спускается под уклон.
Дома спускаются вниз как ступени. Дома как террасы по склону холма, спускаются к круглой площади. Нужно чтоб образ возник. По крышам домов, как по ступеням сойду к озеру асфальта.
Круглый аквамарин озера в изумрудной оправе леса. У берега, в воде, на сваях опаловый домик купальни, с парадной лестницей в воду. Знаю, отчего увидел купальню. Нечто похожее, но с узкой лесенкой мы с Леной видели в фильме по классическому рассказу. Тогда представил, как граф откажется сходить по узкой лестнице, закажет широкую, как парадная к его жёлтому дому с белыми колоннами. Без перил подняться невозможно, голый граф будет хвататься руками за верхние ступени, скользя ступнями на глинистых нижних, белой толстой личинкой поползёт к слугам. Или заставит голоногих девок отчищать от слизи мрамор.
Алексей сказал, его строил пьяный архитектор. Двухэтажный смешанной серо-голубой краски дом, в высоких окнах застыли шторы цвета светлой полосы на арбузе. Дом не стоит на площадке фундамента, дом съезжает по бульвару, как лыжа по склону; зелёная кровля тянется параллельно тротуару, отчего ступенями спускаются окна. Каждое окно в каменной раме ниже предыдущего.
Ох, боже мой, что же на той стороне!
Словно в грудь ударили.
Никто мне не сказал. За несколько веков дома на бульваре выросли в один рост. Ярко-жёлтая игрушка городской усадьбы прошлого века. Пять высоких окон на втором этаже разделены белыми коринфскими колоннами, поддерживающими жёлтый треугольник фасада крыши. Колонны восковыми свечами светятся сквозь голые ветви деревьев. А рядом, из обломков костей мёртвого дома вырастает восьмиэтажная громадина; параллельными рядами, прошитыми снизу-вверх жёлтыми сосудами, поднимаются по серой стене леса, по которым бродят муравьи в оранжевых робах. Дом растёт, с каждым днём превращаясь в тупого переростка-третьегодника среди милых малышей второго класса. Надо быть варваром, законченным негодяем, диким человеком, чтобы рушить пейзаж. Настоящее варварство хранить дома, где когда-то был Пушкин, и рушить, где он не успел побывать. Разрушать один за другим дома, значит разбирать по кирпичикам кладку эпохи, что ещё живёт в нашем времени, легко оживляемая знанием и фантазией.
Написать что-нибудь, где сделать фотографию моего города. Сфотографировать жизнь кадрами страниц.
Всё же удивительно знать, что Москвы, какая она сейчас, через несколько лет не будет совсем. Исчезнет романтическая ветхость старинных домов, исчезнут сонные переулки, заброшенные парки. Всё будет в светящихся объявлениях, предложениях. Будет больше людей, машин, магазинов, кафе.
Отвалилась серая скорлупа асфальта; красный белок кладки, белый желток фундамента. Лучше серая скорлупа асфальта и белок фундамента.
Вниз по тротуару стекает влажный след отжившего ручья!
Кажется обычная фраза. Даже не стану её записывать в записную книжку, но огромен восторг озарения! Бросило в жар от неожиданности прозрения, подсмотренной обыденности. Словно раскрылись уже раскрытые глаза.
Вдоль голубой стены дома примёрзли голубые капельки капели краски.
Разноцветные вывески на стенах.
Ряд фонарных столбов по тротуару на прямой улице. Внизу столб как чугунный вулкан, как перевёрнутая гроздь чёрного винограда, из вершины торчит воронёный шест. На дорогу как штандарты прикреплённые вдоль тел столбов, свисают пёстрые рекламные вывески. Узки вытянутые лица, остры треугольные подбородки, шелушится белая, желтая, красная кожа. Лица вытянулись от креплёных вин.
Как вспотевшая лошадь потом, тёплым бензином вороная пахнет машина.
В двух ступенях от земли салатовый лист железной двери, в радуге перемигиваются буквы «Фейерверки и ракеты». Ты.
«Вступай».
Внесу пай и тогда её увижу.
План города. Да!
ОграДа!
«СвобоДа»!
Девушка опрашивает прохожих. Обойду, не хочу ни на что отвечать. Добрый день. Добрый. Можно задать вам несколько вопросов? Я спешу. Это не займёт много времени. Хорошо. Скажите, вы интересуетесь современной литературой? Почти нет. Но современных авторов читаете? Иногда случается. Кого например? Знакомы ли вам имена… По телевизору показывают моё награждение литературной премией. Во вспышках фотоаппаратов благодарю за оказанную честь. Держусь спокойно. Чуть взволнован. Она кричит родителям: «Его недавно опрашивала. Сказал, что мало интересуется современной литературой, а оказался писателем. О нём же его же спросила, а он говорит, что не очень нравится этот писатель. Это он о себе говорил, понимаете?» Если не успела забыть, значит скоро получу премию. Однако, свободной фантазией представленное будущее по сценарию никогда не развивается. Но будущее можно реставрировать мыслью по прошлым моделям. Примерно такой человек не сможет сам поступить на эту работу. А примерно такой получит. Не потому что не подойдёт, а потому что примерно такие люди такой работой не занимаются. В словах проступают черты судьбы, в которую больше не верю, чем верю.
Но верю слову Пастернака не предсказывать свою судьбу в своих произведениях (но гложет страх случайного совпадения). Всегда оставляю, созданный страхом, непроходимый провал между собой и героем. Впрочем, и рассказ требует: мне не воплотиться в одном персонаже, кроме того, списывая с себя, записываю лишние подробности, а выплавляя героя из жизни, фантазии и себя, точнее создаю человека.
Скучные мысли. Важно только наблюдение: творчество не погибло во мне, – в безделье оно возрождается.
Скучно. Не важно, что скучные мысли, важно, что мыслю скучным языком. Составляю не чёткие и сухие, а аморфные предложения. Подслушивал за собой, но не услышал столкновений слов, чётких определений, красочных описаний, стройных мыслей. Появляются беспорядочные громадные предложения. Взорванная гора, вместо чёткого конуса вулкана, где каждый камень поддерживает и поддерживается другими. Исчез ритм предложения, ритм абзаца, ритм текста, сохранилось лишь созвучие звуков; шипят, рычат, жужжат в полёте возле уха стрелы предложений.
Где же прекрасные формы? Первым предложением ввожу читателя в сферу мысли. Большими описываю. Хотя бесконечное суетливое движение изменчивой жизни меняет устоявшиеся приёмы письма, и я составляю ряды коротких фраз, чтобы соответствовать ритмом текста ритму событий. Вставляю короткие предложения, чтобы выделить образ, деталь. Напротив, пишу длинными предложениями, умиротворяя читателя или неторопливо описывая. Являюсь ли сторонником диалектики? Нет. Но рушить свои же стройные построения, упорствовать и почти опровергать, всё же не переходя в пределы новой структуры, является необходимостью.
Кто так бешено орёт? За мной бредёт грязная свора ребят, они ненормально молча и равнодушно рассматривают улицу.
Два милиционера в фуражках с красными околышами и чёрных куртках стоят лицом ко мне; между столбов раскачивается в ошейнике воротника худой подросток. Он дёргает руками, рвётся вперёд, плачет и орёт, сильно, истеричным срывающимся голосом: – Что вам надо, гады? Что вам сделал?
Наверно поймали с наркотиками. Здесь скрыто торгуют таблетками.
Ненавидящий встречный взгляд? Что же вам надо? В чём не прав? Что должен сделать, чтоб на меня не смотрели? Ведь он совсем не знает, что я за человек, я никак его не обидел. Так почему так яростно смотрит на меня?!
Вполне милая пара. Оба средних лет. Высокие худые. У него короткие чёрные волосы, у неё длинные жёлтые. Он в чёрном длинном до пят плаще. Она в красном. Палочками кушают мороженое из белых стаканчиков. Она опускает руку вдоль тела, и случайно на асфальт вываливается пустой стаканчик. Она быстро взглядывает по сторонам, улыбается спутнику. Он улыбается ей, отбрасывает стаканчик, из которого вытекает молочная лужица, наклоняет голову, они целуются, взглянув на меня, она негромко смеётся.
Двое встречных сцепились взглядами, проходят, поворачивая назад головы.
Он как-то восторженно, за себя приниженно взглянул на неё. Проходя мимо, она презрительно ему улыбнулась, оглядела, двинув снизу-вверх головой, от ботинок до макушки, и отвела взгляд. Она подошла и плюнула ему в глаза, она засмеялась и показала на него пальцем, и все кругом засмеялись.
Испитая до худобы женщина с коричневым лицом под вулканом жёлтой шапки. Голубая куртка до пояса с пятнами грязи на локтях, до пят коричневая прямая юбка в мелких оранжевых цветочках. Перед ней стоит Он, в плаще горчичного цвета, синей шерстяной водолазке, вылезшей по горлу из-под распластанных по груди лап воротника, в исполосованных складками тёмно-коричневых брюках, спущенных гармошкой на разбухшие, разваренные чёрные ботинки. Чёрные всклокоченные волосы на голове. Она (жена?) матерно закричала, ударила по лицу наотмашь красной тряпичной сумкой, в которой что-то болталось на дне. Она била его по левой руке, которой Он будто прикрывал лицо от солнца. Она, заметив, что Он прикрывается, ударила его левой ногой, потом ещё и ещё. Но ярость, ярость с которой Она била. Тупая ярость ударов. Я хочу ей также безумно, яростно ответить. Подбежать, заорать в лицо, ударить, повалить на асфальт, бить ногами по лицу, по животу, топтать грудь, испугать её болью и страхом, раздавить человека в извивающегося червяка.
Отчего-то выдумал к ней мужа. В центре Москвы, где кругом милиция, такое почти невозможно. Всё это скрыто. Но и на людной улице, почти везде я чувствую полуфизическую агрессию.
Меня никто не трогает.
Но я её ощущаю!
Неожиданно пустынная улица. Брожу по сонному уездному городку. Сознание настолько засорено образами искусства, что при виде старинных домов возникает провинциальный город, с мыслями о провинциальном городе прорастают семена впечатлений, удобренные искусством прошлого века. Вот отчего город уездный, хоть десятки лет в стране районное деление. Догадка подтверждается тем, что вслед за словом, в голове прокатывается вал из картин художников, фраз поэтов, образов рассказов. Изучать укрытый мир души необходимо. Если я аппарат творчества, то необходимо изучать таинственные шестерни, что осуществляют полускрытую, иногда невидимую работу. Только невидимой работой смогу объяснить появление эпитета уездный или создание первого рассказа. Рассказали об изнасиловании. Рассказ был прост и ясен, события настолько мерзки, что поражённый, я на несколько минут потерял своё сознание. Я переживал ужас, и, не желая того, оживлял слова. Прошли минуты, я вернулся в общий разговор. Через двадцать минут был дома, через сорок за столом. Во многие из этих минут рождались мысли о девушке, о том как её насиловали, о жизни в городе, вспоминались страшные слова, ёмко отразившие жизнь. Затем, в несколько часов я написал рассказ. Долгая работа сознания прошла почти незаметно. Показалось, что её вовсе не было; кто-то надиктовал мне текст, или я вспомнил его.
Но работа была! Она прошла в полутьме сознания, выдавая себя в эти сорок минут в пути обрывками чувств и мыслей. Во-вторых, она шла, когда я погрузился в работу, растворился в рассказе, забыв о наблюдении за собой. Ведь именно когда забываешь о себе, мысль работает лучше, чем когда помнишь. Полностью забывая о себе, разрешаю сложнейшие проблемы, но распадаясь на две задачи, обе решаю медленно. Видя синий учебник с надписью «Математика» и решая задачу, я вывожу решение медленнее, чем ничего не замечая кроме задачи.
Творчество было моим, ибо нос у девушки оказался громадным, как у армянки, которая накануне так долго торговалась. Старуха в рассказе противная, говорит заикаясь, ибо Наташа рассказывала о споре с соседкой по даче, а маленькая и злая, потому что не сдал зачёт по философии Хохряковой, а погода зимняя от того, что поздней весной скучал о морозных ясных днях.
Так бы стихийно написать рассказ, как стихийно вьются мысли. Но они легко сплетаются, потому что всегда размышляю о творчестве. Сейчас налево. Не узнаю улицу. Где очутился?
Низкая сплошная стена, как ограда фруктового сада, с овальной арочкой входа. В тёмный двор распахнута калитка. Растекается нефтяной каплей покрытый тенью двор. Над ним три жёлтые стены колодца с прямоугольными вытянутыми окнами. Стены залиты тёмной тенью и лишь высоко-высоко под голубым небом дом обмотан шафрановым шарфом света. Я слышу за спиной шаги и говор проходящих мимо, увлечённых собой, людей, а через арку, между двух слепых окон с бельмами штор, вижу белое испуганное лицо. Двое в чёрных куртках закрывают от меня спинами человека, но я вижу, как белый огонёк лица вспыхнул радостью, засветился мне.
Потянулась освещённая солнцем стена, стеклянная витрина, между манекенами мужчин и женщин замороженная испугом морда.
Я вспотел.
Я смотрю то на рассеянное по витрине испуганное лицо, то навстречу встречным похожим прохожим. Грудь дрожит страхом и быстрыми шагами. Мелькнуло, заслонив жизнь, испуганное, но сменившееся радостью белое лицо. Свинья! Трус! Мог бы просто крикнуть, позвать топотавших за спиной, трусливая свинья!
Вернуться и помочь. Нет, нет, нет, нет, я не могу, то есть я не смогу. Это не возможно! Грудь затопил страх, грудь задрожала, как дрожит мотор, чтоб взорваться.
Как же, взорвётся!
Я подлец. Но я не могу вернуться. Да, убегаю от распятого на стене, убегаю от тёмного колодца, отгороженного стенкой двора. Но с распахнутой решёткой!
Как мерзко бежал. Снова вспомнил. Всё позади, а в грудь стучится дрожь. Я уже боюсь людей кругом меня. Ну, кто на меня бросится? Люди, кто бросится на меня? Может быть ты, с рыжими усами? Или вы, компания друзей с единым взглядом исподлобья? Я больше не стану убегать! Или вы господин милиционер? Охрана порядка?! Зачем же властный взгляд? Вы охотники я зверь? Попрошу мне не тыкать! Водитель, отчего нельзя ответить спокойно, когда Вас спрашивают о маршруте? Зачем толкать меня в спину? Ведь я Вам ничего не сделал, отчего вы меня ненавидите? Вы думаете, я сумасшедший? Не надо меня трогать. Я прошу Вас не трогать меня руками. Пожалуйста, Вы не могли бы не касаться меня руками? Руки прочь! Прочь руки!! Я Гамлет! Я живой! Это вы безумцы, так мелко и мерзко живёте! Я здоров болезнью, а вы при смерти в мёртвом спокойствии. Моя болезнь от слова боль, а ваша смертельна – тупость. Боже, как же ненавижу всё, всё-всё вокруг себя и устройство мира на обмане! Вспомнил Бога оттого, что вера глубже, чем я? Или это присказка, привычное сочетание слов? Оставьте, оставьте меня. Зачем вы меня мучаете? Эта крохотная сценка молекула воздуха, которым мы дышим.
Идти, идти вперёд, из толпы. Выйти в город, где встречный прохожий событие, как на пустой деревенской дороге, когда не знаком с человеком, но не можешь не поздороваться.
Страшно, я уже почти кричал. До безумства оставалась крошечная ступенька. Я уже кричал, жил там. Страшно, что безумие так близко. Лишь привычка подсматривать за собой со стороны сдержала крик: ощутил свои мысли, и потому отвлёкся от страшного нового мира. Такая тонкая, дряблая стенка разделяет здоровых и больных.
Успокоиться, ввести в душу успокоительное пейзажей. Не думать о предательстве человека за решёткой калитки.
Вернулась прежняя мысль. Из воспоминания не вырастет мания. Родилось противоядие раздражения.
Человек в моём предложении отбывает заключение. Может быть так и есть? Он живёт в этом дворе, двое его знакомые, случившееся сегодня повторялось раньше, повторится в будущем, пока не истечёт срок его заключения в колодце двора, или пока не сменят соседей по камерам. Стараюсь додумать быстрее эту мысль, сдерживая сияющую сквозь неё новую. Человек в заключении моего предложения. Буквы чёткой печати припечатали его к бумаге. Крохотный человечек в мятом сером пиджаке и серых брюках, торчащими в стороны как соломинки жёлтыми волосами, бегает в прямоугольнике предложения, стучится в стены. Пошлое приятное автору сравнение – человек в заключении предложения, пока читатель его не выпустит. В красивой тунике привычное тело обыденного знания о заключении описываемого в предложении. Или я не додумал мысль до её возможного развития.
Записать в записной блокнот: старушка с голубыми волосами, чубом взбитыми над набухшими морщинами, пройдя мимо меня, оглянулась через коричневое от плаща плечо.
Слева залито солнцем голубое здание острых геометрических черт. Углы, прямоугольники, квадраты, прямые линии. Характерные черты Белого Петербурга. Группками у дома стоят студенты. Собрались в кружки, словно греются у костров. Кружками греются у лагерных костров. В кружке поднимают кружки. Заметить, как особенно свободно, привычно стоят, никого не замечают. Почёсываются, смеются, подносят в рогатках пальцев сигареты ко рту, всасывают вваливающиеся щёки, выдыхают за плечи белый дым, кто-то, запрокинув голову, пьёт из тёмно-зелёной бутылки, жмурясь солнцу. Может, греются на весеннем солнце в перерыве, может, собираются отметить досрочно сваленный экзамен. Я даже замедлил шаги, неспешно шагаю, шурша подошвами по шершавому асфальту, почти не проходя, как старик, что шамкает ртом, почти ничего не прожёвывая.
Накануне готовился к экзамену и не был готов. Надоело скучное однообразие предмета. Ходил по комнате и вдруг, через окно заметил сценку на оранжевой арене под фонарём. Записал её. Не сдержал желания и записал на бумагу зимний вечер. Вспомнил собравшиеся за дни безделья мысли. Просмотрел, переправил как всегда раздражающе небрежно набросанный на листках рассказ. Заставил себя снова готовиться к экзамену. Но не готовился, а представлял, как будем шептаться в кабинете, как буду поворачивать голову за плечо и бормотать вопрос, как угадаю по гримасе лектора, что был не прав, и стану оговариваться, выдавая незнание за чьё-то неправильное мнение. Снова подходил к столу, чтобы записать нечаянно всплывшие мысли, наконец, само счастье лёгкой, неожиданной работы в день, украденный экзаменом.
Размышляю надо всем, кроме рассказа.
Улица прямая …как, как линейка. Ходят чёрточки людей, исчисляемые цифрами. Атомный, кварковый фрагмент жизни планеты. Но и его не вижу целиком, он распадается на мельчайшие детали, как человек распадается на бесконечность элементов. Вот она, недурная бесконечность в жизни. Если видимо есть бесконечность в жизни, возможна и моя бесконечность.
От горячей работы мысли теплеет тело, выступает пот, разрежается в голове пар фантазии. Иванушка моей мысли провалился в яму. Ведь Иван оформление мысли народа.
Признаки усталости. Когда невозможно взрастить мыслью на поле сознания культурное растение, пусть растут дурные травы дикой фантазии. Наконец, почва истощится, будет лежать под паром, тогда снова заставлю себя взращивать зёрна.
Глава вторая
Широкий мост через узкую Яузу в каменных берегах. Камень спускается к воде, стена книзу утолщается под желание съехать, шурша телом, и плюхнуться, булькнув, в воду.
Слева, на берегу, над скатом ржавой крыши многоугольник синей церкви; в глубине толстой стены окно, зарешёченное мелкой решёткой. Покатая, почти плоская крыша поймана сетью белых клеток. На макушке синяя башенка, а сверху высоким шлемом на узком лице золотая тиара купола. Правее, над блестящей на солнце крышей белого железа распустились пушистыми одуванчиками пышные кроны безлистых тополей. Рядом с церковью, через пролёт пустоты, на бледно-голубом фоне глухой стены синяя колокольня. Развёрнутая углом на меня, она вырастает восьмигранным столбом из-за ржавого ската крыши, выше поднимается четырёхугольный ярус, опоясанный тонкими белыми ремнями. Еще выше, в арке с просветом неба повешен звонкий труп времени. Из круглой крыши торчит золотой шпиль. Поймал глазами отраженный золотом солнечный свет, который сбросил мои глаза в реку.
По ступеням быстро погружается в глубокую тропу между каменным парапетом и домом мужчина в чёрном пальто и чёрной шляпе. Следить за тем как смотрит взгляд. Из траншеи видна голова в шляпе, она движется мимо окон с белыми занавесями, обитой белым металлом двери, выше «Металлоремонт», два окна, долгий дом, дверь между двумя окнами. Человек в чёрном, медленно вырастая, идёт вдоль светло-жёлтой стены с двумя волнистыми рядами окон. Светит солнце. Он медленно переходит в лето, в прошлый век, учитель в губернском городе возвращается жарким днём с занятий. На пыльной улочке редкие прохожие здороваются с ним, в ответ он приподнимает шляпу.
Провал в фасадах: холм с белой башней дома штурмуют деревья. Где же проводник взгляда? Уже не важен. Перемена захватила внимание. Скучный дом. Сквозь нити ветвей деревьев узкая высокая стена прострочена стежками окон. Река поворачивает вправо. Над рекой навис пешеходный мост. Горбатый покрыт стальным чехлом, на туманном металле дрожат ослепительные белые пятна. В воде знобит утонувшее отражение моста. Дальше по той стороне тянутся низкие дома, выгибаясь вместе с набережной. Но здесь уже не проедет телега с дровами, нахохлившимся кучером, бодро ступающей лошадью. За прибрежными домами высятся две башни, два ледяных сталагмита поднимаются в небо, на плоских крышах рядом самоубийц построились латинские буквы рекламы.
Передо мной застыло на морозе воздуха озеро асфальта, насквозь промёрзшее до дна земли. Мимо меня застыла скованная вечной зимой река асфальта, по шершавому льду проносятся машины. Справа, наискосок от столба меня, через дорогу строй тёмно-зелёных елей. Ветви над землёй самые широкие, к верхушке сужаются, деревья похожи на баб в тёмно-зеленых сарафанах. За елями дом песочного цвета.
Предательское определение. Мне виден в слове цвет, но читателю видны оттенки жёлтого и даже красный. Стены светло—жёлтые, но светлее чем дома вдоль набережной. Стена поднимается высокой ступенью, дальше от меня вырастает из дома широкое здание всё в рядах окон, на нём стоит такой же прямоугольник, затем ещё один, меньше, а венчает всё острый шатёр. В архитектуре, кажется, особенно сильны традиции, а нечто кажущееся новым, лишь изменённое повторением прошлое.
Все годы заполняю привычную форму рассказа, а мечтаю заполнить столь же традиционную форму романа.
Солнце нагрело густые пары отработанного масла, горячего бензина.
Передо мной, через автомобильную площадь, в жидком воздухе плавится узкий холм, подмытый ручьями машин. Холм, медленно расширяясь латинской V, уползает от меня хвостом дракона. На кончике хвоста отдыхают на подъёме голодные и тощие деревья. За дрожащим стеклом воздуха, в тумане прозрачных крон, на белом камне стоит чугунный человек.
Всё блестело у его ног, под голубым куполом неба, и он смотрел, прикрыв козырьком ладони сияющее лицо, и щурясь от ласкающего его взор небесного светила, как она, приподняв край розового платья, садилась в предусмотрительно поданный Квакшиным экипаж. Она обернулась, взмахнула воздушной рукой и тень пробежала… Тургенев.
Он смотрел на бегущих людей, на проносившихся мимо лошадей под всадниками, на длинный обоз и там и сям мелькавшие в нём чёрные офицерские кибитки, и думал о том, что не только весь этот полный событий, такой радостный и тяжёлый день, не только все эти люди, но и вообще все люди на Земле, которых он видел в своей жизни, и все события его жизни произошли для того лишь, чтобы он был здесь, видел всё это, и перед ним открывалось нечто неизмеримо большее, чем всё, о чём он когда-либо думал, и новая мысль эта, наполняла его огромной, необычайной радостью, ему открывалось, что…
Хватит! Задуматься о дороге. Осторожно перейти дорогу.
Я иду по солнечному тротуару у подножия вала, поросшего кустами, по гребню деревьями. На другой стороне, в тени двухэтажный дом. Крыша из скреплённых по швам листов, словно выложена из прямоугольных щитов. Над черепахой стволы и кроны деревьев, бежевый кирпичный дом: длинный обломок крепостной стены; стена густо покрыта окнами, как песчаный обрыв ласточкиными гнёздами, кормушками для птиц висят балконы. На крыше два креста антенн.
Внешне люди как звери, а люди лишь потому, что есть над нами Бог. Пригодится неуверенному атеисту.
Между домами узкая улочка вверх, заросшая деревьями, затопленная тенью. Крутой улочкой поднялся бы к белым стенам монастырской ограды, к закрытым воротам: толстой решётке с квадратными отверстиями. За решёткой выложенный камнем бугристый двор. На камнях чисто выбеленная церковь, – взбитыми сливками пышная горка полукруглых закомаров, украшением маслёнок на белой ножке – золотой котелок купола на тонком основании. По зыби каменного озера идёт, внимательно вглядываясь, монах в рясе.
За алтарной апсидой крутой обрыв склона, поросший прошлогодней травой, деревья поднялись к моим ногам густыми корешками крон, соседний дом равняется с моими ботинками чёрной крышей с крестами антенн.
Машины, шумно визжа, по одной проносятся вниз. Шум шуршащих шин стихает, слышно, как резко стучатся в тротуар каблуки. Под тёплым встречным ветром шуршит и шелестит целлофановый мешок. Глуша собственный звук, бухает что-то тяжёлое. Огромный чугунный шар, подвешенный на цепи к крану, снова и снова врезается в стену старинного дома. Застилает дом густой туман пыли, слышно как сыпется кирпич и штукатурка. Гулко обрушивается балка.
За копьями чугунной ограды жёлтый как желток двухэтажный дом начала девятнадцатого века. Посредине зелёный купол, ниже белые колонны в архипелагах серых известковых пятен несут треугольную крышу выступающего подъезда. К колоннам ведёт широкая мышиного цвета лестница. В стороны от центрального подъезда к флигелям тянутся двухэтажные стены с высокими окнами. Белыми рамами окна рассечены на шесть квадратов, изнутри свисают с боков белые занавеси, словно разобраны на пробор и крылами укрыли лоб волосы. В каждом флигеле три колонны влипли в стены, разделяют окна и поддерживают жёлтые, как в центральном подъезде треугольники крыш. Дом хочет обнять меня выступающими флигелями.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/aleksey-eremin/rasskaz-11829388/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Алексей Еремин
Художественное исследование процесса творчества. Описание создания рассказа писателем от рождения замысла и бесконечных неудач до завершения работы.
Рассказ
Алексей Еремин
«…И тогда мы узнаем кое-что о тех таинственных процессах, которые незаметно происходят в периферийных областях человеческого сознания, о безграничном хаосе ощущений, причудливой фантазии, высвеченной нашими чувствами; о слепых порывах мысли и чувств, немых и бесследных коллизиях между ними, о загадочности нервных явлений, шёпоте крови, мольбе суставов, всей жизни подсознания».
Кнут Гамсун «О бессознательной духовной жизни»
© Алексей Еремин, 2023
ISBN 978-5-4474-2174-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
Идёт дождь. На чистом стекле в белой раме набухают беременные капли, рожают, сочатся, оставляя длинные влажные следы, мутное стекло оживает и шевелится.
Дождю рад. Рад, что тёплый халат.
Самое время работать, но ничего не пишу. Довольно посмотреть на «самое время работать» и «довольно посмотреть». Я вижу отсутствие вдохновения… Завершающим аккордом многоточие пошлости. Триумф победившей пошлости! Где, где победоносный император? Пусть внесут трофеи, туш прозвучал!
Хлопнуть дверью на улицу, стать в халате под дождь! Дрожать в холодной луже, в дурацких тряпичных, в жёлто-чёрных клетках тапочках, прилипших к коже.
Если бы никто не увидел, то вышел. Стоял бы под дождём.
Мокрая крыса на задних лапках!
Заснул бы на день.
Нет! Жалкий, в толпе, ору всем голосом: Слава дождю в его мерзости, слава его мерзости!
Титул.
Ору одно и тоже до хрипоты в горле, каждый раз громче и громче, пока сила не срывает голос. Окружающие осуждающе зашептали, понимающе забормотали, а я ящером ползу по грязной луже. Я шлёпаю пятипалой лапой по воде, вытягиваю горло к небу, кричу ненависть.
Дождь скотина.
Скотина дождь? Шум дождя – бурчание в животе коровы. Капли летят, – сыплются волоски со шкуры. Бредёт корова тучи, в ведро города из вымени стекает молоко.
Почему люди на улице? Куколки в пледах обязаны греться у батарей, обхватив ладонями горячие чашки, пить чай, а не гулять под дождём под зонтами.
Гулять под небом, под дождём, под зонтами, по городу, по улицам, по асфальту.
Меня вырвало на бумагу. После жирной пищи в желудке несварение, меня вырвало. Но как римский патриций не чувствую брезгливости. Напротив, вожу пальцем по жёлтой луже, выбирая вкусные кусочки.
Встал из-за стола, подумав, что не только рассказ, даже страницу написать не могу.
От окна вернулся к столу (чёрные ветви за прозрачным стеклом, оспинки высохших капель, – истлевший чешуйчатый доспех); здесь заполняет соты листа испражнениями чёрный червь.
Наполняет пустые соты листа жирный чёрный червь. Рука смахнула тварь. Она отлетела к жёлтой стене, отскочила, покатилась к исписанному наполовину листу, дрожа ребристым стволом на тёмно-красно-коричневом столе. Я отшвырнул её к стене; мерзко дребезжа, она накатывалась на лист, я бросил её в стену; она отскочила и легла, чертой перечеркнув строчки. Я наотмашь бросил правую ладонь к столу, ударил пальцы, но ручка, отскочив к стене, залегла, копьём острия касаясь жёлтых обоев, с синими укусами раздвоенного жала.
«Сдача Бреды». В полупоклоне, отступив ногой шаг, склоняется вельможа в камзоле, протягивает лист капитуляции. Реляция: «После непродолжительного штурма, не исчерпав всех возможностей обороны, крепость пала».
С угла стола на пол перенёс здание книг. Выдвинул широкий ящик, цвета ядра спелого каштана, вытянул толстые журналы, лёг на кровать и придавил ими живот. Голова покоится в седле подушки, затылок поддерживает бок письменного стола. Утром письменный стол представился продолжением головы. Я встал, и со мной поднялся письменный стол, гладкой крышкой высоким продолжением лба, выставив назад четыре длинные ножки. В столе, на отдельных листах и в журналах записано пережитое, часто до неузнаваемости оплавленное фантазией. Оплавленное фантазией хорошо. Ком из разноцветного стекла. День удачный для работы?
Две недели медленно, как после болезни, переписывал набело два рассказа. Откладываю готовые рассказы, чтобы забыть, прочитать заново, как чужие, и без жалости, как чужие, переправить, перепечатать вместе с мамой, вновь поправляя и уже прощаясь, совершая ритуал, после которого сдаю записанный труд в редакцию (не спешу сдавать рассказы в печать; меня кормят авторские деньги, и пока они есть, храню рассказы, словно вклады в банке, пытаясь застраховаться на близкое будущее и в случае получить страховку). Из-за этой работы нового не писал, лишь записывал мимолётности. Правка вчерне готовых рассказов литературный труд. Но здесь уже сложен скелет. При ремонте есть дом. Дом нужно отделать и окрасить. Совсем не то, что рыть котлован под фундамент и складывать кирпичную стену Градова.
Снимаю крышу дома. Твёрдая обложка под белый мрамор с тонкими сиреневыми и розовыми прожилками. Бунин расписался по воле издателя золотым росчерком.
«В три дня Ян написал полностью первую часть «Деревни». Всегда казалось чем-то пошлым это «Ян» его жены. Он такой же Ян, как я Мордухай. Первая часть это 47 страниц текста. В день по 15 страниц.
Ничего удивительного. Такого текста можно и 50 страниц в день написать.
Вру.
Он отбирал «типичное», думал, вспоминал, пытался «соответствовать». 15 станиц даже такого текста много. Слишком много для меня. Я уже два дня только пытаюсь писать. Когда доделывал рассказы, к листам крепил доски строк, прибивал последние гвозди точек, крепил вывеску, проверял ордера жильцов на вселение, рассказ не давал покоя. Вечным жильцом поселился в городе мыслей, наводнением заливал страницы, затоплял синими ручьями набросков, я говорил Лене, как легко напишу рассказ. И ничего не пишу! И в голове вновь живёт страшная мысль: «Я больше не смогу писать. Желание отделывать рассказы было знаком неизбежного фиаско».
Может быть, не выполнил нечто, нарушил условия?
Ага, (турецкий офицер в алом ведёрке фески, в синих шароварах вскочил на бруствер из мешков с песком, кричит красным седоусым лицом, подтягивая над собой шашку (ятаган, если янычар), здесь себя уже мучил. Листочек размером с ладонь младенца: «Гончаров 7 недель 280 страниц романа!» Страница романа то же что страница рассказа. Часть романа не равна равной части рассказа.
Кафка за ночь написал «Приговор».
Это приговор.
Какое же свинство. «14,17,18,20,21,22.10.40. Писал и кончил «Таню». Я посмотрю. Свинство! В «Тане» за 6 дней поместилось 16 страниц хорошего текста. «25 и 26 10.40 написал «В Париже». Отслаиваю корочку мраморного тома, последняя страница бухгалтерская ведомость; имена и ровной колонкой получка в цифрах. Откровенное свинство! За два дня 11 страниц, пять с половиной в день, хорошо написанного рассказа. «27 и 28 10.40. Написал «Галю Ганскую» (кончил в 4.40 28.10)» За два дня 7 страниц. Тут легче.
Но я же ничего не написал!
Поймал себя бегущим по комнате. Чувства поглощают, сгоняют с места, и пока уровень не понизится, меня нет. Есть я, но не осознающий существование.
У Бунина неплохая идея; великая книга, когда бы Пушкин просто описывал день за днём свою жизнь. Описывать избранное, как в дневнике, поэтическая свобода, значит, вдохновение заполняет любую форму, а замысел не насилует вдохновение, не заставляет заполнять пустоты между краями формы и вдохновенным текстом.
Чувствую ужасно, не пишу и не хочу писать.
Из-под пресса мраморного Бунина взял зелёный, как спелый тополиный лист, сборник стихов. Сборник стихов раскрываю наугад, как священную книгу. Асеев дочери.
Рука тяжёлая, прохладная,
Легла доверчиво на эту,
Как кисть большая, виноградная,
Захолодевшая к рассвету.
Я знаю всю тебя по пальчикам,
По прядке, где пробора грядка,
И сколько в жизни было мальчиков,
И как с теперешним не сладко.
И часто за тебя мне боязно,
Что кто-нибудь ещё и кроме,
Такую тонкую у пояса,
Тебя возмёт и переломит,
И ты пойдёшь свой пыл раздаривать.
И станут гаснуть окна дома,
И станет повторенье старого
Тебе до ужаса знакомо…
И ты пойдёшь свой пыл растрачивать…
Пока ж с весной не распрощаешься,
Давай, всерьёз, по-настоящему,
Поговорим с тобой про счастье.
Нежное стихотворение. С искрой грубости, и от грубости любовь и нежность чётче. Грустно. Слёзы подступают к глазам только потому, что Асеев сумел написать красиво и ясно.
Печально счастлив; неизвестный мне человек, кто давно умер, почти забыт, написал ТАКОЕ стихотворение. Хотя, про «мальчиков, несладко» не слишком. Но счастлив за Асеева до слёз. Звучит словно «Я рад за вас, – хрипло сказал, подавая сухую ладонь, бывший начальник подчинённому, который уже сидел в его кресле». Только две последние строчки:
«Давай, всерьёз, по-настоящему,
Поговорим с тобой про счастье».
Неплохо, как бы завершение, некий обязательный вывод.
Зачем он только нужен?!
Встал, надел наушники ладоней, походил как маятник от окна к двери, отмеряя шагами секунды. Постоял перед белой дверью, раскрыл дверь, пошёл по квартире, – стучат тапочки, глуше на коврах, звонче на паркете. Отец с мамой нарочно ушли, чтобы не мешать. Асеев сидит у плиты, пьёт чай, я говорю ему. Он улыбается, равнодушно выслушивает. Он прав оттого, что уже написал. Хотя мы оба знаем, что и он, неожиданно прочитав своё стихотворение, сможет его почувствовать. Тогда и вспомнит обо мне.
Попить бы сейчас чаю.
Надо идти за хлебом и маслом в магазин.
Надо звонить в редакцию за деньгами.
Позвонить Лене на работу?
Сейчас всплывут, как трупы со дна реки, давно похороненные мысли. Они вырвутся из временных могил в облаках донного песка, плавно поднимутся на поверхность, часто неузнаваемые, как покойники долго пролежавшие в воде.
Всплывает мечта написать роман, – твёрдая синяя обложка отдельного издания, золотом моя фамилия, – и томит отдалённостью, страшит громадным возрастом. Всплывает желание найти работу, помочь себе жить, – но буду меньше писать, – лучше бы платили больше. Хорошо бы печататься за границей, быть популярным автором. Быть популярным значит плохим. Быть известной личностью, получать большие гонорары, читать лекции, путешествовать по презентациям своих книг. Вхожу в зал, все встают, встречают аплодисментами. Я присаживаюсь за небольшой стол на сцене, перед собой ставлю руки в замке, у рта камыш микрофона. Я здороваюсь. Я рад представить книгу рассказов. Я рассказываю о рассказах, отвечаю на вопросы журналистов. Вспыхивают, на мгновения ослепляя меня, вспышки фотоаппаратов. Я встаю, склоняюсь в полупоклоне, благодарю, прикладываю правую ладонь к сердцу. Вечером для приглашённых фуршет. Ко мне подходят, говорят ласкающие слова, мне пожимают руки, меня благодарят за книги, удовольствие от чтения. Кругом люди всех рас, многих национальностей. Чёрная ручка у стены. Пухлый воробей прыгает по карнизу как теннисный мячик. Зря отказался идти играть в настольный теннис. Но тогда работал, а сейчас нет. Если бы приехала Лена, но она на работе. Когда увидимся, буду думать о рассказе. Отчего от настольного тенниса прыгнул к Лене? На воробья не похожа. В теннис не играет. Но связь же есть. От неудовольствия, что не играл в теннис, к неудовольствию, что нет Лены. Или она появилась ничем не связанная, просто от желания её видеть?
Я могу думать! Сейчас думаю, не устаю, значит, могу работать! Не верю в высшее надо мной, но сейчас кажется, что нарушил закон, не исполнил долг.
Творчество то, чем никогда не стану рисковать.
Что нарушил, что исправить ради творчества? Надо было играть в теннис? Подбираю первое в пути! Надо было бросить отделывать рассказы. Когда уколола идея нового, надо было всё бросить!
Ложь!
Рассказ как ребёнка нужно выносить. Должны пройти условные месяцы, собранные в минуты или растянутые на годы. Я ничего не знал тогда, только идею, отношения неизвестной женщины и бойкого холостяка. Кажется, она молода. Их отношения и разрыв. Дальше не думается, словно каменная стена.
Зачем стена?! Четверть мгновения назад, поверив в неудачу, выстроил стену. Я задумался, и секунду назад, не вспомни о противодействии, мысль бы сама, не подгоняемая волей, развилась бы дальше.
Сел на диван. Лёг. Письменный стол пиявкой прилип к голове, высасывает мысли, разбухает, словно резиновый. Растолстели ножки, надулась горбом крышка, раздулись и чуть приоткрылись ящики с мягкими боками.
Письменный стол образ творчества, насос, выкачивающий силы.
Распял пятерню на обложке журнала. Сминая скользкую обнажённую женщину, поднял журнал над собой, – нижние листы повисли надо мной. Растопырил пальцы, журнал упал на грудь. Раскрывая страницы вспомнил, как несколько лет писал первые рассказы. Уже забыл, какой здесь, среди страниц о женщинах, духах, фуршетах, модном творчестве.
Раскрыв название увидел имя. Это был один из первых, на которых выучился писать. Когда меня заметили, его перепечатали здесь. Чувство, с которым читаешь свой текст, прочитанный тысячами людей, похоже на чувство старого строителя, – через 50 лет он смотрит на построенный дом; чувство матери, – как в зеркало она смотрится в отличные отметки в дневнике дочери; чувство художника, – после выставки, один в огромном зале, он изучает свою картину.
Художник не рассматривает каждый мазок, а видит всю картину, ловит общее впечатление. А я напротив, никогда не перечитываю весь рассказ, я помню впечатление, а в строках высматриваю лишь ответы на вопросы. Просмотрю начало, конец, пробегу глазами по тексту, перечитаю абзац, вспомнив, найду сравнение или описание, часть диалога, подчеркну строки карандашом, напишу на полях похабное ругательство, шпаргалку изучения ошибок и удач, поставлю минус или коротко отмечу: «Гений».
Слишком ярко выглядит альбом Эль Греко. Искажает суть.
Ещё похоже на встречу с когда то любимой. Вспоминаешь знакомство, поворот её головы, удивлённое лицо, обрывок разговора, быстрый взгляд из-под бровей, снизу-вверх, смех, её острые ногти на спине, долгий грустный взгляд, который впервые выдерживаешь как испытание, случайный укус нижней губы, как она расчёсывала перед тобой мокрые жёлтые волосы и на лицо падали капельки с её волос, как прижимала мои руки к телу, или молча завтракала, иногда поднимая серьёзные глаза, как в красном приподнималась на цыпочках и задёргивала шторы, или перегнувшись над кроватью взбивала белую подушку, как смотрела иногда в разговоре наедине или в комнате с людьми, или как в тишине комнаты, глядя в глаза, снимала халат, что ложился лужей, разбитой камнем, у её ног, или снова и снова перед зеркалом поправляла шарф на шее, чернила тушью ресницы, широко раскрывая карие глаза, устало садилась в кресло, цепляя носком каблук, стягивала сапог, как становился перед ней на колени, и придерживая за икру ногу, схватившись над каблуком снимал сапог, как вздрогнул, когда нежно укусила за ухо.
Это же Наташа! Улики в карих глазах, жёлтых волосах, она испытывала взглядом. Сравнение обернулось реальным образом. Образ вспомнил с рассказом, с которым она связана сотней осознанных нитей. Она скользнула бесшумно в море, проплыла под водой, и вдруг взрывом брызг вырвалась на воздух, капли с её волос на лице. Сравнение возникло из её сосуществования с рассказом.
Удивительно вспомнилось лишь начало наших отношений. Тогда писал большой рассказ о том, как появляется текст, описывал его рождение. Пытался описывать, подневольный рабский труд не продуктивен.
Когда влюблён, в теле нет рассказа. В сознании побеждает любовь; если гоню от себя мысли о любимой, значит думаю о ней, значит любовь врастает в душу, словно семя, брошенное в землю. Не заглубляй семя, и оно погибнет. Но прими его, оно пустит корни в душу, опутает сознание, врастая всё глубже. Силой заставлял себя обращаться к рассказу, думать о нём, пытался привить к душе рассказ, пытался лелеять, но душу высасывала любовь. Я думал только о ней. Вопреки направленной к цели воле переправлялся по волшебно возникшим мосткам от отношений героев к нашим, услышав телефонный звонок, безумно представлял, зная, что этого не может быть, она не знает, что я в редакции, не знает номер телефона, верил, что звонила она, вёл разговоры о публикации, а ждал когда она войдёт, я кушал, но мы обедали вместе, ударился, – она меня жалела; целовала в щёку, спрашивала, не больно ли ушибся, я отвечал «спасибо», – «зачем ты сказал спасибо?» – «не знаю», мы говорили о глупостях, и сочинялся уже не рассказ, а вдохновенная фантазия нашей любви, вдохновенная, как рассказ редко воплотится.
Сочинялись фантазии, которые никогда, никогда не осуществятся. То ли от бесконечности возможностей жизни, то ли от внешней силы, устанавливающей свои законы, один из которых – не воплощать вдохновенные фантазии.
Знаю за собой способность верить в высшее, когда объяснения не знаю.
Не верю в высшую силу, но и боюсь её, потому всегда пишу. Верю в долг и знаю, что каждый должен исполнить свой. Знаю, что когда отхожу от работы, случайности обрушиваются карой. Боюсь кары и верю, что наказание последует за ослушание.
Конечно, могу объяснить иначе. Когда пишу, я дома, за письменным столом. Здесь может приключиться со мной много меньше неожиданностей, чем на улице, в жизни. Конечно, когда пишу, то зарабатываю деньги, когда нет, вешаю на шею гири бедности, поросшие полипами вины и стыда.
От трусости, или от знания о наказании за безделье, от земли или свыше, я продолжаю работать. Творчество для меня самое интересное и поэтому буду работать. Творчество для меня… И начинается новый виток, словно разматываю бесконечный клубок. Так бы подумал, если б верил, что я лишь проводник приходящего извне. Я же представлю, будто сам из пряжи жизни свиваю бесконечную, обрезаемую лишь ножницами существования, нить, в которую сплетаются разноцветные волоски, переходят один в другой, вьются один из другого.
Представляюсь ткацким станком, куда загружают пряжу, а он свивает нити и вышивает. Но выбираю ли пряжу сам, или меня наполняют определёнными сортами, заранее угадывая узор?
Подбираю обрывки шерсти, – отчего они попадаются на пути? Случается в жизни случайное событие. Неожиданная встреча. Рассказ о смерти. Нищенка-калека. Ремонт дороги. Посещение Консерватории. Шумный день рождения или полная впечатлений ночная прогулка по городу. Всё это попадает преломлённым отражением через меня в текст. И я ощущаю, что случилась не случайность, а необходимое дополнение текста. Родился второй слой, появилась нужная сцена, новое русло течения. Я уверен, случилась не случайность, нечто меня подправило, дополнило.
Довольно!!!
Три часа. На столе два вырванных листа из одного. Ничего больше. Ах, как же посмел забыть? Выпитый чаёк из чашечки с длинноногими птичками на болоте, бесконечное путешествие от окна к двери и ещё много, много достижений!
Поворачиваюсь и силой сбрасываю тапочек с правой ноги. Он мчится снизу-вверх и вперёд, взлетает самолёт в чёрно-жёлтых шашечках небесного такси, мгновенно проносится через комнату и в прихожей с грохотом врезается в стекло двухдверного шкафа.
Прохожу в прихожую, припадая на короткую босую ногу, замирая, провожу рукой по стеклу, мечтая не пасть жертвой в паутине трещин. Отпускаю невольный воздух, вползаю ступнёй в тёплую пещерку, иду по квартире. В неторопливость свободных мыслей и воспоминаний уходят силы.
Думать о рассказе.
Что о нём помню?
Что о нём помню?
Наваливается усталость. Подчиняясь упорству задаю вопрос, но не задаюсь вопросом. Простейшие умственные действия: понять вопрос, дать ответ. Что помню о замысле рассказа? Что помню… Выпил бы чаю. Достоевский пил чай, когда работал. Держали горячим огромный блестящий жёлтый самовар. Жена открывала кран, из крючковатого носика струился тонкой струйкой кипяток. Из чашки парило.
Подлая фантазия, заметив чайник, скачет от жажды к самовару, за которым прячется от работы.
Вышагиваю по квартире. Как Маяковский или Толстой вышагиваю идеи, образы, предложения. Утренние прогулки Толстого в одиночестве лишь способ упорядочить работу на день. «Может быть, наша судьба метаться между двумя именами, Достоевским и Толстым?» Мне нужен свет окна, а я брожу по чердаку головы, заваленному рухлядью. Темно, под ногами неровные доски с крупными щелями, горячий пыльный воздух, нагретый солнцем через покрывало крыши. Чёрная конторка, за которой стоял Лев Толстой. У подножья печатная машинка Алексея Толстого и Хемингуэя. На полу, освещённый сквозь щели лучами света, закопчённый самовар Достоевского. С потолка свисает на шнурке пенсне Чехова. Его не замечаю и натыкаюсь лицом, от неожиданности вздрогнув телом. Стопку пыльных книг, перевязанных верёвкой, в тёмном углу забыл мелиоратор Платонов. Хрустят под подошвой карандаши Набокова. В белом луче дымится пыльный воздух. В конце тёмного коридора подсвечено распятие рамы.
Легко отдаться дикой фантазии, трудно направить уздой воли вслед за мыслью. Протянуть за иглой нить и сшить гобелен. Прорыть канал и пустить, пока не поздно, воду в пустыню души. Двое? Да. Обычные люди? Да. Отношения главное. Он ищет, встречает её. Он активен, знакомится. У зеркала мама оставила смятый, как ком бумаги, пакет. Просила купить сметану, молоко, кажется, масло. Надо забрать деньги из редакции. Заехать к Лене вечером?
Надо войти в рассказ, ни с кем не встречаться.
Как надоели. Он использует её, бросает. Банальность. Но любимый «Дом с мезонином» банальность. Любовь художника и девушки. Их отношения и невозможность совместной жизни. Всё банально. Но великолепно.
У моих ног голые ветви деревьев. Справа двор огораживает серый дом, пристроенный под прямым углом к моему. Восьмиэтажная, мышиного цвета стена как в сотах в рядах окон с белыми рамами. Из гладкой стены нависают вертикальными ярусами друг над другом, словно выставленные вперёд вставные челюсти, серые балконы с толстыми перилами на фигурных колонках, похожих на кувшины, на толстые человеческие икры. Тень дома заштриховала двор прямоугольником.
Приподнимаюсь на цыпочках, касаюсь лбом холодного окна, чтоб увидеть начало дорожки у подъезда. Сквозь шевелящиеся паутинные лапки вижу прямую, тёмно-серую в тени дорожку, что начинается у моего подъезда и разрезает двор пополам. Справа и слева лохматые деревья, обожжённые весенним солнцем. Деревья справа и дорожка покрыты тенью, что косой уменьшается к дому. Под ветвями чёрная грязная земля в редких чёрно-белых лепёшках стаявших сугробов, в опавших лепестках сугробов, в тёмных пятнах луж, старческих пятнах луж.
Через извилистые сучья смотрю, как от меня уходят две женщины. Одна ещё в длинной чёрной шубе. Другая в зелёном плаще. Они идут бок о бок, иногда расходятся, обходя влажные язвы. В правой раме окна, среди деревьев в тени дома носятся две крупные собаки. Одна с чёрной мохнатой шерстью, другая голая, белая, в рыжих пятнах, с вытянутой мордой и изогнутым дугой худым телом на длинных ногах. Вдруг собаки остановились, замерли на пол секунды, и неожиданно большая чёрная собака, похожая на телёнка, сорвалась с места. За ней помчалась борзая. Они сильно отталкивались лапами, из под лап взлетали комья грязи. Они проскочили границу тени и ворвались, словно в другой мир, в другую створку окна, на освещённую солнцем землю, где блестят лужи и лежат длинные тени стволов, где их преследуют две тёмные собаки. Чёрная, прыгнув, замерла, проехала задними лапами по грязи, и тут же понеслась от меня вдоль изгороди чугунных копий.
За изгородью, изнутри опушённой облезлым мехом чёрно-бурых кустов, жёлтое прямоугольное четырёхэтажное здание техникума, вытянутое от меня длинным бараком. Золотыми монетами блестит под солнцем белая крыша, надломленная гранью на два ската. Под квадратными окнами жёлтый барак серым овалом очертила дорожка, лежащая в широком прямоугольнике жухлой травы, очерченном линией забора, изнутри заштрихованной валом кустов.
За иголками ограды и за деревьями, где заканчивался маленький парк моего двора, хоккейная площадка. В подзаборной тени дальнего белого борта, иссеченного коньками и клюшками, тает узкая кромка льда, по которой можно пройти, покачивая расправленными в стороны руками, и успеть ухватиться за перила, соскальзывая с ледяного каната. Площадка светло освещена солнцем. Блестит громадная, во всё поле лужа, затопившая чёрный асфальт, где плевком белеет последний лёд. В луже лежат хоккейные ворота, рамой, где прежде стоял вратарь, на асфальте. Сквозь ржавую сеть в воду протекли облака. Есть одиночество в воротах без пары. Даже в единственном числе они вдвоём. Наделяю бесчувственные предметы своими чувствами. Но сейчас не чувствую одиночества. Может где-то глубже скрыто чувство без Лены? Или без Наташи? Но к Наташе не чувствую ничего. Или воспоминанием она намекнула о тайной жизни во мне?
По луже вокруг ворот хороводом бродят дети, рассматривая ноги. Дети в оранжевых, малиновой, голубых, светло-зелёной, белых штанишках, куртках, шапках. За бортом застыли тёмной группой взрослые; пришельцы из тени серого дома.
За площадкой похожей на корабль чёрные кораллы корявых деревьев. За негритянскими танцорами серая лава ручья в железных берегах легковых машин. В глаз попал солнечный мяч.
На другом берегу разбросаны в обгоревшей траве детские кубики; дома с проросшими между ними деревьями. Дальше возвышается квадратная в основании красная башня жилого дома. Башню со всех сторон освещает солнце, но слева завалилась на деревья отражением будущего её длинная тень.
Проворачиваю ключ в двери, запираю неудачу в квартире. Замок проворачивается и щёлкает на оборотах, словно человек чавкает.
Открыл замок, распахнул дверь, пнул носком ботинка преграду в комнату, бросился к столу, записал, что замок проворачивается, словно человек за едой чавкает.
Дверь захлопнулась, ключ заёрзал в железном чреве замка. Передавая словами образ, озвучить действие слогами предложения! Ключ в замочной скважине поворачивается, как человек за пищей чавкает!
Прокрутив рычаг пробежал к столу, записал предложение, приписав: «За пищей чавкает ужасно. Словосочетание изменить, созвучие сохранить».
Поворачивая ключ в замке, оглянулся на надутую чёрной кожей дверь. Вдруг соседи видели?! Они расскажут маме, она расстроится. Очень-очень глупо, по-дурацки выглядит внешне творчество. Но появилась идея, которой украшу рассказ!
Совершить свершение, прожужжать звуками движение!
Жужжащие с языка не слетят. Словно шмель во рту. Шуршащие о ступени подошвы отчасти шипящие, отчасти чёткие сочетания с т, тч.
Скриип двери на улицу. Слово скрип подражание писку петель?
Почти те же сочетания от чётких шагов, отсчитывающих части асфальта.
Справа раскрыты игольчатые створки ворот, ладони тянутся меня обнять. Теневая дорожка между отразивших друг друга пятиэтажных домов. Стены из грязных, когда-то бежевых кирпичей. Вдоль фасадов растут деревья. Крючковатые пальцы шевелятся, гнутся к земле, тянутся, чтобы схватить меня. Маленького героя в волшебном лесу.
Дома слишком близки, из окон спален видны чужие кровати. Нарастает грохот и шипящий шум дороги.
Ох, сколько людей.
Маленький герой внутри присел от неожиданности.
Перед бетонным вокзалом скован серым льдом овальный остров с жухлой травой, прозрачными домиками остановок. Машины, словно тараканы от света светофоров, разбегаются в разные стороны. За опустевшей дорогой, в чёрном скворечнике на тонком серебристом стволе появился зелёный человечек, широко шагнул, но застыл на месте. Может ногу потянул. Мы пошли к нему на помощь, вдоль ряда застывших, но рычащих автомобилей, глядящих слепыми от света дня глазами фар.
Сумасшедший за рулём. Автомобиль вонзается в толпу, выдавливает людей в смерть. Меня вряд ли задавит убийца, я иду в середине толпы. Подленькая мысль. Если умру, а предсмертные предложения узнает возможный вполне исследователь меня, то сможет написать: «Какой человек! Он трудился даже на пороге смерти. А подумав о чём мы думаем часто и спокойно, он корит себя за ужасный проступок мысли лишь!»
К чёрту! Сейчас сорвётся машина. Собьёт меня. Ненавижу думать о неожиданной и реальной возможности смерти. Завизжали тормоза.
Встал под упавший столб тени.
Придавило тенью столба.
Предзнаменование?!
С шипением складывается троллейбусная дверь. Снова ничего не написал. Страх смерти в любую секунду. Я заперт четырьмя дверьми от неудачи, дремлющей в комнате. Дверь комнаты, дверь квартиры, две подъездных двери, складные створки троллейбуса – пять. Голова болит напряжением мысли. Кажется, схожу с ума. Варваром совершаю ритуалы. Невозможно тяжело, когда в голове борются за выживание мысли. Я считаю двери, боюсь, что потерял дар, опровергаю смертоносные знамения, презираю трусость, заставляю задуматься над рассказом, а сквозь хаос пробивается, полная ужаса, словно холодная металлическая игла шприца, входит в мозг, висок зудит ощущением, игла протыкает тонкую кость, – мысль, что здесь, в салоне, прячется больной человек, который хочет убить, всё равно кого, и ему попадусь я. Поворачиваю подбородок за спину; по глазам пробегают окна, сиденья, спины людей.
Вот это рожа! Крупная голова, оттопыренные уши, от которых треугольником к острому подбородку сужается челюсть. Короткие тёмно-русые волосы, словно маленькая шерстяная шапочка. Перед ушами прилипло по тонкой сопельке волос. Затравленный взгляд ищет нечто, что украли. Большие чёрные зрачки, как круглые камни, в тонкой малахитовой оправе. Сросшиеся на переносице русые брови, летит птица, расправив крылья. Длинный острый нос с видным профилем хрящей, похожий на сучок ветки, росшей вниз. Изображение вздрогнуло от испуга, когда взвизгнув пилой, залив кровью, по лицу пронеслась алая машина. Зубья пилы разрезают кости, взлетают клочья, разлетается моё, секунду назад живое лицо. Не думать, не думать.
Какая мерзость.
А вдруг сбудется?
Или погибну под автомобилем? БПБУМ, приглушённый телом удар. Биограф, узнав мой страх на переходе, узнав как отражённо промчалась машина, узрит провидца. «Скрытое от людских взоров ему открывалось в образах». А я смеюсь над глупым совпадением.
И ужасно боюсь так смело думать! И верю в возможность предсказания. Но думаю через страх: и оттого, что не до конца верю, и оттого, что не могу не думать, и оттого, что писать обязан.
Думаю!
Гнилая грязная нить рвётся при каждом движении. Не думаю, а вяло тянусь за жизнью мыслью. Хлопают складные створки.
Запер за дверями безделье! Надо открыть в своём доме пять тысяч дверей, чтоб найти безделье и запереть в чулан. Несу пухлый серый мешок, раскрываю низкую дверцу в темноту каморки; световой полосой освещает чулан дневной свет; от притолоки к полу горкой опускается потолок. Чулан пустой, с серым бетонным полом и грязно-бежевыми кирпичными стенами. Я швыряю мешок. Он скользит по полу и упирается в стену. Всё упирается в стену!
Глупый замысел о несчастной дурнушке.
Какие мерзкие люди. Неужели трудно мыться, душиться?
В чулане пропустил остановку. Варвар, дикий варвар в городе.
Вот разговорчивый пример уродства. Красивая пышнотелая женщина с пустыми глазами, как потухшими белыми фарами, узким горлышком, гордо поднятой головой, – пустая бутылка с разбитым дном, где жалкие остатки от жизни по стенам души.
Первобытно-болотное представление о душе как о сущности в некой форме, с детства со словами поселившееся в сознании.
Кажется вот, подумай о толстухе, присмотрись к ней. Наблюдай жизнь. Замечай нарочно, чтобы в будущем подчиняться наблюдательности. Что-то похожее было у Чехова. Но нет, мы спешим, у нас нет времени остановиться. Мысль скачет блохой без цели и пользы.
Старуха с клюкой и сумкой в левой руке. Ругает правительство и дрожащий троллейбусный пол трибуна на митинге. Неужели не понимает, как мешает? С ненавистью кричит, вокруг видит виноватых, считает себя умной, объясняет, кто страну разорил, а говорит лозунгами требованиями обвинениями. А если сбудутся её желания? Успокоится и уже по привычке, как упражнения утренней зарядки, будет выдавать две-три фразы. Нет, найдёт новых гадов.
Как невозможно орёт!
Но я не посмею и слова сказать.
Чёрт побери, почти не знакомый район. Вылез! Волосы мягкие, но уже кажется длинные, надо подстричься. Пока не буду стричься. Нет, постригусь назло приметам! У старухи был жест. Она вкручивала левую руку с сумкой, словно шуруп вворачивала, в тяжёлый воздух над собой.
Пустая улица. Редкие машины проносятся мимо. Запомнить, как быстро возникает чувство одиночества.
Крохотный розовый домик с остроконечной крышей фасада между развернувшимися вдоль улицы бежевыми зданиями, как карлик отец между громадными сыновьями. В прицельную планку я вижу фасад следующего дома, весь в веснушках солнечных окон и прыщах балконов. Я покачиваюсь из стороны в сторону, и между двумя стенами то появляются, то исчезают новые ряды окон. Хорошо никого нет. А вдруг кто—нибудь сейчас появится? Страх очищает грудь.
Троллейбус! Синяя рогатая гусеница. Приползла успокоить меня. Мне подарили подарок. Женщина водитель с пышной шевелюрой, вьющейся как у белого барашка, удивилась моей улыбке. Наверно очень глупо. Ну и пусть! Хорошо троллейбус почти пустой. Троллейбус вздрогнул, закрывая двери, дёрнулся, качнув меня вперёд, и отъехал. Как-то неуклюже мило.
Гришков, ты выходишь? Гришков, Грешков. Мелкоподлый человек.
Фамилия во второй готовый рассказ. Удача! Набухает влагой сухая губка.
– Я тоже хорошо вчера наелся. Бабушка сделала луковый салат.
– Бррр. – От соседа к окну отвернулся белобрысый затылок. – Не люблю луковый.
– Она дольками нарезала. Вкусны-ы-ый!
Седой, похожий на луковицу репчатого лука пучок на затылке. От блестящей влажной луковицы, водянисто-жёлтого цвета, простроченной золотыми нитями, отваливаются плоские колёсики. Рядом, худая и высокая её дочь. Она режет помидоры.
– Ты что, плачешь?
– Нет, мама, что ты? – Она улыбается, по щекам стекают слёзы. – Лук глаза, щиплет. Всё хорошо. Левой ладонью, подушечкой большого пальца стирает слёзы. Наклоняется, режет помидор пополам, сжимает двумя пальцами, режет на четвертинки. Отнимает руку, помидор распадается, четыре красных кораблика покачиваются на лёгкой зыби. Она вспоминает, как кричал муж, с не выбритой синевой до глаз на красном лице: «Нет тебе никакого дела где был. Ходил гулял по улицам. Не ори! Не ори я сказал. Я хозяин в доме. Ты не имеешь права орать. Я не обязан отчитываться перед такой ненормальной как ты, если муж пришёл позже. Всё вынюхиваешь, высматриваешь, шизофреничка психованная!», – и на его толстых губах вспыхивали и гасли пузырьки пены яростного прибоя. Её мать отняла руку от луковицы, заложила за затылок, потрогала седую луковицу волос. Она внимательно посмотрела на дочь. Она сомневается в луковых слезах дочери. Ох, это же гастроном, сейчас выходить.
Отчего необходимо подтолкнуть меня в спину в пустом троллейбусе?
Луковые слёзы плохо. Вспоминается Оле Лукое, который и не помню откуда. И не бывает луковых слёз. Есть слёзы от лука. Кажется, момент серьёзный в возможном рассказе. Изменив, его можно сделать кульминацией возможных читательских чувств. Подталкивая читателя к вершине, разработчик маршрута должен обеспечить достижение цели. Проводник обязан избежать обвала иных чувств, которые сметут проложенный путь. Полускрытые смыслы прекрасны и опасны. Для лукавого ума луковые слёзы размером с луковицу. Текст часто читается иначе, чем мечталось. Сметану, кажется, просила. Сначала додумать. О чём думал? Надо купить и молоко. Нет! Текст, Текст! От любого препятствия волнуюсь, как от самой азартной игры. Не отвлекаться! Приказы отсылаются в сознание, но не всегда доставляются, часто не исполняются. Надоело. Какая же последняя, последняя мысль? Чок, чок – щёлкали кассовые аппараты. Иначе – моё словечко. Ч возникло само. Не от того, что подсознание доработало за меня, отчеканив в звучных сочетаниях звуки касс, а потому что думал словами с «Ч». Действует выработанная годами привычка, когда-то давно настроенная, сочленять слова в тексте не только по смыслу, но и по звуку. Мысль о звуке «Ч» родилась после сочетания в одном предложении по ясному, но скрытому за тучами, обряду шипящих, в первую очередь чету «Ч». Если бы записывал, то не писал бы «в первую очередь», (словно стреляют, словно в магазине очередь), искал бы иное сочетание. Поезд разогнался, промчался и встал в тупике. ТуПИК. Тупик бывает на железной дороге, где заканчиваются рельсы. Сметана. Молоко и кажется творог. Вино. Взять бутылку, цветы и неожиданно с праздником приехать к Лене. Мгновение радости, душа мысли вошла в душу.
Не поеду, хотя всё равно не верю в возможность высшей власти. Чиркая подошвами, прошёл через площадку мимо кассы. Кассирша встречает взглядом, смотрит на покупки, считает, мельком смотрит, получая деньги, и, если я ей интересен, замечает снова, возвращая сдачу.
Запишу Грешкова и «тупик». Почерк корявый. Поезд разогнался, промчался и встал в тупике. Перечитывая, прочту вместо тупик туман. Смысл, – остановка, – остался, а видимая связь творения – разрушена. Остались развалины арок римского акведука, железнодорожного моста.
Прохожу дом через полукруглую арку в стене, широкую, низкую, словно для плоского жука. В конце узкого переулка в бледно-розовой тупиковой стене темнеет нора. Справа кирпичный забор густо поросший травой, украшенный на гребне плюмажем куста. Жёлтый куб стеснил переулок до асфальтовой тропы. Узкое горло пропихнуло меня в желудок переулка. Здесь глухая стена жёлтого дома тянется вглубь двора, от неё начинается более высокая, вровень с зелёной крышей, набухшей норкой чердака, ограда, закрашенная жёлтой краской. Из ограды в переулок выступает белый трехэтажный дом с бордовой крышей, от макушки к углам расходятся грани невозможно широкого кола. Над этой крышей толпа развёрнутых стен, оледенели ряды бегущих вверх блестящих жуков, замёрзла золотая капля в голубом небе.
Я оглядываюсь, сумка плоско ударяет в ногу.
Чудо, подарок, дар, чудо! Противоположная сторона переулка в один длинный розовый дом. Восемь подъездов, коричневые двери отворили темноту внутренностей. Девять или десять стежков сплошных окон на розовой стене. Розовая стена освещена солнцем, но ниже, тремя зубцами, её атакуют тени.
Осадные орудия придвигают к стене, кое-где осадные башни подошли почти вплотную. Из боковых ворот вот-вот вырвутся легионеры в круглых шлемах, с орехами на макушках, прикрываясь овальными щитами, держа в руках короткие мечи. Из окон льют смолу, бросают бочки. С закопченных в дыму осадных башен в крепость летят по плавным дугам траекторий громадные камни из катапульт, проламывая стены, выбивая облака розовой пыли.
Пустынный переулок в один дом, а над ним чистое голубое небо. Словно щель в другой мир. Какой-то символ моей приниженности перед красотой.
Этот дворовый переулок может быть метафорой моей жизни. Здесь живу, изучаю соседние дома, иногда выхожу из переулка в мир.
Я переулок, сквозь меня проходят люди, приходят в гости, живут во мне, уходят, оставляя следы.
Небесная щель; сочится дорожка, её изгибают стены, пока не сжирают арки.
Белые блики солнца в окнах дома.
Ночью в тёмной арке невидимая в тени тень сбивает с ног, звонко ударяет голова об асфальт.
Бреду по тротуару вдоль домов, в бреду несутся машины, на мгновение скрывая подножье древесного ствола за чёрной ажурной оградой бульвара. Машина может вырваться на волю, с дороги на тротуар.
Жёлтые, серые, голубые дома примерно одного роста, в два-три этажа. Бульвар спускается под уклон.
Дома спускаются вниз как ступени. Дома как террасы по склону холма, спускаются к круглой площади. Нужно чтоб образ возник. По крышам домов, как по ступеням сойду к озеру асфальта.
Круглый аквамарин озера в изумрудной оправе леса. У берега, в воде, на сваях опаловый домик купальни, с парадной лестницей в воду. Знаю, отчего увидел купальню. Нечто похожее, но с узкой лесенкой мы с Леной видели в фильме по классическому рассказу. Тогда представил, как граф откажется сходить по узкой лестнице, закажет широкую, как парадная к его жёлтому дому с белыми колоннами. Без перил подняться невозможно, голый граф будет хвататься руками за верхние ступени, скользя ступнями на глинистых нижних, белой толстой личинкой поползёт к слугам. Или заставит голоногих девок отчищать от слизи мрамор.
Алексей сказал, его строил пьяный архитектор. Двухэтажный смешанной серо-голубой краски дом, в высоких окнах застыли шторы цвета светлой полосы на арбузе. Дом не стоит на площадке фундамента, дом съезжает по бульвару, как лыжа по склону; зелёная кровля тянется параллельно тротуару, отчего ступенями спускаются окна. Каждое окно в каменной раме ниже предыдущего.
Ох, боже мой, что же на той стороне!
Словно в грудь ударили.
Никто мне не сказал. За несколько веков дома на бульваре выросли в один рост. Ярко-жёлтая игрушка городской усадьбы прошлого века. Пять высоких окон на втором этаже разделены белыми коринфскими колоннами, поддерживающими жёлтый треугольник фасада крыши. Колонны восковыми свечами светятся сквозь голые ветви деревьев. А рядом, из обломков костей мёртвого дома вырастает восьмиэтажная громадина; параллельными рядами, прошитыми снизу-вверх жёлтыми сосудами, поднимаются по серой стене леса, по которым бродят муравьи в оранжевых робах. Дом растёт, с каждым днём превращаясь в тупого переростка-третьегодника среди милых малышей второго класса. Надо быть варваром, законченным негодяем, диким человеком, чтобы рушить пейзаж. Настоящее варварство хранить дома, где когда-то был Пушкин, и рушить, где он не успел побывать. Разрушать один за другим дома, значит разбирать по кирпичикам кладку эпохи, что ещё живёт в нашем времени, легко оживляемая знанием и фантазией.
Написать что-нибудь, где сделать фотографию моего города. Сфотографировать жизнь кадрами страниц.
Всё же удивительно знать, что Москвы, какая она сейчас, через несколько лет не будет совсем. Исчезнет романтическая ветхость старинных домов, исчезнут сонные переулки, заброшенные парки. Всё будет в светящихся объявлениях, предложениях. Будет больше людей, машин, магазинов, кафе.
Отвалилась серая скорлупа асфальта; красный белок кладки, белый желток фундамента. Лучше серая скорлупа асфальта и белок фундамента.
Вниз по тротуару стекает влажный след отжившего ручья!
Кажется обычная фраза. Даже не стану её записывать в записную книжку, но огромен восторг озарения! Бросило в жар от неожиданности прозрения, подсмотренной обыденности. Словно раскрылись уже раскрытые глаза.
Вдоль голубой стены дома примёрзли голубые капельки капели краски.
Разноцветные вывески на стенах.
Ряд фонарных столбов по тротуару на прямой улице. Внизу столб как чугунный вулкан, как перевёрнутая гроздь чёрного винограда, из вершины торчит воронёный шест. На дорогу как штандарты прикреплённые вдоль тел столбов, свисают пёстрые рекламные вывески. Узки вытянутые лица, остры треугольные подбородки, шелушится белая, желтая, красная кожа. Лица вытянулись от креплёных вин.
Как вспотевшая лошадь потом, тёплым бензином вороная пахнет машина.
В двух ступенях от земли салатовый лист железной двери, в радуге перемигиваются буквы «Фейерверки и ракеты». Ты.
«Вступай».
Внесу пай и тогда её увижу.
План города. Да!
ОграДа!
«СвобоДа»!
Девушка опрашивает прохожих. Обойду, не хочу ни на что отвечать. Добрый день. Добрый. Можно задать вам несколько вопросов? Я спешу. Это не займёт много времени. Хорошо. Скажите, вы интересуетесь современной литературой? Почти нет. Но современных авторов читаете? Иногда случается. Кого например? Знакомы ли вам имена… По телевизору показывают моё награждение литературной премией. Во вспышках фотоаппаратов благодарю за оказанную честь. Держусь спокойно. Чуть взволнован. Она кричит родителям: «Его недавно опрашивала. Сказал, что мало интересуется современной литературой, а оказался писателем. О нём же его же спросила, а он говорит, что не очень нравится этот писатель. Это он о себе говорил, понимаете?» Если не успела забыть, значит скоро получу премию. Однако, свободной фантазией представленное будущее по сценарию никогда не развивается. Но будущее можно реставрировать мыслью по прошлым моделям. Примерно такой человек не сможет сам поступить на эту работу. А примерно такой получит. Не потому что не подойдёт, а потому что примерно такие люди такой работой не занимаются. В словах проступают черты судьбы, в которую больше не верю, чем верю.
Но верю слову Пастернака не предсказывать свою судьбу в своих произведениях (но гложет страх случайного совпадения). Всегда оставляю, созданный страхом, непроходимый провал между собой и героем. Впрочем, и рассказ требует: мне не воплотиться в одном персонаже, кроме того, списывая с себя, записываю лишние подробности, а выплавляя героя из жизни, фантазии и себя, точнее создаю человека.
Скучные мысли. Важно только наблюдение: творчество не погибло во мне, – в безделье оно возрождается.
Скучно. Не важно, что скучные мысли, важно, что мыслю скучным языком. Составляю не чёткие и сухие, а аморфные предложения. Подслушивал за собой, но не услышал столкновений слов, чётких определений, красочных описаний, стройных мыслей. Появляются беспорядочные громадные предложения. Взорванная гора, вместо чёткого конуса вулкана, где каждый камень поддерживает и поддерживается другими. Исчез ритм предложения, ритм абзаца, ритм текста, сохранилось лишь созвучие звуков; шипят, рычат, жужжат в полёте возле уха стрелы предложений.
Где же прекрасные формы? Первым предложением ввожу читателя в сферу мысли. Большими описываю. Хотя бесконечное суетливое движение изменчивой жизни меняет устоявшиеся приёмы письма, и я составляю ряды коротких фраз, чтобы соответствовать ритмом текста ритму событий. Вставляю короткие предложения, чтобы выделить образ, деталь. Напротив, пишу длинными предложениями, умиротворяя читателя или неторопливо описывая. Являюсь ли сторонником диалектики? Нет. Но рушить свои же стройные построения, упорствовать и почти опровергать, всё же не переходя в пределы новой структуры, является необходимостью.
Кто так бешено орёт? За мной бредёт грязная свора ребят, они ненормально молча и равнодушно рассматривают улицу.
Два милиционера в фуражках с красными околышами и чёрных куртках стоят лицом ко мне; между столбов раскачивается в ошейнике воротника худой подросток. Он дёргает руками, рвётся вперёд, плачет и орёт, сильно, истеричным срывающимся голосом: – Что вам надо, гады? Что вам сделал?
Наверно поймали с наркотиками. Здесь скрыто торгуют таблетками.
Ненавидящий встречный взгляд? Что же вам надо? В чём не прав? Что должен сделать, чтоб на меня не смотрели? Ведь он совсем не знает, что я за человек, я никак его не обидел. Так почему так яростно смотрит на меня?!
Вполне милая пара. Оба средних лет. Высокие худые. У него короткие чёрные волосы, у неё длинные жёлтые. Он в чёрном длинном до пят плаще. Она в красном. Палочками кушают мороженое из белых стаканчиков. Она опускает руку вдоль тела, и случайно на асфальт вываливается пустой стаканчик. Она быстро взглядывает по сторонам, улыбается спутнику. Он улыбается ей, отбрасывает стаканчик, из которого вытекает молочная лужица, наклоняет голову, они целуются, взглянув на меня, она негромко смеётся.
Двое встречных сцепились взглядами, проходят, поворачивая назад головы.
Он как-то восторженно, за себя приниженно взглянул на неё. Проходя мимо, она презрительно ему улыбнулась, оглядела, двинув снизу-вверх головой, от ботинок до макушки, и отвела взгляд. Она подошла и плюнула ему в глаза, она засмеялась и показала на него пальцем, и все кругом засмеялись.
Испитая до худобы женщина с коричневым лицом под вулканом жёлтой шапки. Голубая куртка до пояса с пятнами грязи на локтях, до пят коричневая прямая юбка в мелких оранжевых цветочках. Перед ней стоит Он, в плаще горчичного цвета, синей шерстяной водолазке, вылезшей по горлу из-под распластанных по груди лап воротника, в исполосованных складками тёмно-коричневых брюках, спущенных гармошкой на разбухшие, разваренные чёрные ботинки. Чёрные всклокоченные волосы на голове. Она (жена?) матерно закричала, ударила по лицу наотмашь красной тряпичной сумкой, в которой что-то болталось на дне. Она била его по левой руке, которой Он будто прикрывал лицо от солнца. Она, заметив, что Он прикрывается, ударила его левой ногой, потом ещё и ещё. Но ярость, ярость с которой Она била. Тупая ярость ударов. Я хочу ей также безумно, яростно ответить. Подбежать, заорать в лицо, ударить, повалить на асфальт, бить ногами по лицу, по животу, топтать грудь, испугать её болью и страхом, раздавить человека в извивающегося червяка.
Отчего-то выдумал к ней мужа. В центре Москвы, где кругом милиция, такое почти невозможно. Всё это скрыто. Но и на людной улице, почти везде я чувствую полуфизическую агрессию.
Меня никто не трогает.
Но я её ощущаю!
Неожиданно пустынная улица. Брожу по сонному уездному городку. Сознание настолько засорено образами искусства, что при виде старинных домов возникает провинциальный город, с мыслями о провинциальном городе прорастают семена впечатлений, удобренные искусством прошлого века. Вот отчего город уездный, хоть десятки лет в стране районное деление. Догадка подтверждается тем, что вслед за словом, в голове прокатывается вал из картин художников, фраз поэтов, образов рассказов. Изучать укрытый мир души необходимо. Если я аппарат творчества, то необходимо изучать таинственные шестерни, что осуществляют полускрытую, иногда невидимую работу. Только невидимой работой смогу объяснить появление эпитета уездный или создание первого рассказа. Рассказали об изнасиловании. Рассказ был прост и ясен, события настолько мерзки, что поражённый, я на несколько минут потерял своё сознание. Я переживал ужас, и, не желая того, оживлял слова. Прошли минуты, я вернулся в общий разговор. Через двадцать минут был дома, через сорок за столом. Во многие из этих минут рождались мысли о девушке, о том как её насиловали, о жизни в городе, вспоминались страшные слова, ёмко отразившие жизнь. Затем, в несколько часов я написал рассказ. Долгая работа сознания прошла почти незаметно. Показалось, что её вовсе не было; кто-то надиктовал мне текст, или я вспомнил его.
Но работа была! Она прошла в полутьме сознания, выдавая себя в эти сорок минут в пути обрывками чувств и мыслей. Во-вторых, она шла, когда я погрузился в работу, растворился в рассказе, забыв о наблюдении за собой. Ведь именно когда забываешь о себе, мысль работает лучше, чем когда помнишь. Полностью забывая о себе, разрешаю сложнейшие проблемы, но распадаясь на две задачи, обе решаю медленно. Видя синий учебник с надписью «Математика» и решая задачу, я вывожу решение медленнее, чем ничего не замечая кроме задачи.
Творчество было моим, ибо нос у девушки оказался громадным, как у армянки, которая накануне так долго торговалась. Старуха в рассказе противная, говорит заикаясь, ибо Наташа рассказывала о споре с соседкой по даче, а маленькая и злая, потому что не сдал зачёт по философии Хохряковой, а погода зимняя от того, что поздней весной скучал о морозных ясных днях.
Так бы стихийно написать рассказ, как стихийно вьются мысли. Но они легко сплетаются, потому что всегда размышляю о творчестве. Сейчас налево. Не узнаю улицу. Где очутился?
Низкая сплошная стена, как ограда фруктового сада, с овальной арочкой входа. В тёмный двор распахнута калитка. Растекается нефтяной каплей покрытый тенью двор. Над ним три жёлтые стены колодца с прямоугольными вытянутыми окнами. Стены залиты тёмной тенью и лишь высоко-высоко под голубым небом дом обмотан шафрановым шарфом света. Я слышу за спиной шаги и говор проходящих мимо, увлечённых собой, людей, а через арку, между двух слепых окон с бельмами штор, вижу белое испуганное лицо. Двое в чёрных куртках закрывают от меня спинами человека, но я вижу, как белый огонёк лица вспыхнул радостью, засветился мне.
Потянулась освещённая солнцем стена, стеклянная витрина, между манекенами мужчин и женщин замороженная испугом морда.
Я вспотел.
Я смотрю то на рассеянное по витрине испуганное лицо, то навстречу встречным похожим прохожим. Грудь дрожит страхом и быстрыми шагами. Мелькнуло, заслонив жизнь, испуганное, но сменившееся радостью белое лицо. Свинья! Трус! Мог бы просто крикнуть, позвать топотавших за спиной, трусливая свинья!
Вернуться и помочь. Нет, нет, нет, нет, я не могу, то есть я не смогу. Это не возможно! Грудь затопил страх, грудь задрожала, как дрожит мотор, чтоб взорваться.
Как же, взорвётся!
Я подлец. Но я не могу вернуться. Да, убегаю от распятого на стене, убегаю от тёмного колодца, отгороженного стенкой двора. Но с распахнутой решёткой!
Как мерзко бежал. Снова вспомнил. Всё позади, а в грудь стучится дрожь. Я уже боюсь людей кругом меня. Ну, кто на меня бросится? Люди, кто бросится на меня? Может быть ты, с рыжими усами? Или вы, компания друзей с единым взглядом исподлобья? Я больше не стану убегать! Или вы господин милиционер? Охрана порядка?! Зачем же властный взгляд? Вы охотники я зверь? Попрошу мне не тыкать! Водитель, отчего нельзя ответить спокойно, когда Вас спрашивают о маршруте? Зачем толкать меня в спину? Ведь я Вам ничего не сделал, отчего вы меня ненавидите? Вы думаете, я сумасшедший? Не надо меня трогать. Я прошу Вас не трогать меня руками. Пожалуйста, Вы не могли бы не касаться меня руками? Руки прочь! Прочь руки!! Я Гамлет! Я живой! Это вы безумцы, так мелко и мерзко живёте! Я здоров болезнью, а вы при смерти в мёртвом спокойствии. Моя болезнь от слова боль, а ваша смертельна – тупость. Боже, как же ненавижу всё, всё-всё вокруг себя и устройство мира на обмане! Вспомнил Бога оттого, что вера глубже, чем я? Или это присказка, привычное сочетание слов? Оставьте, оставьте меня. Зачем вы меня мучаете? Эта крохотная сценка молекула воздуха, которым мы дышим.
Идти, идти вперёд, из толпы. Выйти в город, где встречный прохожий событие, как на пустой деревенской дороге, когда не знаком с человеком, но не можешь не поздороваться.
Страшно, я уже почти кричал. До безумства оставалась крошечная ступенька. Я уже кричал, жил там. Страшно, что безумие так близко. Лишь привычка подсматривать за собой со стороны сдержала крик: ощутил свои мысли, и потому отвлёкся от страшного нового мира. Такая тонкая, дряблая стенка разделяет здоровых и больных.
Успокоиться, ввести в душу успокоительное пейзажей. Не думать о предательстве человека за решёткой калитки.
Вернулась прежняя мысль. Из воспоминания не вырастет мания. Родилось противоядие раздражения.
Человек в моём предложении отбывает заключение. Может быть так и есть? Он живёт в этом дворе, двое его знакомые, случившееся сегодня повторялось раньше, повторится в будущем, пока не истечёт срок его заключения в колодце двора, или пока не сменят соседей по камерам. Стараюсь додумать быстрее эту мысль, сдерживая сияющую сквозь неё новую. Человек в заключении моего предложения. Буквы чёткой печати припечатали его к бумаге. Крохотный человечек в мятом сером пиджаке и серых брюках, торчащими в стороны как соломинки жёлтыми волосами, бегает в прямоугольнике предложения, стучится в стены. Пошлое приятное автору сравнение – человек в заключении предложения, пока читатель его не выпустит. В красивой тунике привычное тело обыденного знания о заключении описываемого в предложении. Или я не додумал мысль до её возможного развития.
Записать в записной блокнот: старушка с голубыми волосами, чубом взбитыми над набухшими морщинами, пройдя мимо меня, оглянулась через коричневое от плаща плечо.
Слева залито солнцем голубое здание острых геометрических черт. Углы, прямоугольники, квадраты, прямые линии. Характерные черты Белого Петербурга. Группками у дома стоят студенты. Собрались в кружки, словно греются у костров. Кружками греются у лагерных костров. В кружке поднимают кружки. Заметить, как особенно свободно, привычно стоят, никого не замечают. Почёсываются, смеются, подносят в рогатках пальцев сигареты ко рту, всасывают вваливающиеся щёки, выдыхают за плечи белый дым, кто-то, запрокинув голову, пьёт из тёмно-зелёной бутылки, жмурясь солнцу. Может, греются на весеннем солнце в перерыве, может, собираются отметить досрочно сваленный экзамен. Я даже замедлил шаги, неспешно шагаю, шурша подошвами по шершавому асфальту, почти не проходя, как старик, что шамкает ртом, почти ничего не прожёвывая.
Накануне готовился к экзамену и не был готов. Надоело скучное однообразие предмета. Ходил по комнате и вдруг, через окно заметил сценку на оранжевой арене под фонарём. Записал её. Не сдержал желания и записал на бумагу зимний вечер. Вспомнил собравшиеся за дни безделья мысли. Просмотрел, переправил как всегда раздражающе небрежно набросанный на листках рассказ. Заставил себя снова готовиться к экзамену. Но не готовился, а представлял, как будем шептаться в кабинете, как буду поворачивать голову за плечо и бормотать вопрос, как угадаю по гримасе лектора, что был не прав, и стану оговариваться, выдавая незнание за чьё-то неправильное мнение. Снова подходил к столу, чтобы записать нечаянно всплывшие мысли, наконец, само счастье лёгкой, неожиданной работы в день, украденный экзаменом.
Размышляю надо всем, кроме рассказа.
Улица прямая …как, как линейка. Ходят чёрточки людей, исчисляемые цифрами. Атомный, кварковый фрагмент жизни планеты. Но и его не вижу целиком, он распадается на мельчайшие детали, как человек распадается на бесконечность элементов. Вот она, недурная бесконечность в жизни. Если видимо есть бесконечность в жизни, возможна и моя бесконечность.
От горячей работы мысли теплеет тело, выступает пот, разрежается в голове пар фантазии. Иванушка моей мысли провалился в яму. Ведь Иван оформление мысли народа.
Признаки усталости. Когда невозможно взрастить мыслью на поле сознания культурное растение, пусть растут дурные травы дикой фантазии. Наконец, почва истощится, будет лежать под паром, тогда снова заставлю себя взращивать зёрна.
Глава вторая
Широкий мост через узкую Яузу в каменных берегах. Камень спускается к воде, стена книзу утолщается под желание съехать, шурша телом, и плюхнуться, булькнув, в воду.
Слева, на берегу, над скатом ржавой крыши многоугольник синей церкви; в глубине толстой стены окно, зарешёченное мелкой решёткой. Покатая, почти плоская крыша поймана сетью белых клеток. На макушке синяя башенка, а сверху высоким шлемом на узком лице золотая тиара купола. Правее, над блестящей на солнце крышей белого железа распустились пушистыми одуванчиками пышные кроны безлистых тополей. Рядом с церковью, через пролёт пустоты, на бледно-голубом фоне глухой стены синяя колокольня. Развёрнутая углом на меня, она вырастает восьмигранным столбом из-за ржавого ската крыши, выше поднимается четырёхугольный ярус, опоясанный тонкими белыми ремнями. Еще выше, в арке с просветом неба повешен звонкий труп времени. Из круглой крыши торчит золотой шпиль. Поймал глазами отраженный золотом солнечный свет, который сбросил мои глаза в реку.
По ступеням быстро погружается в глубокую тропу между каменным парапетом и домом мужчина в чёрном пальто и чёрной шляпе. Следить за тем как смотрит взгляд. Из траншеи видна голова в шляпе, она движется мимо окон с белыми занавесями, обитой белым металлом двери, выше «Металлоремонт», два окна, долгий дом, дверь между двумя окнами. Человек в чёрном, медленно вырастая, идёт вдоль светло-жёлтой стены с двумя волнистыми рядами окон. Светит солнце. Он медленно переходит в лето, в прошлый век, учитель в губернском городе возвращается жарким днём с занятий. На пыльной улочке редкие прохожие здороваются с ним, в ответ он приподнимает шляпу.
Провал в фасадах: холм с белой башней дома штурмуют деревья. Где же проводник взгляда? Уже не важен. Перемена захватила внимание. Скучный дом. Сквозь нити ветвей деревьев узкая высокая стена прострочена стежками окон. Река поворачивает вправо. Над рекой навис пешеходный мост. Горбатый покрыт стальным чехлом, на туманном металле дрожат ослепительные белые пятна. В воде знобит утонувшее отражение моста. Дальше по той стороне тянутся низкие дома, выгибаясь вместе с набережной. Но здесь уже не проедет телега с дровами, нахохлившимся кучером, бодро ступающей лошадью. За прибрежными домами высятся две башни, два ледяных сталагмита поднимаются в небо, на плоских крышах рядом самоубийц построились латинские буквы рекламы.
Передо мной застыло на морозе воздуха озеро асфальта, насквозь промёрзшее до дна земли. Мимо меня застыла скованная вечной зимой река асфальта, по шершавому льду проносятся машины. Справа, наискосок от столба меня, через дорогу строй тёмно-зелёных елей. Ветви над землёй самые широкие, к верхушке сужаются, деревья похожи на баб в тёмно-зеленых сарафанах. За елями дом песочного цвета.
Предательское определение. Мне виден в слове цвет, но читателю видны оттенки жёлтого и даже красный. Стены светло—жёлтые, но светлее чем дома вдоль набережной. Стена поднимается высокой ступенью, дальше от меня вырастает из дома широкое здание всё в рядах окон, на нём стоит такой же прямоугольник, затем ещё один, меньше, а венчает всё острый шатёр. В архитектуре, кажется, особенно сильны традиции, а нечто кажущееся новым, лишь изменённое повторением прошлое.
Все годы заполняю привычную форму рассказа, а мечтаю заполнить столь же традиционную форму романа.
Солнце нагрело густые пары отработанного масла, горячего бензина.
Передо мной, через автомобильную площадь, в жидком воздухе плавится узкий холм, подмытый ручьями машин. Холм, медленно расширяясь латинской V, уползает от меня хвостом дракона. На кончике хвоста отдыхают на подъёме голодные и тощие деревья. За дрожащим стеклом воздуха, в тумане прозрачных крон, на белом камне стоит чугунный человек.
Всё блестело у его ног, под голубым куполом неба, и он смотрел, прикрыв козырьком ладони сияющее лицо, и щурясь от ласкающего его взор небесного светила, как она, приподняв край розового платья, садилась в предусмотрительно поданный Квакшиным экипаж. Она обернулась, взмахнула воздушной рукой и тень пробежала… Тургенев.
Он смотрел на бегущих людей, на проносившихся мимо лошадей под всадниками, на длинный обоз и там и сям мелькавшие в нём чёрные офицерские кибитки, и думал о том, что не только весь этот полный событий, такой радостный и тяжёлый день, не только все эти люди, но и вообще все люди на Земле, которых он видел в своей жизни, и все события его жизни произошли для того лишь, чтобы он был здесь, видел всё это, и перед ним открывалось нечто неизмеримо большее, чем всё, о чём он когда-либо думал, и новая мысль эта, наполняла его огромной, необычайной радостью, ему открывалось, что…
Хватит! Задуматься о дороге. Осторожно перейти дорогу.
Я иду по солнечному тротуару у подножия вала, поросшего кустами, по гребню деревьями. На другой стороне, в тени двухэтажный дом. Крыша из скреплённых по швам листов, словно выложена из прямоугольных щитов. Над черепахой стволы и кроны деревьев, бежевый кирпичный дом: длинный обломок крепостной стены; стена густо покрыта окнами, как песчаный обрыв ласточкиными гнёздами, кормушками для птиц висят балконы. На крыше два креста антенн.
Внешне люди как звери, а люди лишь потому, что есть над нами Бог. Пригодится неуверенному атеисту.
Между домами узкая улочка вверх, заросшая деревьями, затопленная тенью. Крутой улочкой поднялся бы к белым стенам монастырской ограды, к закрытым воротам: толстой решётке с квадратными отверстиями. За решёткой выложенный камнем бугристый двор. На камнях чисто выбеленная церковь, – взбитыми сливками пышная горка полукруглых закомаров, украшением маслёнок на белой ножке – золотой котелок купола на тонком основании. По зыби каменного озера идёт, внимательно вглядываясь, монах в рясе.
За алтарной апсидой крутой обрыв склона, поросший прошлогодней травой, деревья поднялись к моим ногам густыми корешками крон, соседний дом равняется с моими ботинками чёрной крышей с крестами антенн.
Машины, шумно визжа, по одной проносятся вниз. Шум шуршащих шин стихает, слышно, как резко стучатся в тротуар каблуки. Под тёплым встречным ветром шуршит и шелестит целлофановый мешок. Глуша собственный звук, бухает что-то тяжёлое. Огромный чугунный шар, подвешенный на цепи к крану, снова и снова врезается в стену старинного дома. Застилает дом густой туман пыли, слышно как сыпется кирпич и штукатурка. Гулко обрушивается балка.
За копьями чугунной ограды жёлтый как желток двухэтажный дом начала девятнадцатого века. Посредине зелёный купол, ниже белые колонны в архипелагах серых известковых пятен несут треугольную крышу выступающего подъезда. К колоннам ведёт широкая мышиного цвета лестница. В стороны от центрального подъезда к флигелям тянутся двухэтажные стены с высокими окнами. Белыми рамами окна рассечены на шесть квадратов, изнутри свисают с боков белые занавеси, словно разобраны на пробор и крылами укрыли лоб волосы. В каждом флигеле три колонны влипли в стены, разделяют окна и поддерживают жёлтые, как в центральном подъезде треугольники крыш. Дом хочет обнять меня выступающими флигелями.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/aleksey-eremin/rasskaz-11829388/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
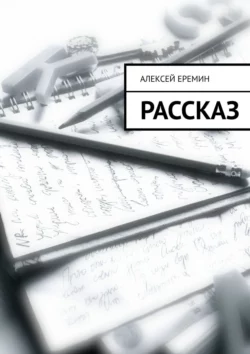
Алексей Еремин
Тип: электронная книга
Жанр: Развлечения
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 24.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Художественное исследование процесса творчества. Описание создания рассказа писателем от рождения замысла и бесконечных неудач до завершения работы.