О чем молчат старинные книги: Путешествие сквозь века в мире рукоделия
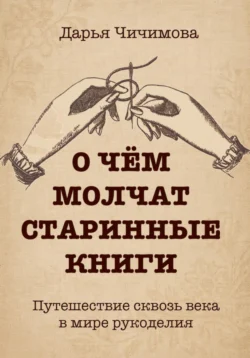
Чичимова Дарья
Тип: электронная книга
Жанр: Хобби, увлечения
Язык: на русском языке
Стоимость: 690.00 ₽
Статус: В продаже
Издательство: Автор
Дата публикации: 01.05.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Загадочный мир антикварных изданий открывается перед рукодельницей – автором блога "Уникальная мастерская Chichimova". Её страсть к ремеслу перерастает в увлекательное путешествие сквозь века, где старинные книги хранят секреты мастеров прошлого.