Рильке жив. Воспоминания. Книга 2
Рильке жив. Воспоминания. Книга 2
Морис Бетц
Имя Мориса Бетца (1898–1946), блестящего французского писателя и переводчика, неразрывно связано с творчеством Райнера Мария Рильке, одного из величайших лириков XX века. В своей книге «Живой Рильке», написанной под впечатлением от незабываемых встреч с поэтом весной и летом 1925 года, Бетц воскрешает в памяти множество мест, событий и людей, связанных с Рильке: Толстого и Горького, Поля Валери и Родена; Париж, Ясную Поляну, Мюзот… Настоящая публикация включает избранные главы из этой книги.
Рильке жив
Воспоминания. Книга 2
Морис Бетц
Переводчик Владислав Васильевич Цылёв
Составитель Владислав Васильевич Цылёв
© Морис Бетц, 2025
© Владислав Васильевич Цылёв, перевод, 2025
© Владислав Васильевич Цылёв, составитель, 2025
ISBN 978-5-0065-7699-5 (т. 2)
ISBN 978-5-0065-4806-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От составителя и переводчика
Второй том «Рильке жив» продолжает публикацию избранных глав из книги французского писателя и переводчика Мориса Бетца «Rilke vivant», которая увидела свет весной 1937 года в парижском издательстве Emile-Paul Fr?res.
Все тексты представлены в моём переводе, включая фрагменты писем, которые переведены с немецкого языка. Примечания Мориса Бетца сохранены с указанием его имени.
Дополнительные примечания, которые я посчитал нужным включить в книгу, помечены как «Прим. редактора».
В качестве иллюстраций использованы фотографии начала XX века, которые являются общественным достоянием.
Особое внимание хотелось бы обратить на то, что в отличие от оригинального издания, которое представляет собой цельный том, предлагаемое издание разделено на две книги.
Вторая книга содержит дополнительный раздел «Ex voto Орфею». Он включает несколько моих переводов из «Сонетов к Орфею», которые дают представление о том духовном подъёме, который пережил «поздний» Рильке во время своего «затворничества» в башне Мюзот[1 - Здесь и далее название Мюзот не склоняется. – Прим. редактора].
Владислав Цылёв
*
Содержание первой книги
Открытие Парижа
Письма из Мюзот
Первая встреча
Полдень на окраине Люксембургского сада
О «Записках Мальте Лауридс Бригге» (I)
О «Записках Мальте Лауридс Бригге» (II)
Направлялся к принцессе – попал в балаган
РИЛЬКЕ ЖИВ
Книга вторая
Толстой и Россия
Встреча с Жюли Сазоновой и ее труппой артистов была не единственной возможностью для Рильке воскресить свои русские воспоминания во время пребывания в Париже. Эти воспоминания были настолько живы в нем, что в то время он подумывал написать отчет о своих путешествиях по России. Подобно тому, как после войны его неудержимо тянуло в Париж, пока это желание не исполнилось, так и теперь его одолевало стремление возродить «русское чудо» своей молодости, заново пережив впечатления от далеких путешествий 1899 и 1900 годов.
Как выглядели бы воспоминания о России, если бы у Рильке было время их «раскопать»? Примерное представление об этом дают, пожалуй, отрывки в «Записках»[2 - Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 221; Пасхальное письмо: Рим 1904. – Прим. Мориса Бетца] о Николае Кузьмиче и о смерти Гриши Отрепьева, и письмо о праздновании Пасхи в Москве. Первое из этих впечатлений – воспоминание о соседе по гостинице в Петербурге, которое также упоминается в «Новых стихотворениях»; второе было навеяно читательским восторгом юности и сложилось во время долгих часов, проведенных Рильке в Российской национальной библиотеке, где он «поглощал» в первую очередь русских историков и писателей-искусствоведов, в том числе Карамзина, Соловьева и некоторых других авторов, а также книгу о русском романе, написанную французским послом и академиком виконтом де Вогюэ.
Со времени своего путешествия Рильке проникся особой любовью к России, которую поддерживал чтением и перепиской. Его верная дружба с Лу Андреас-Саломе, от которой он не отрекся даже тогда, когда уже много лет не встречался с этой проницательной спутницей своей молодости, была основана на их общих русских воспоминаниях и на той причастности, которую эта близкая ему женщина принимала в его славянском опыте. Хотя у него было мало возможностей говорить по-русски, а позже он познакомился с некоторыми славянскими поэтами только в немецких или французских переводах, он все еще свободно читал по-русски; известно, что после своего путешествия он переводил один из романов Достоевского, рассказы и пьесы Чехова, а также стихи Дрожжина. На Капри Рильке познакомился с Максимом Горьким, который жил там в изгнании. Несмотря на то недоверие, которое он изначально испытывал к революционеру, «прославившемуся как анархист, но с удовольствием швырявшему в народ вместо бомб деньги, – кучу денег!»[3 - Рильке: «Письма 1906—1907 годо"в, стр. 127. – Прим. Мориса Бетца] – он отзывался о нем с пониманием. Он не ставил его в один ряд с Гоголем, Толстым и Достоевским, обвинял его в том, что тот судит об искусстве, скорее, не как художник, а как революционер, но в конце концов проникся симпатией к этому испытанному ветрами, глубоко укоренившемуся в русской земле человеку и к его улыбке, «которая проступает сквозь всю печаль его лица с такой глубокой уверенностью»[4 - Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 251. – Прим. Мориса Бетца].
В течение нескольких месяцев своего пребывания в Париже Рильке находил огромное удовольствие в чтении романа «Господа Головлевы»[5 - Салтыков-Щедрин: Les Messieurs Golovleff, – роман, перевод с русского Марины Полонской и Г. Дебессе, с предисловием Эдмона Жалу, Париж 1922. – Прим. Мориса Бетца], французский перевод которого я ему одолжил. Он также прочитал несколько произведений Ивана Бунина, с которым был знаком. Его восхищение деревянными куклами госпожи Жюли Сазоновой было вызвано не в последнюю очередь русскими куклами – кучерами, закутанными в меха, крестьянками в кокошниках, морщинистыми, изможденными мужиками, – которых создала госпожа Гончарова.
К воспоминаниям, которые Рильке сохранил о России, напрашиваются – по крайней мере, с негативным оттенком – два замечания.
Как и многие путешественники, приезжающие из западных стран, Рильке познакомился с Россией в весенне-летний период. Даже образы, которые он создавал, никогда не содержали воспоминаний о снеге, поездках на санях или сильных морозах; в основном они вызывали впечатление изобилия, плодородия и бескрайних просторов. Почти все зимние образы, встречающиеся в «Записках», относятся к воспоминаниям о Швеции или Богемии. То, что Рильке сохранил от России, это магию, исходящую от бескрайних степей, странную безликость земли без границ и то ощущение необъятной души человека, которое заставляло трепетать его славянское сердце.
Вторая особенность русского опыта Рильке заключается в том, что социальные проблемы и классовые противоречия, похоже, не привлекли его внимания. Он, который в Париже содрогался от вида человеческих страданий и вглядывался в них с почти болезненной остротой, в России не испытал ничего подобного – или, по крайней мере, эти впечатления были вытеснены другими, более сильными. Он также не проявлял особого интереса к тем русским, которые были втянуты в авантюру революционного движения. В одном из его писем, относящемся ко времени встречи с Горьким, есть любопытный отрывок, который отчасти объясняет эту отстраненность:
Вы знаете, – писал он Карлу фон дер Хейдту, – мое мнение заключается в том, что революционер прямо противоположен духу русского человека: иначе говоря, русский человек прекрасно подходит для того, чтобы быть им, подобно тому как батистовый платок очень хорош для промокания чернил, что, конечно. возможно, но только при полнейшем произволе и беспощадном попрании подлинно русских качеств.[6 - Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 253—254. – Прим. Мориса Бетца]
Напротив, Рильке, который во многих отношениях чувствовал себя бездомным в этом мире, могли привлекать только круги белых русских, обитавших в Париже, чье роковое, лишенное иллюзий цыганское существование вызывало у него смесь из любящего и сострадательного любопытства. Притяжение, которое теперь оказывала на него Россия, было связано с мыслью о глубоком, окончательном погребении страны, которую он знал. Россия по-прежнему оставалась его родиной, но только в царстве воспоминаний, сокровенная почва которых навсегда превратилась в недостижимую.
Среди рассказов о русском путешествии, которые я слышал от Рильке, есть один, удивительным образом передающий то впечатление от бескрайних просторов русской равнины, которое он любил вспоминать: Рильке и Лу Андреас-Саломе сошли в сумерках на какой-то маленькой провинциальной станции, откуда карета должна была отвезти их в соседнее имение. Стояла прекрасная летняя ночь, и, пока лошади шли рысцой, Рильке и его спутница любовались то усыпанным звездами небом, то бескрайней равниной, по которой они проплывали, с ее колышущимися травами и исчезающими вдали очертаниями. Вдруг их обоих удивил далекий свет, который, как утверждал кучер, исходил с той стороны, где на несколько сотен верст не было никаких поселений. Лошади продолжали двигаться рысью, но этот странный свет не приближался и не удалялся. Его присутствие нельзя было объяснить, но в конце концов оно было таким же естественным в гулкой летней ночи, как и мерцание многих тысяч звезд на небе. Только несколько дней спустя Рильке и его спутница нашли очень простое объяснение этому явлению: в нескольких сотнях верст от них вспыхнул пожар. Несмотря на огромное расстояние до него, именно зарево пожара они увидели той ночью.
Но главным впечатлением, к которому он всегда возвращался, вспоминая о России, был визит к Толстому в Ясную Поляну. Я сам слышал, как он дважды описывал эту встречу, и каждый раз в его рассказе появлялись новые подробности.
Рильке уже встречался с Толстым годом ранее в Петербурге. Но только после первой поездки он достаточно освоил русский язык, чтобы читать Толстого в оригинале. Даже уезжая из Москвы в 1900 году на юг страны, он страстно желал вновь увидеть великого писателя и тешил себя надеждой застать его в яснополянском имении, в котором Толстой продолжал жить, хотя и передал его вместе со всеми остальными своими владениями жене и сыновьям. Как будто только в этом месте облик Толстого должен был обрести самые убедительные и подлинные черты: именно здесь – в самом сердце русской весны, среди берез и бобовых кустов яснополянского парка – Рильке получил самое сильное и трогательное впечатление о великом художнике.
Рильке и Лу Андреас-Саломе прибыли в Ясную Поляну майским утром. По дороге они случайно узнали, что граф находится дома. Доехав на карете до ближайшей деревни, они предстали перед въездом в поместье как простые паломники, подобно многочисленным посетителям автора «Войны и мира».
Эти два визитера явились явно не вовремя. В тот момент Толстой испытывал один из тех всё более частых приступов отчаяния, когда контраст между смирением и отречением, о которых он так мечтал, с одной стороны, и мощными вспышками гордыни и чувственности, всё ещё бушевавшими в семидесятилетнем старике, с другой стороны, делал его агрессивным, жестоким, почти недоступным. Он принял гостей очень сухо и, казалось, даже не узнал Лу Андреас-Саломе; затем он оставил их в прихожей дома дожидаться своей дальнейшей участи. Старший сын графа на некоторое время составил компанию гостям, которые в душе надеялись на совсем иной прием.
Однако в тех немногих словах, которыми Толстой обмолвился перед уходом, они расслышали туманное обещание встретиться с ними позже в течение дня. Не теряя надежды, они отправились гулять в парк и вернулись в дом около полудня. Едва они вошли в прихожую, ожидая приглашения на обед, что было почти само собой разумеющимся в такой уединенной местности, как вдруг из-за стеклянной двери донесся шум бурного спора. Еще один шаг – и они оказались в центре домашней драмы: это графиня Толстая устраивала сцену своему мужу.
Мы подождали несколько минут, прислушиваясь к шуму, и, окончательно разочаровавшись, решили уйти, как вдруг дверь открылась и вошла графиня. Сначала она, казалось, была обескуражена нашим появлением, но потом строго посмотрела на нас и спросила, чего мы хотим. Это была все еще красивая женщина с большими черными глазами; в ее резком голосе слышался едва ли не мужской акцент. «Мы ждем графа», – сказал я. «Мой муж болен и не сможет вас увидеть», – ответила она, обернувшись с некоторой суровостью. К счастью, у Лу Андреас-Саломе нашлось достаточно смелости объяснить, что мы уже видели Толстого; графиня, возможно, пожалев о своем слишком грубом ответе, пробормотала несколько слов извинения. Чтобы сохранить самообладание, она порылась среди книг на полке, а затем удалилась. – Мы снова остались одни, и где-то в дальних покоях снова завязался спор. Мы узнали голос графини, плач и рыдания которой прерывались гневным голосом графа. Захлопали двери, сцена переместилась вглубь дома, и, похоже, в суматоху включились другие люди. На несколько минут воцарилась тишина, затем дверь снова открылась, и перед нами появился Лев Толстой. Он выглядел усталым и рассерженным одновременно, его руки мелко дрожали, глаза были отсутствующими. Он не сразу узнал нас и рассеянно задал несколько вопросов, не обращая внимания на наши ответы. Затем он опять нас покинул. За стеной мы расслышали шепот, голос плачущей женщины, сотрясаемой слезами, успокаивающие слова Толстого… Затем граф появился снова. Он держал в руке посох. Его взгляд на этот раз был необычайно ясным и резко выделялся на фоне кустистых бровей. «Желаете поужинать с остальными или прогуляться со мной?» – спросил он уверенным голосом, в котором нетерпение смешивалось с иронией. – Даже если бы прием, оказанный нам графиней, прошел менее бурно, наш выбор был заранее предрешен: естественно, мы предпочли прогулку. Мы вместе покинули дом. Толстой шагал рядом с нами широким шагом, беседуя с самим собой и как бы импровизируя на ходу. Мы шли по сельской местности, среди берез и лугов, все красоты которых ему были знакомы, и где он, казалось, наконец возвратился к самому себе. Время от времени он откусывал часть стебля или срывал цветок, наслаждаясь его запахом, чтобы затем небрежно отбросить его, смотря по тому, какими движениями он подчеркивал свои слова. Мы говорили о самых разных вещах: о пейзаже, который нас окружал, о России, о смерти… Поскольку он выражал свои мысли по-русски и делал это в оживлённой манере, я не всегда мог разобрать все его слова. Но все, о чём он говорил, звучало с акцентом стихийной мощи, свидетельствовало о силе и величии. Иногда я украдкой поглядывал на его широкое лицо с выступающими скулами, на огромные уши под белыми локонами, трепещущими на ветру, на расширенные ноздри, которые втягивали весну с какой-то необыкновенной чувственностью. Он вышагивал в своей крестьянской блузе, его длинная борода развевалась, движения были размашистыми, как у пророка, а взгляд поражал своей пронзительностью и оставался ужасающе присутствующим. Вот его образ, который запечатлелся во мне, и это было нечто большее, чем его слова.
Райнер М. Рильке и Лев Толстой. Автор коллажа – Владислав Цылёв
Конечно, чтобы передать историю Рильке во всей ее полноте, пришлось бы воссоздать ритм его слов и все те акценты, что были добавлены движением, позой и тем, как он удерживал внимание на некоторых словах, паузой или взглядом. Когда я выразил свое удивление по поводу того, что он никогда не испытывал потребности зафиксировать это воспоминание, Рильке сказал мне, что он как раз думал о чём-то подобном. Забыл ли он, или это было слишком незначительно в свете того, что он собирался написать, но как-то раз он уже поведал в подробностях о своём визите к Толстому в письме к Софье Николаевне Шиль вскоре после своего отъезда из Ясной Поляны.[7 - Рильке: «Письма и дневники раннего периода (1899—1902)», стр. 37—42. – Прим. Мориса Бетца] Если сравнить это описание с тем, которое дал мне Рильке, то можно заметить странные изменения, которые претерпели некоторые образы с течением времени. Однако впечатление, которое преобладает у Рильке, осталось прежним. Время не только не ослабило, но, кажется, усилило его: Толстой мог говорить с Рильке о смерти и одиночестве, но именно воспоминания о весне, переполненные бодростью, он увез с собой из этого путешествия:
Возвращаясь в Козловку, – писал он Софье Николаевне Шиль, – нас переполняла радость и понимание Тульского края, где богатство и бедность соседствуют не как противоположности,
а как разные, очень родственные по духу слова для одной и той же жизни, которая находит своё воплощение в сотне форм, ликующая и беззаботная.
Отель «Бирон» и его обитатели
1904—1910 гг. Между этими двумя пограничными датами – с застоями и подъемами, с периодической неприязнью к Парижу и с возвращающейся любовью «к этому уникальному месту, чье необъятное и щедрое гостеприимство во все времена заменяет дом»[8 - Рильке: «Письма к Родену», Париж 1931, стр. 171. – Прим. Мориса Бетца], – и родились «Записки Мальте Лауридс[9 - Здесь и далее имя собственное Лауридс не склоняется. – Прим. редактора] Бригге». Они были начаты в мастерской в парке римской виллы «Штроль-Ферн» [Strohl-Fern]; последние главы Рильке набросал за массивным дубовым столом, который Роден одолжил ему для своего кабинета на улице Варенн [Rue de Varenne], – столом, за который он сел со словами: «Это же стол Родена; я должен добиться большего, чем когда-либо»[10 - Рильке: «Письма к Родену», cтр. 145. – Прим. Мориса Бетца]. И в апреле 1910 года, когда он отправился в Германию, он наконец смог забрать рукопись молодого датчанина, чтобы передать её своему издателю Киппенбергу.
Рильке перед входом в отель «Бирон»
Мальте Лауридс Бригге, – писал он графине Зольмс-Лаубах, – с тех пор как вы услышали о нем, уже успел превратиться в такой персонаж, который, будучи совершенно оторванным от меня, обрел самостоятельное существование и свою собственную личность, причем, чем больше Мальте отличался от меня, тем больше меня привлекал. То, что этот воображаемый молодой человек пережил внутри себя (в Париже и в оживших воспоминаниях о Париже), было слишком огромно, чего бы это ни касалось; можно было бы постоянно добавлять какие-то заметки; то, что сейчас составляет книгу, вовсе не является чем-то законченным.
Это все равно что найти в ящике беспорядочно разбросанные бумаги и, не обнаружив ничего другого, довольствоваться тем, что есть. С художественной точки зрения это никудышное единство, но с человеческой точки зрения оно возможно, и то, что возникает на его основе, – это, по крайней мере, некая версия существования и подспудная картина мечущихся сил.[11 - Рильке: «Письма 1907—1914 годов», стр. 95 — Прим. Мориса Бетца]
Давайте вообразим Рильке 1908—1911 годов в парке отеля «Бирон», куда он иногда выходил на вечернюю прогулку. Несмотря на желание «начать Париж заново», он уже не тот молодой человек с улицы Кассет или улицы Тулье, который застенчиво замыкался в своем одиночестве. Второй том «Записок» дает представление о том пространстве, которое открыли его мечтам глубины парка отеля «Бирон» – «это сказочное переплетение фруктовых деревьев, трав и цветов», «этот живой ковер», как назвала его Жюдит Кладель[12 - Жюдит Кладель: Роден, Париж 1936, стр. 260. – Прим. Мориса БетцаЖюдит Кладель (1873—1958) – французский драматург, писательница, биограф и журналист. – Прим. редактора], – а также его путешествия по Провансу и Италии. Он был избавлен от тяжелой работы и материальных забот, которые тяготили его в прежние времена, поскольку принял гостеприимство Родена в Медоне в качестве его добровольного секретаря. Теперь он мог пригласить своего великого друга в свою квартиру в отеле «Бирон». Великодушно забыв о прежних обидах мастера, он показывает Родену прекрасное жилище XVIII века и заросший парк, которые так восхитили скульптора, что вскоре он устроил там свою студию.
Рильке с теплотой отзывался об втором периоде своих отношений с Роденом, потому что эти воспоминания были ему более дороги и потому что их свободное соседство позволяло ему судить об этом художнике и человеке с большей независимостью. После двух лет, прошедших с момента старой размолвки – размолвки, вызванной незначительным недоразумением из-за письма, о содержании которого Рильке не сообщил Родену в течение двадцати четырех часов, – их первая встреча была простой и сердечной.
На почве возникшего взаимного равенства Роден доверил Рильке некоторые из своих творческих разочарований и тайных увлечений. Еще в Медоне Рильке получил исчерпывающее представление о внутренней жизни Родена. Будучи званым гостем и сотрапезником мастера, он в силу своей тонкой чувствительности очень страдал от беззаботности, с которой Роден потакал своим прихотям и позволял своему буйному темпераменту брать над собой верх, втягивая все окружение в свои волнения, приступы гнева и вспышки гениальности. Но огромное восхищение, которое Рильке испытывал к Родену в то время, стирало разлад и неловкое впечатление от этих бурь. По этому поводу Рильке рассказал анекдот, который показывает, в какой восхитительной манере он превозносил характер Родена, воспроизводя происшествия, свидетелем которых он был, только в поэтической манере, даже если они имели несколько комическую окраску:
Рильке, мадам Роза Роден и Огюст Роден
Мадам Роден испытывала страшную ревность к мужчине, который стал ее мужем лишь к концу жизни, и, по правде говоря, у нее были для этого все основания. Но предчувствия мадам Розы не всегда были подкреплены безошибочной интуицией. Однажды, когда Роден, казалось, вышел на улицу в особенно хорошем настроении, не указав цели своей прогулки, она решила, что он навещает одну из своих подруг, и решила проследить за ним. На вокзале Монпарнас мастер взял билет до Шартра; мадам Роден сделала то же самое. Когда Роден сошел с поезда, она последовала за ним, все больше убеждаясь, что скоро узнает тайну новой измены. Роден вышел из здания вокзала и зашагал по улице с видом человека, который знает, куда идет. Наконец, он остановился на открытой площадке, окруженной садами, с видом на широкую долину ла-Бос[13 - ла-Бос (фр. La Beauce) – природный регион в северо-центральной части Франции, расположенный между реками Сена и Луара. – Прим. редактора]. Когда мадам Роден подняла глаза, она все поняла: у Родена был rendez-vous с Шартрским собором!
В отеле «Бирон», где Рильке был соседом Родена в бурный период его жизни, в котором властвовала герцогиня Шуазель, дела пошли совсем плохо, но Рильке вновь обрел свободу и уже не был так тесно связан с существованием мастера. В результате он стал спокойнее судить о нем и испытывал боль, когда видел, что тот погряз в заблуждениях и нелепостях. В его глазах Роден больше не был единственным мастером, одно присутствие которого вызывало силу и уверенность; он был человеком – несомненно, гением, – который также мог ошибаться и чьи ошибки были наказанием за его властность. Когда Рильке восхищался телами женщин или танцовщицами из Камбоджи, которых с такой уверенностью зарисовывал чувственный грифель мастера, он был не менее убежден, что Роден никогда по-настоящему не понимал женской природы, которая гораздо выше и прекраснее того понятия, которое имеет о ней большинство мужчин, помышляющих только о скоротечном акте любви. Должно быть, беседы между ними выглядели весьма странно, когда Рильке рассказывал Родену о португальской монахине и Луизе Лабе, а скульптор превозносил женщину как сок своего творчества, как пьянящее вино своей жизни. Уже многому научившись у Родена, следуя его примеру, Рильке в то же время научился у него и тому, что отверг некоторые его идеи, твердо наметив, в противовес чувственности Родена, тот чистый образ «Влюбленных», который раскрывается в «Записках»…
Во время разрыва с Роденом Рильке обрёл огромное утешение в другой дружбе, которая и до этого играла важную роль в его жизни, но усилилась под впечатлением от пережитой несправедливости – в верной дружбе Эмиля Верхарна.
В то время как Роден лишь изредка, судя по всему, отказывался от роли высшего творца, «ученика Бога», и был слеп ко всему, что не касалось его самого и его искусства, Рильке всегда вызывал у Верхарна симпатию, которая распространялась и на творчество молодого поэта и которая поэтому была для него мощной опорой.
Во время пребывания в Париже он часто навещал Верхарна на его вилле в Сен-Клу, где его всегда встречали с преданной любовью. Изучение Рембрандта и чтение некоторых стихотворений Верхарна послужили одной из причин его поездки в Бельгию. С другой стороны, в «Городах-щупальцах»[14 - «Les Villes tentaculaires» – Сборник символистской поэзии Эмиля Верхарна. Общая тема сборника – современная городская жизнь и преобразование сельской местности в результате разрастания городов. – Прим. редактора] он нашел отражение того гнетущего чувства большого города, которое он сам испытал, когда приехал в Париж. Возможно, Рильке также лепил и идеализировал этого поэта в меру своей благодарности, но он всегда говорил мне о нем с такой страстной привязанностью и с таким искренним выражением, что эту дружбу, пожалуй, можно отнести к его самым счастливым и чистым переживаниям.
Среди жильцов, занимавших номера на разных этажах отеля «Бирон» и его флигелей (после принятия закона об экспроприации всем распоряжался судебный чиновник и сдавал помещения покомнатно), были актер де Макс, Жан Кокто, художник Анри Матисс, мадам Клара Вестхофф, скульптор и ученица Родена, русский Юрьевич и другие… В своих «Портретах-воспоминаниях»[15 - Книга мемуарных очерков Жана Кокто (1889—1963) – Прим. редактора] Жан Кокто хвастается, что спас сады отеля «Бирон» от раздела, подстрекая прессу против земельных агентов, таившихся в парке площадью семь гектаров в центре Парижа, и принимая в своей квартире делегацию «Поклонников Лувра»[16 - Жан Кокто жил в комнате в отеле «Бирон», из которой в парк вели пять стеклянных дверей; это был бывший класс школы «Святого Сердца» [Sacrе-Cceur], где занимались танцами и пением. – Прим. Мориса Бетца].
Если верить воспоминаниям Рильке о том времени, Жан Кокто также был одним из тех, кто – непреднамеренно, кстати, – давал поводы противникам использования бывшего дома герцогини Мэн, ведь де Макс и Кокто устраивали шумные вечеринки в парке, и гвалт компании, которую они собирали в своих холостяцких комнатах или во дворе под огромной липой, часто нарушал одинокие творческие ночи поэта. Устроив ванную комнату в ризнице бывшей часовни сестер «Святого Сердца» [Sacrе-Coeur], де Макс возмутил корыстных и бескорыстных защитников отеля «Бирон», и последовавшая за этим кампания в прессе заставила управляющего выгнать всех арендаторов.
Помимо нескольких американских и славянских писательниц и художниц, Айседора Дункан снимала для занятий со своими подопечными зал в отеле «Бирон» – в ныне снесенном павильоне, который находился в центре Двора почета. Она редко в нём появлялась, поскольку жила в Нейи[17 - Нёйи?-сюр-Сен – коммуна в департаменте О-де-Сен, на юге примыкающая к Булонскому лесу – западной окраине Парижа. – Прим. редактора] и то и дело с головой окуналась в водоворот бурных страстей и гастрольных туров. Она порхала от любовника к любовнику, купаясь в цветах мужского очарования, как пчела с прозрачными крыльями: тяжелая и полная меда вожделения, но при этом так бесплотно парящая на фоне своего голубого облачения с глубокими складками.
Айседора Дункан, гордившаяся своим материнством, в то время вознамерилась родить ребенка от величайшего из живущих поэтов, чтобы этот сын, которого она «планировала» как танцевальное турне, сочетал в себе «силу ума» с физической красотой, которую она льстила себе надеждой передать ему по наследству. Чтобы быть уверенной, что ее выбор не падет на кого-то недостойного, она посоветовалась с портным Полем Пуаре. К счастью, он не знал Рильке и назвал имя Метерлинка. Автор «Пеллеаса и Мелизанды»[18 - «Пеллеас и Мелизанда» (фр. Pellеas et Mеlisande) – символистская пьеса бельгийского драматурга и писателя Мориса Метерлинка. Произведение о запретной, обречённой любви главных героев. – Прим. редактора] смог отстоять свое семейное счастье, а Пуаре признался, что у него хватило ума не продолжать это дело. Как бы то ни было, через несколько месяцев Айседора Дункан объявила своим конфидентам: «Какой чудесный и крупный малыш», – указывая обеими руками на его исключительный размер.
В то время Рильке довольствовался тем, что издалека любовался вакханкой, которая как паяц танцевала под Шопена, и под балетные па которой музыка источала пьянящий аромат отжатого винограда. Элеонора Дюзе в своей чувствительной хрупкости привлекала его совсем по-другому. Но он не подозревал, в какое рискованное положение поставило его это соседство в отеле «Бирон».
В январе 1912 года все арендаторы, получившие уведомление о необходимости освободить здание, покинули его, за исключением Родена, который отказался съезжать и вел долгую борьбу с администрацией, пока государство в обмен на наследие его произведений не предоставило ему в пожизненное пользование старый дворец, открытием которого Роден был обязан Рильке. За несколько месяцев до этого Рильке уже покинул отель «Бирон», охваченный одним из тех внезапных порывов к странствиям, которые иногда овладевали им. В большом саду на бульваре Инвалидов он кочевал между Египтом, Испанией и Италией…. Приглашение привело его на время в Дуино, где – совершенно неожиданно – им были написаны первые элегии.
От Беттины Брентано до Элеоноры Дюзе
За то время, пока мы работали над «Записками Мальте Лауридс Бригге», наступила весна, но Рильке не смог насладиться ею так сильно, как ему хотелось бы, поскольку он заболел. Однажды утром я узнал из короткого письма, что он страдает и не может приехать. Прошла неделя, а он все не появлялся. Я поинтересовался его состоянием. Через несколько дней он написал мне:
Я давно не благодарил Вас за Ваш радушный приём, и хотя я действительно был «болен» и прикован к постели всего восемь дней, этот – по-видимому, вполне безвредный – грипп оставил меня в таком растерянном и ослабленном состоянии, что все это время было для меня временем запустения и смиренного долготерпения; я выходил на солнце (кстати, редко и весьма нетвердо), но не мог видеть никого из друзей, я не был способен даже на малейшее умственное усилие. Теперь я надеюсь, что в течение следующей недели смогу возобновить нашу совместную работу в дружеской атмосфере, и рассчитываю на то, что мы будем продвигаться вперёд широким и слаженным шагом…
Некоторое время мы уже подбирались ко второму тому «Записок» и встретили на своем пути фигуру Абелоны. Сначала мы подошли к главе, в которой рассказывается о читательской лихорадке, охватившей Мальте в то лето, которое он провел рядом с молодой девушкой; затем произошел инцидент с письмами Беттины, которые Абелона выхватила из рук молодого человека, чтобы самой прочитать их вслух, причем движением, выдававшим ее собственные чувства. Рильке спросил меня, читал ли я «Переписку Гёте с ребенком». Я ответил, что нет: все, что я знал о Беттине Брентано[19 - Беттина фон Арним (1785 -1859) – немецкая писательница, яркая представительница романтизма; сестра Клеменса Брентано и жена его друга – писателя Людвига Ахима фон Арнима – двух известных немецких поэтов-романтиков; Беттина поддерживала дружеские отношения с целым рядом знаменитых современников, встречалась с Бетховеном, возможно, именно она являлась той загадочной «бессмертной возлюбленной», которой Бетховен адресовал своё знаменитое страстное послание, найденное после смерти композитора в ящике его письменного стола. Что касается Гёте, то он был влюблен в мать Беттины задолго до того, как сама Беттина встретила великого поэта в 1807 году, личное знакомство с которым всколыхнуло ее чувство к нему и переросло в обожание. Знаменитый писатель, который был намного старше своей поклонницы, воспринимал её страстное увлечение не слишком серьёзно, и относился к Беттине как к очаровательной и иногда взбалмошной юной особе. В 1835 году, через три года после смерти своего божества, Беттина опубликовала «Переписку Гете с ребенком» («Briefwechsel Goethes mit einem Kind»), основанную на их реальных письмах, которые были творчески «доработаны» богатым воображением экзальтированной писательницы. – Прим. редактора], – это то немногое, что рассказывали учебники по истории литературы, и то, что я узнал из тех отрывков в «Записках», которые превратили юную корреспондентку Гёте в почти мифическое существо – в непонятую влюбленную, чья способность любить превзошла всё[20 - Из письма Рильке Кларе Рильке от 4 сентября 1908 г.: «Сейчас я читаю „Переписку Гёте с ребёнком“ – это [весьма] убедительное и животрепещущее свидетельство против него [Гёте], которое только подтверждает все мои подозрения. Как Вы понимаете, для этого имеются веские основания, принимая в внимание моральные устои [той эпохи], что, [разумеется,] нисколько не умаляет вселенского масштаба гётевской натуры. Мальте Лауридс Главный герой единственного романа Р. М. Рильке „Записки Мальте Лауридса Бригге“ („Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“), опубликованный в 1910 году. Написанные в форме лирического дневника – своеобразной автобиографии поэта – „Записки“ считаются едва ли не первым модернистским романом в Европе. заметил по этому поводу: „Гете и Беттина: любовь между ними растет, непреодолимая, во всей полноте своего времени и своего права – как прилив океана, как восходящий год. А он не находит единственно верного жеста, чтобы направить её за пределы себя – в ту область, к которой она была склонна. (Ибо он – суд высшей инстанции); он принимает её великодушно, но не обходится с ней подобающим образом – упрекаемый, смущённый, увлечённый сторонним любовным романом“». – Прим. и перевод редактора].
Беттина фон Арним (1785—1859), гравюра (создана до 1890 г. на основе прижизненной миниатюры неизвестного автора)
Ведь эта чудесная Беттина всеми своими письмами дарила простор, открывала свой необъятнейший облик. От начала начал она раскинулась, как после смерти. Повсюду она уходила глубоко в бытие, принадлежала ему, и то, что с ней происходило, было вечным по своей природе; там она узнавала себя и расставалась с собой едва ли не с болью; с трудом она возвращалась в себя, как из преданий, вызывала себя, словно призрак, и стойко переносила себя.
Ты только что была здесь, Беттина; я вижу тебя. Разве земля по-прежнему не хранит тепло твоего дыхания, а птицы – мелодию твоего голоса? Роса навернулась другая, но звёзды, что взошли из твоих ночей, всё так же прекрасны. Или мир не от тебя вовсе? Ведь как часто ты зажигала его своей любовью, видела, как он вспыхивает и исчезает в огне, и тайком заменяла его другим, пока мы все спали.[21 - Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 240. – Комм. Мориса Бетца]
Но теперь – какой сюрприз! – Рильке начал изображать нам Беттину, совсем непохожую на ту, с которой я познакомился в «Записках». Это была молодая, необычайно умная, легкомысленная женщина, которая сидела на коленях у господ зрелого возраста и бросалась на грудь знатным мужчинам, которая смеялась над Виландом и клялась обольстить Гёте. Абелона почти слилась с Беттиной, как об этом я прочитал в «Записках», и переняла ее черты, чтобы казаться более живой в глазах Мальте. Но затем, по замыслу Рильке, Абелона, похоже, отомстила и разрушила восхитительный образ своей предшественницы.
Будущая жена Ахима фон Арнима была всего лишь молодой, несдержанной чудачкой, в которой доля лукавства сочеталась с преувеличениями подростка. В той мере, в какой ее авантюра с Гёте сократилась до размеров весьма расчетливой идиллии, фигура Гёте выросла и стала выглядеть совершенно по-новому. Рильке признал, что, возможно, был несправедлив к великому веймарскому старику, который в своей возвышенной мудрости, несомненно, был прав, не поддавшись соблазнам взбалмошного ребенка. Он признался, что долгое время неверно оценивал Гёте, но добавил, что теперь духовно сблизился с ним настолько, что стал глубже чувствовать ценность и богатство возраста.[22 - Интересно сравнить это суждение Рильке с более ранним своим отношением к Гёте и Беттине Арним: «В данный момент я читаю <…> письма Беттины Арним, адресованные к Гёте; [при этом] я говорю исключительно о её письмах, потому что его убогие, смущённые ответы вызывают во мне глубочайшее разочарование и неприязнь. Каким несвободным, должно быть, он был как мужчина, насколько нечутким был как любовник, вынужденный держать себя в рамках приличий, чтобы отвечать на этот великолепный огонь такими жалкими и ничтожными обрывками! <…> Это же было его море: оно бушевало и билось в него, а он колебался и медлил и в, свою очередь, не изливался в него. Даже всё взвесив, он так и не распознал, что ему нечего было бояться этой любви, которая так героически вырастала над ним, и что одной только ночной улыбки было довольно, чтобы указать своей возлюбленной путь вперёд, куда она, сама того не ведая, желала попасть: за пределы себя». (Из письма от 5 сентября 1908 г. Сидони Надхерни фон Борутин) – Прим. и перевод редактора]
«Когда ты молод, ты почти ничего не понимаешь», – сказал он, возможно, думая о тех пражских временах, о которых он никогда не говорил без некоторой доли разочарования. «Жизнь – это всего лишь долгое ученичество».
Любящая всегда превосходит возлюбленного, потому что жизнь больше, чем судьба. Ее преданность желает быть беспредельной: в этом ее счастье. Но безымянное страдание ее любви всегда заключалось в следующем: от нее требовали ограничить эту преданность,[23 - Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 242. – Комм. Мориса Бетца] —
читаем мы в «Заметках». Но Гёте по-своему привел жизнь в гармонию с судьбой, и это его мудрое равновесие уже нельзя было нарушить. Беттина была лишь одной из букв в алфавите, из которого он строил свое произведение. И это произведение было великим и человечным, обладающим силой, способной противостоять [соблазнам] жизни.
Нет, Беттина больше не была в глазах Рильке образом чистейшей возлюбленной! Но другие яркие, чистые женские образы продолжали этот миф. Один из них постепенно приближался к нам сквозь дебри «Записок», образ, который знал и любил сам Рильке: это была Элеонора Дюзе.
Трудно передать ту смесь юмора и трогательности, которая часто придавала словам Рильке весьма своеобразное выражение, причем чаще всего тогда, когда он говорил о вещах, особенно близких его сердцу. Но, возможно, именно такую форму принимала его застенчивость во время наших доверительных бесед. Он начал с того, что рассказал мне несколько анекдотов о Дюзе, лишь изредка прерывая их пояснениями, как будто говорил о нежной, драгоценной птице.
Элеонора Дюзе
Душевное состояние Дюзе было настолько неустойчивым, что малейшее происшествие могло вывести ее из равновесия вплоть до ухудшения здоровья, и это держало ее спутников в постоянном нервном напряжении, которое в конечном счете доводило их до полного изнеможения. Рильке рассказал нам о случае, о котором в своих мемуарах сообщает и принцесса Турн-унд-Таксис. Речь идёт о прогулке, которая была так досадно нарушена криком павлина: в один прекрасный день Элеонора Дюзе и ее подруга, госпожа X., по приглашению Рильке отправились с ним на экскурсию на острова близ Венеции. Погода стояла великолепная, друзья расположились на траве и мирно беседовали, как вдруг их испугал резкий, пронзительный крик павлина, который приблизился к ним. Но то, что для остальных было лишь кратким испугом, для Дюзе стало шоком, ужасающим потрясением. Дрожа всеми конечностями и в то же время охваченная страшным гневом, она хотела бежать из этого проклятого места и требовала немедленного отъезда. Поездка была испорчена и прекращена. Отчаявшемуся Рильке пришлось везти домой свою слишком чувствительную подругу, которая все никак не могла оправиться от испуга.
Такие путешествия не были редкостью. В другой раз подобный приступ вызвало жужжание мухи, забившейся между белыми тюлевыми занавесками, которые перекрывали свет, проникающий в комнату Дюзе. Все отправились на поиски мухи, но она вскоре перестала жужжать и стала невидимой. Едва все успокоились и возобновили разговор, как в углу темной комнаты снова послышалось жужжание мухи. На этот раз Элеонора Дюзе, отчаявшись и близкая к обмороку, все-таки сбежала, оставив своих гостей наедине с мухой, в которой она увидела нечто вроде гигантского паука, затмившего все небо.
В подобных сценах, о которых рассказывал Рильке, комическое постоянно соприкасалось с трагическим, и Рильке так тонко смешивал эти два чувства, что трудно было решить, какое впечатление сложилось у него самого. Больше всего его восхищала в Дюзе сила поистине драматического темперамента, которая безмерно преувеличивала тончайшие движения души, словно до размеров какого-то гигантского зрительного зала. Несоразмерность этих событий и того значения, которое они приобрели в сознании Дюзе, свидетельствовала лишь о том, что она была актрисой до мозга костей, что она постоянно жила в царстве драмы и [инстинктивно] нуждалась в нем всё больше и больше, поскольку в то время считала, что навсегда отреклась от сцены.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71809840?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Здесь и далее название Мюзот не склоняется. – Прим. редактора
2
Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 221; Пасхальное письмо: Рим 1904. – Прим. Мориса Бетца
3
Рильке: «Письма 1906—1907 годо"в, стр. 127. – Прим. Мориса Бетца
4
Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 251. – Прим. Мориса Бетца
5
Салтыков-Щедрин: Les Messieurs Golovleff, – роман, перевод с русского Марины Полонской и Г. Дебессе, с предисловием Эдмона Жалу, Париж 1922. – Прим. Мориса Бетца
6
Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 253—254. – Прим. Мориса Бетца
7
Рильке: «Письма и дневники раннего периода (1899—1902)», стр. 37—42. – Прим. Мориса Бетца
8
Рильке: «Письма к Родену», Париж 1931, стр. 171. – Прим. Мориса Бетца
9
Здесь и далее имя собственное Лауридс не склоняется. – Прим. редактора
10
Рильке: «Письма к Родену», cтр. 145. – Прим. Мориса Бетца
11
Рильке: «Письма 1907—1914 годов», стр. 95 — Прим. Мориса Бетца
12
Жюдит Кладель: Роден, Париж 1936, стр. 260. – Прим. Мориса Бетца
Жюдит Кладель (1873—1958) – французский драматург, писательница, биограф и журналист. – Прим. редактора
13
ла-Бос (фр. La Beauce) – природный регион в северо-центральной части Франции, расположенный между реками Сена и Луара. – Прим. редактора
14
«Les Villes tentaculaires» – Сборник символистской поэзии Эмиля Верхарна. Общая тема сборника – современная городская жизнь и преобразование сельской местности в результате разрастания городов. – Прим. редактора
15
Книга мемуарных очерков Жана Кокто (1889—1963) – Прим. редактора
16
Жан Кокто жил в комнате в отеле «Бирон», из которой в парк вели пять стеклянных дверей; это был бывший класс школы «Святого Сердца» [Sacrе-Cceur], где занимались танцами и пением. – Прим. Мориса Бетца
17
Нёйи?-сюр-Сен – коммуна в департаменте О-де-Сен, на юге примыкающая к Булонскому лесу – западной окраине Парижа. – Прим. редактора
18
«Пеллеас и Мелизанда» (фр. Pellеas et Mеlisande) – символистская пьеса бельгийского драматурга и писателя Мориса Метерлинка. Произведение о запретной, обречённой любви главных героев. – Прим. редактора
19
Беттина фон Арним (1785 -1859) – немецкая писательница, яркая представительница романтизма; сестра Клеменса Брентано и жена его друга – писателя Людвига Ахима фон Арнима – двух известных немецких поэтов-романтиков; Беттина поддерживала дружеские отношения с целым рядом знаменитых современников, встречалась с Бетховеном, возможно, именно она являлась той загадочной «бессмертной возлюбленной», которой Бетховен адресовал своё знаменитое страстное послание, найденное после смерти композитора в ящике его письменного стола. Что касается Гёте, то он был влюблен в мать Беттины задолго до того, как сама Беттина встретила великого поэта в 1807 году, личное знакомство с которым всколыхнуло ее чувство к нему и переросло в обожание. Знаменитый писатель, который был намного старше своей поклонницы, воспринимал её страстное увлечение не слишком серьёзно, и относился к Беттине как к очаровательной и иногда взбалмошной юной особе. В 1835 году, через три года после смерти своего божества, Беттина опубликовала «Переписку Гете с ребенком» («Briefwechsel Goethes mit einem Kind»), основанную на их реальных письмах, которые были творчески «доработаны» богатым воображением экзальтированной писательницы. – Прим. редактора
20
Из письма Рильке Кларе Рильке от 4 сентября 1908 г.: «Сейчас я читаю „Переписку Гёте с ребёнком“ – это [весьма] убедительное и животрепещущее свидетельство против него [Гёте], которое только подтверждает все мои подозрения. Как Вы понимаете, для этого имеются веские основания, принимая в внимание моральные устои [той эпохи], что, [разумеется,] нисколько не умаляет вселенского масштаба гётевской натуры. Мальте Лауридс Главный герой единственного романа Р. М. Рильке „Записки Мальте Лауридса Бригге“ („Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“), опубликованный в 1910 году. Написанные в форме лирического дневника – своеобразной автобиографии поэта – „Записки“ считаются едва ли не первым модернистским романом в Европе. заметил по этому поводу: „Гете и Беттина: любовь между ними растет, непреодолимая, во всей полноте своего времени и своего права – как прилив океана, как восходящий год. А он не находит единственно верного жеста, чтобы направить её за пределы себя – в ту область, к которой она была склонна. (Ибо он – суд высшей инстанции); он принимает её великодушно, но не обходится с ней подобающим образом – упрекаемый, смущённый, увлечённый сторонним любовным романом“». – Прим. и перевод редактора
21
Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 240. – Комм. Мориса Бетца
22
Интересно сравнить это суждение Рильке с более ранним своим отношением к Гёте и Беттине Арним: «В данный момент я читаю <…> письма Беттины Арним, адресованные к Гёте; [при этом] я говорю исключительно о её письмах, потому что его убогие, смущённые ответы вызывают во мне глубочайшее разочарование и неприязнь. Каким несвободным, должно быть, он был как мужчина, насколько нечутким был как любовник, вынужденный держать себя в рамках приличий, чтобы отвечать на этот великолепный огонь такими жалкими и ничтожными обрывками! <…> Это же было его море: оно бушевало и билось в него, а он колебался и медлил и в, свою очередь, не изливался в него. Даже всё взвесив, он так и не распознал, что ему нечего было бояться этой любви, которая так героически вырастала над ним, и что одной только ночной улыбки было довольно, чтобы указать своей возлюбленной путь вперёд, куда она, сама того не ведая, желала попасть: за пределы себя». (Из письма от 5 сентября 1908 г. Сидони Надхерни фон Борутин) – Прим. и перевод редактора
23
Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 242. – Комм. Мориса Бетца
Морис Бетц
Имя Мориса Бетца (1898–1946), блестящего французского писателя и переводчика, неразрывно связано с творчеством Райнера Мария Рильке, одного из величайших лириков XX века. В своей книге «Живой Рильке», написанной под впечатлением от незабываемых встреч с поэтом весной и летом 1925 года, Бетц воскрешает в памяти множество мест, событий и людей, связанных с Рильке: Толстого и Горького, Поля Валери и Родена; Париж, Ясную Поляну, Мюзот… Настоящая публикация включает избранные главы из этой книги.
Рильке жив
Воспоминания. Книга 2
Морис Бетц
Переводчик Владислав Васильевич Цылёв
Составитель Владислав Васильевич Цылёв
© Морис Бетц, 2025
© Владислав Васильевич Цылёв, перевод, 2025
© Владислав Васильевич Цылёв, составитель, 2025
ISBN 978-5-0065-7699-5 (т. 2)
ISBN 978-5-0065-4806-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От составителя и переводчика
Второй том «Рильке жив» продолжает публикацию избранных глав из книги французского писателя и переводчика Мориса Бетца «Rilke vivant», которая увидела свет весной 1937 года в парижском издательстве Emile-Paul Fr?res.
Все тексты представлены в моём переводе, включая фрагменты писем, которые переведены с немецкого языка. Примечания Мориса Бетца сохранены с указанием его имени.
Дополнительные примечания, которые я посчитал нужным включить в книгу, помечены как «Прим. редактора».
В качестве иллюстраций использованы фотографии начала XX века, которые являются общественным достоянием.
Особое внимание хотелось бы обратить на то, что в отличие от оригинального издания, которое представляет собой цельный том, предлагаемое издание разделено на две книги.
Вторая книга содержит дополнительный раздел «Ex voto Орфею». Он включает несколько моих переводов из «Сонетов к Орфею», которые дают представление о том духовном подъёме, который пережил «поздний» Рильке во время своего «затворничества» в башне Мюзот[1 - Здесь и далее название Мюзот не склоняется. – Прим. редактора].
Владислав Цылёв
*
Содержание первой книги
Открытие Парижа
Письма из Мюзот
Первая встреча
Полдень на окраине Люксембургского сада
О «Записках Мальте Лауридс Бригге» (I)
О «Записках Мальте Лауридс Бригге» (II)
Направлялся к принцессе – попал в балаган
РИЛЬКЕ ЖИВ
Книга вторая
Толстой и Россия
Встреча с Жюли Сазоновой и ее труппой артистов была не единственной возможностью для Рильке воскресить свои русские воспоминания во время пребывания в Париже. Эти воспоминания были настолько живы в нем, что в то время он подумывал написать отчет о своих путешествиях по России. Подобно тому, как после войны его неудержимо тянуло в Париж, пока это желание не исполнилось, так и теперь его одолевало стремление возродить «русское чудо» своей молодости, заново пережив впечатления от далеких путешествий 1899 и 1900 годов.
Как выглядели бы воспоминания о России, если бы у Рильке было время их «раскопать»? Примерное представление об этом дают, пожалуй, отрывки в «Записках»[2 - Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 221; Пасхальное письмо: Рим 1904. – Прим. Мориса Бетца] о Николае Кузьмиче и о смерти Гриши Отрепьева, и письмо о праздновании Пасхи в Москве. Первое из этих впечатлений – воспоминание о соседе по гостинице в Петербурге, которое также упоминается в «Новых стихотворениях»; второе было навеяно читательским восторгом юности и сложилось во время долгих часов, проведенных Рильке в Российской национальной библиотеке, где он «поглощал» в первую очередь русских историков и писателей-искусствоведов, в том числе Карамзина, Соловьева и некоторых других авторов, а также книгу о русском романе, написанную французским послом и академиком виконтом де Вогюэ.
Со времени своего путешествия Рильке проникся особой любовью к России, которую поддерживал чтением и перепиской. Его верная дружба с Лу Андреас-Саломе, от которой он не отрекся даже тогда, когда уже много лет не встречался с этой проницательной спутницей своей молодости, была основана на их общих русских воспоминаниях и на той причастности, которую эта близкая ему женщина принимала в его славянском опыте. Хотя у него было мало возможностей говорить по-русски, а позже он познакомился с некоторыми славянскими поэтами только в немецких или французских переводах, он все еще свободно читал по-русски; известно, что после своего путешествия он переводил один из романов Достоевского, рассказы и пьесы Чехова, а также стихи Дрожжина. На Капри Рильке познакомился с Максимом Горьким, который жил там в изгнании. Несмотря на то недоверие, которое он изначально испытывал к революционеру, «прославившемуся как анархист, но с удовольствием швырявшему в народ вместо бомб деньги, – кучу денег!»[3 - Рильке: «Письма 1906—1907 годо"в, стр. 127. – Прим. Мориса Бетца] – он отзывался о нем с пониманием. Он не ставил его в один ряд с Гоголем, Толстым и Достоевским, обвинял его в том, что тот судит об искусстве, скорее, не как художник, а как революционер, но в конце концов проникся симпатией к этому испытанному ветрами, глубоко укоренившемуся в русской земле человеку и к его улыбке, «которая проступает сквозь всю печаль его лица с такой глубокой уверенностью»[4 - Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 251. – Прим. Мориса Бетца].
В течение нескольких месяцев своего пребывания в Париже Рильке находил огромное удовольствие в чтении романа «Господа Головлевы»[5 - Салтыков-Щедрин: Les Messieurs Golovleff, – роман, перевод с русского Марины Полонской и Г. Дебессе, с предисловием Эдмона Жалу, Париж 1922. – Прим. Мориса Бетца], французский перевод которого я ему одолжил. Он также прочитал несколько произведений Ивана Бунина, с которым был знаком. Его восхищение деревянными куклами госпожи Жюли Сазоновой было вызвано не в последнюю очередь русскими куклами – кучерами, закутанными в меха, крестьянками в кокошниках, морщинистыми, изможденными мужиками, – которых создала госпожа Гончарова.
К воспоминаниям, которые Рильке сохранил о России, напрашиваются – по крайней мере, с негативным оттенком – два замечания.
Как и многие путешественники, приезжающие из западных стран, Рильке познакомился с Россией в весенне-летний период. Даже образы, которые он создавал, никогда не содержали воспоминаний о снеге, поездках на санях или сильных морозах; в основном они вызывали впечатление изобилия, плодородия и бескрайних просторов. Почти все зимние образы, встречающиеся в «Записках», относятся к воспоминаниям о Швеции или Богемии. То, что Рильке сохранил от России, это магию, исходящую от бескрайних степей, странную безликость земли без границ и то ощущение необъятной души человека, которое заставляло трепетать его славянское сердце.
Вторая особенность русского опыта Рильке заключается в том, что социальные проблемы и классовые противоречия, похоже, не привлекли его внимания. Он, который в Париже содрогался от вида человеческих страданий и вглядывался в них с почти болезненной остротой, в России не испытал ничего подобного – или, по крайней мере, эти впечатления были вытеснены другими, более сильными. Он также не проявлял особого интереса к тем русским, которые были втянуты в авантюру революционного движения. В одном из его писем, относящемся ко времени встречи с Горьким, есть любопытный отрывок, который отчасти объясняет эту отстраненность:
Вы знаете, – писал он Карлу фон дер Хейдту, – мое мнение заключается в том, что революционер прямо противоположен духу русского человека: иначе говоря, русский человек прекрасно подходит для того, чтобы быть им, подобно тому как батистовый платок очень хорош для промокания чернил, что, конечно. возможно, но только при полнейшем произволе и беспощадном попрании подлинно русских качеств.[6 - Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 253—254. – Прим. Мориса Бетца]
Напротив, Рильке, который во многих отношениях чувствовал себя бездомным в этом мире, могли привлекать только круги белых русских, обитавших в Париже, чье роковое, лишенное иллюзий цыганское существование вызывало у него смесь из любящего и сострадательного любопытства. Притяжение, которое теперь оказывала на него Россия, было связано с мыслью о глубоком, окончательном погребении страны, которую он знал. Россия по-прежнему оставалась его родиной, но только в царстве воспоминаний, сокровенная почва которых навсегда превратилась в недостижимую.
Среди рассказов о русском путешествии, которые я слышал от Рильке, есть один, удивительным образом передающий то впечатление от бескрайних просторов русской равнины, которое он любил вспоминать: Рильке и Лу Андреас-Саломе сошли в сумерках на какой-то маленькой провинциальной станции, откуда карета должна была отвезти их в соседнее имение. Стояла прекрасная летняя ночь, и, пока лошади шли рысцой, Рильке и его спутница любовались то усыпанным звездами небом, то бескрайней равниной, по которой они проплывали, с ее колышущимися травами и исчезающими вдали очертаниями. Вдруг их обоих удивил далекий свет, который, как утверждал кучер, исходил с той стороны, где на несколько сотен верст не было никаких поселений. Лошади продолжали двигаться рысью, но этот странный свет не приближался и не удалялся. Его присутствие нельзя было объяснить, но в конце концов оно было таким же естественным в гулкой летней ночи, как и мерцание многих тысяч звезд на небе. Только несколько дней спустя Рильке и его спутница нашли очень простое объяснение этому явлению: в нескольких сотнях верст от них вспыхнул пожар. Несмотря на огромное расстояние до него, именно зарево пожара они увидели той ночью.
Но главным впечатлением, к которому он всегда возвращался, вспоминая о России, был визит к Толстому в Ясную Поляну. Я сам слышал, как он дважды описывал эту встречу, и каждый раз в его рассказе появлялись новые подробности.
Рильке уже встречался с Толстым годом ранее в Петербурге. Но только после первой поездки он достаточно освоил русский язык, чтобы читать Толстого в оригинале. Даже уезжая из Москвы в 1900 году на юг страны, он страстно желал вновь увидеть великого писателя и тешил себя надеждой застать его в яснополянском имении, в котором Толстой продолжал жить, хотя и передал его вместе со всеми остальными своими владениями жене и сыновьям. Как будто только в этом месте облик Толстого должен был обрести самые убедительные и подлинные черты: именно здесь – в самом сердце русской весны, среди берез и бобовых кустов яснополянского парка – Рильке получил самое сильное и трогательное впечатление о великом художнике.
Рильке и Лу Андреас-Саломе прибыли в Ясную Поляну майским утром. По дороге они случайно узнали, что граф находится дома. Доехав на карете до ближайшей деревни, они предстали перед въездом в поместье как простые паломники, подобно многочисленным посетителям автора «Войны и мира».
Эти два визитера явились явно не вовремя. В тот момент Толстой испытывал один из тех всё более частых приступов отчаяния, когда контраст между смирением и отречением, о которых он так мечтал, с одной стороны, и мощными вспышками гордыни и чувственности, всё ещё бушевавшими в семидесятилетнем старике, с другой стороны, делал его агрессивным, жестоким, почти недоступным. Он принял гостей очень сухо и, казалось, даже не узнал Лу Андреас-Саломе; затем он оставил их в прихожей дома дожидаться своей дальнейшей участи. Старший сын графа на некоторое время составил компанию гостям, которые в душе надеялись на совсем иной прием.
Однако в тех немногих словах, которыми Толстой обмолвился перед уходом, они расслышали туманное обещание встретиться с ними позже в течение дня. Не теряя надежды, они отправились гулять в парк и вернулись в дом около полудня. Едва они вошли в прихожую, ожидая приглашения на обед, что было почти само собой разумеющимся в такой уединенной местности, как вдруг из-за стеклянной двери донесся шум бурного спора. Еще один шаг – и они оказались в центре домашней драмы: это графиня Толстая устраивала сцену своему мужу.
Мы подождали несколько минут, прислушиваясь к шуму, и, окончательно разочаровавшись, решили уйти, как вдруг дверь открылась и вошла графиня. Сначала она, казалось, была обескуражена нашим появлением, но потом строго посмотрела на нас и спросила, чего мы хотим. Это была все еще красивая женщина с большими черными глазами; в ее резком голосе слышался едва ли не мужской акцент. «Мы ждем графа», – сказал я. «Мой муж болен и не сможет вас увидеть», – ответила она, обернувшись с некоторой суровостью. К счастью, у Лу Андреас-Саломе нашлось достаточно смелости объяснить, что мы уже видели Толстого; графиня, возможно, пожалев о своем слишком грубом ответе, пробормотала несколько слов извинения. Чтобы сохранить самообладание, она порылась среди книг на полке, а затем удалилась. – Мы снова остались одни, и где-то в дальних покоях снова завязался спор. Мы узнали голос графини, плач и рыдания которой прерывались гневным голосом графа. Захлопали двери, сцена переместилась вглубь дома, и, похоже, в суматоху включились другие люди. На несколько минут воцарилась тишина, затем дверь снова открылась, и перед нами появился Лев Толстой. Он выглядел усталым и рассерженным одновременно, его руки мелко дрожали, глаза были отсутствующими. Он не сразу узнал нас и рассеянно задал несколько вопросов, не обращая внимания на наши ответы. Затем он опять нас покинул. За стеной мы расслышали шепот, голос плачущей женщины, сотрясаемой слезами, успокаивающие слова Толстого… Затем граф появился снова. Он держал в руке посох. Его взгляд на этот раз был необычайно ясным и резко выделялся на фоне кустистых бровей. «Желаете поужинать с остальными или прогуляться со мной?» – спросил он уверенным голосом, в котором нетерпение смешивалось с иронией. – Даже если бы прием, оказанный нам графиней, прошел менее бурно, наш выбор был заранее предрешен: естественно, мы предпочли прогулку. Мы вместе покинули дом. Толстой шагал рядом с нами широким шагом, беседуя с самим собой и как бы импровизируя на ходу. Мы шли по сельской местности, среди берез и лугов, все красоты которых ему были знакомы, и где он, казалось, наконец возвратился к самому себе. Время от времени он откусывал часть стебля или срывал цветок, наслаждаясь его запахом, чтобы затем небрежно отбросить его, смотря по тому, какими движениями он подчеркивал свои слова. Мы говорили о самых разных вещах: о пейзаже, который нас окружал, о России, о смерти… Поскольку он выражал свои мысли по-русски и делал это в оживлённой манере, я не всегда мог разобрать все его слова. Но все, о чём он говорил, звучало с акцентом стихийной мощи, свидетельствовало о силе и величии. Иногда я украдкой поглядывал на его широкое лицо с выступающими скулами, на огромные уши под белыми локонами, трепещущими на ветру, на расширенные ноздри, которые втягивали весну с какой-то необыкновенной чувственностью. Он вышагивал в своей крестьянской блузе, его длинная борода развевалась, движения были размашистыми, как у пророка, а взгляд поражал своей пронзительностью и оставался ужасающе присутствующим. Вот его образ, который запечатлелся во мне, и это было нечто большее, чем его слова.
Райнер М. Рильке и Лев Толстой. Автор коллажа – Владислав Цылёв
Конечно, чтобы передать историю Рильке во всей ее полноте, пришлось бы воссоздать ритм его слов и все те акценты, что были добавлены движением, позой и тем, как он удерживал внимание на некоторых словах, паузой или взглядом. Когда я выразил свое удивление по поводу того, что он никогда не испытывал потребности зафиксировать это воспоминание, Рильке сказал мне, что он как раз думал о чём-то подобном. Забыл ли он, или это было слишком незначительно в свете того, что он собирался написать, но как-то раз он уже поведал в подробностях о своём визите к Толстому в письме к Софье Николаевне Шиль вскоре после своего отъезда из Ясной Поляны.[7 - Рильке: «Письма и дневники раннего периода (1899—1902)», стр. 37—42. – Прим. Мориса Бетца] Если сравнить это описание с тем, которое дал мне Рильке, то можно заметить странные изменения, которые претерпели некоторые образы с течением времени. Однако впечатление, которое преобладает у Рильке, осталось прежним. Время не только не ослабило, но, кажется, усилило его: Толстой мог говорить с Рильке о смерти и одиночестве, но именно воспоминания о весне, переполненные бодростью, он увез с собой из этого путешествия:
Возвращаясь в Козловку, – писал он Софье Николаевне Шиль, – нас переполняла радость и понимание Тульского края, где богатство и бедность соседствуют не как противоположности,
а как разные, очень родственные по духу слова для одной и той же жизни, которая находит своё воплощение в сотне форм, ликующая и беззаботная.
Отель «Бирон» и его обитатели
1904—1910 гг. Между этими двумя пограничными датами – с застоями и подъемами, с периодической неприязнью к Парижу и с возвращающейся любовью «к этому уникальному месту, чье необъятное и щедрое гостеприимство во все времена заменяет дом»[8 - Рильке: «Письма к Родену», Париж 1931, стр. 171. – Прим. Мориса Бетца], – и родились «Записки Мальте Лауридс[9 - Здесь и далее имя собственное Лауридс не склоняется. – Прим. редактора] Бригге». Они были начаты в мастерской в парке римской виллы «Штроль-Ферн» [Strohl-Fern]; последние главы Рильке набросал за массивным дубовым столом, который Роден одолжил ему для своего кабинета на улице Варенн [Rue de Varenne], – столом, за который он сел со словами: «Это же стол Родена; я должен добиться большего, чем когда-либо»[10 - Рильке: «Письма к Родену», cтр. 145. – Прим. Мориса Бетца]. И в апреле 1910 года, когда он отправился в Германию, он наконец смог забрать рукопись молодого датчанина, чтобы передать её своему издателю Киппенбергу.
Рильке перед входом в отель «Бирон»
Мальте Лауридс Бригге, – писал он графине Зольмс-Лаубах, – с тех пор как вы услышали о нем, уже успел превратиться в такой персонаж, который, будучи совершенно оторванным от меня, обрел самостоятельное существование и свою собственную личность, причем, чем больше Мальте отличался от меня, тем больше меня привлекал. То, что этот воображаемый молодой человек пережил внутри себя (в Париже и в оживших воспоминаниях о Париже), было слишком огромно, чего бы это ни касалось; можно было бы постоянно добавлять какие-то заметки; то, что сейчас составляет книгу, вовсе не является чем-то законченным.
Это все равно что найти в ящике беспорядочно разбросанные бумаги и, не обнаружив ничего другого, довольствоваться тем, что есть. С художественной точки зрения это никудышное единство, но с человеческой точки зрения оно возможно, и то, что возникает на его основе, – это, по крайней мере, некая версия существования и подспудная картина мечущихся сил.[11 - Рильке: «Письма 1907—1914 годов», стр. 95 — Прим. Мориса Бетца]
Давайте вообразим Рильке 1908—1911 годов в парке отеля «Бирон», куда он иногда выходил на вечернюю прогулку. Несмотря на желание «начать Париж заново», он уже не тот молодой человек с улицы Кассет или улицы Тулье, который застенчиво замыкался в своем одиночестве. Второй том «Записок» дает представление о том пространстве, которое открыли его мечтам глубины парка отеля «Бирон» – «это сказочное переплетение фруктовых деревьев, трав и цветов», «этот живой ковер», как назвала его Жюдит Кладель[12 - Жюдит Кладель: Роден, Париж 1936, стр. 260. – Прим. Мориса БетцаЖюдит Кладель (1873—1958) – французский драматург, писательница, биограф и журналист. – Прим. редактора], – а также его путешествия по Провансу и Италии. Он был избавлен от тяжелой работы и материальных забот, которые тяготили его в прежние времена, поскольку принял гостеприимство Родена в Медоне в качестве его добровольного секретаря. Теперь он мог пригласить своего великого друга в свою квартиру в отеле «Бирон». Великодушно забыв о прежних обидах мастера, он показывает Родену прекрасное жилище XVIII века и заросший парк, которые так восхитили скульптора, что вскоре он устроил там свою студию.
Рильке с теплотой отзывался об втором периоде своих отношений с Роденом, потому что эти воспоминания были ему более дороги и потому что их свободное соседство позволяло ему судить об этом художнике и человеке с большей независимостью. После двух лет, прошедших с момента старой размолвки – размолвки, вызванной незначительным недоразумением из-за письма, о содержании которого Рильке не сообщил Родену в течение двадцати четырех часов, – их первая встреча была простой и сердечной.
На почве возникшего взаимного равенства Роден доверил Рильке некоторые из своих творческих разочарований и тайных увлечений. Еще в Медоне Рильке получил исчерпывающее представление о внутренней жизни Родена. Будучи званым гостем и сотрапезником мастера, он в силу своей тонкой чувствительности очень страдал от беззаботности, с которой Роден потакал своим прихотям и позволял своему буйному темпераменту брать над собой верх, втягивая все окружение в свои волнения, приступы гнева и вспышки гениальности. Но огромное восхищение, которое Рильке испытывал к Родену в то время, стирало разлад и неловкое впечатление от этих бурь. По этому поводу Рильке рассказал анекдот, который показывает, в какой восхитительной манере он превозносил характер Родена, воспроизводя происшествия, свидетелем которых он был, только в поэтической манере, даже если они имели несколько комическую окраску:
Рильке, мадам Роза Роден и Огюст Роден
Мадам Роден испытывала страшную ревность к мужчине, который стал ее мужем лишь к концу жизни, и, по правде говоря, у нее были для этого все основания. Но предчувствия мадам Розы не всегда были подкреплены безошибочной интуицией. Однажды, когда Роден, казалось, вышел на улицу в особенно хорошем настроении, не указав цели своей прогулки, она решила, что он навещает одну из своих подруг, и решила проследить за ним. На вокзале Монпарнас мастер взял билет до Шартра; мадам Роден сделала то же самое. Когда Роден сошел с поезда, она последовала за ним, все больше убеждаясь, что скоро узнает тайну новой измены. Роден вышел из здания вокзала и зашагал по улице с видом человека, который знает, куда идет. Наконец, он остановился на открытой площадке, окруженной садами, с видом на широкую долину ла-Бос[13 - ла-Бос (фр. La Beauce) – природный регион в северо-центральной части Франции, расположенный между реками Сена и Луара. – Прим. редактора]. Когда мадам Роден подняла глаза, она все поняла: у Родена был rendez-vous с Шартрским собором!
В отеле «Бирон», где Рильке был соседом Родена в бурный период его жизни, в котором властвовала герцогиня Шуазель, дела пошли совсем плохо, но Рильке вновь обрел свободу и уже не был так тесно связан с существованием мастера. В результате он стал спокойнее судить о нем и испытывал боль, когда видел, что тот погряз в заблуждениях и нелепостях. В его глазах Роден больше не был единственным мастером, одно присутствие которого вызывало силу и уверенность; он был человеком – несомненно, гением, – который также мог ошибаться и чьи ошибки были наказанием за его властность. Когда Рильке восхищался телами женщин или танцовщицами из Камбоджи, которых с такой уверенностью зарисовывал чувственный грифель мастера, он был не менее убежден, что Роден никогда по-настоящему не понимал женской природы, которая гораздо выше и прекраснее того понятия, которое имеет о ней большинство мужчин, помышляющих только о скоротечном акте любви. Должно быть, беседы между ними выглядели весьма странно, когда Рильке рассказывал Родену о португальской монахине и Луизе Лабе, а скульптор превозносил женщину как сок своего творчества, как пьянящее вино своей жизни. Уже многому научившись у Родена, следуя его примеру, Рильке в то же время научился у него и тому, что отверг некоторые его идеи, твердо наметив, в противовес чувственности Родена, тот чистый образ «Влюбленных», который раскрывается в «Записках»…
Во время разрыва с Роденом Рильке обрёл огромное утешение в другой дружбе, которая и до этого играла важную роль в его жизни, но усилилась под впечатлением от пережитой несправедливости – в верной дружбе Эмиля Верхарна.
В то время как Роден лишь изредка, судя по всему, отказывался от роли высшего творца, «ученика Бога», и был слеп ко всему, что не касалось его самого и его искусства, Рильке всегда вызывал у Верхарна симпатию, которая распространялась и на творчество молодого поэта и которая поэтому была для него мощной опорой.
Во время пребывания в Париже он часто навещал Верхарна на его вилле в Сен-Клу, где его всегда встречали с преданной любовью. Изучение Рембрандта и чтение некоторых стихотворений Верхарна послужили одной из причин его поездки в Бельгию. С другой стороны, в «Городах-щупальцах»[14 - «Les Villes tentaculaires» – Сборник символистской поэзии Эмиля Верхарна. Общая тема сборника – современная городская жизнь и преобразование сельской местности в результате разрастания городов. – Прим. редактора] он нашел отражение того гнетущего чувства большого города, которое он сам испытал, когда приехал в Париж. Возможно, Рильке также лепил и идеализировал этого поэта в меру своей благодарности, но он всегда говорил мне о нем с такой страстной привязанностью и с таким искренним выражением, что эту дружбу, пожалуй, можно отнести к его самым счастливым и чистым переживаниям.
Среди жильцов, занимавших номера на разных этажах отеля «Бирон» и его флигелей (после принятия закона об экспроприации всем распоряжался судебный чиновник и сдавал помещения покомнатно), были актер де Макс, Жан Кокто, художник Анри Матисс, мадам Клара Вестхофф, скульптор и ученица Родена, русский Юрьевич и другие… В своих «Портретах-воспоминаниях»[15 - Книга мемуарных очерков Жана Кокто (1889—1963) – Прим. редактора] Жан Кокто хвастается, что спас сады отеля «Бирон» от раздела, подстрекая прессу против земельных агентов, таившихся в парке площадью семь гектаров в центре Парижа, и принимая в своей квартире делегацию «Поклонников Лувра»[16 - Жан Кокто жил в комнате в отеле «Бирон», из которой в парк вели пять стеклянных дверей; это был бывший класс школы «Святого Сердца» [Sacrе-Cceur], где занимались танцами и пением. – Прим. Мориса Бетца].
Если верить воспоминаниям Рильке о том времени, Жан Кокто также был одним из тех, кто – непреднамеренно, кстати, – давал поводы противникам использования бывшего дома герцогини Мэн, ведь де Макс и Кокто устраивали шумные вечеринки в парке, и гвалт компании, которую они собирали в своих холостяцких комнатах или во дворе под огромной липой, часто нарушал одинокие творческие ночи поэта. Устроив ванную комнату в ризнице бывшей часовни сестер «Святого Сердца» [Sacrе-Coeur], де Макс возмутил корыстных и бескорыстных защитников отеля «Бирон», и последовавшая за этим кампания в прессе заставила управляющего выгнать всех арендаторов.
Помимо нескольких американских и славянских писательниц и художниц, Айседора Дункан снимала для занятий со своими подопечными зал в отеле «Бирон» – в ныне снесенном павильоне, который находился в центре Двора почета. Она редко в нём появлялась, поскольку жила в Нейи[17 - Нёйи?-сюр-Сен – коммуна в департаменте О-де-Сен, на юге примыкающая к Булонскому лесу – западной окраине Парижа. – Прим. редактора] и то и дело с головой окуналась в водоворот бурных страстей и гастрольных туров. Она порхала от любовника к любовнику, купаясь в цветах мужского очарования, как пчела с прозрачными крыльями: тяжелая и полная меда вожделения, но при этом так бесплотно парящая на фоне своего голубого облачения с глубокими складками.
Айседора Дункан, гордившаяся своим материнством, в то время вознамерилась родить ребенка от величайшего из живущих поэтов, чтобы этот сын, которого она «планировала» как танцевальное турне, сочетал в себе «силу ума» с физической красотой, которую она льстила себе надеждой передать ему по наследству. Чтобы быть уверенной, что ее выбор не падет на кого-то недостойного, она посоветовалась с портным Полем Пуаре. К счастью, он не знал Рильке и назвал имя Метерлинка. Автор «Пеллеаса и Мелизанды»[18 - «Пеллеас и Мелизанда» (фр. Pellеas et Mеlisande) – символистская пьеса бельгийского драматурга и писателя Мориса Метерлинка. Произведение о запретной, обречённой любви главных героев. – Прим. редактора] смог отстоять свое семейное счастье, а Пуаре признался, что у него хватило ума не продолжать это дело. Как бы то ни было, через несколько месяцев Айседора Дункан объявила своим конфидентам: «Какой чудесный и крупный малыш», – указывая обеими руками на его исключительный размер.
В то время Рильке довольствовался тем, что издалека любовался вакханкой, которая как паяц танцевала под Шопена, и под балетные па которой музыка источала пьянящий аромат отжатого винограда. Элеонора Дюзе в своей чувствительной хрупкости привлекала его совсем по-другому. Но он не подозревал, в какое рискованное положение поставило его это соседство в отеле «Бирон».
В январе 1912 года все арендаторы, получившие уведомление о необходимости освободить здание, покинули его, за исключением Родена, который отказался съезжать и вел долгую борьбу с администрацией, пока государство в обмен на наследие его произведений не предоставило ему в пожизненное пользование старый дворец, открытием которого Роден был обязан Рильке. За несколько месяцев до этого Рильке уже покинул отель «Бирон», охваченный одним из тех внезапных порывов к странствиям, которые иногда овладевали им. В большом саду на бульваре Инвалидов он кочевал между Египтом, Испанией и Италией…. Приглашение привело его на время в Дуино, где – совершенно неожиданно – им были написаны первые элегии.
От Беттины Брентано до Элеоноры Дюзе
За то время, пока мы работали над «Записками Мальте Лауридс Бригге», наступила весна, но Рильке не смог насладиться ею так сильно, как ему хотелось бы, поскольку он заболел. Однажды утром я узнал из короткого письма, что он страдает и не может приехать. Прошла неделя, а он все не появлялся. Я поинтересовался его состоянием. Через несколько дней он написал мне:
Я давно не благодарил Вас за Ваш радушный приём, и хотя я действительно был «болен» и прикован к постели всего восемь дней, этот – по-видимому, вполне безвредный – грипп оставил меня в таком растерянном и ослабленном состоянии, что все это время было для меня временем запустения и смиренного долготерпения; я выходил на солнце (кстати, редко и весьма нетвердо), но не мог видеть никого из друзей, я не был способен даже на малейшее умственное усилие. Теперь я надеюсь, что в течение следующей недели смогу возобновить нашу совместную работу в дружеской атмосфере, и рассчитываю на то, что мы будем продвигаться вперёд широким и слаженным шагом…
Некоторое время мы уже подбирались ко второму тому «Записок» и встретили на своем пути фигуру Абелоны. Сначала мы подошли к главе, в которой рассказывается о читательской лихорадке, охватившей Мальте в то лето, которое он провел рядом с молодой девушкой; затем произошел инцидент с письмами Беттины, которые Абелона выхватила из рук молодого человека, чтобы самой прочитать их вслух, причем движением, выдававшим ее собственные чувства. Рильке спросил меня, читал ли я «Переписку Гёте с ребенком». Я ответил, что нет: все, что я знал о Беттине Брентано[19 - Беттина фон Арним (1785 -1859) – немецкая писательница, яркая представительница романтизма; сестра Клеменса Брентано и жена его друга – писателя Людвига Ахима фон Арнима – двух известных немецких поэтов-романтиков; Беттина поддерживала дружеские отношения с целым рядом знаменитых современников, встречалась с Бетховеном, возможно, именно она являлась той загадочной «бессмертной возлюбленной», которой Бетховен адресовал своё знаменитое страстное послание, найденное после смерти композитора в ящике его письменного стола. Что касается Гёте, то он был влюблен в мать Беттины задолго до того, как сама Беттина встретила великого поэта в 1807 году, личное знакомство с которым всколыхнуло ее чувство к нему и переросло в обожание. Знаменитый писатель, который был намного старше своей поклонницы, воспринимал её страстное увлечение не слишком серьёзно, и относился к Беттине как к очаровательной и иногда взбалмошной юной особе. В 1835 году, через три года после смерти своего божества, Беттина опубликовала «Переписку Гете с ребенком» («Briefwechsel Goethes mit einem Kind»), основанную на их реальных письмах, которые были творчески «доработаны» богатым воображением экзальтированной писательницы. – Прим. редактора], – это то немногое, что рассказывали учебники по истории литературы, и то, что я узнал из тех отрывков в «Записках», которые превратили юную корреспондентку Гёте в почти мифическое существо – в непонятую влюбленную, чья способность любить превзошла всё[20 - Из письма Рильке Кларе Рильке от 4 сентября 1908 г.: «Сейчас я читаю „Переписку Гёте с ребёнком“ – это [весьма] убедительное и животрепещущее свидетельство против него [Гёте], которое только подтверждает все мои подозрения. Как Вы понимаете, для этого имеются веские основания, принимая в внимание моральные устои [той эпохи], что, [разумеется,] нисколько не умаляет вселенского масштаба гётевской натуры. Мальте Лауридс Главный герой единственного романа Р. М. Рильке „Записки Мальте Лауридса Бригге“ („Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“), опубликованный в 1910 году. Написанные в форме лирического дневника – своеобразной автобиографии поэта – „Записки“ считаются едва ли не первым модернистским романом в Европе. заметил по этому поводу: „Гете и Беттина: любовь между ними растет, непреодолимая, во всей полноте своего времени и своего права – как прилив океана, как восходящий год. А он не находит единственно верного жеста, чтобы направить её за пределы себя – в ту область, к которой она была склонна. (Ибо он – суд высшей инстанции); он принимает её великодушно, но не обходится с ней подобающим образом – упрекаемый, смущённый, увлечённый сторонним любовным романом“». – Прим. и перевод редактора].
Беттина фон Арним (1785—1859), гравюра (создана до 1890 г. на основе прижизненной миниатюры неизвестного автора)
Ведь эта чудесная Беттина всеми своими письмами дарила простор, открывала свой необъятнейший облик. От начала начал она раскинулась, как после смерти. Повсюду она уходила глубоко в бытие, принадлежала ему, и то, что с ней происходило, было вечным по своей природе; там она узнавала себя и расставалась с собой едва ли не с болью; с трудом она возвращалась в себя, как из преданий, вызывала себя, словно призрак, и стойко переносила себя.
Ты только что была здесь, Беттина; я вижу тебя. Разве земля по-прежнему не хранит тепло твоего дыхания, а птицы – мелодию твоего голоса? Роса навернулась другая, но звёзды, что взошли из твоих ночей, всё так же прекрасны. Или мир не от тебя вовсе? Ведь как часто ты зажигала его своей любовью, видела, как он вспыхивает и исчезает в огне, и тайком заменяла его другим, пока мы все спали.[21 - Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 240. – Комм. Мориса Бетца]
Но теперь – какой сюрприз! – Рильке начал изображать нам Беттину, совсем непохожую на ту, с которой я познакомился в «Записках». Это была молодая, необычайно умная, легкомысленная женщина, которая сидела на коленях у господ зрелого возраста и бросалась на грудь знатным мужчинам, которая смеялась над Виландом и клялась обольстить Гёте. Абелона почти слилась с Беттиной, как об этом я прочитал в «Записках», и переняла ее черты, чтобы казаться более живой в глазах Мальте. Но затем, по замыслу Рильке, Абелона, похоже, отомстила и разрушила восхитительный образ своей предшественницы.
Будущая жена Ахима фон Арнима была всего лишь молодой, несдержанной чудачкой, в которой доля лукавства сочеталась с преувеличениями подростка. В той мере, в какой ее авантюра с Гёте сократилась до размеров весьма расчетливой идиллии, фигура Гёте выросла и стала выглядеть совершенно по-новому. Рильке признал, что, возможно, был несправедлив к великому веймарскому старику, который в своей возвышенной мудрости, несомненно, был прав, не поддавшись соблазнам взбалмошного ребенка. Он признался, что долгое время неверно оценивал Гёте, но добавил, что теперь духовно сблизился с ним настолько, что стал глубже чувствовать ценность и богатство возраста.[22 - Интересно сравнить это суждение Рильке с более ранним своим отношением к Гёте и Беттине Арним: «В данный момент я читаю <…> письма Беттины Арним, адресованные к Гёте; [при этом] я говорю исключительно о её письмах, потому что его убогие, смущённые ответы вызывают во мне глубочайшее разочарование и неприязнь. Каким несвободным, должно быть, он был как мужчина, насколько нечутким был как любовник, вынужденный держать себя в рамках приличий, чтобы отвечать на этот великолепный огонь такими жалкими и ничтожными обрывками! <…> Это же было его море: оно бушевало и билось в него, а он колебался и медлил и в, свою очередь, не изливался в него. Даже всё взвесив, он так и не распознал, что ему нечего было бояться этой любви, которая так героически вырастала над ним, и что одной только ночной улыбки было довольно, чтобы указать своей возлюбленной путь вперёд, куда она, сама того не ведая, желала попасть: за пределы себя». (Из письма от 5 сентября 1908 г. Сидони Надхерни фон Борутин) – Прим. и перевод редактора]
«Когда ты молод, ты почти ничего не понимаешь», – сказал он, возможно, думая о тех пражских временах, о которых он никогда не говорил без некоторой доли разочарования. «Жизнь – это всего лишь долгое ученичество».
Любящая всегда превосходит возлюбленного, потому что жизнь больше, чем судьба. Ее преданность желает быть беспредельной: в этом ее счастье. Но безымянное страдание ее любви всегда заключалось в следующем: от нее требовали ограничить эту преданность,[23 - Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 242. – Комм. Мориса Бетца] —
читаем мы в «Заметках». Но Гёте по-своему привел жизнь в гармонию с судьбой, и это его мудрое равновесие уже нельзя было нарушить. Беттина была лишь одной из букв в алфавите, из которого он строил свое произведение. И это произведение было великим и человечным, обладающим силой, способной противостоять [соблазнам] жизни.
Нет, Беттина больше не была в глазах Рильке образом чистейшей возлюбленной! Но другие яркие, чистые женские образы продолжали этот миф. Один из них постепенно приближался к нам сквозь дебри «Записок», образ, который знал и любил сам Рильке: это была Элеонора Дюзе.
Трудно передать ту смесь юмора и трогательности, которая часто придавала словам Рильке весьма своеобразное выражение, причем чаще всего тогда, когда он говорил о вещах, особенно близких его сердцу. Но, возможно, именно такую форму принимала его застенчивость во время наших доверительных бесед. Он начал с того, что рассказал мне несколько анекдотов о Дюзе, лишь изредка прерывая их пояснениями, как будто говорил о нежной, драгоценной птице.
Элеонора Дюзе
Душевное состояние Дюзе было настолько неустойчивым, что малейшее происшествие могло вывести ее из равновесия вплоть до ухудшения здоровья, и это держало ее спутников в постоянном нервном напряжении, которое в конечном счете доводило их до полного изнеможения. Рильке рассказал нам о случае, о котором в своих мемуарах сообщает и принцесса Турн-унд-Таксис. Речь идёт о прогулке, которая была так досадно нарушена криком павлина: в один прекрасный день Элеонора Дюзе и ее подруга, госпожа X., по приглашению Рильке отправились с ним на экскурсию на острова близ Венеции. Погода стояла великолепная, друзья расположились на траве и мирно беседовали, как вдруг их испугал резкий, пронзительный крик павлина, который приблизился к ним. Но то, что для остальных было лишь кратким испугом, для Дюзе стало шоком, ужасающим потрясением. Дрожа всеми конечностями и в то же время охваченная страшным гневом, она хотела бежать из этого проклятого места и требовала немедленного отъезда. Поездка была испорчена и прекращена. Отчаявшемуся Рильке пришлось везти домой свою слишком чувствительную подругу, которая все никак не могла оправиться от испуга.
Такие путешествия не были редкостью. В другой раз подобный приступ вызвало жужжание мухи, забившейся между белыми тюлевыми занавесками, которые перекрывали свет, проникающий в комнату Дюзе. Все отправились на поиски мухи, но она вскоре перестала жужжать и стала невидимой. Едва все успокоились и возобновили разговор, как в углу темной комнаты снова послышалось жужжание мухи. На этот раз Элеонора Дюзе, отчаявшись и близкая к обмороку, все-таки сбежала, оставив своих гостей наедине с мухой, в которой она увидела нечто вроде гигантского паука, затмившего все небо.
В подобных сценах, о которых рассказывал Рильке, комическое постоянно соприкасалось с трагическим, и Рильке так тонко смешивал эти два чувства, что трудно было решить, какое впечатление сложилось у него самого. Больше всего его восхищала в Дюзе сила поистине драматического темперамента, которая безмерно преувеличивала тончайшие движения души, словно до размеров какого-то гигантского зрительного зала. Несоразмерность этих событий и того значения, которое они приобрели в сознании Дюзе, свидетельствовала лишь о том, что она была актрисой до мозга костей, что она постоянно жила в царстве драмы и [инстинктивно] нуждалась в нем всё больше и больше, поскольку в то время считала, что навсегда отреклась от сцены.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71809840?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Здесь и далее название Мюзот не склоняется. – Прим. редактора
2
Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 221; Пасхальное письмо: Рим 1904. – Прим. Мориса Бетца
3
Рильке: «Письма 1906—1907 годо"в, стр. 127. – Прим. Мориса Бетца
4
Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 251. – Прим. Мориса Бетца
5
Салтыков-Щедрин: Les Messieurs Golovleff, – роман, перевод с русского Марины Полонской и Г. Дебессе, с предисловием Эдмона Жалу, Париж 1922. – Прим. Мориса Бетца
6
Рильке: «Письма 1906—1907 годов», стр. 253—254. – Прим. Мориса Бетца
7
Рильке: «Письма и дневники раннего периода (1899—1902)», стр. 37—42. – Прим. Мориса Бетца
8
Рильке: «Письма к Родену», Париж 1931, стр. 171. – Прим. Мориса Бетца
9
Здесь и далее имя собственное Лауридс не склоняется. – Прим. редактора
10
Рильке: «Письма к Родену», cтр. 145. – Прим. Мориса Бетца
11
Рильке: «Письма 1907—1914 годов», стр. 95 — Прим. Мориса Бетца
12
Жюдит Кладель: Роден, Париж 1936, стр. 260. – Прим. Мориса Бетца
Жюдит Кладель (1873—1958) – французский драматург, писательница, биограф и журналист. – Прим. редактора
13
ла-Бос (фр. La Beauce) – природный регион в северо-центральной части Франции, расположенный между реками Сена и Луара. – Прим. редактора
14
«Les Villes tentaculaires» – Сборник символистской поэзии Эмиля Верхарна. Общая тема сборника – современная городская жизнь и преобразование сельской местности в результате разрастания городов. – Прим. редактора
15
Книга мемуарных очерков Жана Кокто (1889—1963) – Прим. редактора
16
Жан Кокто жил в комнате в отеле «Бирон», из которой в парк вели пять стеклянных дверей; это был бывший класс школы «Святого Сердца» [Sacrе-Cceur], где занимались танцами и пением. – Прим. Мориса Бетца
17
Нёйи?-сюр-Сен – коммуна в департаменте О-де-Сен, на юге примыкающая к Булонскому лесу – западной окраине Парижа. – Прим. редактора
18
«Пеллеас и Мелизанда» (фр. Pellеas et Mеlisande) – символистская пьеса бельгийского драматурга и писателя Мориса Метерлинка. Произведение о запретной, обречённой любви главных героев. – Прим. редактора
19
Беттина фон Арним (1785 -1859) – немецкая писательница, яркая представительница романтизма; сестра Клеменса Брентано и жена его друга – писателя Людвига Ахима фон Арнима – двух известных немецких поэтов-романтиков; Беттина поддерживала дружеские отношения с целым рядом знаменитых современников, встречалась с Бетховеном, возможно, именно она являлась той загадочной «бессмертной возлюбленной», которой Бетховен адресовал своё знаменитое страстное послание, найденное после смерти композитора в ящике его письменного стола. Что касается Гёте, то он был влюблен в мать Беттины задолго до того, как сама Беттина встретила великого поэта в 1807 году, личное знакомство с которым всколыхнуло ее чувство к нему и переросло в обожание. Знаменитый писатель, который был намного старше своей поклонницы, воспринимал её страстное увлечение не слишком серьёзно, и относился к Беттине как к очаровательной и иногда взбалмошной юной особе. В 1835 году, через три года после смерти своего божества, Беттина опубликовала «Переписку Гете с ребенком» («Briefwechsel Goethes mit einem Kind»), основанную на их реальных письмах, которые были творчески «доработаны» богатым воображением экзальтированной писательницы. – Прим. редактора
20
Из письма Рильке Кларе Рильке от 4 сентября 1908 г.: «Сейчас я читаю „Переписку Гёте с ребёнком“ – это [весьма] убедительное и животрепещущее свидетельство против него [Гёте], которое только подтверждает все мои подозрения. Как Вы понимаете, для этого имеются веские основания, принимая в внимание моральные устои [той эпохи], что, [разумеется,] нисколько не умаляет вселенского масштаба гётевской натуры. Мальте Лауридс Главный герой единственного романа Р. М. Рильке „Записки Мальте Лауридса Бригге“ („Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“), опубликованный в 1910 году. Написанные в форме лирического дневника – своеобразной автобиографии поэта – „Записки“ считаются едва ли не первым модернистским романом в Европе. заметил по этому поводу: „Гете и Беттина: любовь между ними растет, непреодолимая, во всей полноте своего времени и своего права – как прилив океана, как восходящий год. А он не находит единственно верного жеста, чтобы направить её за пределы себя – в ту область, к которой она была склонна. (Ибо он – суд высшей инстанции); он принимает её великодушно, но не обходится с ней подобающим образом – упрекаемый, смущённый, увлечённый сторонним любовным романом“». – Прим. и перевод редактора
21
Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 240. – Комм. Мориса Бетца
22
Интересно сравнить это суждение Рильке с более ранним своим отношением к Гёте и Беттине Арним: «В данный момент я читаю <…> письма Беттины Арним, адресованные к Гёте; [при этом] я говорю исключительно о её письмах, потому что его убогие, смущённые ответы вызывают во мне глубочайшее разочарование и неприязнь. Каким несвободным, должно быть, он был как мужчина, насколько нечутким был как любовник, вынужденный держать себя в рамках приличий, чтобы отвечать на этот великолепный огонь такими жалкими и ничтожными обрывками! <…> Это же было его море: оно бушевало и билось в него, а он колебался и медлил и в, свою очередь, не изливался в него. Даже всё взвесив, он так и не распознал, что ему нечего было бояться этой любви, которая так героически вырастала над ним, и что одной только ночной улыбки было довольно, чтобы указать своей возлюбленной путь вперёд, куда она, сама того не ведая, желала попасть: за пределы себя». (Из письма от 5 сентября 1908 г. Сидони Надхерни фон Борутин) – Прим. и перевод редактора
23
Р. М. Рильке: Собрание сочинений, том V, стр. 242. – Комм. Мориса Бетца
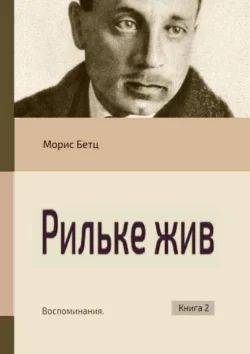
Морис Бетц
Тип: электронная книга
Жанр: Языкознание
Язык: на русском языке
Стоимость: 300.00 ₽
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 26.03.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Имя Мориса Бетца (1898–1946), блестящего французского писателя и переводчика, неразрывно связано с творчеством Райнера Мария Рильке, одного из величайших лириков XX века. В своей книге «Живой Рильке», написанной под впечатлением от незабываемых встреч с поэтом весной и летом 1925 года, Бетц воскрешает в памяти множество мест, событий и людей, связанных с Рильке: Толстого и Горького, Поля Валери и Родена; Париж, Ясную Поляну, Мюзот… Настоящая публикация включает избранные главы из этой книги.