Журнал «Парус» №70, 2018 г.
Николай Родионов
Борис Колесов
Дмитрий Лагутин
Свт. Игнатий Брянчинов
Валерий Топорков
Николай Смирнов
Евгений Чеканов
Татьяна Ливанова
архим. Антонин Капустин
Елена Лынова
Василий Пухальский
Константин Карагода
Нина Щербак
Алексей Татаринов
Ирина Калус
Екатерина Висицкая
Андрей Румянцев
Михаил Белозёров
Николай Ильин
Алексей Котов
Вячеслав Александров
Русский литературный журнал «Парус» приглашает любителей отечественной словесности на свои электронные страницы. Академичность, органично сочетающаяся с очарованием художественного слова, – наша особенность и сознательная установка. «Парус» объединяет авторов, живущих в разных уголках России: в Москве, Ярославле, Армавире. Статус издания как «учёно-литературного» (И. С. Аксаков) определяет то, что среди авторов и редколлегии есть представители университетской среды, даже определённой – южно-русской – литературоведческой школы. Рубрики «Паруса» призваны отразить в живых лицах текущий литературный процесс: поэзию и прозу, историю литературы, критику, встречи журнала с разными культурными деятелями, диалог с читателем. В наши планы входят поиск и поддержка новых талантливых прозаиков и поэтов, критиков и литературоведов, историков и философов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов.
Ирина Калус, Николай Родионов, Борис Колесов, Валерий Топорков, Дмитрий Лагутин, Николай Смирнов, Екатерина Висицкая, Евгений Чеканов, Николай Ильин, Андрей Румянцев, Елена Лынова, Алексей Татаринов, архим. Антонин Капустин, Алексей Котов, Нина Щербак, Вячеслав Александров, Константин Карагода, Свт. Игнатий Брянчинов, Михаил Белозёров, Татьяна Ливанова, Василий Пухальский
Журнал «Парус» №70, 2018 г.
Цитата
Афанасий ФЕТ
***
Учись у них – у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Всё злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.
31 декабря 1883 г.
Художественное слово: поэзия
Николай РОДИОНОВ. Это место – веры в чудеса
СКОЛЬКО ВЕСЯТ СЛОВА
Невесомы слова. Произнёс и задумался. Нет:
Вот уже я пытаюсь представить, насколько они невесомы.
Ведь не только в словах, веса нет и в параде планет,
Потому как не падают, будто они нарисованы.
И слова мы рисуем – красивые, нежные – вот
Вам и вес! Неужели же не ощутимы? Вложите в них силу —
Тонны гравия, гнев, танки или семейный развод —
Ощутим ли их вес? Тяжело? Да, ужасно и невыносимо!
И без танков, поверьте, без самых могучих ракет
Можно жизнь раздавить, уничтожить – одним только словом.
Пусть не будет ни слова тяжёлым – ни в этой строке,
Ни в одном из стихов, но пусть каждое будет весомым.
***
Это место – веры в чудеса.
Ведь подумать только – сколько в жизни было
Разного, чтоб я поверил сам
И другим поведал небыли и были.
Вот стою на этой высоте
Над землёю всею и водою всею,
Над круженьем жизней и смертей
И вокруг себя свои сомненья сею.
Только – независимо от них —
Чудеса, как встарь, произрастают всюду.
Даже там, куда мой взгляд проник,
Где противлюсь я очередному чуду.
Это место чудесам сродни.
Даже если встать над ним забыло солнце,
Волшебством наполненные дни
Так милы, что сердце вновь с восторгом бьётся.
Верь не верь, а сила велика
Этих милых мест, меня здесь приютивших.
Подо мной и надо мной – века —
В кажущемся раннем утреннем затишье.
ВЕЧНЫЙ ПОИСК
Не знаю, что там ждёт, но я туда иду,
За тот вон поворот, за дом пятиэтажный.
Что встречу там сейчас – любовь или беду?
Или опять столкнусь с нетрезвым эпатажем?
Последнее почти всегда и всюду ждёт,
Порой и до угла дойти не успеваю —
Навстречу тупо прёт поддатый обормот.
Куда его сейчас мотнёт, к какому краю?
Но это – ерунда, опять навстречу мне
По тротуару, пыль вздымая, мчится
Крутой автомобиль. И кто из нас умней —
Я или за рулём сидящая волчица?
Буравит взглядом так, как будто это я
Наездом ей грожу, прохода не давая.
Что ж, в сторону шагну, сомнений не тая:
Прав тот ли, у кого машина дорогая?
Дойду ли до угла, увижу ли, что там,
Узнаю ли, что жизнь к поэту благосклонна?
По прежним судя дням, по их скупым чертам,
Сегодня я ещё смогу, пройдусь по стогнам.
По тем же судя дням, не встречу ничего,
Что мог бы ощутить в себе приливом счастья.
Но если в чей-то круг оно вовлечено,
То может, право, мне однажды повстречаться.
САМЫМ ЛАСКОВЫМ ДНЯМ
Как я ждал этих дней! Наконец-то
Отступила жара, ветер свеж,
Пыль прибита дождём, и на место
Водворилась царица надежд.
Успокоилась: в прошлом усталость,
Поиск ветра, прохладных теней.
Не дождусь я, мне раньше казалось,
Этих чудных заманчивых дней.
Вот они! Преисполнен восторгом
Я по улице влажной иду,
Овеваемый ветром с востока, —
Рад нежарким лучам и дождю.
И тому, что я жив, что дождался
Дней, пришедших на смену сухим,
Им читаю я с пятого класса
И свои и чужие стихи.
Самым ласковым дням, самым нежным
Те же чувства дарил и дарю,
С ними я не теряю надежды,
Что и новую встречу зарю.
Что и новая будет не хуже,
Будет так же свежа и светла,
Растворится в распластанной луже,
Что прозрачней и чище стекла.
Разобьётся на мелкие брызги,
На стеклянные бусы росы…
Как мне дороги эти сюрпризы
Среднерусской родной полосы!
ПЛОДЫ БЕСПАМЯТСТВА
Украина, любимая всеми земля,
Русский край, что же стало с тобой, что же стало?
Неужели Европа, открытость суля,
Превратила людей в одержимое стадо?
Неужели же вашу славянскую кровь,
Вашу память о славных достойнейших предках
Взбаламутили так, что не мил отчий кров,
Что готовы забыть о заветах-запретах.
Неужели Владимир, принёсший на Русь
Свет любви, дружбы, верности, вам ныне ворог?
Неужели Бандера – предатель и трус —
Ныне вам больше крова и совести дорог?
Нет, не верю, что вся Украина в таком
Безоглядном беспамятстве враз утонула,
Что над светлым, могучим, бессмертным Днепром
Одержала победу какая-то Нуланд.
Не поверю, но вижу, что тонет страна
Величайших подвижников духа, поэтов
В том кровавом тумане, что сам сатана
Расстелил над страною, стремящейся в Лету.
Миллионы бегут, с Украины бегут,
Что когда-то цвела и гордилась собою.
Но и здесь свой нашёлся завистливый Брут —
Нет убийствам конца, воровству и разбою.
СВЕТ МОЛНИИ
Жизнь не прошла и не остановилась,
А сызнова, с пеленок началась.
Не старость в том повинна, не наивность,
А добрый тихий час, полночный час.
Ко мне пришли мои воспоминанья —
Живые, озорные огоньки.
Куда они опять меня поманят,
Наполнят миг событием каким?
Какие предстоят сегодня встречи,
Кто выплывет из тьмы далеких лет?
Вновь вижу грозовой весенний вечер,
Когда мне Бог позволил уцелеть.
Мне было года, может быть, четыре,
От друга возвращался я домой.
Гроза и ветер – это ли причины
Душевной смуты, овладевшей мной?
Нет. Не боялся я напора ветра
И безобидных молний восковых.
А страх проник в меня – тяжелый, смертный —
Лишь у ворот: я не увидел их.
Огромные, высокие ворота
Исчезли, но при вспышке грозовой
Мелькнули, и мелькнула мысль: кого-то
Благодарить мне надо, что живой.
Ворота предо мной ничком лежали,
И я еще тогда сообразил:
Гроза и ветер – силища большая,
Но что-то есть превыше темных сил.
***
Я верю мифам, верю сказкам,
Их ярким, выпуклым контрастам
Сторонников добра и зла.
Конечно, выдумка, конечно
Герой победою увенчан
Над теми, коим нет числа.
Герой всегда с любовью в сердце,
И полон силы молодецкой,
И хитростью не обделён.
А враг коварен, враг огромен,
И кто его такого тронет! —
Не спит ни ночью он, ни днём.
Но вот, любовью окрылённый,
Герой сражается с драконом,
Срубает головы ему —
И у царевны сердце тает,
Она, как девушка простая,
Сгорает от любовных мук.
Герою – лучшая награда.
А что ещё-то в жизни надо
Таким красивым, молодым!
Героем вдруг себя представив,
Читатель юный или старый
Восторжествует вместе с ним.
АВГУСТ
Август. Близок конец
Жизни, здесь разыгравшейся, может быть, слишком уж смело.
Точит осень резец,
Точит, пробует, примется скоро вплотную за мокрое дело.
Чем хоть это не жизнь!
Август – сильный, красивый – меня призывает признаться:
Старость – мой атавизм,
Можно сбросить легко лет – ну, скажем так – двадцать.
Что же станет со мной,
Если вдруг легкомысленно сброшу и помолодею?
Будет это иной
Путь земной или тот же – борьба за чужую идею?
Не хочу повторять
Те же – пусть незаметные для посторонних – ошибки.
Не пришла ли пора
Стать собой, но не тем же смычком для напыщенной скрипки.
Стать собой? Вот и стал
И пишу что хочу, мысли – мечутся, правда, – свободны.
Я лечу вглубь листа:
Там мой мир, только мой, нестареющий, вечный, исходный.
Август, следом лети,
Там останемся мы молодыми, зелёными, станем
В бесконечном пути
Осыпать эту всеми забытую землю своими листами.
***
Куда же всё ушло?
Воскликни со слезами —
И прошлое вернется в тот же миг,
И будет снова жить.
Резвиться вместе с нами.
Смеяться, как дитя, и гомонить.
Воскликни!
Что же ты такой невосполнимый?
И суеверный: только раз живем!
Воскликни —
и мы вновь минувшее обнимем,
И перестанем горевать о нем.
Не нам ли суждено постичь
и опровергнуть
Для нас с тобой придуманное зло?
Будь искренен в слезах,
и стыдно станет веку,
Похитившему жизнь.
Куда же всё ушло?
ГАСНЕТ ДЕНЬ
Константину Васильеву
Шкаф стоит. А в шкафу что находится? Книги.
Стол стоит. На столе что находится? Чайник.
Передвинуть бы мебель. Но кто будет двигать?
И ведь некогда, и ведь некому, и неслучайно.
Могут гости прийти сейчас. Могут – никогда.
Может, сам я сейчас уйду. Да и не вернусь.
Пыль покроет и стол, и шкаф, если не продам.
А продам и приду назад – дом мой пуст.
Неширок мой стол, невысок мой шкаф – пусть стоят.
Я попью чайку, посмотрю в окно: гаснет снежный день,
как природа, скуп, как рисунок, стёрт, как бумажка, смят.
Прожит как? – никак. Кто звонил? – никто. Где я был? – нигде.
Нет меня. А в шкафу что находится? Книги.
Нет меня. На столе что находится? Чайник.
Вот и пусть кто желает их двигает.
Что ещё вам сказать на прощанье?
Телефон мой не автоответчик, – без меня он не отвечает.
Гаснет день. Исчезают и чайник, и книги.
А затем – стол и шкаф невидимками стали.
Если б знали вы, – верю – вы мне помогли бы
день прожить так, как надо, как прожили сами.
Я заочно признателен вам за надежду.
День великим рождался, да, видно, напрасно сгорел.
Вы бы мне помогли стол и шкаф передвинуть, но где же
были вы до сих пор? Мебель продана. Ночь на дворе.
***
Как играет на пианино
И поет! Пусть ко мне спиною.
Я – не слышащий половины
И не знающий, что со мною —
Все пытаюсь понять причину
Этих радостных совпадений,
А она распрямляет спину
Еще круче, еще сильнее.
И ее мелодичный голос
Проникает в мое сознанье,
И, как будто бы успокоясь,
Отвечаю я на лобзанья,
Прерываю ее сопрано,
Ощущаю касанья пальцев,
Говорю ей об этом прямо
И не думаю уклоняться.
И не думаю, и не брежу,
И не верю, и в нетерпенье
Кожей чую: чем звуки реже,
Тем быстрее от песнопенья
С нею мы переходим к яви,
Переходим по нотным знакам
К легким, искренним и лукавым
Знакам нашего зодиака.
УЛЕТАЮ
Взлетает стая сизарей с соседней крыши.
А чем я хуже? – я – за ней, и даже выше
Лечу – просторно мне, легко, мелькают люди,
Меня когда-то к ним влекло, теперь не будет.
Теперь свободен я, незрим, недосягаем.
И – кто бы что ни говорил, – я не слуга им.
Они сожрали жизнь мою, как моль, как мыши,
Но я пою, а что пою, никто не слышит.
И не услышит никогда, и не узнает,
Что улетаю в никуда за сизой стаей.
Что милых сёл и городов, озёр и пашен
Оставить лики не готов во дне вчерашнем.
Пусть даже ель срубить в лесу – бесчеловечно,
Я унесу их, вознесу, чтоб жили вечно.
Борис КОЛЕСОВ. Мои календы
СНЕЖНАЯ БОЛЕЗНЬ
Январь жесток.
Всё так. Жесток.
Но мы его благодарим —
Хоть блеском снега день дарим —
За то, что насмерть не обжег.
Еще за то мы благодарны,
Что ночь, как бдительный пожарный,
Спасла нам зрячество и честь
Услышать благостную весть:
За днем
И новый день настанет.
…Но будет больно нам смотреть,
Как души затвердеют сталью,
Когда объявится вдруг смерть,
Когда исчезнет солнце с неба
И станет слишком много снега.
ВЬЮГИ
Прекрасный хор февральских вьюг,
Ты не фальшивишь, ты сплочен,
А если заяц вскрикнет вдруг,
То как певец он отлучен.
Схватила зайчика лиса —
Ты на опушке не маячь!
Певцов февральских голоса
Прекрасно глушат зайца плач.
И тут охотник – бац в лису!
Ему ли не бродить в лесу?
Ан скажут вам глаза в глаза:
«Ходить с ружьем в лесу нельзя,
Пусть каждый это вот поймет —
Должна быть жизнь в лесу, как мёд!»
Ах, мёд!? У лис о том забота?
Им зайчиков жевать охота.
И зайцам плакать есть причина,
Когда у лис вся жизнь – малина.
Сплоченный хор февральских вьюг,
Ты спой о том, что мыслей круг
Всё шире в бедной голове
О жизни леса, о Москве,
О необъявленной войне,
Гуляющей по всей стране.
ВЕСЕННЯЯ МУЗЫКА
Играет март на ксилофоне.
Звенит капель. Морозу фору
Дает играючи весна —
Недаром лужицы она
Морозит по утрам туманным.
Но что зиме такая манна,
Коль сила тает беспрерывно,
Раз всё морозное обрыдло
И солнца жар приветней днем,
А ночи все светлей при том?
Пройдется ксилофона песня
По городам, поселкам, весям.
Что ж ты? Пойдешь за ней вослед
По звонким мостовым весны.
И примешь, неуклюж и сед,
Привет своей родной страны.
На улицах сильна капель.
С ней жить нам веселей теперь.
ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ
Апрель. Гуляют тучи хмурые.
Серьезные посланцы МУРа,
Они берут нас всех на зуб.
И заболевших враз свезут —
продрогших – птиц в свои скворешни, —
озябших – путников домой.
Звенят повсюду воды вешние.
И облака над головой
Толпою беспокойной ходят.
Что говорят?
– Апрельской оде
Отдай же честь скорее, друг!
– А не получится?
А вдруг?
– Тогда нас, бедненьких, свезут
В леса, в тайгу.
И – зуб за зуб!
– За что вас, бедненьких?
За что?
– Гуляем, вишь ты, без пальто.
МАЙСКОЕ УТРО
Зацвела черемуха в овраге.
Лапы холодны у мокрых уток.
Холода – в заведомом обряде —
С севера
Дохнули майским утром.
Цвет овражный – Севера привет.
На такой обряд вот свой наряд:
Телогреек в доме разве нет?
Снежный
Бодро встретим мы заряд.
Есть одежды русского народа,
Чтоб любые встретить холода.
Зазвенит медалями и взводный,
И солдат обычный,
И беда
Отступает, как заведено.
По такому поводу вино
Горькое нам выпить не грешно.
ИЮНЬСКИЙ ДЫМ
Жара июньская. Война
Окончена весны с зимой.
Дождями, лето, быстро смой
Всё то, что принесла весна, —
Пух тополиный, пузыри
На старом вспученном асфальте,
Зеленых почек газыри
И курточки на теплой вате.
А как нам смыть следы соседа —
От них страдает вся страна, —
Того не ведает победа,
Того не знает и война.
Вот так, сосед!
Нацистский дух
Не тополиный всё же пух.
Как беспощадно пахнет дымом
На Родине моей любимой!
ПРИВОРОТ
Такую мне отлили пулю.
Погода стала хороша.
По благодатному июлю
На юг лететь
Зовет душа.
Опять к отцу?
На Волгу, что ли?
Там жили-были казаки,
Они учились поневоле
Держать за русских кулаки.
А раздобывши
Жён персидских,
На молотьбу там шли с цепами.
Жён
Летом украшали ситцами.
Зимой – пуховыми платками.
Теперь вот правнук тот иранский
Тоскует: с летнею жарой
К нему приходит призрак странный —
Зовет, наверное, с собой.
Туда,
Где Волга величаво
Течет на юг, и Каспий – вот.
И вот – в неугасимой славе
Персидский женский приворот.
ЯБЛОКИ
Август сладок.
Пахнет яблоком.
По ночам от звезд светло.
Светел месяц —
Жил и я бы там.
Да вот время не пришло.
Довелось взглянуть на небо,
А на небе всё же не был.
И под землю не попал.
Сам себе покуда пан.
Мне от августовской ноши
Тяжело. Хоть волком вой.
А вокруг галдят святоши.
Пляшет справно шеф-святой.
Вот какая чертовщина.
Вот какой в России рай.
Женщина или мужчина,
Ферт какой безумью рад?
НАСТРОЕНИЕ
Сентябрь – в кафтане перелатанном.
Отставка летнему теплу.
Приклеился, как бустилатом,
Комар к оконному стеклу.
Но осени одежки прочные,
Хоть и не новые подчас,
Не прокусить.
Комарик прочь летит,
Он в теплом доме ищет вас.
Надеется: прекраснодушными
Застанет вас вблизи печи
И над плечами безоружными
Начнет пикировать в ночи.
Ах, фортка настежь – это лишнее…
Средь умирающего сада
Вы у окна шепните вишням,
Что людям умирать не надо.
РЯБИНЫ
В октябре красны рябины.
Рдеют гроздья в вышине.
Под шатром их слез рубиновых
Я стою как бы во сне.
Должен радоваться вроде бы:
Хоровод красавиц ярок.
Но беда пришла на родину.
Нас причинно душит ярость.
Череда несчастий в прошлом.
Череда – гляди! – в грядущем.
Плач – у взрослых.
Дети-крошки
Тоже плачут – им не лучше.
Нескончаем стон, и тучи
Прут по осени плакучей.
ОДНА НА ВСЕХ
Всё верно.
В ноябре ударить
Морозу крепенько по лужам,
Чтоб захрустели ноги в паре
По льдинкам тонким, – надо.
Ну же!
Однако не видать Дедули.
Что? Красный Нос пощады просит?
Мелькнув, исчез.
…У тихих улиц
На всех одна бабуля-осень:
– Зачем исчез, меня кляня?
Вот бабье лето.
Грейся. На!
Я песню пропою любую.
Смотри: цыганистым подолом
Метет листва по крышам буйно.
Объявлена такая доля —
Весне по осени гулять,
Зиме идти пока в кровать:
Проснется после белых мух…
Ты обратись, Дедуля, в слух!
БЕЛОЕ
На белом свете я зажился.
Декабрь, и выбелен асфальт.
Когда я ночью спать ложился,
В окне явился лунный фавн.
Снежинки он бодал рогами,
Чтоб реяли они кругами,
Танцуя тихо пред стеклом.
Чтоб по стеклу всю ночь текло.
Я лег.
И очень чутко спал,
И видел сон, как снег ложился,
Как затухал кленовый пал.
Как я устал. Как я зажился.
Вот хитрый маг! Ты что наделал?
Смеялась утром детвора,
Когда скользил я неумело
По тропкам белого двора.
Когда за внуком я бежал,
Когда его я провожал
В школу.
Валерий ТОПОРКОВ. Глубже смерти
***
я несу в Твой свет кромешный
память о стихе
то есть мне везёт не меньше
чем любой блохе
много слишком много чести
зверю бытия
если точно против шерсти
пета песнь моя
если в пьеске скоротечной
некогда не сметь
петь что жизнь шибает течкой
псиной пахнет смерть
что вольно Тебе забанить
за печатный зуд
юзера что нёс всю память
о стихе на суд
DEPROFUNDIS
чтоб тебя обдавало воздушной волной
на вагонных подмостках у выхода стой
ухватившись за поручень крепко
потерпи до Арбатской рукою подать
пусть тебя услаждают сиренам под стать
две звезды Кабалье и Нетребко
чистый лирик но варварских явно кровей
ты невольно подумаешь чем не Орфей
адресуясь к Плутону в Рунете
предпочтёт инспирации скромный привет
не считай меня лохом я знаю что нет
нет любви глубже смерти на свете
а Гермес-то затейник ты только взгляни
за твоею спиною полотна одни
не упрямься тряхни шевелюрой
и признай что задумано очень хитро
до Второго пришествия прямо в метро
пассажиры убиты культурой
ты один не убит только ранен легко
так пускай же добьёт тебя олух в трико
перед стикером с «Пьесой» Монтале
чтоб ни вспомнить не мог ты ни свистнуть коня
Сивка-Бурка да где же ты что за фигня
нас спектаклем таким укатали
ущипни себя сделай усилие брат
выше сил твоих видеть как счастлив до пят
намекая на небо на солнце
итальянский башмачник* почти без труда
сквозь пространство и время спустился сюда
и в глаза этой жизни смеётся
_______
*Имеется в виду портрет башмачника кисти итальянского художника Федерико Андреотти (Federico Andreotti) (1847–1930). Репродукция этой работы экспонировалась, в частности, в одном из поездов Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, впрочем, так же, как и стикеры с произведениями Эудженио Монтале.
ПОДСНЕЖНИК
На сельском кладбище весной,
как в сердце каждом, есть надежда
на самый, может быть, простой,
вот-вот пробившийся, живой,
тебя жалеющий подснежник.
По узким тропкам, меж оград,
теперь к тебе приходят редко.
Так редко, что, бывает, взгляд,
почтивший этот скорбный ряд,
здесь меркнет дольше майской ветки…
Непревзойдённой тишиной,
минором ты ему ответишь
как будто в самый лютый зной
зайдёшься мыслью ледяной,
нездешних истин суть наметишь.
Поймёшь как будто, что она
не стелется лебяжьим пухом;
и только в слове, тоньше сна,
тобой продолжится весна,
преосенит и сном, и духом.
Конечно, смерть своё берёт,
в чужом саду берёт и копит.
Но разве это всякий год
на сельском кладбище цветёт
не твой потусторонний опыт?
SАCRIFICIUM
Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Фет
Да что там красавица мудрая терпеливица,
сидела на ветке осиновой бабочка переливница,
на ветке сырой, у просёлка разбитого, где-то под Туношной,
ожидая решительной, в общем-то, встречи с одним предугаданным юношей,
в роскошном своем камуфляже и с длинным сачком энтомолога
блуждающим в лапотной здешней округе так, скажем, отчаянно долго,
что стало едва ли не жаль молодого, казалось бы, и незнакомого —
прекрасно-простому, хрупкому, нежному насекомому.
Минута еще пролетит в непростом ожидании
и будет убийственно рад он удачному их свиданию:
сачком ювелирно сработает, над замершей бабочкой склонится…
но никогда не вместит этой жертвы ни матери… ни поклонницы…
ЛИПА ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ
Ты, Липа, памятью моей,
как летний день теплом, богата:
я слышу шум твоих ветвей,
а сам в них слышусь, как утрата.
Простой, изящный абрис твой,
твоя ребристая фактура ?
моей бросают головой
все тени от Москвы до Ура.
Не с пьяных глаз, не с кондачка
свою природную цикличность
мы стягиваем в точку А,
чтоб тайной сутью взять с поличным;
чтоб трепетным своим корням,
питавшим всякое словечко,
за трезвость к терпким временам
вдруг припасти глоток на вечность!
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
От слёз последней суеты
до полугодовалых всхлипов
меня не вспоминаешь ты,
а невозможно любишь, Липа.
***
Давным-давно в земле сырой лежит моя любовь.
…Она приехала в наш класс из города Белёв.
Изящней, царственней, нежней не знал я красоты!
Увы, не бегал я за ней, не наводил мосты,
записку передал всего один лишь только раз,
и получил в ответ стихи, что ранят посейчас…
Иное грезилось ли ей, была ль она слаба,
но до сих пор не верю я, что это не судьба,
что в безответности ты сам не обретаешь дом,
где небо делается вдруг твоим же должником,
где белый фартук, лёгкий бант и локон у виска,
где песня «Надо же» как крик с последнего звонка!
Как будто школа ходит в нас, позабывая срок,
а та авария и смерть один большой урок,
что нет и не было вовек другой такой любви
у милой девочки моей, у Колюжовой И.
ТРИПТИХ НАСМЕШЛИВОЙ БОЛИ
1
Кровотечение старого кирпича
на сереньких стенах Налоговой
инспекции, въехавшей в церковку с лёгкого
решения какого-нибудь Кузьмича,
не свяжешь по-свойски ни ваткою
сугроба, лежащего тут, за оградкою,
ни плотною марлей бинта
снегопада от Небесного Красного Креста…
И не пусто, размыслив коротко,
в медицинских аптечках города,
да на помощь не скор в нём люд.
Не окажут. Скорей, добьют.
2
В кровопотере старого кирпича
на сереньких стенах Налоговой
инспекции самого, кажется, недалёкого
нет резону для властвующего дурачья.
«На пиру буржуазной политики
без того столько крови повытекло,
что, ощерится, пей не хочу!»
Где уж тут обращаться к Врачу.
Герб орлиный парит над народами!
Он следит за твоими доходами,
он, двуглавый, следит за тобой,
как ты дышишь свободой такой?
3
Кровоподтеки старого кирпича
на сереньких стенах Налоговой
ни одному даже с «волчьим логовом»
не срифмовать из клерков ее сгоряча.
Впрочем, сеятель триптиха этого,
сотрудник мощнейшего педколледжа Дорассветова,
сам, должно быть, не так преуспел в стихе,
как, скажем, в безумии или грехе:
стоит у окна, элегантный, стареющий,
под взглядами тонких студенток взрослеющих,
смущённый не жизнями их безохранными,
а в проулке напротив посмертно запекшимися ранами.
ЭТОТ ТОПОЛЬ У ДОМА
этот тополь у дома
и забор покосившийся весь
и журавль и солома
дом и тополь у дома
пусть навеки
останутся
здесь
плотью клин свой возделай
и душою засей не вразброс
БОГУ ВЕЧНОЕ ДЕЛО
до безумия
искренних
просьб
УМЕР МОЙ ДЯДЮШКА…
умер мой дядюшка
вечный лесничий
сделался вепрем а может
лисичкой
слился с просёлком
с грибным перелеском
плеском озёрным
живым таким плеском
свежим туманом за чудо-холмами
в тихой низинке где топь с бочагами
Господи
с чем же ещё он мог слиться
с листьями дуба в зелёной петлице
зеркальцем селезня
клюквой на диво
полем
где вызрел avena sativa*
с непобедимой своею двустволкой
с жизнью короткою ставшею
долгой
_______
*Овёс обыкновенный (лат.).
К АНАТОЛИЮ**
Вот крест!
Настанут времена
такие, Толя,
когда ни плевел, ни зерна
не будет в поле.
Когда не будет ничего
на нём, похоже,
поскольку поля самого
не будет
тоже.
Не будет честного труда
и хитрой лени,
ни слова «нет»,
ни слова «да»,
ни слова «Ленин»;
ни зла
от крови детской до
собачьих будок,
ни цвета беж, ни звука До
уже не будет;
противоречащих идей;
событий броских;
и даже белых лебедей
не будет
просто.
Запомни:
хлеба и вина,
дорог
и станций…
И только эта тишина,
ты слышишь, Толя (!!!),
ТИ-ШИ-НА
пойми, дружок,
она
одна
должна
остаться…
Художественное слово: проза
Дмитрий ЛАГУТИН. Спица
Рассказ
Мы ссыпали в пакеты кисти, краски, заталкивали туда же крохотные складные табуреточки, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Впереди скользила высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица. Скользила широченными шагами, не оборачиваясь и не сбавляя темпа, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семенили следом.
Вокруг роняли листву клены, под ногами шуршало. Тянуло теплой, душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, призраком проплыл забытый фонтан – изъеденный трещинами и мхом – а мы всё шли и шли, и конца не было видно этому золотому царству.
Впереди, за стволами, замелькала местная достопримечательность – медведь Константин. Это было допотопное – когда-то белое, а ныне серо-зеленое – изваяние в виде огромного медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула ветви молодая, тонкая осина, недавно только пересаженная вглубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, ожидая объятий. У медведя были удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, и всё это придавало ему нелепый вид – смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету.
Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами, так и было написано: «скульптор Константин В. – в дар навеки любимой alma mater». Вернее, так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же, по странной прихоти судьбы – или хитрых пэтэушников – все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стерты. Так медведь обрел имя.
– Смотри! – зашипел Вовка.
Он кинулся к Константину, выхватил из-за пазухи черный пластмассовый пистолет и шарахнул пистоном в маленькое серо-зеленое ухо.
– Володя! – окликнула его Спица, не сбавляя шага. – Это неуважительно по отношению к художнику и жестоко по отношению к животному.
– Я – Дубровский! – закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Птицы сорвались с веток и заметались в панике.
– Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, – сообщила мраморным тоном Спица и ускорилась. Деревья поредели, сквозь листву смотрело небо.
Вовка юркнул к нам.
– А кто такой Дубровский? – спросил я.
– Какой-то солдат, – ответил Вовка. – Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в ухо.
– А что ему этот медведь сделал? – вклинилась розовощекая Оля Петрова.
Вовка закатил глаза.
– Какая разница? – потряс он рукой. – Это же война!
– Молодые люди! – пронесся над нами голос Спицы. – Все ко мне!
Это означало, что парк закончился и сейчас надо будет перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.
Спица сняла очки, подышала на стекла, потерла их голубым платочком и вернула на переносицу. Потом отбросила со лба непослушную прядь.
– Молодые люди. Если хоть кто-нибудь (пауза) из вас (пауза) позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами (пауза)… я закрою нашу студию, уволюсь и не напишу больше ни одной картины. – Она обвела нас холодным взглядом. – И в этом будете виноваты (долгая пауза) только вы.
Спица уже тогда – в тот год ей исполнилось тридцать – была самым известным в нашем городе художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со всей области, про нее время от времени писали в газете и поговаривали даже, что ее знают и ценят чуть ли не в Европе. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнись она, всю нашу младшую группу с позором бы изгнали из города.
– И нам бы пришлось скитаться по лесам, жить в землянках и есть лягушек, – расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему. – Вот была бы жизнь!
– А теперь все прижались ко мне, как к родной матери, – Спица развела руки, как птица, собирающая под свои крылья птенцов, – и шагом марш на ту сторону!
Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение – кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянулась себе спокойно вдоль насыпи, а метров через десять отчаянно изгибалась и пересекала железнодорожные пути.
Пыхтя и сопя, – спокойствие сохраняла только Спица, – мы подобрались к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец – это означало требование тишины, и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней, как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но в наших детских глазах казалась горной грядой.
Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались наверху.
На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо – широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под ног в обе стороны убегают рельсы – далеко, насколько хватает глаз. Мы жмемся к Спице, а она стоит, как колокольня, смотрит вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу.
Спица приосанилась, и я почувствовал на своем плече ее руку – тонкую и легкую руку художника – бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то оступился, и с насыпи покатились с радостным стуком камешки.
– Не зеваем, – скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону.
Мы слетели вниз и горохом рассыпались по тропинке.
А затем нам предстоял долгий путь через бесконечные рощи и поля в поисках подходящего вида. В рощах было сыро, по полям гулял ледяной ветер. Небо, как нарочно, растеряло все свои переливы и стало равномерно серым, будто заштукатуренным; наличие солнца угадывалось лишь по вытертому светлому пятну в облаках. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а затухающая, уже почти отжившая. От рощиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыпавшиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.
Спица летела вперед, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она летела так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось – погода играет против нас и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдем обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, теперь же над нами шутила осень, оставшись в городе вместо того, чтобы пойти следом.
– Галина Игоревна, – пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, – давайте сегодня парк порисуем.
– Оленька, – не оборачиваясь, отвечала Спица, – если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.
– Проверяй, но не доверяй, – шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.
Вовка вдруг кинулся вбок, и в Олю полетело что-то серое.
– Крыса!!!
Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередь дороги. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал швыряться дохлыми крысами?
Но нет, обошлось. Приглядевшись, я узнал в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой. Вовка пополам сложился от смеха.
Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам и шумно выдохнула.
– Володя, – медленно протянула она, закрыв глаза.
Вовка вышел на дорогу.
– Володя, – повторила Спица.
Вовка насупился. До голени его брюки были мокрыми от травы.
– Простите, Галина Игоревна, – промямлил он.
– Не. У. Меня, – не открывая глаз, отчеканила Спица.
Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь.
– Оля Петрова. Прости. Меня. Пожалуйста, – прокрякал он и сунул руки в карманы.
Оля, презрительно задрав подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти – словно и они тоже испугались и пытались сбежать.
– Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, – спокойно проговорила Спица, – но это чуть позже. Молодые люди, – она подняла вверх руку, – рассаживайтесь и доставайте краски.
Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаясь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывавшие из травы, с другой – поодаль – взгляд натыкался на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жавшиеся друг к другу. Насколько хватало глаз, расстилалось серо-желтое поле, то тут, то там вздыхавшее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с таким же серым небом, по которому тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели домики.
– Молодые люди, – нарушила тишину Спица. – Я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка начинать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистовую – в студии.
Мы в молчании, переглядываясь, – а не сошла ли Спица с ума? – повтыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти. У каждой табуретки возникла баночка с водой, краски бросали тут же, под ноги.
– Надо было в такую даль тащиться, – пробурчал Вовка, придвигаясь ко мне, – писали бы сразу заводскую стену.
– Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, – оборвала его Спица. – Переместись, пожалуйста, во-он туда, – она махнула рукой за наши спины. – Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.
Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался с минуту с пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.
– Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета, – совершенно серьезно наставляла Спица. – Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, – интонация пошла вверх, – она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.
Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Варежка одиноко и как-то виновато темнела у его ног.
– Остальные пишут пейзаж под названием… – Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок. – «Осенняя дорога».
И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось всё темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть результат, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не пылали золотом клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь – унылый серый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя шатер или грот. Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица поторопилась, что мы тогда были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента нельзя было и найти. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве – незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который ничему постороннему не было входа.
Спица всё это знала, она вела нас по пути собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в музеях. Теперь мне кажется, что их она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность – если и был среди нас человек, не готовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее – а точнее, она от него – чьей-то рукавицей.
А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой бисером рассыпался по всему ландшафту, серая даль была непонятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали были тишина и ожидание, в ней были будничность и грусть, в ней были неудовлетворенность и неустроенность, отсылавшие к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, и в этом, наверное, и заключалась ее суть – она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.
Всё это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя – это я понял потом – училась тишине и чуткости.
Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.
Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг моргнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:
– Сворачиваемся, молодые люди!
Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали наш инвентарь и – с сырыми еще эскизами в руках – готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, всё дул на свой натюрморт, даже мне отказался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варежку» в пакет.
Спица нарушила всеобщее молчание лишь у самых путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. На вершине гряды, когда нога моя запнулась о шпалу, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.
Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорилась.
По возвращении стало известно, что пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. – он проездом оказался в родном городе и нанес визит «навеки любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар, и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и всё время путал имена своих наставников. После – ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загородив осину, и смотрел.
Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.
«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из коридоров, но провисела недолго: некоторые помещения, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок – кружки и секции расселяли по соседним кабинетам – наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих раздумий отдал-таки Спице. Я видел «Осеннюю варежку» лишь раз – через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках работы на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».
Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под крытый теннисный корт. Бело-голубая коробка, в которую вместилось бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макушки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала.
На вопрос о месте переезда он пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись пятая: «Тяжелая, грозная тайна»
«За амбарами, к самым воротам стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головой кружку с надписью: “Все выпью”. На другой фляжка, сулеи и по сторонам, для красоты,лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны…» Эта, отмеченная среди «изображений» своей красотой, эмблема на погребе – напоминает о том, что мир, уходящий в глубину, в землю – перевертыш. У гномов он – отражение нашего: вверх ногами. И то, что видно нам – им не видно. Но могут увидеть, если… Об этом «если» и вся повесть Гоголя «Вий»…
Мир – тайна, что подлинное, что мнимое, мы не знаем. Глядим на зелень берегов Днепра ли, Волги, на дорогу по глинистой горе, сад с грушевыми деревцами, на погреб с нелепо намалеванной лошадью. Но это может вдруг перевернуться ясным смыслом, как вниз головой, и окажется: козак – не козак: вместо карих запрыгают зеленые очи, все лицо завесится волосами, похожими на коренья с землей. Днём – сотник, владелец хутора, а ночью… – Вий, дочка его, панночка – ведьма, козаки – нечисть, гномы… Что такое мир, что за ним? Человеку дано видеть лишь куски мира, дневные и ночные: то сотник с козаками, то ведьма с нечистью.
Мы, пользуясь словами Гоголя, на мир глядим, как будто «спим с открытыми глазами». А каков он есть, его другая часть – тёмная, нам неизвестно, скрыто нам же во благо. Но стоит заглянуть в очи этой тайны – мы гибнем, будто заглянули в глаза Вию, всезнающему, всевидящему. (Далее мы это положение разъясним подробней).
У Данте в «Аду» в предпоследнем круге, где, заметим, предатели родни и Родины вмерзли в лед по шею, мучатся и полулюди, полуживотные, наполовину скалы, наполовину сросшиеся в ком тулова – сторукие бриареи. Они, как написано в одном из примечаний к повести, могли навеять образ Вия. Нечистые духи – те же титаны и гиганты. Огромные, мохнатые и крылатые. В первом варианте у Гоголя осталось более подробное описание схожих существ, окруживших в церкви философа Хому Брута: «Он увидел вдруг такое множество отвратительных рыл, ног и членов, каких не в силах бы был разобрать обхваченный ужасом наблюдатель. Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиной почти со слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто чудовище желало подняться»… Подметим еще, что пирамида, из которой ломается язык, напоминает о треугольном погребе.
Мир человека космичен, завершен – и для этих недоносков распавшихся недоступен. Бесы как бы разделывают образ человеческий на куски: отдельные, живые ноги, глаза, белые мешки… И синяя рука вместо головы, конечно, видит как-то по-синеручному. И связка ног силится встать в каком-то своем пространстве, в своем видении потустороннем. Труп панночки и бесовские эти страшилища – сами по себе Божий мир и души людей не видят. Но Вий – это их общий глаз: когда ему помощники его поднимут веки на железном лице, он может увидеть и мир земной, человеческий, как и своё, подземное царство – насквозь, сразу… если душа живая, не выдержав искушения, глянет ответно ему в глаза.
В «Жизни Будды» индийского поэта Ашвагхоша (в переводе К. Д. Бальмонта) целая страница с описанием похожих чудовищ: полузверей, полульвов-полубыков; как Хому Брута, они окружают Будду, сидящего под дубом – но он, просветленный, не видит этих призрачных чудовищ во главе с богом зла и смерти Марой и тремя его дочерями.
Голова одних свиная.
У других, как будто рыбья…
Те – коням подобны быстрым,
Те – подобные ослам.
Лик иных был лик звериный,
Лик быка, и облик тигра,
И, подобные дракону,
Львиноглавые скоты,
На одном, иные, теле
Много шей и глав носили,
Глаз один на лицах многих,
Лик один, но много глаз…
А другие точно складка,
Весь живот, как провалился,
Ноги тонкие одни….
Безголовые там были,
Те безгруды, те безлики,
Две ноги, а тел не мало,
Лики пепельной золы.
Сотник и его слуги, козаки – эти дневные личины бесовского дна, силящегося овладеть храмом и душой человеческой, загодя начинают охоту на философа Хому Брута.
Гоголь в повести не раз неназойливо напоминает об этом – у него каждая фраза в своем гнезде. Вот Хома подходит к брике, чтобы ехать к сотнику.
– Здравствуйте, братья-товарищи!
– Будь здоров, пан-философ! – отвечали некоторые из козаков.
– Так вот мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная! – продолжал он, влезая. – Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.
– Да, соразмерный экипаж! – сказал один из козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею, вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.
– Любопытно бы знать, – сказал философ: – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными шинами: сколько бы потребовалось тогда коней?
– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.
Очерченный кругом быта, философ удивляется размерами знатной брики в живых, красочных сравнениях: соль, железные шины. Козак же отвечает: «Да, соразмерный экипаж». «Да, достаточное бы число потребовалось коней» – в общем, абстрактно отвечает козак. Ведь бесу всё равно, сколько лошадиных сил – он не видит предмет в поэтических (тавтологических) подробностях, как, например, в народной песне: уж ты конь мой, конь, лошадь добрая – а в общем – как схему. Что пять лошадиных сил, что сто – мигом подгонит!
Это не только ради смешного словца, для юмора, как воспринимается с первого взгляда; за «достаточным числом коней» не разглядел бесовской глумоты даже такой религиозный писатель, как Владимир Крупин. В записях разных лет «С утра пораньше» («Наш современник» № 9, 2016) как будто сама абстрактная сила отвела глаза автору. И стали козак и философ – кумовьями: «У Гоголя разговаривают два кума, сколько груза можно поместить на возу. И один гениально говорит: “Я думаю (!) д о с т а т о ч н о е количество”. И всё. И всё понятно». (Разбивка и восклицательный знак подлинника.)
Гномы в личинах людей так плоско, как пленку, видят наш бытовой мир – абстрактно, потому что и сам бес – абстракция, личина, псевдоним, как о том убедительно рассуждает хоть Л.П. Карсавин в своей книге о троичности личности: «Где абстракция признается бытием, там уже и бес, и смрадный запах… У беса нет лица и он пользуется человеком, как личиною, он по существу своему “лицедей”, злой, но “смешливый”, глумливый»… И еще любопытно: «Имена их сильно до неузнаваемости изменились в течение долгой истории человечества; и мало кто знает, что ныне бесов называют “субстанцией”, “субстанциональным деятелем”, “причиною” и другими, казалось бы, невинными или даже совсем неподходящими именами вроде “религиозного переживания” или “христианского союза молодежи”».
Вот и они (козаки-бесы) выпили «в шинке у жида», и сразу же начались ученые, абстрактные разговоры: «Я хочу знать всё, что ни написано». «Тому ли самому учат в бурсе, что и дьяк читает в церкви?» «… что ж тут… уж Бог знает как и что такое». Их отвлеченное знание – научно-революционно: «Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц». (История классов, устройство Вселенной!) А Хому же эти книжные знания не интересуют: он, так любивший танцевать под музыку, живой человек, сирота, чует опасность, хотя пока слеп для их неживого мира; так и панночка из своего слепого мира в церкви его поначалу не может увидеть.
Если из мира-храма убрать иконостас, образы Христа и Богородицы, святых, погасить веру – вместо них заклубится тьма, а образы людей предстоящих станут, как затекшие, заплавленные огарки свечей. Мир потеряет иконность. Образы вывернутся наоборот, наизнанку – как будто развоплощенные. Человеческим лицо может быть лишь перед Богом. Нечисти же с их слепым зрением оно невидимо или смутно различимо – как заключенное в оплывший воск: человек перед ним, как оплывшая свеча. Так же замуровываются души, мертвея, в страсти и грехи. (Отсюда и название великой поэмы Гоголя). Размуруй этот образ из огарка, и будет – образ-икона, то есть святой. Стать святым – значит, воскресить свой свет. «Непрестанно созидай свой ум в храм Богу, чтобы внутри своего сердца иметь невещественную опору – Царя», писал Григорий Богослов: «Познай себя самого, из чего и каким сотворен ты, доблестный мой – и чрез сие удобно достигнешь красоты Первообраза».
Дьявол же, лицедействуя, притворяется перед тобой то светом, то тьмою. В обезображенном храме мир перевернутый, мир «для красоты», вверх ногами. Тут Вий, навье со своим зрением. Вий – само зрение тьмы: тьма через него видит своим темным, но по-особому острым, давящим, как бы развоплощающим зрением, от которого образы человеческие оплывают, тают в землистом сиянии вещества. Вий видит ощупью, осязая всем безОбразьем своим, потусторонне тяжелым, железным, каменным: ведь он – живая материя, железо и камень с глазами. Он – обитатель темного погреба Божьего светлого мира. В повести это ясно разграничено, как и то, кто что мог видеть или не видеть. И человек обычно видит лишь свой земной мир, если не…
Гоголь в статье, которая так и называется, «Женщина», утверждает: «Что женщина? – язык богов!.. Она – мысль, а мы только воплощение её в действительности»… «Пока картина еще в голове художника и бесплотно округляется и создаётся – она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в осязаемость – она мужчина». Женщина. Красота. Природа. Но не только их целокупную картину увидел философ, но и ту их прелесть неотразимую, что способна заманивать, губить: как бы, наоборот, развоплотить из действительности. В панночке-ведьме – женщина, красота, природа – как раз и оборачиваются прелестью, «страшно пронзительной» силой. Когда Хому оседлал «непонятный всадник», ведьма, такую силу и дала ему эта прелесть: он стал как бы кентавром, стал видеть вглубь, насквозь; подчинившись ведьме, он то ли во сне, то ли наяву начинает видеть и дно мира. Еще до того, как философ войдет в ночную церковь к черному гробу «страшно пронзительной красоты», мы узнаем о расплате, что ждет впавшего в эту прелесть. Вот что случилось с Микиткой, который «такой был псарь, какого на всём свете не можно найти».
«Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие её ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою».
А философ Хома Брут вроде победил эту природную силу, изловчился, сам оседлал панночку-ведьму, и «мог сказать, куда они ездили» и что видели. «Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая под ногами его, росла глубоко и далеко и что сверх её находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря»… (Эта тонкая вода как бы материализовавшийся, падший свет. – Н.С.) «Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце»… Там видел и лицо русалки «с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу…» Но для него это лишь начало трагедии, не случайно и то, что она развернулась после того, как философ убил красавицу. Будто он стал для гномов «наш», будто он мертвый, оживший в смерть, живущий смертью, как живут ей связки ног, чудовища из умного вещества, полу-природные силы. Он – наш, он – мертвый!
А смог бы он осветлить эту силу, отмолить панночку, как в известной русской сказке на схожий сюжет, или как совершил это Христо, герой повести Константин Леонтьева «Дитя души»?.. (Русский вестник, 1876 г. Кн. 6–7). Кроме своей будущей невесты, которую он воскресил из гроба, три ночи в страхованиях устояв в церкви, Христо освободил немало душ, работавших на загробной фабрике, владелец которой изображен в личине «богатого франка-купца в клетчатом костюме, глаза его метали молнии, а был это сам дьявол».
Вспоминается, как «по-виевски» истолковал Алексей Ремизов один деликатный вопрос – несостоявшуюся женитьбу философа и поэта Владимира Соловьева, так и не решившегося нарушить обет верности «подруге вечной…» «Всё видел я, и всё одно лишь было – Один лишь образ женской красоты… Безмерное в его размер входило…» («Три свидания»). Если бы изменил ей, «вечной женственности», связав судьбу с невечной, земной, от него бы осталось «куча золы да пустое ведро». Произошло бы замыкание, писал Алексей Михайлович. Светлая энергия – разрядилась в иное, темное. По Ремизову – Соловьев поднялся над властью телесного низа – к высшей любви.
Да и к самому Николаю Васильевичу Гоголю, к его смерти повесть «Вий» имеет особое отношение, загадочное. Отчего он, умевший видеть «мертвые души», узревший их, умер так неожиданно, как философ Хома Брут?
И.С. Тургенев в своём письме к И.С. Аксакову 3 (15) марта 1852 года, потрясенный смертью Гоголя, смятенно пишет: «Скажу Вам без преувеличения, с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя, – все, что Вы говорите о ней, сказано мне прямо в душу. Эта страшная смерть – историческое событие, понятна не сразу; это тайна, тяжелая, грозная тайна – надо стараться её разгадать… но ничего отрадного не найдет тот в ней, кто её разгадает… все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к её недрам, – ни одному человеку, самому сильному духу не выдержать в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб!»
Не та ли это грозная, тяжелая тайна, от которой умирают заглянувшие в глаза, как определил сам Гоголь в примечании, «колоссальному созданию простонародного воображения», Вию? Персонажи повести, её загадочные образы-перевертыши нездешним, незримым смыслом связаны с судьбой нашей Родины, России, с её оживающими мертвецами, с превращающейся в ведьму красавицей, в поруганной красоте которой есть «…что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинает как-то болезненно ныть, как будто бы среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст её, казалось, прикипали кровью к самому сердцу».
После революции 1917 года уже упомянутый К. Д. Бальмонт обронил провидческие строки:
Я любил вознесенное сказками древо,
На котором звенели всегда соловьи,
А под древом раскинулось море посева,
И шумели колосья, и пели ручьи.
…………………………………………………..
Я любил в этом древе с ресницами Вия,
Между мхами, старинного лешего взор.
Это древо в веках называлось Россия,
И на ствол его – острый наточен топор.
У Бальмонта какая-то, нередкая для него, стрекозящая пестрота образов между острым топором и Вием. Да не отвело ли и ему глаза? Гоголь же говорит о веках – это у ведьмы «острые, как стрелы, ресницы»! Топором ли сразить древо с ресницами Вия? И чем Россия связана с Вием? Не Россия ли эта «красавица, какая когда-либо бывала на земле?» Почему в её «резкой и вместе гармонической красоте» «что-то страшно пронзительное?» Почему, опять хочется спросить, глядя на неё, «душа начинает как-то болезненно ныть, как будто бы среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст её, казалось, прикипали кровью к самому сердцу». О «борьбе целого народа» пишет и Тургенев…
Тут стоит и завершить ряд вопросов словами из тех же записок («Наш современник», № 9, 2016) давно ценимого нами автора «Живой воды»: «Ни в одной литературе нет того, что в русской. Это от своеобразия русской жизни. У нас всё одушевлено, нет неживой природы, всё живо».
Жива и тяжелая, грозная тайна нашей жизни: от неё по-прежнему болезненно ноет душа… и по-прежнему звучит песня об угнетенном народе… и по-прежнему рубины страшных уст прикипают к его сердцу. Ибо «существуют бесы не только отдельных личностей, но и бесы народов». И борьба целого народа с нечистью, с её дневными личинами – продолжается: ночная, страшная, видимая и невидимая, в громадном обезображенном храме, имя которому Россия.
Примечание.
Приводим полностью цитату, важную для нашей темы:
«Как несовершенный человек раздваивается на эмпирического грешного человека и беса, и, следовательно, метаэмпирический мир раздвоен на ангельский и бесовский…. Вполне очевидно, что существуют не только бесы-искусители отдельных людей, но и бесы высших личностей, например, – бесы народов, и бесы животных, и могущественные бесы стихий. Имена их сильно, до неузнаваемости изменились в течение долгой истории человечества; и мало кто знает, что ныне бесов называют “субстанцией”, “субстанциональным деятелем”, “причиною” и другими, казалось бы, невинными или даже совсем неподходящими именами вроде “религиозного переживания” или “христианского союза молодежи”. Где абстракция признается бытием, там уже и бес, и смрадный запах. Если мы не согласны называть ангела личностью в том же смысле, что и человека, если ангел – личность только чрез человека и в человеке, сам же по себе безымянен, то тем более безымянен и ни в каком смысле не личен бес. У беса нет лица, и он пользуется человеком как личиною, он по существу своему “лицедей”, злой, но “смешливый”, глумливый. Со своим ангелом человек соединяется, с бесом – разъединяется. И сам бес – ставшее вне человека его дурное разъединение, существующее лишь потому, что существует преимущественно разъединяющийся человек. В совершенстве человека, в полном соединении его с ангелом и ангел и человек останутся, а бес должен погибнуть…. Но ведь того, что бес “был”, уничтожить не удастся»….
Л.П. Карсавин, «О личности». Каунас, 1929 г.
Литературный процесс
Екатерина ВИСИЦКАЯ. «Самое ценное, живое, искреннее и непременно родное»
К юбилею журнала «Родная Кубань»
Кубань… Регион на карте России… Люди, с любовью поющие гимны солнечному краю, бесконечные виноградники и поля подсолнухов. Это «Маленький Париж» Лихоносова, главная житница страны, завораживающие Кавказские хребты и закаты над морем южного побережья. Это столица казачества, уникальный исторический пласт, отразившийся в диалекте стариков, по сей день живущих в деревянных станичных домиках, это художественные музеи, музыкальные театры, дома поэтов, Екатерининские скверы, Пушкинские площади, и память, запечатанная в стенах домов. Для каждого из нас Кубань разная и особенная. Но для каждого – родная.
Я приехала сюда восемь лет назад и до сих пор открываю для себя край, ставший моим, все сильнее к нему привязываясь и влюбляясь. Изучаю природные памятники, заглядываю в старые дворики Краснодара, наблюдаю за людьми в вагончике на последней в стране горной узкоколейной железной дороге, проходящей через немногочисленные села и деревни, подчас даже подслушиваю разговоры бабушек на лавочках в парках, читаю, смотрю, впитываю, проникаюсь.
Сегодня я снова открываю для себя Кубань – «Родную Кубань». Шелест страниц литературно-исторического журнала аккомпанирует возникающему в моей голове стуку колес поезда. Заняв своё место в кабине еще в 1998 году, влюбленный в свое дело машинист Виктор Иванович Лихоносов начал исследовать вместе с нами неизведанные литературные, культурные, исторические тропы бескрайней земли, то и дело останавливаясь на станциях нашего внутреннего мира, давая возможность посмотреть вглубь себя и по-новому открывать старые вещи, имена, смыслы.
Утренняя роса пробирает меня, пока я стою на перроне, приставив к щеке граненый стакан с согревающим крепким чаем и перебирая мысли в голове. Так много услышанного, увиденного, прочитанного… Но затяжной гудок вырывает меня из собственных рассуждений и призывает поторопиться – впереди столько всего интересного!
Почему же «Родная Кубань»? Неужели состав везет только уроженцев края? Или это лишь условное название? Едва мы трогаемся, с первых страниц получаю ответ на свой вопрос: «В слово “родное” мы вкладываем зачастую нечто поверхностное, лозунговое, не касающееся тихой сокровенности родства. В наших словах и делах еще немало пустого и корыстного, то есть не освященного глубокой выстраданной идеей. Поведаем же о своей Родине со спокойной душевной откровенностью, любовью и нежностью. Путь очищения, возвращения к святыням предстоит долгий». Задумываюсь над предисловием Виктора Ивановича и вскоре осознаю, что ведь именно путь и важен – он и есть то, куда мы стремимся, он и есть самоцель. Серьезно настроившись и предвкушая длинную увлекательную дорогу, усаживаюсь поудобнее у окна и растворяюсь во множестве хорошо известных мне и не так давно знакомых лиц.
Оглядываюсь: вокруг такие непохожие друг на друга пассажиры! Они разного возраста, в их среде есть священнослужители и простые рабочие, гордые казаки и вдохновенные поэты, литературные критики и профессора истории, грамотные филологи и талантливые художники, начинающие писатели и самородки. Здесь что-то бурно обсуждают, там тихо беседуют, где-то спорят, а где-то соглашаются, вот внимательно слушают, а вот – проникновенно рассказывают. Слушаю и я, с интересом перелистывая страницы и нетерпеливо захватывая краем глаза нижние строки. Но всех нас объединяет что-то более важное, чем просто конечная точка маршрута. Это что-то нежное, трепетное, глубинное.
Пейзажи за окном сменяются так же быстро, как и фразы, звучащие вокруг и плотно отпечатывающиеся в моей голове. Глаза ослепляют блики восходящего солнца, порождаемые гладью Таганрогского залива. Проезжая родину писателя Вацлава Михальского, недавно отметившего свой 80-летний юбилей, поезд делает остановку на железнодорожной станции Скопинского района. И вот уже с нами едет небезызвестный Захар Прилепин. Все с упоением слушают главу из книги «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы», которую читает филолог, публицист и военный журналист.
Смотришь и не веришь: то ли это кинолента, транслируемая на мониторах окон, то ли игры воображения… За приподнятой шторой бесконечные леса, березовые рощи, ручьи, сказочные деревянные домики, равнинные луга, пушистые холмы, статные лошади, верхушки гор, присыпанные снегом.
Незаметно подъезжаем к Воронежской области, селу Скрипниково. Здесь родилась Лидия Сычева, давний гость страниц журнала. Наблюдая за полузаброшенными поселениями, заколоченными наглухо окнами в старых хатках и размытыми дорогами, мы вместе сокрушаемся о тихой гибели таких сел. Кто-то рядом тяжело вздыхает и присоединяется к разговору о том, что убивает нашу деревенскую культуру: «Соцреализм вроде бы и не отрицал национального, но оно было во многом картонной декорацией, ряженностью, привязкой к месту действия, а действие было одинаково везде: строительство неведомого светлого будущего». Это Владимир Крупин, православный писатель, рассуждает о русском стиле, добавляя, что если русский стиль был, – а он был, существовал, – то он и есть, он действует, он живет хотя бы в тоске по нему. На мой немой вопрос о том, как же его продолжать в условиях современного города, Крупин тут же отвечает: «Я никуда не денусь, я живу в цивилизации, но как писатель я живу историей».
Конечно! Сколько раз сам Виктор Иванович говорил: «Пока я пишу – я помню». Помним и все мы, сидящие на мягких сидениях плацкарта, устремленные не вдаль, но вглубь. Ведь память является связующим мостиком между «вчера» и «завтра», образуя «сегодня». А никакое «сегодня» невообразимо без знания русской истории, почтения и уважения к ней.
Предаваясь светлым ностальгическим воспоминаниям, из конца вагона выходит в центр поэт из станицы Кореновской – Николай Зиновьев. Разговоры постепенно стихают, и мы погружаемся в безбрежные просторы его лирики:
А в глубинке моей
Нет ни гор, ни морей.
Только выгон с привязанной тёлкой.
Да древко камыша,
На котором душа,
Маясь, мечется сизой метелкой.
«В его стихах говорит сама Россия», – восторженно подчеркивает Валентин Распутин. В безмолвном согласии аплодируют все попутчики: Алексей Смоленцев, Юрий Кузнецов, Светлана Медведева, Юрий Лощиц и остальные. И пока одни воспевают любовь к родным местам, а другие наслаждаются волшебством поэзии, я выхожу в тамбур. Но вовсе не для того, чтобы побыть в одиночестве и поразмышлять об услышанных строках, нет. Здесь, как обычно, в самом разгаре споры мэтров литературной критики. Маргарита Синкевич, Сергей Распутин, Леонид Бородин… Все они с живым интересом говорят о современной публицистике, об истинном патриотизме, о книгах Румянцева и Михальского, о православии и культуре казачества, словом, обо всем, к чему должен быть неравнодушен русский человек.
Задумывавшись о таких важных вещах и едва не вступив в разговор, я вдруг замечаю, что хотя состав и прибавляет ход, Виктор Иванович остается на одной из станций и, улыбаясь, провожает наш вагон спокойным взглядом. Глаза его говорят о том, что он вернется, и не раз, но с этих пор его местом станет одно из пассажирских сидений среди остальных путников.
«Будем стремиться продолжать лучшие традиции издания. Обязательно сделаем так, чтобы “Родная Кубань” в ближайшее время вошла в тройку ведущих патриотических журналов страны и печататься в ней стало престижным для лучших прозаиков, поэтов, публицистов страны» – слышу я уверенный голос нового машиниста, нового подвижника, нового главного редактора «Родной Кубани» Юрия Михайловича Павлова…
***
Прошло два года, и что же можно сказать? Поезд не меняет направления. Он по-прежнему учит и образовывает нас, затрагивает самые сокровенные уголки души и не дает забыть о главном: учит всех нас человечности и любви. С каждым новым выпуском, с каждым новым отправлением, гонимый попутным ветром, он, подобно птице-тройке, стремительно несет нас по дорогам судьбы России, расчищая забытые нами тропы и прокладывая новые пути.
Выбор своего предполагаемого поезда для путника сегодня весьма велик: «Желтая стрела» Пелевина, «Убийство в Восточном экспрессе» Кристи, «Москва-Петушки» Ерофеева… Но для меня, как и для многих других, выбор этот очевиден: конечно же, «Родная Кубань». Ведь она и 20 лет назад, и сегодня, и через 20 лет, по словам В. И. Лихоносова, будет «доносить людям самое ценное, живое, искреннее и непременно родное».
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
НОЧЬ В МИКРОРАЙОНЕ
Бьет полночь!.. Пугливо пустеют бульвары.
В озябших подъездах прощаются пары,
И тьма заполняет, – хоть редко, но метко, –
Высотных кроссвордов последние клетки.
Рекламы гудят, как набрякшие вены.
Недвижно стоят за стеклом манекены.
Единственным глазом, как пес беспризорный,
Сквозь ночь зеленеет огонь светофорный.
Но солнце поднимется ржавым бутоном,
Распустится в небе над микрорайоном –
И горло проспекта откашляет хрипло
Горячий, свистящий комок мотоцикла!..
Начинающий автор пробует перо: играет словами, пытается создать запоминающиеся образы… В конце 70-х годов прошлого века, когда я сочинял эти строчки, рядом со мной не было никого, кто мог бы помочь мне на пути в страну Поэзию – указать на недостатки, похвалить за достоинства, грамотно поправить текст. Положим, оценщики кой-какие были: поэт Владимир Сокол, мой старший товарищ по ярославскому литературному цеху, восторгался этим стихотворением, рецензент журнала «Волга» Сергей Страшнов сдержанно хвалил, московский литератор Николай Старшинов – ругал… но я не верил никому из них, поскольку собственные тексты этих людей не производили на меня никакого впечатления. Я чувствовал, что верить можно только мастеру… но где же этого мастера взять?
Мои друзья-студенты тем более не могли сказать по поводу моих сочинений ничего вразумительного, поскольку в изящной словесности не разбирались. Впрочем, нет, – был один паренек с юрфака, однажды преподавший мне наглядный урок литературного мастерства. Этот студент, сгинувший потом в городских джунглях, много читал, часто болтал со мной о книгах и жизни, сам пытался писать прозу. И вот однажды он сказал мне:
– Черт возьми, в который раз перечитываю одну и ту же страницу моего любимого Оскара Уайльда – и не могу понять, почему она меня очаровывает! Как он этого эффекта добивается, с помощью какого литературного приема?
Я, тогда еще не читавший Уайльда, промычал в ответ что-то неопределенное.
А через неделю мой приятель гордо сообщил:
– А ведь я нашел разгадку! Сосчитал на этой странице все прилагательные, обозначающие цвет – белый, желтый, красный, нежно-зеленый, серый, радужный, опаловый, пестрый, лиловатый, перламутровый, голубой… есть даже «розовоногий»! Вот здорово! Набралось аж два десятка! Двадцать прилагательных, обозначающих цвет, сосредоточены на одной странице, понимаешь? Это явно лингвистический прием, обращенный к подсознанию, – и он работает!
Я запомнил это высказывание навсегда.
***
Лучились дыры сеновала,
Звенело тихо комарье,
Когда она с себя снимала
Простое платьице свое.
И в пятнах света, в тихом звоне
Мы растворялись целиком…
И грудь ее в мои ладони
Лилась топленым молоком.
И это тоже было в моей жизни… Теперь, глядя из своего городского многоэтажного далека на себя тогдашнего – юного, восторженного, со стеблями сена в буйной шевелюре, я думаю: Господи, сколько же Ты всего подарил мне!
А тогда я не думал, не анализировал, не копался в себе – а жадно пил из чаши бытия, пил с закрытыми глазами…
ПЕРВЫЕ ДНИ
День идет. Отбой всё ближе, ближе…
Я засну и буду видеть сны.
Может быть, во сне я не увижу
Ненавистной рожи старшины,
Не услышу злобной матерщины,
И не будут больше мне страшны
Прапоры, сержанты и старшины…
Я засну и буду видеть сны.
Это самое первое стихотворение, написанное мною в период пребывания в славных Вооруженных Силах СССР, в учебном центре. Помнится, в первую же ночь старшина Артамонов, обладатель высокого статуса «лучшего прапорщика Ленинградского военного округа», погнал нашу роту красть цемент у соседнего подразделения – и несколько часов подряд мы бегали с носилками по темной строительной площадке, как угорелые. На другой день соседняя рота простаивала, а наш ротный получил от командира благодарность за четкую организацию хода работ.
Через пару дней тот же Артамонов приказал выйти из строя одному из наших курсантов – и с треском надел ему на голову ротный барабан. Правда, парень и впрямь провинился: отрекомендовавшись слесарем и вообще мастером на все руки, вызвался починить главный музыкальный инструмент нашего подразделения, – но не справился.
Пунцовая от обиды голова страдальца торчала из лопнувшего барабана и источала детские слезы, а двухметровый прапорщик мягко, как барс, прохаживался перед строем, хищно вглядываясь в наши оторопелые лица. На его лице не было и тени улыбки.
– Я ведь тебе, слесарь гребаный, ясно сказал: не сделаешь – я тебе этот барабан на голову надену! – рычал он. – И надел, как видишь! А столярам – шкафы и столы надену на голову! А электрикам – лампы дневного света!
Много я помню всего такого…
ТОТ СОЛДАТ
Забыть бы тот тоскливый взгляд,
Тот злобный тон… Вот незадача!
Опять он рядом, тот солдат, –
Стоит, лицо в ладонях пряча.
Сквозь пальцы сжатые ползут
На ворот новенькой шинели
Две капли… Чей-то скорый суд.
– Скажи мне – кто тебя, земеля?
А он куда-то вбок глядит
С немым отчаяньем во взоре
И, сплюнув, злобно говорит:
– Кого гнетет чужое горе?
Солдатчина времен конца коммунистической эпохи (да и позднейшего времени) еще не осмыслена нашей литературой художественно, серьезной прозы об этом нет. Боюсь ошибиться, но всё, что мне по сию пору довелось прочесть на эту тему, – лишь беллетристика, пусть иногда и талантливая. Сугубому большинству текстов недостает образного решения, которое одно только и способно объемно выразить смысл.
Послужив в самом начале 80-х годов в «советской армии» полтора года рядовым и младшим сержантом, я много чего повидал – и мог бы, наверное, рассказать читателю что-то любопытное. Но для меня самого до сих пор самым ярким произведением о срочной службе в те годы остается рассказ моего армейского приятеля Абая Сейткалиева. Передаю этот рассказ так, как он мне запомнился.
«Каждое лето наш мотострелковый полк возили под Архангельск, в Нюхчу, канавы рыть на болоте. Вот, привезли нас, поставили мы палатки, начали рыть. Офицеры тут же закрылись в своей палатке, стали водку пить, – а мы попали в распоряжение “дедов”. Те поставили задачу: каждому воину за день надо вырыть по десять метров, а если нет – иди вечером в “дедовскую палатку”, получай звездюлей. И вот я однажды не смог выполнить норму – и поплелся на расправу.
Вошел в палатку – и обомлел: посредине сооружен из коек, табуреток и матрасов высоченный помост, что-то вроде трона. И на самом верху сидит самый сильный “дед”, азербайджанец. Чуть ниже – его земляки, тоже все не слабые. И в самом низу трона – разные прихлебалы, многих национальностей. Тут и русские, и наши казахи, и те азеры, что послабее…
Я знал, что меня будут бить, но когда увидел такую картину – чуть не расхохотался. А чурка этот с высоты трона говорит: “Сколко он нэ выкопал, дыва мэтра? Дайтэ иму как слэдует, дыва раза!”
Ну, дали мне… Выкатился я из этой палатки, всё лицо в крови, а сам хохочу, не могу удержаться…»
Услышав этот рассказ, я тоже посмеялся от души вместе с Абаем. А спустя годы, вчитавшись как следует в «Повелителя мух», гениальную сатиру моего любимого Голдинга, стал всё чаще вспоминать этот рассказ приятеля. И вспоминать без улыбки.
Да, солдатская служба обнажает суть человека… а может быть, и суть человечества. Боже, но как же тонка пленка нашей земной цивилизации, как легко мы нисходим к первобытному своему состоянию! Стоит только нашим «офицерам» на миг забыть о нас и отдать в распоряжение наших «дедов», как мы тут же превращаемся в то, что мы есть на самом деле, создаем иерархическую пирамиду…
ОБРАЗЫ ЗАПОЛЯРЬЯ
Заполярье!.. На голых плацах
В тыщи пальцев свистят метели.
Как нарывы, холмы бугрятся
На земном худосочном теле.
И казарм деревянных стены
На морозе в ночи стреляют,
И далеких подруг измены,
Словно раны, не заживают.
Но тоски ледяная пропасть
Строевого припева мощью
Перекрыта…
Ах, этот образ,
Как и все, я придумал позже!
А когда я служил отчизне
В заполярной дыре морозной,
Эти образы были жизнью –
Непридуманной и серьезной.
Скажу, положа руку на сердце: об отчизне, о защите ее священных рубежей – и речи никогда не заходило в тех местах, где я служил (если, конечно, не считать офицерской трепотни в «ленинских комнатах»). Реалии мотострелкового полка, на 80 процентов состоявшего из «представителей национальных республик», быстро отбивали у любого романтика желание мыслить и чувствовать в этом ключе. Все силы сугубого большинства моих сослуживцев были направлены лишь на то, чтобы дотянуть до «дембеля» и не уронить при этом свой иерархический самцовый ранг.
Я не был исключением. Об опытах Дидье Дезора я тогда ничего не знал и трагическую правоту их результатов постигал на собственной шкуре. По менталитету я не эксплуататор, а значит, опасность скатиться в разряд изгоев была для меня вполне реальной. Но была и возможность остаться автономом, вольным волком, – и все свои силы я бросил тогда на достижение и сохранение этого статуса.
Из армии я вернулся другим человеком. И долгие годы спустя всё еще осмысливал то, что прожил и прочувствовал за время службы. О такой науке, как социобиология, в те времена в Советском Союзе слышали немногие, до конкретных выводов мне пришлось доходить самому, выезжая на голой интуиции, без знания основ и понятийного аппарата.
Мой отец, служивший срочную в начале 50-х годов, изумленно качал головой, слушая мои рассказы о службе в армии: «Нет, у нас такого не было… Было очень тяжело, даже муторно, но такого, о чем ты рассказываешь, – не было…»
А у нас было, папа.
СВЯЗЬ
О, мир – зеленый с голубым,
Цветущий, деревенский!..
Лишь телеграфные столбы
Стоят, как отщепенцы.
А между ними – провода,
Дрожащие от гула,
Века бегущего туда,
Куда ты взор метнула…
Излюбленный термин советских пропагандистов, повторяемый на все лады в период травли Солженицына, внушил мне в те годы естественное желание вдуматься в истинный смысл этого слова. Кто такой «отщепенец», что это вообще за зверь? Заглянув в толковый словарь Владимира Даля, я убедился, что ничего страшного в термине нет: «отщепенец» – это всего лишь человек, «отщепившийся по разномыслию от общества»…
Но ведь и сам я мыслю совсем не в унисон с окружающими! Значит, и меня могут вот так назвать?
А что, если заглянуть в отечественную историю – есть ли там отщепенцы? Да полным-полно – и Курбский, и Герцен… А вдруг между отечественными отщепенцами разных веков есть некая незримая связь? Может быть, их роднит не ненависть к родине, а всего лишь вот эта способность к разномыслию с обществом?
От этих вопросов было уже совсем недалеко до рождения поэтического образа. Я вдруг увидел зеленую поляну под голубым небом – и пересекающую ее серую цепь телеграфных столбов, несущих вдаль какую-то неясную весть, услышал гулкую дрожь проводов, резонирующую с током моей крови. И смог, между прочим, заметить, что сами эти столбы – всего лишь недавние деревья, еще вчера шумевшие кронами в родном лесу, а ныне безлиственные, унылые, такие чужие окрестному цветущему миру…
Прочитав это стихотворение поздней осенью 1979 года, Юрий Кузнецов понял, что его младший собрат по перу находится в состоянии выбора своей гражданской позиции и творческой судьбы, опасно балансирует между зеленым русским лесом – и серой шеренгой бывших деревьев. Но великий русский поэт не стал ничего объяснять своему ярославскому собеседнику, а лишь коротко написал, как отрезал: «”Связь” – это не Ваше, а чужое».
И правильно сделал, конечно.
СВАТОВСТВО
Ковры на стенах, горка и комод,
и ни гвоздя для маски и для лиры…
Того гляди, что кочет запоет
за тонкой стенкой городской квартиры.
Но нет: бубнит приемник. Как во сне,
вхожу в бубнёж… Зевающим предвестьем
хозяева встают навстречу мне.
Я скоро буду звать их тещей с тестем
и день-деньской маячить в их тени,
строча стихи меж горкой и комодом…
Но кто они? Я знаю, кто они,
я не приезжий, я отсюда родом.
По их судьбе прошла веков орда,
и век минувший не был легче прочих.
Они – крестьяне, в лютые года
державой превращенные в рабочих.
Они ее рабы, ее оплот,
она дала им бедное жилище,
тугим тряпьем набила их комод,
а животы – простой и тяжкой пищей.
О чем же с ними мне поговорить?
О дочери? О власти? О погоде?
Тяну слова и скручиваю в нить.
Они кивают. Всё в порядке вроде.
Они добры, они несут вино
и поднимают первый тост за зятя.
Они мудры – и поняли давно,
что можно выжить, лишнего не тратя.
Их губы сжаты, лбы утомлены,
но есть и в них младенческое что-то:
– Вот первая любовь твоей жены! –
и теща мне показывает фото.
Я улыбаюсь. Я киваю в такт
их тайным мыслям, спрятанным меж прочих.
Не все ль равно мне? Пусть всё будет так,
пока меня не клюнет тайный кочет…
Половозрелая особь мужского пола, ты еще не стала взрослым мужчиной, способным мгновенно видеть, адекватно оценивать, принимать единственно верные решения и нести ответственность за них. Взрослый мужчина не подчиняется безвольно ни зову своей похоти, ни волне своего чувства, он умеет управлять ими. А ты, особь, пьешь из первого поставленного перед тобой стакана, ныряешь в первый попавшийся омут, заходишь в тесное пространство между горкой и комодом, строишь дом на краю обрыва. А потом корчишься от боли, тонешь, плачешь на развалинах…
Кто виноват в твоих бедах, особь? И будет ли у тебя время что-то исправить?
Но утешься: дело не только в твоей вине. В земной жизни есть еще и судьба, и Божья воля, и ни один мужчина, даже вполне взрослый, не властен над ними. Судьба швыряет его, как щепку, в своих волнах, а Божья воля способна выхватить бедолагу из водоворота и водворить на прочный берег. Или забить под камень, на самое дно.
Гм, – говоришь ты, – но раз так, есть ли смысл взрослеть? Не верней ли будет отпустить свою душу на волю?
Это хороший вопрос, особь. Но тебе нужно помнить, что тот, кто впервые облек данную проблему в чеканную поэтическую формулу, сам понимал взрослым своим умом, что сочинил эту формулу его детский дух, привыкший свободно распоряжаться собой и миром.
Детский дух, особь! А ты уже не ребенок.
Только одно может извинить тебя: ты – поэт. Поэт, артист, музыкант, художник… таким людям издавна позволено вбивать в стену быта свой гвоздь – и вешать на него лиру или маску. Все вокруг тебя, – даже крестьяне, превращенные в рабочих, – понимают, что у такого гвоздя должно быть свое место на стене. Поэтому-то тебя и впускают в пространство меж горкой и комодом.
Итак, разыми себя, половозрелая особь мужского пола, раздели на две неравных части. Первая пусть улыбается, кивает, пьет вино с тещей и тестем, строит дом, растит детей. А вторая, отпущенная на волю, пусть блуждает в земном промежутке, глядит из небес и играет на дудке, и пьет из цветка, и меняет маски, и щиплет струны отзывчивой лиры…
А твой тайный кочет пусть пока посидит спокойно на том же гвозде – и помолчит. До рассвета еще далеко.
СОН О ЗАТОПЛЕННОЙ РОДИНЕ
На дне морском я, весь в слезах, стою,
На родину свою смотрю сквозь слезы.
Сквозь слезы вижу родину свою –
И близкий луг, и пойму, и березы.
На дне морском полощется листва
И гладит ветер спеющую гречу…
Как зелен луг! Как высока трава!
И девочка бежит ко мне навстречу.
Бегом бежит! Я вижу сквозь кусты:
В траве мелькает белая панама.
И узнаю знакомые черты
И, плача, говорю ей: «Здравствуй, мама!..»
Становится нерезким ясный вид
И странный сон бежит за край сознанья.
Далекий взрыв!.. И родина дрожит,
И всё кругом теряет очертанья.
Но девочка – она еще видна,
И светлые глаза полны укора.
«Не плачьте, дядя, – шепчет мне она, –
Нас не затопят. Мы уедем скоро…»
И снова взрыв!.. Угрюмая гроза
На пойму наплывает из-за леса.
На девочку, что смотрит мне в глаза,
Летит дождя тяжелая завеса.
Трещит будильник, странный сон двоя,
Зовет жена, ему привычно вторя.
И, весь в слезах, всплываю тяжко я
Со дна пустого Рыбинского моря.
«Ниночек беленький» – так звал мою маму в детстве ее старший брат Володя. Русая, круглолицая, светлоглазая Нина была младшей дочерью в крестьянской семье Ковальковых, трудно, но дружно жившей в своей родной слободе, в трех верстах от Мологи. Глава семейства, Александр Иванович, работал возчиком в городской артели инвалидов, развозил полученные в Рыбинске продукты по артельным столовым и чайным, а вечерами плел на заказ корзины из ивового прута. Его супруга, Елизавета Ивановна, тоже трудилась в райцентре, на семеноводческой станции. Дети во всем помогали родителям; даже маленькая Нина, забираясь внутрь больших корзин, помогала тяте заплетать днища.
Ковальковы держали лошадь и корову, но еле-еле сводили концы с концами. Однако вступать в колхоз в начале 30-х годов мой дед наотрез отказался, предпочел остаться в артели. Впрочем, к инвалиду империалистической войны агитаторы шибко-то и не приставали: у этого Ковалькова и немецкая пуля в ноге сидит, и локоть отсечен осколком снаряда, – какой с него в колхозе прок?
В середине 30-х годов по округе впервые пролетел слух о строительстве плотины и о грядущем затоплении Молого-Шекснинской низины. Никто из слобожан в это не поверил; старухи в один голос твердили: «Плотина-то, как бочка: нальют в нее воды – и лопнет». Но в январе 1939 года власть заявила твердо: всё междуречье Мологи и Шексны будет затоплено – переезжайте!
Со слезами на глазах Александр Иванович собственноручно сломал родное гнездо, связал бревна в плоты-гонки и поплыл на них на новое место жительства, в гиблую болотистую жижу селения Старый Ерш, всего десять лет назад присоединенного к Рыбинску. Тут же, на плоту, сидели в шалаше и Елизавета Ивановна, и все дети, и собака Белко; только корову повели по берегу. Маленькая Нина испугалась, когда плот стал опускаться вниз в страшных бетонных шлюзах… слава Богу, она еще не знала тогда, сколько безвинных душ ушло на тот свет при строительстве этих циклопических сооружений, какие великие скорби были навсегда замурованы тут в сталинский бетон!
Сто тридцать тысяч жителей Молого-Шекснинского междуречья власть согнала тогда с насиженных мест, навсегда отняв у этих людей их малую родину. И рана эта болит до сих пор.
Я, потомок переселенцев, так много занимался фамильной историей, так долго вел свои виртуальные раскопки на дне Рыбинского моря, что оно, наконец, стало мне сниться. Но я увидел во сне не мрачное илистое дно водохранилища, а ярко-голубое небо, белопенные волны цветущей гречихи, хоровод берез и огромный, жужжащий, полный запахов разнотравья, заливной Боронишинский луг…
***
Тридцать лет пролетят – мы очнемся с тобой стариками.
Я заплачу тихонько. Обнимешь меня, загрустишь.
Говорить? Но о чем? Всё давно уже сказано нами.
Замолчать? Но зачем? В нашем доме дано уже тишь.
Поцелуешь меня. Вытрешь слезы мне жестом знакомым.
– Время десять уже…
– Я еще посижу. Ты ложись…
И еще три часа просидим над семейным альбомом.
И опять не поймем, что любили друг друга всю жизнь.
Этот вариант судьбы ты отверг. А он ведь тоже у тебя был – и, вероятно, однажды мог бы показаться тебе наиболее верным из всех возможных. Но ты отверг его.
Не на словах, конечно, – на словах-то ты как раз ратовал за то, что воплощено в этих печальных строчках. Но на деле, – всем своим поведением, поступками, мечтами, – ты выбрал другое. И выбрал бесповоротно.
Зачем же ты тогда сочинял эти строчки? Для того, чтобы вербализовать ауру отвергаемого варианта? чтобы самому увидеть то, что могло бы быть, – и отшатнуться? Это был сеанс личной психотерапии?
Но ведь и реально выбранный тобою вариант – уже осуществившийся вариант! – ты не считаешь ни лучшим, ни наиболее верным, так?
Так, так… Но дело в том, что тогда перед тобой открывалась, как тебе казалось, тысяча дорог. В том числе и эта, воплощенная в стихотворении. Но ты отверг ее, выбрав остальные девятьсот девяносто девять…
В итоге оказалось, что ты выбрал одну. Ту, по которой бредешь и сейчас.
А тот вариант, который ты воплотил в печальные строчки, остался жить на бумаге. И в чьей-то душе…
ГНЕЗДЫШКО
Дочери Асе
Вей гнездышко, дочка,
В любой стороне
Из мха и листочка,
Что вечно в цене.
Таскай между кочек
Свою маету,
На мох и листочек
Молись на лету.
Вей нощно и денно,
И в дождик, и в снег.
И верь дерзновенно,
Что это – навек.
Иного расклада
Себе не проси
Ни в сумраке ада,
Ни на небеси.
Такое вот стихотворение я сочинил в начале ХХI века. Это отцовский наказ дочери и, одновременно, мой взгляд на предназначение женщины. Не на сочинение диссертаций и не на полеты в космос нацеливал я свою дочь. Только на витье гнезда.
«Я верю в необходимость этой книги»
Молодые журналисты о сборнике рассказов Елены Тулушевой «Первенец»
Дарья ШЕПЕЛЕВА
Как часто при чтении книги покрываешься мурашками, к горлу подступает ком и становится трудно дышать? Со мной это случается редко. Но книга Елены Тулушевой «Первенец» стала для меня эмоциональным потрясением. Елена заставила прожить вместе с героями их проблемы, трагедии и несчастья, пропустить всю боль через себя. Такого эффекта автор достигает благодаря простоте языка. Елена не тратит время на долгие описания, а прямиком переходит к сюжету, сразу концентрируя наше внимание на герое – на заблудившейся в жизни беременной девочке Лиде, на докторе, тоскующем о потерянном сыне, на Даше, которая не может улететь на родину из чужой страны к умирающему дедушке, на сыне Марьи Васильевны, который стесняется своей матери, на двух друзьях детства Антоне и Костике, пути которых разошлись. Эта книга о людях, о тяжелых судьбах. Она заставляет задуматься над тем, что болит. У каждого это свое, личное, но оно так тревожит душу.
Виктория ТИЩЕНКО
Попытка изменить мнение окружающих о неблагополучных, но также нуждающихся в понимании людях – вот основной мотив появления рассказов Елены Тулушевой.
В целом, автора можно назвать достойным представителем реалистической прозы. Это полезное чтение, как для подростков, так и для более зрелых читателей. Перед глазами проходят серьезные истории, после которых спускаешься с небес на землю. Читателям можно порекомендовать готовиться к объективной, ничем не прикрытой жестокой реальности. Бытовые проблемы, сломанные судьбы, неблагополучные семьи, наркотики – то, что мы привыкли отвергать в обычной жизни и не замечать, нашло отражение в сборнике «Первенец». Проблемы и пороки человека, вызванные обстоятельствами; бесправность и нежелание получить право на что-либо; инертное существование – отсутствие стремлений и безразличие к жизни… Параллельная реальность, которая рядом.
Мария ПРОСКУДИНА
Недавно мне посчастливилось прочесть сборник рассказов Елены Тулушевой «Первенец». Именно посчастливилось – книга произвела на меня сильное впечатление и заставила всерьёз задуматься о действительно важных вещах.
Хочется отметить прекрасный стиль Тулушевой. Автор описывает все до мелочей. Мы видим каждую эмоцию на лице и в душе героя, к тому же почти в каждом рассказе автор оставляет открытый финал. Мне кажется, это очень хороший ход, ведь умному читателю зачастую самому интересно додумать, чем все завершится.
Книга «Первенец» Е. Тулушевой меня очень впечатлила, и, я думаю, взявший ее в руки читатель не пожалеет о потраченном времени.
Кристина НОВОСЕЛОВА
У Елены Тулушевой свой, особый стиль – сходный с искусством фотографа. Один рассказ – одна история – один качественный, реалистичный фотоснимок. Реальность застывает, сжимается и, будто через объектив, отражается уже на страницах книги. В третьем сборнике рассказов Елены Тулушевой это происходит так. Первые – «Чудес хочется» и «Виною выжившего» – дали старт зарождению авторской манеры, новый сборник эту манеру закрепил. Новые рассказы не выбились из общей идеи и стиля предыдущих. Они расширили эмоциональный спектр героев, понимание тонкостей человеческой души и проблем.
Елену Тулушеву нельзя назвать многословной. На первый взгляд может показаться, что авторского «я» в рассказах и вовсе нет. Но в действительности это «я» сильнее, чем если бы в каждом произведении автор открытым текстом расшифровывал читателю все, что скрыто за емкими и многочисленными диалогами, точными описаниями, эмоциональными монологами.
В интервью Платону Беседину, опубликованному в «Литературной газете», Елена Тулушева очень просто объяснила, в чём заключается её основная идея. «Своих героев я ищу не среди идеологов и бунтарей, не среди праведников или крупнокалиберных негодяев. Я стремлюсь показать человека обыкновенного. В эпоху, когда со всех сторон кричат “экшн”, “шоу”, “эксклюзив”, – должен же кто-то говорить об обычном человеке».
Действительно, обычное – сейчас большая редкость. Среди многочисленных vip, luxary и celebrity хочется увидеть простого человека. Настоящего. Не всем же гоняться за новыми айфонами, зарабатывать на пранках и продвигать «инсту». Как бы ни пестрели отфотошопленные лица с улыбками на баннерах, как бы ни кричали звонкие голоса из телевизоров, настоящего счастья от этого не становится больше. И если присмотреться, можно увидеть, как герои Елены Тулушевой едут с нами в троллейбусе, стоят в очереди за продуктами, учатся и работают. А может, мы сами – эти герои?
Евгений ТИЩЕНКО
Книга представляет собой сборник рассказов и состоит из нескольких частей: «Рядом ходит», «Подъезд», «Мальчики», «Зачем им жить?», «Надо будет как-нибудь посмотреть» и «Литературные путешествия». Практически в каждой части рефреном проходят темы алкоголизма и наркомании. Особенно ярко это проявляется в разделе «Рядом ходит».
Сборник рассказов Тулушевой посвящён тому, что произошло с нашим народом в 90-е годы, когда многие идеалы мы утратили, а новых не приобрели – это последствия государственной политики тех лет. Автор повествует о проблемах и бедах людей.
Я верю в важность и нужность этой книги. Верю, что в памяти подростков, прочитавших это произведение, навсегда останутся образы того, к чему могут приводить… нет, вернее, к чему точно приведут наркотики.
Даника НЕКРАСОВА
Каким видит ребенка Елена Тулушева? Это существо невинное, не отягощенное грехами. Почва его – семья. И что может вырасти из такого ребенка – из той же Лидки, дочки наркоманов («Первенец»), или Ксюши, дочери алкоголика («Папа»)?
Конечно, никогда не узнаешь, кто окажется «на дне» – беспризорник из соседнего двора или твой оберегаемый долгожданный ребенок. Можно быть примерной, любящей матерью, подобно Марии Васильевне, а твой сын будет тебя стесняться и ни во что не ставить. Именно поэтому столь реалистичный показ обыденности трагедии захватывает читателя.
«Зло всегда побеждает» – реплика молодого героя рассказа «Папа» выражает убеждение многих персонажей книги. Они привыкли к тому, что на них отыгрываются за свои неудавшиеся поломанные жизни самые близкие люди – мамы и папы. «Как жена его сбежала, так и началось», – такие слова звучат в рассказе «Звуки музыки» об артисте, который унижает и бьёт дочь, пытаясь выместить на ней свою боль. Но это пояснение остается как бы «за кадром». По мнению Елены Тулушевой, читатель сам должен сделать правильный выбор. Для неё, психолога по первой профессии, призвание писателя сродни призванию врача: «Задача – работать зеркалом, суметь обратить внимание пациента на то, что он делает, и как это влияет на его жизнь. Тогда пациент сам в состоянии будет найти выход».
Мария ОЛЕСЕВИЧ
Это книга о жизни, о вечном, о серьёзном, о том, что вокруг нас. Елена Тулушева собрала истории подростков-наркоманов, детей-беспризорников и в каждом своём рассказе даёт этим детям надежду на понимание. В процессе чтения действительно оказываешься совсем рядом с героем: хочешь обнять бедную Лиду и помочь ей выбрать имя для ребенка («Первенец»), взглянуть в глаза Антону и Костику, понять, почему все сложилось именно так («Рядом ходит»), взять за руки девчонок Ксюшу и Варьку и пообещать, что все будет хорошо («Папа»), утешить Олега и напомнить ещё раз о брате («Близнец»), схватить крепко Витьку и не давать ему спрятать опасный «клад» («Клад»)…
Маргарита СИРАКАНЯН
Если меня попросят одним словом описать, что я чувствую, читая рассказы Елены Тулушевой, я отвечу: боль. Больно за каждого без исключения, будто я выросла вместе с ними, будто знаю их с малых лет… Стараюсь быть оптимистом и видеть хорошее во всем: Антон – молодец, что смог выбраться из самой страшной зависимости; Лидка – сильная духом девушка, способная даже в такой тяжелой ситуации найти силы и родить, Даша – очень заботливая и внимательная внучка, Варька – умница, что вышла на работу, помогая маме. А Костик… Костик пусть будет напоминанием о том, к чему может привести наркомания.
Елена Тулушева будто говорит нам: давайте быть внимательнее и бережнее друг к другу, особенно к детям! Жаль, что об этом приходится напоминать.
Виктория СОЛОВЬЕВА
Наркомания, алкоголизм, зависимость. Странно, но я стала чаще слышать эти слова. Быть может, дело в том, что я переехала в большой город, или же дело в моде на музыку, кино, литературу, популяризирующие алкогольные и наркотические тусовки. Не знаю. Может, я просто выросла и стала чаще обращать внимание на происходящее вокруг? Но факт остаётся фактом: в России за последние 10 лет количество наркозависимых возросло в десять раз. И это только стоящие на учёте. Каждый из нас, видя зависимого или услышав о нем, принимается осуждать, не пытаясь проникнуться его историей и понять причину такого поворота судьбы. Но ведь что-то у него случилось, что-то толкнуло тот маятник зависимости, раскачивающийся с каждым разом все сильнее. У всех разные истории, разные причины несчастий – для кого-то они могут показаться глупыми, но ведь у каждого болевой порог разный.
Именно такие истории рассказывает Елена Тулушева в своей книге «Первенец». Жизнь героев пронизана сильным холодом: безразличие родных, черствость окружающих, но внутри у них все ещё горит маленький огонек добра.
Алена ЧУТКОВА
Если верить статистике, то на сегодняшний день наркозависимыми становятся в основном подростки. Что связано с появлением такой зависимости? Как помочь? Что такое наркомания и каковы её последствия? На эти и другие вопросы я нашла ответы в книге Елены Тулушевой «Первенец».
Писательница – герой нашего времени. Училась бизнесу и работала во Франции и США, но вернулась в Москву и, окончив институт психотерапии и клинической психологии, решила помогать наркозависимым подросткам. Елена Тулушева лично участвует в реабилитации ребят, оказывает им психологическую поддержку.
Прочитав книгу «Первенец», я долго не могла прийти в себя. Тяжело осознавать, что такие истории реальны. Люди, о которых пишет Тулушева, очень нуждаются в нашей помощи. Я рекомендую всем прочитать эту книгу, иначе мы так и будем жить, не замечая того, что происходит вокруг нас.
ЯНА БОГДАНОВА
Кто-то сказал, что правда – самое мощное в мире оружие. В таком случае «Первенец» Елены Тулушевой – неплохой пример такого оружия. Это правдивая книга о жизни – книга, которую можно прочитать за вечер, чтобы потом возвращаться к ней и перечитывать…
Несмотря на острые социальные темы, поднятые в сборнике, автор обходится без морализаторского тона, не навязывает свое мнение читателю, а просто делится мыслями и наблюдениями, вызывая на диалог, подталкивая к дальнейшим размышлениям. Именно это и отличает хорошую литературу – умение войти в резонанс с личностью читателя, заставить его думать, не оставить равнодушным.
Короткие рассказы написаны легким и понятным языком, автор чутко относится к героям, каждому даря особенное отношение к миру – и внешнему, зачастую враждебному, и внутреннему, в котором тоже сложно обрести покой. Однако нельзя сказать, что всё в книге Елены настолько «беспросветно». Нашлось место и для светлой грусти, надежды и тепла, пусть из прошлого, но согревающего настоящее, как произошло, например, с героиней рассказа «Одиннадцать платьев».
Интереснее всего, пожалуй, то, что автору удалось какими-то маленькими, почти незаметными штрихами и едва уловимыми изменениями интонации передать больше, чем способна вместить в себя сжатая форма рассказа…
Говорят, что дьявол скрывается в мелочах. Но это – не про книгу Елены Тулушевой. Здесь в мелочах скрывается самое мощное оружие человека – Правда.
Прочесть книгу Елены Тулушевой «Первенец» можно здесь: http://сибирскиеогни.рф/content/oni-tozhe-hotyat-schastya-kniga-eleny-tulushevoy-pervenec.
Студенты факультета журналистики КубГУ о фильме Натальи Батраевой «Донецкая Вратарница»
Виктория ТИЩЕНКО
Гостья из прошлого, или Непостижимое земное счастье
Звук автоматной дроби… Простреленные – раненые – иконы, сломанные кресты, символизирующие сломанные идеалы и судьбы, раздробленные надгробья – дважды убитые… Смерть, война, расстрелянный храм и счастье – непостижимое земное счастье.
Казалось бы, о каком счастье может идти речь на войне, где гибнут люди, где страх и ужас? Режиссер Наталья Батраева документальным фильмом «Донецкая Вратарница» смогла показать непостижимое для понимания духовное счастье, свободу и легкость восприятия жизни. Героини фильма, как и сам жанр, в котором работает Наталья, были выбраны не ею: «они сами меня выбрали, так получилось – это нельзя спланировать или предугадать, – говорит режиссер, – то, что действительно твое, – приходит само. Нужно почувствовать своих героев и основной мотив фильма. Твое найдет тебя и придет в процессе».
Документальное кино – это умение рассказать историю, и главные в ней – герои, важно тесно работать с ними и жить, понимая их судьбы.
Путь «Вратарницы» длился три года. Тернистый путь, нелегкий… Первые съемки проводились еще во время активных боевых действий, и именно поэтому в фильме так реалистично переданы тяготы войны. Мурашки бегут по коже, когда спокойные и даже умиротворенные монологи монахинь прерывают автоматные очереди и залпы гаубиц. Я будто перенеслась в лето 2014-го, когда 2 июня в 5 часов утра начался обстрел погранзаставы в Луганске. К счастью, мне не довелось своими глазами видеть смерть, ведь мы с родителями уехали в июле, но отзвук минометных обстрелов, жуткие завывания сирен посреди ночи и чемоданчик с самыми необходимыми вещами, стоявший у порога, никогда не уйдут из моей памяти… Мне, как никому другому, было понятно то, что происходило в фильме. Но принятие происходящих событий как данности и моё эмоциональное их восприятие разнились со взглядами монахинь. Для меня важно было осознать, как можно ощутить заветное счастье, когда надежды тебя покидают.
Фильм о счастье, говорили мне, но – о каком? «Ведь я же там была, вырывалось у меня из груди…» И да, возможно, это не каждому дано, но я поняла, что испытывали монахини. Нет, я не утверждаю, что могу равняться с ними в восприятии мира – далеко еще, да и нужно ли? Но одно я поняла точно: держаться за мирское, материальное – это глупая ошибка, ведь все может пропасть в один момент.
Счастливые лица монахинь с улыбками казались неуместными, но, углубляясь в фильм, осознаешь, что они прошли путь очищения души и постигли другую реальность, вышли на новый уровень – уровень божественного и блаженного восприятия мира. Все в нашей вселенной циклично, и войны, повторяющиеся через определенное время, появляются в истории неспроста. «Бог посылает нам войны, а значит, мы неправильно живем», – говорят героини. Но это несколько разнится с привычным пониманием божественного: разве Бог хочет, чтобы гибли люди? Нет, он хочет видеть людей счастливыми, поэтому дает встрепенуться и понять, «что деньги ничего не стоят, самое главное – душа человеческая», «мира хочется всем, но когда наступает война – это означает, что мы неправильно живем». Теряя все, мы осознаем истинное счастье в заурядных моментах жизни, но чтобы это понять, «людям иногда нужна война»…
Война снимает маски, открывает поры, сближает. Оказавшись лицом к лицу со смертью, человек не способен лгать. Бог посылает нам войны, чтобы мы переосмыслили жизнь. Но он охраняет праведных людей – ангел есть у каждого. Так, в фильме молодой военный держит оборону в аэропорту Донецка, а затем – в монашеских кельях. Он говорит: «Бог отвел, не получил ни одного ранения».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/aleksey-kotov-32256092/zhurnal-parus-70-2018-71796040/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
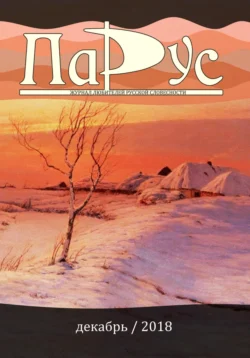
Екатерина Висицкая и Алексей Котов
Тип: электронная книга
Жанр: Стихи и поэзия
Язык: на русском языке
Стоимость: 199.00 ₽
Издательство: Автор
Дата публикации: 23.03.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Русский литературный журнал «Парус» приглашает любителей отечественной словесности на свои электронные страницы. Академичность, органично сочетающаяся с очарованием художественного слова, – наша особенность и сознательная установка. «Парус» объединяет авторов, живущих в разных уголках России: в Москве, Ярославле, Армавире. Статус издания как «учёно-литературного» (И. С. Аксаков) определяет то, что среди авторов и редколлегии есть представители университетской среды, даже определённой – южно-русской – литературоведческой школы. Рубрики «Паруса» призваны отразить в живых лицах текущий литературный процесс: поэзию и прозу, историю литературы, критику, встречи журнала с разными культурными деятелями, диалог с читателем. В наши планы входят поиск и поддержка новых талантливых прозаиков и поэтов, критиков и литературоведов, историков и философов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов.