Рисунок на старых обоях. Повесть
Рисунок на старых обоях. Повесть
Сергей Грачев
События в повести Сергея Грачева «Рисунок на старых обоях» происходят в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Это история о странной любви мужчины и женщины, у которых, на первый взгляд, нет никаких точек соприкосновения. Драматична судьба главного героя, тревожно его будущее, но он не перестает верить в душевное обновление, в то, что он когда-нибудь обретет свой светлый путь.
Рисунок на старых обоях
Повесть
Сергей Грачев
© Сергей Грачев, 2024
ISBN 978-5-0065-1959-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
В начале Дмитрий услышал голос, очень высокий голос тараторки, у которого язык работает быстрее, чем голова. Несмотря на то, что Дмитрий давно думал о такой встрече, он был поражен. Конечно, городок небольшой, не столица, но всё-таки: в первый же день повстречать Архипова! В самой гуще книжной толкучки. Впрочем, почему бы и нет? Странно другое: почему Архипов и Катюша, бывшая жена Дмитрия, не уехали отсюда, от тоски и сплетен? Это так не похоже на бродягу Архипова.
– Купи по дешевке! Неужели в этом гадюшнике ни одного порядочного человека нет? За восемь рублей Есенина не взять! Совести нет: человек погибает.
Архипов и раньше не знал, когда уместно говорить громко, а когда и взгляда одного достаточно. Ему всегда было наплевать, зачем, где, когда и перед кем выкладывать наболевшее.
Главное, не оборачиваться. Отойти в сторону, понаблюдать, выследить и… А что дальше? Зачем понаблюдать, зачем выследить?
Последнее время всё чаще вспоминал Дмитрий Архипова, сколько раз пытался представить, что он скажет ему и что сделает?
На мгновение стало страшно, словно и теперь встреча с Архиповым несла несчастье. И вновь всё пойдет вкривь и вкось, рассыплется в труху, из которой однажды уже возникло необычное видение, ложное зрительное чувство, бред, галлюцинация, преследующая Дмитрия третий год.
Неужели и сейчас беда, и с Катюшей или дочерью что-то случилось?
А ведь с Женькой Архиповым вместе учились, выросли, жуков на просеках ловили, коллекцию из бронзовок и усачей составляли. Грибы, конечно, собирали, землянки рыли под «штаб», всё как полагается. Вечная память.
Таких людей, как Женька, мотает, мотает по свету, в какие только дебри великой многострадальной державы не забросит их по своей прихоти судьба. Слегка только дунет ему в затылок, и запорхал Женька чистокрылым поначалу мотыльком, а там глядь – и набрякли крылья житейской премудростью да социальной несправедливостью, да бог ведает чем; и помыслы стали туманнее, неопределеннее, чем у подростка, и взмах не тот.
Женька Архипов изменился, достаточно было встретиться с его глазами, чтобы понять – другой Женька. Всё такой же маленький, жилистый, чернявый, но почему-то во всём облике – исключительная помятость: одежда, морщины и, главное, затравленность в покрасневших глазах. Склонив голову и глядя на всех исподлобья, Архипов выклянчивал у книжных маклеров восемь рублей за томик Есенина.
Несмотря на весеннее тепло, он всё ещё был в зимних ботинках и старой вельветовой куртке. Ясно как день: пьёт, скотина.
– Купи по дешёвке, – сказал он сердито Дмитрию. И вдруг часто заморгал слезящимися глазками и попятился, узнав. Убить его, гниду, на месте, пока он в желеобразном состоянии. Сладкое желание. Но Дмитрий взял книгу и сунул в дрогнувшую Женькину ладонь червонец. Влажные пальцы вцепились в руку спасителя. Машинально Дмитрий листал книгу. Добрая половина страниц была не пропечатана.
– Нет, ты возьми, возьми. Или не понимаешь? Это особенная книга, то, что не получилось, должно на память знать, наизусть, – бормотал Женька, тревожно оглядываясь: не дружки ли Дмитрия рядом? – Берёшь, не глядя?.. Я всегда говорил – есть Бог на свете. – В лице Архипова по многочисленным складочкам морщин, тонким губам – судорогой – жалкое подобие улыбки.
Глядя на его тощую спину – Архипов сразу ринулся в сторону пивного павильона – на то, как эта спина задергалась, всасываясь в толпу мужиков возле книжного магазина, Дмитрий затосковал. Убить его, Архипова, всё-таки мало!
И Дмитрий пошёл вслед за ним. И даже купил кружку пива, прозрачно-маслянистого на вид и квашено-кислого на вкус.
– Я на мели, – объяснил Женька, когда немного «поправился» пивом из двухлитровой банки (кружек, известно, всем не хватит никогда). Слушай, у меня претензия. Да нет, не к тебе. Ко всему свету. У меня, Димон, понимаешь, ещё один Есенин есть.
– Сумка не выдержит.
Архипов мигом снял с плеча Дмитрия сумку и брезгливо оттопырил нижнюю губу.
– Пять минут – и готово. Иголку! – Он поставил банку на столик, за которым они пристроились, и начал приставать к мужикам с одним и тем же вопросом: – Иголка, спрашиваю, есть? Ладно, банку стереги, – и он решительно направился к выходу. Принесёт ведь, обязательно принесёт. Покажет, какой он всеумеющий, всезнающий. Он всегда старался блеснуть перед Катюшей.
Раскопал и принёс Женька иголку с ниткой.
– У кого всегда найдутся с собой сии причиндалы?
– У портного.
– Не свисти. У солдата.
Дмитрий поморщился, вспомнив старую школьную дразнилку: «Дима Свистунов, не свисти!» Вскоре клок искусственной кожи уже не болтался сбоку сумки, а ремень был крепко вшит в боковины. Раньше у Архипова была такая же драная сумка, а когда ремень совсем оторвался, Женька просто выбросил её.
– Сказал – значит, сделал. Моё слово железное, – Архипов с жадностью припал к банке и осушил её. – А вот ты выручил, так выручил, на душе посветлело, и в голове звездочки замерцали.
Кому звёздочки, а кому и книжка с наполовину чистыми листами, хотел заметить Дмитрий, но промолчал. Возможно, и разговаривать-то не стоило. Пусть себе напивается, а потом…
Женьку несколько раз отпихивали от автоматов. Внезапно банка, выбитая чьим-то локтем из его рук, грянула о цементный пол.
– Христопродавцы! – возопил Архипов и, прижав оставшуюся кружку к узкой груди, начал наступать на здоровенного бородатого детину. Тот скалил на Женьку крупные прокуренные зубы и специально выпячивал живот. Архипов упирался в этот живот и вытягивал шею, стараясь приблизить своё лицо к самому носу невозмутимого хама.
– Ты банку разбил, желудок? – грозно вопрошал Женька, и детина вскоре оскорбился. Он взял Архипова за грудки, дунул ему в лицо и отшвырнул подальше от автоматов. Женька загремел под ноги пиводувов, едва не спровоцировав всеобщую свалку, вскочил и с побледневшим от ярости лицом принялся выписывать ведьмины круги вокруг детины – с явным намерением врезать тому кружкой по голове.
«Потом появился поручик Ржевский, – подумал Дмитрий, – запасайтесь, говорит, дьяволы, гробами, сейчас стрелять начну!»
– Не трожь, Свистун! – зашипел Женька, когда Дмитрий потащил его к выходу. – Никуда я отсюда не уйду, пока этому беременному матрасу…
Только на улице Женькино взбеленение несколько поутихло. Типичный астено-невротик, подростком Архипов был капризен и раздражителен, всякое дело его быстро утомляло, словно он страшился любых результатов и последствий. Да и вообще, сколько Дмитрий помнил его детство, Женька побаивался многого: подолгу смотрел на небо – не надвигается ли гроза, по сторонам – не видно ли пьяной компании; очень пугался при порезе травой – не приведи господи раздражение! Влюблялся он бесконечно, но как замечал Дмитрий Свистунов, к девчатам приятеля тянули короткие, быстро истощавшиеся вспышки плотского желания.
У Дмитрия всё было наоборот. И теперь, когда они шли к Женькиному дому, который был рядом с «железкой» – винным магазином за железнодорожными путями, это «наоборот» его злило. Потенциальная моторная неловкость: пока он размышлял о возможных неудачах, девчата бежали к другому парню, более решительному. Колеблющихся женщины не любят, презирают – Дмитрий понял это лишь спустя годы.
Решиться сейчас. Врезать ему за всё хорошее, да и бросить тут, на путях, вон она, зелёная кишка электрички…
– Помалкиваешь? – усмехнулся Женька, с трудом переступая рельсы. – Такой же всё пассивный и осмотрительный, мнительность тебя погубит. И как только Катюша?..
Это он зря, это уже больно. И электричка рядом. За это можно и в челюсть. А может, завидует? Он, Дмитрий, из-за Катюхи-вертихвостки едва рассудка не лишился, до исхода молодого Вертера полшага не дошёл, до сих пор галлюцинации вечерами, а он завидует? Живет с ней и завидует! Может, он и о болезни прослышал? То, что Дмитрия посещает вторая Катюша, из области подкоркового уровня психики, как объяснили врачи? Нет, вряд ли, он просто завидует, он всегда был таким. Откуда ему знать об удивительном полупрозрачном облике прежней Катюши.
Электричка прошла…
Пора бы забыть, тем более другая, из плоти и крови, позвала Архипова и легла с ним в постель. И хорошо, что легла. Долгое время не могла продолжаться такая жизнь – с бесконечной борьбой за равноправие, с невыносимыми ежеутренними сценами:
– Забыл, куда брюки положил? – насмешливо спрашивала одна, которая через короткий срок уйдёт вместе с дочкой к Архипову.
– Ты уже встал? – радовалась другая. – Сейчас сыр натру в макароны. Кофе будешь с молоком или чёрный?
Потом шатаются стены и потолок с потёками в углах. И последнее, что он слышит:
– От глазуньи я тебе два глаза оставила, не хватит – еще нажаришь…
Нашатырь обычно помогает. На табурет усадят. Дмитрий сидит себе, размышляет: обе над ним стараются или одна?
Потом была психушка.
Он открыл глаза. Небритая физиономия Женьки.
– Что это с тобой? И часто?
Разве ему объяснишь, Архипову? По порядку надо, сначала.
– Не пьяный, вроде. О рельс споткнулся?.. Или падучая? Ну, дела-а.…
Дела, без «железки» не разберёшься. А вот электричка ушла. Жалко.
Сначала надо. Хоть с кота. Вот у него, Дмитрия, кот был. И жена Катюша была. И квартира двухкомнатная. Кресло, в котором сидел этот мерзкий кот. И разговор соответственный:
– Ты на обед мне даёшь рубль, а у нас в столовой мужики на два обедают. Коту и то мяса больше в жизни достается.
– Так он меня не оскорбляет! – Катюша всегда презирала мужчин, которые зарабатывают едва на то, чтобы прокормить кота.
Однокомнатная квартира Архипова была на первом этаже. Едва Дмитрий снял ботинки, хозяин принялся шарить в холодильнике, который занимал почти половину прихожей.
– Что тут у нас? Капуста и селёдка… Вначале под селёдочку, а потом, к приходу Илянки, солянку сварганим. Илянка-солянка выйдет!
Что за Илянка ещё? А Катюша, Анечка – они куда подевались? Вот оно, недоброе. Не иначе, поигрался Женька и бросил. Или… Илянка какая-то, румынка, что ли? С Архипова станется.
– Располагайся в кухне. Она, Илянка, у меня молодец, сам увидишь. Если понравится – поглядим. Моё слово железное. – Женька уже гремел посудой на кухне. – Серьёзно, она такая, сам увидишь. В горкоме работает вахтёршей… То есть секретаршей…
Архипов распинался про ванну, которую он на днях отдраил от желтизны, про кладовку, переоборудованную в фотомастерскую. Опять про Илянку, до того чистюлю, что с ума сойти! И не мешало бы к её приходу убраться в квартире, солянку сварганить.
– А без солянки нельзя?
Дело, конечно, в другом: спрашивать его сейчас или нет? А то и впрямь придёт его вахтерша-секретарша с испитым лицом и сухими ногами подзаборной мартышки. Темнит он что-то.
Предлагает по грамулечке. Вино Архипов купил по дороге.
Маленькую прихожую Женькиной квартиры увечит шкаф, который по замыслу находчивого архитектора, видимо, должен быть словно встроенным в стену и поэтому удобным. Коридор в кухню из-за этого шкафа узок до безобразия.
После бокала портвейна Архипов вновь разговорился:
– Еду сегодня в электричке, а там, в динамиках, голос. «Разобрана платформа», говорит. Ты что по этому поводу думаешь?
– Прыгать придётся, – пожал плечами Дмитрий и решил: Женька что-то почувствовал, видно, на рельсах. Темнит теперь, прикидывается, паразит, изгаляется.
– …А суровый голос в динамиках вновь: «Разобрана платформа», переходите, мол, в головные вагоны. Дельный совет, верно? – Архипов вдруг подскочил к плите и принялся размешивать что-то на сковородке. – Чуть не успеешь и – пожалте бриться: «Осторожно, двери закрываются». Как в песне! Тут главное – успеть в головные вагоны. Ты, судя по всему, не успел, раз из столицы лыжи навострил, – Женька запнулся, испытывающе глядя на собеседника. Но тот молчал.
– Это на словах все просто: разобрана – переходите. Смешно… Особенно некоторым пассажирам. Просто очень смешно. Почему? – Он уставился на гостя с многозначительной ухмылкой. – Не знаешь? Потому, Димон, что спрыгивать им недосуг и в головные вагоны не надо. У них в сумках среди сыро-дряблых колбасных батонов заховалась белоголовая. Или две. Проедут свою остановку, пересядут на обратную электричку и… лишат белоголовку серебряной кепки. Вот ещё спешить! Ехать назад и спешить… Они живут просто, работают, развлекаются. Некоторые, правда, не пьют, но в основном, живут, пия и развлекаясь, верно?
Дмитрий кивнул. Пусть себе мелит, когда-нибудь остановится.
– Тебе, например, какое дело, что они пашут в две смены, – продолжал разглагольствовать Архипов. – Чугуний ворочают или шампиньоны выращивают, в очереди на расширение квартиры десятилетиями стоят, и просто в очереди – всегда? Им бы, может, с начальства квартальную премию снять, потому что те в головном вагоне готовой продукции не изготовляют. Я это к чему?.. Да! К тому, Дима, что ежели у тебя с детства разобрана платформа, то никакие головные вагоны не помогут, – Архипов вновь принялся с усердием мешать что-то на шипящей сковороде. – Ух, и соляночка будет!
Околесицу несёт, подумал Дмитрий. Специально, боится говорить. Да без признаний ясно: и от него хвостом вильнула.
Неужели переживать научился? Если бы ты знал, Архипов, что в перемещениях мужчины и женщины, мужа и жены, есть очевидная закономерность, как и в перемещениях художественных ценностей. Всё, чем пренебрегает жена, неизбежно оказывается по ту сторону семейной границы. И по принципу «что немцу здорово, то русскому смерть» муж оказывается за рубежом первой, у той, второй женщины, с которой у него исключительно гармонично проходит процесс взаимопроникновения и взаимообогащения культур. Ещё немного времени, и бывшая подруга жизни поймёт, что за существо с целым иконостасом – поистине диковинных привычек и комплексов, казавшихся раньше убогими, грубыми и примитивными – она упустила. За пределы её крохоборского мирка, оказывается, вытащили уникальное творение, и ей уже неинтересно, что вокруг да около, сплошь и рядом, идёт массовый вывоз шедевров. Женщину волнует теперь лишь то, что якобы создано её волей, энергией, слезами, бессонными ночами – короче, бывший муж. Да ещё интуиция подсказывает, что теперь к ней легче пробиться посредственности.
От глазуньи, говорит, я тебе два глаза оставила. Не хватит – ещё нажаришь… Сыт по горло этими гепатитными глазами, пусть себе забирает. И с ними останется.
– Помалкиваешь? – Женькины брови топорщатся на переносице, готовится к худшему. Думает, бить буду. Сейчас разговорюсь, раз встретились, обязательно расскажу всё, от начала до конца. Не поймешь ведь. Да и леший с тобой, Женькой Архиповым. Напрягай извилины, пообщаемся вдоволь, почему не поговорить со старым приятелем, доупражнявшимся до безумия?
Слушай, Женька, слушай, дружище. Да и сам не молчи. Лихо у тебя получается чепуху молоть. Авось до чего и договоримся. Главное, много не пей, а то, не приведи господь, брякнешь гадость какую-нибудь, – на месте уложу! Впрочем, от тебя многого не добьёшься, околесицу несешь. А то, глядишь, она к месту и придет – околесица твоя. Наша околесица…
2
Началось это ещё в то время, когда Дмитрий Свистунов работал в районной газете и побочно подрабатывал руководителем семинара дискжокеев: заставлял будущих дискотечных казанов зубрить скороговорки, речевой аппарат разрабатывать. «На горе гуси гогочут, под горой огонь горит».
Кто тебя, Женьку, устроил на работу, когда тебя выперли со второго курса Тимирязевки? Я тебя устроил. Впрочем, по многочисленным просьбам Катюши. И ведь не куда-нибудь, а в методологический центр по организации досуга молодёжи – от горкома комсомола. Ты тогда быстро освоил новое поприще и быстро к нему охладел. Но бармен из тебя неплохой получился.
– А что, Женька, отчего у тебя летом сок пятнадцать копеек стоит, а зимой – двадцать пять?
– Это сезонный сок, – пояснял Женька, роняя кружок колбасы на пол, – зимой он дороже… Опять посудомойка не пришла, – жаловался он, поднимая колбасу, некоторое время размышлял, потом пристраивал её вновь на ломоть хлеба, подсовывая под другой колбасный кружок.
Он любил первое время жаловаться Дмитрию, коротающему время до прихода дискотечников. Особенно приятеля раздражали совещания.
– Кофе будут пить без коньяка. Опять выручки – три рубля. Коктейль делать бесполезно, все равно с улицы народ не пустят. Помещение, видите ли, для серьёзных мероприятий. А бутерброды портятся! Даже крысы избаловались – шоколадки едят, В соках осадки. Мне всегда не везет. Слушай, – наивничал Женька. – Может, святое письмо размножить? – он доставал из бумажника замусоленную бумажку и читал: «Слава Богу. Двенадцать лет мальчик болел. На берегу встретил Бога. Бог дал ему письмо и сказал: перепиши его 22 раза и разнеси в. разные стороны. Мальчик сделал это и выздоровел. Одна семья получила письмо, переписала и получила большое счастье…»
Заканчивалось это послание странной фразой «Обратите внимание на свою заботу».
– Три недели – срок, если не размножу – пиши пропало, – и Женька хохотал. – Счастье по почте, представляешь?
Потом он начинал философствовать. Он был уверен, что природа намеренно сделала человека. несовершенным, разделив на два пола, чтобы половинки терзались в мучительных поисках друг друга, понимая всю бессмысленность подобной затеи. Истинное счастье никому не даруется и никем не завоёвывается. Один убогий шанс из сотен тысяч – трудно уповать на него всю жизнь. Почти уникален великий Сальвадор Дали со своей Галой – женой, любовницей, натурщицей. А вокруг – сумрачный океан одиночества, мучительного ожидания, молчаливого отчаянья, скрытого маской беспечности и удачи. Счастье где-то в самом человеке, в каждом из нас, хоть мы и поступаем сплошь и рядом не по-человечески.
Уже тогда Дмитрий подозревал его, потому что именно Женька мог поступать не по-человечески ежедневно. Уже тогда в небольшом уютном баре, за стойкой которого разбавлял коньяк водой Архипов, появилась у Дмитрия тревога; грядут перемены.
Умело раскрашенные по-мозаичному окна, стены с тёмными и светлыми полосами, похожими на тени, низкий зеркальный потолок, занавесь при входе, низкие столы и мягкие кресла, серый палас – всё создавало уют, было предрасположено к отдыху, спокойной беседе за чашкой кофе. Но Дмитрий ни разу не привёл сюда жену.
А Женька приглашал, приглашал и жаловался, говорил, как день за днем с грустью созерцает он пустой, замерший в ожидании бар, а ощущение уюта постепенно деформируется, превращаясь в безнадёжную тоску. Тосковали, тускнея, светильники- бра под потолком, потому что никто не любовался их загадочным световым рисунком; тосковала канатная занавесь – её никто не распахивал элегантным жестом; пылилось в безысходной скуке зеркало на потолке – им никто не удивлялся.
Это теперь ясно: Женька тосковал по жене Дмитрия и тяготился тем, что не может сюда прийти с ней вдвоём, без её ревнивого мужа. Немудрено, что скоро Дмитрий заметил: Архипова раздражает его присутствие.
– Что это у тебя за работа такая? – играя желваками, цедил Женька. – Нищета, писюльки публикуешь. Не по-мужски, только нос задираешь. Хочешь, я тебе сегодня же статью напишу. На любую тему.
И Дмитрий, принимая вызов, заказал приятелю статью о молочной ферме. Через день он взял у бармена помятый тетрадный лист и прочитал: «Веление нашего времени – подъём животноводства. Как в целом сельском хозяйстве, так и в корововодстве, в частности. Раньше, конечно, привычно было: каждый отвечал за себя, то есть за группу коров. Каждый заботился о своей подстилке: ежели, скажем, опилок вовремя не постелить, то можно повредить ноги и вымя. А сохранность каждого скота должна быть на первом месте…» Каков подлец этот Архипов!
Сделав серьёзную мину, новоиспечённый селькор наливал Дмитрию кофе, пододвигал бутерброды:
– Угощайся, – потчевал соперника изверг Женька, – колбаса всё равно испортится… Нет, всё-таки придёт мой звёздный час.
Дождёшься, думал Дмитрий. Это как пить дать.
Но Женька действительно дождался, когда уволился из барменов.
Впрочем, звёздный ли это был час?
Осенними вечерами Дмитрий выходил на лоджию, выкурить последнюю за день сигарету. Посмотреть, как отраженные в лужах дома начинают вдруг жить в двух измерениях, обычной понятной всем жизнью – земной, и другой, неизвестной, подземной, зазеркальной. Дневная слякоть превращается в загадочный, полуфантастический мир. Чудом сохранившиеся в новом микрорайоне большие берёзы неясно блестят в тусклых синеватых лучах фонарей. Совсем рядом, за соседним домом, шумят спешащие в столицу поезда и пригородные электрички, голос женщины-диспетчера изредка доносится со стороны железнодорожной станции.
Иногда балконом ниже разговаривают старушки. Разговоры эти повторяются изо дня в день.
– Ан мои-то, дочка с зятем, сменялись, ан плохо там. Ванны нет. Ни ванны, ничего нет.
– Может, и воды не бывает? – ехидно шамкает другая старушка.
– Вот ещё, не бывает! Как вошёл, так и вода… Мутное беззвёздное небо: близкий, идущий по крышам соседних девятиэтажек горизонт светел и безлик. Не различить из-за городских огней огромного крыла Пегаса, там, где в бинокль можно найти кругляш бесконечно далёкого шарового скопления, не разглядеть и звёзд на свадебном платье спасённой Андромеды. Далеко за дымами промышленного спрута две рыбины, посланные Осенью, влекут за собой дожди, – на старинных звёздных картах эти рыбы изображены связанными за хвосты широкой лентой. По преданию, едва Солнце вступает в это созвездие, начинается период дождей и наводнений.
У Дмитрия в душе – тот же период. Он поглядывает через плечо в комнату, где суетится Катюша, меняя постельное белье или укачивая дочь. Вот она остановилась, задумалась над чем-то, хмуря тонкие выщипанные на две трети брови.
Период дождей и наводнений начался с того дня, когда Дмитрий решил привезти из больницы бабку Машу, врачи категорически запретили оставлять её без присмотра. Заболела старушка, по мнению компетентных людей, на почве религиозных предрассудков, а по мнению Дмитрия, просто от деревенской тоски и одиночества. В деревне бабка Маша изводила всех разговорами о неминуемом конце света, о смертоносном атоме… Конверты писем не ленилась разрисовывать сотнями микроскопических крестиков, из Троице-Сергиевой лавры – шесть часов дороги! – регулярно привозила святую воду. Вёдрами. Но сверх того, она боялась фашистов, которые ей мерещились идущими колоннами по деревенской пыльной улочке. Поэтому окна в старом бабкином домишке всегда были занавешены, а сама бабка не раз запиралась, назначая себе неделю добровольного заточения.
– Здесь ребёнок. Лучше езжай в деревню со своей ненормальной и живи там.
Можно обнять Катюшу в ответ, привлечь к себе, можно дотянуться до её губ и между поцелуями быстро пробормотать своё, дискотечное:
– Бык-тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа.
– Ты не боишься, что я сорвусь?
«Не сорвалась ли уже?» Бабку Машу поселили в небольшую уютную комнату, где стояли диван, старый гардероб с потрескавшейся фанерой боковых стенок, сервант, в котором рядом с маленькими голубоватыми рюмками выстроились в ряд иконки с ликами всевозможных святых.
Он помог снять бабке Маше изжелта-серое драповое пальто, подождал, пока она с трудом натянула на непослушные ноги большие растоптанные тапки, которые были старушкой предусмотрительно прихвачены с собой.
– Здрахфствуй, – только после этого приветствовала она хозяйку, едва переводя дух: лифт в подъезде не работал. – Ступенек у вас уж больно много, – «ступенек» она произнесла с ударением на первом слоге. – Бог зна что! – она говорила нараспев, картавя, и едва заметно улыбалась уголками полных неправильных губ, над которыми темнело несколько настырных волосков.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71515531?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сергей Грачев
События в повести Сергея Грачева «Рисунок на старых обоях» происходят в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Это история о странной любви мужчины и женщины, у которых, на первый взгляд, нет никаких точек соприкосновения. Драматична судьба главного героя, тревожно его будущее, но он не перестает верить в душевное обновление, в то, что он когда-нибудь обретет свой светлый путь.
Рисунок на старых обоях
Повесть
Сергей Грачев
© Сергей Грачев, 2024
ISBN 978-5-0065-1959-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
В начале Дмитрий услышал голос, очень высокий голос тараторки, у которого язык работает быстрее, чем голова. Несмотря на то, что Дмитрий давно думал о такой встрече, он был поражен. Конечно, городок небольшой, не столица, но всё-таки: в первый же день повстречать Архипова! В самой гуще книжной толкучки. Впрочем, почему бы и нет? Странно другое: почему Архипов и Катюша, бывшая жена Дмитрия, не уехали отсюда, от тоски и сплетен? Это так не похоже на бродягу Архипова.
– Купи по дешевке! Неужели в этом гадюшнике ни одного порядочного человека нет? За восемь рублей Есенина не взять! Совести нет: человек погибает.
Архипов и раньше не знал, когда уместно говорить громко, а когда и взгляда одного достаточно. Ему всегда было наплевать, зачем, где, когда и перед кем выкладывать наболевшее.
Главное, не оборачиваться. Отойти в сторону, понаблюдать, выследить и… А что дальше? Зачем понаблюдать, зачем выследить?
Последнее время всё чаще вспоминал Дмитрий Архипова, сколько раз пытался представить, что он скажет ему и что сделает?
На мгновение стало страшно, словно и теперь встреча с Архиповым несла несчастье. И вновь всё пойдет вкривь и вкось, рассыплется в труху, из которой однажды уже возникло необычное видение, ложное зрительное чувство, бред, галлюцинация, преследующая Дмитрия третий год.
Неужели и сейчас беда, и с Катюшей или дочерью что-то случилось?
А ведь с Женькой Архиповым вместе учились, выросли, жуков на просеках ловили, коллекцию из бронзовок и усачей составляли. Грибы, конечно, собирали, землянки рыли под «штаб», всё как полагается. Вечная память.
Таких людей, как Женька, мотает, мотает по свету, в какие только дебри великой многострадальной державы не забросит их по своей прихоти судьба. Слегка только дунет ему в затылок, и запорхал Женька чистокрылым поначалу мотыльком, а там глядь – и набрякли крылья житейской премудростью да социальной несправедливостью, да бог ведает чем; и помыслы стали туманнее, неопределеннее, чем у подростка, и взмах не тот.
Женька Архипов изменился, достаточно было встретиться с его глазами, чтобы понять – другой Женька. Всё такой же маленький, жилистый, чернявый, но почему-то во всём облике – исключительная помятость: одежда, морщины и, главное, затравленность в покрасневших глазах. Склонив голову и глядя на всех исподлобья, Архипов выклянчивал у книжных маклеров восемь рублей за томик Есенина.
Несмотря на весеннее тепло, он всё ещё был в зимних ботинках и старой вельветовой куртке. Ясно как день: пьёт, скотина.
– Купи по дешёвке, – сказал он сердито Дмитрию. И вдруг часто заморгал слезящимися глазками и попятился, узнав. Убить его, гниду, на месте, пока он в желеобразном состоянии. Сладкое желание. Но Дмитрий взял книгу и сунул в дрогнувшую Женькину ладонь червонец. Влажные пальцы вцепились в руку спасителя. Машинально Дмитрий листал книгу. Добрая половина страниц была не пропечатана.
– Нет, ты возьми, возьми. Или не понимаешь? Это особенная книга, то, что не получилось, должно на память знать, наизусть, – бормотал Женька, тревожно оглядываясь: не дружки ли Дмитрия рядом? – Берёшь, не глядя?.. Я всегда говорил – есть Бог на свете. – В лице Архипова по многочисленным складочкам морщин, тонким губам – судорогой – жалкое подобие улыбки.
Глядя на его тощую спину – Архипов сразу ринулся в сторону пивного павильона – на то, как эта спина задергалась, всасываясь в толпу мужиков возле книжного магазина, Дмитрий затосковал. Убить его, Архипова, всё-таки мало!
И Дмитрий пошёл вслед за ним. И даже купил кружку пива, прозрачно-маслянистого на вид и квашено-кислого на вкус.
– Я на мели, – объяснил Женька, когда немного «поправился» пивом из двухлитровой банки (кружек, известно, всем не хватит никогда). Слушай, у меня претензия. Да нет, не к тебе. Ко всему свету. У меня, Димон, понимаешь, ещё один Есенин есть.
– Сумка не выдержит.
Архипов мигом снял с плеча Дмитрия сумку и брезгливо оттопырил нижнюю губу.
– Пять минут – и готово. Иголку! – Он поставил банку на столик, за которым они пристроились, и начал приставать к мужикам с одним и тем же вопросом: – Иголка, спрашиваю, есть? Ладно, банку стереги, – и он решительно направился к выходу. Принесёт ведь, обязательно принесёт. Покажет, какой он всеумеющий, всезнающий. Он всегда старался блеснуть перед Катюшей.
Раскопал и принёс Женька иголку с ниткой.
– У кого всегда найдутся с собой сии причиндалы?
– У портного.
– Не свисти. У солдата.
Дмитрий поморщился, вспомнив старую школьную дразнилку: «Дима Свистунов, не свисти!» Вскоре клок искусственной кожи уже не болтался сбоку сумки, а ремень был крепко вшит в боковины. Раньше у Архипова была такая же драная сумка, а когда ремень совсем оторвался, Женька просто выбросил её.
– Сказал – значит, сделал. Моё слово железное, – Архипов с жадностью припал к банке и осушил её. – А вот ты выручил, так выручил, на душе посветлело, и в голове звездочки замерцали.
Кому звёздочки, а кому и книжка с наполовину чистыми листами, хотел заметить Дмитрий, но промолчал. Возможно, и разговаривать-то не стоило. Пусть себе напивается, а потом…
Женьку несколько раз отпихивали от автоматов. Внезапно банка, выбитая чьим-то локтем из его рук, грянула о цементный пол.
– Христопродавцы! – возопил Архипов и, прижав оставшуюся кружку к узкой груди, начал наступать на здоровенного бородатого детину. Тот скалил на Женьку крупные прокуренные зубы и специально выпячивал живот. Архипов упирался в этот живот и вытягивал шею, стараясь приблизить своё лицо к самому носу невозмутимого хама.
– Ты банку разбил, желудок? – грозно вопрошал Женька, и детина вскоре оскорбился. Он взял Архипова за грудки, дунул ему в лицо и отшвырнул подальше от автоматов. Женька загремел под ноги пиводувов, едва не спровоцировав всеобщую свалку, вскочил и с побледневшим от ярости лицом принялся выписывать ведьмины круги вокруг детины – с явным намерением врезать тому кружкой по голове.
«Потом появился поручик Ржевский, – подумал Дмитрий, – запасайтесь, говорит, дьяволы, гробами, сейчас стрелять начну!»
– Не трожь, Свистун! – зашипел Женька, когда Дмитрий потащил его к выходу. – Никуда я отсюда не уйду, пока этому беременному матрасу…
Только на улице Женькино взбеленение несколько поутихло. Типичный астено-невротик, подростком Архипов был капризен и раздражителен, всякое дело его быстро утомляло, словно он страшился любых результатов и последствий. Да и вообще, сколько Дмитрий помнил его детство, Женька побаивался многого: подолгу смотрел на небо – не надвигается ли гроза, по сторонам – не видно ли пьяной компании; очень пугался при порезе травой – не приведи господи раздражение! Влюблялся он бесконечно, но как замечал Дмитрий Свистунов, к девчатам приятеля тянули короткие, быстро истощавшиеся вспышки плотского желания.
У Дмитрия всё было наоборот. И теперь, когда они шли к Женькиному дому, который был рядом с «железкой» – винным магазином за железнодорожными путями, это «наоборот» его злило. Потенциальная моторная неловкость: пока он размышлял о возможных неудачах, девчата бежали к другому парню, более решительному. Колеблющихся женщины не любят, презирают – Дмитрий понял это лишь спустя годы.
Решиться сейчас. Врезать ему за всё хорошее, да и бросить тут, на путях, вон она, зелёная кишка электрички…
– Помалкиваешь? – усмехнулся Женька, с трудом переступая рельсы. – Такой же всё пассивный и осмотрительный, мнительность тебя погубит. И как только Катюша?..
Это он зря, это уже больно. И электричка рядом. За это можно и в челюсть. А может, завидует? Он, Дмитрий, из-за Катюхи-вертихвостки едва рассудка не лишился, до исхода молодого Вертера полшага не дошёл, до сих пор галлюцинации вечерами, а он завидует? Живет с ней и завидует! Может, он и о болезни прослышал? То, что Дмитрия посещает вторая Катюша, из области подкоркового уровня психики, как объяснили врачи? Нет, вряд ли, он просто завидует, он всегда был таким. Откуда ему знать об удивительном полупрозрачном облике прежней Катюши.
Электричка прошла…
Пора бы забыть, тем более другая, из плоти и крови, позвала Архипова и легла с ним в постель. И хорошо, что легла. Долгое время не могла продолжаться такая жизнь – с бесконечной борьбой за равноправие, с невыносимыми ежеутренними сценами:
– Забыл, куда брюки положил? – насмешливо спрашивала одна, которая через короткий срок уйдёт вместе с дочкой к Архипову.
– Ты уже встал? – радовалась другая. – Сейчас сыр натру в макароны. Кофе будешь с молоком или чёрный?
Потом шатаются стены и потолок с потёками в углах. И последнее, что он слышит:
– От глазуньи я тебе два глаза оставила, не хватит – еще нажаришь…
Нашатырь обычно помогает. На табурет усадят. Дмитрий сидит себе, размышляет: обе над ним стараются или одна?
Потом была психушка.
Он открыл глаза. Небритая физиономия Женьки.
– Что это с тобой? И часто?
Разве ему объяснишь, Архипову? По порядку надо, сначала.
– Не пьяный, вроде. О рельс споткнулся?.. Или падучая? Ну, дела-а.…
Дела, без «железки» не разберёшься. А вот электричка ушла. Жалко.
Сначала надо. Хоть с кота. Вот у него, Дмитрия, кот был. И жена Катюша была. И квартира двухкомнатная. Кресло, в котором сидел этот мерзкий кот. И разговор соответственный:
– Ты на обед мне даёшь рубль, а у нас в столовой мужики на два обедают. Коту и то мяса больше в жизни достается.
– Так он меня не оскорбляет! – Катюша всегда презирала мужчин, которые зарабатывают едва на то, чтобы прокормить кота.
Однокомнатная квартира Архипова была на первом этаже. Едва Дмитрий снял ботинки, хозяин принялся шарить в холодильнике, который занимал почти половину прихожей.
– Что тут у нас? Капуста и селёдка… Вначале под селёдочку, а потом, к приходу Илянки, солянку сварганим. Илянка-солянка выйдет!
Что за Илянка ещё? А Катюша, Анечка – они куда подевались? Вот оно, недоброе. Не иначе, поигрался Женька и бросил. Или… Илянка какая-то, румынка, что ли? С Архипова станется.
– Располагайся в кухне. Она, Илянка, у меня молодец, сам увидишь. Если понравится – поглядим. Моё слово железное. – Женька уже гремел посудой на кухне. – Серьёзно, она такая, сам увидишь. В горкоме работает вахтёршей… То есть секретаршей…
Архипов распинался про ванну, которую он на днях отдраил от желтизны, про кладовку, переоборудованную в фотомастерскую. Опять про Илянку, до того чистюлю, что с ума сойти! И не мешало бы к её приходу убраться в квартире, солянку сварганить.
– А без солянки нельзя?
Дело, конечно, в другом: спрашивать его сейчас или нет? А то и впрямь придёт его вахтерша-секретарша с испитым лицом и сухими ногами подзаборной мартышки. Темнит он что-то.
Предлагает по грамулечке. Вино Архипов купил по дороге.
Маленькую прихожую Женькиной квартиры увечит шкаф, который по замыслу находчивого архитектора, видимо, должен быть словно встроенным в стену и поэтому удобным. Коридор в кухню из-за этого шкафа узок до безобразия.
После бокала портвейна Архипов вновь разговорился:
– Еду сегодня в электричке, а там, в динамиках, голос. «Разобрана платформа», говорит. Ты что по этому поводу думаешь?
– Прыгать придётся, – пожал плечами Дмитрий и решил: Женька что-то почувствовал, видно, на рельсах. Темнит теперь, прикидывается, паразит, изгаляется.
– …А суровый голос в динамиках вновь: «Разобрана платформа», переходите, мол, в головные вагоны. Дельный совет, верно? – Архипов вдруг подскочил к плите и принялся размешивать что-то на сковородке. – Чуть не успеешь и – пожалте бриться: «Осторожно, двери закрываются». Как в песне! Тут главное – успеть в головные вагоны. Ты, судя по всему, не успел, раз из столицы лыжи навострил, – Женька запнулся, испытывающе глядя на собеседника. Но тот молчал.
– Это на словах все просто: разобрана – переходите. Смешно… Особенно некоторым пассажирам. Просто очень смешно. Почему? – Он уставился на гостя с многозначительной ухмылкой. – Не знаешь? Потому, Димон, что спрыгивать им недосуг и в головные вагоны не надо. У них в сумках среди сыро-дряблых колбасных батонов заховалась белоголовая. Или две. Проедут свою остановку, пересядут на обратную электричку и… лишат белоголовку серебряной кепки. Вот ещё спешить! Ехать назад и спешить… Они живут просто, работают, развлекаются. Некоторые, правда, не пьют, но в основном, живут, пия и развлекаясь, верно?
Дмитрий кивнул. Пусть себе мелит, когда-нибудь остановится.
– Тебе, например, какое дело, что они пашут в две смены, – продолжал разглагольствовать Архипов. – Чугуний ворочают или шампиньоны выращивают, в очереди на расширение квартиры десятилетиями стоят, и просто в очереди – всегда? Им бы, может, с начальства квартальную премию снять, потому что те в головном вагоне готовой продукции не изготовляют. Я это к чему?.. Да! К тому, Дима, что ежели у тебя с детства разобрана платформа, то никакие головные вагоны не помогут, – Архипов вновь принялся с усердием мешать что-то на шипящей сковороде. – Ух, и соляночка будет!
Околесицу несёт, подумал Дмитрий. Специально, боится говорить. Да без признаний ясно: и от него хвостом вильнула.
Неужели переживать научился? Если бы ты знал, Архипов, что в перемещениях мужчины и женщины, мужа и жены, есть очевидная закономерность, как и в перемещениях художественных ценностей. Всё, чем пренебрегает жена, неизбежно оказывается по ту сторону семейной границы. И по принципу «что немцу здорово, то русскому смерть» муж оказывается за рубежом первой, у той, второй женщины, с которой у него исключительно гармонично проходит процесс взаимопроникновения и взаимообогащения культур. Ещё немного времени, и бывшая подруга жизни поймёт, что за существо с целым иконостасом – поистине диковинных привычек и комплексов, казавшихся раньше убогими, грубыми и примитивными – она упустила. За пределы её крохоборского мирка, оказывается, вытащили уникальное творение, и ей уже неинтересно, что вокруг да около, сплошь и рядом, идёт массовый вывоз шедевров. Женщину волнует теперь лишь то, что якобы создано её волей, энергией, слезами, бессонными ночами – короче, бывший муж. Да ещё интуиция подсказывает, что теперь к ней легче пробиться посредственности.
От глазуньи, говорит, я тебе два глаза оставила. Не хватит – ещё нажаришь… Сыт по горло этими гепатитными глазами, пусть себе забирает. И с ними останется.
– Помалкиваешь? – Женькины брови топорщатся на переносице, готовится к худшему. Думает, бить буду. Сейчас разговорюсь, раз встретились, обязательно расскажу всё, от начала до конца. Не поймешь ведь. Да и леший с тобой, Женькой Архиповым. Напрягай извилины, пообщаемся вдоволь, почему не поговорить со старым приятелем, доупражнявшимся до безумия?
Слушай, Женька, слушай, дружище. Да и сам не молчи. Лихо у тебя получается чепуху молоть. Авось до чего и договоримся. Главное, много не пей, а то, не приведи господь, брякнешь гадость какую-нибудь, – на месте уложу! Впрочем, от тебя многого не добьёшься, околесицу несешь. А то, глядишь, она к месту и придет – околесица твоя. Наша околесица…
2
Началось это ещё в то время, когда Дмитрий Свистунов работал в районной газете и побочно подрабатывал руководителем семинара дискжокеев: заставлял будущих дискотечных казанов зубрить скороговорки, речевой аппарат разрабатывать. «На горе гуси гогочут, под горой огонь горит».
Кто тебя, Женьку, устроил на работу, когда тебя выперли со второго курса Тимирязевки? Я тебя устроил. Впрочем, по многочисленным просьбам Катюши. И ведь не куда-нибудь, а в методологический центр по организации досуга молодёжи – от горкома комсомола. Ты тогда быстро освоил новое поприще и быстро к нему охладел. Но бармен из тебя неплохой получился.
– А что, Женька, отчего у тебя летом сок пятнадцать копеек стоит, а зимой – двадцать пять?
– Это сезонный сок, – пояснял Женька, роняя кружок колбасы на пол, – зимой он дороже… Опять посудомойка не пришла, – жаловался он, поднимая колбасу, некоторое время размышлял, потом пристраивал её вновь на ломоть хлеба, подсовывая под другой колбасный кружок.
Он любил первое время жаловаться Дмитрию, коротающему время до прихода дискотечников. Особенно приятеля раздражали совещания.
– Кофе будут пить без коньяка. Опять выручки – три рубля. Коктейль делать бесполезно, все равно с улицы народ не пустят. Помещение, видите ли, для серьёзных мероприятий. А бутерброды портятся! Даже крысы избаловались – шоколадки едят, В соках осадки. Мне всегда не везет. Слушай, – наивничал Женька. – Может, святое письмо размножить? – он доставал из бумажника замусоленную бумажку и читал: «Слава Богу. Двенадцать лет мальчик болел. На берегу встретил Бога. Бог дал ему письмо и сказал: перепиши его 22 раза и разнеси в. разные стороны. Мальчик сделал это и выздоровел. Одна семья получила письмо, переписала и получила большое счастье…»
Заканчивалось это послание странной фразой «Обратите внимание на свою заботу».
– Три недели – срок, если не размножу – пиши пропало, – и Женька хохотал. – Счастье по почте, представляешь?
Потом он начинал философствовать. Он был уверен, что природа намеренно сделала человека. несовершенным, разделив на два пола, чтобы половинки терзались в мучительных поисках друг друга, понимая всю бессмысленность подобной затеи. Истинное счастье никому не даруется и никем не завоёвывается. Один убогий шанс из сотен тысяч – трудно уповать на него всю жизнь. Почти уникален великий Сальвадор Дали со своей Галой – женой, любовницей, натурщицей. А вокруг – сумрачный океан одиночества, мучительного ожидания, молчаливого отчаянья, скрытого маской беспечности и удачи. Счастье где-то в самом человеке, в каждом из нас, хоть мы и поступаем сплошь и рядом не по-человечески.
Уже тогда Дмитрий подозревал его, потому что именно Женька мог поступать не по-человечески ежедневно. Уже тогда в небольшом уютном баре, за стойкой которого разбавлял коньяк водой Архипов, появилась у Дмитрия тревога; грядут перемены.
Умело раскрашенные по-мозаичному окна, стены с тёмными и светлыми полосами, похожими на тени, низкий зеркальный потолок, занавесь при входе, низкие столы и мягкие кресла, серый палас – всё создавало уют, было предрасположено к отдыху, спокойной беседе за чашкой кофе. Но Дмитрий ни разу не привёл сюда жену.
А Женька приглашал, приглашал и жаловался, говорил, как день за днем с грустью созерцает он пустой, замерший в ожидании бар, а ощущение уюта постепенно деформируется, превращаясь в безнадёжную тоску. Тосковали, тускнея, светильники- бра под потолком, потому что никто не любовался их загадочным световым рисунком; тосковала канатная занавесь – её никто не распахивал элегантным жестом; пылилось в безысходной скуке зеркало на потолке – им никто не удивлялся.
Это теперь ясно: Женька тосковал по жене Дмитрия и тяготился тем, что не может сюда прийти с ней вдвоём, без её ревнивого мужа. Немудрено, что скоро Дмитрий заметил: Архипова раздражает его присутствие.
– Что это у тебя за работа такая? – играя желваками, цедил Женька. – Нищета, писюльки публикуешь. Не по-мужски, только нос задираешь. Хочешь, я тебе сегодня же статью напишу. На любую тему.
И Дмитрий, принимая вызов, заказал приятелю статью о молочной ферме. Через день он взял у бармена помятый тетрадный лист и прочитал: «Веление нашего времени – подъём животноводства. Как в целом сельском хозяйстве, так и в корововодстве, в частности. Раньше, конечно, привычно было: каждый отвечал за себя, то есть за группу коров. Каждый заботился о своей подстилке: ежели, скажем, опилок вовремя не постелить, то можно повредить ноги и вымя. А сохранность каждого скота должна быть на первом месте…» Каков подлец этот Архипов!
Сделав серьёзную мину, новоиспечённый селькор наливал Дмитрию кофе, пододвигал бутерброды:
– Угощайся, – потчевал соперника изверг Женька, – колбаса всё равно испортится… Нет, всё-таки придёт мой звёздный час.
Дождёшься, думал Дмитрий. Это как пить дать.
Но Женька действительно дождался, когда уволился из барменов.
Впрочем, звёздный ли это был час?
Осенними вечерами Дмитрий выходил на лоджию, выкурить последнюю за день сигарету. Посмотреть, как отраженные в лужах дома начинают вдруг жить в двух измерениях, обычной понятной всем жизнью – земной, и другой, неизвестной, подземной, зазеркальной. Дневная слякоть превращается в загадочный, полуфантастический мир. Чудом сохранившиеся в новом микрорайоне большие берёзы неясно блестят в тусклых синеватых лучах фонарей. Совсем рядом, за соседним домом, шумят спешащие в столицу поезда и пригородные электрички, голос женщины-диспетчера изредка доносится со стороны железнодорожной станции.
Иногда балконом ниже разговаривают старушки. Разговоры эти повторяются изо дня в день.
– Ан мои-то, дочка с зятем, сменялись, ан плохо там. Ванны нет. Ни ванны, ничего нет.
– Может, и воды не бывает? – ехидно шамкает другая старушка.
– Вот ещё, не бывает! Как вошёл, так и вода… Мутное беззвёздное небо: близкий, идущий по крышам соседних девятиэтажек горизонт светел и безлик. Не различить из-за городских огней огромного крыла Пегаса, там, где в бинокль можно найти кругляш бесконечно далёкого шарового скопления, не разглядеть и звёзд на свадебном платье спасённой Андромеды. Далеко за дымами промышленного спрута две рыбины, посланные Осенью, влекут за собой дожди, – на старинных звёздных картах эти рыбы изображены связанными за хвосты широкой лентой. По преданию, едва Солнце вступает в это созвездие, начинается период дождей и наводнений.
У Дмитрия в душе – тот же период. Он поглядывает через плечо в комнату, где суетится Катюша, меняя постельное белье или укачивая дочь. Вот она остановилась, задумалась над чем-то, хмуря тонкие выщипанные на две трети брови.
Период дождей и наводнений начался с того дня, когда Дмитрий решил привезти из больницы бабку Машу, врачи категорически запретили оставлять её без присмотра. Заболела старушка, по мнению компетентных людей, на почве религиозных предрассудков, а по мнению Дмитрия, просто от деревенской тоски и одиночества. В деревне бабка Маша изводила всех разговорами о неминуемом конце света, о смертоносном атоме… Конверты писем не ленилась разрисовывать сотнями микроскопических крестиков, из Троице-Сергиевой лавры – шесть часов дороги! – регулярно привозила святую воду. Вёдрами. Но сверх того, она боялась фашистов, которые ей мерещились идущими колоннами по деревенской пыльной улочке. Поэтому окна в старом бабкином домишке всегда были занавешены, а сама бабка не раз запиралась, назначая себе неделю добровольного заточения.
– Здесь ребёнок. Лучше езжай в деревню со своей ненормальной и живи там.
Можно обнять Катюшу в ответ, привлечь к себе, можно дотянуться до её губ и между поцелуями быстро пробормотать своё, дискотечное:
– Бык-тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа.
– Ты не боишься, что я сорвусь?
«Не сорвалась ли уже?» Бабку Машу поселили в небольшую уютную комнату, где стояли диван, старый гардероб с потрескавшейся фанерой боковых стенок, сервант, в котором рядом с маленькими голубоватыми рюмками выстроились в ряд иконки с ликами всевозможных святых.
Он помог снять бабке Маше изжелта-серое драповое пальто, подождал, пока она с трудом натянула на непослушные ноги большие растоптанные тапки, которые были старушкой предусмотрительно прихвачены с собой.
– Здрахфствуй, – только после этого приветствовала она хозяйку, едва переводя дух: лифт в подъезде не работал. – Ступенек у вас уж больно много, – «ступенек» она произнесла с ударением на первом слоге. – Бог зна что! – она говорила нараспев, картавя, и едва заметно улыбалась уголками полных неправильных губ, над которыми темнело несколько настырных волосков.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71515531?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
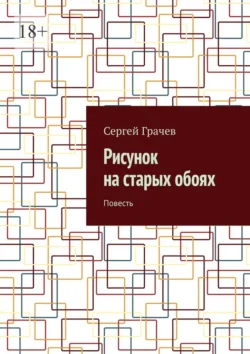
Сергей Грачев
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 09.01.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: События в повести Сергея Грачева «Рисунок на старых обоях» происходят в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Это история о странной любви мужчины и женщины, у которых, на первый взгляд, нет никаких точек соприкосновения. Драматична судьба главного героя, тревожно его будущее, но он не перестает верить в душевное обновление, в то, что он когда-нибудь обретет свой светлый путь.