Змеелов
Змеелов
Даха Тараторина
Ходят враки, что рождён он самим туманом.
Что мёртвый глаз его видит Безлюдье, а сердце, скованное железом, не гонит по телу горячую руду.
Что ходит он по свету неприкаянный и во всяком селе, где заночует, скоро сбивают похоронные короба.
Девки его боятся – страсть! Коснётся – проклянёт, навек в перестарках оставит!
Всюду встречают его как гостя желанного, но плюют вослед да вешают рябину над окнами, куда заглянул мёртвый глаз.
Люди нарекли его Змееловом.
ЦИКЛ ОДНОТОМНИКОВ ВРАКИ
"Хозяин болота"
"Йага"
"Лихо"
"Крапива"
"Змеелов"
КНИГИ МОЖНО ЧИТАТЬ ОТДЕЛЬНО И В ЛЮБОМ ПОРЯДКЕ
Даха Тараторина
Змеелов
Глава 1. Приживалка
Остров не зря стоял на спине старой жабы. Топкие берега его дышали густыми туманами, испещрённое бородавками бочагов и омутов тело источало прохладу с ранней осени и почитай до самой серёдки лета, а пришлецу, не ведавшему тайных запруд да проток, подобраться к Яру и вовсе было не суждено.
Гадючий яр – так прозвали остров соседи. Оттого что крутые обрывы перемежались на нём глубокими оврагами, оттого, что змей на острове водилось видимо-невидимо, и оттого, что змеи, как врут бабки, испокон веков не трогали тех, кто вырос на болотах. Болот на Гадючьем яре тоже было едва ли не больше, чем твёрдой земли. Оно и промышляли местные не пашней, а охотой, рыбалкой да мастерством. Ясно, что людей светлых да ласковых подобный край родить не мог. Про выходцев с острова на большой земле так и говорили: с Гадючьего яра выбрался, да так гадюкой и остался.
В остальном же остров был как остров. Рыбачили, клюкву собирали, изредка торговали. Да и с соседними деревеньками, чьи леса темнели близёхонько, дитёнок на лодке осилит, на ножах не были. И, конечно, веселились во славу богов в отведённые для того дни. Все веселились: стар и мал, хил да удал, улыбчивые красавицы и… Ирга.
Как бы так сказать, чтоб не обидеть кукушонка?
Вот, к примеру, случается, что девка выходит во двор, и будто бы солнышко светит ярче, соловьи заливаются, а скотина, предчувствуя добрую хозяйку, призывно подаёт голос. Бывает и так, что девка, вроде, ладная-складная: медны косы до пояса, глазища что изумруды, стан гордый да шаг твёрдый… А соседи разве что не плюются ей вослед! Немудрено. Рожаница жестоко пошутила над девочкой: поцеловала в лобик, одаривая красотой, а после возьми да и дёрни за язык! Так Ирга и осталась. Вроде собою хороша, а смолчать невмоготу! Вот и то утро сразу пошло наперекосяк. Ждали большой праздник – Ночь Великих Костров. А к празднику, вестимо, и воды надобно натаскать, и угощение сготовить, и избу украсить… Суетились, бегали кто где. Ирга со всеми вместе носилась, понёвы не просиживала. Ну и проскочила мимо соседки, не отвесив поклон да доброго дня не пожелав. Впрочем, не приближайся праздничный час, она с вредной бабкой всё одно лясы точить не стала бы, но тут, вроде как, и упрекнуть не в чем. Однако ж соседка прошипела девке вослед:
– У-у-у, гадюка!
Кто другой шёл бы себе и шёл до колодца, но Ирга воротилась, спустила коромысло с плеча, уперла руки в бёдра и в упор поглядела на бабку.
– Ну-ка повтори!
Старуха пожевала губами, раздумывая, стоит ли до полудня затевать спор, но в удовольствии себе не отказала и чётко повторила:
– А я говорю! Гадюка и есть!
Девкин прищур добра никому не сулил. Зелены очи так и сияли – ну чисто колдовка! Однако Ирга в Гадючьем яре выросла, и соседка, ещё в малолетстве гонявшая рыжуху со двора, не убоялась.
– А ежели я сейчас тебе ведро на голову нахлобучу и как дам! – пригрозила Ирга.
– А ну давай! Поглядим ещё, кто кого! – засучила рукава старуха. – Где ж это видано, чтоб ни поклониться, ни доброго слова молвить! Али я тебе чужой человек?
– Угу, – поддакнула девка, – такой родной, что вчера два кочана капусты едва со двора у нас не увела!
Соседка присела от неожиданности: ишь, глазастая девка! Да уж не она ли спустила с цепи старого пса, спугнувшего горе-воровку? Сорвала с головы платок, дабы видом седых жиденьких волос устыдить нахалку.
– Ты что это такое говоришь?! Это что же, я?.. Меня?! Люди добрые, вы послушайте только!..
– А и правда, – согласилась Ирга и тоже повысила голос: – Люди добрые! Вы послушайте, кто к нам вчера ввечеру в дом залез!..
– Ты что?! Молчи, молчи!
Бабка не то замахала на Иргу платком, не то попыталась хлестнуть, но та только оскалилась.
– И верно, вора-то я сама не видала. Зато слыхала, как кобель его в пыли повалял. Небось ещё и покусать успел. А что, бабка Лая, отчего левую ногу бережёшь? Прищемила где?
– Да как смеешь! Ты! Перестарок недоделанный! Сидишь на шее у брата, так ещё его добро считаешь!
Ирга всерьёз подумала, что ведро на голову вредной бабке надеть всё ж не помешает. Знала, гадина, как побольнее ужалить! А тут ещё – вот насмешка богов! – Василь и сам выглянул на шум из избы да поспешил к спорщицам.
Лая сразу в лице изменилась: пригладила волосы, повязала обратно платок, губы в улыбке растянула – ну чисто волхва Небесных прях!
– Василёчек, отрада моя! – залепетала она. – А я спрашиваю, чего это тебя не видно? Неужто прихворнул?
– И тебе доброго утречка, соседушка!
Поравнявшись с женщинами, Василь отвесил низкий поклон, а старая Лая победоносно зыркнула на Иргу поверх его спины. Ирга же не преминула сложить бабке шиш.
– Вашими молитвами! – ровно ответил брат. – А вы как, бабушка? Ни стреляет ли спину? Ни… – он сделал едва чутную паузу, – болят ли ноги?
Лая вперилась в соседа внимательным взглядом, но тот так тепло улыбался, так ясно сияли его очи, что и подумать не можно, чтобы насмехался!
– Годы своё берут, годы, милок, – пробормотала она, отступая. – Пойду, недосуг мне с вами…
Василь поклонился ещё раз, не отрывая от бабки внимательного взгляда зелёных глаз, и ещё долго махал вослед, когда та ненароком оборачивалась.
Они с Иргой стояли рядом не то похожие как две капли воды, не то разные, как пламень и лёд. Одна колючая, ершистая, языкастая, второй улыбчивый и добродушный, отродясь не сказавший никому худого слова. Рыжие, зеленоглазые – в мать. Один подвижный и резкий, другая медлительная и плавная. И никого-то в целом свете у них не было, кроме друг друга.
Василь, не убирая улыбки с лица, попенял сестре:
– Ну что ты опять?
– Я?!
– Дорогу ей не уступила? О здоровье не справилась?
– Не всё ли равно? – огрызнулась Ирга. Карга всегда находила, чем бы остаться недовольной. То на неё не посмотрели, то, напротив, слишком долго разглядывали. Ирга нехотя буркнула: – Не поклонилась.
– И что, жалко, что ли? Пополам развалилась бы?
– Может и развалилась бы. Я не ты – всем угождать.
– А я не ты – со всеми ссориться.
Василь пожал плечами и направился домой. Но напоследок бросил:
– А кобеля вчера я на неё спустил. Неча…
Ирге вдруг захотелось расплакаться и броситься брату на шею, как случалось в детстве, если кто обижал кукушат. Но она сдержалась. Детство давно минуло, и нынче… Девка сцепила зубы. Нет, это раньше они друг у друга были вдвоём. Нынче иначе. И склочная бабка разозлила её так сильно оттого, что баяла правду: Ирга и верно сидела перестарком на шее у младшего брата. Смех да и только.
Она закинула коромысло обратно на плечо и двинулась к колодцу.
***
Если есть в подлунном мире праздник, что так или иначе встречается у любого народа, от Северных земель до Мёртвой шляховской степи, то это Ночь Великих Костров. По-разному эта ночь зовётся, по-разному рассказывают враки о том, кто разжёг первый пламень, но суть одна: в серёдке лета, когда солнышко припекает всего жарче, а урожай входит в силу, напитываясь материнской любовью почвы, вспыхивают огни. Сладко у тех огней, тепло, светло! Иной раз злые враги примиряются в их медовом зареве, союзы заключаются, зачинаются дети, коим суждено нести свет в мир.
Ирга и Василь сызмальства ходили на Ночь Костров рука об руку. С тех самых пор, как не стало матери, а бабка поставила их перед собою и сказала:
– Берегите друг друга, кукушата! Мир большой, но брат сестру, а сестра брата всегда отыщет и всегда выручит!
С этими словами старая Айра вручила им по тлеющему угольку в глиняном черепке – накормить божественный пламень – и отправила на праздник.
Через год от того дня не стало и Айры, а Ирга и Василь в самом деле остались друг у друга одни. Много воды с тех пор утекло, много случалось ссор и недомолвок, но в назначенный день они всегда нагребали угольков из устья печи, брались за руки и шли к кострам. Пока однажды в их дом не пришла, откуда не ждали, Беда.
Ирга сидела у окна и правила погнувшиеся от времени височные кольца на очелье. Кольца были простенькие, медные, хлипкие. Никогда они с братом не голодали, но и дорогого убора али шелковых тканей в доме не водилось. Она сидела и смотрела исподлобья на свою Беду. А та знай сюсюкала с Василём: то кисельку ему поднесёт, то обнимет. Никак не уймётся! Беда ходила уже с трудом, переваливаясь с ноги на ногу, как бокатая кошка. Немудрено: девятый месяц на сносях! А всё норовила то посуде новое место, поудобнее, отыскать, то кашу сварить не как Ирге привычно, а как повкуснее. Беда носила имя Звенигласка. Голос её взаправду звенел ручейком, особливо когда ятровь[1 - Здесь в значении невестка] вечерами вышивала под окном, на том самом месте, где сидела нынче Ирга, и песня летела до самого края острова и стелилась над озером. Ирга ненавидела Звенигласку. А ещё боле ненавидела чадо, которое та принесла в их дом.
Дело было недавно, и года не прошло. Лето выдалось холодное и дождливое, туманы густые и пахучие, а от сырости люд был зол и напуган. Это островные могут рыбой да морошкой промышлять! А коли погниёт пшеница на большой земле, сколько деревень останется без пищи! Потому, как слыхала Ирга, у соседей случилось немирье. К осени меж селениями завёлся разбойный люд, а нередко целые деревни поднимались и шли на соседей с железом, так страшен был надвигающийся голод. Что удавалось, забирали друг у друга силой, и платили за отвоёванное не монетой, а горячей рудой. Совались даже в Гадючий яр, да уходили несолоно хлебавши: дважды вороги не находили протоков, чтобы провести лодки, а раз плутали так долго, что местные успели собраться и встретить неприятеля вилами. Но то Яр, его сама матушка Жаба защищает. Другим же боги благоволили меньше.
В тот день, верно, небожители и Ирге не благоволили. Поздняя клюква едва успела покрыть дно новенького лукошка, сплетённого Василём. Брат был мастер на все руки, и рыжуха больше думала о том, как удобно легла на локоть рукоять, чем о том, чтобы наполнить туес. И вдруг – скулит кто-то. Да так жалобно! Какие уж тут ягоды?
– Никак зверь в силках запутался, – решила девка и пошла на звук.
Знай она, что сделается дальше, бросилась бы со всех ног прочь! Но разве небесные пряхи открывают судьбу тому, кого обвивает их тонкая нить?
В камышах у протоки застряла лодчонка. Плохонькая, кривенькая, подтекающая. В Гадючьем яре, где каждый первый жил рыбным промыслом, таких не держали даже детям – смех, а не лодчонка! Уж не пристал ли к берегу недобрый люд?
Но подул ветер, посудина зачерпнула левым бортом воды, а камыши наподдали с правого, и лодчонка начала медленно тонуть. Куда уж тут думать? Плач стал маленько тише, но не умолк. Тот, кого принесло Лихо к берегу, не мог либо не хотел выбираться. Ирга облизала пересохшие губы и, осторожно ступая по кочкам, чтобы не увязнуть в топи, подобралась к камышам. Протянула руку – не достать! Отломила ветку и шлёпнула ею по задравшемуся носу посудины.
– Эй, кто там? Зверь али человек? – как могла грозно спросила она.
Скулёж стих, а после на днище кто-то завозился, от чего судёнышко лишь быстрее пошло тонуть. Ирга приказала:
– Вылазь! А не то хуже будет!
Но вместо того, чтобы подчиниться, человек, а Ирга уже не сомневалась, что в лодке прятался никакой не зверь, перевалился через борт и… целиком скрылся в реке. Только вода забурлила!
– Чтоб тебя Щур драл! – выругалась рыжуха и кинулась следом.
Чужаки Гадючий яр не любили ещё и за то, что причалить, не зная места, было никак не можно. Берега сплошь топкие, болотистые. Станешь не там – провалишься в бочаг. А оставишь судно без присмотру, речные духи утянут на вязкое дно – не сыщешь. Так вышло и на сей раз. Недолго лодчонку удерживали на поверхности камыши, но куда им справиться с непосильной тяжестью! И вот теперь русалки пускали со дна пузыри и веселились, деля добычу – лодку и человека. Да и пусть бы им! Что Ирге неизвестный чужак? Но словно толкнул её кто под колено, и вот уже девка сама – бултых!
Грязная вода, густая, что кисель, полилась в рот и уши, илистое дно заглотило ноги до коленей. Тьма пеленою заволокла глаза: где погибель, где спасение? Второпях девка и воздуха в грудь набрать не успела, и теперь всё нутро жгло огнём. Хлебнёшь мутного киселька – навеки мертвянкой останешься. Станешь топить лодки да зазевавшихся рыбаков, плести косы из ивовых ветвей и туманов, играть на рогозе, как на свирели… Страшно!
«Выручай, бабушка!» – мысленно взмолилась Ирга.
И будто бы ответила из Тени добрая старушка! Протянула руки, в посмертии украшенные белоснежными лентами: хватайся, внученька! Ирга схватила, что схватилось, и всем своим существом потянулась к тусклому солнцу, ворочающемуся за тяжёлыми тучами.
Как выбиралась из топи сама и как волокла за собою спасённого, Ирга по сей день уразуметь не могла. Однако ж страх подстегнул, и сил хватило что на первое, что на второе. Лишь спустя время, очухавшись и извергнув из себя бурую воду, девка разглядела, кого ради чуть не утопла.
Девка! Почти девчушка: маленькая, сжавшаяся в комочек, оборванная. И нет бы поблагодарить! Безучастно глядела на спасительницу, словно ей дела не было, на этом она свете или на том.
– Как… – За хрипом Ирга собственного голоса не узнала. Прокашлялась, утерлась мокрым рукавом и спросила снова: – Как звать тебя?
Девчушка медленно-медленно моргнула, и лишь тем она в тот миг отличалась от мертвянки. А после поворотилась на другой бок.
Ирга села, обхватив колени, и долго глядела на клубы тумана, парящие над спокойной гладью воды. Не выберись они на берег, туман плыл бы дальше, а отдалённый плеск вёсел всё так же тревожил пелену тишины. И лишь на двух глупых девок в этом мире стало бы меньше.
– С большой земли сбежала? – угадала Ирга.
Но девчушка не пошевелилась.
– Обидел кто? Эй?
Едва ладонь легла на плечо бедняжки, та забилась, как в падучей, беззвучно разевая рот, а после, когда силы покинули её, свернулась калачиком плотно, как ёж
. Но глазастой Ирге хватило времени разглядеть порванное платье, ссадины на зарёванном лице и продолговатые синяки на запястьях и ногах. Больше она у девчушки ничего не спрашивала. Впрочем, желающие на это дело и без неё нашлись: заслышав возню, к берегу направили лодки рыбаки.
Ершистую Иргу и саму по себе в Яре не жаловали, а тут ещё и чужачка! Словом, перво-наперво мужики решили, что это само Лихо в человеческом облике к ним пожаловало, и, не то в шутку, не то всерьёз, предложили забить девок вёслами.
– Я тебе это весло знаешь, куда засуну? – негромко спросила Ирга.
С земли она не поднялась, да и видок после купания был так себе, зато взгляд твёрдый, а голос ровный, хоть и тихий. И почему-то занесённое весло Дан, внучок бабки Лаи, опустил.
– В воду её и дело с концом! Нечисть она, как пить дать! – ткнул длинным пальцем в чужачку долговязый Костыль. – Вернём туда, откуда явилась!
Ирга осклабилась:
– А ты дурак дураком, давай тебя теперь мамке между ног обратно засунем!
Остальные трое мужиков оказались подальновиднее. Отправив гонца за старостой, они сгрудились вокруг девчушки и нашли, что не так уж она мала, как показалось наперво Ирге, и что хороша собой.
– Небось свои же и поваляли, – заключил Дан и недобро усмехнулся: – Напросилась, а опосля в рёв. Знаем мы таких. Эй! – Он наклонился и за подбородок повернул чужачку к себе лицом. – Кому тебя возвращать-то?
Девка и без того была полубезумная и либо молчала, либо скулила, не в силах толком объяснить, что стряслось. Но тут её словно ужалил кто – кинулась вперёд да как вцепится зубами Дану в самый нос!
Тот в крик!
– Что творишь?! Я тебе головёнку-то ща как откручу!
И от того Дану было обиднее, что друзья и Ирга, на него глядючи, заливисто смеялись. Хотел сорвать злость на пленнице, замахнулся… Но тут уже рыжая встала перед ним стеною:
– Только тронь! Крысу голодную тебе в портки засуну! Снова.
Дан и без того Иргой был обиженный, но то дело прошлое. Потому взревел медведем:
– Поговори мне ещё, ты!
Пока брехались, судили да рядили, сыскались и староста с женой. Да не одни, а в сопровождении доброго десятка селян. Лодки выныривали из тумана. Первая, вторая, третья – всем охота посмотреть, от чего суматоха!
Явился и Василь. Он стоял на носу старостиного челнока и высматривал сестру. Стоило разглядеть его, как к Ирге мигом вернулись силы. Она замахала, ажно привставая на цыпочки:
– Ва-а-а-ас! Вас! Васи-и-и-илё-о-о-ок!
Напряжённое ожидание слетело с лица парня. Об том, что что-то с сестрой сталось, он услышал, но подробнее гонец не рассказал, а того больше додумал, потому готовился Вас к чему угодно. Да и Ирга, зная её, могла натворить дел, что не расхлебаешь… Однако стоит, живая-здоровая, хоть и чумазая. Стало быть, Лихо обошло их двор стороной.
Пристав к берегу, Василь легко перемахнул борт и заключил сестру в объятия. Ласково убрал рыжие пряди, налипшие на грязный лоб.
– Ну что учудила, сказывай?
Ирга шутливо ударила брата кулаком в плечо.
– А что сразу я?
Слово за слово, выяснили, что к чему. Жена старосты, похожая на толстую величавую крольчиху, даже узнала вышивку на рваном подоле чужачки.
– Из Кардычан она, точно говорю. Кума моя оттуда, такую же понёву носит. Ты как, милка, Кардычановская? – повысив голос спросила она. – Никак беда какая приключилась?
Кто-то припомнил дым, поднимавшийся за лесом на большой земле несколько дней назад. Кто-то взялся осмотреть чужачку и, хоть та не далась, заключил:
– Попортили её, зуб даю.
Кто-то сделал отвращающий знак, чтобы Лихо, принесённое пришелицей на шее, не перепрыгнуло на новый насест.
– Домой бы её отвезти…
– Да ты погляди на неё! Кому она такая дома нужна? Мать с отцом погонят, да и правильно сделают! – спорил люд.
Староста пригладил бороду-лопату и задумчиво переглянулся с женой.
– А и есть ли, куда возвращать… – пробормотал он, накручивая ус на палец.
Девчушка от этих речей едва ли не под землю зарылась. Сжалась в комочек, старалась сидеть тихо, как мышка, надеялась, что ещё маленько постарается – и вовсе пропадёт. А Яровчане только плотнее обступали её со всех сторон.
Ирга ждала, чтобы девчушка сорвалась и, как до того на Дана, напала на кого, кто поближе стоит. Но первым не выдержал Василь. От рождения добрый да глупый, он растолкал односельчан, поднял девицу на руки да понёс к ближайшей лодке. И чужачка, вопреки ожиданиям, не забилась в его объятиях, а затихла и уснула прежде, чем Ирга тоже запрыгнула в судно.
– Серденько! Серденько? Ирга!
Девка вздрогнула и едва не кинулась на Звенигласку, как та на Дана по осени. Она стряхнула ладонь ятрови с плеча и тут только заметила, что наново погнула очелье, которое так долго правила.
– Задумчивая ты, Ирга. Молчаливая…
– Тебе что с того?
Звенигласка вперилась очами в пол. Этими-то очами Василь перво-наперво и начал грезить: огромные и с длиннющими ресницами, что у коровы. У Ирги-то, да и у самого Василя глаза были что щёлочки, да к тому ж изогнутые, как у лисицы. А у Звенигласки круглые и синие, как озерцо лесное. Или как васильковые головки посреди пшеничного поля. По малости Василёк спрашивал, отчего мать нарекла его странно. Ни Изумрудом, ни Лисом, ни Листом… в Гадючьем яре-то с именами просто: высокий – Костыль, младший да неожиданный – Дан, рыжий – Ржан. И вдруг… Василёк! Нынче же Ирга глядела на Звенигласку и думала, что мать узрела нечто, им с братом неведомое.
Коса у Звенигласки была русая, как пшеница зрелая. Носила она её обёрнутую вокруг лба, и Ирга всё дивилась, отчего с такой тяжестью голова не отломится. Верно, в родных Кардычанах слыла Звенигласка красавицей, ну да теперь и спросить не у кого – родных у неё не осталось.
Словом, немудрено, что влюбился Василь ещё прежде, чем Звенигласка, поборов пережитый ужас, заговорила. Но это тогда, первые дни после счастливого спасения, девка рта раскрыть боялась. Нынче же поди заставь замолчать! Вот и теперь щебетала, усевшись подле Ирги.
– А как разрешусь, перво-наперво в баньке попарюсь. Горячей-горячей! На острове-то всё больше холод да сырость, я к такому не привычна…
«Ну и проваливала бы с нашего острова!» – могла сказать Ирга. Могла, но промолчала. Потому что, как бы сильно не злилась на Звенигласку, всё ж помнила, как привела её в баньку в первый раз.
Спасённая чужачка спала крепко – криком не разбудишь! Ирга ждала, что девка от каждого шороха будет вскакивать, но ошиблась. Василь сидел подле найдёнки, положив широкую мозолистую ладонь ей на темя, и девка дышала ровно и глубоко. Стоило убрать руку – начинала трепыхаться. У Ирги же словно ледышка под сердцем смёрзлась от эдакого зрелища, и она в тот день переделала все дела, что откладывала с лета: и прорехи в одёже зашила, и стол выскоблила, и в погребе прибралась. Так время до вечера и пролетело.
К закату же истопили печь и осторожно разбудили чужачку. Оно и отмыть гостью не мешало бы, да и самим отмыться, но важнее иное. Когда является на свет новое дитё, его трижды вносят и выносят из раскалённой бани. Совсем хорошо, если сразу в баньке роженица и разрешится, но всякое случается, и иногда обряд свершают через день-два, а то и через целый месяц, когда младенец окрепнет. Если кто из семьи надолго покидает родные края, поди угадай, сам вернулся али сила нечистая облик родича приняла? Тоже, ясно, ведут в баню. А ежели кто сделал навет и божится, что видал, как сосед оборачивается в зверя или как колдует супротив деревни, то в той самой баньке железным прутом могут кости пересчитать. И тому, на кого навет, и тому, кто видел. Так-то оно верней. Найдёнку тоже первым делом следовало отвести в баню, дабы проверить, с добром или с худом явилась.
Девчушка глядела на брата с сестрой волчонком, отказывалась говорить и есть, хотя живот её и урчал на всю избу. Ирга нерешительно подступилась к ней и протянула руку.
– Пошли, что ли. Отмыть тебя надобно.
Найдёнка только шарахнулась.
– Вместе пойдём, не бойся.
Но девица не успокоилась, а лишь затравленно покосилась на Василя. Ирга фыркнула:
– Нет, этого не пустим. Больно он нам там нужен.
– Да я и не просился! – отбрехался Василёк и густо покраснел.
Тогда только найдёнка позволила взять себя на руку. Ладонь у неё была горячая, влажная и мелко подрагивала.
– Нет на свете такой беды, которую горячая банька не вытопила бы, – ободряюще улыбнулась Ирга и потянула гостью за собой.
Когда пришло время раздеваться, чужачка снова заупрямилась. Вцепилась в лохмотья, словно те были ценнее золота, и замотала головой.
– Ну мойся так, – равнодушно хмыкнула Ирга.
Свою одёжу она скинула легко, вышагнула из рубахи, распустила медны косы по плечам, а из волос так и посыпался всякий сор: водоросли, листья, трава, а после… выскочил маленький лягушонок! Метнулся к одной стене, к другой, шарахнулся от раскалённой печи. Ирга едва изловила его, обернув на себя бадейку холодной воды, выпустила за дверь, перевела дух… И тут найдёнка засмеялась. Звонко так, весело! Испуганно закрыла себе рот руками, но тут уже сама Ирга подхватила и покатились!
– Меня Звениглаской звать… – опосля сказала гостья. И эти слова стали первыми, что произнесла она в их доме.
– Голос у тебя звенит. И верно Звенигласка. Небось поёшь – заслушаешься!
– Пела. Раньше…
Звенигласка потянула рваную рубаху с плеча, а у Ирги сердце сжалось от ужаса и жалости. Вот, стало быть, почему найдёнка от людей шарахается…
– Старосте надо сказать, – выдавила Ирга. – Найдём паскудника…
Звенигласка медленно покачала головой.
– Найдём если даже… Что с того? Девке позор, а насильнику разве что по шее дадут. Смолчишь?
– И без меня все докумекали…
– Одно дело думки, а другое…
Звенигласка вздохнула, а Ирга вдруг подлетела к ней, обвила руками и прижала к себе. Так они и стояли долго-долго, а раны, что на теле, что на душе, словно бы затягивались одна за одной.
Отчего же нынче нет того тёплого чувства в груди? Отчего не тянет обнять подруженьку и всплакнуть, как тогда? Нет, нынче Ирга, если бы и обняла Звенигласку, придушила бы на месте. А потому и обнимать не спешила.
– Пойдём, что ли. Скоро стемнеет.
И то верно, до заката надобно подготовить к празднику не только дом, но и себя. Василю-то хорошо, он ещё до полудня управился с делами, а после, как всякий деревенский мужик, считал мух. Ибо кто ж в праздник трудится? В праздник заботиться о душе надобно, а не о мирском хлопотать. Другое дело бабы. У них работы – тьфу! Занавески постирать, убрать, сготовить, дом украсить, двор подмести, скотину покормить, подоить, выгнать и загнать, а после подоить ещё раз. Ну так разве это работа? Так, смех один. Потому Василь успел после обеда навестить Костыля и с другом вместе попариться в хорошей горячей баньке. У Ирги же подруг, к которым можно было бы напроситься, не водилось, Звенигласке до родов повитуха баню строго-настрого запретила, а для себя одной топить – убыток. Вот и ждала Ирга, пока нагреется котелок над уличным очажком, чтобы по-быстрому ополоснуться, подготовить к торжеству не только дух, но и изнурённое праздником тело.
Погляди кто на девок издали, только похвалил бы: и работа у них спорится, и домашние хлопоты делят поровну, и друг дружку не обижают. Вот и во двор вышли каждая со своим делом: Звенигласка несла ковши да тряпки, Ирга же, натянув рукав на ладонь, взялась за котелок.
– Давай я! – потянулась ятрова.
– Ещё тебе что дать? Не тронь тяжесть.
Без вины виноватая, Звенигласка плотно сомкнула губы, а у самой глаза на мокром месте. Когда же девки вошли в предбанник и скинули одёжу, её, видно, тоже одолели воспоминания.
– Ирга, – позвала найдёнка.
Та как раз смешивала горячую воду с холодной и, отвлёкшись, едва не ошпарилась. Зыркнула зверем.
– Ну чего тебе?!
Звенигласка оплела руками беззащитный живот – всего больше стремилась от дурного взгляда защитить дитё.
– Отчего злишься на меня?
Спросила тоже! Кабы Ирга сама знала, давно бы обиду отпустила! Но обиды ведь и не было. Всем Звенигласка хороша: тиха, скромна, заботлива. А Василька любила – страх! К концу зимы, помнится, брат провалился под лёд и захворал, так жёнушка от него ни на шаг не отходила, ночей не спала, всё следила, не кашлянёт ли лишний раз. А тот и рад! Знай стонал да указания к похоронам раздавал. У Ирги бы с ним разговор короткий – залила б в глотку большую чашку горечь-травы да печь растопила докрасна. Все в Гадючьем яре так лечились, и никто ещё не жаловался. А кто жаловался, тому вторую чашку вара готовили. Но Звенигласка любимого пожалела и пытать не дала, носилась вокруг него, как вокруг дитяти малого.
Да и Иргу найдёнка не уставала благодарить за спасение. Едва только в Яре обжилась, принялась вышивать да продавать узорные платки и кики. Заработала – и перво-наперво Ирге праздничный передник подарила. Прими, мол, не побрезгуй. Ирга тогда на него глядела и в толк взять не могла, отчего же так тошно сделалось?
– Не злюсь, – буркнула девка. – Ерунду не мели. Подай вон ковш.
Звенигласка продолжила:
– Тебе ажно глядеть на меня невмоготу.
– Ну гляжу ж как-то, не померла пока.
Звенигласка стиснула ковш тонкими пальцами, но не отдала, а неуклюже опустилась на лавку.
– Мне иной раз кажется, что померла… – Она вскинула на подруженьку ясные синие очи. – Что день за днём умираешь, когда меня в своём доме видишь.
Ирга фыркнула:
– Да разве ж это мой дом? Это теперь ваше с Василём гнёздышко, а я… приживалка.
Она быстрым шагом пересекла предбанник, взялась за ковш, но Звенигласка вцепилась в рукоять так, что пальцы побелели.
– Неправда! – крикнула она. – Никто такого не говорит!
– Ты, может, и не говоришь. Ты одна, может, только…
Ирга рванула ковш на себя, но Звенигласка и тут не отпустила.
– Кабы не ты, я б давно утопницей стала. И… – она сжала локтями необъятный живот, – и Соколок тоже стал бы!
Ирга отшатнулась. Задела и перевернула вёдра, сама едва не упала.
– Вы что же… Имя уже ребёночку дали?
Звенигласка зарумянилась.
– Вчера к Шулле ходили. Она живот помяла и… мальчик будет. Наследник.
– Наследник, – горько повторила Ирга.
А в глазах потемнело. Ничего в этом доме у неё не осталось. Ни лавки у печи, ни сундука девичьего, чтоб ни с кем делить не пришлось, ни… брата. Всё отняла у неё Беда. Беда, которую Ирга сама же в избу и притащила, как Лихо на шее.
– Ирга? Ирга, серденько!
Верно, страшен стал у Ирги лик, раз ятрова подскочила, невзирая на пузо, за руку её к лавке подвела да холодной водицей на темя плеснула. Опустилась на колени, всё в глаза норовила заглянуть, прочитать в них что-то. В ушах у Ирги звенело. Ничего-то у неё, у кукушонка, не осталось. Ничего!
Она оттолкнула ятрову.
– Наследник?! – взревела Ирга. – Наследник у вас? А что он наследовать-то будет? Дом, прадедом моим, моим и Василька, построенный? Бабкин убор? Платья материны? Всё забирайте, всё! Ты и ублюдок твой нагулянный! Пусть от нашего рода вовсе ничего не останется!
Ирга выскочила во двор. Звенигласка – за нею. И очи её сияли пламенем, какового прежде у ятрови Ирга не видала.
– Не смей так про моего сына! Рот свой поганый помой, прежде, чем про него такое… Василь ребёнка своим зовёт!
– Василь сызмальства сирых да убогих привечает, а ты и рада стараться! Помяни моё слово, родишь ублюдка…
– Рот закрой!
Звенигласка схватилась за прислонённую к стене бани дощечку. Как есть убьёт! Но девки так и не узнали, хватило бы у той духу замахнуться или нет. Потому что под дощечкой сидела гадюка. Чёрная, как смоль, не сразу углядишь. Звенигласка и не углядела: солнце уже клонилось к закату, глубокие тени очертили дома, а в тех тенях прятались змеи. В Гадючьем яре гадюк не боялись. И этой, в три пальца толщиной, свившейся кольцами, быстрой, как стрела, Ирга не убоялась бы тоже: всем известно, что первой змея не нападёт. На Иргу не нападёт, а вот на потревожившую её Звенигласку… Ятровь, непривычная к болотным тварям, не разглядела змею. Она лишь попятилась к стене, мешая гадюке скрыться.
– Замри! Змея! – шикнула Ирга.
– Сама змея! – ответила Звенигласка.
Ответила и шагнула аккурат так, что гадюка решила: нет спасения. Ядовитые змеи жалят быстро. Сердце ударить не успеет, крик, зародившийся в горле, не вырвется.
Ирга бросилась вперёд. Прямо под удар – Звенигласка всё ж замахнулась и, зажмурившись, опустила дощечку. Та скользнула по плечу, разодрала рубаху, но Ирга уже летела наземь, животом навстречу гадюке. Она придавила змею собственным телом, ощутила, как тварь забилась под ней в поисках выхода… Но не ужалила. Правду врали бабки: тех, кто вырос в Гадючьем яре, гадюки не трогают. А вот Звенигласке несдобровать было б…
– Матушка! Васи-и-и-иль! – вскрикнула ятровь и бросилась в избу.
Она так и не увидела змеи. Лишь взъярившуюся Иргу и её разинутый в крике рот. И только богам известно, чем бы дело кончилось, замри рыжуха на месте.
Ирге первой довелось узнать, что испытала Звенигласка в плену и что возвращаться ей боле некуда: родную деревню сожгли соседи, те, с кем не раз и не два вместе на ярмарке веселились, на засядки собирались. Сожгли, потому что на холме пшеница вызрела, а в низине погнила…
Звенигласка осталась жить у них. Яровчане приходили справиться о здоровье и судьбе чужачки, но вскоре потеряли к ней интерес. Староста же с первого дня что-то понял и, отозвав Василя в сторонку, нашептал ему на ухо да дал небольшой мешочек с деньгами – устроить девку.
День шёл за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Скоро Звенигласка уже не в силах была скрывать округлившийся живот. Кажется, тогда-то Иргу и проняло. Брата она знала: Василь Звенигласку и пальцем бы не тронул не то что против воли, а и даже просто без благословения волхвы. Но то Ирга знала, а соселяне всё чаще посмеивались, указывая пальцем то на Василька, то на Звенигласку. И вот однажды найдёнка улучила момент. Собрала в узелок нехитрые пожитки – еду, одежду да подаренный Васильком пояс, и пошла куда глаза глядят. Далеко, впрочем, не сбежала.
Сироты спят чутко. Не так-то много у них добра, чтобы позволить лихому человеку забраться в дом да утащить что-нито. Вот и тогда проснулись оба: и брат, и сестра. Но Ирга поглядела на Звенигласку из-под опущенных ресниц, да и не стала окликать. Пусть ей…
Василь же рассвирепел. Он спрыгнул с полатей, где спал отдельно от девок. Звенигласка от испугу едва снова не онемела. Выронила узелок, ногой затолкала под лавку. А Василь наступал грозно и неотвратимо.
– Или мы плохо тебя принимали?! – рявкнул он. – Или обижали?! Может, кормили не досыта?!
Звенигласка низко поклонилась, ожидая удара.
– Прости, хозяин добрый. Всего вдосталь, всем твой дом хорош, – пролепетала она.
Василь же заставил её разогнуться, схватил за плечи и встряхнул.
– Мой дом? Не мой он, а наш! Мой, Ирги и твой! Что же крадёшься в ночи, как вор?! От чего бежишь?!
Звенигласка всхлипнула, глаза её, синие озёра, налились влагой, а Ирге от вида этих влажных глаз тошно стало. Вот уж правда, отплатила им гостья за доброту! Хорошо хоть избу не обнесла…
По щекам Звенигласки покатились слёзы, и она выкрикнула:
– От тебя, глупый! – И добавила тихо: – От тебя. Неужто не понимаешь?.. Неужто не… не видишь?!
Видеть-то Василёк видел. Видела Ирга, соседи все видели, староста с женой, бабка Лая с младшим любимым внучком. Все видели и пальцами тыкали, кто втихомолку, кто не таясь. Да и как спрячешь, что на сносях? Селение маленькое, а люди в нём ох и глазастые да любопытные!
– И что с того?
Звенигласка положила ладонь на живот.
– Все видят. Понимают. А скинуть дитё я не… Хотела, у Шуллы спрашивала зелье. Но не смогла. – Найдёнка горько махнула рукой. – Слабая я. Трусливая. Так мне эту ношу теперь и нести. А тебе кукушонок ни к чему.
Василёк вдруг наклонился да прижался щекой к едва наметившемуся животу.
– Мы с Иргой тоже кукушата, – сказал он.
– Как?!
Выпрямился, поцеловал Звенигласку в лоб и ласково ответил:
– А вот так. Спать иди, дурёха. Утро вечера мудренее.
Звенигласка послушалась, легла обратно на широкую лавку, где девки спали вдвоём, прижалась к боку Ирги и, как за ней водилось, тут же уснула. Сама же Ирга пялилась в потолок до самого рассвета, когда Василь, ступая на цыпочках, вышел из избы.
Вернулся он не с пустыми руками. Сел и хитро глядел, как девки суетятся в избе, как накрывают на стол, как сдабривают кашу жиром. А когда взялись за ложки, протянул Звенигласке свёрток. В том свёртке лежали брачные наручи.
Браслеты закрыли шрамы, оставленные по осени верёвками, и боле Звенигласка о пережитом горе не вспоминала. Василь же стал считаться мужем и отцом, а Ирга… приживалкой в собственном доме.
Как только не величали её опосля в Гадючьем яре! Младший брат женился вперёд сестры, стало быть сестра перестарок; живёт под одной крышей с мужем и женой, значит, приживалка; замуж не идёт, стало быть не берёт никто с таким-то норовом! Мало-помалу Ирга и сама в то поверила…
Глава 2. Ночь Великих Костров
Василь старался не глядеть на сестру, но говорил ровно.
– И на Ночь Костров тебе лучше с нами не ходить.
Сердце Ирги замерло и ухнуло вниз. Вот и всё. Ещё тогда, в бане, она думала, что больше отнять у неё нечего. Но брат, знавший её как никто, с нею вместе переживший и уход матери, и смерть бабки, нашёл.
– Не трогала я её, – безнадёжно повторила Ирга. – Ты что же, ей веришь, а мне нет?
Василёк сдавил виски пальцами – видать голова разрывалась от бабских склок.
– Я обеим верю. И тебе, что вреда не чинила. И ей, что напугалась до полусмерти. Но у меня сын.
Ирга облизала пересохшие губы.
– Сын… А сестры, выходит, у тебя нет?
– Сестра есть, а сын будет, – спокойно ответил он. – И лучше чтоб не раньше сроку. Перепугалась она. С кем не бывает? Не надо уж её сегодня больше прежнего тревожить.
– Что ж… Коли не надо…
Ирга метнулась к сундуку, который вот уже почти год они со Звениглаской делили пополам. Поначалу она сама предлагала гостье свои наряды. Мало чем там гордиться стоило, конечно. Платья как платья: неяркие, с простой вышивкой. Лишь материны вещи Ирга берегла и не позволяла не то что надевать, а и даже трогать. Но это Ирга не позволяла, а Василь как-то раз возьми да и подари Звенигласке праздничный сарафан, украшенный бисером. Тот самый, в котором они любовались на мать в последний раз. Теперь у Ирги не было и этого…
Она захлопнула крышку сундука – нечего ей с собою брать.
– Коли не надо, – процедила она, – так я не потревожу. Только потом не ищи. Да ты и не станешь.
Она вышла за дверь. И только услышала, как брат со злости одним махом скинул со стола посуду, приготовленную к праздничной вечере.
***
Торжество звенело в самом воздухе. Гуляний ждали и старики, дабы померяться, у кого румянее выйдет сытный пирог с рыбой али с грибами-колоссовиками, и молодёжь – поплясать, хороводы поводить, а как совсем стемнеет, враки друг дружке у костров порассказывать. Маковка лета – редкое время, когда даже в Гадючий яр приходило тепло, потому в каждой избе нараспашку держали резные подёрнутые зелёным мхом ставни, и веселие, видневшееся за ними, было Ирге что кость в горле.
Бабка Лая, подперев сухонькими кулачками подбородок, любовалась, как любимый младшенький внучек уплетает угощение, хотя стоило бы прежде дождаться, чтоб вся семья собралась. У Костыля, закадычного Васового друга, из окон гремела пьяная песня. От старостиного дома шёл такой дух печева, от которого недолго слюной захлебнуться: жена Первака дивной слыла мастерицей у печи и секретов своих яств никому не раскрывала, хотя и ходили слухи, что готовит вовсе не она, а сам староста. Эдакое умение для мужика – смех один, потому Первак нипочём не сознался бы, но, когда случались у него гости, бороду-лопату поглаживал особенно самодовольно и всё спрашивал, хорошо ли угощение.
Холодное тело тропки змеилось меж дворами, петляло от одной избы к другой, но нигде Ирге не было пристанища. У кого вечер скоротать, кому поплакаться на горькую судьбинушку? Ни подруженьки, ни милого, ни даже старой Айры, что всегда бы утешила, всегда погладила бы медную голову. Мимо бегом промчались сестрички-хохотушки, дочери старосты. Завидев Иргу, они соступили с тропки в росистую траву и обошли по большой дуге – не ровен час ещё сглазит, рыжая! А разминувшись, о чём-то зашептались и захихикали. Наконец та, что посмелее, старшая, крикнула Ирге вослед:
– Кукушонок!
Ирга не отмолчалась. Развернулась на пятках да как гаркнет:
– Вот я вас щас!
Ох, и дали девчушки дёру! Батька-то их воспитывал в строгости, но как не испытать храбрость да не уколоть нелюдимую приживалку! Будь сестричкам годков побольше, Ирга не преминула бы догнать да отлупить, а после, может, ещё и за косы к батюшке отволочь. Но девчушки ещё не уронили первую кровь и, сказать по правде, резвы были без меры – не угнаться.
– Вот попадётесь мне! – бессильно погрозила им вослед Ирга.
И до того обидно стало! Что же это, даже дети малые, и те её дразнят?! Она потёрла глаза, не выпуская злых слёз, и со всех ног бросилась к болотам.
Тропа оживала. Чем дальше от деревни, тем пружинистее она делалась, дышала, норовила вывернуться из-под босых ступней – напитывалась болотной влагой, что рудою текла по туше жабьего острова. Позади остался гул деревни, запах дыма и съестного сменился на сырой болотный дух, но густые туманы, чернеющие бочаги и едва чутный шёпот воды не пугали Иргу – Ирга сама была частью Гадючьего яра, родилась и выросла в этом промозглом краю, ей ли бояться?
Селение разверзлось по берегу подковой. Там, где почва худо-бедно держала, ставили дома и разбивали огороды – маленькие, на пяток-семерик грядок, да и на тех урожай родился скудный. Серёдку же острова сплошь покрывала трясина. Чтобы не ходить подолгу с одного края селения на другой, местные кинули на неё мостки и зорко следили, чтобы гниль нигде не попортила доски. Мостки лежали на болоте, как на водной глади, едва ощутимо покачиваясь, но всякий знал, какая опасность скрывается под ними. Днём там ходить – милое дело, но не на закате, когда тени глубже и резче. Поди разбери, на дерево ступаешь, на кочку али в яму? Провалишься по самую шею – только тебя и видели. Но Ирга шла. Шла и не думала, что потревожит тварей ползучих, а то и кого пострашнее, кого по темноте местные называть не рисковали. Потому что в самой серёдке болота стоял погост. И потому что на погосте похоронили бабушку Айру.
Едва ступив на мостки, Ирга опустилась на колени и теменем коснулась заусенчатых досок.
– Прости, матушка Жаба, что тревожу тебя в неурочный час. Не серчай, пропусти.
Тут бы ещё угощения поднести, да взять с собой хоть что девка не догадалась, и теперь с пустым животом пришлось остаться не только старой Жабе, но и ей самой.
Небесное светило висело над краем острова низёхонько, вот-вот нырнёт в озеро, а в воду с него капало и расходилось кругами тревожное алое зарево. Не к добру! В Гадючьем яре уже возжигали костры, затягивали песни, мерялись, кто резвее прыгает. Скроется солнце – пойдёт настоящее веселие. Никто, окромя Ирги, не видал дурного знамения.
– На что серчаешь, Светило небесное? – вполголоса спросила она, щурясь на раскалённый уголёк.
Тот перед сном утирался кружевными облаками и ничего не ответил. А что ему отвечать? Ирга покачала головой.
Яровчан на большой земле не так что бы особо любили. Всё-то у них не как у людей! Вот и погост на острове заложили такой, что пришлый человек трижды плюнет да и обернётся вокруг оси. Ирга же иного не знала. Ей думалось, что иначе родичей в Тень провожать и нельзя, только как дома заведено. Ну да всякому кажется, что его-то деды верные обычаи блюли. Впрочем, когда мостки подвели девку к серёдке топей, где земля ходила ходуном подобно водной глади, поёжилась даже Ирга. Всё ж на ночь глядя мертвецов будить не след. Уж не о том ли предупреждало солнышко? Но упряма Ирга была без меры и, коль уж пришла, соступила с досок в болото.
– Ну здравствуй, бабушка…
Травы на погосте не росло, один лишь мох. Ходить по нему следовало с великим уважением, даже обувку, и ту предпочитали снимать прежде, чем топтать изумрудную поляну. Потому как, если пропороть мягкое покрывало, из того, как из живого тела, текла чёрная руда. И, ежели кого угораздило в такую вот рану провалиться, то уже и не искали – трясина взяла своё.
Сюда приносили мертвецов. Клали на зелёное ложе, прощались и уходили. И через день на том месте, где лежал покойный, поднималось сухое дерево. Нынче погост там и сям вспарывали острые кроны. Ни листочка не было на них, ни ягоды, ни шишки. Но деревья росли, тянулись вверх, словно чаяли соединить небо и землю. А может так оно и было.
Своё дерево Ирга узнала сразу – на его голых ветвях колыхались белоснежные ленты. Одна, вторая, десятая – не перечесть. Такие же ленты обвивали руки бабушки Айры, когда Яровчане несли её на болота. Ирга и Василь шли тогда, прижавшись к посмертному ложу, и края длинных лент щекотали им щёки, словно бабушка утирала слёзы сирот.
Дерево будто бы шевельнулось:
«Здравствуй, внученька»
В Гадючьем яре ленты вязали за добрые дела. И не нашлось на острове никого, кто не принёс бы последний дар для доброй старушки Айры.
Пошатываясь, Ирга добежала до приметного ствола – мох так и загулял под ногами! Поймала край одной ленты и прижала к губам, а слёзы полились уже сами собой.
– Ошиблась ты, бабушка, – всхлипнула девка. – Пророчила, что быть нам с Василём вдвоём супротив целого мира, а осталась я одна. Почто ж ты меня обманула?
Долго бы Ирга ещё сидела на погосте, себя жалеючи. Может, там бы и заночевала. Но, едва заслышав голос, разве что не подпрыгнула.
– Ирга, ты?
Она сделала отвращающий знак рукой – крест-накрест перечеркнула перед собой воздух. Одна радость – от слёз и следа не осталось. Все высохли, когда от ужаса сердце остановилось. И потом только девка уразумела, что голос-то знакомый.
– Костыль?
И верно: на мостках стоял, высоко подняв руку, закадычный друг Василя – долговязый рыбак Костыль.
– Что, напугалась? Решила, утопник за тобой явился?
Парня и верно немудрено было принять, если не за утопника, то хотя бы за жердяя. Дзяды врали, эдаких духов в Гадючьем яре раньше водилось видимо-невидимо. Огромные, случалось, что и с избу ростом, худые, что жерди. Им болото было по колено, вот и жили на острове. Но после пришли люди, привели с собою светлых богов, и нечисть, убоявшись, попряталась по углам. Однако ж раз или два в год выходят нечистики, воют о былом, в окна заглядывают… Ну или так врут люди, дабы дети малые ночами из дому носу не казали.
– Тебя-то? Ты, конечно, страшен без меры, но не настолько, чтоб меня напугать.
Костыль рассмеялся.
– Ну добре, Васу расскажу, что ты меня красавцем назвала.
– Вот ещё! – фыркнула Ирга, украдкой переводя дух.
– Ты что это по погосту ночью шастаешь? Всё веселье-то на берегу, у запруды.
Ирга резко ответила:
– У меня своё веселье. Иди куда шёл! Или тебе самому любо после заката болото топтать?
– Может и любо, – хохотнул Костыль. – Пойдём, провожу тебя.
– Выдумал тоже. Что я, дороги не знаю?
Парень маленько помялся на мостках, но к погосту спускаться не стал, поостерёгся. Досадливо бросил:
– Вот же норовистая! Что тебя, брат совсем не воспитывает?
Ирге ажно лицо перекосило.
– Я сама кого хошь воспитаю, – процедила она и отвернулась.
Костыль окликнул её ещё раз или два, но девка села, прислонившись спиною к бабушкиному древу, и прикрыла глаза. Мох под нею медленно колыхался, не то сам живой, не то скрывающий жутких болотных тварей. А то и впрямь дышала старая жаба, вырастившая когда-то на своей спине целый остров.
Когда Ирга открыла глаза, Костыля рядом уже не было. Однако ушла и благость, каковая накрывала её всякий раз, как девка навещала старую Айру. Стемнело окончательно, зато музыка и смех по ночному воздуху легко летели с одного края острова на другой. Тут заодно вспомнилось, что загодя сготовленное для вечери угощение Ирга так и не попробовала, да и весь день пробегала голодная. К тому же болото тянуло холодом сквозь мох – долго не усидишь. Пришлось подняться и отправиться на, чтоб его, праздник.
Мох нехотя отпустил добычу, следом ноги ступили на скользкие от росы мостки. Ирга повернулась к бабушкиному древу – в темноте ленты белели и извивались.
– Свидимся ещё, – попрощалась она, а болото вздохнуло в ответ.
Недолго девка шла в одиночестве. Костыль, как оказалось, лишь отошёл в сторонку от погоста, а там, где земля уже не дышала так глубоко, а мох сменился травами да кустарником, уселся ждать. Уселся он аккурат возле широкого ручья: коротал время с баклажкой браги.
– Что, замёрзла? – окликнул он. – Иди сюда, найду, чем согреться.
Будь Ирга скромна да робка, как девке и надобно, она бы припустила к людям: голос выдавал, что баклага у Костыля не первая. Да оно ещё с вечера в его хате гремело пение, всяко не насухую веселились. Но Ирга слыла нахальной да своевольной, она даже шагу не прибавила. Вот ещё!
– Ты давай как-нибудь сам.
Костыль же, верно, только её и ждал, так что отставать не собирался.
– Ирга! Ну что ты как дикая? Или я тебя чем обидел?
Правду молвить, он в самом деле ничем ни Иргу, ни других девиц не обижал. Да оно и Василь не стал бы абы с кем водить дружбу. Случалось, Костыль и гостинец какой приносил, и Ирга со Звениглаской не брезговали, брали. Потому ни убегать, ни брехаться девка не спешила, а когда Костыль нагнал её, не подумала напугаться. Спьяну парень поскользнулся на досках, схватился за девкино плечо и едва не упал с нею вместе, но Ирга устояла и Костыля удержала тоже. Однако ж тот решил, что всё наоборот.
– Ты держись лучше за меня! Не ровен час, оступишься!
И подставил локоть, мол, хватайся. Ирга фыркнула:
– Вот ещё.
И без того её перестарком кличут, но оно всё ж лучше, чем гульнёй. А коли кто застанет, как она в ночи с кем-то под руку идёт, иного никто и не подумает. Костыль не смутился и протянул баклагу.
– На, глотни.
От тары сладко пахнуло клюквенной настойкой, а с тем вместе ветер пробрал холодом и без того занемевшее тело.
– А давай, – решила девка и сделала длинный глоток.
Наперво, клюквенный жар ожог горло, но после по жилам побежало тепло. Костыль ухмыльнулся.
– Другое ж дело!
– Ух и крепкая! – выпучила глаза Ирга. – Закусить есть что-нито?
– Ишь, закусить! Сначала поблагодарить надобно!
Костыль не сказать, что был страшен. Не первый красавец в селе, конечно. Худоват да высоковат, что на цыпочках не разглядишь. Бледноват, с редкой чёрной бородкой и вечно сальными космами. Девки по нему не вздыхали, да оно и видно, что в свои года оставался парень не женат. Был он маленько старше Ирги, год-другой и перевалило бы за три десятка осенин. Но что для девки позор, за то мужа никто корить не станет, так что жил себе Костыль и не тужил. Но вовсе не потому Ирга отпихнула его, когда парень полез целоваться. А почему – того сама не ведала. Такое с ней бывало: словно уколет кто или за язык дёрнет. Так и на сей раз уперлась пятернёй в лоб Костылю и пихнула, что есть мочи. Тот нетрезво покачнулся, поскользнулся да и свалился с мостков в грязь. Благо, ручей уже перешли, так что и падать пришлось недолго, всего-то с высоты собственного роста. Зато обиды было – страх!
– Ты что творишь?!
– А ты что творишь? – в тон ему ответила Ирга. – Наперво, протрезвей, а опосля приставать будешь.
Костыль как упал, так и остался сидеть. То ли от обиды подняться не мог, то ли ноги не слушались.
– Да на тебя без бутылки и не взглянешь! – крикнул он.
– Ну не гляди, делов-то.
Ирга хотела дождаться, пока Костыль поднимется, и дальше пойти. Ну полез спьяну, ну получил затрещину. С кем не бывает? Она б зла на него не держала, хотя брату наутро обязательно рассказала б – хохма! Но Костыль подлил масла в огонь:
– Так вот оно что! От всех нос воротишь, потому в перестарках и осталась!
Иргу как по сердцу резанули. Она процедила:
– Лучше уж в перестарках, чем с таким, как ты.
И двинулась прочь, но Костыль оказался ловчее, чем думалось. Подскочил и схватил её за локоть.
– Да тебе б в ножки мне кланяться! Василь просом просил тебя поглядеть! Да небось и не меня первого!
Ирга так растерялась, что локоть вырвать забыла.
– Что просил?
– А то ты не знаешь! Небось сама брата ко мне подослала! В девках-то засиделась, ласки мужицкой хочется! Так чего ерепенешься? Цену набиваешь? Да тебе цена плесневелая медька в базарный день!
Крепко сжимал он Ирге локоть, верно, синяки останутся. Но девка окаменела вся, не чуяла боли, слов обидных не слышала. Об одном думала: это что же, родной брат не только её из дому выгнал, так ещё и пьяницу этого подослал, чтобы… чтобы… чтобы что?!
А Костыль и рад! Раз девка не противится, значит, всё правильно делает! Он прижал Иргу к себе, наклонился, пытаясь нащупать губы ртом, второй рукой шарил пониже пояса.
– Уж я тебя уважу! Уж не обижу… – бормотал он.
Пахнуло сладкой клюквенной настойкой, и на сей раз запах показался столь гадким, что Иргу ажно передёрнуло. Было б что в животе – наружу бы попросилось. Недолго думая, она размахнулась, да как даст нахалу промеж глаз! Хрустнуло, брызнуло, все косточки в кулаке на части развалились, а потом со своих мест осыпались. Костыль страшно заорал. И вот тогда-то Ирга боле своей смелостью не кичилась: припустила что есть духу к людям прежде, чем первые капли крови из разбитого носа впитались в мох. Всё мстилось: мужик бежит следом, догонит… Убьёт! Вот тебе и праздник! Вот тебе и Ночь костров!
До того резвы стали ножки, что Ирга и не заметила, как оказалась у запруды. А на берегу вовсю гремело веселье! Девки, парни, старики и те выбрались погулять да подкормить угольком святой огонь! В неверном свете костров кружили хороводы, скакали ряженые. Лучшие наряды достали из закромов, бисерные кики, плетёные пояса, звонкие височные кольца… Одна Ирга была в простой рубахе: как убежала из дома неподпоясанная, босая, так и здесь оказалась. И теперь средь нарядных красавиц стояла ровно голая. Что же, коль так вышло, робеть не дело. Ирга расправила плечи и в два движения расплела косы, укрылась рыжим пологом – не хуже вышитого платка! Словно пламень струился по её спине – заглядение! Одна беда: без брата да после пережитого страха шла Ирга по земле ровно по железу раскалённому. Вроде и шаг твёрдый, и взгляд дерзкий, а всё одно тяжко. Неужто взаправду Василь отправил за нею друга? Ждал, что тот помнёт несговорчивую девку где-нибудь под кустом, та и рада будет замуж за первого встречного выскочить? Нет уж, такого Ирга брату не спустит! Попадись он ей только!
Но куда там! В эдакой неразберихе ни брата родного, ни даже собственного отражения не узнать. Кто сажей успел измазаться, кто маску из бересты на лицо приладил, девки и вовсе так разукрасили щёки да брови, что и при Дневном светиле не разберёшь, кто есть кто, не то что при свете костров. И плясали, плясали, плясали!
Р-р-аз! Зазвенели колокольцы в бубнах!
Ох! Всхлипнула жалейка.
Бум! Накры отозвались кожаными лбами.
И вторил им девичий смех да нескладное пение, а всё вместе сплеталось в дивную песню, тревожащую густеющее молоко тумана. Ирга на пробу вдарила пяткой по сырой земле, перекатилась на носки… Нет, не выходит танец! А ведь не так-то она и плоха в плясках. Ежели никого рядом нет, то могла получше некоторых шагнуть да провернуться. Но это ежели рядом никого…
Хлестнул по воздуху оторвавшийся хвост хоровода. Залава, кузнецова невеста, что бежала последней, не глядя, хватанула Иргу за рукав, крикнула:
– Не стой!
Но девка вырвалась, едва клок рубахи плясунье не оставив. Тошно ей было, горестно. А от клюквенной настойки, которой Костыль угостил, ещё и гадко.
Костров на берегу было четыре – по числу лап старой жабы, что, по поверьям, дала жизнь острову. В давние времена их возжигали по четырём сторонам Гадючьего яра, но год за годом огоньки становились всё теснее друг к дружке: вместе всяко веселее! Один горел ярче прочих, но Ирга нарочно отошла к самому тусклому, к тому, что сложили ближе всех к воде. Пламя взметнулось вверх, приветствуя одиночку, но тут же, устыдившись, сиротливо прижалось к земле. Рыжие всполохи раздвоились в зелёных, как листва весенняя, глазах. Но и тут не суждено было Ирге постоять в тишине. От кучки девиц отделилась фигурка – в высоком кокошнике, со звенящими бусами-монетками на груди.
– Ты чего здесь одна? – окликнула Залава, но, едва узнав рыжуху, смутилась. – Ирга… А ты здесь, стало быть, одна…
Залава так и замерла, не дойдя сажени. Будь на месте рыжухи кто другой, схватила бы под руку да повела б веселиться. Заневестившаяся, она со всеми чаяла поделиться счастьем. Со всеми, да не с Иргой.
– Да уж всё лучше, чем ваш рёгот слушать, – фыркнула рыжая, тем самым доказывая, что не зря её сторонятся.
Залава топнула ногой в красном сапожке, досадуя на свою ошибку.
– Ну и стой одна, как дерево на погосте! – выругалась она. – Небось была б добрее, не сидела б в девках до сих пор! – И добавила, ядовито сплюнув: – Перестарок!
Резко повернулась и побежала к большому костру.
– От перестарка слышу! – бессильно крикнула ей вослед Ирга.
Крикнула бы и забыла, да Залава вдруг обмерла, будто ледяной водой её окатили.
– Что сказала? – пискнула она. – Да я тебе за такие слова знаешь что?..
Так-то! Стало быть, Иргу перестарком кличут в глаза и за глаза, а как сами хлебнули, так давай выть? Рыжуха подбоченилась, а костёр позади неё протянул алые длани к сизому небу.
– Что слышала! Поговори мне ещё, навек сама в девках останешься! Всякий знает, что бабка моя колдовство ведала, а кому, как не мне дар её перешёл? Кто за руку её держал перед смертью, кто ставень раскрыть не давал?
Высокий кокошник съехал набок, не звенели боле на груди бусы-монетки. Залава разинула рот, силясь припомнить, правда ли старая Айра помирала при запертых окнах – верное средство, чтобы не выпустить на волю колдовской дар! Не припомнила, но, чего не видала, то додумала. Хотела обвинительно крикнуть, но вышло, что жалобно спросила:
– Врёшь?!
– А ты проверь! – Ирга мотнула головой, и рыжие волосы словно сами стали языками огня. – Вот тебе моё слово! Покуда все девки в Гадючьем яре предо мною на колени не падут, ни одной замуж не выйти!
Видно, хватила Ирга лишнего. Про дар бабки Айры слухи и верно ходили. В силу, перешедшую к наследнице, тоже уверовали бы. Но чтоб на колени… Залава опомнилась. Круглое лицо её исказила брезгливая гримаса.
– Размечталась, кукушкина дочь! Немудрено, что тебя не любит никто. Мать родная, и та бросила!
Ой, зря… Много Ирга стерпела бы, от многого просто отбрехаться могла. Но тут сорвалась с места птицей, прыгнула с разбегу, повалила Залаву в прибрежную грязь – и покатились! Кусались, царапались, волосы одна другой рвали! Вспыхнули в свете пламени и потонули в траве цветные бусины с кокошника, заплакали монетки-бусы, соскакивая с порванной нитки. Ирга-то сызмальства была с норовом, не боялась ни ссоры, ни драки. Она оказалась сверху и давай лупить противницу! Залава завизжала, закрывая лицо.
Послышались крики:
– Девки дерутся!
– Никак Ирга?!
– Убьёт! Как есть убьёт!
– Василя зови!
Но Василёк и сам уже мчал сестре на выручку. Обхватил её со спины поверх локтей, вздёрнул, оттащил.
– Задушу гадину! – взвизгнула Ирга. Не руками, так ногами достала бы! Принялась брыкаться и кусать брата.
Залаву уже поднимали и отряхивали подружки. Звенигласка, подскочившая с Василём вместе, подымала из травы кокошник, собирала бусины. А кузнецова невеста всё плакала:
– Змея! Гадюка! Проклясть меня грозилась!
– Да я тебя не просто прокляну, я тебя со свету сживу!
Кто застал девичью драку, точно скажет: неча соваться. Девки и друг дружке кости пересчитают и тому, кто разнимать полезет. Вот и Васильку досталось, но тот к сестре был привычен, чать не впервой. Отволок к запруде да швырнул в воду.
– Охолонись!
Брызги светляками полетели во все стороны, в каждой отразилось золото костров и ещё что-то, о чём покамест не знал в Гадючьем яре никто. Ирга и верно остыла. Не остыла даже, а похолодела. Кровь в жилах, и та превратилась в лёд.
– Так-то ты со мной, – тихо проговорила она, но за весёлым смехом, грянувшем над берегом, никто её слов не услышал.
– Так её, Василь! – поддержал Дан. – Голову, голову под водой подержи ей! Как кутёнку!
Снова захохотали. А как не хохотать, когда каждый на ершистую Иргу обиду затаил? Помогать бросилась одна Звенигласка. Эта вечно всем чаяла угодить: Залаве ли, Ирге…
– Вы что, нелюди, что ли?! – ужаснулась она и, придерживая живот, тяжело полезла в воду.
Тут и Василь очнулся. Догнал и мягко перехватил жену.
–Куда?! Вода холодная, захвораешь.
И верно, холодная. Ирга то уже уразумела. Сидела в реке и дрожала. От холода? От злости? Мокрые волосы облепили плечи, ледяная рубаха прильнула к телу, и лишь белёсый туман тянулся укутать девку, спрятать от позора.
– Вылазь, – велел Василь, протягивая руку.
Ирга поглядела на него зверем.
– Я лучше ладонь себе откушу.
– Я тоже себе сейчас что-нибудь откушу. Ирга, вылезай и пошли домой. Не позорь меня!
– Ах вот ты как заговорил! Я тебя, стало быть, позорю? Что, мешает дома приживалка? Сговорить бы со двора поскорее, да никто перестарка не берёт?
Василь скрипнул зубами, прыгнул в озеро и наклонился – взять сестру на руки, но та отмахнулась и сама вскочила.
– За дорого ты меня продал-то? Али сам доплатил, чтобы этот пьяница под кустом повалял?
– Что? Ты что несёшь?
Василь едва сам в воду не сел, как растерялся. А яровчане теснее столпились на берегу: хоть бы что расслышать! Экое будет веселие! Но за гомоном, причитаниями Залавы да треском костров поди разбери, о чём брат с сестрой ругаются!
– Да знаю я всё! Мешаю тебе, да? В собственном доме мешаю? Так что ж жениха искать? Может проще сразу меня в омут?
– Да уж, – фыркнул Вас, – в омут оно бы попроще было… Я по три раза на дню об этом думаю.
И шагнул к сестре, но та резво отпрыгнула, оказавшись в воде уже по грудь.
– Только тронь! Я тебя знать боле не желаю! Все тебе хороши, окромя родной сестры, да? Одна я жизни не даю! Так что же мне, утопиться теперь, раз уродилась тебе на беду?!
Будто бы сам остров отвечал на девкино отчаяние. Ярче вспыхнули костры, где-то далеко, на погосте, вскипела подо мхом невиданная сила, тяжко вздохнуло болото, вода пошла рябью и туман…
Туман сделался таким, какового яровчане, повидавшие всякое, не помнили. Он загустел, хоть ножом режь. Не туман – кисель белый. А внутри белого клуба зашевелилось нечто живое. Нечто, от чего туман – верный защитник Гадючьево яра! – прятал остров, но никак не мог сладить. Нечто, что оказалось сильнее непроглядной пелены, годами оберегающей здешние земли от чужаков.
Ирга поёжилась: брат стоял близёхонько, только руку протяни, но на глазах растворялся в молочной пелене. Она фыркнула и пошла-таки к суше, походя отпихнув Васа с дороги.
– Вот тебе и кровь родная. Вот тебе и брат!
Василь скрипнул зубами и поплёлся за нею.
Но чудеса на том не кончились. Туман забурлил, как кипяток, вздулся и опал, а после расступился, признавая чужую силу.
По протоке вдоль берега медленно двигался человек. Судёнышко его было столь мелким, с низкими бортами, что казалось, не в лодке движется чужак, а прямиком по воде. Да и на человека издали он походил всего меньше. Наперво, потому что весь силуэт его скрывался под необъятной накидкой. Армяк – не армяк, епанча – не епанча. Словом, балахон. Чужак кутался в него, словно не привык к лёгкому холодку летней ночи, а может и по какой иной причине. Низко опущенная голова его скрывалась под капюшоном. Словно не человек – нечистик человеком прикидывается.
Он величаво погружал в воду весло то с одной, то с другой стороны от судёнышка. И двигался столь твёрдо, столь уверенно, что сомнений не оставалось: не гадает, а точно ведает, где повернуть, к какому берегу пристать, чтобы всего ближе к людям. Протоки, речушки и ручьи испещряли остров словно нити, перепутанные игривым котом, с первого раза верную не каждый местный умел выбрать. Но чужак не ошибся ни разу.
Когда до запруды оставалось всего ничего, он отложил весло и выпрямился. Дальше судёнышко двигалось само, повинуясь зеленоватому сиянию, исходящему от ладоней чужака. Теперь-то ясно, почему расступился туман, подобно верному псу оберегающий остров, почему не запутали протоки и не околдовали русалки. Чужак был колдуном.
Наконец, дно прошуршало по илу, а нос плавно скользнул в траву, в избытке растущую около запруды. Чужак поднял ногу и точно угадал, куда поставить мягкий кожаный сапог, чтобы не провалиться в грязь, сошёл на берег и потом только скинул капюшон на плечи. И лучше б он этого не делал!
– Щур, протри мне глаза! – пискнула заплаканная Залава, прячась за чужие спины.
Ирга и сама не прочь ахнуть да спрятаться, вот только, если Залаву с готовностью закрыли от колдуна яровчанские мужики, её никто защищать не спешил. Так она и осталась стоять почти что перед самым носом незваного гостя – промокшая до нитки, дрожащая и злая.
Гость, впрочем, среди остальных её не выделил – окинул всех хмурым недобрым взглядом. У Ирги от этого взгляда ажно дух перехватило. И от того, каким цепким он был, и от того, что зрячий глаз у чужака имелся лишь один. Второй прикрывали тёмные с проседью не по годам волосы, но всё равно из-под них виднелся белёсый шрам, перечёркивающий веко, и само око, покрытое белой пеленой.
– Ну здравы будьте, что ли, яровчане. У вас, никак, праздник? Или… – Колдун мельком глянул на Иргу. – Девку водяному в жёны отдаёте?
Голос его был хриплым, как после лёгочной болезни, у Ирги от него мороз по коже побежал. Да и не у неё одной: вон, все потупились! А ведь сколько народу на берегу, и все оробели перед безоружным чужаком! Хотя безоружным ли?
Тут бы вперёд выступить старосте, но Первак с женою не пожелали мешать молодёжи веселиться и, едва подкормив костры, воротились домой. Колдун меж тем двинулся в толпу, зорко всматриваясь в лица. Искал кого?
– Что ж молчите, яровчане? – Ходил он прихрамывая, словно каждый шаг приносил боль, однако боль привычную, почти позабытую. Остановился подле Дана, и любимый внучек бабки Лаи задрожал как лист осиновый. – Или заведённых обычаев не знаете? Забыли, как гостей встречать? – Мотнул головой, пробормотал «нет, не этот» и пошёл дальше. – Так я и напомнить могу…
Ирга и дух перевести не успела, обрадованная, что чужак отошёл подальше, как тот развернулся, указывая на неё длинным пальцем.
– Вот ты, водяница.
Рукав балахона задрался, обнажая предплечье, опутанное выступающими зеленоватыми жилами, как паутиной.
– Принеси-ка мне мёду. Или что у вас здесь пьют?
Всё существо девки вопило, что лучше бы не перечить колдуну. Послушаться да низко поклониться, коли примет дар и отпустит восвояси. Но Ирга, злая донельзя, возьми да и ляпни:
– Сам сходи. Или ты не только безглазый, но и безногий?
Ляпнула – и обомлела. Что ж это она делает, мамочки! Чужак развернулся к ней всем телом. Вот сейчас как превратит в лягушку! Выручил брат. Сжав локоть девки, силой отвёл её себе за спину. Ирга прошипела:
– Не тронь!
Но Василь не слушал.
– Здрав будь, чужой человек, – ровно сказал он, и только Ирга заметила, как звенел от напряжения его голос. – Коли можно тебя человеком величать. Мы в Гадючьем яре обычаи чтим и гостя всегда приветим. Да только гость ты али нечисть поганая? Явился невесть откуда, не назвался, а сразу угощения требуешь.
Не зря старики учат: последнее дело колдунов злить! Проклянут, опомниться не успеешь! А этот и без безлюдской силы страшен был что чудище лесное. Что ещё натворит? Но колдун… улыбнулся. Недоброй была та улыбка, не такая, от какой на сердце легче делается. Но всё ж глубокие морщины, залёгшие меж его бровями, маленько расправились.
– А ты, стало быть, самый смелый, яровчанин?
– Смелый-не смелый, а сестру в обиду не дам, – спокойно ответил Василёк, а в зелёных глазах его вспыхнули искры. – Коли назвался гостем, так и веди себя как гость, а не как господин.
Они встали один против другого. Василь – крепкий, румяный, с огненной головой – и чужак – истощённый и бледный, словно бы больной, одноглазый, хромой, рано поседевший и куда как меньше в плечах. И, сцепись они, никто не сказал бы сразу, кто победит. К ним протолкалась, обнимая живот, Звенигласка. Встала рядом с мужем: маленькая, кругленькая, светленькая, зато злая что кошка окотившаяся!
– Только тронь! – прорычала она. И поди объясни дурёхе, что колдуну перечить что отраву хлебать!
Один удар сердца минул, второй, третий. Зелёные глаза пылали яростью, синие – решительной тревогой. В единственном чёрном же глазу чужака не было ни следа живого огня. И тогда колдун… поклонился. Низко-низко, хотя всякий понял, как непросто дался ему этот поклон, ажно косточки заскрежетали! Он коснулся ладонью мягкой травы, а после, разогнувшись, той же ладонью провёл по темени, на мгновение откинув волосы от белёсого слепого глаза. Испокон веков так божились, что не свершат зла на той земле, на которую ступили.
– Хорошо говоришь, яровчанин. Заслушаешься! Что же, спрашивай, отвечу, как подобает гостю.
Василёк кашлянул и засучил рукава. Потом передумал, одёрнул и снова засучил. Яровчане сгрудились теснее – никому не хотелось упустить, что же скажет рыжий и что ему ответит колдун. Но никто, окромя Василька, слова взять не решился. Да никому другому колдун бы уже и не ответил. Тогда Василь велел:
– Назовись наперво. И скажи, зачем явился.
Чужак малость попятился, и люди, что обступили его, отшатнулись, как трава под порывом ветра. А колдун распахнул полы балахона и скинул его наземь. Верно, когда-то он был красив. Статен и силён, поджар, как охотничий пёс, ловок и гибок, как розга. Нынче от былой красоты осталось мало. Осунувшийся, сутулый и уставший, с глубоко залёгшими под глазами тенями. Нога, на которую колдун припадал при ходьбе, и верно была нездоровой: правый сапог плотно облегал штанину, в левый же без труда вошли бы три пальца. Пламя костров уродовало его исхудавшее лицо, делая глубже морщины и, что куда страшнее, высвечивая оскал, менее всего походивший на улыбку.
– Не узнали? – немного погодя, спросил чужак. – Что же, люди прозвали меня Змееловом. И я пришёл за гадюкой, убившей сегодня человека.
Глава 3. Колдун
Ходят враки, что рождён он самим туманом. Что мёртвый глаз его видит Безлюдье, а сердце, скованное железом, не гонит по телу горячую руду. Что ходит он по свету неприкаянный и во всяком селе, где заночует, скоро сбивают похоронные короба. Девки его боятся – страсть! Коснётся – проклянёт, навек в перестарках оставит! Всюду встречают его как гостя желанного, но плюют вослед да вешают рябину над окнами, куда заглянул мёртвый глаз.
Люди нарекли его Змееловом. И мало кто верил, что в самом деле топчет он землю.
Но вот же – стоял, ухмылялся, глядел так, что тошно делалось, и ждал, покуда гул растерянных селян утихнет. Первым снова заговорил Василь.
– Милчеловек, коли и впрямь ты человек, а не нечисть, рождённая Ночью Костров, накормить мы тебя накормим, напоить напоим. Вот только, не серчай, но зря ты приплыл. Гадюк-то у нас видимо-невидимо, что крыс в сараях на большой земле. Но никого из местных они испокон веку не трогали. А уж чтоб убить… Видишь, праздник у нас. Веселие. Шёл бы поплясал со всеми вместе.
Колдун хохотнул как каркнул и топнул костлявой ногой.
– Да уж, – хмыкнул он, – танцор из меня теперь знатный…
Василь побледнел: не чаял гостя обидеть, а ляпнул лишнего! Вот уж не только сестру при рождении Рожаница за язык дёрнула! Ну да чужак, вроде, только развеселился с его слов. Василёк, осмелев, добавил:
– Не было сегодня смертей.
– Значит будет, – показал зубы Змеелов.
Мужики подобрались. Дан хмыкнул:
– Да шо ты говоришь? Уж не ты ли устроишь?
Чужак смерил его спокойным взглядом, и Дан отчего-то затих, а там и вовсе попятился. А Василь нахмурился.
– Давай-ка, гость дорогой, мы сначала к старосте сходим. Надобно уважить, поклониться, объяснить, что за беда у тебя…
Он по-дружески положил руку на плечо колдуну, чая между делом отвести того к Перваку. Однако Змеелов к таковому обращению не привык. Он чиркнул пальцами по ладони Василя и тот вскрикнул: рука обмякла плетью на гвозде. Колдун дёрнул плечом, брезгливо стряхивая её.
– У меня беда? Беда у вас. Только я могу её от вас отвести. – И пошёл.
Звенигласка кинулась к милому: что с ним? Оклемается ли? Ирга же схватила край балахона колдуна.
– Эй, ты!
Змеелов остановился. Смерил рыжуху долгим тёмным взглядом, всё рассмотрел: от босых грязных ступней до мокрой головы. Потом только отозвался:
– Ты или спрашивай, сколько мёда мне налить, или рта лучше не раскрывай. Бабе не к лицу.
– Бабе и морды бить не к лицу, но уж я потерплю! Верни брату руку! Ишь, помощник выискался! С тебя пока больше вреда, чем пользы.
Колдун сдвинул брови к переносице: он-то успел позабыть и про руку, и про самого Василя. Наконец, просветлел, вспомнив.
– К утру сама отойдёт. Где погост у вас?
Опешив, Ирга показала.
– Там. По мосткам.
А Змеелов возьми да и перехвати её ладонь, ещё и на локоть себе положил. Вдоволь насладился дрожью, что прокатилась по телу девки, и велел:
– Ну показывай, лягушонок.
***
Иргу Змеелов так и держал при себе. Сразу велел:
– Коли вы с братом самые смелые, вы меня и ведите.
Когда же Вас сказал: «Пусти Иргу. Я дорогу покажу», ответил:
– Показывать показывай. А пустить не пущу. Авось и ты посговорчивей станешь.
Потому они втроём шли впереди: Ирга об руку с колдуном, Василь маленько их обгонял и каждые два шага оборачивался. Прочий же люд, хоть и следовал на почтительном расстоянии, но не отставал. Деревянные мостки скрипели и проседали от непривычной тяжести, местами выдавливали из болота воду и проваливались, но любопытство оказалось сильнее страха.
Мертвец лежал, широко раскинув руки. Одна нога на мостках, а всё остальное тело медленно утопало в трясине. Помедли колдун, и утром Костыля уже не сыскали бы.
Змеелов удовлетворённо кивнул ещё прежде, чем Ирга разглядела труп.
– А говорили, не трогают местных, – усмехнулся он.
Отпустил девку, отпихнул с дороги Василя и дальше пошёл уже один. А у силуэта на мостках остановился и поднял руку. На кончиках пальцев затанцевал зелёный огонёк. Чужак присел на корточки, тёмные с проседью волосы упали на лицо, и не понять было, радуется он находке или горюет. Зеленоватый свет исказил черты Костыля. А может исказило их то, что он встретил перед смертью. Колдовского пламени едва хватало, чтобы узнать покойника, и никто – ни побелевший Василь, ни причитающая Залава, ни сдерживающий тошноту Дан, ни даже сама Ирга – никто, кроме Змеелова, не разглядел две крошечные точки на посеревшей щеке покойника.
***
В Гадючьем яре все друг друга знали, оттого весть о смерти Костыля затронула каждого. Так уж вышло, что родни у рыбака почитай, что и не было: сёстры выскочили замуж да покинули остров, отец сгинул в Лихоборе, сдуру попытавшись доказать, что нету ничего страшного в куске непроходимого леса на дальней стороне острова. Мать же повредилась рассудком с горя. Костыль выхаживал старушку и ничем не обижал, но навряд она узнавала сына. Вот и теперь, когда селяне принесли тело во двор, выглянула и заместо того, чтобы зарыдать, рассмеялась:
– Муженёк на санях едет, муженёк!
Василь бросился закрывать умершего от женщины.
– Тётка Блажа! Что ж ты в одном исподнем выскочила? Надобно срам прикрыть…
Но блажная баба, и впрямь вывалившаяся из избы полуголой, понеслась по двору – поди поймай!
– Муженька заждалась! Муженька! – голосила она.
Безумная, она смотрелась куда страшнее искорёженного Тенью трупа, а от смеха и вовсе стало не по себе даже тем, кто уверенно заявлял, мол Костыль спьяну шею сломал и вся недолга. Ирга подле колдуна тряслась как лист осиновый. Но не из-за Блажи и не из-за купания, а потому, что зудели сбитые костяшки на руке. Под носом у Костыля темнела запёкшаяся кровь. Одно с другим связать недолго…
Веселье схлынуло, как вода с берега в отлив. Нарядные девки, парни, взбудораженные хмельным, топтались, раздосадованные: уже и на праздник не вернёшься, и уйти неловко.
Дан швырнул наземь шапку.
– Проклятый колдун! Нет бы до утра подождать! Да и сам Костыль хорош – всем праздник испортил!
На него шикнули, но не сильно-то осудили: Костыля, конечно, жаль, но закадычный друг у него был один – Василёк. Остальным же от смерти рыбака ни жарко, ни холодно. Мать покойного вовсе навряд понимала, что делается. Блажа скакала по двору ровно молоденькая. Перепрыгнула чурбачок у дровен, уцепилась и покачалась на двери хлева. Поймать её, конечно, много кто мог, да никто не хотел связываться. Один Василь сюсюкал, упрашивал зайти в дом да одеться.
– Тётка Блажа, дай-ка мы с тобой вот сюда лучше! Слезай! Да, вот так. А в избе-то потеплее! Пойдём, пойдём!
Ирга отвернулась. Когда жива была старая Айра, Блажа ещё не повредилась рассудком и частенько заходила к соседке – пожаловаться, что там натворили Василь с другом. То пояса у сестёр Костыля утащат да на самые высокие ветви яблонь привяжут, то спустят с цепи злого пса, а тот яровчан стращает, никому с крыльца сойти не даёт, то ещё что… Словом, часто бывала. Тогда Блажа была хороша. Крутобёдрая, ладная, коса до пояса. А как брови соболиные нахмурит – залюбуешься! Нынче от красоты не осталось и следа. Встрёпанная, с волосами, свалявшимися в колтуны и коротко стрижеными, как положено безумцам да хворобным. И страшнее всего были глаза. Ирга заглянула в них лишь раз: Блажа приходила просить совета у старухи Айры на другой день после того, как пропал муж. Глаза у неё уже тогда уже были мёртвые.
Дело затянулось. Ни поймать, ни успокоить женщину никак не удавалось. Как вдруг Блажа встала ровно вкопанная, потянулась к Васу и заговорила так, как бывало когда-то, ещё до болезни.
– Василёк, ты откуда тут? Василёк, ты ли?
– Я, тётка Блажа, я! Никак узнала?!
– А сынка моего не ви…
Осмысленный взгляд скользнул по толпе, мазнув по телу Костыля. Спасибо, кто-то догадался прикрыть его, но разве материнское чутьё обманешь? Живой огонёк мелькнул в зрачках – и потух. Когда Василь бережно обхватил её за плечи, чтобы увести в дом, она захохотала и оттолкнула его, а после кинулась в самую гущу людей. Туда, где лежал накрытый телогреей покойник.
Колдун перехватил её поперёк пояса. Грубо и резко, словно ударил. Блажа ажно пополам согнулась. А после поймал лицо безумной в ладони, и Ирга могла бы поклясться, что в глазах Змеелова мелькнула жалость. Он прижался своим лбом к её, и Блажа, обмякнув, как до того рука Василька, осела на землю.
Василь заорал:
– Ты что наделал, погань?! Тётка Блажа!
Даже с кулаками кинулся на колдуна, но односельчане удержали. Дан зачастил:
– Сдурел никак, Вас? Тётку проклял, и тебя проклянёт! Ему что? Ему – тьфу!
Змеелов разве что досадливо поморщился, не выказав к потасовке никакого интереса. Бросил:
– До рассвета проспит, потом оклемается. Уберите. Мешает.
На сей раз помощники Васильку нашлись, и женщину поскорее унесли в избу. А колдун спросил:
– Ещё родня у покойника есть? Нормальная.
– Нет у него никого. На острове, – нехотя ответила Ирга.
– Добро. Заносите, – скомандовал чужак и повернулся к крыльцу.
Спесь, впрочем, сошла с колдуна быстро: шум выгнал из-под ступеней змею. Супротив чужака она вскинулась, показавшись на миг огромной, зашипела… Колдун шарахнулся.
– Тварь поганая! Вот я тебя…
Как знать, многим ли подумалось, что на том придёт конец чужаку и всем невзгодам, что он с собою приволок. Но ужалить змея не успела: Ирга кинулась наперерез и ловко ногой откинула гадюку в сторону.
– Они у нас что мыши, не обижай, – пробормотала рыжуха, избегая цепкого колдунова взгляда.
В избу покойника Змеелов вошёл уже по-хозяйски, швырнул балахон у входа, скинул со стола чашку с недоеденной кашей прямо на пол. Кивнул на освободившееся место.
– Сюда кладите.
Василь едва устроил уснувшую Блажу в женской половине, отделил её от вошедших занавеской и поднял с пола посуду. Одной рукой он управлялся ловчее, чем иные двумя.
– Ещё чего? – возмутился он. – На стол? А может сразу к волхве в нору отнесём, чтобы ещё больше богов оскорбить?
Змеелов пожал плечами.
– Мне до ваших богов дела нет. И спорить с тобой я тоже не собираюсь. Покойника – на стол. Одежду – долой. Кто против – вон со двора. Идите старосте на меня пожалуйтесь, чтоб не скучать.
– К старосте-то оно, пожалуй, вернее будет, – несмело подал голос кто-то.
Однако, стоило колдуну повернуться на звук, говорящий поспешил спрятаться за других яровчан, поэтому ответил Змеелов сразу всем:
– Староста тоже пусть приходит. Утром. Нынче не до него. Вот ты, – он наугад ткнул пальцем в скопище. Вышло, что на Дана, и тот онемел от страха. – Остаёшься помогать. Остальные убирайтесь.
Но прежде, чем колдун договорил, Дан, как девица прихворнувшая, лишился чувств, а может только вид сделал.
– Проклял! – взвизгнула Залава.
– Никак Дан обмочился! – брезгливо подметила её подружка.
Колдун растерянно моргнул и внимательно осмотрел свой палец, но, заметив Иргину ухмылку, спрятал руку за спину и снова принял вид равнодушный и зловещий.
Девка и сама от себя не ожидала, да кто-то по обыкновению дёрнул за язык. Ирга вышагнула вперёд.
– Я помогу!
Василь сразу вызверился:
– Не выдумывай!
Колдун же одобрительно кивнул.
– Ясно теперь, на вашем острове смельчаки не мечи, а сарафаны носят. Что же, лягушонок, оставайся. Остальные – прочь.
Ослушаться никто не посмел. То ли голос у Змеелова оказался дюже твёрдым, то ли зелёные искры, побежавшие по его ладоням, добавили яровчанам прыти, но скоро в избе остались спящая за занавеской Блажа, Змеелов, Ирга да покойник. И ещё Василь застрял в дверях, широко расставив ноги. Расставил бы и руки, да вторая, колдуном отнятая, так и висела плетью.
– Ты никак одурела? Я тебя с… – он воровато покосился на Змеелова, – не оставлю!
– А, стало быть, мне только с теми, кого ты подослал, можно? – прошипела Ирга.
– Никого я к тебе не подсылал! Да что ты как дикая, право слово! Воротимся домой да поговорим нормально!
А у Ирги внутри всё будто льдом покрылось. Вспомнился и Костыль, братом подосланный, и то, как этот самый брат отказался с нею вместе на Ночь Костров идти, и платье материно, Звенигласке подаренное, и имя сыновца[2 - Племянник, сын младшего брата] – всё разом вспомнилось. Ирга громко и уверенно произнесла:
– Нет у меня больше дома. И возвращаться мне некуда.
А после пихнула Василя в грудь да захлопнула перед его носом дверь. И то ли саму себя похвалить захотелось, то ли затрещину дать. Но решить, чего больше, колдун не дал. Ему-то до Иргиного горя дела нет, у него свои заботы.
– Ну, что встала? Вызвалась, – помогай.
Сам Змеелов времени зря не терял. Он стоял над телом, низко склонившись, щупал шею, щёки, отчего-то нос. Ноздри у колдуна хищно раздувались. Он замер лицом к лицу с покойником: оба бледные, ни один мускул не дрогнет, ресницы не опустятся. Так сразу и не разберёшь, кто отправился в Тень, а кто живой. Ноздри у колдуна трепетали, словно дух смерти казался ему сладким ароматом.
– Чем помочь?
– Наперво, на стол его переложим.
Девка сцепила зубы и взялась за ноги. Брезглива она не была, да и покойников каждый в Гадючьем яре хоть раз, а видал. А всё одно страшно… Ну как поднимется Костыль да как закричит: вот, мол, моя убивица!
На вид колдун был слаб да болен, однако вид оказался обманчив. Подхватил покойника под мышки да и поволок. А уж помогал себе колдунствами али нет, – того Ирга не ведала. Знай успевай ноги держать, чтобы по полу не скребли!
На стол они сгрудил труп ровно мешок с мукой. Змеелов знать не знал, что всего-то этим утром Костыль дышал, мечтал о чём-то, с девкой, вон, помиловаться надеялся. И то, что за занавеской на скамье мерно сопела его обезумевшая мать, колдуна не заботило тоже. Он потёр друг об друга и понюхал ладони, задумчиво хмыкнул и велел:
– Раздевай.
– А?
– Ты что же, глухая?
Ирга рассвирепела.
– Ещё чего!
– Тогда, верно, дурой уродилась. Раздевай, говорю! Покойника осмотреть надобно.
Девка попятилась. Почудилось, Костыль глянул на неё укоризненно из-под опущенных ресниц.
– Смотри… Что он тебе, мешает, что ли?
На мгновение Змеелов прикрыл глаза. Потом медленно пальцами зачесал назад волосы, и Ирга поняла вдруг, что он не только искалечен. Колдун ещё и смертельно, до невозможности устал. А потом он тихо и беззлобно произнёс:
– Пошла вон.
Ирга сцепила зубы и пошла. Но не прочь из избы, а к Костылю. И неуклюже негнущимися пальцами взялась распутывать воротник и пояс, стаскивать сапоги и порты. Всё ж таки дождался Костыль своего часа: Ирга его и обняла, и приласкала, и телом прильнула тесно-тесно. Да только теперь уже что толку? Тесёмки выскальзывали, непослушные пальцы, как назло, отказывались держать, и Змеелов взъярился:
– Да что ты как в первый раз, право слово!
– А это уже не твоё дело, в первый или не в первый! – рявкнула девка. И без того со страху того гляди ноги отнимутся, а тут ещё этот! – Толку с тебя что с козла молока! Если ты мужиков лучше раздеваешь, так и давай сам!
– Да корова, и та ловчее справится! Будь он живым, уже б от старости подох, покуда тебя дождался.
– А во ты знаешь, от чего он помер!
Колдун скрестил на груди руки и долго неприязненно смотрел. Ирге всё казалось, что слепой его глаз видит не меньше, а то и больше зрячего. Сразу подумалось, что рубаха, до сих пор не просохшая, льнёт к телу, а в волосах наверняка застряла водяная трава. Ох и неловко! Но колдун глядел вовсе не на девичью грудь под вышитым льном, а если и на неё, то умело скрывал. Он сказал:
– Знаю.
Иргу ровно за горло схватили. Дыхание спёрло, колени подогнулись. Ещё и этот… смотрит! Она выдавила:
– И как же?
Колдун тянул. Нарочно тянул, издевался, видел, как девка напугана и пил её страх ровно мёд, который та так и не поднесла ему. Он приблизился к нагому Костылю, а Ирга, как ни старалась смущённо отвести взгляд, выпучилась: ничего бы не пропустить! Засучил рукав – по зеленоватым жилам побежали искры, собираясь на кончиках пальцев. Провёл сияющей ладонью над покойником от самых пят и до темени, маленько задержавшись у лица. Спросил:
– Смотришь?
Ирга и рада бы ответить, да голос отнялся, и она просто кивнула. Колдун велел:
– Подойди ближе.
Когда девка послушалась, встал позади неё и поймал за локти. Горячий шёпот обжог ухо.
– Сама догадаешься?
«Знает» – поняла Ирга. – «Точно знает и насмехается!»
Пальцы Змеелова спустились от её локтей к ладоням. Колдовство покалывало кожу, пахло палёным, словно едва зарезанной свинье щетину прижигают.
– Скажи, – прошипел Змеелов.
– Я не… Это не…
– Посмотри внимательно, – кончики пальцев нежно огладили сбитые костяшки. – Что не так с ним?
– Он… Он…
Колдовское оцепенение сковало руки и ноги. Ни шевельнуться, ни вздохнуть. А Змеелов нарочно прижимался всё теснее, заставлял Иргу ближе и ближе становиться к тому, что осталось от доброго соседа, звавшегося Костылём. Не так-то плох был одинокий рыбак, если подумать. Не зол, не жесток. А что клюквенную любил пригубить, что приставал в праздник… Так кто с девками в Ночь Костров не милуется? Быть может, согласись Ирга, останься с ним, поцелуй дурака, Костыль бы выжил? Под грудью вспыхнула злость, и её хватило, чтобы сбросить оцепенение. Вернулась сила в члены, и девка оттолкнула колдуна что есть духу.
– Чего тебе от меня надо?! Не знаю я, ясно?! Не знаю, кто его убил!
Змеелов поглядел на неё иначе. Так, как глядят на козу, вставшую на задние ноги, а передними сыгравшую на баяне развесёлую песню. Брови его взметнулись вверх, волосы с проседью будто бы дыбом встали.
– Вот оно как! – Он самодовольно похрустел суставами. – Стало быть, знаешь, что не сам он помер. Что убили.
Ирга процедила:
– Ничего. Я. Не. Знаю. – А набравшись решимости крикнула: – И знать не желаю! Разбирайся здесь сам, а я домой пойду!
Она ударила себя по правой щеке, чая сбросить наваждение, добавила по левой, когда не помогло. Когда же Ирга схватилась за ручку двери, Змеелов продолжил как ни в чём не бывало:
– Его убила змеевица. Гадюка. Я говорил там, на берегу. – Он мотнул головой в сторону. – Видишь рану на щеке? И разве не ты сказала, что дома у тебя больше нет?
Ирга вцепилась в спасительную ручку.
– Я не тебе это говорила, – жалобно выдавила она.
– Но брат тебя не услышал, а я услышал. Ты сама вызвалась в помощницы, так помогай.
Ладонь бессильно соскользнула. И то верно – некуда. Ирга воротилась к колдуну и покойнику.
– Что такое змеевица?
Теперь, когда колдун указал на них, Ирга и сама заметила две крошечные точки на щеке у Костыля. Не то соринки прилипли, не то при жизни где-то поранился. Вот только ядовитые змеи отродясь местных не трогали…
– Я расскажу. – Пообещал Змеелов. – Только условие.
– Какое?
– Что прикажу, всё выполнишь.
Глава 4. Глаз покойника
Ночь за окном становилась всё гуще – хоть ложкой хлебай. Трещали кузнечики, изредка подавали голос жабы, а в пятне света сновали, охотясь за глупыми бабочками, летучие мыши. И казалось, кто-то ходит по двору, прислушивается к звукам, доносящимся из избы. Ирга вглядывалась в темень, но рассмотреть никого не могла, да и, сказать по правде, не хотела. В чёрный час разве что духи нечистые могут бродить по деревне…
Змеелов приказал зажечь все лучины и свечи, что найдутся в доме, и окружить ими покойника, но неверный свет больше мешал осматривать тело, чем помогал. Ирге всё казалось, что тени, шевелящиеся у ключиц, в волосах и меж ног у Костыля, вот-вот оживут и червями поползут по столу и вниз, свернутся меж половиц до поры и выскочат, присосутся к ступням, когда всего меньше будешь ждать.
Колдуну же хоть бы хны. Он обжимал быстро деревенеющий труп, соскабливал что-то палочкой с кожи и откладывал в сторону, принюхивался. Достал из ссобойки несколько заляпанных бутыльков. Из одного капнул Костылю на лоб. Мутные капли затерялись в волосах.
– Воняет! – пожаловалась Ирга.
– Без зелья воняло бы сильнее.
Из второго хлебнул сам. А содержимое третьего плеснул на ладонь и обтёр покойнику шею и грудь. Зелье зашипело. Ирга испугалась, что вот-вот проест кожу, но случилось иное. На нагом теле Костыля проступили зеленоватые мерцающие пятна. Не иначе грибница-ночница, освещающая болота в тёмное время, выросла! Девка ажно приподнялась со скамьи. Много чудес повидала она на Жабьем острове, иным дивиться устала. Но такое – впервые!
Колдун самодовольно хмыкнул.
– Это – следы. Его убила змеевица. Я не ошибся.
– А мог?
Он глянул на неё озверело и отрезал:
– Нет.
Ирга поёжилась. От окна тянуло холодом, рубаха не сохла, а волосы так и вовсе просыхали дай боги на следующий день после купания – такая уж девка уродилась. Но тревожно было не поэтому. Что-то тёмное ворочалось в глубине острова. Что-то, что чуял каждый, рождённый в Гадючьем яре, но чего не мог объяснить. Ирга осторожно подала голос:
– У нас с покойниками так нельзя. Не к добру…
Змеелов и не подумал остановить своё странное действо. Он лишь рассеянно отозвался:
– И как же у вас можно?
– Покойников остров забирает себе. Мы относим их на болота. А если случилось такое, что человек пропал, и труп не предали трясине…
Жуть что делалось, когда сгинул отец Костыля. Стояла зима, и озеро сковало льдом до самой большой земли. Льда было столько, что тяжёлые гружёные товаром телеги с двумя, а то и тремя впряжёнными лошадьми легко скользили по нему. В первый день после того, как исчез Азар, поднялась метель. Она не унималась до самого вечера, и тогда ещё никто не знал, что стало причиной гнева богов. На другой день ветер стих, но снег повалил с утроенной силой. Когда избы замело по окна, всем стало ясно, что глупого мужика, ввязавшегося в пьяный спор, больше нет на свете. Пережить зиму яровчанам помогла волхва. На поклон к норе ходил староста, носил богатые дары. Волхва научила его, как быть. Ясно, что того, кто сгинул в Лихоборе, не вернуть ни живым, ни мёртвым. И тогда заместо покойника сшили большую тряпичную куклу. Набили мясом да творогом – у кого что нашлось – и прямо сквозь пургу на санях повезли на болото. О том, что видели мужики на месте, по сей день никто не говорит, но первые седые волосы в бороде у старосты появились именно тогда.
Девка содрогнулась, представив ужасы, которыми могут наказать боги весь Гадючий яр из-за её молчания. Она скомкано закончила:
– Случается беда.
– Ничего, – хмыкнул колдун. – Уж в бедах я разбираюсь, придумаю что-нибудь и с этой. Подойди.
За время, минувшее с вечера, Ирга уже привыкла бездумно подчиняться колдуну. Принести, подать, полить водой, расставить лучины… Помощи с неё, прямо скажем, было немного, но девка тешила себя надеждой, что осталась при Змеелове не зря. По меньше мере, она знатно досадила Василю, а это уже много. Послушалась и в этот раз.
– Ты хотела знать, кто такие змеевицы.
Всего больше Ирга хотела бы знать, что не повинна в смерти Костыля и что никто не узнает, кто последним видел рыбака живым. Потому как иначе сосельчане рыжухе жизни не дадут, и неважно, найдут настоящего убийцу или нет. Но она молча кивнула и поднялась с лавки.
– Подойди. Ближе. Ну что ты нога за ногу! Встань рядом и прекрати дрожать!
Ирга обхватила себя за плечи и коротко отбрехалась:
– Холодно.
– Холодно – переоденься в сухое. Вон, у этой, – колдун кивнул на занавеску, отделяющую их от Блажи, – возьми что-нито.
– Нет.
– Ничего, ей уже навряд понадобится.
Девке ажно умыться захотелось, так стало гадко. Да уж, Блаже и верно навряд пригодятся как праздничные сарафаны, так и простые рубахи. Она без сыновьей помощи и вовсе в Тень скоро отправится. Материны платья тоже навряд пригодились бы владелице, однако ж, когда брат отдал их Звенигласке, хотелось удавиться. Ирга рявкнула:
– Я сказала, нет!
– Уймись. Как начну тебя силой раздевать, так верещать и будешь.
Ирга запнулась. Всего меньше она думала о том, что колдун мог оставить при себе девку не помощи ради, а для… забавы? А что? На большой земле вечно жалуются, что Гадючий яр зябок. Плыл колдун ночью, один, непонятно ещё, сколько в пути провёл. Не в ближайших же деревнях время коротал? Слухи дошли бы… А ведь Змеелов, хоть и с проседью, но не стар. И вполне может статься, что калечен он только глазом да ногой, а остальное… Что если и впрямь велел он остаться, чтобы после трудов согрела ему постель?
Сама не ведая, чего для, Ирга опустила взор. По всему выходило, что колдун от обычного мужика ничем и не отличался. От его ядовитого голоса девка едва чувств не лишилась.
– И потом они говорят, что это мужики норовят им подолы задрать. Не на ту змею смотришь, дура!
Жар бросился в лицо. Всего больше Ирге, пойманной на непотребстве, хотелось выскочить вон и никогда-никогда боле не возвращаться. Но она сделала над собой усилие и медленно подняла взгляд. Облизала пересохшие со страху губы и с вызовом спросила:
– А тебе жалко, что ли? Ну поглядела. Чать не убудет.
Колдун опешил.
– О как, – сказал он. – О как. Люблю норовистых девок! Ты, стало быть, за словом в карман не полезешь?
Он повернулся к ней, и Ирга едва поборола желание попятиться к стенке да мышкой спрятаться под лавкой. Она задрала нос, радуясь, что не видно, как дрожат колени.
– А чего за ним лезть? Оно всегда на языке вертится.
Он не спешил, давая дурёхе время опомниться и сбежать. Даже больше, нарочно растягивал каждое движение, упиваясь своей властью. Тонкие губы колдуна искривила полная яда усмешка.
– Да?
Он не шагнул, а словно проплыл к ней по воздуху. Завёл руку за спину и провёл ею по мокрой рубахе – вдоль хребта, сверху вниз, до самого пояса. От одного этого касания Иргу сковало страшное чувство, страшнее которого она не испытывала никогда – она захотела, чтобы колдун сделал так снова. А Змеелов приподнял тонкими пальцами её подбородок и прильнул губами к губам.
Мир вокруг закружился. Стало дурно и сладко, хотелось кричать и бежать прочь, а после возвращаться и снова бежать, но ноги отнялись… А потом всё прекратилось. Змеелов отстранился, словно ничего и не случилось. Словно не он украл первый поцелуй яровчанского перестарка. А после облизался и издевательски протянул:
– Никак дурно тебе, девица? Вся дрожишь. Настойки бы тебе, чтобы согреться. Клюквенной.
«Понял! Всё он понял, проклятый колдун! От меня несёт той же настойкой, что от Костыля!»
Хотелось плакать, да от слёз ничего путного не бывает, то девка давно усвоила. Она процедила:
– Думал, я пред тобой робеть стану? Выискался, тоже.
Змеелов пости что улыбнулся, но моргнул – и едва дрогнувшие уголки тонких губ снова выпрямились. Он задумчиво протянул:
– Попадись ты мне годков десять назад, иначе бы говорили. Теперь-то уже что… – и враз посерьёзнел, как и не было ничего. – Значит слушай. Змеевицы вечно голодны и вечно охотятся.
– Как звери?
– Звери убивают из нужды. Эти же твари, – он запнулся и произнёс неуверенно: – Им нравится. Так я думаю. – На миг колдун погрузился в свои мысли, но очнулся и продолжил. – Могут прикинуться человеком. Иной раз заглядишься, как красивы! – Он играючи провёл по медным волосам Ирги, и та поспешила откинуть их за спину. А Змеелов продолжил: – Но это всё ложь. Они жаждут одной только крови.
Ирга облизала губы.
– Если могут прикинуться… Как понять, что пред тобой человек, а не…
– Зелье у меня есть. Одно, чтобы выдать следы змеевицы, – он указал на пятна зелени на груди покойника. – Ещё одно, чтобы заставить её перекинуться. Человек от него околеет враз, а вот гадина… Ей яды не страшны. Но, пока не обернётся, точно не узнаешь, кто есть кто.
– А когда обернётся… Как выглядит?
Колдун осклабился. Он приблизился к покойнику, двумя пальцами раскрыл тому глаз.
– Погляди сама. Ну?
– Ты ополоумел никак! Мёртвому? В глаза?! Чтобы он меня с собой утащил?!
Змеелов поморщился.
– Уж скольким я покойникам в глаза смотрел… У некоторых из них тогда даже сердце билось.
– Ну так ты нечисть боле, чем человек!
Змеелов равнодушно пожал плечами.
– Ну так ты тоже.
Ирга вспыхнула.
– Что сказал?! – Очертила перед собой в воздухе защитный символ. – Вот тебе, погань! Будешь знать!
Колдун только любопытно склонил голову на бок.
– А самой-то как? Не жжётся?
– Нет… А…
– А должно. Сама догадаешься или подсказать? Ни в жись не поверю, что никто не заметил!
От окна всё так же тянуло холодом, мокрая рубаха льнула к телу, но отчего-то стало жарко.
– Чего не заметил?
Змеелов почти ласково пригладил редкие волосы Костыля – неуместно и тепло, словно друга в Тень провожал. И одновременно гаркнул:
– Колдовку у себя под носом!
Вольно списать все беды, выпавшие их семье, на Безлюдье. Мол, та сторона коснулась детей задолго до рождения, оттого и Лихо за ними следует, оттого ершисты и строптивы, оттого девке, что ни день, тошно солнышко встречать. Вольно… Да только неправда. Не с рождения начались беды кукушат и не со смерти доброй старухи Айры, про которую Ирга сама иной раз сказывала, мол, дар имела. Дар у Айры был лишь один – доброта. В Гадючьем яре все знали: старушка поможет советом, накормит в голодный год, утешит, обнимет… И воспитает двух сирот, брошенных матерью-кукушкой, как родных. Да, тогда начались все беды Ирги и Василя, когда мать собрала вещички да ушла, оставив сына и дочь. Тогда Василь замкнулся и никому боле не показывал, как тяжко на душе. Тогда озлилась Ирга. И Безлюдье в том винить не след.
– Врёшь.
– А ты проверь. Глянь в глаза покойнику.
Ирга осторожно приблизилась, покамест стараясь глядеть не на Костыля, а на Змеелова.
– Я что же, колдовка? Как ты?
Тот усмехнулся.
– Не как я. И в том твоё счастье.
– Враки.
– Каждая врака где-то начало берёт. – Меж бровей колдуна залегла глубокая морщина, и он добавил уже без малейшей насмешки: – Либо не верь мне и не гляди. Тебе-то лучше знать, что и с кем этот мужик перед смертью делал. Ты старосте и расскажешь.
Во рту пересохло. Вот оно как. Ни в болото, так в крапиву… Коли не сделает девка так, как требует колдун, тот сдаст её старосте с потрохами, а Первак уже начнёт пытать, когда это Ирга и Костыль успели одной настойки налакаться. Побледнев, она склонилась над покойником и пригрозила:
– Утащит меня в Тень – буду тебе ночами являться!
– Являйся. Мне обыкновенно что похуже снится.
Глаз покойника глядел на неё, не наоборот. Был он страшен и белёс, как слепой глаз колдуна, а за пеленой пряталось нечто.
Змеелов поймал Иргу пятернёй за загривок и заставил наклониться ниже. Колдовка ахнула и… увидела.
Последний миг Костыля был страшен. Чёрное небо и трясина поменялись местами, и не разобрать было, звёзды сияют али болотные огни. Мостки качались, а может то качался спьяну сам Костыль. Он лежал на них и никак не мог подняться – что-то давило на грудь, что-то, что кольцами вилось вокруг, вырастая из самого болота. Змея, огромная, холодная, с бесконечным хвостом, сжимала его в своих смертельных объятиях. А лицо её, скрытое сумраком, было человечьим. Она прильнула к нему, потёрлась о горячую грудь с судорожно колотящимся сердцем, пощекотала языком шею и губами коснулась щеки.
Когда змеевица оторвалась от лица Костыля, тот был уже мёртв.
Кто-то закричал, Ирга крикнула в ответ. И очнулась.
Змеелов держал её за плечи, сама же девка судорожно вцепилась в волосы Костыля – едва не вырвала.
– Видела? – спросил колдун.
Ирга замотала головой. Она и рада бы развидеть то, что пряталось в мёртвом глазу…
– Что это?!
По лбу и вискам стекал холодный пот, во рту было сухо, а нутро выворачивало наизнанку. За мгновение до того, как желчь всё же изверглась из желудка, колдун успел подставить девке посудину с недоеденной кашей.
– Это гадина, что убила его. Ты же хотела знать, кто такие змеевицы. Лицо разглядела?
Ирга вспомнила, что успела разглядеть, и снова склонилась над чашкой. Пустой желудок отозвался спазмом. Колдун фыркнул:
– Толку с тебя… колдовка.
Ирга хрипло отозвалась:
– Сам бы поглядел, авось больше толку было бы.
Змеелов прошёл по избе, склонился к устью печи, порылся в ларях, приоткрыл дверцу в погреб. Наконец добыл бочонок с мочёными яблоками.
– Нет уж. Приятного в том мало. На, съешь. Полегчает.
Живот снова свело. Ирга утёрла лоб рукавом.
– Так ты нарочно меня заставил? Чтобы самому не смотреть?
– Конечно. Мне ещё силы пригодятся, а с тебя хоть какая польза. Точно яблочко не будешь? Ну как хочешь. – Колдун сел на лавку и вытянул ноги. Яблоко он съел вместе с семечками и хвостиком, ничего не осталось, ещё и пальцы облизал. – Глупая ты. Неучёная. Жаль. Могла б и в самом деле помочь. Может ещё раз посмотришь? Ну как узнаешь кого из односельчан?
Ирге поплохело, но теперь уже не от колдовства.
– Это что же… Кто-то из наших мог обернуться… той тварью?
Второе яблоко сгинуло вслед за первым, и теперь уже Ирга ощутила, что и сама голодна.
– Угу. Кто-то и обернулся.
Не чуя ног, Ирга подошла и плюхнулась рядом с колдуном. Вышло, что села непозволительно близко, ажно прижалась бедром, но отодвинуться сил уже не нашлось. Колдун наклонил к ней быстро пустеющий бочонок.
– М?
На сей раз девка не побрезговала, взяла сразу два яблока и подивилась, когда те исчезли у неё во рту прежде, чем она их разглядела. Сок потёк по подбородку и, когда Змеелов стёр его пальцами, Ирга даже не стала отворачиваться.
– Я всех в Гадючьем яре знаю. Все всех знают. Кабы кто оборачивался, заметили б…
– Колдовку же у себя под носом не заметили.
– Я не…
– Поспорь ещё, мигом к старосте отправишься про клюквенную настойку рассказывать.
Яблочко комом встало в горле.
– Я просто из фляги отхлебнула. Знать не знаю, что случилось после…
Змеелов махнул на неё рукой, ясно, мол.
– С кем ваш покойничек миловался, мне неважно. А вот кому он насолил – другое дело. Признавайся, девка, околдовала кого? Может несколько мужиков по тебе сохнут? Или по этому ещё кто? – Колдун покосился на мертвеца и цокнул: – Хотя нет, по этому вряд ли.
Ирга вскочила, возмущённая. Аж силы в члены вернулись.
– Я?! С этим?! – Костыль лежал, голый и посеревший, и укоризненно взирал в потолок. Так-то плох был, что ажно после смерти меня хулишь? Ирга виновато закончила: – Не люб он мне… был. Никто не люб. Да и о Костыле, вроде, тоже никто не вздыхал.
Собравшись с духом, она вернулась к столу. Костыль лежал беззащитный, лишённый одежды и оберегов, не похороненный как подобает. Девку кольнула жалость. Она прикрыла его распахнутые веки, с усилием выровняла руки и ноги, накрыла срам одеялом и подоткнула края. Вот уже не мёртв Костыль, а всего-навсего спит.
Змеелов спросил:
– Ты с ним на болоте была?
– Нет…
– Врёшь.
Ирга закусила губу.
– Я не вру! Я просто настойки отпила и…
– И нос ему сломала? – лениво подсказал колдун. – Мне и так непросто будет гадюку отыскать, а ты ещё хуже делаешь. Отвечай немедля!
– Я не трогала его!
Колдун гаркнул:
– Правду отвечай!
Мёртвый глаз Змеелова позеленел и вспыхнул, как болотный огонёк. Подчиняясь колдовству, одеревеневшие холодные пальцы покойника крепко сжали Иргино запястье. У неё голос отнялся от страха.
– Помоги! – одними губами взмолилась она.
Но проклятый колдун как сидел на лавке так и остался, ещё и ногу на ногу закинул. По длинным пальцам его сновали зелёные искры.
– Гляди-ка! – прыснул он. – Мертвец говорит, врёшь ты всё! Признавайся, колдовка, что скрыла?
Ирга изо всех сил дёрнулась, но мёртвая хватка крепка! Только полулуния от ногтей отпечатались на коже.
– Ничего я не знаю! Пусти! Помоги мне! Пожалуйста!
– Ой, врёшь, девка! Мертвец говорит, врёшь бессовестно! Признавайся, что утаила, колдовка?
«Колдовка… А ну как взаправду? Матушка, бабушка… Кто-нибудь!»
– Пусти немедля! – взвизгнула Ирга.
Дальше разом сделалось вот что. Наперво, в дверь постучали. Да не вежливо стукнули, а со всей дури, будто телом впечатались. Никак осерчала старая Жаба, хранительница острова?! Требует к себе покойного немедля? С испугу Ирга дёрнула руку так сильно, что ногти Костыля прочертили по коже борозды. Зелёные искры на ладонях колдуна вспыхнули, и тот зашипел, стряхивая их на пол и топча сапогами. А ещё с петель слетела дверь.
На пороге, тяжело дыша, стоял Василёк. Мокрый от росы, с запавшими от усталости глазами, лохматый. Он перевёл взгляд с напуганной Ирги на колдуна и обратно, вбежал в избу и ка-а-а-ак даст Змеелову в челюсть! Едва успевший подняться навстречу незваному гостю колдун ажно к стене отлетел и снова сполз на лавку. Ошалело мотнул головой, поднял руку, видно, готовя какое-то заклятие, но Ирга кинулась меж мужчин.
– Вас, какого Лиха?!
Василь долго не думал и уже замахивался вдругорядь.
– Нутром чуял! – крикнул он. – Ты! Чтобы пальцем её…
– Да не трогал меня никто! – перебила Ирга. – Ну… Он не трогал.
Василь побледнел. Выходит, за просто так в морду колдуну дал? Экая вышла оказия…
Змеелов же огладил челюсть: вроде не сломана.
– Ты что, герой, во дворе с вечера сидел? – догадался он. – У тебя дел больше нету?!
Растерялась и Ирга. В самом деле сидел? Слушал под дверью, чтобы чужак не приставал к сестре, чтобы беды не вышло? Но заместо того, чтобы поблагодарить, она ударила Василька в плечо.
– Вконец ополоумел?!
– А сама?! – в тон ей ответил Вас. – Решила, я тебя, дуру немужнюю, одну с… этим оставлю?!
– Но-но, – негромко пригрозил Змеелов, и Вас на всякий случай сделал шаг в сторону.
– В тебя и так все пальцами тычут! Мало?
– Если и так тычут, так что мне терять?
Он мог бы привычно отбрехаться, бросить в ответ что-то обидное и злое, но заместо этого Василь просто обнял сестру одной рукой и прошептал:
– Я так испугался…
Ирга разинула рот, но не выдавила из себя ни слова ни за, ни против. Лишь умоляюще глянула на Змеелова, и тот вскинул руки кверху.
– Я, – особенно подчеркнул он, – я тебя не держу, лягушонок. Захочешь что-то рассказать, знаешь, где меня найти.
Ирга в который раз за вечер облизала губы и осторожно высвободилась из объятий брата.
– Пойдём домой…
Тот едва бегом не выскочил, но от порога вернулся и подал колдуну руку – левую, которой и бил, ибо правая едва начала шевелиться.
– Ты на меня зла не держи… Решил, ты сестру… – От одной мысли о непотребстве Василь снова стал белее извёстки и сбивчиво закончил: – Вот.
Змеелов брезгливо посмотрел на протянутую ладонь и касаться её не стал.
– Твоя сестра сама кого хочешь… – Василь начал багроветь, и колдун поправился: – Кому хочешь в морду даст.
Василёк убрал и обтёр о штаны ладонь. Деловито кивнул и вышел.
Ирга ждала брата на крыльце, в задумчивости покачиваясь с носков на пятки. Она наблюдала, как бабочка с тонкими белыми крыльями всё норовит влететь в окно избы, но раз за разом пугается, словно не тусклый свет лучины виднеется в обрамлении наличников, а самый настоящий пламень Ночи Костров. И сигануть в него боязно, и на месте оставаться невмоготу.
– Ты правда полночи во дворе сидел, меня ждал? – спросила она, не отрывая взгляда от ставней.
– Правда.
– Почему?
– Потому что правильно Айра говорила: мы вдвоём супротив всех.
Ирга вздохнула и едва слышно пробормотала:
– Вот только уже не вдвоём…
– А?
– Ничего. – Она взяла брата под локоть. С крыльца они спустились вместе. – Пойдём дом… до Звенигласки.
Ирга шла, держа брала за руку, и думала, что небесные пряхи любят пошутить. Всё же эту Ночь Костров они провели вместе с Васильком.
Во многих избах до сих пор виднелись светцы: не унять тревогу селян, не остановить беспокойные пересуды. Где-то Дан шумно баял бабке об увиденном, знатно преувеличивая свою роль в действе; Звенигласка вздыхала и гладила огромный живот, дожидаясь мужа и не ложась без него спать; Залава плакала от испуга на груди жениха-кузнеца; сестрицы-хохотушки, дочери старосты, пугали друг дружку враками одна другой страшнее. Наверняка не спал и сам Первак: спорил с женой, думал, как верней поступить. Выпроводить чужака вон и самим вызнать, что сделалось с Костылём? Принять помощь и ходить на цыпочках, опасаясь разозлить колдуна? Да и есть ли он вообще – выбор?
В Гадючьем яре все друг друга знали. Вот только кто-то из знакомцев скрывал свой истинный облик под человечьей личиной.
Глава 5. Незваный гость
Изба стояла в овраге, прячущаяся в зарослях узловатых яблонь. Прадед кукушат, первый её владелец, не шибко жаловал людей и всего меньше хотел лишний раз их встречать. Оттого, если смотреть издали, дома и вовсе было не видно – лишь убегающая вниз по склону роща. Сначала деревья были высоки, с налитой влагой листвой и раскидистыми ветвями, но внизу, у реки, они хирели и сдавались болоту. Вечерами из оврага поднимался и тянул к избе липкие пальцы густой туман. Детьми Ирга и Василёк боялись его и спешили запереть ставни, защищаясь от зла.
– Что же страшного в тумане? – посмеивалась над ними старая Айра. – То ли дело тот, кто в тумане прячется…
Дети визжали и с головами укрывались одеялом, а после выглядывали и, дрожа от страха и нетерпения, просили рассказать, кто же может прятаться во мгле. И Айра рассказывала, каждый вечер сочиняя новую враку. Про тварей зубастых и когтистых, про летающих и бегающих, про кровожадных и ненасытных… Одно было общее у всех врак: любую тварь можно было победить, взявшись за руки и смело шагнув в туман. Дети засыпали, тесно прижавшись друг к дружке и переплетя пальцы.
На сей раз Ирга спала одна, и никто не сжимал её холодную и мокрую от липкого страха руку. Ей снова снилось, что кто-то выбирается из тумана. Что ползёт меж плесневелыми стволами, что вжимается тяжёлым гибким телом в мох. Чёрная и гладкая, гадюка могла бы походить на сломанную ветку, если бы не была вдесятеро больше самой большой ветки, что мог покорить ветер. Тонкий язык её пробовал на вкус прохладный утренний воздух. Вкус гадюке нравился. Что-то смутно манило её вверх по склону. Что-то тёплое и влажное, что-то, что хочется заключить в кольцо объятий и держать так долго, покуда вся жизнь и весь огонь не перетекут в ледяные жилы змеевицы. Гадюка ползла к стоящей на отшибе избе, и Ирга нутром чуяла её приближение.
Кто-то закричал. Ирга хотела крикнуть в ответ, но в горле пересохло, и заместо крика получился хрип. После проклятого Змеелова и колдунства, что он заставил совершить Иргу, во рту всё время было сухо. Девка откинула одеяло и тихонько села. В избе стояла тишина. Последний месяц Звенигласка едва чутно храпела во сне и, хоть Ирга злилась всякий раз, как думала о ятрови, звук этот странным образом успокаивал. Василёк же спал вообще неслышно, иной раз казалось, что помер, но сестра брата всегда почует, тут не нужны ни звуки, ни запахи. В избе, окромя Ирги, не было никого.
Она спрыгнула с печи, осторожно прошлась по холодным скрипучим половицам и всё же заглянула за занавеску. С тех пор, как Василь надел Звенигласке на запястья свадебные наручи, избу пришлось переделать. Ясно, что, слишком взрослые, брат с сестрой давно не спали вместе, но до прихода в их дом Беды было иначе. Василь устраивался на полатях и, к бабскому позору, всегда пробуждался первым. Ирга же спала на женской половине за занавеской, как заведено в Гадючьем яре, да и на большой земле почти что у каждого народа. Нынче же на полатях устроили Иргу, а бывший женский угол отвели молодым. Неделя-другая, родится Соколок… Ирга ажно содрогнулась, мысленно произнеся имя сыновца. Соколок… Да… Родится младенец – станет совсем тесно. Даже вечно улыбчивая Звенигласка, и та не выдержит, спросит, не пора ли Ирге прочь со двора…
Молодых на месте не оказалась. Ирга зябко поёжилась: одна, запертая в избе, окружённой туманом, она вспомнила не только дурной сон, но и все страхи, что одолевали её сызмальства. Спасибо хоть воды дома имелось вдосталь. Ирга зачерпнула ковшом и сама не заметила, как осушила его до дна. От входа потянуло холодом – сердечко дрогнуло. С детства, напуганные враками, Ирга и Василёк запирались на щеколду, а нынче через приоткрытую щель заползал сквозняк. Девка метнулась закрыться, и тогда только увидела брата, сидящего на влажной от росы ступеньке спиною к двери.
– Вас… – окликнула она, но брат не услышал.
Рыжие кудри Василька золотились заместо рассветных лучей, в низину не достающих. Он слегка покачивался из стороны в сторону и мурлыкал себе под нос давно позабытую братом и сестрой песню. Дневное светило поднималось всё выше, но никак не могло затопить светом тёмный овраг, в котором прятался дом, и туман, чуя, что время его на исходе, становился лишь гуще у нижней ступени крыльца.
– Василёк!
Брат не обернулся. Лишь, кажется, петь стал громче. Зато туман заполз ещё на ступень выше, почти коснулся пальцев на босых ступнях. Ирга распахнула дверь, та стукнула об косяк, но отчего-то не раздалось ни звука. Лишь песня продолжала звучать…
– Вас, пойдём домой! – взмолилась Ирга.
Она наклонилась, тронула брата за плечо. Тот качнулся ещё раз и замер. А у Ирги снова пересохло во рту. Туман, оплетающий ноги Василька, был чёрным. Да и не туман вовсе, а длиннющий змеиный хвост. Кольца сжимались, новыми и новыми петлями захлёстывали тело. Но Василёк словно не видел. Сидел, улыбаясь, и мурлыкал себе под нос.
– Вас! Василёк! Ва-а-а-ас! – Ирга трясла его изо всех сил, кричала и звала… – Вас! Вас, проснись! Проснись, пожалуйста!
Она заплакала и… проснулась.
Холодные слёзы царапали скулы и ныряли в уши. Она лежала на спине, вытянувшись стрункой и таращилась в потолок. Во рту было сухо от ужаса. Ирга хотела вскочить, но запуталась в одеяле и с грохотом свалилась на пол.
– Ирга! Живая?
Первое, что она увидела, – запертую на щеколду дверь. Потом ноги брата и обеспокоенное, круглое ото сна, лицо Звенигласки.
– Серденько, ушиблась?
Ирга натянуто улыбнулась – пересохшие губы треснули.
– Повернулась неловко, – соврала она. – Бывает же. Ровно дитё малое…
Голос у Ирги дрожал, а взгляда она никак не могла оторвать от ног брата. На икрах, пониже колен, темнели продолговатые синяки.
***
Наперво, Первак отослал дочерей к тётке, дабы не совали любопытные носы, куда не просят. После вызвал соглядатая – неприметного дедка усмаря, чтобы доложил, как ведёт себя чужак и чего требует. И, конечно же, чтобы получше рассмотрел покойника. Можно было б и самому сорваться с места, никто бы не осудил. Но прежде следовало понять, что сказать людям. Увидь яровчане, что староста напуган и растерян, как и все в селении, началась бы настоящая буря. А поскольку бури хотелось избежать, Первак решил поступить так, как поступает любой умный мужик – посовещаться с женою.
Шулла надоумила его повременить до утра с суетой. Она, как и супруг, спать не ложилась. Уснёшь тут, когда эдакое Лихо в Гадючий яр пожаловало! Да ещё и Костыль этот… Парня-то жаль, конечно, ну да разобрались бы как-нибудь. А вот что делать с колдуном?
Первак сидел в маленькой сторожке, поставленной во дворе нарочно для таких вот бессонных ночей. Здесь у него имелся и какой-никакой инструмент – руки занять, и припрятанная бутыль медовухи, дабы мысли привести в порядок. Накинув на плечи платок, Шулла спустилась с крыльца и уверенно направилась к кривоватой постройке, кокетливо укутавшейся орешником.
– Не идёт? – спросила она только чтобы завести разговор. И без того ясно, что колдун на поклон к старосте не спешит.
Первак пожал плечами, одновременно убирая в тайничок бутыль, но Шулла придержала его руку. Из-под тёплого платка вынырнули кружки – две штуки. Староста расслабленно выдохнул и позволил жене зарыться пальцами в его бороду, почесать да разобрать колтуны. Стало полегче.
Первую чашку Первак наполнил для зазнобушки, вторую для себя. Отпили. Помолчали. И, наконец, старосту прорвало.
– Это не он Лихо на шее принёс, это само Лихо привело к нам колдуна! Это ж надо, а? Вот только нам этого не хватало…
Шулла сделала большой глоток и отставила чашку, положила крупные ладони на мужнины плечи, размяла.
– Погоди бушуянить. Ещё только рассвет забрезжил. Авось придёт на поклон, как нормальный человек, и всё решите. И от колдуна может быть польза.
– От обычного колдуна, может, и была бы, – пробурчал Первак, но пробурчал, скорее, досадливо, чем зло. Всё ж трудно свирепствовать, когда любимая гладит да успокаивает. – Но то Змеелов…
– Да слухи это всё. Колдун он самый обыкновенный, каковых на двенадцать дюжина!
– Слухи на пустом месте не родятся…
– Зато плодятся потом что крысы. И поди пойми, которая первой уродилась. Дождись Змеелова да поговорите с глазу на глаз. Будет с него толк, сердцем чую, что будет.
От эдаких слов Первак едва не взвыл. Бывают на свете колдовки, бывают волхвы и пророчицы. А есть его жена. Что Шулла не скажет, всё наоборот делается. Сердцем чуяла, что носит мальчика – родила двух дочек. Чуяла тёплую зиму – ударили морозы. Ночь Костров она тоже пророчила мирную, а вона как повернулось.
– Может взаправду стоит переговорить. Ну как нормальный мужик окажется? – Калитка скрипнула, и обнадёженный Первак ажно приподнялся навстречу, но оказалось, то с ночной прогулки возвращается жирный полосатый кот. Староста схватился за кружку с мёдом, но к губам так и не поднёс, лишь стукнул ею со всей дури по маленькому столику и крикнул: – Ну так не идёт же, паскудник!
Медовуха расплескалась, попала на штаны и рубаху, Первак скорее стёр её, покуда жена не заметила, но пятна всё одно остались. Тогда Шулла отодвинула чашку подальше и уселась к мужу на колени – словно одеяло пуховое укутало! Мягкая и тёплая, она умела окружить мужа любовью что двадцать лет назад, что нынче. Разве что держать её стало самую малость тяжелее, но разве это беда?
Первак обхватил её насколько хватило рук и уткнулся носом в пышущую теплом, как тесто всходящее, грудь.
– И за что мне такая ноша… – устало пробормотал он.
Шулла обняла мужа в ответ, а того, что вторая чашка с медовухой полетела на землю, никто уже и не заметил. Она прошептала:
– Кому-то же надо её нести. Вместе управимся. Сердцем чую…
Змеелов не явился к старосте ни с рассветом, ни когда поднялись даже самые заядлые яровчанские лежебоки. Первак с женой успели приговорить медовуху, вздремнуть, проснуться, накормить и выгнать к пастуху скотину, проведать дочерей у тётки: не натворили ли чего? Но колдуна так и не было.
– Что же, – решил староста, поглаживая бороду, в которой прибавилось не так уж много седины за последние годы, – стало быть, пойду к нему сам. Чать ещё не старик, ноги не отсохнут. Если конечно, – Первак нервно усмехнулся, – колдун тому не поспособствует…
– Ну и сходи, – поддержала его Шулла. – И я с тобой схожу.
– Вот ещё! Мало мне одной напасти? А ну как сглазит?
Жена уперла кулаки в пышные бёдра. Туго сплатённая коса её лежала на высокой груди, хвостик покачивался из стороны в сторону, как хвост злющей кошки: сунься – задерёт!
– А с меня как с гуся вода!
Но жена у старосты имелась одна, притом любимая. Так что он крепко поцеловал Шуллу и велел:
– Дома сиди. Пойду мимо Аши – малявок домой отправлю. Ты их, главное, займи получше, чтобы ни продохнуть было. А то улучат момент, и побегут выяснять, откуда враки про Змеелова берутся.
Шулла поджала губы, но перечить мужу не стала. Всё одно ж потом у неё же совета спросит да всё расскажет.
А Первак тем временем переоделся в чистое, подумал-подумал, да и подвязал к поясу ножны с кривым доставшимся от деда-шляха мечом. Управляться с тем мечом, если по правде, он не умел, но слыхал, что всего сподручнее рубить, сидя верхом. Пожевал губами около конюшни, но тревожить старую клячу Берёзку не стал.
Усмарь Лаз к своим годам был слеп, как крот, но, вопреки этому, видел и знал побольше некоторых. Он донёс старосте о приплывшем на утлом судёнышке чужаке, он же рассказал про беду с Костылём и про то, что назвался чужак Змееловом. Едва Дневное светило вступило в свои права, Лаз же доложил, что обосновался Змеелов в доме покойника, ведёт себя как хозяин и убираться восвояси, как, впрочем, и просить у старосты дозволения остаться, не собирается. А коли так, пора уже и самому старосте что-то сделать, а не сидеть на месте. Первак вышел со двора.
– Утречко доброе, батюшка!
При виде Первака старуха Лая расплылась в такой улыбке, какую впору назвать оскалом. И, хотя она сама годилась Перваку в бабки, низенько поклонилась.
– И тебе доброго денёчка, бабушка. – Первак тоже поклонился. – А ты что здесь? Не ко мне ли? Дело какое?
Жила Лая на другом конце селения, почти у самого оврага, где после пропажи кукушки обосновалась добрая Айра, а ходила медленно. Чтобы застать старосту покидающим двор, ей пришлось бы самой подняться ещё до рассвета. Лая замахала руками.
– Что ты, Первак, что ты! Какое у меня может быть дело? Так, кости разминаю…
– Эка, что любопытство с людьми делает! – пробормотал староста.
– Что говоришь?
Первак повысил голос:
– Любопытно, говорю, помогает ли!
– А как же! – Лая подхватила юбки и подбежала к старосте, как молоденькая. И верно, помогает… – Ты мне лучше вот что скажи. Колдун-то к тебе приходил? Ответ держал?
Признаваться, что сам направляется к Змеелову, Первак не хотел, но врать был не приучен.
– Да вот, как раз проведать гостя иду. Узнать, с добром к нам али с худом.
– Как же это может быть с добром, если с него смерти и начались?!
Первак нахмурился:
– Смерти?
– Покамест одна, – старуха заговорщицки наклонилась, – но помяни моё слово: ыш-шо будут!
– Тьфу на тебя, дура, – беззлобно сказал Первак. – Коли заняться нечем, шла бы вон пастуху помогла. Скотина последние дни беспокойная, парень один не справляется. Всё больше проку, чем слухи разносить.
– Слухи на пустом месте не родятся, – прошелестела бабка, а Первак зарёкся когда-либо так говорить.
***
Змеелов нашёлся в избе покойника, как и донёс усмарь Лаз. Видно, ночка выдалась у него та ещё, потому что на окрик старосты никто не откликнулся, а когда Первак вошёл в дом без спросу, обнаружил, что колдун сладко спит на кровати Костыля, свернувшись калачиком, как младенец. Из-за занавески в женской половине доносилось ровное сопение: то никак не могла очнуться от колдовского сна бедная Блажа. Ну да ей и лучше проспать то, что увидал Первак. Покойник, нагой и искорёженный, да к тому ж со вспоротой грудиной, лежал на столе. В избе витал дух смерти, крови и тухлой воды.
Кто знал Первака давно, мог бы сказать, что мужик он тихий да мирный. Но лишь до тех пор, покуда не случится несчастье. Тут-то он за своих становился горой, борода его, с редкими седыми волосками, по-боевому топорщилась, а голос набирал силу. Так вышло и на сей раз.
– А ну, кого это Лихо привело в Гадючий яр?! – гаркнул он. – Ишь, разлёгся!
Он ударил по ставням, кем-то заложенным на ночь, и в дом сразу хлынул свежий солнечный воздух. Кажется, даже мертвец вздохнул с благодарностью вспоротой грудью.
– Ты что творишь, нелюдь?!
Первак было кинулся к колдуну, готовый схватить его за грудки, но тот успел не только проснуться, но и неслышно встать и прикрыть балахоном искорёженное тело.
– Ты что ли староста? – зевнул Змеелов.
– А ты что ли колдун? – не остался в долгу Первак. – Что творишь? Без спросу и дозволения, без благословения волхвы!
Колдун перебил:
– Тебе уже всё донесли или рассказать что?
– Что мне донесли, не твоего ума дело. Рассказывай за себя.
Змеелов хмыкнул: рассказывай так рассказывай.
– Кто я такой, ты знаешь.
Первак кивнул. Кто не знает Змеелова? Вот только о том, что до минувшей ночи считал странствующего колдуна выдумкой, он умолчал.
– Три дня назад я узнал, что в Гадючьем яре проснулась смерть.
– Как узнал? Три дня назад мы к празднику готовились, даже волхва дурного не чуяла.
– Как узнал – не твоего ума дела. – Колдун потянулся до хруста суставов, рубаха задралась, обнажая впалый бледный живот, изрезанный шрамами, и низ торчащих рёбер. – Узнал – и всё. Я спешил. Но обогнать гадюку мне не удавалось ещё ни разу, не удалось и теперь.
– Враки. Ты явился на остров, и сразу нашёлся труп. Откель нам знать, что не ты сам Костыля и убил?
Змеелов ошалело моргнул, обернулся на стол с покойником и моргнул ещё раз. Видно, такая мысль ему в голову не приходила.
– Потому что, убей его я, вы бы не нашли трупа, – просто ответил он. – Ну и ещё…
Змеелов окинул старосту испытующим взглядом: достаточно ли крепок желудком? Пожал плечами и махнул, пойдём, мол. Открыл лицо покойника, на всякий случай, не убирая балахона с грудины, и с усилием повернул голову Костыля. Две точки от укуса, едва заметные с вечера, на впалой щеке проявились сильнее, вокруг каждой виднелся синий ореол. Староста осенил себя защитным знаком.
– Змеи местных не трогают…
– Это была не змея. Это была змеевица.
– Щур, вырви тебе язык! – Но щур просьбу не выполнил, и тогда Первак дёрнул себя за бороду, выдёргивая несколько волосков. Растерянно посмотрел на них, хотел швырнуть на пол, но поостерёгся и бережно спрятал в карман. Мало ли, колдун подберёт? Едва слышно он прошептал: – Нет в наших краях змеевиц! Нет и не было никогда! Да и существуют ли – бабушка надвое сказала!
Колдун времени зря не терял. Успел засучить рукава и умыться из небольшой бадейки в углу комнаты, пригладил вечно спадающие на лицо волосы, но те упрямо вернулись на место. Казалось, он вовсе не слушает бормотание старосты, однако выяснилось, что не упустил ни слова.
– Угу, и всех тех, кого я уже выследил и убил, тоже бабушка насочиняла. Ты небось до сегодняшнего утра и меня выдумкой считал, однако ж вот он – Змеелов. Стоит пред тобой и… – Голодное урчание в животе прервало ядовитую речь, и колдун закончил, задумчиво почесав рёбра: – И, честно говоря, жрать хочет как собака.
Не обращая внимания на Первака, он уже привычно полез по котелкам да кладовкам. Аппетит у Змеелова был знатный: всего-то ночь провёл в доме Костыля, а проредить запасы снеди успел всерьёз. Староста сцепил зубы. Ни поклона, ни спроса дозволения остаться он от колдуна не дождался. Ошиблась Шулла, толку с такого гостя не будет.
– Вот что, – решил Первак. – Сядь да послушай, что скажу.
Окорок, припрятанный в дальней части кладовки, заинтересовал колдуна куда как больше. Он выволок его в кухню и уселся, как было велено. Правда, уселся не на лавку, куда указывал Первак, а за стол, к покойнику. Ещё и локтями подвинул тело, освобождая место для еды. Достал нож и принялся строгать мясо. В Гадючьем яре так только рыбу жрали: большими кусками, не разжёвывая. К чему беречь, если уж чем-чем, а рыбой остров не обижен? Мясо же берегли, доставали по праздникам и резали тоненько-тоненько, чтобы надолго хватило. Первак ажно слюну проглотил от зависти. А колдун, нахально чавкая, указал кончиком ножа на вторую лавку у стола.
– Ну? Говори что хотел.
Сесть подле мертвеца не осмелился бы не то что староста, а и вообще никто. Разве что старая Айра при жизни не боялась и любила говаривать, мол, от покойников урону меньше, чем от живых. Но и выказать испуг никак было не можно.
Первак встал подле лавки и скрестил руки на груди.
– Вот что, милчлавек…
– Вали-ка ты подобру-поздорову? – со смешком перебил его колдун.
Первак нахмурился. Терпение его иссякало скорее, чем вода в Мёртвых землях, о которых рассказывал дед.
– Да, – кивнул он. – Вали-ка. Гадючий яр – остров особенный. Мы здесь все друг за друга держимся и со своими бедами тоже привыкли справляться сами. Без чужаков. Тем более, без таких чужаков, как ты.
– Так уж и держитесь? – сощурился Змеелов.
– Да. Мы – семья. А в семье всякое случиться может. И склоки, и ссоры, и…
– Убийства?
Первак запнулся, но твёрдо закончил:
– И виновника, коли он имеется, мы тоже найдём сами.
Змеелов выслушал, подчёркнуто медленно прожевал и проглотил. Выпуклый кадык на его тощей шее судорожно дёрнулся вверх-вниз.
– Нет.
– Что?
– Нет. Я поймаю змеевицу и убью.
Первак побагровел.
– Кого убивать на нашем острове, мы решим сами! И помощники нам не надобны!
На что колдун спокойно ответил:
– А я и не помощник. Я Змеелов. Я ловлю змей. Не для вас. Не для покойников. Для себя. И я уйду тогда, когда посчитаю нужным. – Он внимательно оглядел старосту. Первак, хоть и был крепок и силой не обделён, отчего-то поёжился. – Или ты попробуешь меня вышвырнуть?
– Убир-р-райся!
– И не подумаю.
– Здесь тебе не будет ни дружбы, ни подмоги. Змеевицу не поймаешь и сам сгинешь! Остров тебя не примет!
– С островом я как-нибудь договорюсь. А друзей мне и подавно не надо. Тем паче из вашего болота.
Тут-то староста и сорвался. Мирным и тихим его знали лишь те, кто не додумался слова худого сказать о месте, где прижился Первак. А место это он любил всем своим огромным сердцем. Руки сами собой сжались в кулаки, а тело бросилось вперёд. Позабыв про меч у бедра, он замахнулся и ударил… ударил бы. Да только в глазах колдуна – чёрном и белёсом, слепом, – вспыхнули зелёные искры. Он не вскочил, не отклонился. Битвы Змеелов не принял. Лишь взмахнул рукой, как будто комара сгонял. Казалось, не коснулся даже летящего в него кулака. Однако рука до самого плеча у старосты отнялась и потяжелела. Тот едва не упал с непривычки. А колдун отрезал себе ещё пласт мяса и, запрокинув голову, медленно погрузил в глотку.
– Уйду тогда, когда сам пожелаю.
Мало кто может выглядеть устрашающе с набитым ртом. Змеелов – мог. Первак баюкал отнятую руку и гадал, вернётся ли та к нему или теперь придётся заново учиться лапти плести левой. Он бессильно крикнул:
– Не будет тебе здесь ничего! Ни встречи, ни доброго слова ни… – униженный, он вцепился в остатки окорока, – ни жратвы!
Закинул кость на плечо, как дубину, и выскочил во двор. А Змеелов положил подбородок на сцепленные пальцы и задумчиво протянул в закрывающуюся дверь:
– Вот разве что последнее меня и напугало.
***
С крыльца староста скатился кубарем и едва не сбил идущего ему на встречу Василька.
– А ты здесь откель?! – рявкнул он, но, узнав сосельчанина, смягчился. – Тьфу, Вас, ты?
– И тебе не хворать, – хмыкнул Василь. – Что, с колдуном уже познакомился?
Староста крутанул торсом – отнятая рука заболталась что верёвка.
– Как видишь! Вот уж не думал, что меня в мои-то годы из дому будут вышвыривать что щеня обмочившегося!
– Ну зато хоть не с пустыми руками… Рукой, – хохотнул Вас.
Только тут Первак понял, что шёл Змеелову показать, кто в Яре за главного, а убрался, один окорок отвоевав, да и тот почти что съеденный.
– От нелёгкая! – Он плюнул под ноги и впихнул обстугыш Василю. – Он мне и не нужен был. От вредности забрал… А ты чего к… этому? Неужто успел уже, погань колдовская, что-то натворить?
Василь смущённо почесал правую руку. Та, хоть и двигалась, но слушалась пока хуже левой.
– Да это как сказать… Я тётку Блажу забрать. Негоже ей в доме с покойником. Пусть бы у нас пожила…
– Это где интересно? Вам троим и так места не хватает, а скоро четвёртый… А знаешь, что? – Первак обернулся на избу покойного Костыля. Изба у него была не сказать что дивно богатая, но поболе Василёвской. Да и за безумной Блажей, оставшейся без сына, присмотр нужен. Он заговорщицки поманил к себе Василька. – Мы лучше вот как сделаем…
***
Имелась у Василька привычка. Дурной её не назвать, скорее даже дельная. Вставал он всех первее, ещё петухи, и те сонно клонили головы, зато Василёк уже и траву накосит, и коней из ночного пригнать поможет, и дров наколет. К вечеру, ясно, первым и носом клевать начинал, но зато хозяином в доме был – залюбуешься!
Ирга же, напротив, ночью при светцах и шила, и вязала, и посуду мыла. Иной раз и светец не нужен был – глаза привыкали к темноте, работалось легко и радостно. Звенигласка всё дивилась: как это брат с сестрой, а словно на разных концах земли выросли?
Словом, когда Ирга свалилась с печи из-за дурного сна, Василёк уже вовсю хлопотал по хозяйству. И, пока сестра толком проснулась, успел убежать ещё по какому-то делу. Потому, пропалывая грядки вместе со Звениглаской, Ирга нет-нет а поглядывала через забор: не мелькнёт ли рыжая макушка?
В их овраг дневное светило приходило поздно, работать было свежо и в полдень, и после, когда остальные яровчане потихоньку прятались в тень. Но то ли дурной сон сказался, то ли то, что добрую половину ночи Ирга провела с колдуном, боясь не то что сказать лишнего, а и вдохнуть, работа валилась из рук. От Звенигласкиного труда тоже толку было мало: ни наклониться из-за необъятного пуза, ни ведро с водой принести. Знай оттаскивала охапки сорной травы. Но и тут оказалась не ко двору.
– Ох!
Беременная сморщилась и схватилась за живот, сорняки так и полетели на землю. Ирга, наперво, вскочила поддержать Звенигласку под локоть, и потом только досадливо выругалась:
– Сказано ж было, дома сиди! А ежели разрешишься мне посередь двора, что делать будем?!
Что было страшнее – роды в неурочный час, не под крышей и без мужа или само явление племянника на свет – Ирга ответить потрудилась бы. Нутром только чуяла, что грядёт нечто, что навсегда лишит её и брата, и родного дома. Звенигласка же знай улыбалась и ласково наглаживала живот.
– Не пугайся, серденько! Толкается Соколок. Хочешь потрогать?
Она взялась за запястье Ирги, но та в ужасе вырвала руку. И, озлившись сама на себя, рявкнула:
– Молчи, дура! А если имя нечистик какой услышит? Себя не бережёшь, так ребёнка побереги!
По-хорошему, вне защиты родных стен и вовсе не следовало говорить, что баба в тяжести. Лихо незряче, зато слух у него – обзавидуешься! И поди потом выпроводи, коли прицепится… А Звенигласку разве заставишь молчать?
Но того больше Иргу напугало другое. Ну как Змеелов ночью сказал правду? Что если Ирга и впрямь переняла колдовской дар? Не от Айры, нет. Добрая старушка всем хороша была, каждому помогала и враки сказывала – заслушаешься! Но дар её был светлыми богами даден, а никак не Безлюдьем. И белые ленты на дереве, что выросло на болотах, лучше всего то доказывали. Но что если мать, которую Ирга и не помнила толком, не просто исчезла, а оставила после себя наследство? Что если отец, которого брат с сестрой в глаза не видали, хранил страшную тайну? Что если Ирга – колдовка? Не ровен час, навредит племяннику, сама того не желая. Или желая?
Звенигласке до тяжких Иргиных дум дела не было, в её светлой головушке чёрные мысли не задерживались. Она виновато улыбнулась.
– Я присяду… Отдохну маленько. – И вдруг позвала так отчаянно, как будто силилась докричаться до другого берега озера: – Ирга!
Рыжуха поспешила вернуться к работе. На Звенигласку она старалась не глядеть и откликнулась едва ли не со злостью:
– Ну чего тебе ещё?
– Спасибо… – стушевалась Звенигласка. – За… за всё спасибо.
Ирга махнула рукой, дескать, не до тебя. А сама подумала, что хорошо бы Гадючий яр проглотил её, как болото глотает покойников. Авось тогда сердце не рвалось бы на части.
А Звенигласка возьми и завой! Крупные слёзы покатились по щекам, небесно-синие очи заволокло тучами. У Ирги сердце сжалось: вспомнила, как вытаскивала из мутной водицы скулящий грязный комочек, над которым надругался не человек даже, а самый настоящий нелюдь. Это ж каким зверем надобно быть, чтобы зажечь в круглых наивных глазах пламень ужаса?
Ирга и не поняла, как метнулась к ятрови, как прижала её зарёванное лицо к груди. Всё ж они с Васильком, хоть и разные были, а из одной утробы вышли, и оба супротив Звенигласкиных слёз ничего сделать не могли… А та вцепилась в Иргин сарафан, словно рыжуха сбежать чаяла, и, глотая рыдания, выдавила:
– Прости меня, серденько! Прости дуру-у-у-у!
– Ну что воешь, что? Не ровен час, соседи сбегутся, решат, режу тебя!
Как так вышло, Ирга и сама потрудилась бы сказать, но скоро они со Звениглаской уже сидели подле узловатой старой яблони, что давно не приносила здоровых плодов, но срубить её не поднялась бы рука ни у Ирги, ни у Василя. В детстве они с братом прятались от Айры в её ветвях, коли натворили чего, а иной раз и вовсе залезали просто так, поболтать босыми грязными ступнями, рассказать друг дружке, какие мысли в голове роятся и о чём мечтается. И вот теперь в тени этой самой яблони Ирга баюкала затихающую Звенигласку, гладила по русым волосам и шептала:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71468332?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Здесь в значении невестка
2
Племянник, сын младшего брата
Даха Тараторина
Ходят враки, что рождён он самим туманом.
Что мёртвый глаз его видит Безлюдье, а сердце, скованное железом, не гонит по телу горячую руду.
Что ходит он по свету неприкаянный и во всяком селе, где заночует, скоро сбивают похоронные короба.
Девки его боятся – страсть! Коснётся – проклянёт, навек в перестарках оставит!
Всюду встречают его как гостя желанного, но плюют вослед да вешают рябину над окнами, куда заглянул мёртвый глаз.
Люди нарекли его Змееловом.
ЦИКЛ ОДНОТОМНИКОВ ВРАКИ
"Хозяин болота"
"Йага"
"Лихо"
"Крапива"
"Змеелов"
КНИГИ МОЖНО ЧИТАТЬ ОТДЕЛЬНО И В ЛЮБОМ ПОРЯДКЕ
Даха Тараторина
Змеелов
Глава 1. Приживалка
Остров не зря стоял на спине старой жабы. Топкие берега его дышали густыми туманами, испещрённое бородавками бочагов и омутов тело источало прохладу с ранней осени и почитай до самой серёдки лета, а пришлецу, не ведавшему тайных запруд да проток, подобраться к Яру и вовсе было не суждено.
Гадючий яр – так прозвали остров соседи. Оттого что крутые обрывы перемежались на нём глубокими оврагами, оттого, что змей на острове водилось видимо-невидимо, и оттого, что змеи, как врут бабки, испокон веков не трогали тех, кто вырос на болотах. Болот на Гадючьем яре тоже было едва ли не больше, чем твёрдой земли. Оно и промышляли местные не пашней, а охотой, рыбалкой да мастерством. Ясно, что людей светлых да ласковых подобный край родить не мог. Про выходцев с острова на большой земле так и говорили: с Гадючьего яра выбрался, да так гадюкой и остался.
В остальном же остров был как остров. Рыбачили, клюкву собирали, изредка торговали. Да и с соседними деревеньками, чьи леса темнели близёхонько, дитёнок на лодке осилит, на ножах не были. И, конечно, веселились во славу богов в отведённые для того дни. Все веселились: стар и мал, хил да удал, улыбчивые красавицы и… Ирга.
Как бы так сказать, чтоб не обидеть кукушонка?
Вот, к примеру, случается, что девка выходит во двор, и будто бы солнышко светит ярче, соловьи заливаются, а скотина, предчувствуя добрую хозяйку, призывно подаёт голос. Бывает и так, что девка, вроде, ладная-складная: медны косы до пояса, глазища что изумруды, стан гордый да шаг твёрдый… А соседи разве что не плюются ей вослед! Немудрено. Рожаница жестоко пошутила над девочкой: поцеловала в лобик, одаривая красотой, а после возьми да и дёрни за язык! Так Ирга и осталась. Вроде собою хороша, а смолчать невмоготу! Вот и то утро сразу пошло наперекосяк. Ждали большой праздник – Ночь Великих Костров. А к празднику, вестимо, и воды надобно натаскать, и угощение сготовить, и избу украсить… Суетились, бегали кто где. Ирга со всеми вместе носилась, понёвы не просиживала. Ну и проскочила мимо соседки, не отвесив поклон да доброго дня не пожелав. Впрочем, не приближайся праздничный час, она с вредной бабкой всё одно лясы точить не стала бы, но тут, вроде как, и упрекнуть не в чем. Однако ж соседка прошипела девке вослед:
– У-у-у, гадюка!
Кто другой шёл бы себе и шёл до колодца, но Ирга воротилась, спустила коромысло с плеча, уперла руки в бёдра и в упор поглядела на бабку.
– Ну-ка повтори!
Старуха пожевала губами, раздумывая, стоит ли до полудня затевать спор, но в удовольствии себе не отказала и чётко повторила:
– А я говорю! Гадюка и есть!
Девкин прищур добра никому не сулил. Зелены очи так и сияли – ну чисто колдовка! Однако Ирга в Гадючьем яре выросла, и соседка, ещё в малолетстве гонявшая рыжуху со двора, не убоялась.
– А ежели я сейчас тебе ведро на голову нахлобучу и как дам! – пригрозила Ирга.
– А ну давай! Поглядим ещё, кто кого! – засучила рукава старуха. – Где ж это видано, чтоб ни поклониться, ни доброго слова молвить! Али я тебе чужой человек?
– Угу, – поддакнула девка, – такой родной, что вчера два кочана капусты едва со двора у нас не увела!
Соседка присела от неожиданности: ишь, глазастая девка! Да уж не она ли спустила с цепи старого пса, спугнувшего горе-воровку? Сорвала с головы платок, дабы видом седых жиденьких волос устыдить нахалку.
– Ты что это такое говоришь?! Это что же, я?.. Меня?! Люди добрые, вы послушайте только!..
– А и правда, – согласилась Ирга и тоже повысила голос: – Люди добрые! Вы послушайте, кто к нам вчера ввечеру в дом залез!..
– Ты что?! Молчи, молчи!
Бабка не то замахала на Иргу платком, не то попыталась хлестнуть, но та только оскалилась.
– И верно, вора-то я сама не видала. Зато слыхала, как кобель его в пыли повалял. Небось ещё и покусать успел. А что, бабка Лая, отчего левую ногу бережёшь? Прищемила где?
– Да как смеешь! Ты! Перестарок недоделанный! Сидишь на шее у брата, так ещё его добро считаешь!
Ирга всерьёз подумала, что ведро на голову вредной бабке надеть всё ж не помешает. Знала, гадина, как побольнее ужалить! А тут ещё – вот насмешка богов! – Василь и сам выглянул на шум из избы да поспешил к спорщицам.
Лая сразу в лице изменилась: пригладила волосы, повязала обратно платок, губы в улыбке растянула – ну чисто волхва Небесных прях!
– Василёчек, отрада моя! – залепетала она. – А я спрашиваю, чего это тебя не видно? Неужто прихворнул?
– И тебе доброго утречка, соседушка!
Поравнявшись с женщинами, Василь отвесил низкий поклон, а старая Лая победоносно зыркнула на Иргу поверх его спины. Ирга же не преминула сложить бабке шиш.
– Вашими молитвами! – ровно ответил брат. – А вы как, бабушка? Ни стреляет ли спину? Ни… – он сделал едва чутную паузу, – болят ли ноги?
Лая вперилась в соседа внимательным взглядом, но тот так тепло улыбался, так ясно сияли его очи, что и подумать не можно, чтобы насмехался!
– Годы своё берут, годы, милок, – пробормотала она, отступая. – Пойду, недосуг мне с вами…
Василь поклонился ещё раз, не отрывая от бабки внимательного взгляда зелёных глаз, и ещё долго махал вослед, когда та ненароком оборачивалась.
Они с Иргой стояли рядом не то похожие как две капли воды, не то разные, как пламень и лёд. Одна колючая, ершистая, языкастая, второй улыбчивый и добродушный, отродясь не сказавший никому худого слова. Рыжие, зеленоглазые – в мать. Один подвижный и резкий, другая медлительная и плавная. И никого-то в целом свете у них не было, кроме друг друга.
Василь, не убирая улыбки с лица, попенял сестре:
– Ну что ты опять?
– Я?!
– Дорогу ей не уступила? О здоровье не справилась?
– Не всё ли равно? – огрызнулась Ирга. Карга всегда находила, чем бы остаться недовольной. То на неё не посмотрели, то, напротив, слишком долго разглядывали. Ирга нехотя буркнула: – Не поклонилась.
– И что, жалко, что ли? Пополам развалилась бы?
– Может и развалилась бы. Я не ты – всем угождать.
– А я не ты – со всеми ссориться.
Василь пожал плечами и направился домой. Но напоследок бросил:
– А кобеля вчера я на неё спустил. Неча…
Ирге вдруг захотелось расплакаться и броситься брату на шею, как случалось в детстве, если кто обижал кукушат. Но она сдержалась. Детство давно минуло, и нынче… Девка сцепила зубы. Нет, это раньше они друг у друга были вдвоём. Нынче иначе. И склочная бабка разозлила её так сильно оттого, что баяла правду: Ирга и верно сидела перестарком на шее у младшего брата. Смех да и только.
Она закинула коромысло обратно на плечо и двинулась к колодцу.
***
Если есть в подлунном мире праздник, что так или иначе встречается у любого народа, от Северных земель до Мёртвой шляховской степи, то это Ночь Великих Костров. По-разному эта ночь зовётся, по-разному рассказывают враки о том, кто разжёг первый пламень, но суть одна: в серёдке лета, когда солнышко припекает всего жарче, а урожай входит в силу, напитываясь материнской любовью почвы, вспыхивают огни. Сладко у тех огней, тепло, светло! Иной раз злые враги примиряются в их медовом зареве, союзы заключаются, зачинаются дети, коим суждено нести свет в мир.
Ирга и Василь сызмальства ходили на Ночь Костров рука об руку. С тех самых пор, как не стало матери, а бабка поставила их перед собою и сказала:
– Берегите друг друга, кукушата! Мир большой, но брат сестру, а сестра брата всегда отыщет и всегда выручит!
С этими словами старая Айра вручила им по тлеющему угольку в глиняном черепке – накормить божественный пламень – и отправила на праздник.
Через год от того дня не стало и Айры, а Ирга и Василь в самом деле остались друг у друга одни. Много воды с тех пор утекло, много случалось ссор и недомолвок, но в назначенный день они всегда нагребали угольков из устья печи, брались за руки и шли к кострам. Пока однажды в их дом не пришла, откуда не ждали, Беда.
Ирга сидела у окна и правила погнувшиеся от времени височные кольца на очелье. Кольца были простенькие, медные, хлипкие. Никогда они с братом не голодали, но и дорогого убора али шелковых тканей в доме не водилось. Она сидела и смотрела исподлобья на свою Беду. А та знай сюсюкала с Василём: то кисельку ему поднесёт, то обнимет. Никак не уймётся! Беда ходила уже с трудом, переваливаясь с ноги на ногу, как бокатая кошка. Немудрено: девятый месяц на сносях! А всё норовила то посуде новое место, поудобнее, отыскать, то кашу сварить не как Ирге привычно, а как повкуснее. Беда носила имя Звенигласка. Голос её взаправду звенел ручейком, особливо когда ятровь[1 - Здесь в значении невестка] вечерами вышивала под окном, на том самом месте, где сидела нынче Ирга, и песня летела до самого края острова и стелилась над озером. Ирга ненавидела Звенигласку. А ещё боле ненавидела чадо, которое та принесла в их дом.
Дело было недавно, и года не прошло. Лето выдалось холодное и дождливое, туманы густые и пахучие, а от сырости люд был зол и напуган. Это островные могут рыбой да морошкой промышлять! А коли погниёт пшеница на большой земле, сколько деревень останется без пищи! Потому, как слыхала Ирга, у соседей случилось немирье. К осени меж селениями завёлся разбойный люд, а нередко целые деревни поднимались и шли на соседей с железом, так страшен был надвигающийся голод. Что удавалось, забирали друг у друга силой, и платили за отвоёванное не монетой, а горячей рудой. Совались даже в Гадючий яр, да уходили несолоно хлебавши: дважды вороги не находили протоков, чтобы провести лодки, а раз плутали так долго, что местные успели собраться и встретить неприятеля вилами. Но то Яр, его сама матушка Жаба защищает. Другим же боги благоволили меньше.
В тот день, верно, небожители и Ирге не благоволили. Поздняя клюква едва успела покрыть дно новенького лукошка, сплетённого Василём. Брат был мастер на все руки, и рыжуха больше думала о том, как удобно легла на локоть рукоять, чем о том, чтобы наполнить туес. И вдруг – скулит кто-то. Да так жалобно! Какие уж тут ягоды?
– Никак зверь в силках запутался, – решила девка и пошла на звук.
Знай она, что сделается дальше, бросилась бы со всех ног прочь! Но разве небесные пряхи открывают судьбу тому, кого обвивает их тонкая нить?
В камышах у протоки застряла лодчонка. Плохонькая, кривенькая, подтекающая. В Гадючьем яре, где каждый первый жил рыбным промыслом, таких не держали даже детям – смех, а не лодчонка! Уж не пристал ли к берегу недобрый люд?
Но подул ветер, посудина зачерпнула левым бортом воды, а камыши наподдали с правого, и лодчонка начала медленно тонуть. Куда уж тут думать? Плач стал маленько тише, но не умолк. Тот, кого принесло Лихо к берегу, не мог либо не хотел выбираться. Ирга облизала пересохшие губы и, осторожно ступая по кочкам, чтобы не увязнуть в топи, подобралась к камышам. Протянула руку – не достать! Отломила ветку и шлёпнула ею по задравшемуся носу посудины.
– Эй, кто там? Зверь али человек? – как могла грозно спросила она.
Скулёж стих, а после на днище кто-то завозился, от чего судёнышко лишь быстрее пошло тонуть. Ирга приказала:
– Вылазь! А не то хуже будет!
Но вместо того, чтобы подчиниться, человек, а Ирга уже не сомневалась, что в лодке прятался никакой не зверь, перевалился через борт и… целиком скрылся в реке. Только вода забурлила!
– Чтоб тебя Щур драл! – выругалась рыжуха и кинулась следом.
Чужаки Гадючий яр не любили ещё и за то, что причалить, не зная места, было никак не можно. Берега сплошь топкие, болотистые. Станешь не там – провалишься в бочаг. А оставишь судно без присмотру, речные духи утянут на вязкое дно – не сыщешь. Так вышло и на сей раз. Недолго лодчонку удерживали на поверхности камыши, но куда им справиться с непосильной тяжестью! И вот теперь русалки пускали со дна пузыри и веселились, деля добычу – лодку и человека. Да и пусть бы им! Что Ирге неизвестный чужак? Но словно толкнул её кто под колено, и вот уже девка сама – бултых!
Грязная вода, густая, что кисель, полилась в рот и уши, илистое дно заглотило ноги до коленей. Тьма пеленою заволокла глаза: где погибель, где спасение? Второпях девка и воздуха в грудь набрать не успела, и теперь всё нутро жгло огнём. Хлебнёшь мутного киселька – навеки мертвянкой останешься. Станешь топить лодки да зазевавшихся рыбаков, плести косы из ивовых ветвей и туманов, играть на рогозе, как на свирели… Страшно!
«Выручай, бабушка!» – мысленно взмолилась Ирга.
И будто бы ответила из Тени добрая старушка! Протянула руки, в посмертии украшенные белоснежными лентами: хватайся, внученька! Ирга схватила, что схватилось, и всем своим существом потянулась к тусклому солнцу, ворочающемуся за тяжёлыми тучами.
Как выбиралась из топи сама и как волокла за собою спасённого, Ирга по сей день уразуметь не могла. Однако ж страх подстегнул, и сил хватило что на первое, что на второе. Лишь спустя время, очухавшись и извергнув из себя бурую воду, девка разглядела, кого ради чуть не утопла.
Девка! Почти девчушка: маленькая, сжавшаяся в комочек, оборванная. И нет бы поблагодарить! Безучастно глядела на спасительницу, словно ей дела не было, на этом она свете или на том.
– Как… – За хрипом Ирга собственного голоса не узнала. Прокашлялась, утерлась мокрым рукавом и спросила снова: – Как звать тебя?
Девчушка медленно-медленно моргнула, и лишь тем она в тот миг отличалась от мертвянки. А после поворотилась на другой бок.
Ирга села, обхватив колени, и долго глядела на клубы тумана, парящие над спокойной гладью воды. Не выберись они на берег, туман плыл бы дальше, а отдалённый плеск вёсел всё так же тревожил пелену тишины. И лишь на двух глупых девок в этом мире стало бы меньше.
– С большой земли сбежала? – угадала Ирга.
Но девчушка не пошевелилась.
– Обидел кто? Эй?
Едва ладонь легла на плечо бедняжки, та забилась, как в падучей, беззвучно разевая рот, а после, когда силы покинули её, свернулась калачиком плотно, как ёж
. Но глазастой Ирге хватило времени разглядеть порванное платье, ссадины на зарёванном лице и продолговатые синяки на запястьях и ногах. Больше она у девчушки ничего не спрашивала. Впрочем, желающие на это дело и без неё нашлись: заслышав возню, к берегу направили лодки рыбаки.
Ершистую Иргу и саму по себе в Яре не жаловали, а тут ещё и чужачка! Словом, перво-наперво мужики решили, что это само Лихо в человеческом облике к ним пожаловало, и, не то в шутку, не то всерьёз, предложили забить девок вёслами.
– Я тебе это весло знаешь, куда засуну? – негромко спросила Ирга.
С земли она не поднялась, да и видок после купания был так себе, зато взгляд твёрдый, а голос ровный, хоть и тихий. И почему-то занесённое весло Дан, внучок бабки Лаи, опустил.
– В воду её и дело с концом! Нечисть она, как пить дать! – ткнул длинным пальцем в чужачку долговязый Костыль. – Вернём туда, откуда явилась!
Ирга осклабилась:
– А ты дурак дураком, давай тебя теперь мамке между ног обратно засунем!
Остальные трое мужиков оказались подальновиднее. Отправив гонца за старостой, они сгрудились вокруг девчушки и нашли, что не так уж она мала, как показалось наперво Ирге, и что хороша собой.
– Небось свои же и поваляли, – заключил Дан и недобро усмехнулся: – Напросилась, а опосля в рёв. Знаем мы таких. Эй! – Он наклонился и за подбородок повернул чужачку к себе лицом. – Кому тебя возвращать-то?
Девка и без того была полубезумная и либо молчала, либо скулила, не в силах толком объяснить, что стряслось. Но тут её словно ужалил кто – кинулась вперёд да как вцепится зубами Дану в самый нос!
Тот в крик!
– Что творишь?! Я тебе головёнку-то ща как откручу!
И от того Дану было обиднее, что друзья и Ирга, на него глядючи, заливисто смеялись. Хотел сорвать злость на пленнице, замахнулся… Но тут уже рыжая встала перед ним стеною:
– Только тронь! Крысу голодную тебе в портки засуну! Снова.
Дан и без того Иргой был обиженный, но то дело прошлое. Потому взревел медведем:
– Поговори мне ещё, ты!
Пока брехались, судили да рядили, сыскались и староста с женой. Да не одни, а в сопровождении доброго десятка селян. Лодки выныривали из тумана. Первая, вторая, третья – всем охота посмотреть, от чего суматоха!
Явился и Василь. Он стоял на носу старостиного челнока и высматривал сестру. Стоило разглядеть его, как к Ирге мигом вернулись силы. Она замахала, ажно привставая на цыпочки:
– Ва-а-а-ас! Вас! Васи-и-и-илё-о-о-ок!
Напряжённое ожидание слетело с лица парня. Об том, что что-то с сестрой сталось, он услышал, но подробнее гонец не рассказал, а того больше додумал, потому готовился Вас к чему угодно. Да и Ирга, зная её, могла натворить дел, что не расхлебаешь… Однако стоит, живая-здоровая, хоть и чумазая. Стало быть, Лихо обошло их двор стороной.
Пристав к берегу, Василь легко перемахнул борт и заключил сестру в объятия. Ласково убрал рыжие пряди, налипшие на грязный лоб.
– Ну что учудила, сказывай?
Ирга шутливо ударила брата кулаком в плечо.
– А что сразу я?
Слово за слово, выяснили, что к чему. Жена старосты, похожая на толстую величавую крольчиху, даже узнала вышивку на рваном подоле чужачки.
– Из Кардычан она, точно говорю. Кума моя оттуда, такую же понёву носит. Ты как, милка, Кардычановская? – повысив голос спросила она. – Никак беда какая приключилась?
Кто-то припомнил дым, поднимавшийся за лесом на большой земле несколько дней назад. Кто-то взялся осмотреть чужачку и, хоть та не далась, заключил:
– Попортили её, зуб даю.
Кто-то сделал отвращающий знак, чтобы Лихо, принесённое пришелицей на шее, не перепрыгнуло на новый насест.
– Домой бы её отвезти…
– Да ты погляди на неё! Кому она такая дома нужна? Мать с отцом погонят, да и правильно сделают! – спорил люд.
Староста пригладил бороду-лопату и задумчиво переглянулся с женой.
– А и есть ли, куда возвращать… – пробормотал он, накручивая ус на палец.
Девчушка от этих речей едва ли не под землю зарылась. Сжалась в комочек, старалась сидеть тихо, как мышка, надеялась, что ещё маленько постарается – и вовсе пропадёт. А Яровчане только плотнее обступали её со всех сторон.
Ирга ждала, чтобы девчушка сорвалась и, как до того на Дана, напала на кого, кто поближе стоит. Но первым не выдержал Василь. От рождения добрый да глупый, он растолкал односельчан, поднял девицу на руки да понёс к ближайшей лодке. И чужачка, вопреки ожиданиям, не забилась в его объятиях, а затихла и уснула прежде, чем Ирга тоже запрыгнула в судно.
– Серденько! Серденько? Ирга!
Девка вздрогнула и едва не кинулась на Звенигласку, как та на Дана по осени. Она стряхнула ладонь ятрови с плеча и тут только заметила, что наново погнула очелье, которое так долго правила.
– Задумчивая ты, Ирга. Молчаливая…
– Тебе что с того?
Звенигласка вперилась очами в пол. Этими-то очами Василь перво-наперво и начал грезить: огромные и с длиннющими ресницами, что у коровы. У Ирги-то, да и у самого Василя глаза были что щёлочки, да к тому ж изогнутые, как у лисицы. А у Звенигласки круглые и синие, как озерцо лесное. Или как васильковые головки посреди пшеничного поля. По малости Василёк спрашивал, отчего мать нарекла его странно. Ни Изумрудом, ни Лисом, ни Листом… в Гадючьем яре-то с именами просто: высокий – Костыль, младший да неожиданный – Дан, рыжий – Ржан. И вдруг… Василёк! Нынче же Ирга глядела на Звенигласку и думала, что мать узрела нечто, им с братом неведомое.
Коса у Звенигласки была русая, как пшеница зрелая. Носила она её обёрнутую вокруг лба, и Ирга всё дивилась, отчего с такой тяжестью голова не отломится. Верно, в родных Кардычанах слыла Звенигласка красавицей, ну да теперь и спросить не у кого – родных у неё не осталось.
Словом, немудрено, что влюбился Василь ещё прежде, чем Звенигласка, поборов пережитый ужас, заговорила. Но это тогда, первые дни после счастливого спасения, девка рта раскрыть боялась. Нынче же поди заставь замолчать! Вот и теперь щебетала, усевшись подле Ирги.
– А как разрешусь, перво-наперво в баньке попарюсь. Горячей-горячей! На острове-то всё больше холод да сырость, я к такому не привычна…
«Ну и проваливала бы с нашего острова!» – могла сказать Ирга. Могла, но промолчала. Потому что, как бы сильно не злилась на Звенигласку, всё ж помнила, как привела её в баньку в первый раз.
Спасённая чужачка спала крепко – криком не разбудишь! Ирга ждала, что девка от каждого шороха будет вскакивать, но ошиблась. Василь сидел подле найдёнки, положив широкую мозолистую ладонь ей на темя, и девка дышала ровно и глубоко. Стоило убрать руку – начинала трепыхаться. У Ирги же словно ледышка под сердцем смёрзлась от эдакого зрелища, и она в тот день переделала все дела, что откладывала с лета: и прорехи в одёже зашила, и стол выскоблила, и в погребе прибралась. Так время до вечера и пролетело.
К закату же истопили печь и осторожно разбудили чужачку. Оно и отмыть гостью не мешало бы, да и самим отмыться, но важнее иное. Когда является на свет новое дитё, его трижды вносят и выносят из раскалённой бани. Совсем хорошо, если сразу в баньке роженица и разрешится, но всякое случается, и иногда обряд свершают через день-два, а то и через целый месяц, когда младенец окрепнет. Если кто из семьи надолго покидает родные края, поди угадай, сам вернулся али сила нечистая облик родича приняла? Тоже, ясно, ведут в баню. А ежели кто сделал навет и божится, что видал, как сосед оборачивается в зверя или как колдует супротив деревни, то в той самой баньке железным прутом могут кости пересчитать. И тому, на кого навет, и тому, кто видел. Так-то оно верней. Найдёнку тоже первым делом следовало отвести в баню, дабы проверить, с добром или с худом явилась.
Девчушка глядела на брата с сестрой волчонком, отказывалась говорить и есть, хотя живот её и урчал на всю избу. Ирга нерешительно подступилась к ней и протянула руку.
– Пошли, что ли. Отмыть тебя надобно.
Найдёнка только шарахнулась.
– Вместе пойдём, не бойся.
Но девица не успокоилась, а лишь затравленно покосилась на Василя. Ирга фыркнула:
– Нет, этого не пустим. Больно он нам там нужен.
– Да я и не просился! – отбрехался Василёк и густо покраснел.
Тогда только найдёнка позволила взять себя на руку. Ладонь у неё была горячая, влажная и мелко подрагивала.
– Нет на свете такой беды, которую горячая банька не вытопила бы, – ободряюще улыбнулась Ирга и потянула гостью за собой.
Когда пришло время раздеваться, чужачка снова заупрямилась. Вцепилась в лохмотья, словно те были ценнее золота, и замотала головой.
– Ну мойся так, – равнодушно хмыкнула Ирга.
Свою одёжу она скинула легко, вышагнула из рубахи, распустила медны косы по плечам, а из волос так и посыпался всякий сор: водоросли, листья, трава, а после… выскочил маленький лягушонок! Метнулся к одной стене, к другой, шарахнулся от раскалённой печи. Ирга едва изловила его, обернув на себя бадейку холодной воды, выпустила за дверь, перевела дух… И тут найдёнка засмеялась. Звонко так, весело! Испуганно закрыла себе рот руками, но тут уже сама Ирга подхватила и покатились!
– Меня Звениглаской звать… – опосля сказала гостья. И эти слова стали первыми, что произнесла она в их доме.
– Голос у тебя звенит. И верно Звенигласка. Небось поёшь – заслушаешься!
– Пела. Раньше…
Звенигласка потянула рваную рубаху с плеча, а у Ирги сердце сжалось от ужаса и жалости. Вот, стало быть, почему найдёнка от людей шарахается…
– Старосте надо сказать, – выдавила Ирга. – Найдём паскудника…
Звенигласка медленно покачала головой.
– Найдём если даже… Что с того? Девке позор, а насильнику разве что по шее дадут. Смолчишь?
– И без меня все докумекали…
– Одно дело думки, а другое…
Звенигласка вздохнула, а Ирга вдруг подлетела к ней, обвила руками и прижала к себе. Так они и стояли долго-долго, а раны, что на теле, что на душе, словно бы затягивались одна за одной.
Отчего же нынче нет того тёплого чувства в груди? Отчего не тянет обнять подруженьку и всплакнуть, как тогда? Нет, нынче Ирга, если бы и обняла Звенигласку, придушила бы на месте. А потому и обнимать не спешила.
– Пойдём, что ли. Скоро стемнеет.
И то верно, до заката надобно подготовить к празднику не только дом, но и себя. Василю-то хорошо, он ещё до полудня управился с делами, а после, как всякий деревенский мужик, считал мух. Ибо кто ж в праздник трудится? В праздник заботиться о душе надобно, а не о мирском хлопотать. Другое дело бабы. У них работы – тьфу! Занавески постирать, убрать, сготовить, дом украсить, двор подмести, скотину покормить, подоить, выгнать и загнать, а после подоить ещё раз. Ну так разве это работа? Так, смех один. Потому Василь успел после обеда навестить Костыля и с другом вместе попариться в хорошей горячей баньке. У Ирги же подруг, к которым можно было бы напроситься, не водилось, Звенигласке до родов повитуха баню строго-настрого запретила, а для себя одной топить – убыток. Вот и ждала Ирга, пока нагреется котелок над уличным очажком, чтобы по-быстрому ополоснуться, подготовить к торжеству не только дух, но и изнурённое праздником тело.
Погляди кто на девок издали, только похвалил бы: и работа у них спорится, и домашние хлопоты делят поровну, и друг дружку не обижают. Вот и во двор вышли каждая со своим делом: Звенигласка несла ковши да тряпки, Ирга же, натянув рукав на ладонь, взялась за котелок.
– Давай я! – потянулась ятрова.
– Ещё тебе что дать? Не тронь тяжесть.
Без вины виноватая, Звенигласка плотно сомкнула губы, а у самой глаза на мокром месте. Когда же девки вошли в предбанник и скинули одёжу, её, видно, тоже одолели воспоминания.
– Ирга, – позвала найдёнка.
Та как раз смешивала горячую воду с холодной и, отвлёкшись, едва не ошпарилась. Зыркнула зверем.
– Ну чего тебе?!
Звенигласка оплела руками беззащитный живот – всего больше стремилась от дурного взгляда защитить дитё.
– Отчего злишься на меня?
Спросила тоже! Кабы Ирга сама знала, давно бы обиду отпустила! Но обиды ведь и не было. Всем Звенигласка хороша: тиха, скромна, заботлива. А Василька любила – страх! К концу зимы, помнится, брат провалился под лёд и захворал, так жёнушка от него ни на шаг не отходила, ночей не спала, всё следила, не кашлянёт ли лишний раз. А тот и рад! Знай стонал да указания к похоронам раздавал. У Ирги бы с ним разговор короткий – залила б в глотку большую чашку горечь-травы да печь растопила докрасна. Все в Гадючьем яре так лечились, и никто ещё не жаловался. А кто жаловался, тому вторую чашку вара готовили. Но Звенигласка любимого пожалела и пытать не дала, носилась вокруг него, как вокруг дитяти малого.
Да и Иргу найдёнка не уставала благодарить за спасение. Едва только в Яре обжилась, принялась вышивать да продавать узорные платки и кики. Заработала – и перво-наперво Ирге праздничный передник подарила. Прими, мол, не побрезгуй. Ирга тогда на него глядела и в толк взять не могла, отчего же так тошно сделалось?
– Не злюсь, – буркнула девка. – Ерунду не мели. Подай вон ковш.
Звенигласка продолжила:
– Тебе ажно глядеть на меня невмоготу.
– Ну гляжу ж как-то, не померла пока.
Звенигласка стиснула ковш тонкими пальцами, но не отдала, а неуклюже опустилась на лавку.
– Мне иной раз кажется, что померла… – Она вскинула на подруженьку ясные синие очи. – Что день за днём умираешь, когда меня в своём доме видишь.
Ирга фыркнула:
– Да разве ж это мой дом? Это теперь ваше с Василём гнёздышко, а я… приживалка.
Она быстрым шагом пересекла предбанник, взялась за ковш, но Звенигласка вцепилась в рукоять так, что пальцы побелели.
– Неправда! – крикнула она. – Никто такого не говорит!
– Ты, может, и не говоришь. Ты одна, может, только…
Ирга рванула ковш на себя, но Звенигласка и тут не отпустила.
– Кабы не ты, я б давно утопницей стала. И… – она сжала локтями необъятный живот, – и Соколок тоже стал бы!
Ирга отшатнулась. Задела и перевернула вёдра, сама едва не упала.
– Вы что же… Имя уже ребёночку дали?
Звенигласка зарумянилась.
– Вчера к Шулле ходили. Она живот помяла и… мальчик будет. Наследник.
– Наследник, – горько повторила Ирга.
А в глазах потемнело. Ничего в этом доме у неё не осталось. Ни лавки у печи, ни сундука девичьего, чтоб ни с кем делить не пришлось, ни… брата. Всё отняла у неё Беда. Беда, которую Ирга сама же в избу и притащила, как Лихо на шее.
– Ирга? Ирга, серденько!
Верно, страшен стал у Ирги лик, раз ятрова подскочила, невзирая на пузо, за руку её к лавке подвела да холодной водицей на темя плеснула. Опустилась на колени, всё в глаза норовила заглянуть, прочитать в них что-то. В ушах у Ирги звенело. Ничего-то у неё, у кукушонка, не осталось. Ничего!
Она оттолкнула ятрову.
– Наследник?! – взревела Ирга. – Наследник у вас? А что он наследовать-то будет? Дом, прадедом моим, моим и Василька, построенный? Бабкин убор? Платья материны? Всё забирайте, всё! Ты и ублюдок твой нагулянный! Пусть от нашего рода вовсе ничего не останется!
Ирга выскочила во двор. Звенигласка – за нею. И очи её сияли пламенем, какового прежде у ятрови Ирга не видала.
– Не смей так про моего сына! Рот свой поганый помой, прежде, чем про него такое… Василь ребёнка своим зовёт!
– Василь сызмальства сирых да убогих привечает, а ты и рада стараться! Помяни моё слово, родишь ублюдка…
– Рот закрой!
Звенигласка схватилась за прислонённую к стене бани дощечку. Как есть убьёт! Но девки так и не узнали, хватило бы у той духу замахнуться или нет. Потому что под дощечкой сидела гадюка. Чёрная, как смоль, не сразу углядишь. Звенигласка и не углядела: солнце уже клонилось к закату, глубокие тени очертили дома, а в тех тенях прятались змеи. В Гадючьем яре гадюк не боялись. И этой, в три пальца толщиной, свившейся кольцами, быстрой, как стрела, Ирга не убоялась бы тоже: всем известно, что первой змея не нападёт. На Иргу не нападёт, а вот на потревожившую её Звенигласку… Ятровь, непривычная к болотным тварям, не разглядела змею. Она лишь попятилась к стене, мешая гадюке скрыться.
– Замри! Змея! – шикнула Ирга.
– Сама змея! – ответила Звенигласка.
Ответила и шагнула аккурат так, что гадюка решила: нет спасения. Ядовитые змеи жалят быстро. Сердце ударить не успеет, крик, зародившийся в горле, не вырвется.
Ирга бросилась вперёд. Прямо под удар – Звенигласка всё ж замахнулась и, зажмурившись, опустила дощечку. Та скользнула по плечу, разодрала рубаху, но Ирга уже летела наземь, животом навстречу гадюке. Она придавила змею собственным телом, ощутила, как тварь забилась под ней в поисках выхода… Но не ужалила. Правду врали бабки: тех, кто вырос в Гадючьем яре, гадюки не трогают. А вот Звенигласке несдобровать было б…
– Матушка! Васи-и-и-иль! – вскрикнула ятровь и бросилась в избу.
Она так и не увидела змеи. Лишь взъярившуюся Иргу и её разинутый в крике рот. И только богам известно, чем бы дело кончилось, замри рыжуха на месте.
Ирге первой довелось узнать, что испытала Звенигласка в плену и что возвращаться ей боле некуда: родную деревню сожгли соседи, те, с кем не раз и не два вместе на ярмарке веселились, на засядки собирались. Сожгли, потому что на холме пшеница вызрела, а в низине погнила…
Звенигласка осталась жить у них. Яровчане приходили справиться о здоровье и судьбе чужачки, но вскоре потеряли к ней интерес. Староста же с первого дня что-то понял и, отозвав Василя в сторонку, нашептал ему на ухо да дал небольшой мешочек с деньгами – устроить девку.
День шёл за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Скоро Звенигласка уже не в силах была скрывать округлившийся живот. Кажется, тогда-то Иргу и проняло. Брата она знала: Василь Звенигласку и пальцем бы не тронул не то что против воли, а и даже просто без благословения волхвы. Но то Ирга знала, а соселяне всё чаще посмеивались, указывая пальцем то на Василька, то на Звенигласку. И вот однажды найдёнка улучила момент. Собрала в узелок нехитрые пожитки – еду, одежду да подаренный Васильком пояс, и пошла куда глаза глядят. Далеко, впрочем, не сбежала.
Сироты спят чутко. Не так-то много у них добра, чтобы позволить лихому человеку забраться в дом да утащить что-нито. Вот и тогда проснулись оба: и брат, и сестра. Но Ирга поглядела на Звенигласку из-под опущенных ресниц, да и не стала окликать. Пусть ей…
Василь же рассвирепел. Он спрыгнул с полатей, где спал отдельно от девок. Звенигласка от испугу едва снова не онемела. Выронила узелок, ногой затолкала под лавку. А Василь наступал грозно и неотвратимо.
– Или мы плохо тебя принимали?! – рявкнул он. – Или обижали?! Может, кормили не досыта?!
Звенигласка низко поклонилась, ожидая удара.
– Прости, хозяин добрый. Всего вдосталь, всем твой дом хорош, – пролепетала она.
Василь же заставил её разогнуться, схватил за плечи и встряхнул.
– Мой дом? Не мой он, а наш! Мой, Ирги и твой! Что же крадёшься в ночи, как вор?! От чего бежишь?!
Звенигласка всхлипнула, глаза её, синие озёра, налились влагой, а Ирге от вида этих влажных глаз тошно стало. Вот уж правда, отплатила им гостья за доброту! Хорошо хоть избу не обнесла…
По щекам Звенигласки покатились слёзы, и она выкрикнула:
– От тебя, глупый! – И добавила тихо: – От тебя. Неужто не понимаешь?.. Неужто не… не видишь?!
Видеть-то Василёк видел. Видела Ирга, соседи все видели, староста с женой, бабка Лая с младшим любимым внучком. Все видели и пальцами тыкали, кто втихомолку, кто не таясь. Да и как спрячешь, что на сносях? Селение маленькое, а люди в нём ох и глазастые да любопытные!
– И что с того?
Звенигласка положила ладонь на живот.
– Все видят. Понимают. А скинуть дитё я не… Хотела, у Шуллы спрашивала зелье. Но не смогла. – Найдёнка горько махнула рукой. – Слабая я. Трусливая. Так мне эту ношу теперь и нести. А тебе кукушонок ни к чему.
Василёк вдруг наклонился да прижался щекой к едва наметившемуся животу.
– Мы с Иргой тоже кукушата, – сказал он.
– Как?!
Выпрямился, поцеловал Звенигласку в лоб и ласково ответил:
– А вот так. Спать иди, дурёха. Утро вечера мудренее.
Звенигласка послушалась, легла обратно на широкую лавку, где девки спали вдвоём, прижалась к боку Ирги и, как за ней водилось, тут же уснула. Сама же Ирга пялилась в потолок до самого рассвета, когда Василь, ступая на цыпочках, вышел из избы.
Вернулся он не с пустыми руками. Сел и хитро глядел, как девки суетятся в избе, как накрывают на стол, как сдабривают кашу жиром. А когда взялись за ложки, протянул Звенигласке свёрток. В том свёртке лежали брачные наручи.
Браслеты закрыли шрамы, оставленные по осени верёвками, и боле Звенигласка о пережитом горе не вспоминала. Василь же стал считаться мужем и отцом, а Ирга… приживалкой в собственном доме.
Как только не величали её опосля в Гадючьем яре! Младший брат женился вперёд сестры, стало быть сестра перестарок; живёт под одной крышей с мужем и женой, значит, приживалка; замуж не идёт, стало быть не берёт никто с таким-то норовом! Мало-помалу Ирга и сама в то поверила…
Глава 2. Ночь Великих Костров
Василь старался не глядеть на сестру, но говорил ровно.
– И на Ночь Костров тебе лучше с нами не ходить.
Сердце Ирги замерло и ухнуло вниз. Вот и всё. Ещё тогда, в бане, она думала, что больше отнять у неё нечего. Но брат, знавший её как никто, с нею вместе переживший и уход матери, и смерть бабки, нашёл.
– Не трогала я её, – безнадёжно повторила Ирга. – Ты что же, ей веришь, а мне нет?
Василёк сдавил виски пальцами – видать голова разрывалась от бабских склок.
– Я обеим верю. И тебе, что вреда не чинила. И ей, что напугалась до полусмерти. Но у меня сын.
Ирга облизала пересохшие губы.
– Сын… А сестры, выходит, у тебя нет?
– Сестра есть, а сын будет, – спокойно ответил он. – И лучше чтоб не раньше сроку. Перепугалась она. С кем не бывает? Не надо уж её сегодня больше прежнего тревожить.
– Что ж… Коли не надо…
Ирга метнулась к сундуку, который вот уже почти год они со Звениглаской делили пополам. Поначалу она сама предлагала гостье свои наряды. Мало чем там гордиться стоило, конечно. Платья как платья: неяркие, с простой вышивкой. Лишь материны вещи Ирга берегла и не позволяла не то что надевать, а и даже трогать. Но это Ирга не позволяла, а Василь как-то раз возьми да и подари Звенигласке праздничный сарафан, украшенный бисером. Тот самый, в котором они любовались на мать в последний раз. Теперь у Ирги не было и этого…
Она захлопнула крышку сундука – нечего ей с собою брать.
– Коли не надо, – процедила она, – так я не потревожу. Только потом не ищи. Да ты и не станешь.
Она вышла за дверь. И только услышала, как брат со злости одним махом скинул со стола посуду, приготовленную к праздничной вечере.
***
Торжество звенело в самом воздухе. Гуляний ждали и старики, дабы померяться, у кого румянее выйдет сытный пирог с рыбой али с грибами-колоссовиками, и молодёжь – поплясать, хороводы поводить, а как совсем стемнеет, враки друг дружке у костров порассказывать. Маковка лета – редкое время, когда даже в Гадючий яр приходило тепло, потому в каждой избе нараспашку держали резные подёрнутые зелёным мхом ставни, и веселие, видневшееся за ними, было Ирге что кость в горле.
Бабка Лая, подперев сухонькими кулачками подбородок, любовалась, как любимый младшенький внучек уплетает угощение, хотя стоило бы прежде дождаться, чтоб вся семья собралась. У Костыля, закадычного Васового друга, из окон гремела пьяная песня. От старостиного дома шёл такой дух печева, от которого недолго слюной захлебнуться: жена Первака дивной слыла мастерицей у печи и секретов своих яств никому не раскрывала, хотя и ходили слухи, что готовит вовсе не она, а сам староста. Эдакое умение для мужика – смех один, потому Первак нипочём не сознался бы, но, когда случались у него гости, бороду-лопату поглаживал особенно самодовольно и всё спрашивал, хорошо ли угощение.
Холодное тело тропки змеилось меж дворами, петляло от одной избы к другой, но нигде Ирге не было пристанища. У кого вечер скоротать, кому поплакаться на горькую судьбинушку? Ни подруженьки, ни милого, ни даже старой Айры, что всегда бы утешила, всегда погладила бы медную голову. Мимо бегом промчались сестрички-хохотушки, дочери старосты. Завидев Иргу, они соступили с тропки в росистую траву и обошли по большой дуге – не ровен час ещё сглазит, рыжая! А разминувшись, о чём-то зашептались и захихикали. Наконец та, что посмелее, старшая, крикнула Ирге вослед:
– Кукушонок!
Ирга не отмолчалась. Развернулась на пятках да как гаркнет:
– Вот я вас щас!
Ох, и дали девчушки дёру! Батька-то их воспитывал в строгости, но как не испытать храбрость да не уколоть нелюдимую приживалку! Будь сестричкам годков побольше, Ирга не преминула бы догнать да отлупить, а после, может, ещё и за косы к батюшке отволочь. Но девчушки ещё не уронили первую кровь и, сказать по правде, резвы были без меры – не угнаться.
– Вот попадётесь мне! – бессильно погрозила им вослед Ирга.
И до того обидно стало! Что же это, даже дети малые, и те её дразнят?! Она потёрла глаза, не выпуская злых слёз, и со всех ног бросилась к болотам.
Тропа оживала. Чем дальше от деревни, тем пружинистее она делалась, дышала, норовила вывернуться из-под босых ступней – напитывалась болотной влагой, что рудою текла по туше жабьего острова. Позади остался гул деревни, запах дыма и съестного сменился на сырой болотный дух, но густые туманы, чернеющие бочаги и едва чутный шёпот воды не пугали Иргу – Ирга сама была частью Гадючьего яра, родилась и выросла в этом промозглом краю, ей ли бояться?
Селение разверзлось по берегу подковой. Там, где почва худо-бедно держала, ставили дома и разбивали огороды – маленькие, на пяток-семерик грядок, да и на тех урожай родился скудный. Серёдку же острова сплошь покрывала трясина. Чтобы не ходить подолгу с одного края селения на другой, местные кинули на неё мостки и зорко следили, чтобы гниль нигде не попортила доски. Мостки лежали на болоте, как на водной глади, едва ощутимо покачиваясь, но всякий знал, какая опасность скрывается под ними. Днём там ходить – милое дело, но не на закате, когда тени глубже и резче. Поди разбери, на дерево ступаешь, на кочку али в яму? Провалишься по самую шею – только тебя и видели. Но Ирга шла. Шла и не думала, что потревожит тварей ползучих, а то и кого пострашнее, кого по темноте местные называть не рисковали. Потому что в самой серёдке болота стоял погост. И потому что на погосте похоронили бабушку Айру.
Едва ступив на мостки, Ирга опустилась на колени и теменем коснулась заусенчатых досок.
– Прости, матушка Жаба, что тревожу тебя в неурочный час. Не серчай, пропусти.
Тут бы ещё угощения поднести, да взять с собой хоть что девка не догадалась, и теперь с пустым животом пришлось остаться не только старой Жабе, но и ей самой.
Небесное светило висело над краем острова низёхонько, вот-вот нырнёт в озеро, а в воду с него капало и расходилось кругами тревожное алое зарево. Не к добру! В Гадючьем яре уже возжигали костры, затягивали песни, мерялись, кто резвее прыгает. Скроется солнце – пойдёт настоящее веселие. Никто, окромя Ирги, не видал дурного знамения.
– На что серчаешь, Светило небесное? – вполголоса спросила она, щурясь на раскалённый уголёк.
Тот перед сном утирался кружевными облаками и ничего не ответил. А что ему отвечать? Ирга покачала головой.
Яровчан на большой земле не так что бы особо любили. Всё-то у них не как у людей! Вот и погост на острове заложили такой, что пришлый человек трижды плюнет да и обернётся вокруг оси. Ирга же иного не знала. Ей думалось, что иначе родичей в Тень провожать и нельзя, только как дома заведено. Ну да всякому кажется, что его-то деды верные обычаи блюли. Впрочем, когда мостки подвели девку к серёдке топей, где земля ходила ходуном подобно водной глади, поёжилась даже Ирга. Всё ж на ночь глядя мертвецов будить не след. Уж не о том ли предупреждало солнышко? Но упряма Ирга была без меры и, коль уж пришла, соступила с досок в болото.
– Ну здравствуй, бабушка…
Травы на погосте не росло, один лишь мох. Ходить по нему следовало с великим уважением, даже обувку, и ту предпочитали снимать прежде, чем топтать изумрудную поляну. Потому как, если пропороть мягкое покрывало, из того, как из живого тела, текла чёрная руда. И, ежели кого угораздило в такую вот рану провалиться, то уже и не искали – трясина взяла своё.
Сюда приносили мертвецов. Клали на зелёное ложе, прощались и уходили. И через день на том месте, где лежал покойный, поднималось сухое дерево. Нынче погост там и сям вспарывали острые кроны. Ни листочка не было на них, ни ягоды, ни шишки. Но деревья росли, тянулись вверх, словно чаяли соединить небо и землю. А может так оно и было.
Своё дерево Ирга узнала сразу – на его голых ветвях колыхались белоснежные ленты. Одна, вторая, десятая – не перечесть. Такие же ленты обвивали руки бабушки Айры, когда Яровчане несли её на болота. Ирга и Василь шли тогда, прижавшись к посмертному ложу, и края длинных лент щекотали им щёки, словно бабушка утирала слёзы сирот.
Дерево будто бы шевельнулось:
«Здравствуй, внученька»
В Гадючьем яре ленты вязали за добрые дела. И не нашлось на острове никого, кто не принёс бы последний дар для доброй старушки Айры.
Пошатываясь, Ирга добежала до приметного ствола – мох так и загулял под ногами! Поймала край одной ленты и прижала к губам, а слёзы полились уже сами собой.
– Ошиблась ты, бабушка, – всхлипнула девка. – Пророчила, что быть нам с Василём вдвоём супротив целого мира, а осталась я одна. Почто ж ты меня обманула?
Долго бы Ирга ещё сидела на погосте, себя жалеючи. Может, там бы и заночевала. Но, едва заслышав голос, разве что не подпрыгнула.
– Ирга, ты?
Она сделала отвращающий знак рукой – крест-накрест перечеркнула перед собой воздух. Одна радость – от слёз и следа не осталось. Все высохли, когда от ужаса сердце остановилось. И потом только девка уразумела, что голос-то знакомый.
– Костыль?
И верно: на мостках стоял, высоко подняв руку, закадычный друг Василя – долговязый рыбак Костыль.
– Что, напугалась? Решила, утопник за тобой явился?
Парня и верно немудрено было принять, если не за утопника, то хотя бы за жердяя. Дзяды врали, эдаких духов в Гадючьем яре раньше водилось видимо-невидимо. Огромные, случалось, что и с избу ростом, худые, что жерди. Им болото было по колено, вот и жили на острове. Но после пришли люди, привели с собою светлых богов, и нечисть, убоявшись, попряталась по углам. Однако ж раз или два в год выходят нечистики, воют о былом, в окна заглядывают… Ну или так врут люди, дабы дети малые ночами из дому носу не казали.
– Тебя-то? Ты, конечно, страшен без меры, но не настолько, чтоб меня напугать.
Костыль рассмеялся.
– Ну добре, Васу расскажу, что ты меня красавцем назвала.
– Вот ещё! – фыркнула Ирга, украдкой переводя дух.
– Ты что это по погосту ночью шастаешь? Всё веселье-то на берегу, у запруды.
Ирга резко ответила:
– У меня своё веселье. Иди куда шёл! Или тебе самому любо после заката болото топтать?
– Может и любо, – хохотнул Костыль. – Пойдём, провожу тебя.
– Выдумал тоже. Что я, дороги не знаю?
Парень маленько помялся на мостках, но к погосту спускаться не стал, поостерёгся. Досадливо бросил:
– Вот же норовистая! Что тебя, брат совсем не воспитывает?
Ирге ажно лицо перекосило.
– Я сама кого хошь воспитаю, – процедила она и отвернулась.
Костыль окликнул её ещё раз или два, но девка села, прислонившись спиною к бабушкиному древу, и прикрыла глаза. Мох под нею медленно колыхался, не то сам живой, не то скрывающий жутких болотных тварей. А то и впрямь дышала старая жаба, вырастившая когда-то на своей спине целый остров.
Когда Ирга открыла глаза, Костыля рядом уже не было. Однако ушла и благость, каковая накрывала её всякий раз, как девка навещала старую Айру. Стемнело окончательно, зато музыка и смех по ночному воздуху легко летели с одного края острова на другой. Тут заодно вспомнилось, что загодя сготовленное для вечери угощение Ирга так и не попробовала, да и весь день пробегала голодная. К тому же болото тянуло холодом сквозь мох – долго не усидишь. Пришлось подняться и отправиться на, чтоб его, праздник.
Мох нехотя отпустил добычу, следом ноги ступили на скользкие от росы мостки. Ирга повернулась к бабушкиному древу – в темноте ленты белели и извивались.
– Свидимся ещё, – попрощалась она, а болото вздохнуло в ответ.
Недолго девка шла в одиночестве. Костыль, как оказалось, лишь отошёл в сторонку от погоста, а там, где земля уже не дышала так глубоко, а мох сменился травами да кустарником, уселся ждать. Уселся он аккурат возле широкого ручья: коротал время с баклажкой браги.
– Что, замёрзла? – окликнул он. – Иди сюда, найду, чем согреться.
Будь Ирга скромна да робка, как девке и надобно, она бы припустила к людям: голос выдавал, что баклага у Костыля не первая. Да оно ещё с вечера в его хате гремело пение, всяко не насухую веселились. Но Ирга слыла нахальной да своевольной, она даже шагу не прибавила. Вот ещё!
– Ты давай как-нибудь сам.
Костыль же, верно, только её и ждал, так что отставать не собирался.
– Ирга! Ну что ты как дикая? Или я тебя чем обидел?
Правду молвить, он в самом деле ничем ни Иргу, ни других девиц не обижал. Да оно и Василь не стал бы абы с кем водить дружбу. Случалось, Костыль и гостинец какой приносил, и Ирга со Звениглаской не брезговали, брали. Потому ни убегать, ни брехаться девка не спешила, а когда Костыль нагнал её, не подумала напугаться. Спьяну парень поскользнулся на досках, схватился за девкино плечо и едва не упал с нею вместе, но Ирга устояла и Костыля удержала тоже. Однако ж тот решил, что всё наоборот.
– Ты держись лучше за меня! Не ровен час, оступишься!
И подставил локоть, мол, хватайся. Ирга фыркнула:
– Вот ещё.
И без того её перестарком кличут, но оно всё ж лучше, чем гульнёй. А коли кто застанет, как она в ночи с кем-то под руку идёт, иного никто и не подумает. Костыль не смутился и протянул баклагу.
– На, глотни.
От тары сладко пахнуло клюквенной настойкой, а с тем вместе ветер пробрал холодом и без того занемевшее тело.
– А давай, – решила девка и сделала длинный глоток.
Наперво, клюквенный жар ожог горло, но после по жилам побежало тепло. Костыль ухмыльнулся.
– Другое ж дело!
– Ух и крепкая! – выпучила глаза Ирга. – Закусить есть что-нито?
– Ишь, закусить! Сначала поблагодарить надобно!
Костыль не сказать, что был страшен. Не первый красавец в селе, конечно. Худоват да высоковат, что на цыпочках не разглядишь. Бледноват, с редкой чёрной бородкой и вечно сальными космами. Девки по нему не вздыхали, да оно и видно, что в свои года оставался парень не женат. Был он маленько старше Ирги, год-другой и перевалило бы за три десятка осенин. Но что для девки позор, за то мужа никто корить не станет, так что жил себе Костыль и не тужил. Но вовсе не потому Ирга отпихнула его, когда парень полез целоваться. А почему – того сама не ведала. Такое с ней бывало: словно уколет кто или за язык дёрнет. Так и на сей раз уперлась пятернёй в лоб Костылю и пихнула, что есть мочи. Тот нетрезво покачнулся, поскользнулся да и свалился с мостков в грязь. Благо, ручей уже перешли, так что и падать пришлось недолго, всего-то с высоты собственного роста. Зато обиды было – страх!
– Ты что творишь?!
– А ты что творишь? – в тон ему ответила Ирга. – Наперво, протрезвей, а опосля приставать будешь.
Костыль как упал, так и остался сидеть. То ли от обиды подняться не мог, то ли ноги не слушались.
– Да на тебя без бутылки и не взглянешь! – крикнул он.
– Ну не гляди, делов-то.
Ирга хотела дождаться, пока Костыль поднимется, и дальше пойти. Ну полез спьяну, ну получил затрещину. С кем не бывает? Она б зла на него не держала, хотя брату наутро обязательно рассказала б – хохма! Но Костыль подлил масла в огонь:
– Так вот оно что! От всех нос воротишь, потому в перестарках и осталась!
Иргу как по сердцу резанули. Она процедила:
– Лучше уж в перестарках, чем с таким, как ты.
И двинулась прочь, но Костыль оказался ловчее, чем думалось. Подскочил и схватил её за локоть.
– Да тебе б в ножки мне кланяться! Василь просом просил тебя поглядеть! Да небось и не меня первого!
Ирга так растерялась, что локоть вырвать забыла.
– Что просил?
– А то ты не знаешь! Небось сама брата ко мне подослала! В девках-то засиделась, ласки мужицкой хочется! Так чего ерепенешься? Цену набиваешь? Да тебе цена плесневелая медька в базарный день!
Крепко сжимал он Ирге локоть, верно, синяки останутся. Но девка окаменела вся, не чуяла боли, слов обидных не слышала. Об одном думала: это что же, родной брат не только её из дому выгнал, так ещё и пьяницу этого подослал, чтобы… чтобы… чтобы что?!
А Костыль и рад! Раз девка не противится, значит, всё правильно делает! Он прижал Иргу к себе, наклонился, пытаясь нащупать губы ртом, второй рукой шарил пониже пояса.
– Уж я тебя уважу! Уж не обижу… – бормотал он.
Пахнуло сладкой клюквенной настойкой, и на сей раз запах показался столь гадким, что Иргу ажно передёрнуло. Было б что в животе – наружу бы попросилось. Недолго думая, она размахнулась, да как даст нахалу промеж глаз! Хрустнуло, брызнуло, все косточки в кулаке на части развалились, а потом со своих мест осыпались. Костыль страшно заорал. И вот тогда-то Ирга боле своей смелостью не кичилась: припустила что есть духу к людям прежде, чем первые капли крови из разбитого носа впитались в мох. Всё мстилось: мужик бежит следом, догонит… Убьёт! Вот тебе и праздник! Вот тебе и Ночь костров!
До того резвы стали ножки, что Ирга и не заметила, как оказалась у запруды. А на берегу вовсю гремело веселье! Девки, парни, старики и те выбрались погулять да подкормить угольком святой огонь! В неверном свете костров кружили хороводы, скакали ряженые. Лучшие наряды достали из закромов, бисерные кики, плетёные пояса, звонкие височные кольца… Одна Ирга была в простой рубахе: как убежала из дома неподпоясанная, босая, так и здесь оказалась. И теперь средь нарядных красавиц стояла ровно голая. Что же, коль так вышло, робеть не дело. Ирга расправила плечи и в два движения расплела косы, укрылась рыжим пологом – не хуже вышитого платка! Словно пламень струился по её спине – заглядение! Одна беда: без брата да после пережитого страха шла Ирга по земле ровно по железу раскалённому. Вроде и шаг твёрдый, и взгляд дерзкий, а всё одно тяжко. Неужто взаправду Василь отправил за нею друга? Ждал, что тот помнёт несговорчивую девку где-нибудь под кустом, та и рада будет замуж за первого встречного выскочить? Нет уж, такого Ирга брату не спустит! Попадись он ей только!
Но куда там! В эдакой неразберихе ни брата родного, ни даже собственного отражения не узнать. Кто сажей успел измазаться, кто маску из бересты на лицо приладил, девки и вовсе так разукрасили щёки да брови, что и при Дневном светиле не разберёшь, кто есть кто, не то что при свете костров. И плясали, плясали, плясали!
Р-р-аз! Зазвенели колокольцы в бубнах!
Ох! Всхлипнула жалейка.
Бум! Накры отозвались кожаными лбами.
И вторил им девичий смех да нескладное пение, а всё вместе сплеталось в дивную песню, тревожащую густеющее молоко тумана. Ирга на пробу вдарила пяткой по сырой земле, перекатилась на носки… Нет, не выходит танец! А ведь не так-то она и плоха в плясках. Ежели никого рядом нет, то могла получше некоторых шагнуть да провернуться. Но это ежели рядом никого…
Хлестнул по воздуху оторвавшийся хвост хоровода. Залава, кузнецова невеста, что бежала последней, не глядя, хватанула Иргу за рукав, крикнула:
– Не стой!
Но девка вырвалась, едва клок рубахи плясунье не оставив. Тошно ей было, горестно. А от клюквенной настойки, которой Костыль угостил, ещё и гадко.
Костров на берегу было четыре – по числу лап старой жабы, что, по поверьям, дала жизнь острову. В давние времена их возжигали по четырём сторонам Гадючьего яра, но год за годом огоньки становились всё теснее друг к дружке: вместе всяко веселее! Один горел ярче прочих, но Ирга нарочно отошла к самому тусклому, к тому, что сложили ближе всех к воде. Пламя взметнулось вверх, приветствуя одиночку, но тут же, устыдившись, сиротливо прижалось к земле. Рыжие всполохи раздвоились в зелёных, как листва весенняя, глазах. Но и тут не суждено было Ирге постоять в тишине. От кучки девиц отделилась фигурка – в высоком кокошнике, со звенящими бусами-монетками на груди.
– Ты чего здесь одна? – окликнула Залава, но, едва узнав рыжуху, смутилась. – Ирга… А ты здесь, стало быть, одна…
Залава так и замерла, не дойдя сажени. Будь на месте рыжухи кто другой, схватила бы под руку да повела б веселиться. Заневестившаяся, она со всеми чаяла поделиться счастьем. Со всеми, да не с Иргой.
– Да уж всё лучше, чем ваш рёгот слушать, – фыркнула рыжая, тем самым доказывая, что не зря её сторонятся.
Залава топнула ногой в красном сапожке, досадуя на свою ошибку.
– Ну и стой одна, как дерево на погосте! – выругалась она. – Небось была б добрее, не сидела б в девках до сих пор! – И добавила, ядовито сплюнув: – Перестарок!
Резко повернулась и побежала к большому костру.
– От перестарка слышу! – бессильно крикнула ей вослед Ирга.
Крикнула бы и забыла, да Залава вдруг обмерла, будто ледяной водой её окатили.
– Что сказала? – пискнула она. – Да я тебе за такие слова знаешь что?..
Так-то! Стало быть, Иргу перестарком кличут в глаза и за глаза, а как сами хлебнули, так давай выть? Рыжуха подбоченилась, а костёр позади неё протянул алые длани к сизому небу.
– Что слышала! Поговори мне ещё, навек сама в девках останешься! Всякий знает, что бабка моя колдовство ведала, а кому, как не мне дар её перешёл? Кто за руку её держал перед смертью, кто ставень раскрыть не давал?
Высокий кокошник съехал набок, не звенели боле на груди бусы-монетки. Залава разинула рот, силясь припомнить, правда ли старая Айра помирала при запертых окнах – верное средство, чтобы не выпустить на волю колдовской дар! Не припомнила, но, чего не видала, то додумала. Хотела обвинительно крикнуть, но вышло, что жалобно спросила:
– Врёшь?!
– А ты проверь! – Ирга мотнула головой, и рыжие волосы словно сами стали языками огня. – Вот тебе моё слово! Покуда все девки в Гадючьем яре предо мною на колени не падут, ни одной замуж не выйти!
Видно, хватила Ирга лишнего. Про дар бабки Айры слухи и верно ходили. В силу, перешедшую к наследнице, тоже уверовали бы. Но чтоб на колени… Залава опомнилась. Круглое лицо её исказила брезгливая гримаса.
– Размечталась, кукушкина дочь! Немудрено, что тебя не любит никто. Мать родная, и та бросила!
Ой, зря… Много Ирга стерпела бы, от многого просто отбрехаться могла. Но тут сорвалась с места птицей, прыгнула с разбегу, повалила Залаву в прибрежную грязь – и покатились! Кусались, царапались, волосы одна другой рвали! Вспыхнули в свете пламени и потонули в траве цветные бусины с кокошника, заплакали монетки-бусы, соскакивая с порванной нитки. Ирга-то сызмальства была с норовом, не боялась ни ссоры, ни драки. Она оказалась сверху и давай лупить противницу! Залава завизжала, закрывая лицо.
Послышались крики:
– Девки дерутся!
– Никак Ирга?!
– Убьёт! Как есть убьёт!
– Василя зови!
Но Василёк и сам уже мчал сестре на выручку. Обхватил её со спины поверх локтей, вздёрнул, оттащил.
– Задушу гадину! – взвизгнула Ирга. Не руками, так ногами достала бы! Принялась брыкаться и кусать брата.
Залаву уже поднимали и отряхивали подружки. Звенигласка, подскочившая с Василём вместе, подымала из травы кокошник, собирала бусины. А кузнецова невеста всё плакала:
– Змея! Гадюка! Проклясть меня грозилась!
– Да я тебя не просто прокляну, я тебя со свету сживу!
Кто застал девичью драку, точно скажет: неча соваться. Девки и друг дружке кости пересчитают и тому, кто разнимать полезет. Вот и Васильку досталось, но тот к сестре был привычен, чать не впервой. Отволок к запруде да швырнул в воду.
– Охолонись!
Брызги светляками полетели во все стороны, в каждой отразилось золото костров и ещё что-то, о чём покамест не знал в Гадючьем яре никто. Ирга и верно остыла. Не остыла даже, а похолодела. Кровь в жилах, и та превратилась в лёд.
– Так-то ты со мной, – тихо проговорила она, но за весёлым смехом, грянувшем над берегом, никто её слов не услышал.
– Так её, Василь! – поддержал Дан. – Голову, голову под водой подержи ей! Как кутёнку!
Снова захохотали. А как не хохотать, когда каждый на ершистую Иргу обиду затаил? Помогать бросилась одна Звенигласка. Эта вечно всем чаяла угодить: Залаве ли, Ирге…
– Вы что, нелюди, что ли?! – ужаснулась она и, придерживая живот, тяжело полезла в воду.
Тут и Василь очнулся. Догнал и мягко перехватил жену.
–Куда?! Вода холодная, захвораешь.
И верно, холодная. Ирга то уже уразумела. Сидела в реке и дрожала. От холода? От злости? Мокрые волосы облепили плечи, ледяная рубаха прильнула к телу, и лишь белёсый туман тянулся укутать девку, спрятать от позора.
– Вылазь, – велел Василь, протягивая руку.
Ирга поглядела на него зверем.
– Я лучше ладонь себе откушу.
– Я тоже себе сейчас что-нибудь откушу. Ирга, вылезай и пошли домой. Не позорь меня!
– Ах вот ты как заговорил! Я тебя, стало быть, позорю? Что, мешает дома приживалка? Сговорить бы со двора поскорее, да никто перестарка не берёт?
Василь скрипнул зубами, прыгнул в озеро и наклонился – взять сестру на руки, но та отмахнулась и сама вскочила.
– За дорого ты меня продал-то? Али сам доплатил, чтобы этот пьяница под кустом повалял?
– Что? Ты что несёшь?
Василь едва сам в воду не сел, как растерялся. А яровчане теснее столпились на берегу: хоть бы что расслышать! Экое будет веселие! Но за гомоном, причитаниями Залавы да треском костров поди разбери, о чём брат с сестрой ругаются!
– Да знаю я всё! Мешаю тебе, да? В собственном доме мешаю? Так что ж жениха искать? Может проще сразу меня в омут?
– Да уж, – фыркнул Вас, – в омут оно бы попроще было… Я по три раза на дню об этом думаю.
И шагнул к сестре, но та резво отпрыгнула, оказавшись в воде уже по грудь.
– Только тронь! Я тебя знать боле не желаю! Все тебе хороши, окромя родной сестры, да? Одна я жизни не даю! Так что же мне, утопиться теперь, раз уродилась тебе на беду?!
Будто бы сам остров отвечал на девкино отчаяние. Ярче вспыхнули костры, где-то далеко, на погосте, вскипела подо мхом невиданная сила, тяжко вздохнуло болото, вода пошла рябью и туман…
Туман сделался таким, какового яровчане, повидавшие всякое, не помнили. Он загустел, хоть ножом режь. Не туман – кисель белый. А внутри белого клуба зашевелилось нечто живое. Нечто, от чего туман – верный защитник Гадючьево яра! – прятал остров, но никак не мог сладить. Нечто, что оказалось сильнее непроглядной пелены, годами оберегающей здешние земли от чужаков.
Ирга поёжилась: брат стоял близёхонько, только руку протяни, но на глазах растворялся в молочной пелене. Она фыркнула и пошла-таки к суше, походя отпихнув Васа с дороги.
– Вот тебе и кровь родная. Вот тебе и брат!
Василь скрипнул зубами и поплёлся за нею.
Но чудеса на том не кончились. Туман забурлил, как кипяток, вздулся и опал, а после расступился, признавая чужую силу.
По протоке вдоль берега медленно двигался человек. Судёнышко его было столь мелким, с низкими бортами, что казалось, не в лодке движется чужак, а прямиком по воде. Да и на человека издали он походил всего меньше. Наперво, потому что весь силуэт его скрывался под необъятной накидкой. Армяк – не армяк, епанча – не епанча. Словом, балахон. Чужак кутался в него, словно не привык к лёгкому холодку летней ночи, а может и по какой иной причине. Низко опущенная голова его скрывалась под капюшоном. Словно не человек – нечистик человеком прикидывается.
Он величаво погружал в воду весло то с одной, то с другой стороны от судёнышка. И двигался столь твёрдо, столь уверенно, что сомнений не оставалось: не гадает, а точно ведает, где повернуть, к какому берегу пристать, чтобы всего ближе к людям. Протоки, речушки и ручьи испещряли остров словно нити, перепутанные игривым котом, с первого раза верную не каждый местный умел выбрать. Но чужак не ошибся ни разу.
Когда до запруды оставалось всего ничего, он отложил весло и выпрямился. Дальше судёнышко двигалось само, повинуясь зеленоватому сиянию, исходящему от ладоней чужака. Теперь-то ясно, почему расступился туман, подобно верному псу оберегающий остров, почему не запутали протоки и не околдовали русалки. Чужак был колдуном.
Наконец, дно прошуршало по илу, а нос плавно скользнул в траву, в избытке растущую около запруды. Чужак поднял ногу и точно угадал, куда поставить мягкий кожаный сапог, чтобы не провалиться в грязь, сошёл на берег и потом только скинул капюшон на плечи. И лучше б он этого не делал!
– Щур, протри мне глаза! – пискнула заплаканная Залава, прячась за чужие спины.
Ирга и сама не прочь ахнуть да спрятаться, вот только, если Залаву с готовностью закрыли от колдуна яровчанские мужики, её никто защищать не спешил. Так она и осталась стоять почти что перед самым носом незваного гостя – промокшая до нитки, дрожащая и злая.
Гость, впрочем, среди остальных её не выделил – окинул всех хмурым недобрым взглядом. У Ирги от этого взгляда ажно дух перехватило. И от того, каким цепким он был, и от того, что зрячий глаз у чужака имелся лишь один. Второй прикрывали тёмные с проседью не по годам волосы, но всё равно из-под них виднелся белёсый шрам, перечёркивающий веко, и само око, покрытое белой пеленой.
– Ну здравы будьте, что ли, яровчане. У вас, никак, праздник? Или… – Колдун мельком глянул на Иргу. – Девку водяному в жёны отдаёте?
Голос его был хриплым, как после лёгочной болезни, у Ирги от него мороз по коже побежал. Да и не у неё одной: вон, все потупились! А ведь сколько народу на берегу, и все оробели перед безоружным чужаком! Хотя безоружным ли?
Тут бы вперёд выступить старосте, но Первак с женою не пожелали мешать молодёжи веселиться и, едва подкормив костры, воротились домой. Колдун меж тем двинулся в толпу, зорко всматриваясь в лица. Искал кого?
– Что ж молчите, яровчане? – Ходил он прихрамывая, словно каждый шаг приносил боль, однако боль привычную, почти позабытую. Остановился подле Дана, и любимый внучек бабки Лаи задрожал как лист осиновый. – Или заведённых обычаев не знаете? Забыли, как гостей встречать? – Мотнул головой, пробормотал «нет, не этот» и пошёл дальше. – Так я и напомнить могу…
Ирга и дух перевести не успела, обрадованная, что чужак отошёл подальше, как тот развернулся, указывая на неё длинным пальцем.
– Вот ты, водяница.
Рукав балахона задрался, обнажая предплечье, опутанное выступающими зеленоватыми жилами, как паутиной.
– Принеси-ка мне мёду. Или что у вас здесь пьют?
Всё существо девки вопило, что лучше бы не перечить колдуну. Послушаться да низко поклониться, коли примет дар и отпустит восвояси. Но Ирга, злая донельзя, возьми да и ляпни:
– Сам сходи. Или ты не только безглазый, но и безногий?
Ляпнула – и обомлела. Что ж это она делает, мамочки! Чужак развернулся к ней всем телом. Вот сейчас как превратит в лягушку! Выручил брат. Сжав локоть девки, силой отвёл её себе за спину. Ирга прошипела:
– Не тронь!
Но Василь не слушал.
– Здрав будь, чужой человек, – ровно сказал он, и только Ирга заметила, как звенел от напряжения его голос. – Коли можно тебя человеком величать. Мы в Гадючьем яре обычаи чтим и гостя всегда приветим. Да только гость ты али нечисть поганая? Явился невесть откуда, не назвался, а сразу угощения требуешь.
Не зря старики учат: последнее дело колдунов злить! Проклянут, опомниться не успеешь! А этот и без безлюдской силы страшен был что чудище лесное. Что ещё натворит? Но колдун… улыбнулся. Недоброй была та улыбка, не такая, от какой на сердце легче делается. Но всё ж глубокие морщины, залёгшие меж его бровями, маленько расправились.
– А ты, стало быть, самый смелый, яровчанин?
– Смелый-не смелый, а сестру в обиду не дам, – спокойно ответил Василёк, а в зелёных глазах его вспыхнули искры. – Коли назвался гостем, так и веди себя как гость, а не как господин.
Они встали один против другого. Василь – крепкий, румяный, с огненной головой – и чужак – истощённый и бледный, словно бы больной, одноглазый, хромой, рано поседевший и куда как меньше в плечах. И, сцепись они, никто не сказал бы сразу, кто победит. К ним протолкалась, обнимая живот, Звенигласка. Встала рядом с мужем: маленькая, кругленькая, светленькая, зато злая что кошка окотившаяся!
– Только тронь! – прорычала она. И поди объясни дурёхе, что колдуну перечить что отраву хлебать!
Один удар сердца минул, второй, третий. Зелёные глаза пылали яростью, синие – решительной тревогой. В единственном чёрном же глазу чужака не было ни следа живого огня. И тогда колдун… поклонился. Низко-низко, хотя всякий понял, как непросто дался ему этот поклон, ажно косточки заскрежетали! Он коснулся ладонью мягкой травы, а после, разогнувшись, той же ладонью провёл по темени, на мгновение откинув волосы от белёсого слепого глаза. Испокон веков так божились, что не свершат зла на той земле, на которую ступили.
– Хорошо говоришь, яровчанин. Заслушаешься! Что же, спрашивай, отвечу, как подобает гостю.
Василёк кашлянул и засучил рукава. Потом передумал, одёрнул и снова засучил. Яровчане сгрудились теснее – никому не хотелось упустить, что же скажет рыжий и что ему ответит колдун. Но никто, окромя Василька, слова взять не решился. Да никому другому колдун бы уже и не ответил. Тогда Василь велел:
– Назовись наперво. И скажи, зачем явился.
Чужак малость попятился, и люди, что обступили его, отшатнулись, как трава под порывом ветра. А колдун распахнул полы балахона и скинул его наземь. Верно, когда-то он был красив. Статен и силён, поджар, как охотничий пёс, ловок и гибок, как розга. Нынче от былой красоты осталось мало. Осунувшийся, сутулый и уставший, с глубоко залёгшими под глазами тенями. Нога, на которую колдун припадал при ходьбе, и верно была нездоровой: правый сапог плотно облегал штанину, в левый же без труда вошли бы три пальца. Пламя костров уродовало его исхудавшее лицо, делая глубже морщины и, что куда страшнее, высвечивая оскал, менее всего походивший на улыбку.
– Не узнали? – немного погодя, спросил чужак. – Что же, люди прозвали меня Змееловом. И я пришёл за гадюкой, убившей сегодня человека.
Глава 3. Колдун
Ходят враки, что рождён он самим туманом. Что мёртвый глаз его видит Безлюдье, а сердце, скованное железом, не гонит по телу горячую руду. Что ходит он по свету неприкаянный и во всяком селе, где заночует, скоро сбивают похоронные короба. Девки его боятся – страсть! Коснётся – проклянёт, навек в перестарках оставит! Всюду встречают его как гостя желанного, но плюют вослед да вешают рябину над окнами, куда заглянул мёртвый глаз.
Люди нарекли его Змееловом. И мало кто верил, что в самом деле топчет он землю.
Но вот же – стоял, ухмылялся, глядел так, что тошно делалось, и ждал, покуда гул растерянных селян утихнет. Первым снова заговорил Василь.
– Милчеловек, коли и впрямь ты человек, а не нечисть, рождённая Ночью Костров, накормить мы тебя накормим, напоить напоим. Вот только, не серчай, но зря ты приплыл. Гадюк-то у нас видимо-невидимо, что крыс в сараях на большой земле. Но никого из местных они испокон веку не трогали. А уж чтоб убить… Видишь, праздник у нас. Веселие. Шёл бы поплясал со всеми вместе.
Колдун хохотнул как каркнул и топнул костлявой ногой.
– Да уж, – хмыкнул он, – танцор из меня теперь знатный…
Василь побледнел: не чаял гостя обидеть, а ляпнул лишнего! Вот уж не только сестру при рождении Рожаница за язык дёрнула! Ну да чужак, вроде, только развеселился с его слов. Василёк, осмелев, добавил:
– Не было сегодня смертей.
– Значит будет, – показал зубы Змеелов.
Мужики подобрались. Дан хмыкнул:
– Да шо ты говоришь? Уж не ты ли устроишь?
Чужак смерил его спокойным взглядом, и Дан отчего-то затих, а там и вовсе попятился. А Василь нахмурился.
– Давай-ка, гость дорогой, мы сначала к старосте сходим. Надобно уважить, поклониться, объяснить, что за беда у тебя…
Он по-дружески положил руку на плечо колдуну, чая между делом отвести того к Перваку. Однако Змеелов к таковому обращению не привык. Он чиркнул пальцами по ладони Василя и тот вскрикнул: рука обмякла плетью на гвозде. Колдун дёрнул плечом, брезгливо стряхивая её.
– У меня беда? Беда у вас. Только я могу её от вас отвести. – И пошёл.
Звенигласка кинулась к милому: что с ним? Оклемается ли? Ирга же схватила край балахона колдуна.
– Эй, ты!
Змеелов остановился. Смерил рыжуху долгим тёмным взглядом, всё рассмотрел: от босых грязных ступней до мокрой головы. Потом только отозвался:
– Ты или спрашивай, сколько мёда мне налить, или рта лучше не раскрывай. Бабе не к лицу.
– Бабе и морды бить не к лицу, но уж я потерплю! Верни брату руку! Ишь, помощник выискался! С тебя пока больше вреда, чем пользы.
Колдун сдвинул брови к переносице: он-то успел позабыть и про руку, и про самого Василя. Наконец, просветлел, вспомнив.
– К утру сама отойдёт. Где погост у вас?
Опешив, Ирга показала.
– Там. По мосткам.
А Змеелов возьми да и перехвати её ладонь, ещё и на локоть себе положил. Вдоволь насладился дрожью, что прокатилась по телу девки, и велел:
– Ну показывай, лягушонок.
***
Иргу Змеелов так и держал при себе. Сразу велел:
– Коли вы с братом самые смелые, вы меня и ведите.
Когда же Вас сказал: «Пусти Иргу. Я дорогу покажу», ответил:
– Показывать показывай. А пустить не пущу. Авось и ты посговорчивей станешь.
Потому они втроём шли впереди: Ирга об руку с колдуном, Василь маленько их обгонял и каждые два шага оборачивался. Прочий же люд, хоть и следовал на почтительном расстоянии, но не отставал. Деревянные мостки скрипели и проседали от непривычной тяжести, местами выдавливали из болота воду и проваливались, но любопытство оказалось сильнее страха.
Мертвец лежал, широко раскинув руки. Одна нога на мостках, а всё остальное тело медленно утопало в трясине. Помедли колдун, и утром Костыля уже не сыскали бы.
Змеелов удовлетворённо кивнул ещё прежде, чем Ирга разглядела труп.
– А говорили, не трогают местных, – усмехнулся он.
Отпустил девку, отпихнул с дороги Василя и дальше пошёл уже один. А у силуэта на мостках остановился и поднял руку. На кончиках пальцев затанцевал зелёный огонёк. Чужак присел на корточки, тёмные с проседью волосы упали на лицо, и не понять было, радуется он находке или горюет. Зеленоватый свет исказил черты Костыля. А может исказило их то, что он встретил перед смертью. Колдовского пламени едва хватало, чтобы узнать покойника, и никто – ни побелевший Василь, ни причитающая Залава, ни сдерживающий тошноту Дан, ни даже сама Ирга – никто, кроме Змеелова, не разглядел две крошечные точки на посеревшей щеке покойника.
***
В Гадючьем яре все друг друга знали, оттого весть о смерти Костыля затронула каждого. Так уж вышло, что родни у рыбака почитай, что и не было: сёстры выскочили замуж да покинули остров, отец сгинул в Лихоборе, сдуру попытавшись доказать, что нету ничего страшного в куске непроходимого леса на дальней стороне острова. Мать же повредилась рассудком с горя. Костыль выхаживал старушку и ничем не обижал, но навряд она узнавала сына. Вот и теперь, когда селяне принесли тело во двор, выглянула и заместо того, чтобы зарыдать, рассмеялась:
– Муженёк на санях едет, муженёк!
Василь бросился закрывать умершего от женщины.
– Тётка Блажа! Что ж ты в одном исподнем выскочила? Надобно срам прикрыть…
Но блажная баба, и впрямь вывалившаяся из избы полуголой, понеслась по двору – поди поймай!
– Муженька заждалась! Муженька! – голосила она.
Безумная, она смотрелась куда страшнее искорёженного Тенью трупа, а от смеха и вовсе стало не по себе даже тем, кто уверенно заявлял, мол Костыль спьяну шею сломал и вся недолга. Ирга подле колдуна тряслась как лист осиновый. Но не из-за Блажи и не из-за купания, а потому, что зудели сбитые костяшки на руке. Под носом у Костыля темнела запёкшаяся кровь. Одно с другим связать недолго…
Веселье схлынуло, как вода с берега в отлив. Нарядные девки, парни, взбудораженные хмельным, топтались, раздосадованные: уже и на праздник не вернёшься, и уйти неловко.
Дан швырнул наземь шапку.
– Проклятый колдун! Нет бы до утра подождать! Да и сам Костыль хорош – всем праздник испортил!
На него шикнули, но не сильно-то осудили: Костыля, конечно, жаль, но закадычный друг у него был один – Василёк. Остальным же от смерти рыбака ни жарко, ни холодно. Мать покойного вовсе навряд понимала, что делается. Блажа скакала по двору ровно молоденькая. Перепрыгнула чурбачок у дровен, уцепилась и покачалась на двери хлева. Поймать её, конечно, много кто мог, да никто не хотел связываться. Один Василь сюсюкал, упрашивал зайти в дом да одеться.
– Тётка Блажа, дай-ка мы с тобой вот сюда лучше! Слезай! Да, вот так. А в избе-то потеплее! Пойдём, пойдём!
Ирга отвернулась. Когда жива была старая Айра, Блажа ещё не повредилась рассудком и частенько заходила к соседке – пожаловаться, что там натворили Василь с другом. То пояса у сестёр Костыля утащат да на самые высокие ветви яблонь привяжут, то спустят с цепи злого пса, а тот яровчан стращает, никому с крыльца сойти не даёт, то ещё что… Словом, часто бывала. Тогда Блажа была хороша. Крутобёдрая, ладная, коса до пояса. А как брови соболиные нахмурит – залюбуешься! Нынче от красоты не осталось и следа. Встрёпанная, с волосами, свалявшимися в колтуны и коротко стрижеными, как положено безумцам да хворобным. И страшнее всего были глаза. Ирга заглянула в них лишь раз: Блажа приходила просить совета у старухи Айры на другой день после того, как пропал муж. Глаза у неё уже тогда уже были мёртвые.
Дело затянулось. Ни поймать, ни успокоить женщину никак не удавалось. Как вдруг Блажа встала ровно вкопанная, потянулась к Васу и заговорила так, как бывало когда-то, ещё до болезни.
– Василёк, ты откуда тут? Василёк, ты ли?
– Я, тётка Блажа, я! Никак узнала?!
– А сынка моего не ви…
Осмысленный взгляд скользнул по толпе, мазнув по телу Костыля. Спасибо, кто-то догадался прикрыть его, но разве материнское чутьё обманешь? Живой огонёк мелькнул в зрачках – и потух. Когда Василь бережно обхватил её за плечи, чтобы увести в дом, она захохотала и оттолкнула его, а после кинулась в самую гущу людей. Туда, где лежал накрытый телогреей покойник.
Колдун перехватил её поперёк пояса. Грубо и резко, словно ударил. Блажа ажно пополам согнулась. А после поймал лицо безумной в ладони, и Ирга могла бы поклясться, что в глазах Змеелова мелькнула жалость. Он прижался своим лбом к её, и Блажа, обмякнув, как до того рука Василька, осела на землю.
Василь заорал:
– Ты что наделал, погань?! Тётка Блажа!
Даже с кулаками кинулся на колдуна, но односельчане удержали. Дан зачастил:
– Сдурел никак, Вас? Тётку проклял, и тебя проклянёт! Ему что? Ему – тьфу!
Змеелов разве что досадливо поморщился, не выказав к потасовке никакого интереса. Бросил:
– До рассвета проспит, потом оклемается. Уберите. Мешает.
На сей раз помощники Васильку нашлись, и женщину поскорее унесли в избу. А колдун спросил:
– Ещё родня у покойника есть? Нормальная.
– Нет у него никого. На острове, – нехотя ответила Ирга.
– Добро. Заносите, – скомандовал чужак и повернулся к крыльцу.
Спесь, впрочем, сошла с колдуна быстро: шум выгнал из-под ступеней змею. Супротив чужака она вскинулась, показавшись на миг огромной, зашипела… Колдун шарахнулся.
– Тварь поганая! Вот я тебя…
Как знать, многим ли подумалось, что на том придёт конец чужаку и всем невзгодам, что он с собою приволок. Но ужалить змея не успела: Ирга кинулась наперерез и ловко ногой откинула гадюку в сторону.
– Они у нас что мыши, не обижай, – пробормотала рыжуха, избегая цепкого колдунова взгляда.
В избу покойника Змеелов вошёл уже по-хозяйски, швырнул балахон у входа, скинул со стола чашку с недоеденной кашей прямо на пол. Кивнул на освободившееся место.
– Сюда кладите.
Василь едва устроил уснувшую Блажу в женской половине, отделил её от вошедших занавеской и поднял с пола посуду. Одной рукой он управлялся ловчее, чем иные двумя.
– Ещё чего? – возмутился он. – На стол? А может сразу к волхве в нору отнесём, чтобы ещё больше богов оскорбить?
Змеелов пожал плечами.
– Мне до ваших богов дела нет. И спорить с тобой я тоже не собираюсь. Покойника – на стол. Одежду – долой. Кто против – вон со двора. Идите старосте на меня пожалуйтесь, чтоб не скучать.
– К старосте-то оно, пожалуй, вернее будет, – несмело подал голос кто-то.
Однако, стоило колдуну повернуться на звук, говорящий поспешил спрятаться за других яровчан, поэтому ответил Змеелов сразу всем:
– Староста тоже пусть приходит. Утром. Нынче не до него. Вот ты, – он наугад ткнул пальцем в скопище. Вышло, что на Дана, и тот онемел от страха. – Остаёшься помогать. Остальные убирайтесь.
Но прежде, чем колдун договорил, Дан, как девица прихворнувшая, лишился чувств, а может только вид сделал.
– Проклял! – взвизгнула Залава.
– Никак Дан обмочился! – брезгливо подметила её подружка.
Колдун растерянно моргнул и внимательно осмотрел свой палец, но, заметив Иргину ухмылку, спрятал руку за спину и снова принял вид равнодушный и зловещий.
Девка и сама от себя не ожидала, да кто-то по обыкновению дёрнул за язык. Ирга вышагнула вперёд.
– Я помогу!
Василь сразу вызверился:
– Не выдумывай!
Колдун же одобрительно кивнул.
– Ясно теперь, на вашем острове смельчаки не мечи, а сарафаны носят. Что же, лягушонок, оставайся. Остальные – прочь.
Ослушаться никто не посмел. То ли голос у Змеелова оказался дюже твёрдым, то ли зелёные искры, побежавшие по его ладоням, добавили яровчанам прыти, но скоро в избе остались спящая за занавеской Блажа, Змеелов, Ирга да покойник. И ещё Василь застрял в дверях, широко расставив ноги. Расставил бы и руки, да вторая, колдуном отнятая, так и висела плетью.
– Ты никак одурела? Я тебя с… – он воровато покосился на Змеелова, – не оставлю!
– А, стало быть, мне только с теми, кого ты подослал, можно? – прошипела Ирга.
– Никого я к тебе не подсылал! Да что ты как дикая, право слово! Воротимся домой да поговорим нормально!
А у Ирги внутри всё будто льдом покрылось. Вспомнился и Костыль, братом подосланный, и то, как этот самый брат отказался с нею вместе на Ночь Костров идти, и платье материно, Звенигласке подаренное, и имя сыновца[2 - Племянник, сын младшего брата] – всё разом вспомнилось. Ирга громко и уверенно произнесла:
– Нет у меня больше дома. И возвращаться мне некуда.
А после пихнула Василя в грудь да захлопнула перед его носом дверь. И то ли саму себя похвалить захотелось, то ли затрещину дать. Но решить, чего больше, колдун не дал. Ему-то до Иргиного горя дела нет, у него свои заботы.
– Ну, что встала? Вызвалась, – помогай.
Сам Змеелов времени зря не терял. Он стоял над телом, низко склонившись, щупал шею, щёки, отчего-то нос. Ноздри у колдуна хищно раздувались. Он замер лицом к лицу с покойником: оба бледные, ни один мускул не дрогнет, ресницы не опустятся. Так сразу и не разберёшь, кто отправился в Тень, а кто живой. Ноздри у колдуна трепетали, словно дух смерти казался ему сладким ароматом.
– Чем помочь?
– Наперво, на стол его переложим.
Девка сцепила зубы и взялась за ноги. Брезглива она не была, да и покойников каждый в Гадючьем яре хоть раз, а видал. А всё одно страшно… Ну как поднимется Костыль да как закричит: вот, мол, моя убивица!
На вид колдун был слаб да болен, однако вид оказался обманчив. Подхватил покойника под мышки да и поволок. А уж помогал себе колдунствами али нет, – того Ирга не ведала. Знай успевай ноги держать, чтобы по полу не скребли!
На стол они сгрудил труп ровно мешок с мукой. Змеелов знать не знал, что всего-то этим утром Костыль дышал, мечтал о чём-то, с девкой, вон, помиловаться надеялся. И то, что за занавеской на скамье мерно сопела его обезумевшая мать, колдуна не заботило тоже. Он потёр друг об друга и понюхал ладони, задумчиво хмыкнул и велел:
– Раздевай.
– А?
– Ты что же, глухая?
Ирга рассвирепела.
– Ещё чего!
– Тогда, верно, дурой уродилась. Раздевай, говорю! Покойника осмотреть надобно.
Девка попятилась. Почудилось, Костыль глянул на неё укоризненно из-под опущенных ресниц.
– Смотри… Что он тебе, мешает, что ли?
На мгновение Змеелов прикрыл глаза. Потом медленно пальцами зачесал назад волосы, и Ирга поняла вдруг, что он не только искалечен. Колдун ещё и смертельно, до невозможности устал. А потом он тихо и беззлобно произнёс:
– Пошла вон.
Ирга сцепила зубы и пошла. Но не прочь из избы, а к Костылю. И неуклюже негнущимися пальцами взялась распутывать воротник и пояс, стаскивать сапоги и порты. Всё ж таки дождался Костыль своего часа: Ирга его и обняла, и приласкала, и телом прильнула тесно-тесно. Да только теперь уже что толку? Тесёмки выскальзывали, непослушные пальцы, как назло, отказывались держать, и Змеелов взъярился:
– Да что ты как в первый раз, право слово!
– А это уже не твоё дело, в первый или не в первый! – рявкнула девка. И без того со страху того гляди ноги отнимутся, а тут ещё этот! – Толку с тебя что с козла молока! Если ты мужиков лучше раздеваешь, так и давай сам!
– Да корова, и та ловчее справится! Будь он живым, уже б от старости подох, покуда тебя дождался.
– А во ты знаешь, от чего он помер!
Колдун скрестил на груди руки и долго неприязненно смотрел. Ирге всё казалось, что слепой его глаз видит не меньше, а то и больше зрячего. Сразу подумалось, что рубаха, до сих пор не просохшая, льнёт к телу, а в волосах наверняка застряла водяная трава. Ох и неловко! Но колдун глядел вовсе не на девичью грудь под вышитым льном, а если и на неё, то умело скрывал. Он сказал:
– Знаю.
Иргу ровно за горло схватили. Дыхание спёрло, колени подогнулись. Ещё и этот… смотрит! Она выдавила:
– И как же?
Колдун тянул. Нарочно тянул, издевался, видел, как девка напугана и пил её страх ровно мёд, который та так и не поднесла ему. Он приблизился к нагому Костылю, а Ирга, как ни старалась смущённо отвести взгляд, выпучилась: ничего бы не пропустить! Засучил рукав – по зеленоватым жилам побежали искры, собираясь на кончиках пальцев. Провёл сияющей ладонью над покойником от самых пят и до темени, маленько задержавшись у лица. Спросил:
– Смотришь?
Ирга и рада бы ответить, да голос отнялся, и она просто кивнула. Колдун велел:
– Подойди ближе.
Когда девка послушалась, встал позади неё и поймал за локти. Горячий шёпот обжог ухо.
– Сама догадаешься?
«Знает» – поняла Ирга. – «Точно знает и насмехается!»
Пальцы Змеелова спустились от её локтей к ладоням. Колдовство покалывало кожу, пахло палёным, словно едва зарезанной свинье щетину прижигают.
– Скажи, – прошипел Змеелов.
– Я не… Это не…
– Посмотри внимательно, – кончики пальцев нежно огладили сбитые костяшки. – Что не так с ним?
– Он… Он…
Колдовское оцепенение сковало руки и ноги. Ни шевельнуться, ни вздохнуть. А Змеелов нарочно прижимался всё теснее, заставлял Иргу ближе и ближе становиться к тому, что осталось от доброго соседа, звавшегося Костылём. Не так-то плох был одинокий рыбак, если подумать. Не зол, не жесток. А что клюквенную любил пригубить, что приставал в праздник… Так кто с девками в Ночь Костров не милуется? Быть может, согласись Ирга, останься с ним, поцелуй дурака, Костыль бы выжил? Под грудью вспыхнула злость, и её хватило, чтобы сбросить оцепенение. Вернулась сила в члены, и девка оттолкнула колдуна что есть духу.
– Чего тебе от меня надо?! Не знаю я, ясно?! Не знаю, кто его убил!
Змеелов поглядел на неё иначе. Так, как глядят на козу, вставшую на задние ноги, а передними сыгравшую на баяне развесёлую песню. Брови его взметнулись вверх, волосы с проседью будто бы дыбом встали.
– Вот оно как! – Он самодовольно похрустел суставами. – Стало быть, знаешь, что не сам он помер. Что убили.
Ирга процедила:
– Ничего. Я. Не. Знаю. – А набравшись решимости крикнула: – И знать не желаю! Разбирайся здесь сам, а я домой пойду!
Она ударила себя по правой щеке, чая сбросить наваждение, добавила по левой, когда не помогло. Когда же Ирга схватилась за ручку двери, Змеелов продолжил как ни в чём не бывало:
– Его убила змеевица. Гадюка. Я говорил там, на берегу. – Он мотнул головой в сторону. – Видишь рану на щеке? И разве не ты сказала, что дома у тебя больше нет?
Ирга вцепилась в спасительную ручку.
– Я не тебе это говорила, – жалобно выдавила она.
– Но брат тебя не услышал, а я услышал. Ты сама вызвалась в помощницы, так помогай.
Ладонь бессильно соскользнула. И то верно – некуда. Ирга воротилась к колдуну и покойнику.
– Что такое змеевица?
Теперь, когда колдун указал на них, Ирга и сама заметила две крошечные точки на щеке у Костыля. Не то соринки прилипли, не то при жизни где-то поранился. Вот только ядовитые змеи отродясь местных не трогали…
– Я расскажу. – Пообещал Змеелов. – Только условие.
– Какое?
– Что прикажу, всё выполнишь.
Глава 4. Глаз покойника
Ночь за окном становилась всё гуще – хоть ложкой хлебай. Трещали кузнечики, изредка подавали голос жабы, а в пятне света сновали, охотясь за глупыми бабочками, летучие мыши. И казалось, кто-то ходит по двору, прислушивается к звукам, доносящимся из избы. Ирга вглядывалась в темень, но рассмотреть никого не могла, да и, сказать по правде, не хотела. В чёрный час разве что духи нечистые могут бродить по деревне…
Змеелов приказал зажечь все лучины и свечи, что найдутся в доме, и окружить ими покойника, но неверный свет больше мешал осматривать тело, чем помогал. Ирге всё казалось, что тени, шевелящиеся у ключиц, в волосах и меж ног у Костыля, вот-вот оживут и червями поползут по столу и вниз, свернутся меж половиц до поры и выскочат, присосутся к ступням, когда всего меньше будешь ждать.
Колдуну же хоть бы хны. Он обжимал быстро деревенеющий труп, соскабливал что-то палочкой с кожи и откладывал в сторону, принюхивался. Достал из ссобойки несколько заляпанных бутыльков. Из одного капнул Костылю на лоб. Мутные капли затерялись в волосах.
– Воняет! – пожаловалась Ирга.
– Без зелья воняло бы сильнее.
Из второго хлебнул сам. А содержимое третьего плеснул на ладонь и обтёр покойнику шею и грудь. Зелье зашипело. Ирга испугалась, что вот-вот проест кожу, но случилось иное. На нагом теле Костыля проступили зеленоватые мерцающие пятна. Не иначе грибница-ночница, освещающая болота в тёмное время, выросла! Девка ажно приподнялась со скамьи. Много чудес повидала она на Жабьем острове, иным дивиться устала. Но такое – впервые!
Колдун самодовольно хмыкнул.
– Это – следы. Его убила змеевица. Я не ошибся.
– А мог?
Он глянул на неё озверело и отрезал:
– Нет.
Ирга поёжилась. От окна тянуло холодом, рубаха не сохла, а волосы так и вовсе просыхали дай боги на следующий день после купания – такая уж девка уродилась. Но тревожно было не поэтому. Что-то тёмное ворочалось в глубине острова. Что-то, что чуял каждый, рождённый в Гадючьем яре, но чего не мог объяснить. Ирга осторожно подала голос:
– У нас с покойниками так нельзя. Не к добру…
Змеелов и не подумал остановить своё странное действо. Он лишь рассеянно отозвался:
– И как же у вас можно?
– Покойников остров забирает себе. Мы относим их на болота. А если случилось такое, что человек пропал, и труп не предали трясине…
Жуть что делалось, когда сгинул отец Костыля. Стояла зима, и озеро сковало льдом до самой большой земли. Льда было столько, что тяжёлые гружёные товаром телеги с двумя, а то и тремя впряжёнными лошадьми легко скользили по нему. В первый день после того, как исчез Азар, поднялась метель. Она не унималась до самого вечера, и тогда ещё никто не знал, что стало причиной гнева богов. На другой день ветер стих, но снег повалил с утроенной силой. Когда избы замело по окна, всем стало ясно, что глупого мужика, ввязавшегося в пьяный спор, больше нет на свете. Пережить зиму яровчанам помогла волхва. На поклон к норе ходил староста, носил богатые дары. Волхва научила его, как быть. Ясно, что того, кто сгинул в Лихоборе, не вернуть ни живым, ни мёртвым. И тогда заместо покойника сшили большую тряпичную куклу. Набили мясом да творогом – у кого что нашлось – и прямо сквозь пургу на санях повезли на болото. О том, что видели мужики на месте, по сей день никто не говорит, но первые седые волосы в бороде у старосты появились именно тогда.
Девка содрогнулась, представив ужасы, которыми могут наказать боги весь Гадючий яр из-за её молчания. Она скомкано закончила:
– Случается беда.
– Ничего, – хмыкнул колдун. – Уж в бедах я разбираюсь, придумаю что-нибудь и с этой. Подойди.
За время, минувшее с вечера, Ирга уже привыкла бездумно подчиняться колдуну. Принести, подать, полить водой, расставить лучины… Помощи с неё, прямо скажем, было немного, но девка тешила себя надеждой, что осталась при Змеелове не зря. По меньше мере, она знатно досадила Василю, а это уже много. Послушалась и в этот раз.
– Ты хотела знать, кто такие змеевицы.
Всего больше Ирга хотела бы знать, что не повинна в смерти Костыля и что никто не узнает, кто последним видел рыбака живым. Потому как иначе сосельчане рыжухе жизни не дадут, и неважно, найдут настоящего убийцу или нет. Но она молча кивнула и поднялась с лавки.
– Подойди. Ближе. Ну что ты нога за ногу! Встань рядом и прекрати дрожать!
Ирга обхватила себя за плечи и коротко отбрехалась:
– Холодно.
– Холодно – переоденься в сухое. Вон, у этой, – колдун кивнул на занавеску, отделяющую их от Блажи, – возьми что-нито.
– Нет.
– Ничего, ей уже навряд понадобится.
Девке ажно умыться захотелось, так стало гадко. Да уж, Блаже и верно навряд пригодятся как праздничные сарафаны, так и простые рубахи. Она без сыновьей помощи и вовсе в Тень скоро отправится. Материны платья тоже навряд пригодились бы владелице, однако ж, когда брат отдал их Звенигласке, хотелось удавиться. Ирга рявкнула:
– Я сказала, нет!
– Уймись. Как начну тебя силой раздевать, так верещать и будешь.
Ирга запнулась. Всего меньше она думала о том, что колдун мог оставить при себе девку не помощи ради, а для… забавы? А что? На большой земле вечно жалуются, что Гадючий яр зябок. Плыл колдун ночью, один, непонятно ещё, сколько в пути провёл. Не в ближайших же деревнях время коротал? Слухи дошли бы… А ведь Змеелов, хоть и с проседью, но не стар. И вполне может статься, что калечен он только глазом да ногой, а остальное… Что если и впрямь велел он остаться, чтобы после трудов согрела ему постель?
Сама не ведая, чего для, Ирга опустила взор. По всему выходило, что колдун от обычного мужика ничем и не отличался. От его ядовитого голоса девка едва чувств не лишилась.
– И потом они говорят, что это мужики норовят им подолы задрать. Не на ту змею смотришь, дура!
Жар бросился в лицо. Всего больше Ирге, пойманной на непотребстве, хотелось выскочить вон и никогда-никогда боле не возвращаться. Но она сделала над собой усилие и медленно подняла взгляд. Облизала пересохшие со страху губы и с вызовом спросила:
– А тебе жалко, что ли? Ну поглядела. Чать не убудет.
Колдун опешил.
– О как, – сказал он. – О как. Люблю норовистых девок! Ты, стало быть, за словом в карман не полезешь?
Он повернулся к ней, и Ирга едва поборола желание попятиться к стенке да мышкой спрятаться под лавкой. Она задрала нос, радуясь, что не видно, как дрожат колени.
– А чего за ним лезть? Оно всегда на языке вертится.
Он не спешил, давая дурёхе время опомниться и сбежать. Даже больше, нарочно растягивал каждое движение, упиваясь своей властью. Тонкие губы колдуна искривила полная яда усмешка.
– Да?
Он не шагнул, а словно проплыл к ней по воздуху. Завёл руку за спину и провёл ею по мокрой рубахе – вдоль хребта, сверху вниз, до самого пояса. От одного этого касания Иргу сковало страшное чувство, страшнее которого она не испытывала никогда – она захотела, чтобы колдун сделал так снова. А Змеелов приподнял тонкими пальцами её подбородок и прильнул губами к губам.
Мир вокруг закружился. Стало дурно и сладко, хотелось кричать и бежать прочь, а после возвращаться и снова бежать, но ноги отнялись… А потом всё прекратилось. Змеелов отстранился, словно ничего и не случилось. Словно не он украл первый поцелуй яровчанского перестарка. А после облизался и издевательски протянул:
– Никак дурно тебе, девица? Вся дрожишь. Настойки бы тебе, чтобы согреться. Клюквенной.
«Понял! Всё он понял, проклятый колдун! От меня несёт той же настойкой, что от Костыля!»
Хотелось плакать, да от слёз ничего путного не бывает, то девка давно усвоила. Она процедила:
– Думал, я пред тобой робеть стану? Выискался, тоже.
Змеелов пости что улыбнулся, но моргнул – и едва дрогнувшие уголки тонких губ снова выпрямились. Он задумчиво протянул:
– Попадись ты мне годков десять назад, иначе бы говорили. Теперь-то уже что… – и враз посерьёзнел, как и не было ничего. – Значит слушай. Змеевицы вечно голодны и вечно охотятся.
– Как звери?
– Звери убивают из нужды. Эти же твари, – он запнулся и произнёс неуверенно: – Им нравится. Так я думаю. – На миг колдун погрузился в свои мысли, но очнулся и продолжил. – Могут прикинуться человеком. Иной раз заглядишься, как красивы! – Он играючи провёл по медным волосам Ирги, и та поспешила откинуть их за спину. А Змеелов продолжил: – Но это всё ложь. Они жаждут одной только крови.
Ирга облизала губы.
– Если могут прикинуться… Как понять, что пред тобой человек, а не…
– Зелье у меня есть. Одно, чтобы выдать следы змеевицы, – он указал на пятна зелени на груди покойника. – Ещё одно, чтобы заставить её перекинуться. Человек от него околеет враз, а вот гадина… Ей яды не страшны. Но, пока не обернётся, точно не узнаешь, кто есть кто.
– А когда обернётся… Как выглядит?
Колдун осклабился. Он приблизился к покойнику, двумя пальцами раскрыл тому глаз.
– Погляди сама. Ну?
– Ты ополоумел никак! Мёртвому? В глаза?! Чтобы он меня с собой утащил?!
Змеелов поморщился.
– Уж скольким я покойникам в глаза смотрел… У некоторых из них тогда даже сердце билось.
– Ну так ты нечисть боле, чем человек!
Змеелов равнодушно пожал плечами.
– Ну так ты тоже.
Ирга вспыхнула.
– Что сказал?! – Очертила перед собой в воздухе защитный символ. – Вот тебе, погань! Будешь знать!
Колдун только любопытно склонил голову на бок.
– А самой-то как? Не жжётся?
– Нет… А…
– А должно. Сама догадаешься или подсказать? Ни в жись не поверю, что никто не заметил!
От окна всё так же тянуло холодом, мокрая рубаха льнула к телу, но отчего-то стало жарко.
– Чего не заметил?
Змеелов почти ласково пригладил редкие волосы Костыля – неуместно и тепло, словно друга в Тень провожал. И одновременно гаркнул:
– Колдовку у себя под носом!
Вольно списать все беды, выпавшие их семье, на Безлюдье. Мол, та сторона коснулась детей задолго до рождения, оттого и Лихо за ними следует, оттого ершисты и строптивы, оттого девке, что ни день, тошно солнышко встречать. Вольно… Да только неправда. Не с рождения начались беды кукушат и не со смерти доброй старухи Айры, про которую Ирга сама иной раз сказывала, мол, дар имела. Дар у Айры был лишь один – доброта. В Гадючьем яре все знали: старушка поможет советом, накормит в голодный год, утешит, обнимет… И воспитает двух сирот, брошенных матерью-кукушкой, как родных. Да, тогда начались все беды Ирги и Василя, когда мать собрала вещички да ушла, оставив сына и дочь. Тогда Василь замкнулся и никому боле не показывал, как тяжко на душе. Тогда озлилась Ирга. И Безлюдье в том винить не след.
– Врёшь.
– А ты проверь. Глянь в глаза покойнику.
Ирга осторожно приблизилась, покамест стараясь глядеть не на Костыля, а на Змеелова.
– Я что же, колдовка? Как ты?
Тот усмехнулся.
– Не как я. И в том твоё счастье.
– Враки.
– Каждая врака где-то начало берёт. – Меж бровей колдуна залегла глубокая морщина, и он добавил уже без малейшей насмешки: – Либо не верь мне и не гляди. Тебе-то лучше знать, что и с кем этот мужик перед смертью делал. Ты старосте и расскажешь.
Во рту пересохло. Вот оно как. Ни в болото, так в крапиву… Коли не сделает девка так, как требует колдун, тот сдаст её старосте с потрохами, а Первак уже начнёт пытать, когда это Ирга и Костыль успели одной настойки налакаться. Побледнев, она склонилась над покойником и пригрозила:
– Утащит меня в Тень – буду тебе ночами являться!
– Являйся. Мне обыкновенно что похуже снится.
Глаз покойника глядел на неё, не наоборот. Был он страшен и белёс, как слепой глаз колдуна, а за пеленой пряталось нечто.
Змеелов поймал Иргу пятернёй за загривок и заставил наклониться ниже. Колдовка ахнула и… увидела.
Последний миг Костыля был страшен. Чёрное небо и трясина поменялись местами, и не разобрать было, звёзды сияют али болотные огни. Мостки качались, а может то качался спьяну сам Костыль. Он лежал на них и никак не мог подняться – что-то давило на грудь, что-то, что кольцами вилось вокруг, вырастая из самого болота. Змея, огромная, холодная, с бесконечным хвостом, сжимала его в своих смертельных объятиях. А лицо её, скрытое сумраком, было человечьим. Она прильнула к нему, потёрлась о горячую грудь с судорожно колотящимся сердцем, пощекотала языком шею и губами коснулась щеки.
Когда змеевица оторвалась от лица Костыля, тот был уже мёртв.
Кто-то закричал, Ирга крикнула в ответ. И очнулась.
Змеелов держал её за плечи, сама же девка судорожно вцепилась в волосы Костыля – едва не вырвала.
– Видела? – спросил колдун.
Ирга замотала головой. Она и рада бы развидеть то, что пряталось в мёртвом глазу…
– Что это?!
По лбу и вискам стекал холодный пот, во рту было сухо, а нутро выворачивало наизнанку. За мгновение до того, как желчь всё же изверглась из желудка, колдун успел подставить девке посудину с недоеденной кашей.
– Это гадина, что убила его. Ты же хотела знать, кто такие змеевицы. Лицо разглядела?
Ирга вспомнила, что успела разглядеть, и снова склонилась над чашкой. Пустой желудок отозвался спазмом. Колдун фыркнул:
– Толку с тебя… колдовка.
Ирга хрипло отозвалась:
– Сам бы поглядел, авось больше толку было бы.
Змеелов прошёл по избе, склонился к устью печи, порылся в ларях, приоткрыл дверцу в погреб. Наконец добыл бочонок с мочёными яблоками.
– Нет уж. Приятного в том мало. На, съешь. Полегчает.
Живот снова свело. Ирга утёрла лоб рукавом.
– Так ты нарочно меня заставил? Чтобы самому не смотреть?
– Конечно. Мне ещё силы пригодятся, а с тебя хоть какая польза. Точно яблочко не будешь? Ну как хочешь. – Колдун сел на лавку и вытянул ноги. Яблоко он съел вместе с семечками и хвостиком, ничего не осталось, ещё и пальцы облизал. – Глупая ты. Неучёная. Жаль. Могла б и в самом деле помочь. Может ещё раз посмотришь? Ну как узнаешь кого из односельчан?
Ирге поплохело, но теперь уже не от колдовства.
– Это что же… Кто-то из наших мог обернуться… той тварью?
Второе яблоко сгинуло вслед за первым, и теперь уже Ирга ощутила, что и сама голодна.
– Угу. Кто-то и обернулся.
Не чуя ног, Ирга подошла и плюхнулась рядом с колдуном. Вышло, что села непозволительно близко, ажно прижалась бедром, но отодвинуться сил уже не нашлось. Колдун наклонил к ней быстро пустеющий бочонок.
– М?
На сей раз девка не побрезговала, взяла сразу два яблока и подивилась, когда те исчезли у неё во рту прежде, чем она их разглядела. Сок потёк по подбородку и, когда Змеелов стёр его пальцами, Ирга даже не стала отворачиваться.
– Я всех в Гадючьем яре знаю. Все всех знают. Кабы кто оборачивался, заметили б…
– Колдовку же у себя под носом не заметили.
– Я не…
– Поспорь ещё, мигом к старосте отправишься про клюквенную настойку рассказывать.
Яблочко комом встало в горле.
– Я просто из фляги отхлебнула. Знать не знаю, что случилось после…
Змеелов махнул на неё рукой, ясно, мол.
– С кем ваш покойничек миловался, мне неважно. А вот кому он насолил – другое дело. Признавайся, девка, околдовала кого? Может несколько мужиков по тебе сохнут? Или по этому ещё кто? – Колдун покосился на мертвеца и цокнул: – Хотя нет, по этому вряд ли.
Ирга вскочила, возмущённая. Аж силы в члены вернулись.
– Я?! С этим?! – Костыль лежал, голый и посеревший, и укоризненно взирал в потолок. Так-то плох был, что ажно после смерти меня хулишь? Ирга виновато закончила: – Не люб он мне… был. Никто не люб. Да и о Костыле, вроде, тоже никто не вздыхал.
Собравшись с духом, она вернулась к столу. Костыль лежал беззащитный, лишённый одежды и оберегов, не похороненный как подобает. Девку кольнула жалость. Она прикрыла его распахнутые веки, с усилием выровняла руки и ноги, накрыла срам одеялом и подоткнула края. Вот уже не мёртв Костыль, а всего-навсего спит.
Змеелов спросил:
– Ты с ним на болоте была?
– Нет…
– Врёшь.
Ирга закусила губу.
– Я не вру! Я просто настойки отпила и…
– И нос ему сломала? – лениво подсказал колдун. – Мне и так непросто будет гадюку отыскать, а ты ещё хуже делаешь. Отвечай немедля!
– Я не трогала его!
Колдун гаркнул:
– Правду отвечай!
Мёртвый глаз Змеелова позеленел и вспыхнул, как болотный огонёк. Подчиняясь колдовству, одеревеневшие холодные пальцы покойника крепко сжали Иргино запястье. У неё голос отнялся от страха.
– Помоги! – одними губами взмолилась она.
Но проклятый колдун как сидел на лавке так и остался, ещё и ногу на ногу закинул. По длинным пальцам его сновали зелёные искры.
– Гляди-ка! – прыснул он. – Мертвец говорит, врёшь ты всё! Признавайся, колдовка, что скрыла?
Ирга изо всех сил дёрнулась, но мёртвая хватка крепка! Только полулуния от ногтей отпечатались на коже.
– Ничего я не знаю! Пусти! Помоги мне! Пожалуйста!
– Ой, врёшь, девка! Мертвец говорит, врёшь бессовестно! Признавайся, что утаила, колдовка?
«Колдовка… А ну как взаправду? Матушка, бабушка… Кто-нибудь!»
– Пусти немедля! – взвизгнула Ирга.
Дальше разом сделалось вот что. Наперво, в дверь постучали. Да не вежливо стукнули, а со всей дури, будто телом впечатались. Никак осерчала старая Жаба, хранительница острова?! Требует к себе покойного немедля? С испугу Ирга дёрнула руку так сильно, что ногти Костыля прочертили по коже борозды. Зелёные искры на ладонях колдуна вспыхнули, и тот зашипел, стряхивая их на пол и топча сапогами. А ещё с петель слетела дверь.
На пороге, тяжело дыша, стоял Василёк. Мокрый от росы, с запавшими от усталости глазами, лохматый. Он перевёл взгляд с напуганной Ирги на колдуна и обратно, вбежал в избу и ка-а-а-ак даст Змеелову в челюсть! Едва успевший подняться навстречу незваному гостю колдун ажно к стене отлетел и снова сполз на лавку. Ошалело мотнул головой, поднял руку, видно, готовя какое-то заклятие, но Ирга кинулась меж мужчин.
– Вас, какого Лиха?!
Василь долго не думал и уже замахивался вдругорядь.
– Нутром чуял! – крикнул он. – Ты! Чтобы пальцем её…
– Да не трогал меня никто! – перебила Ирга. – Ну… Он не трогал.
Василь побледнел. Выходит, за просто так в морду колдуну дал? Экая вышла оказия…
Змеелов же огладил челюсть: вроде не сломана.
– Ты что, герой, во дворе с вечера сидел? – догадался он. – У тебя дел больше нету?!
Растерялась и Ирга. В самом деле сидел? Слушал под дверью, чтобы чужак не приставал к сестре, чтобы беды не вышло? Но заместо того, чтобы поблагодарить, она ударила Василька в плечо.
– Вконец ополоумел?!
– А сама?! – в тон ей ответил Вас. – Решила, я тебя, дуру немужнюю, одну с… этим оставлю?!
– Но-но, – негромко пригрозил Змеелов, и Вас на всякий случай сделал шаг в сторону.
– В тебя и так все пальцами тычут! Мало?
– Если и так тычут, так что мне терять?
Он мог бы привычно отбрехаться, бросить в ответ что-то обидное и злое, но заместо этого Василь просто обнял сестру одной рукой и прошептал:
– Я так испугался…
Ирга разинула рот, но не выдавила из себя ни слова ни за, ни против. Лишь умоляюще глянула на Змеелова, и тот вскинул руки кверху.
– Я, – особенно подчеркнул он, – я тебя не держу, лягушонок. Захочешь что-то рассказать, знаешь, где меня найти.
Ирга в который раз за вечер облизала губы и осторожно высвободилась из объятий брата.
– Пойдём домой…
Тот едва бегом не выскочил, но от порога вернулся и подал колдуну руку – левую, которой и бил, ибо правая едва начала шевелиться.
– Ты на меня зла не держи… Решил, ты сестру… – От одной мысли о непотребстве Василь снова стал белее извёстки и сбивчиво закончил: – Вот.
Змеелов брезгливо посмотрел на протянутую ладонь и касаться её не стал.
– Твоя сестра сама кого хочешь… – Василь начал багроветь, и колдун поправился: – Кому хочешь в морду даст.
Василёк убрал и обтёр о штаны ладонь. Деловито кивнул и вышел.
Ирга ждала брата на крыльце, в задумчивости покачиваясь с носков на пятки. Она наблюдала, как бабочка с тонкими белыми крыльями всё норовит влететь в окно избы, но раз за разом пугается, словно не тусклый свет лучины виднеется в обрамлении наличников, а самый настоящий пламень Ночи Костров. И сигануть в него боязно, и на месте оставаться невмоготу.
– Ты правда полночи во дворе сидел, меня ждал? – спросила она, не отрывая взгляда от ставней.
– Правда.
– Почему?
– Потому что правильно Айра говорила: мы вдвоём супротив всех.
Ирга вздохнула и едва слышно пробормотала:
– Вот только уже не вдвоём…
– А?
– Ничего. – Она взяла брата под локоть. С крыльца они спустились вместе. – Пойдём дом… до Звенигласки.
Ирга шла, держа брала за руку, и думала, что небесные пряхи любят пошутить. Всё же эту Ночь Костров они провели вместе с Васильком.
Во многих избах до сих пор виднелись светцы: не унять тревогу селян, не остановить беспокойные пересуды. Где-то Дан шумно баял бабке об увиденном, знатно преувеличивая свою роль в действе; Звенигласка вздыхала и гладила огромный живот, дожидаясь мужа и не ложась без него спать; Залава плакала от испуга на груди жениха-кузнеца; сестрицы-хохотушки, дочери старосты, пугали друг дружку враками одна другой страшнее. Наверняка не спал и сам Первак: спорил с женой, думал, как верней поступить. Выпроводить чужака вон и самим вызнать, что сделалось с Костылём? Принять помощь и ходить на цыпочках, опасаясь разозлить колдуна? Да и есть ли он вообще – выбор?
В Гадючьем яре все друг друга знали. Вот только кто-то из знакомцев скрывал свой истинный облик под человечьей личиной.
Глава 5. Незваный гость
Изба стояла в овраге, прячущаяся в зарослях узловатых яблонь. Прадед кукушат, первый её владелец, не шибко жаловал людей и всего меньше хотел лишний раз их встречать. Оттого, если смотреть издали, дома и вовсе было не видно – лишь убегающая вниз по склону роща. Сначала деревья были высоки, с налитой влагой листвой и раскидистыми ветвями, но внизу, у реки, они хирели и сдавались болоту. Вечерами из оврага поднимался и тянул к избе липкие пальцы густой туман. Детьми Ирга и Василёк боялись его и спешили запереть ставни, защищаясь от зла.
– Что же страшного в тумане? – посмеивалась над ними старая Айра. – То ли дело тот, кто в тумане прячется…
Дети визжали и с головами укрывались одеялом, а после выглядывали и, дрожа от страха и нетерпения, просили рассказать, кто же может прятаться во мгле. И Айра рассказывала, каждый вечер сочиняя новую враку. Про тварей зубастых и когтистых, про летающих и бегающих, про кровожадных и ненасытных… Одно было общее у всех врак: любую тварь можно было победить, взявшись за руки и смело шагнув в туман. Дети засыпали, тесно прижавшись друг к дружке и переплетя пальцы.
На сей раз Ирга спала одна, и никто не сжимал её холодную и мокрую от липкого страха руку. Ей снова снилось, что кто-то выбирается из тумана. Что ползёт меж плесневелыми стволами, что вжимается тяжёлым гибким телом в мох. Чёрная и гладкая, гадюка могла бы походить на сломанную ветку, если бы не была вдесятеро больше самой большой ветки, что мог покорить ветер. Тонкий язык её пробовал на вкус прохладный утренний воздух. Вкус гадюке нравился. Что-то смутно манило её вверх по склону. Что-то тёплое и влажное, что-то, что хочется заключить в кольцо объятий и держать так долго, покуда вся жизнь и весь огонь не перетекут в ледяные жилы змеевицы. Гадюка ползла к стоящей на отшибе избе, и Ирга нутром чуяла её приближение.
Кто-то закричал. Ирга хотела крикнуть в ответ, но в горле пересохло, и заместо крика получился хрип. После проклятого Змеелова и колдунства, что он заставил совершить Иргу, во рту всё время было сухо. Девка откинула одеяло и тихонько села. В избе стояла тишина. Последний месяц Звенигласка едва чутно храпела во сне и, хоть Ирга злилась всякий раз, как думала о ятрови, звук этот странным образом успокаивал. Василёк же спал вообще неслышно, иной раз казалось, что помер, но сестра брата всегда почует, тут не нужны ни звуки, ни запахи. В избе, окромя Ирги, не было никого.
Она спрыгнула с печи, осторожно прошлась по холодным скрипучим половицам и всё же заглянула за занавеску. С тех пор, как Василь надел Звенигласке на запястья свадебные наручи, избу пришлось переделать. Ясно, что, слишком взрослые, брат с сестрой давно не спали вместе, но до прихода в их дом Беды было иначе. Василь устраивался на полатях и, к бабскому позору, всегда пробуждался первым. Ирга же спала на женской половине за занавеской, как заведено в Гадючьем яре, да и на большой земле почти что у каждого народа. Нынче же на полатях устроили Иргу, а бывший женский угол отвели молодым. Неделя-другая, родится Соколок… Ирга ажно содрогнулась, мысленно произнеся имя сыновца. Соколок… Да… Родится младенец – станет совсем тесно. Даже вечно улыбчивая Звенигласка, и та не выдержит, спросит, не пора ли Ирге прочь со двора…
Молодых на месте не оказалась. Ирга зябко поёжилась: одна, запертая в избе, окружённой туманом, она вспомнила не только дурной сон, но и все страхи, что одолевали её сызмальства. Спасибо хоть воды дома имелось вдосталь. Ирга зачерпнула ковшом и сама не заметила, как осушила его до дна. От входа потянуло холодом – сердечко дрогнуло. С детства, напуганные враками, Ирга и Василёк запирались на щеколду, а нынче через приоткрытую щель заползал сквозняк. Девка метнулась закрыться, и тогда только увидела брата, сидящего на влажной от росы ступеньке спиною к двери.
– Вас… – окликнула она, но брат не услышал.
Рыжие кудри Василька золотились заместо рассветных лучей, в низину не достающих. Он слегка покачивался из стороны в сторону и мурлыкал себе под нос давно позабытую братом и сестрой песню. Дневное светило поднималось всё выше, но никак не могло затопить светом тёмный овраг, в котором прятался дом, и туман, чуя, что время его на исходе, становился лишь гуще у нижней ступени крыльца.
– Василёк!
Брат не обернулся. Лишь, кажется, петь стал громче. Зато туман заполз ещё на ступень выше, почти коснулся пальцев на босых ступнях. Ирга распахнула дверь, та стукнула об косяк, но отчего-то не раздалось ни звука. Лишь песня продолжала звучать…
– Вас, пойдём домой! – взмолилась Ирга.
Она наклонилась, тронула брата за плечо. Тот качнулся ещё раз и замер. А у Ирги снова пересохло во рту. Туман, оплетающий ноги Василька, был чёрным. Да и не туман вовсе, а длиннющий змеиный хвост. Кольца сжимались, новыми и новыми петлями захлёстывали тело. Но Василёк словно не видел. Сидел, улыбаясь, и мурлыкал себе под нос.
– Вас! Василёк! Ва-а-а-ас! – Ирга трясла его изо всех сил, кричала и звала… – Вас! Вас, проснись! Проснись, пожалуйста!
Она заплакала и… проснулась.
Холодные слёзы царапали скулы и ныряли в уши. Она лежала на спине, вытянувшись стрункой и таращилась в потолок. Во рту было сухо от ужаса. Ирга хотела вскочить, но запуталась в одеяле и с грохотом свалилась на пол.
– Ирга! Живая?
Первое, что она увидела, – запертую на щеколду дверь. Потом ноги брата и обеспокоенное, круглое ото сна, лицо Звенигласки.
– Серденько, ушиблась?
Ирга натянуто улыбнулась – пересохшие губы треснули.
– Повернулась неловко, – соврала она. – Бывает же. Ровно дитё малое…
Голос у Ирги дрожал, а взгляда она никак не могла оторвать от ног брата. На икрах, пониже колен, темнели продолговатые синяки.
***
Наперво, Первак отослал дочерей к тётке, дабы не совали любопытные носы, куда не просят. После вызвал соглядатая – неприметного дедка усмаря, чтобы доложил, как ведёт себя чужак и чего требует. И, конечно же, чтобы получше рассмотрел покойника. Можно было б и самому сорваться с места, никто бы не осудил. Но прежде следовало понять, что сказать людям. Увидь яровчане, что староста напуган и растерян, как и все в селении, началась бы настоящая буря. А поскольку бури хотелось избежать, Первак решил поступить так, как поступает любой умный мужик – посовещаться с женою.
Шулла надоумила его повременить до утра с суетой. Она, как и супруг, спать не ложилась. Уснёшь тут, когда эдакое Лихо в Гадючий яр пожаловало! Да ещё и Костыль этот… Парня-то жаль, конечно, ну да разобрались бы как-нибудь. А вот что делать с колдуном?
Первак сидел в маленькой сторожке, поставленной во дворе нарочно для таких вот бессонных ночей. Здесь у него имелся и какой-никакой инструмент – руки занять, и припрятанная бутыль медовухи, дабы мысли привести в порядок. Накинув на плечи платок, Шулла спустилась с крыльца и уверенно направилась к кривоватой постройке, кокетливо укутавшейся орешником.
– Не идёт? – спросила она только чтобы завести разговор. И без того ясно, что колдун на поклон к старосте не спешит.
Первак пожал плечами, одновременно убирая в тайничок бутыль, но Шулла придержала его руку. Из-под тёплого платка вынырнули кружки – две штуки. Староста расслабленно выдохнул и позволил жене зарыться пальцами в его бороду, почесать да разобрать колтуны. Стало полегче.
Первую чашку Первак наполнил для зазнобушки, вторую для себя. Отпили. Помолчали. И, наконец, старосту прорвало.
– Это не он Лихо на шее принёс, это само Лихо привело к нам колдуна! Это ж надо, а? Вот только нам этого не хватало…
Шулла сделала большой глоток и отставила чашку, положила крупные ладони на мужнины плечи, размяла.
– Погоди бушуянить. Ещё только рассвет забрезжил. Авось придёт на поклон, как нормальный человек, и всё решите. И от колдуна может быть польза.
– От обычного колдуна, может, и была бы, – пробурчал Первак, но пробурчал, скорее, досадливо, чем зло. Всё ж трудно свирепствовать, когда любимая гладит да успокаивает. – Но то Змеелов…
– Да слухи это всё. Колдун он самый обыкновенный, каковых на двенадцать дюжина!
– Слухи на пустом месте не родятся…
– Зато плодятся потом что крысы. И поди пойми, которая первой уродилась. Дождись Змеелова да поговорите с глазу на глаз. Будет с него толк, сердцем чую, что будет.
От эдаких слов Первак едва не взвыл. Бывают на свете колдовки, бывают волхвы и пророчицы. А есть его жена. Что Шулла не скажет, всё наоборот делается. Сердцем чуяла, что носит мальчика – родила двух дочек. Чуяла тёплую зиму – ударили морозы. Ночь Костров она тоже пророчила мирную, а вона как повернулось.
– Может взаправду стоит переговорить. Ну как нормальный мужик окажется? – Калитка скрипнула, и обнадёженный Первак ажно приподнялся навстречу, но оказалось, то с ночной прогулки возвращается жирный полосатый кот. Староста схватился за кружку с мёдом, но к губам так и не поднёс, лишь стукнул ею со всей дури по маленькому столику и крикнул: – Ну так не идёт же, паскудник!
Медовуха расплескалась, попала на штаны и рубаху, Первак скорее стёр её, покуда жена не заметила, но пятна всё одно остались. Тогда Шулла отодвинула чашку подальше и уселась к мужу на колени – словно одеяло пуховое укутало! Мягкая и тёплая, она умела окружить мужа любовью что двадцать лет назад, что нынче. Разве что держать её стало самую малость тяжелее, но разве это беда?
Первак обхватил её насколько хватило рук и уткнулся носом в пышущую теплом, как тесто всходящее, грудь.
– И за что мне такая ноша… – устало пробормотал он.
Шулла обняла мужа в ответ, а того, что вторая чашка с медовухой полетела на землю, никто уже и не заметил. Она прошептала:
– Кому-то же надо её нести. Вместе управимся. Сердцем чую…
Змеелов не явился к старосте ни с рассветом, ни когда поднялись даже самые заядлые яровчанские лежебоки. Первак с женой успели приговорить медовуху, вздремнуть, проснуться, накормить и выгнать к пастуху скотину, проведать дочерей у тётки: не натворили ли чего? Но колдуна так и не было.
– Что же, – решил староста, поглаживая бороду, в которой прибавилось не так уж много седины за последние годы, – стало быть, пойду к нему сам. Чать ещё не старик, ноги не отсохнут. Если конечно, – Первак нервно усмехнулся, – колдун тому не поспособствует…
– Ну и сходи, – поддержала его Шулла. – И я с тобой схожу.
– Вот ещё! Мало мне одной напасти? А ну как сглазит?
Жена уперла кулаки в пышные бёдра. Туго сплатённая коса её лежала на высокой груди, хвостик покачивался из стороны в сторону, как хвост злющей кошки: сунься – задерёт!
– А с меня как с гуся вода!
Но жена у старосты имелась одна, притом любимая. Так что он крепко поцеловал Шуллу и велел:
– Дома сиди. Пойду мимо Аши – малявок домой отправлю. Ты их, главное, займи получше, чтобы ни продохнуть было. А то улучат момент, и побегут выяснять, откуда враки про Змеелова берутся.
Шулла поджала губы, но перечить мужу не стала. Всё одно ж потом у неё же совета спросит да всё расскажет.
А Первак тем временем переоделся в чистое, подумал-подумал, да и подвязал к поясу ножны с кривым доставшимся от деда-шляха мечом. Управляться с тем мечом, если по правде, он не умел, но слыхал, что всего сподручнее рубить, сидя верхом. Пожевал губами около конюшни, но тревожить старую клячу Берёзку не стал.
Усмарь Лаз к своим годам был слеп, как крот, но, вопреки этому, видел и знал побольше некоторых. Он донёс старосте о приплывшем на утлом судёнышке чужаке, он же рассказал про беду с Костылём и про то, что назвался чужак Змееловом. Едва Дневное светило вступило в свои права, Лаз же доложил, что обосновался Змеелов в доме покойника, ведёт себя как хозяин и убираться восвояси, как, впрочем, и просить у старосты дозволения остаться, не собирается. А коли так, пора уже и самому старосте что-то сделать, а не сидеть на месте. Первак вышел со двора.
– Утречко доброе, батюшка!
При виде Первака старуха Лая расплылась в такой улыбке, какую впору назвать оскалом. И, хотя она сама годилась Перваку в бабки, низенько поклонилась.
– И тебе доброго денёчка, бабушка. – Первак тоже поклонился. – А ты что здесь? Не ко мне ли? Дело какое?
Жила Лая на другом конце селения, почти у самого оврага, где после пропажи кукушки обосновалась добрая Айра, а ходила медленно. Чтобы застать старосту покидающим двор, ей пришлось бы самой подняться ещё до рассвета. Лая замахала руками.
– Что ты, Первак, что ты! Какое у меня может быть дело? Так, кости разминаю…
– Эка, что любопытство с людьми делает! – пробормотал староста.
– Что говоришь?
Первак повысил голос:
– Любопытно, говорю, помогает ли!
– А как же! – Лая подхватила юбки и подбежала к старосте, как молоденькая. И верно, помогает… – Ты мне лучше вот что скажи. Колдун-то к тебе приходил? Ответ держал?
Признаваться, что сам направляется к Змеелову, Первак не хотел, но врать был не приучен.
– Да вот, как раз проведать гостя иду. Узнать, с добром к нам али с худом.
– Как же это может быть с добром, если с него смерти и начались?!
Первак нахмурился:
– Смерти?
– Покамест одна, – старуха заговорщицки наклонилась, – но помяни моё слово: ыш-шо будут!
– Тьфу на тебя, дура, – беззлобно сказал Первак. – Коли заняться нечем, шла бы вон пастуху помогла. Скотина последние дни беспокойная, парень один не справляется. Всё больше проку, чем слухи разносить.
– Слухи на пустом месте не родятся, – прошелестела бабка, а Первак зарёкся когда-либо так говорить.
***
Змеелов нашёлся в избе покойника, как и донёс усмарь Лаз. Видно, ночка выдалась у него та ещё, потому что на окрик старосты никто не откликнулся, а когда Первак вошёл в дом без спросу, обнаружил, что колдун сладко спит на кровати Костыля, свернувшись калачиком, как младенец. Из-за занавески в женской половине доносилось ровное сопение: то никак не могла очнуться от колдовского сна бедная Блажа. Ну да ей и лучше проспать то, что увидал Первак. Покойник, нагой и искорёженный, да к тому ж со вспоротой грудиной, лежал на столе. В избе витал дух смерти, крови и тухлой воды.
Кто знал Первака давно, мог бы сказать, что мужик он тихий да мирный. Но лишь до тех пор, покуда не случится несчастье. Тут-то он за своих становился горой, борода его, с редкими седыми волосками, по-боевому топорщилась, а голос набирал силу. Так вышло и на сей раз.
– А ну, кого это Лихо привело в Гадючий яр?! – гаркнул он. – Ишь, разлёгся!
Он ударил по ставням, кем-то заложенным на ночь, и в дом сразу хлынул свежий солнечный воздух. Кажется, даже мертвец вздохнул с благодарностью вспоротой грудью.
– Ты что творишь, нелюдь?!
Первак было кинулся к колдуну, готовый схватить его за грудки, но тот успел не только проснуться, но и неслышно встать и прикрыть балахоном искорёженное тело.
– Ты что ли староста? – зевнул Змеелов.
– А ты что ли колдун? – не остался в долгу Первак. – Что творишь? Без спросу и дозволения, без благословения волхвы!
Колдун перебил:
– Тебе уже всё донесли или рассказать что?
– Что мне донесли, не твоего ума дело. Рассказывай за себя.
Змеелов хмыкнул: рассказывай так рассказывай.
– Кто я такой, ты знаешь.
Первак кивнул. Кто не знает Змеелова? Вот только о том, что до минувшей ночи считал странствующего колдуна выдумкой, он умолчал.
– Три дня назад я узнал, что в Гадючьем яре проснулась смерть.
– Как узнал? Три дня назад мы к празднику готовились, даже волхва дурного не чуяла.
– Как узнал – не твоего ума дела. – Колдун потянулся до хруста суставов, рубаха задралась, обнажая впалый бледный живот, изрезанный шрамами, и низ торчащих рёбер. – Узнал – и всё. Я спешил. Но обогнать гадюку мне не удавалось ещё ни разу, не удалось и теперь.
– Враки. Ты явился на остров, и сразу нашёлся труп. Откель нам знать, что не ты сам Костыля и убил?
Змеелов ошалело моргнул, обернулся на стол с покойником и моргнул ещё раз. Видно, такая мысль ему в голову не приходила.
– Потому что, убей его я, вы бы не нашли трупа, – просто ответил он. – Ну и ещё…
Змеелов окинул старосту испытующим взглядом: достаточно ли крепок желудком? Пожал плечами и махнул, пойдём, мол. Открыл лицо покойника, на всякий случай, не убирая балахона с грудины, и с усилием повернул голову Костыля. Две точки от укуса, едва заметные с вечера, на впалой щеке проявились сильнее, вокруг каждой виднелся синий ореол. Староста осенил себя защитным знаком.
– Змеи местных не трогают…
– Это была не змея. Это была змеевица.
– Щур, вырви тебе язык! – Но щур просьбу не выполнил, и тогда Первак дёрнул себя за бороду, выдёргивая несколько волосков. Растерянно посмотрел на них, хотел швырнуть на пол, но поостерёгся и бережно спрятал в карман. Мало ли, колдун подберёт? Едва слышно он прошептал: – Нет в наших краях змеевиц! Нет и не было никогда! Да и существуют ли – бабушка надвое сказала!
Колдун времени зря не терял. Успел засучить рукава и умыться из небольшой бадейки в углу комнаты, пригладил вечно спадающие на лицо волосы, но те упрямо вернулись на место. Казалось, он вовсе не слушает бормотание старосты, однако выяснилось, что не упустил ни слова.
– Угу, и всех тех, кого я уже выследил и убил, тоже бабушка насочиняла. Ты небось до сегодняшнего утра и меня выдумкой считал, однако ж вот он – Змеелов. Стоит пред тобой и… – Голодное урчание в животе прервало ядовитую речь, и колдун закончил, задумчиво почесав рёбра: – И, честно говоря, жрать хочет как собака.
Не обращая внимания на Первака, он уже привычно полез по котелкам да кладовкам. Аппетит у Змеелова был знатный: всего-то ночь провёл в доме Костыля, а проредить запасы снеди успел всерьёз. Староста сцепил зубы. Ни поклона, ни спроса дозволения остаться он от колдуна не дождался. Ошиблась Шулла, толку с такого гостя не будет.
– Вот что, – решил Первак. – Сядь да послушай, что скажу.
Окорок, припрятанный в дальней части кладовки, заинтересовал колдуна куда как больше. Он выволок его в кухню и уселся, как было велено. Правда, уселся не на лавку, куда указывал Первак, а за стол, к покойнику. Ещё и локтями подвинул тело, освобождая место для еды. Достал нож и принялся строгать мясо. В Гадючьем яре так только рыбу жрали: большими кусками, не разжёвывая. К чему беречь, если уж чем-чем, а рыбой остров не обижен? Мясо же берегли, доставали по праздникам и резали тоненько-тоненько, чтобы надолго хватило. Первак ажно слюну проглотил от зависти. А колдун, нахально чавкая, указал кончиком ножа на вторую лавку у стола.
– Ну? Говори что хотел.
Сесть подле мертвеца не осмелился бы не то что староста, а и вообще никто. Разве что старая Айра при жизни не боялась и любила говаривать, мол, от покойников урону меньше, чем от живых. Но и выказать испуг никак было не можно.
Первак встал подле лавки и скрестил руки на груди.
– Вот что, милчлавек…
– Вали-ка ты подобру-поздорову? – со смешком перебил его колдун.
Первак нахмурился. Терпение его иссякало скорее, чем вода в Мёртвых землях, о которых рассказывал дед.
– Да, – кивнул он. – Вали-ка. Гадючий яр – остров особенный. Мы здесь все друг за друга держимся и со своими бедами тоже привыкли справляться сами. Без чужаков. Тем более, без таких чужаков, как ты.
– Так уж и держитесь? – сощурился Змеелов.
– Да. Мы – семья. А в семье всякое случиться может. И склоки, и ссоры, и…
– Убийства?
Первак запнулся, но твёрдо закончил:
– И виновника, коли он имеется, мы тоже найдём сами.
Змеелов выслушал, подчёркнуто медленно прожевал и проглотил. Выпуклый кадык на его тощей шее судорожно дёрнулся вверх-вниз.
– Нет.
– Что?
– Нет. Я поймаю змеевицу и убью.
Первак побагровел.
– Кого убивать на нашем острове, мы решим сами! И помощники нам не надобны!
На что колдун спокойно ответил:
– А я и не помощник. Я Змеелов. Я ловлю змей. Не для вас. Не для покойников. Для себя. И я уйду тогда, когда посчитаю нужным. – Он внимательно оглядел старосту. Первак, хоть и был крепок и силой не обделён, отчего-то поёжился. – Или ты попробуешь меня вышвырнуть?
– Убир-р-райся!
– И не подумаю.
– Здесь тебе не будет ни дружбы, ни подмоги. Змеевицу не поймаешь и сам сгинешь! Остров тебя не примет!
– С островом я как-нибудь договорюсь. А друзей мне и подавно не надо. Тем паче из вашего болота.
Тут-то староста и сорвался. Мирным и тихим его знали лишь те, кто не додумался слова худого сказать о месте, где прижился Первак. А место это он любил всем своим огромным сердцем. Руки сами собой сжались в кулаки, а тело бросилось вперёд. Позабыв про меч у бедра, он замахнулся и ударил… ударил бы. Да только в глазах колдуна – чёрном и белёсом, слепом, – вспыхнули зелёные искры. Он не вскочил, не отклонился. Битвы Змеелов не принял. Лишь взмахнул рукой, как будто комара сгонял. Казалось, не коснулся даже летящего в него кулака. Однако рука до самого плеча у старосты отнялась и потяжелела. Тот едва не упал с непривычки. А колдун отрезал себе ещё пласт мяса и, запрокинув голову, медленно погрузил в глотку.
– Уйду тогда, когда сам пожелаю.
Мало кто может выглядеть устрашающе с набитым ртом. Змеелов – мог. Первак баюкал отнятую руку и гадал, вернётся ли та к нему или теперь придётся заново учиться лапти плести левой. Он бессильно крикнул:
– Не будет тебе здесь ничего! Ни встречи, ни доброго слова ни… – униженный, он вцепился в остатки окорока, – ни жратвы!
Закинул кость на плечо, как дубину, и выскочил во двор. А Змеелов положил подбородок на сцепленные пальцы и задумчиво протянул в закрывающуюся дверь:
– Вот разве что последнее меня и напугало.
***
С крыльца староста скатился кубарем и едва не сбил идущего ему на встречу Василька.
– А ты здесь откель?! – рявкнул он, но, узнав сосельчанина, смягчился. – Тьфу, Вас, ты?
– И тебе не хворать, – хмыкнул Василь. – Что, с колдуном уже познакомился?
Староста крутанул торсом – отнятая рука заболталась что верёвка.
– Как видишь! Вот уж не думал, что меня в мои-то годы из дому будут вышвыривать что щеня обмочившегося!
– Ну зато хоть не с пустыми руками… Рукой, – хохотнул Вас.
Только тут Первак понял, что шёл Змеелову показать, кто в Яре за главного, а убрался, один окорок отвоевав, да и тот почти что съеденный.
– От нелёгкая! – Он плюнул под ноги и впихнул обстугыш Василю. – Он мне и не нужен был. От вредности забрал… А ты чего к… этому? Неужто успел уже, погань колдовская, что-то натворить?
Василь смущённо почесал правую руку. Та, хоть и двигалась, но слушалась пока хуже левой.
– Да это как сказать… Я тётку Блажу забрать. Негоже ей в доме с покойником. Пусть бы у нас пожила…
– Это где интересно? Вам троим и так места не хватает, а скоро четвёртый… А знаешь, что? – Первак обернулся на избу покойного Костыля. Изба у него была не сказать что дивно богатая, но поболе Василёвской. Да и за безумной Блажей, оставшейся без сына, присмотр нужен. Он заговорщицки поманил к себе Василька. – Мы лучше вот как сделаем…
***
Имелась у Василька привычка. Дурной её не назвать, скорее даже дельная. Вставал он всех первее, ещё петухи, и те сонно клонили головы, зато Василёк уже и траву накосит, и коней из ночного пригнать поможет, и дров наколет. К вечеру, ясно, первым и носом клевать начинал, но зато хозяином в доме был – залюбуешься!
Ирга же, напротив, ночью при светцах и шила, и вязала, и посуду мыла. Иной раз и светец не нужен был – глаза привыкали к темноте, работалось легко и радостно. Звенигласка всё дивилась: как это брат с сестрой, а словно на разных концах земли выросли?
Словом, когда Ирга свалилась с печи из-за дурного сна, Василёк уже вовсю хлопотал по хозяйству. И, пока сестра толком проснулась, успел убежать ещё по какому-то делу. Потому, пропалывая грядки вместе со Звениглаской, Ирга нет-нет а поглядывала через забор: не мелькнёт ли рыжая макушка?
В их овраг дневное светило приходило поздно, работать было свежо и в полдень, и после, когда остальные яровчане потихоньку прятались в тень. Но то ли дурной сон сказался, то ли то, что добрую половину ночи Ирга провела с колдуном, боясь не то что сказать лишнего, а и вдохнуть, работа валилась из рук. От Звенигласкиного труда тоже толку было мало: ни наклониться из-за необъятного пуза, ни ведро с водой принести. Знай оттаскивала охапки сорной травы. Но и тут оказалась не ко двору.
– Ох!
Беременная сморщилась и схватилась за живот, сорняки так и полетели на землю. Ирга, наперво, вскочила поддержать Звенигласку под локоть, и потом только досадливо выругалась:
– Сказано ж было, дома сиди! А ежели разрешишься мне посередь двора, что делать будем?!
Что было страшнее – роды в неурочный час, не под крышей и без мужа или само явление племянника на свет – Ирга ответить потрудилась бы. Нутром только чуяла, что грядёт нечто, что навсегда лишит её и брата, и родного дома. Звенигласка же знай улыбалась и ласково наглаживала живот.
– Не пугайся, серденько! Толкается Соколок. Хочешь потрогать?
Она взялась за запястье Ирги, но та в ужасе вырвала руку. И, озлившись сама на себя, рявкнула:
– Молчи, дура! А если имя нечистик какой услышит? Себя не бережёшь, так ребёнка побереги!
По-хорошему, вне защиты родных стен и вовсе не следовало говорить, что баба в тяжести. Лихо незряче, зато слух у него – обзавидуешься! И поди потом выпроводи, коли прицепится… А Звенигласку разве заставишь молчать?
Но того больше Иргу напугало другое. Ну как Змеелов ночью сказал правду? Что если Ирга и впрямь переняла колдовской дар? Не от Айры, нет. Добрая старушка всем хороша была, каждому помогала и враки сказывала – заслушаешься! Но дар её был светлыми богами даден, а никак не Безлюдьем. И белые ленты на дереве, что выросло на болотах, лучше всего то доказывали. Но что если мать, которую Ирга и не помнила толком, не просто исчезла, а оставила после себя наследство? Что если отец, которого брат с сестрой в глаза не видали, хранил страшную тайну? Что если Ирга – колдовка? Не ровен час, навредит племяннику, сама того не желая. Или желая?
Звенигласке до тяжких Иргиных дум дела не было, в её светлой головушке чёрные мысли не задерживались. Она виновато улыбнулась.
– Я присяду… Отдохну маленько. – И вдруг позвала так отчаянно, как будто силилась докричаться до другого берега озера: – Ирга!
Рыжуха поспешила вернуться к работе. На Звенигласку она старалась не глядеть и откликнулась едва ли не со злостью:
– Ну чего тебе ещё?
– Спасибо… – стушевалась Звенигласка. – За… за всё спасибо.
Ирга махнула рукой, дескать, не до тебя. А сама подумала, что хорошо бы Гадючий яр проглотил её, как болото глотает покойников. Авось тогда сердце не рвалось бы на части.
А Звенигласка возьми и завой! Крупные слёзы покатились по щекам, небесно-синие очи заволокло тучами. У Ирги сердце сжалось: вспомнила, как вытаскивала из мутной водицы скулящий грязный комочек, над которым надругался не человек даже, а самый настоящий нелюдь. Это ж каким зверем надобно быть, чтобы зажечь в круглых наивных глазах пламень ужаса?
Ирга и не поняла, как метнулась к ятрови, как прижала её зарёванное лицо к груди. Всё ж они с Васильком, хоть и разные были, а из одной утробы вышли, и оба супротив Звенигласкиных слёз ничего сделать не могли… А та вцепилась в Иргин сарафан, словно рыжуха сбежать чаяла, и, глотая рыдания, выдавила:
– Прости меня, серденько! Прости дуру-у-у-у!
– Ну что воешь, что? Не ровен час, соседи сбегутся, решат, режу тебя!
Как так вышло, Ирга и сама потрудилась бы сказать, но скоро они со Звениглаской уже сидели подле узловатой старой яблони, что давно не приносила здоровых плодов, но срубить её не поднялась бы рука ни у Ирги, ни у Василя. В детстве они с братом прятались от Айры в её ветвях, коли натворили чего, а иной раз и вовсе залезали просто так, поболтать босыми грязными ступнями, рассказать друг дружке, какие мысли в голове роятся и о чём мечтается. И вот теперь в тени этой самой яблони Ирга баюкала затихающую Звенигласку, гладила по русым волосам и шептала:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71468332?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Здесь в значении невестка
2
Племянник, сын младшего брата
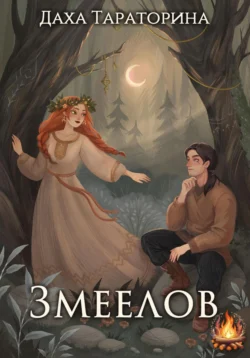
Даха Тараторина
Тип: электронная книга
Жанр: Любовное фэнтези
Язык: на русском языке
Стоимость: 199.00 ₽
Издательство: Автор
Дата публикации: 25.12.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Ходят враки, что рождён он самим туманом.