Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 4. Вещь, объект
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 4. Вещь, объект
Валерий Алексеевич Антонов
Анализ отношений между субъектом и объектом в философии обретает особую значимость. Он помогает нам осознать, как мы, в свою очередь, формируем значения, укорененные в контексте времени и места, тем самым расширяя наше понимание не только себя, но и окружающего мира.
Германия: философия XIX – начала XX вв.
Том 4. Вещь, объект
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-7819-0 (т. 4)
ISBN 978-5-0064-7775-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Данное собрание из 7 томов включает следующие тома: 1 том «Причинность и детерминизм», 2 том «Скептицизм и пессимизм», 3 том «Идентичность», 4 том «Вещь, объект», 5 том «Номинализм», 6 том «Иррациональность», 7 том «Материализм».
Фриц Маутнер (1849 – 1923)
Предмет
Gegenstand – очевидно, не совсем удачный заимствованный перевод старого философского термина Objekt. Сегодня, после более чем 150-летней жизни, это слово все еще имеет тревожные нотки для очень чувствительных ушей, как в языке искусства, так и в обыденном языке. Я попытаюсь доказать это на двух крайних примерах.
В философском языке, как указывает немецкий словарь, мы в последнее время снова склонны уточнять «предмет» через понятие «объект» или, возможно, просто говорить «объект». В поэтическом языке, несмотря на Гёте и Шиллера, употребление этого слова не совсем соответствует природе немецкого языка. Мое ухо воспринимает «предмет» как предкантианское, как и Готтшед страстно относился к этому слову. В печально известных строках Фридерики Кемпнер: «справа в конце, слева в конце
одни весенние предметы.»
Слово «Gegenstand» выглядит особенно комично.
Эта едва уловимая странность слова вряд ли может быть порождена лингвистической интуицией, которая когда-то (еще при А?делунге) различала этимологию и противилась тому, чтобы называть «термином» любой объект реального мира. Это слово стало для нас вполне привычным. Правда, как мне кажется, только в двух значениях: во-первых, в академическом языке для обозначения объекта внимания (предмета доклада), а во-вторых, в самом широком смысле для обозначения предмета, вещи, материи, но на самом деле только материи, исключая органические вещи. Мы никогда не называем фиалку объектом.
История этого слова начинается с технического использования греческого термина [hypokeimenon – wp]. Интересно, что раньше оно означало то же самое, что и наш «объект» сейчас: предмет, представленный для тщательного изучения, предмет исследования, argumentum. Аристотель часто использовал его в смысле того, что лежит под ним.
В Средние века латинский заимствованный перевод греческого слова был subjectum. Древние латиняне понимали subjectum, помимо первоначального значения прилагательного subjectus (которое является источником французского слова sujet; subject, переводится как подчиненный, заимствованный перевод), прежде всего как грамматический термин. Августин прямо заявляет, что в его время латинские заимствования из греческого языка были иногда менее распространены, чем сами греческие слова. Споры велись по поводу латинских заимствований, но не по поводу греческих оригиналов; точно так же мы считаем, что сегодня можем прояснить понятия, используя этот термин объективно.
В самом греческом языке слова [ousia – wp] и [hypokeimenon – wp] были концептуально очень близки. Первое переводилось как essentia, второе вскоре как subjectum, а вскоре (кем впервые?) как substantia Августин почувствовал разницу и хотел, чтобы Бог назывался только сущностью, а не субстанцией, по тонким причинам его лингвистического чувства.
Итак, вы видите, что средневековое использование языка называло субъективным практически то же самое, что мы сейчас называем предметным. Как это часто бывает, особенно у Аристотеля, метафизика явно находилась под влиянием грамматики. Субъективным было то, что принадлежало субъекту; субъект иногда обозначал то, о чем что-то предицировалось, то есть очень часто конкретный предмет, иногда сущность предмета, или объективным, согласно психологии того времени и латинской формулировке, называлось то, что было вызвано в представлениях их воображателем, то, что мы сейчас называем субъективным. Только на рубеже семнадцатого века эти два термина стали постепенно взаимозаменяться, причем именно в Германии. Предметное и реальное стали почти синонимами. А в языке Канта схоластический subjectum уже настолько полностью утрачен, что он не использует его там, где он был бы уникален. Мир стал предметным. Но под этим предметным миром предметов скрывается нечто иное, именно субъект. И это то, что Кант называет вещью-в-себе, предметом в себе. Если бы Канту удалось сохранить старые схоластические выражения, назвать свою вещь-в-себе предметом-в-себе, великий человек был бы избавлен от самой глубокой ошибки своей системы, а именно от того, что именно человеческий разум вызывает то, что вызывает все человеческие идеи: распространение понятия причинности на вещь-в-себе. Вернее: тогда Кант рисковал бы впасть в гениальное следствие своего ученика Фихте.
Чередование двух терминов – субъективного и объективного – также может привести к трудностям с изобретением хорошего немецкого слова для обозначения вещи. В старых заимствованных переводах перед словом subjectum стоит subject, в новых – object. Objekt буквально передается с помощью Gegenwurf или Widerwurf (Экхарт), subject – Unterwurf. Кроме того, у Экхарта для обозначения субстанций уже используются стоящие или само стоящие существа. Из всех этих попыток перевода заимствований до наших дней сохранилась только одна, наполовину устаревшая: упрек.
Мы все еще понимаем, когда читаем упрек у Лессинга или Шиллера, в смысле предмета, предмета трактата, описания. Однако упрек, который на протяжении веков был очень распространенным словом в языке мистиков и теологов, стал совершенно непонятным для сегодняшнего обыденного языка. Настолько непонятным, что его легко понять неправильно там, где оно встречается у старых авторов (вплоть до Гагедорна).
Слово действительно вышло из употребления как раз в то время, когда в Германии стали заменять термины «субъективный» и «предметный». Постепенно оно было воспринято, опять же в случае заученной народной этимологии, как перевод возражения (вместо objet), [antikeimenon – wp] вместо [hypokeimenon – wp], и поскольку слова Einwurf или Widerspruch уже были доступны, слово Gegenwurf должно было умереть.
В переходный период произошло изменение значения слова предмет, а не новое создание слова. С XVI века оно использовалось в значении сопротивления или оппозиции. Так было с Галлером, который в конце жизни превратил предмет тщательности и добродетели в оппозицию. Object также было очень хорошо сказано в смысле астрономической оппозиции. Но это слово, как Gegenschein и Widerschein, тоже умерло бы, если бы его не воскресил Христиан Вольфф, использовавший его для обозначения предмета в школьном языке.
Я не могу доказать это на основании источников, но, должно быть, когда-то предмет был механическим заимствованным переводом слова obstantia. Obstantia, должно быть, когда-то было более распространенным школьным выражением, в котором значения substantia, субъекта и предмета примерно сливались. В том смысле, в котором obstantia обозначалась предметом, сегодня нам понятнее было бы сказать «противодействие».
Таким образом, Gegenstand стал техническим выражением эпистемологии, перешел через популярные писания в общий язык и стал лишним и до сих пор ложно звучащим синонимом Ding или Sache. Заимствованный перевод Gegenstand впервые зафиксирован Штилером (1691), слово, вероятно, образовалось в «Фруктовом обществе»; но даже Томазий неохотно его признает.
В немецком просторечии слова Ding и Sache стали гораздо более живыми и плодотворными, чем Gegenstand. Такие фразы, как ein liebes Ding (для девочек), Dinger (с измененным множественным числом) для пустяков или mach keine Sachen, не развились из Gegenstand. Тем не менее, можно предположить, что и Ding, и Sache приобрели свое нынешнее значение в результате сознательного или бессознательного перевода заимствований.
В основе лежит среднелатинское causa (причина и выбор). В случае с Ding это употребление должно восходить к очень древним временам; Грим принимает за оригинал юридическое значение litigium. В Sache старое значение Rechtshandel (lis) еще более очевидно, даже если оставить в стороне сомнительную этимологию. (Любопытно, что chose, как и Gegenstand (согласно Литтре), также обозначает только tout ce qui est inanimе [все неодушевленное – wp].
Если мы перейдем к современному употреблению этих терминов, то последний вопрос эпистемологии снова можно поставить в кажущейся схоластической форме (самые глубокие спекуляции часто обвиняются обывателями в схоластике): являются ли предметы, производимые нами, субъектами? (На самом деле верно только в единственном числе: мной, единственным субъектом.) Или мы, субъекты, производим предметы?
Только лингвистическая критика видит игру этой антиномии. Только лингвистическая критика воспринимает наши чувства как случайные чувства и видит абсолютную необходимость, с которой предметы принуждают нас к нашим представлениям о них, как историческую необходимость, то есть, как и вся история, как случайность. Если мы путаем эту предметную необходимость с предметной закономерностью, то впадаем в наивный реализм Бютхнера и Геккеля. Если мы подозреваем немыслимость предметов и считаем наши бедные пять чувств прекрасными инструментами прекрасного разума, мы становимся жертвой теологического или, в конечном счете, спиритуалистического реализма скептического идеалиста Беркли. Он говорит: «Идеи, запечатленные в чувствах автором природы, называются реальными вещами». [Идеи, запечатленные в чувствах автором природы, называются реальными вещами – wp].
Лингвист Штейнталь и физик Лихтенберг, остроумно критиковавший язык, ближе всех подошли к лингвистическому порядку, чтобы не сказать – решению, этой антиномии. Штейнталь однажды сказал: «Понимание предмета, взгляд на вещь – это схожие по смыслу словесные отношения с написанием письма, строительством дома. Я бы счел, что копать яму, строить дом, играть в игру – это еще лучшие примеры. Сравните с тем, что я говорил (Kr. d. Spr. III 59f) о нереальности глаголов труда. Здесь мы снова имеем интенциональный предмет схоластов, интенцию, которая впервые объединяет бесчисленные различия действия в зависимости от направления внимания на предмет (существительное) или на деятельность субъекта (глагол).
Вечно тавтологический язык охотно формирует такие предложения: я рою яму, я вижу цвет, а Лихтенберг уже осветил эту бездну своими молниеносными высказываниями.
«Познавать внешние предметы – это противоречие; человек не может выйти за пределы самого себя… Не странно ли, что человеку совершенно необходимо иметь что-то дважды, когда ему достаточно одной вещи и обязательно должно быть достаточно, потому что нет моста от наших идей к причинам?»
Критику языка не нужно идти дальше. Именно язык делит мир на наблюдателя и его предмет: на вещи в себе и для себя и на вещи для меня. Но мир не существует дважды. Мир существует только один раз. Я ничто, если я не предмет. Но у меня нет предмета. предмет – ничто, если он не во мне. предмет не находится вне меня. предмет, казалось бы, самая осязаемая вещь в мире, по праву является заимствованным переводом сложного философского понятия: предмет неосязаем, предмет субъективен.
Однако я с очень уютной улыбкой обнаруживаю, что использование языка за последние 100 лет – разумеется, не подозревая об этом – предвосхитило лингвокритическую отставку этого понятия предмета. Для сущности, предметивно противостоящей исследующему субъекту, для актуального или сущностного, искали ответ, пока он не был беспомощно найден в слове вопрос. Сегодня Шиллер наверняка сказал бы: вместо человечества великих предметов – человечество великих вопросов (дважды в прологе к «Валленштейну»). Шлегель должен был бы перевести фразу «Быть по-настоящему великим – значит не шевелиться без великих аргументов» сегодня как «шевелиться только тогда, когда возникает великий вопрос».
И немецкий словарь уже признает это значение слова «вопрос». В IV томе (все еще под редакцией Дж. Гримма и Гильдебрандт), цитируя знаменитое «Вот в чем вопрос», говорится: «Frage, das, worauf es ankommt», существенное; и, кроме того, в таких соединениях, как Lebensfrage и т.д.: о предметах, которые занимают общее внимание. В конце этого трудного пути мы, как часто бывает, находим вопрос вместо ответа. Здесь вместо определения предмета мы даже находим слово «вопрос».
LITERATUR – Fritz Mauthner, W?rterbuch der Philosophie, M?nchen/Leipzig 1910/11.
Эрнст фон Астер (1880 – 1948)
Сын офицера учился в Асканийской гимназии в Берлине. Затем он учился в Университете Фридриха Вильгельма там же и в Мюнхене, где его научным учителем был Теодор Липпс. В 1920 году он был назначен на кафедру в Гиссенском университете. Это назначение заранее встретило сильное сопротивление, поскольку Астер был членом СДПГ и публично выступал как пацифист. На заключительном этапе Первой мировой войны он выступал за мир во имя взаимопонимания. Астер также входил в совет Немецкой лиги прав человека. В 1933 году он был уволен по политическим причинам и отправился в изгнание в Швецию. В 1936 году он переехал в Турцию, где получил преподавательскую работу в Стамбуле и Анкаре. Был женат на поэтессе Хильдур Дикселиус (1879—1969).
Труды, лекции и беседы Астера были очень популярны в то время. Он объединял аспекты истории философии с аспектами интеллектуальной истории и добивался большой глубины, ясности и живости изложения. К числу самостоятельных философских работ относятся «Принципы теории познания» (1913), в которых он попытался восстановить номинализм, и «Философия природы» (1932). Он также писал описания Карла Маркса и психоанализа.
Астер известен своей «Историей философии». Эта ставшая классической работа впервые вышла в свет в 1932 году (Alfred Kr?ner Verlag) и была опубликована в 1998 году в восемнадцатом издании, дополненном Эккехардом Мартенсом.
Принципы эпистемологии
Предисловие
В последние годы все большее распространение получает лингвистический прием, согласно которому современные эпистемологические школы делятся на два больших враждебных лагеря: с одной стороны, лагерь «позитивистов», «феноменалистов», «номиналистов», «релятивистов» и «психологов»; с другой – представителей антипсихологического «реализма», поставивших перед собой задачу обосновать или защитить идею абсолютного знания о реальности от любой релятивизации понятия истины и реальности, от любой феноменалистическо-психологической реинтерпретации этих понятий, которая в конечном итоге должна привести к скептицизму.
Тот, кто рассматривает или классифицирует эту книгу с этой точки зрения, скорее всего, отнесет ее к первой категории.
Не следует забывать, однако, что эта классификация была создана противниками всех тенденций, упомянутых в первую очередь, – феноменализма, позитивизма и т. д., и что она служит полемическим целям. Термин «психологизм» на самом деле является попыткой свести к абсурду теорию, обозначенную как релятивистская; таким образом, приведенная выше компиляция уже сделана в отношении предполагаемой общей ошибки всех этих тенденций.
Я бы принял термин «феноменализм» – если перефразировать понятие феномена так, как я перефразировал его в заключительном разделе первой главы, и если ограничить старый постулат феноменализма, что нет выхода за пределы «данного в опыте», в смысле моей второй главы. Я надеюсь, что в этой второй главе рассматриваются фундаментальные критические замечания, которые могут быть сделаны против феноменализма как такового, в частности, критика, которая совсем недавно была сделана самым тщательным и всеобъемлющим образом Освальдом Кюльпе в его книге «Die Realisierung» (том 1).
Что касается «психологизма», то я должен был бы отвергнуть этот термин как совершенно неуместный, поскольку «непосредственно данные явления», из которых я считаю нужным исходить, не могут быть, по моему мнению, названы психическими, или, что то же самое, психология не является для меня наукой о данном как таковом (о «непосредственном опыте»), и не ставит перед собой задачу (в смысле наторпа) реконструировать данное или «данное», как оно видится с достигнутого уровня объективации, но скорее ищет и конструирует закономерную связь из данного – тем же способом и по тем же принципам, что и естествознание. С другой стороны, существенная часть моей эпистемологии основывается на идее, что мы можем получить информацию о значении наших понятий, о том, что мы подразумеваем под определенными понятиями и суждениями, которые предполагаются повсеместно в науке, только путем отвлечения, которое противная сторона, вероятно, охарактеризует как «психологическое». Я имею в виду, в частности, «феноменологию» Эдмунда Гуссерля. Слово «феноменология», первоначально употреблявшееся и самим Гуссерлем, обозначает чистое описание фактов познания, которое должно предшествовать всем теориям познания для других точек зрения, особенно для психологизма и феноменализма, стало названием особого метода эпистемологии. Вся эпистемология, как мы можем охарактеризовать значение этого метода, должна сначала прояснить смысл наших понятий, прежде чем она сможет с ними работать. Это прояснение может произойти только при попытке постичь сам этот смысл и постичь его как можно чище, довести его до самоданности, чтобы затем чисто описать его. Все остальные пути – это обходные пути, которые дают нам информацию не о смысле самих суждений, а в лучшем случае о его происхождении, тем самым предполагая его объективность.
Я попытался выразить контраст, в котором я нахожусь с этим феноменологическим методом эпистемологии, описав свою теорию знания как «номиналистическую». Это означает, что я не считаю феноменологическое описание содержания наших понятий возможным путем простого погружения в это содержание и что поэтому я не могу считать результаты феноменологии Гуссерля очевидными результатами чистого и беспристрастного описания. Погружение в смысл знака – а он есть, и есть проявление этого смысла из данной ситуации – никогда не приводит, согласно природе вещей, к реальному постижению самого этого смысла, оно не выводит из сферы знакового значения в сферу интуитивного постижения означаемого, поскольку слово в осмысленной речи и слухе не обозначает смысл, а замещает его. Нет необходимости подчеркивать, что тем самым определения Гуссерля не представляются ложными или бесполезными: вопрос лишь в том, являются ли они конечным основанием эпистемологии.
Позвольте мне сделать здесь общее замечание. На мой взгляд, ценность эпистемологического исследования, восходящего к принципам, заключается не в отдельных утверждениях, а в ясности и последовательности метода. Исходя из этого, я взял за правило как можно резче прорабатывать контрасты, которые, как мне казалось, я распознал. Я бы предпочел совершить ошибку, слишком резко подчеркнув контраст, чем затушевать его, используя схожие выражения. В то же время я считаю, что такая процедура лучше всего способствует взаимопониманию в современной эпистемологии, при условии, что под пониманием понимается реальное проникновение в причину различий во взглядах, а не случайное согласие с максимально возможным количеством отдельных утверждений.
Однако главной задачей этой книги была не историческая – история эпистемологии, особенно современной, это задача, к которой я надеюсь подойти более внимательно позже, – а систематическая, обоснование той или иной теории. По этой причине иностранные взгляды в явном виде учитывались лишь в той мере, в какой полемика с ними и ссылки на иностранных авторов служили пониманию утверждения или были необходимы для его защиты.
В частности, я воздерживался от ссылок, характеристики и критики всех смежных точек зрения. В своих взглядах я чувствую себя наиболее близким к эпистемологии Ганса Корнелиуса, которого я поэтому неоднократно цитировал. Эта связь не является внешним совпадением; теория познания Корнелиуса всегда казалась мне наиболее безупречной и последовательной формулировкой «феноменализма»; некоторые моменты, в которых она казалась мне неудовлетворительной и сомнительной, послужили первым поводом для написания данной работы. Поэтому я считаю, что могу претендовать на определенную независимость последней, тем более что у меня есть основания полагать, что сам Корнелиус отнюдь не полностью согласен с основными принципами, которые развиваются в нижеследующем. Война – отец всех бед и, конечно, отец истины.
Само собой разумеется, что на меня не только вдохновляли, но и влияли многие другие источники. Я чувствую себя вынужденным прямо упомянуть только об одном: Хотя я отчасти далеко отошел от направления, в котором развивалась теория познания Липпа, я считаю себя учеником Теодора Липпа во многих важных аспектах. —
Столь же мало, как и историческое изложение, методология отдельных наук как таковая была самоцелью моей работы. Методы отдельных наук принимались во внимание лишь в той мере, в какой это было необходимо для доказательства того, что природа и цель знания в донаучном и научном мышлении одинаковы и ведут к одному и тому же типу концептуализации.
Я не могу с уверенностью сказать, насколько справедливо я поступил по отношению к существующей литературе; в этом отношении ни один философский автор не отложит свою книгу с чистой совестью. Насколько то, чего я хотел, достигло безошибочного выражения, должен показать успех. То, что мотивом, побудившим меня написать эту книгу, было лишь стремление достичь внутренней ясности в отношении рассматриваемых проблем, я, как мне кажется, могу утверждать.
Первая глава. Феноменологическое основание
1. Понятие данного
Природу эпистемологии принято определять, приписывая ей двойную задачу – «прояснить» основные понятия и принципы нашего знания, т.е. зафиксировать их содержание определенным и недвусмысленным образом, и «обосновать» или легитимировать их, т.е. доказать наше право использовать именно эти понятия и принципы для построения системы знания. То, что эти две задачи, которые мы можем свести к вопросу о логическом происхождении наших понятий и принципов, тесно связаны между собой, что, в частности, исследование и четкое определение смысла должно предшествовать легитимации и обоснованию, не нуждается в подробном обсуждении.
Эпистемология – философская дисциплина, то есть, как и все философские науки, она возникает из необходимости найти окончательное и абсолютно удовлетворительное решение проблем отдельных наук. Каждая отдельная наука также определяет понятия и устанавливает теоремы, но при этом она предполагает другие теоремы и другие понятия, рассмотрение которых тем более не может входить в рамки данной отдельной науки, поскольку они, как правило, являются общими для всех отдельных наук – вспомните, например, закон причинности. Поэтому рассмотрение этих основных понятий и положений относится к области отдельной науки, которая предшествует отдельным наукам не по времени, а по логике, а именно эпистемологии[1 - Я не могу считать правильным рассматривать обоснование принципов, как этого иногда требует Гуссерль, как задачу метафизики. Определение метафизики как философской дисциплины будет наиболее простым, если поставить перед ней задачу полного удовлетворения поиска знания путем получения единой теории, охватывающей мир в целом. Однако дополнение отдельных наук, заключающееся в этом, достигается не путем анализа и разработки их общих предпосылок, а путем установления общих отношений между ними и идеального дополнения их результатов для формирования единой науки, объектом которой является уже не какая-то часть мира, а мир в целом. Эпистемология логически предшествует отдельным наукам, метафизика следует за ними. Однако с точки зрения времени эти отношения, как известно, обратные.].
В только что приведенной формулировке задачи уже содержится понятие, которое, очевидно, само требует определенного «прояснения». Это понятие концепта. Что мы понимаем под понятием и что означает вопрос о содержании понятия, которое мы должны определить? Не желая давать исчерпывающий ответ на вопрос о природе понятия, я ограничусь несколькими определениями в связи с этим очевидным вопросом, которые, как я могу предположить, являются достаточно общими, чтобы обеспечить признаваемую всеми отправную точку.
Концепты, с которыми работает наука, изначально предстают перед нами в виде определенных значимых величин. Вопрос о том, что содержит то или иное понятие, например, понятие «субстанция», является, таким образом, синонимом другого вопроса – о том, что означает, выражает, говорит данное слово «субстанция». Таким образом, мы возвращаемся от вопроса: что значит определить или прояснить содержание понятия к другому вопросу: что значит определить или прояснить значение слова?
Слово – это прежде всего определенный звук. Но не просто звук, к звуку должно добавиться что-то еще, чтобы он стал словом, языковым знаком: «смысл», который он «имеет», «значение», которое ему «принадлежит», «объект», который он «обозначает», «называет» или «означает». Я не использую здесь эти выражения беспорядочно или в каком-то другом смысле, я использую их только для того, чтобы подчеркнуть то общее, о чем они говорят, а именно: для того чтобы звук стал словом, между ним и чем-то вне его должно существовать определенное отношение, которое мы, возможно, наиболее кратко обозначим, назвав слово символом этого другого. В силу этого отношения со словом связано определенное «знание» о смысле или объекте, который ему приписывается, – знание, которое мы также называем пониманием слова. Однако в природе конкретного звука не заложено, что он имеет конкретное значение; скорее, конкретное значение должно быть сначала придано ему с помощью конвенции, произвольного определения и так далее. Именно поэтому мы должны сначала задавать вопрос о значении каждого слова, которое мы еще не знаем и не узнаем, а также всегда иметь возможность ответить на этот вопрос для каждого слова, которое мы говорим другому. Но даже если мы полностью игнорируем коммуникативную функцию слова, если мы берем слово, известное нам в его значении, если мы используем это слово в уединенной мысли, то возникает необходимость прийти, так сказать, к взаимопониманию с самим собой относительно его значения, определить его для себя ясно и определенно, то есть спросить себя, что мы имеем в виду своими собственными словами. Ответить на этот вопрос, очевидно, может означать не что иное, как: определить то, что составляет значение слова независимо от этого слова, или обратить на это наше внимание в иной форме, чем понимание этого слова. Тот факт, что даже в одиночном мышлении, даже с известными нам словами, мы испытываем эту потребность, потребность сделать значение наших слов «ясным» для себя, является замечательным фактом, который показывает нам, что «знание» в форме понимания слова – знаковое знание, по выражению Гуссерля, – никогда не может быть для нас окончательным знанием, в котором мы можем окончательно увериться. —
Поэтому вместо задачи прояснения содержания наших понятий мы можем говорить о задаче четкого определения значения слов, которые мы используем. В любом случае, давайте сначала дадим задаче такую формулировку.
Я также называю определение значения слова его «дефиницией». Можно возразить, что такое употребление слова «определение» не вполне соответствует философскому определению дефиниции, согласно которому определение сущности вещи не обязательно должно определять значение слова. Я вернусь к философскому понятию определения позже; сейчас же я ограничусь указанием на то, что мы в любом случае можем с полным правом сказать, что математик определяет введенный им символ i = ?-1 или что физик определяет силу, заявляя, что он хочет понимать под силой произведение m ? v. В том же смысле, в каком физик и математик определяют введенные ими новые языковые выражения, эпистемология должна определять слова, то есть наполнять их фиксированным и определенным значением, которые предполагаются «известными» как в науке, так и в языке обычной жизни.
На вопрос о значении слова обычно отвечают, заменяя его другим словом – вспомните перевод слова на иностранный язык – или перефразируя его с помощью ряда слов. Но это, очевидно, только откладывает вопрос; мы вынуждены спрашивать о значении тех других слов, которые предполагаются известными в определении. Если мы не хотим рисковать бесконечным регрессом или очевидным кругом, мы должны в конце концов обратиться к случаю, в котором мы узнаем факт, обозначаемый определяемым словом, уже не только через языковое обозначение, на пути понимания слова, но и без него, непосредственно, в том смысле, что мы уже не заменяем определяемое слово другим словом, но чем-то, что больше не является словом. Каждый знает, как это происходит. Друг рассказывает мне о растении в своем саду, называя его латинским именем. Я спрашиваю его о значении термина, который мне непонятен, и он подводит меня к растению, чтобы ответить: «Это – значит: то, что ты видишь здесь, – это xx». Он обращает мое внимание на факт моего восприятия.
Любое восприятие делает нас знакомыми с чем-то, непосредственно знакомыми, без вмешательства слова, о значении которого нам пришлось бы спрашивать дальше. Любое зрение, слух и т. д. – это непосредственное знакомство, осознание чего-то. Поэтому, ссылаясь на восприятие, мы можем также окончательно и удовлетворительно ответить на вопрос о значении слова, не впадая в вышеупомянутый круг или обращение к нему. Если я знаю, как в приведенном примере, что слово, о котором идет речь, есть название данного объекта, данного мне в восприятии, то значение этого слова известно мне настолько, что дальнейший вопрос в этом направлении становится ненужным. Я привел «сенсорное» восприятие лишь в качестве примера такого прямого познания. Другой пример показывает нам, что это не единственная форма: Хеншен, герой известной сказки, хочет узнать, что такое ужас, и узнает это, испытав его на себе с помощью своей жены. Переживая чувство, это чувство становится известным нам в своем своеобразии так же непосредственно, как и воспринимаемое содержание в сенсорном восприятии.
Все, что становится нам известным таким образом, мы описываем в той мере, в какой оно нам известно, как нечто непосредственно данное. Всякое окончательное определение слова может, таким образом, состояться только в том, чтобы сделать значение слова данным. В той мере, в какой это определение осуществляется с целью передать значение слова другим, оно, конечно, сталкивается с определенными трудностями: я никогда не знаю с уверенностью, действительно ли другой человек, которому я указываю на факт, воспринимает то же самое, что и я; более того, я не знаю, в какой степени он действительно имеет в виду тот же самый момент в целом, на который я обращаю его внимание и который, возможно, содержит ряд абстрактных и конкретных частей, которые я хочу заставить его осознать. Но эти трудности могут служить именно для того, чтобы подтвердить, что только таким образом можно дать реальный ответ на вопрос о значении слова. Мы предполагаем, что дальтоник не имеет того количества цветовых впечатлений, которое имеет человек с нормальным зрением – следствием этого является то, что дальтоник никогда не сможет связать понятный смысл с названиями цветов, о которых идет речь, что они остаются для него пустыми словами.
Таким образом, сделать значение используемого нами слова понятным другому человеку можно лишь в той мере, в какой мы должны предположить, что этот человек при тех же условиях постигает те же факты в непосредственной реальности. Насколько эта предпосылка верна, решить в принципе невозможно; мы можем оставить этот вопрос и дальнейший вопрос о правильности этой предпосылки в стороне на данном этапе с тем большим основанием, что, как известно, важнейшая задача определения состоит изначально не в том, чтобы договориться с другими, а с самим собой о значении слова, прояснить его для собственного сознания. Разумеется, только когда мы задаемся вопросом о том, насколько то, что мы определили как значение слова, является этим значением и в языковом употреблении, снова вступает в игру отношение к другим.
2. Возражения Наторпа и Риккерта против концепции данности
Понятие «данности», особенно применение этого понятия к фактам восприятия, то тут, то там встречает противоречие и неприятие, как мне кажется, из-за недоразумений. Когда мы открываем глаза, то, что мы там видим, становится для нас косвенно «известным», в определенном смысле полностью и окончательно известным. Мы можем лучше всего понять, что это значит, если вспомним контраст между данностью и «значением». Как только мы узнаем о чем-то только через символ, через переданное нам слово, на котором основывается «понимание», после визуализации того, что «только» представлено словом, должен возникнуть вопрос о том, «что» здесь имеется в виду. С объектом, который существует для нас в манере восприятия, именно в той мере, в какой это так, этот вопрос больше не нужно задавать, он становится бессмысленным.
Поэтому можно по-прежнему спрашивать, «чем» является данная вещь по своей сути. Но этот вопрос идет в другом направлении, он идет к научному познанию, определению, суждению о том, что стало известно нам в восприятии. Если мы постигли факт в восприятии, то мы еще не постигли его научно, еще ничего не сравнили, не установили его отношения к другим вещам, не подвели его под законы. Не сказано также, в какой мере попытка определить его таким образом будет успешной, в какой мере, например, мы придем к суждениям, которые таким образом можно согласовать без противоречий. Возможно, Наторп прав, когда, ссылаясь конкретно на закон Вебера, заявляет о невозможности определить то, что воспринимается как таковое, то есть судить об этом без противоречий. Но это не влияет на понятие «данного», как мы его здесь используем. Конечно, данное можно назвать «данным», то есть таким, научное определение которого является задачей, но это не превращает данное, в той мере, в какой оно еще не определено научно, в неизвестное X. Напротив: только научно определенное может быть данным. Напротив: научно определенным может быть только то, что нам известно – как я могу сравнивать и судить о том, чего я еще не познал ни в какой форме? Поэтому всякое научное познание и суждение предполагает другой вид «познания» – непосредственно известное, непосредственно данное. Эту данность также нельзя понимать, как, по-видимому, полагает Наторп, как результат предшествующего процесса познания, который был бы того же рода, что и научное познание, которое продолжается сейчас, так что ничего не остается, кроме процесса определения и его внутреннего закона, который прогрессирует в бесконечность: ведь и в этом случае мы сталкиваемся с внутренним абсурдом, что сравнение и суждение имеют место и что то, что сравнивается и судится, т. е. логический приус суждения, возникает только из суждения. Несколько иной контраст с нашим использованием понятия данности возникает, когда мы называем саму данность «категорией». Это, очевидно, означает, что, когда мы говорим о «данном» факте в целом, ему уже должна предшествовать ментальная формация. Отсюда, по-видимому, можно сделать вывод, что ментальные формы, категории в целом, не могут быть прослежены до «данного», а скорее должны логически предшествовать всему данному. На это мы должны были бы ответить, что все «категории» также изначально существуют для нас в виде значимых слов – значимых слов, по отношению к которым возникает необходимость в номинальном определении. Однако я не знаю другого определения, которое было бы действительно окончательным, чем то, которое основано на ссылке на «данность». Разумеется, понятие данности не предполагается неопределенным; то, что означает «данное», должно быть также прояснено путем отсылки к данному – и приведенные выше примеры служат этой цели.
Следует прямо подчеркнуть, что, конечно, предыдущими объяснениями еще ничего не решено относительно того, состоит ли все данное из данных отдельных (сенсорных или эмоциональных) фактов или же мы вправе, как это делает, например, Гуссерль, говорить о непосредственной данности существования категориальных форм, «категориальных данностей». Это феноменологический вопрос факта, к которому мы вернемся позже.
Наконец, вопрос о том, насколько то, что мы знаем как данное, возможно, возникло генетически из чего-то другого, возможно, еще не присутствовало на более низкой стадии развития, конечно, эпистемологически совершенно неважен. С точки зрения эпистемологии мы должны будем лишь требовать, чтобы мы могли каким-то образом сделать элементарные сущности, из которых якобы возникло то, что нам дано, данностью. Если этого нет, то все разговоры об этом остаются работой с неопределимыми, пустыми словами. Генетическая психология прежних времен, считавшая, что может построить развитие психологического в связи с развитием физиологического, содержит множество таких пустых понятий. —
Мы можем запоминать, сравнивать и оценивать то, что нам сразу дается, и, наконец, мы можем это назвать. И это возвращает нас к исходной точке, к определению слов по отношению к фактам.
3. Наименование данного содержания
Однако определение слова через ссылку на данный факт требует более точного определения.
Прежде всего, ясно, что эта ссылка действительно отвечает на вопрос о значении слова окончательно только в том случае, если данный факт полностью воплощает это значение, если слово ни в каком направлении не говорит больше, чем нам здесь дано. Если, например, кто-то протягивает мне кусок мрамора с замечанием, что это каррарский мрамор, то без лишних слов ясно, что это обозначение уже содержит оценку данного, которая охватывает больше, чем само данное позволяет мне распознать, – происхождение камня мне никак не дано. Я никогда не смог бы вывести значение слова «каррарский» мрамор из того, что дает мне здесь восприятие, если бы не знал его заранее.
Давайте будем еще более точными. Если мы применяем слово к данному факту, используем его для его описания, то между словом и фактом все равно может существовать множественная, по крайней мере троекратная связь, даже если применение происходит в одной и той же языковой форме во всех случаях.
Я говорю о цвете, что вижу, что он синий, и хочу сказать, что он подпадает под понятие «синий цвет». Я слышу звук качения и описываю его как качение железнодорожного поезда. Наконец, я вижу вдалеке гору и называю ее Вендельштайном. Лингвистически мы можем использовать одну и ту же форму во всех трех случаях: «это» – синий цвет, движущийся железнодорожный состав – Вендельштайн. В первом случае увиденное или услышанное относится к роду, обозначаемому словом «синий», во втором – признается принадлежащим к предмету «движущийся железнодорожный состав», в третьем – ему приписывается имя «Вендельштейн». Отсюда также очевидно, что первые два случая относятся друг к другу по отношению к третьему, поскольку в них данный факт относится не собственно к данному слову, а к предмету, обозначаемому этим словом, вообще говоря: к смыслу слова, предполагаемому известным и определенным. В последнем случае дело обстоит иначе, если понимать его так, как оно понималось здесь: как отнесение слова к данному факту в качестве его названия или имени собственного (обозначение того, что видится как спиральный камень, на самом деле содержит больше, чем просто обозначение, в этом отношении пример не совсем корректен; но здесь мы можем обойтись без этого). Здесь фактически устанавливается связь между словом и данным фактом, точнее, смысл слова отождествляется с данным фактом, смысл замещается данным фактом. Это как раз и есть утверждение, что данное слово есть имя собственное и не что иное, как имя собственное данного факта. Если при создании слова оно имело другое значение, то оно, так сказать, аннулируется этим присвоением, точно так же как прежнее значение имени собственного фактически уходит в небытие, чем дольше оно используется в этой функции имени.
Отсюда следует, что ни один из первых двух случаев, но, конечно, последний, не может служить для определения данного слова, ибо здесь и только здесь смысл слова не остается чем-то вне данного факта, который только вступает в отношение к последнему, но полностью воплощается в нем (при условии, что слово действительно должно быть именем данного факта). Поэтому мы можем сказать: если мы хотим определить слово через отсылку к данному факту, мы должны сделать этот факт данностью, которой мы можем присвоить слово как имя собственное. Если это удается в конкретном случае, то вопрос о значении слова во всех возможных смыслах решен; это значение настолько четко зафиксировано, что дальнейший вопрос становится ненужным.
Если мы применим это, например, к слову «синий», то это означает, что для того, чтобы действительно наполнить такое слово смыслом в заданном смысле, мы должны сделать «синий», «синий цвет», то есть общее качество цвета, носящее название «синий», данностью. Гуссерль, который в наше время наиболее последовательно отстаивал идею о том, что все анализы смысла должны основываться на феноменологии, поэтому также говорит о том, чтобы привнести «вид» в реальность. Возможно ли это – вопрос, который нам предстоит объективно обсудить. Если предположить, что роды не могут быть даны таким образом, что то, что мы можем сделать данным, всегда только индивид, «этот конкретный синий здесь» – тогда только это общее языковое выражение фиксируется в своем значении, в том, что оно означает или называет, ссылкой на данное, и только в той мере, в какой мы понимаем его как единое языковое целое, абстрагируясь от особого значения его частей. Эта абстракция делает его именем воспринимаемого содержания, ограничивает его значение этой функцией именования, подобно тому, как, как подчеркивалось ранее, многие реальные имена собственные – имена людей, городов и т. д. – все еще имеют значение, которое мы не признаем. – Они все еще имеют значение, которое мы игнорируем, рассматривая их как названия данного конкретного объекта.
Кратко подведем итог: Мы можем окончательно определить слова или, в более общем смысле, лингвистические выражения, ссылаясь на данные, лишь постольку и только постольку, поскольку они могут также рассматриваться как имена этих данных.
4. Непосредственная и опосредованная данность
То, что мы говорим о всевозможных предметах, которые не даны нам непосредственно в тот момент, когда мы о них говорим, что мы используем слова без того, чтобы их значение было доведено до нас как непосредственно данное, очевидно без лишних слов, ибо это самая обыденная вещь в мире. Мы также говорим о прошлом и будущем, я говорю о том, что видел, слышал, чувствовал вчера, – но, называя нечто вчерашнее увиденным, я в то же время говорю, что в данный момент я этого не вижу, что, следовательно, это не является данностью сейчас. Зрелище, которое представилось мне вчера, не дано мне непосредственно в данный момент.
Но именно этот пример может привлечь наше внимание к моменту, без которого обсуждение предыдущих замечаний было бы неполным.
Кто-то говорит со мной о здании, которое я видел раньше, но которое сейчас не стоит передо мной; он упоминает название здания. Я спрашиваю, о каком здании он говорит, в ответ он называет улицу, ведущую к нему, место, где оно стоит, и успех этого описания заключается в том, что я теперь могу ответить для себя на вопрос, какое здание имеет в виду другой человек, потому что, хотя я не вижу его сам, я могу представить его в своей памяти. Вспомнив его, я знаю, что имеется в виду, могу продолжать знакомиться с ним, судить о нем, сравнивать его; я могу сказать себе: именно то, что передо мной, то, на что я смотрю, и есть то, что другой человек описывает этим словом.
Что же на самом деле присутствует в случае памяти? Предположим, что я стою прямо перед зданием и смотрю на него. Теперь я закрываю глаза и пытаюсь представить в памяти то, что я видел раньше. Тогда того, что я видел раньше, больше нет – темно-красноватой области со всевозможными пятнами, которая представляет собой поле зрения, когда мои глаза закрыты. И все же там есть нечто, на что я могу смотреть, что я могу наблюдать и узнавать лучше, и что, следовательно, качественно отличается от того, что я видел раньше, даже если оно имеет несомненное сходство с ним. Мы называем это образом памяти здания.
Мы отличаем воспоминание-образ увиденного от самого увиденного, воспоминание-образ звука от услышанного звука. Однако следует особо подчеркнуть, что не в каждом случае, когда мы говорим о воспоминании, должен существовать и яркий образ того, что вспоминается (к этому мы вернемся позже), но такие образы памяти есть у всех, и все их знают; их существование – факт, отрицать который бессмысленно. Вопрос может заключаться только в том, как правильно описать этот факт.
Образ памяти качественно отличается от увиденного или услышанного содержания. Это отличие также описывается словами, разумеется, тем же способом, каким могут быть описаны непосредственно воспринимаемые различия – по аналогии. Говорят, что образ памяти имеет что-то размытое, блеклое, затененное, нечеткое – «воображаемый цвет не блестит, воображаемый тон не звучит» (Лотце). В этом часто звучащем описании, несомненно, много правды, но в нем есть и опасность. Опасность заключается в том, что оно предполагает, что разница между образом памяти и воспоминанием – это просто разница в степени, разница в «интенсивности». Например, увиденная форма может быть более четкой или более нечеткой, более ясной или более размытой, увиденный цвет – более или менее ярким, услышанный звук – более интенсивным, чем другой. Легко ошибиться в том, что разница между образом в памяти и воспоминанием – это просто усиление разницы, которую мы уже находим между перцептивными содержаниями. Существует разница в «интенсивности» между громким и тихим звуком. Теперь я позволяю звуку становиться все тише и тише – превращает ли это его из услышанного звука в запомнившийся образ звука? Если бы эта идея была возможна, то следовало бы представить себе непрерывный ряд, на крайних концах которого были бы услышанный громкий звук и запомненный тихий звук, поскольку даже в ряду образов памяти существует разница между громким и тихим. Невозможность этой идеи очевидна из того факта, что образ памяти громкого звука таким образом оказался бы в соседстве с услышанным тихим звуком, что эти два содержания должны были бы быть более похожими, чем услышанный и запомненный звук одной и той же громкости. Действительно, если бы это было так, было бы невозможно понять, как можно говорить об образах памяти громких и тихих звуков. То же самое относится и к «ясности» и «размытости». Туман делает видимое более нечетким, более размытым, но не уменьшает разницы между увиденным и запомненным, и то, что видно в тумане, меньше всего похоже на то, что ясно помнится. Таким образом, мы должны сказать: различие между образом памяти и образом восприятия не является различием четкости, размытости или интенсивности, оно лишь показывает определенные аналогии с этими различиями, известными из области восприятия, а также памяти, но в остальном является различием sui generis, и прежде всего различием, не показывающим никаких степеней, принципиальным различием, которое не может быть преодолено никакими переходами: Мы не можем представить себе никаких промежуточных звеньев, которые постепенно вели бы от слабого звука к воспоминанию о громком, или от туманно увиденного к ясно запомненному образу, так же как мы не можем рисковать спутать две вещи такого рода.
На это можно возразить, что путаница между восприятием и образами памяти или фантазии (тот факт, что к последним применимо то же самое, что и к образам памяти, будет обсуждаться более подробно через некоторое время) на самом деле происходит не так уж редко. Когда мы видим яркие сны, разве то, что мы помним и фантазируем, не принимается за реальность, то есть за то, что мы воспринимаем, и разве не то же самое происходит при лихорадочном бреде и галлюцинациях? Разве не разыгрывается воображение боязливого человека, когда ему кажется, что он видит призраков или разбойников в темноте, например, в одиноком лесу? На мой взгляд, при ближайшем рассмотрении такой случай, как настоящая галлюцинация, сразу же отметает это возражение. Рассмотрим, например, некоторые слуховые галлюцинации, такие как звон в ушах. Здесь, очевидно, имеет место определенное восприятие, а не воспоминание или фантастический образ, человек действительно слышит определенный звук. Однако это перцептивное содержание возникает в ненормальных условиях, а именно в условиях, при которых в противном случае могут возникнуть только образы памяти или фантазии; физиологический стимул во внешнем слуховом органе, который в противном случае представляет собой conditio sine qua non [основную предпосылку – wp] для возникновения слухового восприятия, отсутствует. Теперь, конечно (и по практическим причинам этот термин не чужд языковому употреблению), можно назвать фантомным образом любое содержание, которое не вызвано стимуляцией внешнего органа чувств, но это понятие фантомного образа, конечно, не является феноменологически полезным, оно различает восприятие и память не по их фактическому различию, а по той причине, которая обычно им приписывается. Если, следовательно, на основании такого использования языка сказать, что в сновидении «простой фантазийный образ» принимается за «объект реального восприятия», то это ни в коем случае не означает, что фантазийный образ в нашем смысле слова был здесь перепутан с перцептивным содержанием. Конечно, галлюцинации и иллюзии могут возникать и другим путем, в котором фантазийное содержание иногда играет определенную роль. Я имею в виду, например, тот факт, что мы считаем, что видим всевозможные фигуры в мешанине линий, точек и поверхностей, которые возникают тем отчетливее, чем дольше мы на них смотрим, и чем отчетливее мы ранее представляли себе эти фигуры, визуализировали их как фантазийные образы. Очевидно, что подобные эффекты возникают в результате того, что мы определенным образом группируем эти беспорядочно нагроможденные пятна, объединяем их в единое целое, обращаем на них внимание, с одной стороны, и игнорируем – с другой. Легко понять по психологическим причинам, что «концепция», однажды реализованная, становится все более и более фиксированной, когда она позволяет неизвестной нам форме возникнуть из случайной путаницы, так же как легко понять, что воображаемый образ, который мы могли иметь раньше, оказывает на нас направляющее, корректирующее воздействие в этом отношении. Это, очевидно, можно объяснить так же, как и то, что испуганный человек в лесу принимает ствол дерева с торчащей веткой за человека с угрожающей рукой, или когда мы произвольно или непроизвольно слышим определенные ритмы, а в конце концов голоса и слова, из мешанины звуков (например, грохот железнодорожного поезда). Если здесь и происходит обман, то опять-таки не в том смысле, что фантастический образ путается с перцептивным содержанием, а в том, что конкретная форма воспринимаемого неверно оценивается в соответствии с его происхождением, его причиной. Наконец, может, конечно, случиться (и это, вероятно, правило у душевнобольных), что оба типа галлюцинаций сочетаются: восприятия, возникшие ненормальным образом, понимаются и интерпретируются в соответствии с привычной озабоченностью фантазией.
Если образ памяти характерно отличается от перцептивного содержания, то, с другой стороны, он, как правило, похож на него. Это видно уже из термина «образ памяти». Образ памяти звука – это образ услышанного звука.
Но именно это выражение «образ памяти» может привлечь наше внимание к другому важному различию между ними, которое еще не было установлено в предыдущем разделе и которое достаточно часто упускалось из виду. Когда мы называем одну вещь «образом» другой, когда мы ставим эти две вещи в отношения копии и оригинала, это не просто означает, что они похожи друг на друга. Если два человека похожи друг на друга, это не означает, что один из них является «образом» другого. Скорее, это выражение означает нечто большее, оно означает, что один объект имеет или должен иметь определенную функцию по отношению к другому, именно функцию изображения, воспроизведения, репрезентации. Фотография передо мной – это изображение человека, которого я знаю, то есть она представляет мне этого человека, дает мне его облик.
То же самое относится и к образу памяти. Образ памяти – это не только настоящее содержание сознания, которое имеет определенное сходство с прошлым, но оно имеет ту особенность, что в нем, с его помощью, мы вспоминаем именно то прошлое, осознаем его, что мы переживаем его, другими словами, как «образ», как представление прошлого. Если бы было иначе, мы не могли бы ничего знать о сходстве образа памяти с прежним содержанием, потому что прошлое содержание – это прошлое, мы не можем его вызвать и поставить рядом с образом памяти для сравнения. Оно присутствует для нашего сознания и может быть постигнуто только через образ памяти, т. е. через то, что образ памяти есть не только единичный, отдельно существующий факт сознания, но факт, который в то же время открывается нам как представитель, как представление, как образ того другого, более раннего. Это последняя, не поддающаяся дальнейшему прослеживанию или объяснению особенность всех образов памяти – мы не можем иметь образ памяти, не осознавая в то же время, что этот образ памяти означает прошлое. Используя известное выражение Гуссерля, мы можем говорить о непосредственно переживаемой интенции образа памяти. Корнелиус[2 - Ганс Корнелиус, Психология как наука об опыте, стр. 20], который особенно ярко подчеркивает эту особенность, называет образы памяти «естественными символами» и говорит об их «символической функции». Если бы факт этой символической функции не существовал для нашего сознания, мы бы не только ничего не знали о прошлом, но для нашего сознания вообще не существовало бы прошлого, было бы только настоящее; слово «прошлое» не имело бы для нас абсолютно никакого значения. По этой самой причине факт «символической функции» образов памяти не может быть прослежен или объяснен дальше; «объяснить» это означало бы прояснить, как образы памяти оказались в таком отношении к прошлому или как сознание прошлого могло быть связано с ними, но ответ на этот вопрос всегда предполагал бы существование какого-то сознания прошлого.
Благодаря посредничеству образа памяти я могу визуализировать нечто прошлое, то есть поместить его перед собой таким образом, чтобы я мог схватить его, узнать его, оценить его, как если бы он был непосредственно настоящим. Я хочу знать, был ли этот предмет больше или меньше, светлее или темнее другого, и я могу сравнить их в своей памяти. И это сравнение – сравнение, действительно проведенное перед лицом образа памяти, а не просто воспоминание о результате более раннего сравнения, проведенного перед самим объектом. Разумеется, мы можем узнать объект из воспоминания-образа и судить о нем по отношению к воспоминанию-образу лишь в той мере, в какой воспоминание-образ представляет, изображает, запечатлевает его; это обстоятельство особенно существенно в том отношении, что воспоминание-образ никогда не может иметь большей ясности, чем предшествующее перцептивное содержание.
Благодаря памяти-образу становится возможным, чтобы объект, который не дан нам непосредственно, был визуализирован таким образом, чтобы он был нам известен, узнаваем, сравним, назван, но дан опосредованно, через посредничество памяти-образа. Здесь тоже что-то дано непосредственно, а именно образ памяти, но есть особенность, что через эту непосредственно данную вещь мы можем узнать не только ее собственную природу, но и природу другого, именно прошлого и теперь вспоминаемого, и можем судить о ней, сравнивая и анализируя ее.
В то же время из этого можно заключить, в каком, но только в каком смысле, можно сказать, что в восприятии и в воспоминании этого самого факта нам дано «то же самое», «тот же самый объект». При правильном понимании это может означать только то, что в обоих случаях мы можем постичь и познать одну и ту же вещь, только в одном случае непосредственно, а в другом – опосредованно. Однако было бы неверно толковать это предложение в том смысле, что каждый раз нам непосредственно дается одна и та же вещь. Если иногда говорят, что в случае восприятия и памяти одна и та же вещь каждый раз «объективна» для нас, а разница заключается лишь в различных «актах» восприятия или памяти, которые относятся к этой цели, то такая форма выражения, по крайней мере, предполагает мнение, что здесь существует аналогичное отношение, как в случае, когда нам сначала нравится, а затем не нравится один и тот же звук, который мы слышим. Здесь непосредственно дан один и тот же объект, к которому одно за другим отсылают различные чувства. С другой стороны, с памятью и восприятием дело обстоит принципиально иначе, поскольку здесь одна и та же вещь не дается даже частично, а непосредственно даются разные вещи, только одна одновременно раскрывается как представление другой и в этом отношении как «одна и та же вещь». Наконец, как уже неоднократно упоминалось, к «фантазийным образам» применимо то же самое, что и к образам памяти. Если я сейчас попытаюсь представить в своем воображении внешность знакомого, которого я давно не видел и который, как я знаю, сильно изменился за это время, то я, конечно, не имею перед собой того, что я буду иметь, когда действительно увижу этого знакомого. Но передо мной есть образ, который представляет эту внешность, образ, который является или хочет быть образом этого будущего содержания. И в каждом фантастическом образе что-то воображается, что-то, что может или могло бы, по крайней мере, столкнуться со мной в другое время в непосредственной реальности, точно так же, как в каждом образе памяти что-то вспоминается, что-то, что когда-то было непосредственно дано мне. Таким образом, фантазийный образ также имеет символическую функцию по своей природе, что-то также косвенно дается мне в фантазийном образе.
Таким образом, мы можем различить два типа данности – косвенную и опосредованную через воображаемый образ (если мы обобщим память и фантазийные образы в этом термине). Теперь возникает вопрос: не существует ли других подобных типов данности? Не существует ли другого способа, с помощью которого объект, не являющийся непосредственно данным, может стать для нас известным, узнаваемым и оцениваемым, помимо посредничества концептуального образа?
Давайте подойдем к этому вопросу более специализированно. Бесспорно, что мы визуализируем далеко не все объекты, о которых говорим. Утверждения, звучащие тут и там и кажущиеся само собой разумеющимися, являются грубым нарушением фактов, которые самонаблюдение легко распознает как таковые; достаточно понаблюдать за тем, как мы читаем книгу и читаем ее с пониманием, чтобы увидеть, как мало сопутствующих фантазмов, мимолетных и бессмысленных[3 - Ср. Макс Дешуар, Эстетика, стр. 169 и 353. Бенно Эрдманн решительно подчеркивает мысль о том, что при использовании слова обозначаемый объект еще не дан (см. пояснения в «Логике I», второе издание, стр. 314). Он также справедливо отмечает, что Беркли, вероятно, первым выразил это убеждение в «Принципах», и цитирует (Archiv f?r systematische Philosophie, vol. 2) характерный отрывок из введения (§19): «При некотором размышлении выяснится, что даже при самой строгой связи идей не обязательно, чтобы имена, обозначающие что-то и представляющие идеи, каждый раз, как только они используются, пробуждали в уме те самые идеи, которые они были призваны представлять, поскольку в чтении и речи обычные имена по большей части используются так же, как буквы используются в алгебре, где, хотя каждая буква обозначает определенное количество, для правильного хода вычислений не обязательно, чтобы на каждом шагу каждая буква вызывала в сознании то конкретное количество, которое она обозначает.» Следующие замечания Беркли в §20 также очень важны; они выражают мысль, к которой я вернусь позже, что «понимание» слова состоит главным образом в том, что оно немедленно производит на слушателя тот же эффект, что и обозначаемая вещь, что, таким образом, и здесь функция слова состоит главным образом в том, чтобы «представлять» обозначаемое.]. Тем не менее, мы что-то «подразумеваем» своими словами, и мы знаем, что мы под ними подразумеваем, мы думаем и «сознательно» направлены на что-то. И если мы «понимаем» слова книги, которую читаем, это также означает, что наше мышление направлено на определенные объекты. Мы знаем, о каких объектах здесь идет речь, без необходимости их визуализировать. Но когда объект становится нам известен, когда мы сознательно сосредотачиваемся на нем, это, по-видимому, означает не что иное, как: он нам дан. Но это данное существование объекта, которое существует, когда мы только думаем о нем, когда мы нацелены на него со смыслом, не было бы опосредовано ярким концептуальным образом, так что здесь мы имели бы третий «вид» данного существования.
Полученные таким образом три типа можно в конечном счете охарактеризовать как три стадии визуализации, то есть данности объекта. Визуализируя что-либо, мы, так сказать, приближаемся к его непосредственной данности в большей степени, чем «просто» мысля его. Но как бы я ни отдалял «просто» знаковое значение от непосредственной данности, это различие остается в некотором роде различием степени.
Я полагаю, что таким образом я хотя бы схематично охарактеризовал точку зрения, которой, похоже, часто придерживаются в школе Бретано, Гуссерля и Мейнонга, более того, она считается само собой разумеющейся. Меня не волнуют здесь ни конкретные формулировки, которые используются, ни более точные различия, которые делаются.
Каким бы правдоподобным ни казался вышеупомянутый подход, при ближайшем рассмотрении он, на мой взгляд, оказывается несовершенным.
Когда мы описывали присутствие объекта через образ памяти как косвенное присутствие объекта, мы делали это потому, что в случае яркого воспоминания здесь присутствует нечто, что мы находим и в случае прямого присутствия: а именно, определенный факт становится известным нам таким образом, что мы можем направить на него наше познание, проанализировать его, исследовать его природу, сравнить его, отличить его. Впервые, предположим, я спрашиваю себя, одинаковой или разной высоты три ворот знаменитых Ворот Победы в Мюнхене. Я могу ответить на этот вопрос, стоя перед Воротами Победы и сравнивая их. Но я также могу с такой же уверенностью провести это сравнение, используя свой образ памяти, при условии, что мой образ памяти содержит рассматриваемые части достаточно четко, чтобы их можно было представить (точно так же я могу судить о воспринимаемых воротах Победы только в той степени, в какой воспринимаются и оцениваемые части; если ворота расплываются перед глазами, потому что я стою слишком далеко, я также не могу судить об их относительной высоте).
Впоследствии я могу знакомиться с ранее увиденными фактами по образу памяти. Возможно ли то же самое, если я теперь «мыслю объект невизуализированным образом»? Есть ли у меня тогда перед глазами нечто, к чему я могу обратиться в плане суждения, сравнения и узнавания? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.
Конечно, я могу выносить суждения об объектах, не визуализируя их, могу сразу и непосредственно говорить о вещах всевозможные вещи, отвечать на вопросы, не обращаясь к визуальной основе. Но эти суждения никогда не являются, в том смысле, в каком они делаются, полученными по отношению к самим фактам, считанными с них, как это возможно, когда объект стоит передо мной непосредственно или как запомненный или воображаемый; скорее, они являются выражением знания, которое человек, выносящий суждение, уже получил ранее, получил от самого объекта. По этой самой причине они могут нести в себе самую большую мыслимую силу убеждения (когда не хватает самоочевидной убежденности, это как раз повод для нас вернуться к наблюдению), но они никогда не обладают «доказательством», которым обладает суждение, которое для нашего сознания основано на самом объекте, поскольку считывается с него, и которым оно обладает лишь в той мере, в какой это так.
Подведем краткий итог: в случае понимания слова без сопутствующей визуализации, простого «думания» об объекте, нет ничего, что могло бы заменить сам объект для нашего познания так, как это происходит в случае воспоминания и фантазийного образа. Нет ничего, что представляло бы предполагаемый объект в том смысле, в котором этот термин обсуждался и использовался ранее, есть только нечто – слово, знак, – что его представляет. Именно поэтому мы не должны говорить здесь о «данности», если хотим сохранить наше значение этого термина. Напротив, «быть данным» и «быть мыслимым» остаются типичными противоположностями. По этой самой причине с каждым словом, которое мы слышим или используем сами (в разговоре или во «внутренней» речи), мы можем задать вопрос, что здесь имеется в виду, и на этот вопрос можно окончательно ответить только тогда, когда данное заняло место означаемого. Да, можно сказать и наоборот: объект А дан нам тогда и только тогда, когда перед нами есть нечто, на что нам достаточно взглянуть, чтобы полностью и окончательно ответить на вопрос, что подразумевается под словом А. Против сказанного здесь можно выдвинуть возражения, которые я рассмотрю подробнее, чтобы не допустить неправильного понимания смысла утверждения. Говорят, что если мы используем слово осмысленно, то есть не попугайничаем, то у нас есть или должно быть осознание его значения. Разумеется, против такого способа выражения, который я сам использовал выше, возразить нечего. Но теперь мы говорим, что эта обычная и понятная манера говорить не может означать ничего другого, кроме того, что мы сознательно постигаем этот смысл в данный момент и имеем его перед собой, нацелены на него и смотрим на него, даже если не в ярком представлении. Заметим: объявляется невозможным, чтобы это выражение означало что-либо иное. Чтобы отвергнуть это возражение, я должен указать на другую возможность.
Прежде всего напомню вам о двойном значении, которое мы связываем с родственным термином, словом «знание». Я сейчас думаю об опыте, который был у меня год назад, я помню этот опыт, он присутствует в моем «знании». Но я также «знал» об этом опыте час назад, четыре недели назад, в то время, когда я был занят совершенно другими вещами. И поэтому даже в этот момент я знаю тысячу вещей, о которых в данный момент совершенно не подозреваю. Каждый знаком с этим разным употреблением слова «знание» и знает, что оно означает: под «знанием» мы понимаем, с одной стороны, осознанную визуализацию, присутствие, воплощение в реальность, а с другой – «потенциальное» знание, предрасположенность, духовное обладание. Я «знаю» все, чему мне не нужно учиться заново, но могу в любой момент взять из своей памяти то, что моя память дает мне, когда я в этом нуждаюсь. Возможно, тот же двойной смысл повторяется в понятии «сознание», что мы также должны различать актуальное и потенциальное сознание. Понимать значение слова, осознавать его, значит не только визуализировать его, но и нести его определенным образом в себе, иметь его мысленно готовым, уметь его представить. Разумеется, это наличие под рукой, доступность, способность представить его должно отличаться от просто потенциального знания, которое я использовал в качестве примера – мы, очевидно, не делаем различия между ними без веских причин, «сознание», понимаемое как диспозиция, должно было бы охватывать лишь часть того, что охватывает наше «знание». И более того: если мы называем такую диспозицию не просто «знанием», а «сознанием» вещи, то она, очевидно, должна находиться в более близком отношении к действительному «сознанию», т. е. к реализованному и «данному» в данный момент. Чтобы выполнить это требование, зафиксируем мысль более точно: в данный момент я имею всевозможные знания, исторические, научные, технические и т. д, в большом количестве, которые не имеют никакого отношения к тому, что я сейчас представляю; но в моем распоряжении есть и другие знания, тесно связанные с тем, чем я сейчас занимаюсь, и существование этих знаний одновременно определенным образом проявляет себя в моем опыте, выбрасывает в сознание «рефлекс» в виде разного рода переживаний, например, эмоциональных. Давайте сразу же рассмотрим тот случай, который нас здесь в первую очередь интересует, – понимание слов с этой точки зрения: слово, значение которого нам известно, представляется нам иным, чем незнакомое слово чужого языка, оно кажется знакомым или, лучше сказать, привычным, знакомым, само собой разумеющимся.
Наша способность визуализировать его значение открывается нам, дает о себе знать в этом эмоциональном характере, в том, как слово предстает перед нами – и в этом смысле можно сказать, что мы становимся «сознательными» в отношении нашего знания, не того, что оно содержит, а того, что оно существует, в этом чувстве. Кроме того, слово часто может иметь для нас более конкретный эмоциональный характер, и этот эмоциональный характер может во многом определяться смыслом слова, сферой, в которой оно используется. Вспомните такие слова, как «знаменитый» и «печально известный», подумайте о том, как одно слово может заставить вас перенестись в определенную ситуацию, подумайте о мистической магии, которая окружает некоторые слова, о манящем и пугающем свойстве, которое скрывается в других словах. Такое ощущение, конечно, не является значением данного слова, поэтому нельзя сказать, что значение слова передается нам в этом ощущении – чувство благоговейного трепета, которое человек связывает со словом «религия», не является значением, которое он связывает с этим словом. Но мы можем сказать, что он связывает с этим словом некий смысл, очень определенный смысл, который раскрывается в появлении этого чувства, которое оно в него вселяет, и в этом смысле чувство есть «осознание» этого смысла, а также того факта, что слушающий или говорящий знает этот смысл, имеет его наготове[4 - В демонстрации таких рефлексов сознания я вижу главную заслугу экспериментальных исследований мышления, как они были проведены Августом Мессером (Experimentell-psychologische Untersuchungen ?ber das Denken, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 8), Бьюлером («Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorg?nge», ibid. vol. 9) и другими. Ср. также очень меткие замечания в «Принципах человеческого знания» Беркли, Введение, § XX.].
Теперь кто-то возразит и против этого. Либо, скажут они, этот рефлекс сознания, назовем ли мы его чувством, состоянием сознания или чем-то еще, есть просто фактический эффект этой диспозиции знания и его конкретного содержания. Тогда он может быть, самое большее, признаком нашей способности воспроизводить смысл слова в сознательных представлениях; признаком, из которого мы должны были бы вывести эту способность, то есть наше знание в этом отношении. Однако на самом деле мы не нуждаемся в умозаключении, чтобы понять, понимаем ли мы слово или нет, употребляем ли мы его со смыслом или без, но сразу же ясно осознаем его. Поэтому, по-видимому, остается только другая возможность, что рассматриваемое чувство не является таким просто фактическим эффектом, но что в нем мы осознаем в более узком смысле, что мы подразумеваем под словом нечто и именно эту вещь. Но тогда мы попадаем на старое место, ибо тогда в ощущении должно быть сознание «этого», т. е. означаемого объекта, который сам по себе не может быть просто диспозицией. Иными словами, придется признать, что с пониманием-слушанием слова связано некое данное существование означаемого объекта. Но эта альтернатива ошибочна. Если нас спросят, понимаем ли мы слово, которое нам знакомо и хорошо известно, знаем ли мы его значение, мы, конечно, прямо и с полной убежденностью ответим на этот вопрос утвердительно, мы не выводим наше знание из того, что слово кажется нам знакомым, – в этом не может быть никаких сомнений. Поэтому, если смотреть объективно и логически, такой вывод можно сделать. Это ощущение знакомости имеет автоматическое следствие, а именно то, что мы относимся к слову как к известному, знакомому, а значит, и понятному, и поэтому на вопрос о том, связываем ли мы с ним значение, мы сразу же отвечаем «да» в слепой убежденности. Точно так же, как на вопрос о том, можем ли мы сейчас прочесть определенное стихотворение, которое мы выучили в прошлом, мы сразу же отвечаем «да», не задумываясь об этом, из непосредственного чувства. Хотя мы, очевидно, не делаем сознательных выводов, но, с точки зрения логики, вывод есть: вывод от настоящего опыта к будущей реализации. Так и здесь: я могу узнать, действительно ли я знаю значение слова, только попытавшись его визуализировать. И не так уж редко, когда нас спрашивают, знаем ли мы значение термина, предложения и т. д., мы сначала отвечаем утвердительно, а затем терпим кораблекрушение, когда пытаемся представить себе значение – и тогда нам приходится признать, что первоначальное убеждение было неверным, что «да» было основано на ложном выводе.[5 - Для сравнения я ссылаюсь на свое эссе в Zeitschrift f?r Psychologie, vol. 49: «?ber die Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorg?ngen». – Гуссерль также иногда упоминает (Логические исследования II, с. 73), что можно было бы придумать идею объяснения осознания значения слова как простого чувства знакомости. Он возражает, что мы очень хорошо различаем, является ли слово просто известным нам или оно имеет для нас значение; мы также можем быть знакомы с непонятными терминами или словами иностранного языка, значение которых, как мы знаем, мы давно забыли. Конечно. Но из этого, как мне кажется, следует, что чувство, о котором здесь идет речь, – это не просто чувство знакомости, а чувство особого рода. Я бы сравнил его с чувством, которое мы испытываем по отношению к знакомому инструменту, с которым умеем обращаться. Это не просто сравнение – по моему мнению, слово и есть такой инструмент – я вернусь к этому позже. В других местах, однако, Гуссерль, кажется, считает само собой разумеющимся, что даже в «значении» означаемый объект каким-то образом сознательно постигается нами.]
Возможны еще два возражения. Первое: если предположить, что мы осознаем значение слова в ярких представлениях, то мы осознаем, что именно то, что мы сейчас представляем, и есть объект, обозначенный этим словом. Я говорю о Бранденбургских воротах, и теперь я внутренне вижу их перед собой и знаю: это и есть «Бранденбургские ворота», то, что обозначается этим словом. Но как может возникнуть это осознание, если не на основе некоего сравнения между тем, что я подразумеваю под словом, что я думаю под ним, и тем, что я вижу перед собой внутренне? Перефразируя Гуссерля, я переживаю «исполнение» своего намерения, связанного со словом, я переживаю тождество того, что я имею в виду, с тем, что я теперь вижу внутри себя. Для этого, однако, я должен иметь перед собой означаемое или мыслимое как таковое, оно должно быть дано мне как означаемое. Однако и этот аргумент я не могу признать: По моему мнению, то, что я переживаю в этом случае, не есть тождественное совпадение двух объектов, один из которых воображаемый, а другой просто мыслимый, а просто своеобразное отношение между словом (звуком) и воображаемым фактом: я переживаю слово как название этого факта. В утверждении, конечно, что слово действительно является именем этого воображаемого объекта (или даже только тем, что оно является для меня этим именем), есть еще нечто, что выходит за пределы этих реляционных переживаний и, строго говоря, требует специального рассмотрения на основе ретроспективного опыта, а именно мысль, что во всех случаях, когда я использовал слово, оно происходило в этом смысле, т. е. могло быть заменено этим воображаемым содержанием. Во-вторых, мы недаром говорим, что можем «обращать внимание» на «смысл» слова и на его «звучание». Как это возможно, если смысл как таковой не задан? И здесь я хотел бы напомнить вам о соответствующих случаях, чтобы прояснить ситуацию. Бывает, что форма предмета, которым мы долгое время пользовались, вдруг «бросается» нам в глаза как необычная. Мы часто видели этот предмет, но никогда не обращали внимания на форму, то есть не останавливались на ней, всегда воспринимали ее как должное и использовали предмет только так, как ему подобает. Точно так же звук слова может поразить нас однажды, мы можем остановиться на нем, тогда как до сих пор мы лишь «обращали внимание на смысл», то есть просто пользовались словом, просто предоставляли себя его ассоциативному руководству». —
Я еще раз подчеркиваю: в мои намерения не входило немедленно доказать истинность предложенной здесь теории, а лишь доказать, что она возможна. Это было сделано для того, чтобы ответить на возражение, что когда мы говорим о сознании значения слова, это не может означать ничего другого, кроме определенного вида данного существования этого значения. С другой стороны, следует убедительно показать, что такой способ говорить в любом случае несостоятелен, если мы придерживаемся понятия «данности», которое мы сформировали в связи с непосредственной данностью и фактами памяти и воображения. Высказывание о том, что мы «сознаем» значение наших слов, даже не представляя себе их объект, может, следовательно, иметь приемлемый смысл, если мы понимаем это «сознание» как «знание», подобно тому как мы обычно говорим о таком знании как о предрасположенности, способности, только как о «знании», которое проявляется и раскрывается сознанию в определенных характерных переживаниях. Само это понятие «знания», конечно, еще требует эпистемологического прояснения, к которому я должен обратиться позже. В разных случаях утверждалось, что более поздние экспериментально-психологические исследования мышления, например, проведенные Мессером, Ахом, Бюлером и другими, также экспериментально доказали, что существует данное существование идеальных объектов в смысле Гуссерля, что существуют гуссерлевские акты и т. д. как постижимый факт сознания. В противовес этому я должен, помимо вышеупомянутых замечаний, вернуться к моей уже упомянутой работе в т. 49 «Zeitschrift f?r Psychologie». Мне нечего опровергать из того, что я там сказал, я лишь ссылаюсь на появившуюся за это время критику Титченера[6 - Эдуард Брэдфорд Титченер, Экспериментальная психология мыслительных процессов, Нью-Йорк, 1909 г.] экспериментов Бьюлера и Мессера. Сам Бьюлер считает, что я должен был экспериментально обосновать свою точку зрения о том, что переживания, наблюдаемые его испытуемыми, на самом деле были состояниями сознания, похожими на ощущения, а не непосредственно постигаемыми интенсиональными актами в его понимании. Но моя мысль, которую я хотел прежде всего выразить, состояла именно в том, что в таких экспериментах возможна двойная установка: установка на реальное описание и анализ данности и установка на объект, который просто «объявляют», как я его там называю, «наивно описывают», как я его называю в следующем разделе. В последнем случае это наивное описание, данное в записи (которое, конечно, само по себе не становится бесполезным), если оно должно быть использовано в смысле феноменологической констатации факта, все еще требует интерпретации самим психологом, который, конечно, должен в конечном счете основывать его на своих собственных наблюдениях. Теперь мне кажется более чем вероятным, исходя из результатов самого эксперимента, что испытуемые Бьюлера вели себя не наблюдательно, а информативно или наивно-описательно, тогда как единственными испытуемыми, которые действительно наблюдались, были, по сути, испытуемые Марбе, к которым я могу обоснованно обратиться за экспериментальным подтверждением своих взглядов. В то же время я согласен с Марбе и Дюрром в том, что действительно наблюдательное поведение испытуемых возможно только в том случае, если перед ними ставятся простые умственные задачи.
5. Феноменологическое описание и наивное описание
Могут ли все термины, которые мы используем осмысленно, быть определены через ссылку на данные факты? Может ли значение каждого слова, которое я использую, быть полностью сведено к данному?
Когда мы подходим к этому вопросу, очевидно, очень важному для эпистемологии, мы одновременно ставим перед собой очень общую задачу инвентаризации чисто данного как такового, задачу общей феноменологии, взятой в самом широком смысле этого слова.
Поначалу эта задача кажется очень простой. Казалось бы, все, что мне нужно сделать, – это перечислить, констатировать то, что есть для меня в определенный момент как непосредственно данное, то, что находится передо мной, – как при такой задаче вообще можно сомневаться, заблуждаться, иметь разные мнения? И все же при ближайшем рассмотрении обнаруживается удивительный поначалу факт, что едва ли можно найти больше противоречий, чем в чисто феноменологических, чисто описательных вопросах, в простом изложении непосредственно данного. Можем ли мы подвести общие объекты под данное, или же номинализм прав, когда утверждает, что таких общих объектов не существует ни в каком виде, а есть только – realiter и phenomenaliter – отдельные содержания и омонимичные слова (одинаковые или похожие звуки), которые мы к ним прилагаем? Существует ли телесная вещь как особый постигаемый объект, или то, что мы называем таковым, как учит идеализм Беркли, есть лишь сумма перцептивных содержаний? Существуют ли чувства как самостоятельные содержания сознания, или то, что мы называем ими, есть просто ряд телесных ощущений? Существуют ли «акты» видения, слышания, чувствования, мышления как самостоятельные содержания, которые можно пережить и постичь? Каждый, кто знаком с литературой, с историей этих, казалось бы, чисто феноменологических вопросов, знает, насколько резко противоположны здесь взгляды.
Как возможны такие противоречия? Как могут возникать ошибки в чистом описании данности и как мы должны себя вести, чтобы избежать этих ошибок?
Поскольку, безусловно, права может быть только одна из спорящих сторон (предполагать, что в сознании одной стороны присутствует нечто, отсутствующее в сознании другой, было бы несколько наивным решением спора), мы должны прежде всего предположить в общем виде, что желание, намерение, задача определить, описать и воспроизвести словами данные факты могут как-то повлиять на результат феноменологического описания, фальсифицировать его в той или иной степени. Точнее, здесь есть две возможности.
С одной стороны, желание описать данное и связанная с этим желанием, так сказать, теоретическая установка могут убрать некоторые вещи из нашего поля зрения, возможно, заставить их вообще исчезнуть, или, наоборот, создать факты для нашего сознания в том или ином смысле. Подумайте, например, о мимолетных эмоциональных переживаниях, об аффектах, которые несовместимы с такой теоретической установкой, с намерением самонаблюдения. Конечно, в широких пределах память, а возможно, и фантазия, которая не подвержена этой трудности, могут вступить здесь в игру в качестве дополнения. Или другой случай, который можно было бы здесь использовать: намерение констатировать и перечислить данное невольно приводит к анализу, расчленению, то есть к тенденции разложить то, что нам дано, на отдельные, резко очерченные факты. Но не является ли этот анализ также своего рода фальсификацией? Во-первых, имеем ли мы право описывать то, что дано нам в момент анализа, как то, что было дано раньше, когда факты были перед нами в неанализированном виде? Можно, по крайней мере, задаться этим вопросом. А с другой стороны: не могут ли некоторые вещи быть уничтожены и сведены на нет этим анализом? Целое часто больше, чем сумма его частей; но анализ имеет тенденцию подменять целое суммой частей. Так что и здесь результатом может стать то, что сама установка на чистое описание данного эскамотизирует [интерпретирует – wp] важные компоненты данного и подталкивает другие вещи на их место. Легко видеть, что здесь возникают реальные и отнюдь не незначительные трудности для феноменологического описания, которые могут привести к различиям во взглядах.
Однако даже в этом последнем случае использование памяти и воображения дает определенную возможность принципиального решения. Мы слышим звук, сначала как единое целое, затем концентрируясь на его частях или на той или иной отдельной частице. Затем сравнение того, что мы слышим сейчас, с тем, что мы слышали раньше, показывает нам, что нечто новое, нечто иное на самом деле возникло благодаря нашей внимательности к частицам, так что мы не можем просто сказать, что частицы уже были там раньше. С другой стороны: у меня был общий опыт, и теперь воспоминание именно об этом общем опыте показывает мне определенные характерные частичные переживания в нем: тогда я могу утверждать, что эти частичные переживания были даны в то время, потому что воспоминание показывает мне эти части как данные в общем содержании в то время. Мы видим разницу между этими двумя случаями: память является средством повторного рассмотрения самого предыдущего факта, а именно через посредничество образа памяти, и результат, который она дает, таким образом (при условии верности памяти) дает природу самого предыдущего факта.
Последующий анализ звука, с другой стороны, осуществляется на перцептивном содержании, которое является просто новым перцептивным содержанием по сравнению с предшествующим (неанализированным звуком) и не имеет функции репрезентации предшествующего содержания. Наконец: я разлагаю в памяти общее переживание на составные части, но те части, которые я могу ухватить здесь по отдельности, изолировать их до некоторой степени, все же показывают нечто характерно иное, недостаток по сравнению с общим переживанием того времени: тогда я приду к заключению, что это общее переживание все же имеет особую черту, которую по какой-то причине нельзя выделить так, как это было возможно с другими частичными переживаниями. Ошибки, неопределенность суждений, конечно, все еще остаются возможными. —
Однако, кроме того, теперь существует вторая возможность, второй источник ошибок. Описание данного также предполагает описание и воспроизведение данного в словах. Может оказаться, что это воспроизведение незаметно добавляет всевозможные вещи, содержит непреднамеренное изменение или суждение о данном, а затем, будучи ошибочно воспринято как чистое описание, позволяет нам утверждать как «данное» то, что на самом деле таковым не являлось. Марти, который недавно указал на этот источник ошибок, говорит о фальсификации описательных выводов через «внутреннюю форму языка». Например, он обвиняет теорию эмпатии в том, что она позволяет обмануть себя внутренней формой языка, когда понимает всевозможные общепринятые выражения, приписывающие неодушевленным вещам активность, как будто говорящий действительно чувствует жизнь, душевность этой вещи[7 - Антон Марти, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, vol. 1, p. 175f]. Или вот еще пример: я заявляю о существовании определенного эмоционального переживания словами «я испытываю удовольствие». Эти слова разбивают переживание на три фактора: удовольствие, ощущение удовольствия и ощущение «я»; они как бы констатируют существование этой троицы. Но нельзя отбросить мысль о том, что это тройственное разделение – лишь ошибка языковой формы.
Мне кажется, что при более внимательном рассмотрении этот источник ошибок не следует недооценивать, особенно с учетом того, что было сказано в предыдущем параграфе. Мы обозначаем объект перед собой совершенно непосредственно, намереваясь просто описать или обозначить его определенным словом. Поэтому, как учит нас повседневный опыт, слово, которое мы используем, вполне может уже содержать в себе суждение об объекте: суждение о его происхождении, о том, что мы должны от него ожидать, без того, чтобы мы осознавали это суждение. Оно не осуществляется нами как таковое, оно лишь подразумевается в смысле слова, которое инстинктивно представилось нам как наиболее подходящее обозначение данной вещи. Если бы «смысл» слова, которое мы используем, всегда был нам дан, то, конечно, мы должны были бы без лишних слов понять, в какой степени это слово действительно охватывает факты, которые мы хотим уловить, но мы уже знаем, что это не так. Поэтому требуется специальная рефлексия над этим значением, специальное рассмотрение, которое, так сказать, сначала сталкивает значение с данным фактом, чтобы определить, можно ли и в какой степени рассматривать слово как обозначение или описание данного. Если, например, меня спросят, что я «вижу» в данный момент, то есть что мне сразу дано как нечто видимое, я, конечно, сначала отвечу: мой стол. Но это доказывает лишь то, что мне дано нечто, что автоматически подсказывает мне это обозначение; если я хочу знать, действительно ли это было точное феноменологическое определение, которое я произнес, я должен спросить себя далее, не подразумевается ли в утверждении, что то, что я вижу здесь, есть мой стол, гораздо больше, чем простое обозначение, действительно ли выражение «мой стол здесь» может быть заменено в своем значении чем-то, что дано мне здесь, на моих глазах. И таким образом я, возможно, приду к выводу, что необходимо гораздо более сложное выражение, чтобы действительно назвать то, что здесь дано. Феноменологическое определение данного и наивное его описание – мы можем кратко резюмировать это – это toto coelo [абсолютно – wp] разные вещи.
6. Проблема общего
Теперь, когда в предыдущих параграфах было очерчено понятие «данности» и одновременно установлены условия, при которых только и можно говорить о данности факта в точном смысле, вернемся к вопросу: можно ли действительно довести до данности «смысл» всех используемых нами слов, т. е. можно ли каждому слову приписать данный факт, который мог бы заменить данное слово, который мог бы рассматриваться как факт, именем которого является это слово?
Я ставлю этот вопрос сразу же в связи с особой проблемой: проблемой общего. Соответствуют ли слова общего значения как таковые схватываемым объектам, объектам, которые мы можем привести к данному? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся со старой оппозицией концептуального номинализма и концептуального реализма или концептуализма. Номинализм всех оттенков – в этом его суть – утверждает, что общие понятия, общие объекты – это фикция, объекты, которые не существуют ни в каком смысле, ни как реальные, ни как идеальные, ни как физические, ни как психические, ни как независимые, ни как частичные объекты, сущности, которые поэтому не могут стать известными нам ни в какой форме, которые ни при каких обстоятельствах не могут существовать для нас как феноменальные факты. Теперь, поскольку на вопрос о значении слова можно окончательно ответить, лишь вызвав к жизни факт, именем которого это слово является, из этого следует, что общие слова как таковые вообще не имеют никакого значения, что они ничего не обозначают, что они – пустые слова, то есть звуки, «flatus locis»; любой способ говорить, который приписывает им значение, является простой фикцией. Остается ответить на вопрос: как могла возникнуть такая фикция, как мы стали использовать слова, которые, как нам кажется, соответствуют определенному, осязаемому объекту, с которым мы обращаемся так, как будто это так и есть, хотя на самом деле это не так. Именно в ответе на этот вопрос и расходятся различные номиналистические теории – средневековых номиналистов, Беркли, Юма. Если на вопрос о том, можем ли мы каким-либо образом привнести в реальность общие объекты как таковые, ответить отрицательно, то это означает, что мы стоим eo ipso на почве номинализма. С другой стороны, все концептуалистско-реалистические решения проблемы – от Платона до современных теоретиков объекта – как бы далеко они ни расходились, должны согласиться с тем, что общие понятия или объекты существуют в той или иной форме и существуют для нас, постигаемые нами, как феноменальные данности. Различные концептуалистские взгляды теперь снова расходятся в вопросе о том, как мы должны определить это существование и как мы должны определить это схватывание более детально. В основном здесь можно выделить четыре типично различных взгляда, которые мы называем взглядами Платона, Аристотеля, Локка и современных теоретиков объекта (Гуссерля и Мейнонга, которые независимо друг от друга пришли к, казалось бы, очень близким теориям).
Открытие «понятия» и, в данном случае, общего в противовес индивидуальному, как известно, является достижением Сократа, у которого его перенимает Платон. Хорошо известно, какое значение придает ему Платон, в какой степени понятие концепта находится в центре его философии. Когда в «Протагоре» обсуждается добродетель, а в «Теэтете» – знание, первое, что всегда говорится, – это не перечисление отдельных добродетелей, знаний или видов знания, а определение «добродетели» и «знания», не указание на разнообразие объектов, которые мы обозначаем как добродетели и знания, а признание единой сущности, с которой мы логически связываем их через это обозначение. Таким образом, изначально резко разделены: сумма, множественность, разнообразие индивидов и противоположное им единое общее, под которое мы их, говоря по-платоновски, включаем: в котором они участвуют – «человек» и неопределенно много похожих и одновременно разных индивидуальных человеческих существ[8 - Конечно, можно и в определенном смысле нужно проводить различие между общими понятиями и общими объектами. Под «понятием» обычно понимают нечто, имеющее только ментальное существование, продукт разума, и тогда, возможно, задаются вопросом, существует ли общее только как «понятие» или также как (внементальный, реальный или идеальный) «объект». Однако можно взять оба слова и более широко и неопределенно по смыслу: взять слово «объект» как синоним «чего-то» вообще, как уже указывалось ранее, а под «понятием» понимать значение слова как такового, то, что подразумевается в слове. Тогда можно, как это было сделано в тексте, использовать «общее понятие» и «общий объект» изначально неразборчиво [четко не отделяя их друг от друга – wp]. К этому различию я вернусь позже.].
Причина, по которой Платон придает такое особое значение различию между общим и индивидуальным, причина, по которой он всегда начинает с определения сущности общих, а не индивидуальных сущностей, очевидно, заключается в том, что он впервые осознал, возможно под влиянием сократовской мысли, связь между научным прозрением, проницательным пониманием, очевидным знанием истины, с одной стороны, и общим знанием – с другой; связь, которую Кант описывает, называя «всеобщность» и «необходимость» в знании взаимозаменяемыми понятиями. Поднявшись над результатом, который дает нам фактическое измерение суммы углов одного треугольника, и осознав, что для треугольника не обязательно, чтобы сумма углов была равна 2 R, мы поднимаемся от простой констатации факта, как это делает геодезист, к научной проницательности математика. И это осознание того, что научное познание истины всегда связано с общим (которое он, очевидно, впервые увидел в математике), становится особенно важным для Платона, поскольку открывает ему путь к победе над его главным противником, скептицизмом софистов. Безудержный скептицизм софистов завершается предложением, что не существует истины, которая была бы действительна для всех людей. Мы окунаем обе руки в одну и ту же воду, и она кажется одной руке холодной, а другой теплой – как нет смысла рукам спорить о том, кто из них прав, так нет смысла двум людям спорить о своих мыслях, о том, кто из них представляет себе истину, а кто – ложь; для каждого из них его мысль истинна.
Здесь нет убеждения, доказательства или опровержения, а есть только убеждение, то есть попытка с помощью искусства речи (которому софисты намереваются научить) убедить собеседника принять свои идеи вместо его собственных. Платон стремится опровергнуть этот скептицизм, подхватывая то, что верно в аргументах и примерах софистов, и отделяя их от ложных выводов: Однако там, где речь идет только об отдельных единичных сущностях, нет универсальной истины, нет познания, а есть только воображение, мышление, ибо единичное есть нечто возникающее и исчезающее, нечто постоянно меняющееся, различное в зависимости от того, как его рассматривают, как показывают и примеры софистов, – как же то, что никогда нельзя постичь в строгом тождестве, может быть действительным, вечным и действительным для всех, как того требует идея истины? Пока софисты правы, но единичным и индивидуальным объектам противопоставляются общие понятия, которые не возникают и не исчезают, которые по самой своей природе удалены от изменений, каждое из которых противостоит множественности изменяющихся индивидов как Единое, остающееся неизменным. Отдельный человек – это сначала ребенок, потом юноша, потом мужчина и старик; поэтому ни одно из этих определений мы не можем отнести к нему как действительно действительное, он в одном отношении сын, в другом в то же время отец, поэтому к нему применимы противоречивые определения. С другой стороны, понятие «ребенок» никогда не может стать понятием «старик», тогда как понятия «отец» и «сын» всегда находятся в фиксированном отношении друг к другу. Единая вещь может стать из одной двумя, тремя и более: стоит только разбить ее, и она в одно и то же время едина и множественна, ибо включает части в себя; с другой стороны, число 1 никогда не может стать числом 2, но между ними существует неизменное математическое отношение. Вот почему по отношению к общим понятиям существует то, чего нет по отношению к отдельным вещам: строго достоверная истина и знание. Это познание относится именно к неизменным отношениям, существующим между понятиями, к систематическому порядку понятийной системы. Разумеется, то, что относится к понятиям, косвенно переносится и на индивидов, поскольку индивиды участвуют в понятиях, поскольку они подпадают под понятия, то, что относится к понятиям, относится и к ним: поскольку человек – ребенок, он не старик, поскольку вещь одна, она не большинство, и так далее.
Путь к познанию истины, отрицаемый софистами, – это путь к общим понятиям. Общие же понятия образуют целостный мир вечных и неизменных предметов, которые существуют сами по себе, то есть не в отдельных вещах, а отдельно от них и только в логическом отношении к ним. Как же постичь эти объекты? Нетрудно заметить, что по мере того, как Платон подходит к этому вопросу, «идеи» начинают очень близко подходить к отдельным вещам по способу их существования. Мы не «видим» человека, как мы видим отдельных людей, но мы постигаем его, мысля в лице отдельного человека. Это схватывание, однако, теперь описывается как воспоминание: вид отдельного человека вызывает во мне воспоминание об идее человека. Но мы можем вспомнить только то, что видели и видели раньше, поэтому в предсуществовании мы должны были жить в мире идей и видеть этот мир так же, как мы живем сейчас в мире физических вещей.
У нас, как я только что сказал, сразу же возникает впечатление, что с этим поворотом в метафизику сам характер логически-всеобщего в идеях определенным образом разрушается, что они сами становятся чем-то индивидуальным. Причину этого легко увидеть. Все, что существует в определенное время, «hic et nunc» [здесь и сейчас – wp], является в то же время индивидуальным. Мы можем приписать ему общее понятие, в которое мы можем мысленно включить все качественные определения этого индивида, и если мы представим себе один и тот же объект – что мы можем сделать в любой момент – как существующий в другое время, то эти два объекта представляют собой два воплощения одного и того же понятия. Поэтому всеобщее должно мыслиться как то, что по своей природе не существует ни сейчас, ни в другое время; как только мы говорим о чем-то, что привязано таким образом к моменту времени, мы уже находимся рядом с индивидуальным. Поэтому всеобщее должно мыслиться как вневременное – но метафизическая доктрина идей Платона превращает эту вневременность в вечное существование в смысле вечного бытия. Но то, что существует всегда, существует и в определенное время. Таким образом, всеобщее превращается из вневременного идеала во временно-реальное и, следовательно, в индивидуальную сущность. Последняя причина этого, однако, очевидна: идеи должны быть постигаемыми объектами, но Платон может представить себе это постижение только по аналогии с восприятием отдельных вещей[9 - Как бы ни была изобретательна и последовательна попытка Наторпа интерпретировать все те платоновские термины, которые превращают мир идей в метафизический потусторонний мир, как просто образы, есть, на мой взгляд, моменты, в которых такая интерпретация делает насилие над формулировкой и ходом мысли Платона. Действительно ли все доказательство бессмертия в «Федре» должно быть аллегорией?].
При превращении «красного» в некое индивидуальное существо рядом с индивидуальным красным, «человека» – в некое реальное существо рядом с индивидуальным человеком возникли известные трудности, о которых говорит Аристотель в своей «Критике». Кроме того, были особые неудобства, вытекающие из платоновского метафизического поворота вещей, из того, что Идеи должны были не только составлять мир наряду с миром индивидов, но в конечном счете единственный реальный и истинный мир, в то же время и действительный объект познания. Конечно, вещи должны участвовать в Идеях – но что следует понимать под этим «участием»? Так Платон подводит нас к аристотелевскому решению проблемы общего.
Аристотель сначала обижается на метафизический выход за пределы мира идей, который кажется ему излишним дублированием реальности. Поэтому он переносит общее на индивидуальные вещи. «Человек» не существует как особое существо вне индивидуального человеческого существа. Но в каждом отдельном человеке мы можем различить две вещи: чисто индивидуальные черты, отличающие его от других людей, и общие человеческие черты, которые он имеет с другими и которые делают его человеком. Олицетворением всех этих общих черт в каждом человеческом индивиде является человек, то есть универсальный человек, «человечество» в общем абстрактном смысле. Однако вслед за Платоном Аристотель придает этой идее особый поворот. Только по отношению к общепонятному, учил Платон, существует научное понимание, существуют связи необходимости, строго обоснованная истина; чисто индивидуальное, напротив, является случайным, не поддающимся научному определению. Таким образом, мир идей становится реальной действительностью, а мир индивида – лишь видимостью. Аристотель сохраняет это привилегированное положение общего для научного осознания истины (а также для опровержения основанной на ней софистики), а значит, и для основанных на ней следствий. Таким образом, общее в человеке становится в то же время подлинным ядром его бытия, вокруг которого «случайные», сугубо индивидуальные детерминации лежат как внешняя оболочка. Человек прежде всего человек – в этом выражается его внутренняя сущность, к которой индивидуальные характеристики добавляются лишь как реальность второго порядка. Таким образом, Аристотель считает, что он усовершенствовал платоновскую доктрину и в то же время сохранил то, что в ней на самом деле верно. Общие предметы не становятся особой метафизической реальностью вне индивидуальных вещей, а индивидуальные вещи не сводятся к простому иллюзорному миру, а остаются единственной реальностью. С другой стороны, как учил Платон, общее остается единственным объектом истинного знания и, следовательно, актуально реальным: ведь в индивидуальном мы должны различать истинную сущность и случайные придатки, и это различие совпадает с различием общего понятия и индивидуальных особенностей. Наконец, неопределимое «участие» вещей в идеях, как кажется, заменяется более четким представлением об отношении между индивидом и общим понятием, поскольку общее становится (абстрактной) частью индивида, той частью, которая повторяется идентично в разных индивидах.
Для Аристотеля общие объекты, таким образом, непосредственно постижимы, столь же постижимы, как и индивиды, поскольку они постигаются в них через абстрагирование от чисто индивидуальных компонентов. Устойчива ли эта доктрина и действительно ли она устраняет трудности платоновского взгляда? Как бы очевидно это ни казалось, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Если универсальное должно существовать в каком-либо смысле, оно, как справедливо подчеркивал Платон, должно быть единым и тождественным, в отличие от неопределенного множества индивидов. «Человек» един в отличие от множества индивидуальных человеческих существ и т. д. И если все индивидуальное определяется временем и, возможно, местом, то каждый отдельный человек находится в определенное время и в определенном месте, «человек» – это нечто вневременное, без «hic» и «nunc». Вот передо мной два человека, я абстрагируюсь от их индивидуальных черт, фокусируюсь только на том, что их объединяет, – превращает ли это этих двух людей в единое, идентичное существо? Выражение «мы обращаем внимание на то, что у нас есть общего» не должно вводить в заблуждение, потому что эта «общность» – не тождество, а одинаковость, в одном можно найти те же черты, что и в другом, и я обращаю на них внимание, но одинаковость – это не тождество, напротив, она предполагает двойственность. Я смотрю на два синих цвета в отношении того, что в них одинаково; однако эти идентичные абстрактные моменты становятся чем-то идентичным лишь постольку, поскольку они «одинаково синие», то есть принадлежат к одному и тому же роду. Таким образом, мы говорим о тождестве не на основе одной лишь абстракции, а только тогда, когда две тождественные сущности подведены под общее понятие, так что то, что абстрактно выделено как таковое, еще не является общим, даже если признать, что абстрактное выделение тождественных моментов находится в определенном отношении к подведению данных индивидов под одно и то же понятие, что, точнее говоря, мы подчиняем различные индивиды одному и тому же общему понятию только там, где находим такие тождественные компоненты. [10 - Ср. Husserl, Logical Investigations II, pp. 153. – В вышеизложенном я в то же время критикую свои собственные ранние замечания в моих «Исследованиях логического содержания причинно-следственного закона», Лейпциг 1905.]Следует особо подчеркнуть, что даже если мы игнорируем пространственно-временную позицию объекта, индивидуальный объект не становится общим объектом. Если я игнорирую тот факт, что вещь существует здесь и сейчас, если я не обращаю внимания на ее пространственно-временную определенность, это означает, что я игнорирую конкретную пространственно-временную позицию, в которой она находится, я могу мысленно переместить ее в любую другую позицию, я могу оставить ее пространственно-временную позицию совершенно неопределенной – но это не означает, что она становится вневременной сущностью: она становится вневременной сущностью, сущностью, которая по своей природе не существует в определенное время, чье существование не имеет ничего общего с реальным временем и реальным пространством, как это имеет место для «человека», для «треугольника», для «числа» «3» и т. д. словом, для каждого общего понятия[11 - Марти, однако, кажется, придерживается мнения (Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik aund Sprachphilosophie, vol. 1, p. 328), что понятия можно воспринимать как нечто существующее во времени, но не в определенное время. Однако то, что существует в неопределенное время, существует «либо» сейчас, «либо» в другое время, может существовать «и» сейчас, «и» в другое время. Очевидно, что мы не можем сказать это о «человеке», а только о «любом человеке», то есть о любом индивидууме, который подпадает под понятие «человек». «Человек», с другой стороны, общее понятие человеческого существа, не существует «ни» сейчас, «ни» в любое другое время.].
В результате получается, что либо разговоры о тождественном общем объекте, «человеке», «цвете» и т. д. являются просто фиктивными разговорами: тогда мы остаемся с номинализмом. Либо такая сущность есть, и в этом случае мы должны вернуться от Аристотеля к Платону, потому что искать эту сущность нужно не в индивиде, а вне его, пусть и не как реально существующую вещь.
А теперь другая сторона теории Аристотеля. Аристотель хочет искоренить метафизические компоненты платоновского учения, но удалось ли ему это сделать? Метафизическая реальность общего остается принципиально той же самой, даже если общее переносится на индивидуальное. Прежде всего, если общее-концептуальное должно быть сущностью вещей, это означает, что для каждого отдельного объекта существует только одно общее понятие, к которому он принадлежит и которое мы должны найти. Теперь, с другой стороны, к нам приходит убеждение, что образование понятий – это, в определенных пределах, дело нашего произвола, что мы всегда можем включить два объекта, если они имеют определенные общие черты, в одно и то же понятие, что мы можем, таким образом, отнести объект к любому числу понятий. Ни вечно неизменный платоновский мир идей, ни аристотелевское представление о столь же неизменной понятийной сущности в каждой вещи не соответствуют этой стороне общих понятий. Это приводит нас к Локку.
Локк исходит из того, что то, что предлагает нам восприятие, – это единственное, что нам дано, и все воспринимаемое как таковое индивидуально. Разум же создает из восприятий новые сущности, с одной стороны, разбивая их на части, а с другой – объединяя в новые целые. Таким же образом создаются общие идеи. Мы видели треугольники разных форм, а теперь объединяем увиденное и запомненное в одну идею треугольника вообще, «треугольник вообще». Этот треугольник вообще не является ни чем-то метафизически реальным вне нас, ни чем-то физически реальным в воспринимаемом мире, но это нечто созданное нами, которое, следовательно, существует только как наше воображение.
Понятно, что Локк таким образом отбросил метафизическое из платоновской и аристотелевской доктрины. Но столь же очевидно, что против обычных образов, которые, по его мнению, должно создавать воображение и с помощью которых он хочет решить проблему общего, можно выдвинуть те же возражения, что и против платоновских идей и аристотелевских абстрактных объектов: это вполне очевидные временные сущности, даже возникающие и исчезающие, а значит, индивидуальные объекты. Только не физические, а психологические. Кроме того, существуют известные неудобства, которые возникают из-за необходимого объединения противоречивых элементов в эти общие образы и на которых Беркли затем основывает свою резкую критику доктрины Локка.
Если слово общего значения действительно соответствует постигаемому объекту, то этот объект нельзя представить ни как абстрактную часть отдельных объектов, ни как образованный из них фантастический образ, который в конечном счете также индивидуален, но его можно представить только как объект собственного рода, вневременной природы, который – в этом отношении мы должны вернуться к Платону – стоит за пределами всего физически и психологически реального. Мы должны постичь этот объект, конечно, с помощью восприятия отдельных объектов, но не в форме простого ассоциативно срабатывающего воспоминания, не в форме абстрагирующего возвышения и не в форме фантазирующего обобщения, а именно в его собственной форме, в особом «акте» обобщения. Это подводит нас к позиции современных теоретиков объекта, которая, можно сказать, сама собой возникает как результат критики платоновской, аристотелевской и локковской доктрин.
Я привожу пример Гуссерля:
«В том смысле, что мы подразумеваем красный цвет in specie, мне представляется красный объект, и в этом смысле мы смотрим в его сторону (что мы, в конце концов, не имеем в виду). В то же время в нем возникает красный момент, и в этом отношении мы снова можем сказать, что смотрим на него. Но мы также не имеем в виду этот момент, эту индивидуально определенную единичную черту в объекте, как, например, когда делаем феноменологическое замечание о том, что красные моменты дизъюнктивных [дифференцированных – wp] частей поверхности также дизъюнктивны. Хотя красный объект и возвышенный красный момент появляются в нем, мы скорее имеем в виду один идентичный красный, и мы имеем его в новом способе сознания, благодаря которому вид вместо индивида становится для нас объективным». (Логические исследования II, стр. 106.
Мы «подразумеваем» тождественный красный, то есть, конечно, не только: мы подразумеваем его, например, словами, но и постигаем его, как, очевидно, следует из выражения: «он становится объективным для нас, а не для индивида».
Я не верю, что теория Гуссерля может быть атакована и опровергнута так же, как теория Аристотеля и Локка. Он не считает себя вынужденным приписывать общему объекту свойства, которые снова делают его индивидуальным.
Я не могу признать опровержение Марти (Untersuchung zur Grundlegung etc. vol. 1, p. 337) обоснованным. Оно исходит именно из той путаницы, с которой Гуссерль хочет бороться, из аристотелевского смешения абстрактного и индивидуального частичного содержания и общего («красный момент» и «краснота в виде»). На вопрос, существует ли «цвет» только один раз или также снова в «синем» и «красном», что привело бы к известным неудобствам, ответ таков: «цвет» как тождественный объект существует только один раз, но в синем и красном существует абстрактный цвет-момент, который относится к «цвету» как виду, так же как красный-момент в красном, который я сейчас видел, относится к «красному» как виду. Однако утверждение, что существование истинных родов «in abstracto» и «для себя» влечет за собой противоречие, основано на нечеткой форме выражения. Это было бы противоречием, если бы хотели говорить об абстрактном частичном объекте индивида, существующего in concreto, и точно так же, если бы хотели говорить о роде, который не является родом чего-то, то есть не находится в своеобразном отношении к чему-то индивидуальному, что позволяет этому индивидуальному быть подведенным под род; я не нахожу никакого дальнейшего противоречия. Наконец, что касается вопроса о том, называется ли краснота в виде вида краснотой в том же смысле, что и краснота отдельного красного цвета, находящегося передо мной, то следует сказать, что у Гуссерля слово «краснота» обозначает в каждом случае одно и то же, а именно красноту в виде вида, но что выражение: «есть» краснота, имеет каждый раз разное значение: в применении к абстрактному красному моменту цвета передо мной это означает, что этот момент стоит в логическом отношении индивида к роду; в применении к роду это означает, что он называется краснотой.
Таким образом, мы можем назвать эту теорию единственно возможной теорией общего, если будем настаивать на предпосылке, что слова общего значения соответствуют постигаемым объектам, то есть что вопрос о значении таких слов вообще может быть задан со смыслом. Поэтому она остается единственно возможной теорией, если мы не ставим себя на почву номинализма.
Тем не менее, если сравнить эту теорию с теорией Аристотеля и Локка, то в ней, несомненно, есть что-то неудовлетворительное. Аристотель и Локк определенным образом пытаются заставить нас понять общее и то, как мы приходим к нему от индивидуального. Они делают это, обращаясь к процессу абстрагирования, с которым мы также знакомы, или к композиционной функции воображения, с которой мы также знакомы, пытаясь проследить общее до таких вещей. Гуссерль, с другой стороны, обходится без такого прослеживания; мы узнаем только об особом акте обобщения и особой природе вневременных идеальных объектов. Любое более подробное описание, любое определение природы этих вещей отвергается как невозможное; в основном говорится лишь о том, чем они не являются (не реальны, вневременны). В этом кроется сила, неопровержимость, но и очевидная слабость позиции Гуссерля. Эта слабость становится особенно очевидной, если учесть, что мы также не получаем никакой реальной информации об отношении общего к индивидуальному. Его можно описать в различных терминах: Общее всеобъемлюще, оно также содержит в себе индивидуальное, как род оно, конечно, отлично от индивидуального, но тем не менее снова содержит его в себе. Аристотель и Локк пытались объяснить эти отношения; Аристотель – описывая общее как абстрактную часть, которая является общей для различных индивидов и повторяется в них; Локк – рассматривая общую концепцию как продукт воображения, возникающий в результате обработки различных индивидуальных сущностей. Эти определения не достигли того, что должны были, но все же были попытками в этом направлении, тогда как у Гуссерля мы снова сталкиваемся только с конечным и неописуемым, таким как «акт обобщения» и «идеальные объекты». В сущности, мы испытываем здесь ту же неудовлетворенность, что и в случае с платоновским «причастием». Там, где мы ожидаем описания, постижения, мы встречаем либо просто слова, не говорящие нам ничего нового (обобщение), либо туманные аналогии, такие как участие. И, наконец, самое, пожалуй, важное. Если мы делаем предложения о «треугольнике», о треугольнике вообще, то эти предложения также применимы eo ipso [в себе – wp] к отдельному треугольнику и, более того, к каждому отдельному треугольнику, ко всем треугольникам. Аристотель и Локк ясно указывают на эту связь: то, что истинно для треугольника, истинно и для отдельного треугольника, потому что треугольник содержится в отдельном треугольнике, и это истинно для всех отдельных треугольников, потому что это то, что одинаково повторяется во всех них. Точно так же Локк может сказать: отдельные треугольники содержатся в общей треугольной идее, поэтому о них также можно судить, судя об общем треугольнике. Гуссерль, напротив, не может объяснить эту связь дальше. Треугольник – это объект, отличный от индивидуального треугольника, даже если он основан в нем и находится с ним в своеобразной логической связи. Благодаря этой связи то, что заложено в сущности первого, «очевидно» истинно для второго. Вопрос «почему» остается без ответа. Конечно, теперь Гуссерль ссылается на прямой феноменологический анализ для всех своих определений. То, что представляет собой красный цвет, не может быть описано далее, но может быть постигнуто только в созерцании, перенесено в реальность. Так же и с актом обобщения и вневременной идеальной природой общих объектов. Тот, кто смотрит на красный цвет и в то же время конкретно рассматривает, думает, наблюдает его как представителя вида красного, имеет перед собой общий объект, о котором идет речь, настолько непосредственно, что он также постигает разницу между общим и индивидуальным объектами так же непосредственно, как мы постигаем разницу между красным и синим цветом путем сравнения. И осознавая таким образом связь между видовым и индивидуальным, мы делаем для себя очевидным положение о том, что то, что относится к этим объектам in specie, должно относиться и к нему in concreto.
С точки зрения логики, этот аргумент невозможно оспорить. Но действительно ли феноменологическое описание говорит здесь так однозначно, как думает Гуссерль? Учитывая существование аристотелевских, локковских и номиналистских теорий, это уже кажется сомнительным. Спросим объективно: действительно ли при рассмотрении отдельного объекта in specie нам дается новый объект, именно вид как таковой, о котором мы можем судить, сравнивать и различать? Я могу лишь сказать, что такое описание кажется мне неточной интерпретацией феноменологических фактов.
Разумеется, необходимо признать некоторые различия. Во-первых: я могу, например, взять перед собой синий цвет и смотреть на него исключительно как на самого себя. Я либо не называю его вообще, либо называю его «это здесь», «этот цвет здесь» и т. д., сознавая, что эти слова предназначены только для того, чтобы назвать, зафиксировать то, на что я смотрю. В другой раз я говорю о цвете, что он синий, голубой. Тогда для моего непосредственного сознания слово и данный факт вступают в иные отношения; я знаю, что здесь я не только называю и фиксирую, но и сужу и тем самым выхожу за пределы данного здесь содержания. Но это не значит, что я имею перед собой объект (или объекты), с которым я соотношу данный синий цвет в смысле моего суждения, как данный объект, выражая суждение с пониманием. Однако это необходимо только в том случае, если встать на ту точку зрения, что если слово используется с пониманием, то обозначаемый им объект также должен быть дан. Поскольку Гуссерль стоит на этой точке зрения, его учение о непосредственно постигаемых, идеальных объектах является лишь логичным. Но эта точка зрения уже была отвергнута ранее.
Во-вторых, мы можем, например, судить о нарисованном на бумаге треугольнике один раз с точки зрения его индивидуальных свойств и один раз с целью геометрической демонстрации с точки зрения существенных свойств треугольника в целом. Но и здесь я должен отрицать, что в этом случае для нас возникает новый объект; феноменологический факт заключается, как мне кажется, лишь в том, что некоторые другие моменты в нарисованном треугольнике выделяются для нашего внимания и что конечный результат, сформулированный лингвистически как суждение о треугольнике в целом, переносится на нас осознанием того, что он выходит в своей обоснованности за пределы содержания этого рисунка. Почему? На этот вопрос еще предстоит ответить. Подведем краткий итог: Есть смысл сказать, что мы рассматриваем треугольник и как отдельное целое, и как треугольник в целом. И у нас есть осознание того, одно это или другое. Но во втором случае это осознание, как мне кажется, не есть данность вида, а знание о принадлежности данного индивидуального содержания к чему-то, что не дано непосредственно. Поэтому я не могу признать, что теория Гуссерля является результатом очевидного феноменологического описания. Тем более мы вправе указать на вышеупомянутые недостатки теории, которая отсекает ряд вопросов, а не отвечает на них. Если мы теперь отвергнем доктрину Гуссерля, то останется только позиция номинализма. Ведь мы видели, что на вопрос о значении слова можно ответить окончательно и удовлетворительно, лишь приведя в существование факт, которым можно заменить слово, к которому оно относится лишь как репрезентативное имя собственное. В применении к словам так называемого общего значения это означает, что мы должны сделать общие объекты данностью – «красный», вид «звук». Эти объекты могут быть только такими, как их определяет Гуссерль: вневременными и идеальными – потому что все временное есть eo ipso индивидуальное – вне индивидуально данного; отделенное от него и его частей – потому что каждая часть индивидуального есть также индивидуально существующая и преходящая сущность, которая обнаруживается в том же качестве, но не как тождественная, в различных индивидуальных. Если таких идеальных условий не существует, то вопрос о значении этих слов остается без ответа, т. е. эти слова вообще не могут иметь значения в том смысле, который мы до сих пор предполагали. Это слова, которым мы не можем приписать ни одного известного нам постижимого объекта, который бы они обозначали, и когда мы говорим о таких объектах, об общих объектах, мы осуществляем простую фикцию. Если мы определим термин «номинализм» достаточно широко, чтобы обозначить этот тезис, который, по общему признанию, изначально является по сути негативным, то, отвергнув теорию Гуссерля, мы встанем на почву номинализма.
Конечно, номинализм становится настоящей теорией только тогда, когда у него есть определенный ответ на вопрос, как мы приходим к таким фикциям и с каким правом, в каком смысле мы можем, тем не менее, говорить, как мы это делаем, о том, что «существуют» общие понятия, под которые могут быть подведены отдельные, индивидуальные объекты. И когда мы получим такую теорию, настанет время исследовать ее на предмет того, может ли она удовлетворительно ответить на те вопросы, которые доктрина Гуссерля отсекает.
Наконец, последнее замечание. Помимо прямого феноменологического описания, Гуссерль ссылается в своей теории еще на один момент, на котором он делает особый акцент. По его словам, «внутреннее право конкретных (или идеальных) объектов наряду с индивидуальными (или реальными) объектами» является «главным основанием для чистой логики и эпистемологии». Это «точка, в которой релятивистский и эмпирический психологизм отличается от идеализма, который является единственной возможностью эпистемологии, единодушной с самой собой».
«Разумеется, под идеализмом здесь понимается не метафизическая доктрина, а та форма эпистемологии, которая признает идеальное как условие возможности объективного знания вообще и не психологизирует его». (Логические исследования II, стр. 107)
Это самый важный момент, в котором номинализм должен доказать смысл своего существования; он должен показать, что не отменяет «возможность объективного знания», что он не ведет к несостоятельным релятивистским и скептическим последствиям. Это также является важнейшей задачей следующих глав.
7. Проблема вещи (реальных предметов)
Мы видим перед собой вещь определенного вида, например дерево. Можем ли мы тогда сказать, что эта вещь, дерево, стоящее перед нами, непосредственно дано нам? Нет сомнений в том, что нечто непосредственно дано нам здесь, и более того, что мы называем это нечто деревом без дальнейших размышлений. Но мы знаем, что одного этого факта недостаточно, чтобы ответить на вопрос утвердительно. Мы знаем, что может случиться так, что, намереваясь просто описать и обозначить данное, мы используем для этого обозначения слова, которые, согласно их значению, выходят за пределы данного, говорят больше и нечто иное, чем охватывает данное. Поэтому требуется эксплицитная рефлексия над значением этих описательных терминов и конфронтация с данностью, чтобы решить, действительно ли это была только феноменологическая характеристика, только именование данности. И здесь, применительно к данному случаю, легко указать на всевозможные вещи, которые, очевидно, включены в утверждение, что стоящая передо мной вещь – это вещь, а именно дерево. Например, у этой вещи также есть спина, она также обладает силой и твердостью. И то и другое принадлежит этому дереву: предположим, например, что твердости нет, что нащупывающая рука не встречает сопротивления, а без сопротивления тянется в пустой воздух; или что, когда я хочу посмотреть на дерево со спины, вся картина исчезает; тогда я должен признать, что ошибался в утверждении, что передо мной стоит вещь, дерево, что я только «верил», что вижу дерево, вещь.
Таким образом, утверждение, что это дерево, подразумевает, что у него есть спина, твердость, массивность. Но в данный момент мы уже не воспринимаем эти факты, они нам не даны, поэтому смысл предполагаемого описания включает в себя размышление о том, что не дано. Возможно, можно утверждать, что обратная сторона, твердость, упругость в определенном смысле даны: имеет смысл сказать: я вижу твердость, я также вижу, что дерево имеет объем и, следовательно, обратную сторону. Однако здесь необходимо провести точное различие: мы, очевидно, не видим обратной стороны дерева, но мы видим, что у него есть такая сторона, или, что означает то же самое, мы видим, что у него есть обратная сторона, что оно обладает твердостью и упругостью, подобно тому, как мы «видим», что суп на столе еще горячий. Это значит: мы видим здесь что-то, что дает нам немедленное убеждение, что здесь есть тепло. Мы не видим самого тепла, но мы знаем, что оно есть, и выражаем это знание в соответствующих суждениях, более того, мы ведем себя в соответствии с этим знанием. Конечно, что-то в происходящем дает нам это знание, навязывает его нам, как это было в нашем примере с поднимающимся паром, не в виде сознательно выполненного умозаключения, а в определенной степени автоматически, инстинктивно, без того, чтобы мы вообще осознавали, что здесь есть некое посредничество. Точно так же в том, что мы видим в дереве, есть определенные моменты, которые сразу же заставляют нас приписать ему обратную сторону и т. д. в словах и действиях – сказать, какие именно моменты, конечно, нелегко, это требует специального анализа. Но каковы бы ни были эти моменты в данности, которые заставляют нас говорить, что мы видим в дереве эти качества, – несомненно то, что мы не видим в дереве обратной стороны и т. д. И, таким образом, мы видим не дерево, в том смысле, в каком мы понимаем под видением непосредственную данность, а лишь нечто, стоящее в определенном отношении к этой вещи, называемой деревом, одну сторону, один вид дерева.
То же самое мы видим и с другой стороны. Мы ходим вокруг дерева. Видим ли мы одно и то же или разные вещи? Очевидно, что мы видим одно и то же, поскольку всегда видим одно и то же дерево, но также очевидно, что в каждом случае мы видим нечто иное, поскольку зрение, которое предстает перед нами, очевидно, другое и иное, таким образом: нам дано нечто иное, о чем мы, тем не менее, говорим, что это то же самое. Отсюда снова следует, что вещь следует отличать от данного и что утверждение, что данное есть вещь, подразумевает не простое описание, именование данного, а суждение о нем, отношение данного к чему-то другому, именно к вещи. Само это отношение еще нуждается в анализе; оно лишь условно обозначено, когда мы называем данное возникновением вещи. Возможно, кто-то снова возразит, что здесь нет никакого различия, поскольку, прогуливаясь вокруг дерева, мы даже не осознаем разницу меняющихся взглядов именно тогда, когда убеждены, что перед нами именно эта вещь, дерево, поскольку вместо него перед нами идентичная вещь. Но это неверно. Мы, несомненно, осознаем, что здесь есть по крайней мере несколько точек зрения, то есть что существует временное различие, и мы также неизбежно осознаем качественное различие точек зрения, как только мы действительно настраиваемся на данное описательным образом и не довольствуемся тем обозначением, которое данное сразу же нам предлагает; когда мы анализируем феноменологически, а не просто описываем наивно, как было сказано ранее. Конечно, в связи с этими предыдущими замечаниями здесь возможно последнее возражение, к которому я вернусь ниже: возражение, что этот анализ также уничтожает непосредственно данное, тождественное вещи, саму вещь.
Во-первых, мы можем представить полученный до сих пор результат в другой форме. Если мы заменим одного человека, движущегося вокруг вещи, разными людьми, смотрящими на нее одновременно, то вещь, очевидно, будет точно такой же. Наблюдатели видят «одно и то же», поскольку все они говорят об одном и том же, они видят разные вещи, поскольку то, что дается сразу, столь же очевидно отличается, зрение, которое есть у одного человека, не тождественно зрению, которое представляется другому. Наконец: я снова смотрю на вещь одну, но теперь я закрываю глаза или отвожу взгляд – тогда вид, который был раньше, исчез, на его место пришло что-то другое, что-то вроде однородной земли, которая предстает перед нами, когда глаза закрыты. Но мы говорим о вещи: она все еще здесь, она все еще существует. Таким образом, мы говорим о вещи все то, что, очевидно, не относится к непосредственно данному, а именно, что это та же самая вещь, с какой бы стороны на нее ни смотрели, и что она все еще существует, когда на нее больше не смотрят, – из чего следует, что непосредственно данное и вещь – это две разные вещи, что вещь не является непосредственно данным.
Проблема, которая, как видно, присуща понятию вещи, в точности аналогична проблеме рода, рассмотренной в предыдущем разделе. Попытка дать нам род как таковой, общий объект, «тот» синий, не приводит ни к какому результату; данное всегда остается конкретным, индивидуальным синим, вообще говоря, индивидом, который подпадает под данный род, принадлежит к нему. Так и здесь: мы никогда не привносим в данное вещь, но всегда лишь состояние восприятия, принадлежащее вещи, которая стоит в определенном отношении к ней. Мы можем использовать термин «появление» в обоих случаях: В каждом случае нам дается только индивидуальный, темпорально определяемый вид рода, а не сам вневременной, тождественный род, и точно так же только изменяющийся вид вещи, а не всегда постоянная, неизменная вещь. При этом, разумеется, вопрос о том, что означает здесь каждый раз «появление», остается без ответа, как и вопрос о природе рода и вещи.
Если проблема рода – это проблема, характерная для античной философии, то вопрос о сущности вещи принадлежит почти исключительно философии более позднего времени. Декарт затрагивает ее в своем известном рассуждении о «куске воска», хотя его конечный замысел лежит в другом русле. Все, что мы можем уловить в куске воска при чувственном восприятии, меняется в тот момент, когда мы подносим его к огню. Но мы по-прежнему утверждаем, что кусок воска тот же, что и раньше. Таким образом, в результате исследования мы, используя язык, вводим себя в заблуждение и используем неверное выражение, когда говорим, что видим сам воск, а не то, что судим о его наличии по восприятию цвета и формы. Первым, кто действительно ставит проблему в нашем понимании, является Локк. Когда мы воспринимаем вещь, мы видим определенную форму и цвет, ощущаем определенную твердость, чувствуем сопротивление и тяжесть. Но теперь мы отличаем, по крайней мере на словах, саму вещь, саму субстанцию, от этого видимого сейчас цвета и формы, ощущаемой сейчас твердости и т. д. Вещь не есть этот цвет, но она его несет, она не есть эта твердость, которую я ощущаю, но она ее имеет. В связи с этим возникает вопрос: что такое сама вещь? И именно на этот вопрос нельзя найти удовлетворительного ответа, потому что, пытаясь постичь саму вещь, мы всегда остаемся лишь с одной из уже упомянутых «идей». Таким образом, понятие субстанции вещи остается для Локка «неясным», потому что это понятие, которое не может быть заменено данным фактом, идеей в его языке.
Проблема Локка находит свое известное радикальное решение у Беркли. Вещь есть не что иное, как сумма обстоятельств, в которых она якобы предстает перед нами. Яблоко, которое я держу в руке, – это цвет и форма, которые я вижу, твердость и тяжесть, которые я чувствую, запах, который я воспринимаю, и так далее. Решение Беркли простое и последовательное, но оно сразу же вызывает ряд опасений, которые, возможно, уже сдерживали Локка от радикального идеализма. Эти видимости приходят и уходят, они различны в зависимости от стороны, расстояния, положения, в котором я смотрю на вещь, в зависимости от того, как я ее вижу, осязаю и т. д. Если вещь есть только сумма этих явлений, то она сама есть нечто постоянно меняющееся – но вещь должна быть «единой» и постоянной, неизменной, тождественной, с какого бы расстояния, стороны и т. д. я на нее ни смотрел. Если вещь должна быть лишь другим названием для суммы этих условий, то как мы можем разделить их лингвистически, как мы это делаем, и вместо того, чтобы говорить, что вещь – это такая-то и такая-то форма и цвет, твердость и тяжесть, говорить скорее об одной и той же вещи, которая представляет нам сначала этот, а затем тот вид? Если рассматривать такое использование языка как осмысленное, то вещь не может быть суммой своих проявлений в большей степени, чем вид может быть суммой входящих в него индивидов.
Иными словами, Беркли может последовательно придерживаться своей доктрины только в том случае, если он не отождествляет вещь с суммой ее явлений, а объявляет понятие вещи фикцией, то есть словом, которое не соответствует никакому мыслимому объекту, которое вообще не имеет никакого мыслимого смысла – если мы хотим понять, что оно означает, мы всегда получаем нечто другое, а именно его предполагаемые явления. Это также приводит нас к подлинному номинализму.
Если мы хотим избежать этого номинализма, сама вещь должна каким-то образом стать данностью. Если это возможно, то это может означать только одно: Должна быть возможность, так сказать, просмотреть соответствующую внешность вещи, как она дана, постичь в ней и вместе с ней нечто другое, единую, идентичную сущность, которая стоит перед нами как идентично та же самая, сразу узнаваемая, в то время как внешность меняется, которая понимается как стоящая в особом отношении к внешности и о которой мы в конце концов непосредственно узнаем, что она имеет другие свойства, чем те, которые мы только что постигли.
Если встать на эту точку зрения, если утверждать это как феноменальный факт, тогда, но только тогда, сама вещь, а не только ее так называемые видимости, является данностью в собственном смысле слова, и таким образом можно избежать номиналистического следствия. Такая теория, как легко заметить, находится на том же уровне, что и теория общих объектов Гуссерля, и действительно отстаивается им (пусть и не так схематически заостренно, как я ее сформулировал).[12 - Эдмунд Гуссерль, Логические исследования II, стр. 620f: «Подобно тому, как вещь в видимости не стоит там как простая сумма бесчисленных индивидуальных детерминаций, которые может различить последующее индивидуальное наблюдение, и подобно тому, как оно не дробит вещь на детали, но способно наблюдать их только во всегда законченной и единой вещи: так и акт восприятия всегда является однородным единством, которое визуализирует объект простым и непосредственным способом… Возможно также, что мы не позволяем себе довольствоваться „одним взглядом“, а наблюдаем вещь со всех сторон в непрерывном процессе восприятия, сканируя ее, так сказать, нашими органами чувств. Но каждое отдельное восприятие в этом процессе уже является восприятием этой вещи. Смотрю ли я на эту книгу сверху или снизу, изнутри или снаружи, я всегда вижу эту книгу. Это всегда одна и та же страница и одна и та же не только в физическом смысле, но и по мнению самого воспринимающего… Индивидуальные восприятия предмета непрерывно едины. Эта непрерывность означает не просто объективный факт временной демаркации; скорее, ход отдельных актов имеет характер феноменологического единства, в котором слиты отдельные акты. В этом единстве множество актов сливается не только в феноменологическое целое, но и в акт и, более того, в восприятие. В непрерывной последовательности отдельных восприятий мы постоянно воспринимаем этот один и тот же предмет».] Но она содержит те же самые неудовлетворительные компоненты.
Вещь должна отличаться от цвета и формы, которые мы сейчас в ней воспринимаем, от твердости, давления, которые мы ощущаем, и т. д., она должна быть чем-то, что стоит в определенном отношении к этим содержаниям нашего восприятия. Однако, с другой стороны, мы можем сказать, что вещь охватывает эти условия, она определенным образом содержит их в себе. Таким образом, отношение между вещью и внешним видом вновь и вновь предстает перед нами в не очень однозначных, не очень ясных аналогиях, и если мы спрашиваем о природе этого отношения, нам отвечают, тем не менее, лишь ссылкой на своеобразную, не поддающуюся дальнейшему описанию данность. В частности: Если мы утверждаем о вещи, что она должна иметь спину, что она должна быть осязаемой, то это утверждение выражает связанность существования якобы данного факта «вещь» и этих осязаемых фактов. Является ли это связывание выражением эмпирического закона? Тогда также должно быть возможным, чтобы вещь не имела обратной стороны. Но если, например, при обходе вещи воспринимаемая вещь исчезает, а не показывает нам ожидаемую обратную сторону, то мы заявляем, что ошиблись, что здесь присутствовала только видимая вещь; если же мы предполагаем не эмпирическую, а сразу понятную, своеобразную существенную связь между явлением вещи и обратной стороной, то мы снова увеличили число последних, далее не прослеживаемых и не описываемых фактов на один, и притом весьма загадочный. За этим следует дальнейший вопрос: Что это значит: данный факт (вещь) существует один раз «реально» и затем также «видимо» присутствует? И наконец: как мы можем утверждать, что он продолжает существовать, если мы его не воспринимаем? Существует ли опять-таки особенность данного положения вещей, не поддающаяся дальнейшему описанию, которая в некотором смысле вынуждает нас к этому утверждению? В любом случае, теория не подходит для того, чтобы сделать его понятным. Мы не получаем удовлетворительного ответа ни на один из этих вопросов.
Но само описание я могу признать правильным не больше, чем в случае с общими объектами. Конечно, мы сразу и непосредственно называем дерево одним и тем же именем, независимо от того, с какой стороны мы его видим; разный взгляд автоматически вызывает одинаковое практическое поведение с нашей стороны. Но мы знаем, что это поведение не обязательно должно быть основано на непосредственном восприятии самой вещи – утверждение, что это должно быть так, является интерпретацией феноменологических фактов. Таким образом, мы также приходим к номиналистическому результату в отношении понятия вещи, сформулированному ранее. Конечно, и здесь возникает проблема, без решения которой номинализм витает в воздухе: как мы приходим к использованию имен вещей и к их осмысленному использованию? Следует хотя бы вкратце рассмотреть еще несколько возможных возражений. Я не отрицаю, что мы можем в одно время «обратить внимание» на внешний вид стоящей перед нами вещи в ее своеобразном цвете и форме, а в другое время «схватить» тот же самый внешний вид как внешний вид вещи. Я также не отрицаю, что в каждом случае существует феноменально ощутимое различие. Следует также признать, что в первом случае, обходя вещь, мы заметим отдельные внешние проявления в их отличии друг от друга, тогда как во втором случае этого не произойдет. Но опять же, это различие не состоит в том, что во втором случае мы обращаем внимание на другой непосредственно воспринимаемый факт (саму вещь), а должно быть поставлено на тот же уровень, что и обсуждавшееся ранее различие между обращением внимания на «звук» и на «смысл» слова. Как и там, феноменальное различие здесь также, как мне кажется, состоит в том, что, с одной стороны, мы останавливаемся на самой вещи в соответствии с ее особенностью, а с другой – просто отдаемся ассоциативному эффекту, который исходит от нее и сразу же устанавливается; мы наблюдаем ее, так сказать, только в такой степени и в течение такого длительного времени, что автоматически устанавливается определенное практическое поведение. Короче говоря, во втором случае определенный феноменальный факт не добавляется в нашу концепцию, а максимум что-то отбрасывается. Разумеется, в данный момент это объяснение опять-таки можно рассматривать лишь как предварительную возможность, более точное обоснование которой отложим на потом; здесь мы лишь хотим показать, что, если мы действительно феноменологически различаем внимание к вещи и внимание к простой видимости, это простое различие еще ничего не доказывает в пользу непосредственного существования самой вещи. Ибо заново возникает вопрос, как именно феноменологически можно описать тот факт, которому мы придаем языковое выражение, говоря о внимании к вещи.
Другой момент, на который можно было бы сослаться с противоположной стороны, заключается в следующем. Существует непосредственное впечатление, которое мы с полным правом можем назвать впечатлением «вещи как реальности». Когда мы смотрим на стол, то, что мы видим, производит на нас такое впечатление в большей степени, чем, скажем, слегка поднимающийся, плывущий дым от костра или даже чем субъективно обусловленный феномен мерцающего глаза. Поэтому можно было бы заключить, что мы «видим» здесь, с одной стороны, материальную реальность, а с другой – просто внешний вид объекта. Однако здесь следует различать две вещи:
Во-первых, само впечатление, характер твердого, самосущего, неразрушимого, как мы могли бы описать его более подробно, и, во-вторых, обозначение этого характера как характера осязаемой реальности.
Этот характер дается нам сразу, но это не вещь как таковая; утверждение, что вещь передо мной – это вещь, не означает, что она обладает этим характером. Мы можем, как мне кажется, охарактеризовать вещь еще более точно. Среди проявлений вещи есть такие, которые, по нашему мнению, принадлежат ей как вещи более существенно, чем другие; в них мы считаем, что, так сказать, приближаемся к вещи. Почему мы так считаем, на этот вопрос опять-таки нельзя ответить прямо; объяснение этого факта предполагает анализ самого понятия вещи. Пока же я ограничусь тем, что, когда мы берем вещь в руки и ощущаем ее твердость, сопротивление, которое она оказывает нашей прощупывающей руке, мы скорее говорим о том, что держим и исследуем «вещь». Поэтому мы ни в коем случае не будем отождествлять вещь с тем давлением и сопротивлением, которые мы сейчас ощущаем. Однако теперь мы можем распознать осязаемость, твердость содержимого, которое мы видим, точно так же, как мы распознали тепло в предыдущем примере с кипящим супом. На основании каких непосредственно данных моментов – это опять же должно оставаться открытым вопросом. Но мне кажется, что именно этот факт мы имеем в виду, когда говорим о «видении» материальной реальности объекта, или, как лучше было бы выразиться, о взгляде на объект. С этим впечатлением «вещности» связано, но не тождественно ему, другое впечатление: впечатление, что мы «бодрствуем» перед лицом «живой реальности», в отличие от «сновидческого» характера, который иногда принимает мир и события вокруг нас. Предвидя это, я заметил, что этот так называемый «сновидческий» характер, как мне кажется, заключается скорее в калейдоскопическом распаде реальности, которую мы видим, на отдельные образы, которые мы лишь пассивно пропускаем мимо себя как таковые, в то время как эти «образы» становятся «живой реальностью», как только мы ожидающе настраиваемся от одного к другому, как только мы немедленно встречаем каждое новое содержание, которое входит, с практическим и ожидающим отношением, которое мы знаем, что оно должно иметь.
Все эти впечатления в лучшем случае являются содержаниями, на основании которых мы рассматриваем объект как обладающий вещной реальностью, но они не являются тем, что мы обозначаем словом «вещь»; поэтому мы не можем использовать их для ответа на вопрос о том, что мы понимаем под словом «вещь». Напротив, теория понятия вещи должна доказать свою правоту, заставив нас понять, почему эти впечатления могут стать для нас знаками того, что перед нами стоит «вещь». —
То, что было сказано здесь о «вещи», в равной степени относится и к ряду других объектов, которые в обыденной речи не принято называть вещами. Я слышу звук, например жужжание машины. Теперь я попеременно отхожу от машины и приближаюсь к ней: меняется ли при этом звук, который я слышу, или я все время слышу «один и тот же звук»? Или: я стою в пяти шагах от машины, кто-то другой – в 50 шагах от нее – слышим ли мы один и тот же звук или разные? На этот вопрос, очевидно, можно ответить и «да», и «нет» – в зависимости от того, что мы понимаем под «слышимым звуком». То, что дается мне непосредственно, когда я сначала стою близко к источнику звука, а затем на расстоянии 50 шагов от него, очевидно, отличается и даже весьма существенно отличается; и все же мы можем говорить об одном и том же звуке, который постоянно звучит и который «звучит» по-разному в этот момент. Таким образом, мы различаем две вещи, которые, тем не менее, обозначаем одним и тем же именем «звук, который я сейчас слышу», именем, которое, следовательно, является двусмысленным. Соответственно, мы хотим провести различие между «феноменальным» и «реальным» звуком. Как легко заметить, реальный звук относится к феноменальному звуку так же, как вещь относится к своему изменяющемуся виду. Если мы, наконец, закрываем глаза, внешность нам больше не дана, но мы твердо уверены, что имеет смысл утверждать, что сама вещь по-прежнему существует. Точно так же, если мы закрываем уши, мы больше не слышим звук, феноменальный звук исчез, но мы убеждены, что реальный звук продолжает быть слышенным.
Реальный и феноменальный звук не тождественны, даже если они называются одним и тем же словом, потому что мы говорим о реальном звуке самые разные вещи (он не меняется, когда я меняю положение, он все еще существует, когда я закрываю уши, и т. д.), которые были бы явно ложными в случае реального звука. Как мы можем воспринимать только внешний вид, но не саму вещь, так и мы можем визуализировать только феноменальный, но не реальный звук. Также не имеет смысла отождествлять реальный звук с каким-либо конкретным из феноменальных звуковых восприятий, в которых он «появляется». Почему реальный звук должен быть более идентичен тому, что я слышу на расстоянии 10, чем тому, что я слышу на расстоянии 50 или 100 шагов от источника звука? Такое утверждение было бы совершенно произвольным. Скорее, мы можем лишь смириться с результатом: реальный звук – это постоянное, продолжающееся существование чего-то, что не дано непосредственно само по себе, что появляется при различных условиях в тех или иных обстоятельствах.
То же самое относится и к видимому цвету, и, наконец, к видимому движению. Один и тот же реальный синий цвет представляется мне по-разному в зависимости от того, смотрю ли я на него с того или иного расстояния, при том или ином освещении или положении глаз. Одно и то же движение движущегося автомобиля выглядит по-разному в зависимости от того, вижу ли я его проезжающим мимо меня, от меня, ко мне или подо мной, в зависимости от того, вижу ли я его движущимся на том или ином расстоянии.[13 - Как известно, естествознание отождествляет звук с волновым движением воздуха. Как будет показано далее более подробно, это отождествление имеет смысл только как отождествление реального звука с реальным движением воздуха. Отождествлять феноменальный звук с чем-либо другим было бы совершенно бессмысленно.]
В то же время очевидно, что эти реальные цвета, звуки, движения и т. д. имеют определенное отношение к физическим вещам. Когда мы приписываем вещи определенный цвет как постоянное и длительное качество, когда мы говорим о ней, что она синяя, мы, очевидно, имеем в виду прежде всего реальный цвет, реальный синий: объект действительно синий, но этот синий цвет не всегда представляется мне феноменально синим; он выглядит темно-серым в сумерках, например, или зеленым при свете лампы.
То, что мы только что сказали о вещах, относится к реальным объектам вообще, если под реальным объектом понимать нечто, что не является феноменально данным, но что мы берем за основу большинства феноменальных условий как проявляющееся в них таким своеобразным образом, как мы видели на примере вещи, реального цвета и так далее. Реальные объекты сопровождаются родовыми, видовыми, или, как принято говорить, идеальными объектами. Как и реальное, идеальное феноменально не дано. Идеальное и реальное одинаково противостоят феноменально данному. Но каждый реальный объект всегда индивидуален и в то же время существует в определенное время, тогда как идеальный мыслится как вневременной. В отношении мира идеального и мира реального исследование привело нас к номиналистическим результатам и, соответственно, к идентичной проблеме: поскольку ни идеальный, ни реальный объект как таковой нам никогда не даны, как же мы тогда вообще можем говорить о таких сущностях, добавлять реальный и идеальный мир к феноменально данному? Как слова, которые якобы обозначают реальные и идеальные объекты, могут быть чем-то большим, чем пустые, бессмысленные слова, поскольку их нельзя наполнить каким-то содержанием?
Но сфера реальных объектов еще не исчерпывается тем, что мы обсуждали, поскольку реальное, о котором мы говорили до сих пор, всегда относилось к сфере физического, в то время как мы также осуществляем полностью соответствующую концептуализацию в сфере психического.
8. Физическое-реальное и психическое-реальное
Феноменальные факты, которые мы рассматриваем как видимость физических вещей или реальных цветов, звуков и движений, о которых шла речь выше, и на основании которых мы говорим о реальных сущностях такого рода, – это все содержание чувственного восприятия, увиденные цвета, услышанные звуки и т. д. Однако, помимо этих содержаний, существуют и другие виды реальностей, о которых мы уже изредка упоминали. Даже когда мы испытываем чувство, аффект, волевой акт, это чувство и воля с их специфическими характеристиками непосредственно известны нам, даны нам. Как мы соотносим цвет, который мы видим, с вещью, как мы говорим о вещах цветных, звучащих, твердых, так мы соотносим чувства и волевые переживания с соответствующей сущностью, а именно с самим собой, так я говорю о «себе», что я счастлив или печален, стремлюсь или сопротивляюсь. Я отношу пережитое чувство к своей личности точно так же, как я отношу увиденный цвет к вещи. И точно так же, как я говорю о вещи, что это одна и та же вещь, которая одновременно и цветная, и твердая, которая предстает передо мной то в таком, то в таком цветовом качестве, так я говорю о том же самом Я, которое испытывает удовольствие и стремление, гнев и тоску, которое то приятно, то неприятно, которое продолжает существовать даже тогда, когда, например, во сне, нет никаких переживаний, которые мы могли бы с ним связать. Переживаем ли мы свое эго, свою личность, так же непосредственно, как переживаем чувство, волевой акт? Мне кажется, что мы делаем это так же мало и так же сильно, как видим или осязаем вещь. Когда мы испытываем чувство, существует ли особый момент, связанный с нашим переживанием чувства, который мы могли бы назвать «чувством Я»? Или мы находим такой момент в воспоминаниях, в ретроспективном наблюдении? Я абсолютно не убежден в этом. Возможно, кто-то думает, что каждое чувство и каждый волевой акт имеют общий абстрактный момент, момент, который отличает их как обстоятельства своего рода от всех физических обстоятельств, от цвета, который виден, и т. д. Возможно, с этим можно согласиться, возможно, с этим можно согласиться. Возможно, с этим можно согласиться, возможно, можно сказать – мы можем хотя бы раз это предположить, – что ради этого момента мы противопоставляем акты воли и чувства как психические сущности этим другим реальностям. Но является ли тогда этот абстрактный момент психикой, т. е. тем общим, устойчивым, стойким «я», с которым мы соотносим психические реальности? Тогда мы могли бы с тем же успехом отождествить эту вещь с тем общим признаком, который позволяет нам группировать феноменальные цвета, звуки и тактильные качества в род. Или, говоря иначе: тогда мы имели бы опыт, который сопровождал бы все чувства как один и тот же опыт; но как мы могли бы говорить об идентичном «я»? Как бы мы пришли к утверждению, что это «я» продолжает существовать во сне?
Кроме того, каждой личности присущ определенный характер. Он, собственно, и делает личность определенной личностью в первую очередь. Если мы переживаем личность, мы должны переживать и характер. Но характер, как наш собственный, так и чужой, – это то, что, очевидно, не переживается непосредственно и не заявляется в своей особенности, а скорее умозаключается, причем умозаключается довольно трудоемко и неопределенно. Короче говоря, мне кажется, что все, что было сказано о восприятии вещей, можно применить и к восприятию эго или души. Иными словами, концепция эго предстает как концепция того же рода, что и концепция вещи, как концепция реального объекта, который влечет за собой те же проблемы для нас, что мы узнали там.
Разница лишь в том, что понятие эго содержит особую проблему: вопрос о том, как мы приходим к понятию других эго, других личностей. Как только мы прояснили, как возникает у нас понятие определенной вещи или что в нем содержится, мы ответили на вопрос о природе понятия вещи вообще, поскольку нам остается только перенести результат на все остальные случаи. С другой стороны, мы, очевидно, не получаем понятие собственного «я» точно так же, как понятие чужой личности. Точнее: данные факты, которые мы относим к собственному «я», которые мы понимаем как его выражения, не только отличаются от тех, в которых проявляется чужая духовная жизнь, но они также должны быть даны нам другим способом. Ранее мы проводили различие между прямо и косвенно данными (вспомненными, фантазированными) фактами.
Если мы описываем чувство, о котором знаем, как чувство чужой личности, «ты», то это чувство, очевидно, никогда не может быть дано нам напрямую, но должно быть каким-то образом дано нам косвенно. Это порождает двойной вопрос:
Во-первых, как мы можем соотнести любое содержание, которое каким-то образом дано нам, с эго, личностью, душой, чтобы утверждать, что они являются выражением такого психического-реального? Что мы понимаем под этим понятием эго и т.д.?
И во-вторых, как мы приходим конкретно к знанию тех фактов, которые мы относим к чужой личности, к вам, как эти факты даются нам?
Мы должны провести резкое различие между этими двумя вопросами; вопрос, который необходимо было прояснить в данный момент, был только первым; вопрос о том, как мы переживаем наш собственный поток сознания [james] в отличие от чужого, и в отношении каких переживаний противопоставление Я и Ты может стать для нас значимым, будет обсуждаться позже.
С исторической точки зрения Беркли, несмотря на свою критику понятия вещи, все же рассматривает понятие эго или души как самоочевидное понятие, смысл которого не нуждается в исследовании. И только Юм применяет локковско-берклианскую критику понятия субстанции к ментальной субстанции, в результате чего эго, как и физическая вещь, становится для него пучком восприятий. В настоящем мы частично следуем за HUME и отождествляем эго с суммой переживаний, или с потоком событий сознания, – точка зрения, в которой встречаются такие противоположные позиции, как Мах и наторп (чье эпистемологическое эго, конечно, находится на другой странице); напротив, частично мы говорим о непосредственном переживании эго. Но между этими двумя взглядами существуют переходы; если присмотреться к ним повнимательнее, они обычно не так резко противостоят друг другу, как может показаться на первый взгляд. Одним из главных представителей психологической школы, говорящей о непосредственно переживаемом эго, является Теодор Липпс. Но сам Липпс проводит резкое различие между непосредственно переживаемым «я» и предполагаемым реальным «я» с его диспозициями и чертами характера. Таким образом, он с готовностью признает, что имеет смысл говорить об эго, которое не является непосредственно переживаемым, но, скорее, как и вещь, основано на непосредственно данном. И там, где он говорит о непосредственно переживаемом эго, он делает это таким образом, что эго становится почти просто абстрактным моментом в эмоциональном опыте. Эго сравнивается с абстрактным моментом звука, который превращает цвет тона, высоту и громкость в моменты звука. Само чувство характеризуется по своей природе как чувство «Я»[14 - Теодор Липпс, Vom F?hlen, Wollen und Denken, Лейпциг 1902, стр. 6]. Это уже приближает его к взглядам Вундта. Для Вундта всякое переживание делится на субъективную и объективную стороны (объект переживания и переживающий субъект); объективная сторона – это воспринимаемое, вспоминаемое, воображаемое содержание, субъективная сторона непосредственно отождествляется с чувством, которое связано с этим содержанием, чувство имеет особый характер субъективности. Теперь можно с готовностью признать, что ощущения, к которым в этом пункте можно, пожалуй, добавить и переживания воли, характеризуются общим моментом абстрактного характера, который обычно отличает их от чувственной реальности, а также от образов памяти. Можно, конечно, назвать этот момент и субъективностью, если понимать, что изначально это лишь обозначение. Однако ни этот абстрактный момент, ни это обозначение не могут облегчить нам понимание того, как мы приходим к отнесению ощущений к идентичному, постоянному и устойчивому «я», к одному и тому же реальному объекту, который продолжает существовать как тот же объект, пока меняются приходящие к нему ощущения, который в конечном счете все еще существует со своими диспозициями, когда, как во сне, вообще не испытывает никаких ощущений. Поэтому, даже если указать на особый общий момент в ощущениях и назвать этот момент субъективностью, ничего не получится для ответа на вопрос о сущности понятия эго.
Контраст в вопросе о непосредственно переживаемом «я» уменьшается еще больше, если добавить, что противники непосредственно переживаемого «я» также говорят и могут говорить о непосредственно переживаемом «единстве» сознания. Последовательность восприятий, ощущений, волевых актов и т. д., то есть, точнее говоря, то, что только для них составляет данность, переживается не как простая сумма, а как более или менее замкнутое целое.
Единственное, что следует отвергнуть, – это мысль о том, что это единство возникает только благодаря тому, что различные элементы хода сознания переживаются, так сказать, в отношении одной точки, т. е. в отношении эго, что непосредственно переживаемое единство существует в этом непосредственно переживаемом отношении. Если бы можно было переживать нечто как единство, только переживая его по отношению к точке единства, то то же самое в конечном счете должно было бы относиться и к самой точке единства, что привело бы к регрессу. О том, как это единство соотносится с опытом ощущения, мы кратко поговорим в другом месте. Однако здесь следует отметить, что тот факт, что ход событий в сознании переживается не как сумма, а как целое, не позволяет нам понять, как мы приходим к концепции постоянного и стойкого эго за пределами этих событий в сознании. И уж тем более не следует рассматривать эти два понятия как идентичные.
Возможно и другое возражение. Если мы говорим о сознании или, чтобы избежать двусмысленности этого слова, скажем скорее о данном бытии, то не предполагается ли в каждом случае уже некое Я, которому что-то дается? Не теряет ли понятие данного смысл без этого Я? Не может ли утверждение, что объект дан, быть прямо заменено другим: он связан с Я?
На это я сначала должен ответить: Мы использовали примеры, чтобы прояснить, что значит «быть данным». Другими словами, мы сделали само содержание понятия данности данным и тем самым установили его единственным способом, которым, как нам известно, понятия вообще могут быть определены в терминах содержания (хотя и только в тех пределах, в которых, как нам также известно, это может произойти – поскольку понятие данности является общим понятием, оно, естественно, содержит знакомую нам проблему общих объектов как таковых). Таким образом, понятие данного определяется и вводится без того, чтобы предполагалось понятие «я», без того, чтобы оно использовалось.
Конечно, утверждение, что существование содержания может быть только отношением его к непосредственно переживаемому «я», обычно имеет в основе другую мысль. Аргумент выглядит так: если я вижу цвет, то этот цвет дан мне. Но теперь я утверждаю, что этот цвет все еще существует, когда его никто не видит, т. е. когда он не дан, когда данность, так сказать, отпадает от него. Но данность может отпасть от объекта, а объект остаться тем же самым, если он является лишь отношением к чему-то другому, в которое объект может и не может войти. Но в этом аргументе есть несколько ошибок. Прежде всего, как мы уже знаем, неверно утверждать о самом данном феноменальном содержании, что оно существует и без того, чтобы быть данным как феноменальное содержание: реальный цвет, о котором мы говорим, что он все еще существует, когда мы закрываем глаза, не тождественен тому, что мы видели за мгновение до этого, но это реальная сущность, которая при данных условиях представляется мне в этом, при других условиях в другом феноменальном цвете. Если мы понимаем синий цвет здесь как эту конкретную феноменальную данность, то не имеет смысла говорить о нем, что он существует, не будучи данностью, так же как не имеет смысла говорить, что он существует, не будучи синим. Ибо тогда ничто иное не может быть понято существом этого данного факта, как данное существование; это одно и то же, говорю ли я, что определенный факт дан или определенный данный факт есть, существует[15 - Я не утверждаю здесь, что «логическим противоречием» является утверждение, что феноменальный объект может существовать и без того, чтобы быть данным, но, наоборот, я выступаю против утверждения, что логически необходимо, чтобы все данное было дано «Я».].
Наконец, утверждение, что всякое данное содержание должно быть кому-то дано, может, конечно, иметь и другой смысл. Оно может иметь смысл. Оно может иметь тот смысл, что каждое такое содержание должно появиться как звено в потоке связного события сознания, связанного с воспоминаниями, чувствами, волевыми актами, которые мы относим к одному и тому же эго. Но тогда, как вы видите, данное и данное кому-то не являются синонимами, даже если я считаю фактически верным, но потому не самоочевидным положением, что все данное также дается кому-то, то есть в контексте жизни сознания.
Возьмем личность, эго, душу, в том смысле, который был определен сейчас, как реальный, нефеноменальный, самосуществующий, постоянный, идентичный объект, с которым связаны постоянно меняющиеся приходящие и уходящие чувства, волевые акты, воспоминания и т. д. Эта личность относится к своим чертам характера, склонностям и т. д. так же, как физический объект относится к своему идентичному, постоянному реальному цвету или форме, которые по-разному проявляются в меняющихся восприятиях цвета и формы. Характер и художественные, научные склонности – это склонности воли, чувства и мысли, т. е. реальные, постоянные факты в личности, которые сами по себе не воспринимаются, но проявляются в определенных переживаемых актах воли, чувства и мысли, подобно тому как свойство золота быть легкоплавким не воспринимается само по себе, но является склонностью золота к определенным воспринимаемым изменениям. Наконец, в области психически-реального, так же как и в области физического, существуют не только постоянные, но и временные предрасположенности или реальные свойства. Я вспоминаю тождественное состояние движения сферы, которое появляется в восприятии, но само по себе не является перцептивным содержанием, и вспоминаю, например, состояние плохого настроения, которое длится некоторое время, но само по себе является преходящим, которое также не является специфическим переживанием, а проявляется во всех видах переживаний.
9. Данность отношений
а) Реляционный опыт и объективные отношения
До сих пор, когда мы говорили о данности, мы имели в виду увиденный цвет, услышанный звук, пережитое чувство. Однако это даже не затрагивает определенную группу обстоятельств.
Ограниченное количество точек распределено по листу бумаги через случайные промежутки времени. Что мы видим, когда смотрим на этот рисунок? Самый очевидный ответ, казалось бы, заключается в том, что мы видим эти точки в их своеобразном цвете и форме, а также белый фон, на котором они выделяются. То, что этот ответ недостаточен, является общим местом в современной психологии, по крайней мере со времен эссе Эренфельса о «гештальт-качествах» и последовавших за ним научных дискуссий.
Точки, которые мы там видим, не изолированы друг от друга, а образуют некую фигуру, и о фигуре как таковой можно сказать, что она есть нечто «видимое» нами, точно так же, как и о точках. Они образуют фигуру, но мы также можем сказать, что они образуют более или менее единое целое. Теперь мы думаем о том, что точки расположены не нерегулярно, как раньше, а через равные промежутки времени. Теперь есть около шести точек, которые образуют изображение шестерки игральных костей. Тогда форма изображения, которое мы видим, изменилась, но в то же время целое, которое это образование для нас представляет, стало более однородным, характер однородности, который на него накладывается, усилился. Или: мы сохраняем неравномерное распределение, но в то же время придаем отдельным точкам, а также отдельным частям фона другой цвет. И опять же, изменение цвета – не единственное изменение, произошедшее в структуре; мы одновременно видим, что однородность целого перед нами уменьшилась или что она приобрела в большей степени характер множественности. Наконец, этот характер единства и множественности фигуры может изменяться и без всякого изменения цвета или формы данного. Например, если точки расположены в виде горизонтального креста, мы можем произвольно видеть фигуру в виде креста в одном случае, а затем суммировать точки таким образом, что наше сознание увидит два прямых угла, встречающихся в одной точке. Тогда точки и расстояния между ними остаются точно такими же, но фигура в обоих случаях имеет совершенно иной вид: ведь единый характер целого нарушен или изменен[16 - Как видно из того, как вводятся эти примеры, я считаю «данным» в этом отношении только то, что Штумпф называет «психическими сущностями» в своем академическом трактате «Явления и психические функции» (Берлин, 1906), а не психические «функции» Штумпфа, которые я могу рассматривать только как бессознательные, выводимые условия этих данных сущностей. Тот факт, что я не считаю все психические сущности Штумпфа данными, показывает мою позицию по отношению к общим понятиям. С другой стороны, я полностью согласен с феноменологическим анализом, который практикует Шуман в своих «Вкладах в анализ лицевых восприятий».].
Помимо цветов и форм, мы, конечно, могли бы выбрать в качестве примера тона или тактильные качества. Ряд тонов также представляется нам более или менее замкнутым целым, однородность которого уменьшается по мере увеличения разнообразия отдельных тонов и регулярности отдельных интервалов. Тот факт, что здесь мы имеем дело с последовательным единством, целым, растянутым во времени, в то время как ряд точек, расположенных в легко понятной форме, обычно представляет для нашего восприятия по крайней мере одновременную сущность, не имеет существенного значения.
Таким образом, единство и множественность сущности предстают перед нами как особый, непосредственно постижимый характер, как постижимая характеристика самой этой сущности. Или, говоря иначе: существуют обстоятельства, которые дают нам повод для формирования понятий единства и множественности, в которых мы непосредственно переживаем смысл этих понятий, без которых эти слова вообще не имели бы для нас смысла. Конечно, эти содержания как обоснованные содержания, как характеристики, всегда связаны с другими содержаниями, которые мы переживаем как единые или многообразные; они также существенно зависят от обосновывающих содержаний в своей природе и силе – момент единости может быть увеличен, он всегда имеет определенную степень, – но, как показывают примеры, они также самостоятельно изменчивы в определенных пределах.
Единство и множественность – противоположности, но – за исключением пограничного случая абсолютного единства – они одновременно реализуются в каждой структуре, которая предстает перед нашим восприятием, только впечатление от ее единства является обратным впечатлению от ее множественности; если одно увеличивается, то другое уменьшается в той же пропорции. И в большем числе случаев мы также переживаем в объекте одновременно и единство, и множественность, хотя обычно не оба в одинаковой степени, но одно подчинено другому, а именно везде, где перцептивное или имагинативное содержание предстает перед нами как единое целое, и в то же время мы осознаем части, которые оно содержит. Есть, конечно, и такие случаи, когда воспринимаемое или воображаемое содержание первоначально предстает перед нами только как единое целое и когда требуется особое рассмотрение, изменение отношения, чтобы осознать множественность, большинство частей. Примером может служить тон, который звучит в течение нескольких секунд, не меняя своего качества, и в котором мы лишь впоследствии, по памяти, различаем фазы. К осознанию единства и разнообразия присоединяется еще одна группа феноменальных фактов. Я сравниваю два цвета и понимаю, что они одинаковы; в другой раз я распознаю два тона как разные. Я смотрю на два лица и нахожу их похожими; я узнаю, что два участка дороги длиннее, чем другой. Не подлежит сомнению, что во всех этих случаях в моем сознании присутствуют не только цвета, звуки, расстояния, но что с этими содержаниями связано что-то еще, что на них строится другое отдельное состояние сознания, именно сознание одинаковости, сходства, различия, то есть состояние опыта, которое заставляет меня говорить об одинаковости цветов, различии звуков и т. д. В другое время я могу видеть те же цвета и формы, но мне не приходит в голову сравнивать их; мне не хватает сознания одинаковости, различия и сходства. С другой стороны, мы, конечно, можем ощущать сходство только тогда, когда перед нами находится некое одинаковое содержание, перцептивное или имагинативное. Сознание одинаковости, как и любое другое реляционное сознание, – это «обоснованный факт», факт, который не может существовать для воображения без основы из других, независимых содержаний. Теперь мы должны прояснить: этот данный факт, который я назвал здесь непосредственным сознанием равенства, не является равенством, которое существует между двумя сравниваемыми объектами. Чтобы иметь этот феноменальный факт, я должен определенным образом удерживать сравниваемые объекты вместе, я должен их сравнивать; но объекты также равны, их равенство существует, оно есть, когда я не сравниваю, когда феноменальный факт равенства, сознание равенства, не существует. Да, объекты также могут быть равными и переживаться как неравные, как доказывает пример геометрически-оптических иллюзий – точно так же, как объективный красный цвет может показаться мне серым при определенных условиях (ночью). Объективное равенство, отношение, существующее между двумя объектами, соотносится с реляционным сознанием, с обсуждаемыми здесь фактами, точно так же, как феноменальный синий цвет соотносится с реальным синим цветом стоящей передо мной вещи.
Или короче: понятие объективного или реального равенства – это именно понятие реальной сущности, которая не дана нам как таковая, а только в своих явлениях. Мы не знали бы о синем цвете, если бы не видели синих цветов, мы ничего не знали бы о равенстве, если бы не могли постичь это феноменологическое отношение как таковое; но мы не постигаем реально существующий синий цвет, который остается тем же самым, даже если он становится невидимым, и мы не постигаем равенство, которое также остается тем же самым, даже если никакой данный факт не убеждает нас в его существовании. Таким образом, понятие объективно существующего отношения включает в себя ту же проблему, что и понятие вещи и рода.
Здесь возникает один вопрос: Как соотносятся реальные отношения, объективно существующие одинаковость, различие, единство, множественность, с физическим и психическим реальным и их различием, о которых мы говорили в предыдущих параграфах? Прежде всего, сходство и различие, очевидно, могут быть обнаружены как в одной, так и в другой области; психические и физические объекты могут быть одинаковыми и разными, могут быть едиными и реализовывать множественность внутри себя. Отношения, рассматриваемые как реальные сущности, выходят, таким образом, за рамки противопоставления физического и психического. Есть и еще один момент. Мы также можем сравнивать феноменальные факты как таковые (более того, строго говоря, по очевидным причинам это единственные вещи, которые мы можем сравнивать прямо и непосредственно) и признавать их одинаковыми и различными, едиными и составными. Замечательно, следовательно, то, что у нас не только есть феноменальное осознание одинаковости и различия по отношению к таким феноменальным реальностям, но что мы можем также говорить об объективно существующем одинаковости и различии их здесь на основе такого осознания; они равны или неравны, они содержат множественность и так далее. Это не только означает, что мы теперь имеем соответствующее сознание отношений к этим условиям, но это означает, что эти отношения существуют в действительности, объективно, и существовали бы также, если бы мы не довели их до нашего сознания. Поэтому мы можем, как бы странно это ни звучало, приписывать феноменальным обстоятельствам реальные отношения. Это основа возможности феноменологии, чистого описания как науки. Ведь если мы хотим описывать, классифицировать и систематизировать феноменальные факты как таковые, мы хотим делать это в объективно обоснованных суждениях. Сравнение и анализ (разложение целого на части) являются средствами описания, а сравнение и анализ относятся к сходству и различию, единообразию и большинству. Поэтому должно быть возможно установить эти отношения как объективно существующие в суждениях, основанных на феноменальных обстоятельствах. На чем в конечном счете основывается эта особенность отношений, будет рассмотрено позже.
Это одновременно разрешит серьезное для феноменализма возражение, которое, в частности, выдвигает Штумпф («Явления и психические функции») и на которое иногда ссылается Гуссерль, – возражение, что мы можем сказать о тоне, например, что он – этот самый тон – имеет определенную высоту и тембр, а не что он приобретает их только в результате соответствующего анализа, направленного на него.
Ведь равенство и различие существуют и между идеальными сущностями, между жанрами. Поэтому мы не должны считать отношения вообще идеальными объектами. Равенство, существующее, например, между двумя физическими вещами, – это, во-первых, нечто конкретное, а не нечто общее, и, во-вторых, оно не существует вне времени в том же смысле, что и общие объекты: эти вещи могут быть одинаковыми какое-то время, а затем стать разными. Равенство in abstracto – это, конечно, общий, а значит, идеальный объект.
б) О феноменологии реляционного сознания и теории отношений.
Сознание единства и множественности, с одной стороны, и одинаковости и различия – с другой, не случайно оказались рядом. Скорее, между ними существует внутренняя феноменологическая связь. Три факта показывают нам, что понятия одинаковости и * единства и, соответственно, разнообразия и множественности имеют отношение друг к другу.
Во-первых, в предыдущем параграфе я обратил внимание на своеобразную связь между понятиями единства и множественности. Мы можем легко увидеть, что такие же отношения существуют между одинаковостью и различием.
Во-вторых, я вижу два одинаковых цвета рядом, разделенных пространством, или слышу два тона, один за другим, разделенные промежутком времени. Если я затем сдвину их вплотную друг к другу, если позволю разделительному пространству или времени исчезнуть, цвета и звуки неизбежно сольются в единое целое. В более общем смысле осознание того, что перед нами два одинаковых объекта, сливается с осознанием того, что присутствует один объект, как только исчезают все различия, включая пространственно-временные, то есть равенство фактически становится совершенным. Там, где мы должны испытывать абсолютное равенство, мы на самом деле испытываем единство.
И наконец, в-третьих, вместо того чтобы сказать: два объекта одинаковы, мы также говорим: это «один и тот же» объект, только отличающийся в ту или иную сторону, например, пространственно, временно, по отношению к более общему контексту; или существует только один объект, но он существует дважды.
Первый факт показывает нам, что между единством и множественностью существует аналогия, второй – что между этими двумя парами понятий существует внутренняя связь. Третий, наконец, доказывает, что эта связь уже интерпретирована языком обыденной жизни таким образом, что равенство обычно представляется как некий уровень или как форма единства. Но это означало бы не что иное, как то, что сознание равенства восходит к сознанию единства. Для того чтобы такая точка зрения была оправдана, необходимо более точно определить то сознание единства, к которому можно было бы обратиться именно как к сознанию равенства.
Предположим, мы смотрим на два одинаковых цветовых пятна, разделенных небольшим промежутком. Тогда эти пятна вместе с пространством между ними могут образовать фигуру для нашего восприятия. Более того, как уже было подчеркнуто, они всегда будут это делать, когда пространство между ними исчезнет. Это сознание единства, которое превращает два сравниваемых содержания в более или менее независимые части пространственной фигуры, очевидно, не является искомым сознанием одинаковости; напротив, уже подчеркивалось, что в этом сознании полного единства сознание одинаковости скорее исчезает. Скорее, предпосылкой для возникновения сознания одинаковости является то, что объекты, одинаковость которых мы должны осознать, не противостоят нам сразу как части понятийного содержания, в случае цветов и форм как части пространственной фигуры, в случае звуков как фазы последовательного целого, но что всякая связь такого рода растворяется, что объекты резко выделяются и противостоят друг другу как двойственность или большинство, множественность. Это уже заложено в слове «отношение»; равенство – это отношение. Отношение может существовать только между двумя или более объектами; оно означает отрицание абсолютного единства. В то же время здесь мы имеем дело с сущностью сравнения: сравнивать два объекта не значит просто наблюдать их вместе, как иногда думают. Если я просто вижу комплекс штрихов в ряде нарисованных штрихов, я также наблюдаю штрихи вместе, но это совместное наблюдение не является тем, что характеризует сравнение. Напротив, характерным для сравнения является различие, взаимная отнесенность наблюдаемых вместе объектов. Если мы теперь сравним два объекта таким образом, то есть если мы будем практиковать то наблюдение, которое исключает существование единой фигуры для нашего сознания, мы все же сможем обрести сознание единства по отношению к наблюдаемым объектам. И именно это сознание мы называем сознанием единства – сознанием единства, которое неразрывно сочетается таким особым образом с сознанием множественности.
Рассмотрим этот вопрос на специальном примере. Если мы сравниваем две цветные поверхности рядом друг с другом, то, если сравнение действительно имеет место, границы поверхностей должны как можно резче отстоять друг от друга. Пространство между ними, которое может их соединять, регулярно учитывается только в той мере, в какой оно является разделяющим пространством; качества, содержащиеся в нем, меркнут на заднем плане. Точно так же, когда мы сравниваем два или более тона, эти тона не должны сливаться в один тон, и у нас не должно создаваться впечатление прерванного тона, если сравнение действительно имеет место, но они должны четко противостоять друг другу в своем отдельном временном существовании, мы должны, перефразируя, осознавать, что один тон уже закончился, а другой начинается. Временной интервал снова наблюдается только как разделяющий интервал.[17 - Мы можем получить это сравнительное отношение к содержаниям, которые следуют одно за другим, так же как и к тем, которые даны одновременно; это сознание единства может охватить два последовательных содержания так же, как и два одновременно данных. В тех случаях, когда мы выносим суждение о том, что нечто, увиденное сейчас, равноценно тому, что было увидено давно, без того, чтобы это нечто, увиденное ранее, представлялось сейчас, более того, возможно, без того, чтобы оно точно запоминалось (ср. Грюнбаум, Абстракция равного, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 12) и A. Brunswig, Das Vergleichen und die Relationserkenntnis, Leipzig 1910), я, конечно, считаю, что суждение обусловлено вторичным впечатлением, ассоциативно связанным с фактом одинаковости в смысле Фридриха Шумана (см. F. Schumann, Beitr?ge zur Analyse der Gesichtswahrnehmungen).] Неважно, возникает ли это отношение, входящее в сущность сравнения, произвольно или само собой, т. е. предстает ли само сравнение перед нами как «осязаемость» или нет. Вполне понятно, что осознание равенства скорее всего возникнет там, где содержание сразу же предстает перед нами как четко разграниченное и разделенное, не требующее никаких усилий внимания. Труднее всего это будет сделать там, где два содержания не имеют пространственного качества и являются одновременными, то есть обязательно переживаются как временное целое, которое, если содержания действительно одинаковы, может быть растворено только при условии, что присутствует хотя бы одно различие фундаментальных элементов, и здесь также, чтобы осуществить фактическое сравнение, всегда необходимо несколько раз обратить внимание на звуки, сначала больше внимания уделяя одному, а затем больше другому, то есть одновременность двух звуков может быть осознана только в том случае, если они действительно одинаковы. Другими словами, одновременность растворяется в последовательности. Конечно, мы можем сравнивать между собой и сами пространства и времена, но тогда сами эти пространства и времена должны находиться в разных точках «того» пространства или времени и как таковые приходить к нашему осознанию по отдельности, они не должны переживаться нами как части пространственно-временного целого. Мы не должны позволять себе обманываться термином «одновременность». Осознание одновременности двух событий – это, несмотря на слово, не переживание одинаковости, а осознание единства иного рода, осознание отрезка времени, наполненного множественностью содержаний.
Чтобы не быть неправильно понятым, я хотел бы сделать особое замечание: из того факта, что поверхность навязывает нам восприятие как совершенно однородное целое без каких-либо разделяющих частей, мы, конечно, можем заключить, что отдельные части, из которых состоит поверхность, не имеют никакого различия в цвете, но восприятие одинаковости и переживаемое сознание одинаковости – это, конечно, две разные вещи. Тем, кто считает сомнительным говорить здесь о реализации, я напомню, что в таком случае, если мы хотим говорить точно, мы не склонны говорить, что части были признаны равными, а скорее, что они были «неразличимы» и, следовательно, с большой вероятностью должны рассматриваться как равные. Сознание неразличимости часто четко отличается от позитивного сознания равенства, как показывают, в частности, тахистоскопические сравнения, и там, где это происходит, по моим наблюдениям, термин «неразличимый» почти всегда является выражением того факта, что сравнение вообще не состоялось, потому что сравниваемые объекты не смогли отличиться друг от друга – чего, с другой стороны, следовало бы ожидать, если бы существовало различие, поэтому неразличимость является признаком равенства. (В других случаях, конечно, «недифференцированный» был выбран в качестве выражения для осознания положительного равенства, чтобы сделать как можно более осторожное суждение и указать, что человек хочет выразить только свое субъективное убеждение).
Сознание единства, которое мы имеем по отношению к двум пространственно или временно разделенным феноменальным реальностям как таковым, то есть с полным осознанием их пространственно-временной разделенности, есть сознание равенства. Следует отметить, что это осознание абсолютного единства, которое уже не способно к увеличению.
Абсолютное единство противопоставляется большему или меньшему единству сущности, способной к постепенному возрастанию, и подобно тому, как сознание одинаковости есть качественное сознание единства, т. е. сознание единства, связанное с сознанием пространственно-временной множественности сравниваемого, мы находим соответствующее сознание качественного единства в факте сходства. Сходство может возрастать до одинаковости, одинаковость может рассматриваться как высшая степень сходства, так же как однородность – относительное единство – может возрастать до абсолютного единства. Равенство противоположно разнообразию, оно исключает разнообразие, так же как абсолютное единство исключает все разнообразие. Сходство же не исключает определенного качественного различия, а скорее включает его в себя – сходные объекты всегда в то же время различны, – а единообразие точно так же включает в себя относительную множественность. Сознание сходства, таким образом, содержит в себе одновременно и сознание различия, сознание множественности. Разница лишь в том, что в той мере, в какой этот момент различия или множественности выдвигается вперед и доминирует, сходство становится для нас менее важным, чтобы в конце концов перейти в чистое сознание различия.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что существует два различных типа сходства, только один из которых можно понимать как более низкий уровень одинаковости. Если я брошу шарик с высоты 1 метр, а другой – с высоты 2 метра на пластину из слоновой кости, оба звуковых впечатления будут разными по интенсивности, но в то же время похожими друг на друга. Теперь я постепенно увеличиваю высоту падения первого шарика, и одновременно с этим сходство впечатлений увеличивается, пока при одинаковой высоте падения не достигается полное равенство. Сравните это с другим случаем: сначала звучит тон, затем его октава. Тогда эти два тона также находятся в отношениях сходства – созвучие, или сходство звучания, наблюдаемое в последовательно звучащих тонах, является определенным видом сходства. Но сходство, которое, даже если оно имеет степени (два тона могут быть более или менее созвучны), никогда не может рассматриваться как меньшая степень одинаковости. Чтобы понять это своеобразное сходство, мы можем поискать его в другой области. Представьте себе два круга одинакового размера, но разного цвета. Тогда эти фигуры, с одной стороны, одинаковы по форме, а с другой – различны по цвету. Таким образом, у нас есть сознание одинаковости и сознание различия, но оба они как бы неопосредованно находятся рядом друг с другом, поскольку относятся к разным объектам. Однако мы можем также намеренно сделать так, чтобы это разделение цвета и формы исчезло для нашего внимания, и сравнить обе фигуры как единое целое. Тогда сознание единства и множественности остается, но объекты, к которым оно относится, уже не стоят отдельно, и, следовательно, сами эти впечатления также должны слиться в единое сознание отношений.
Но таким продуктом слияния является, как мы знаем, сознание сходства. И два круга, сравниваемые таким образом, действительно кажутся нам похожими. Но в этом сходстве есть иное единство и разнообразие, чем в предыдущем случае с двумя звуковыми впечатлениями. Там громкость звуковых впечатлений одновременно и сходна, и различна в той мере, в какой она не сходна (однородна). Каждый сдвиг в сторону сходства требует соответствующего сдвига в сторону различия. Здесь же, строго говоря, единство и множественность относятся к разным сторонам объекта, так что сдвиг в одну сторону, увеличение равномерности, не может означать сдвига в другую сторону, уменьшение множественности, и наоборот. В то же время можно заметить, что в данном случае увеличение и уменьшение вообще не могут иметь места. Единство формы так же абсолютно, как и множественность цвета. Благодаря этому сочетанию максимально возможного единства с максимально возможной множественностью, подобное сходство достигает своей высшей степени, причем эта высшая степень не может совпадать с равенством как таковым.
Сознание сходства и различия связано с другим феноменальным набором отношений: с определенным числом, двойственностью, троичностью и т. д. Разумеется, мы должны быть в состоянии осознать, что означает триединство в конкретном случае, так же как мы должны быть в состоянии осознать значение слов «равенство» и «сходство». Когда мы рассматриваем ряд из трех точек, мы сразу же схватываем их в их определенном количестве и отличаем их как три от четырех, так и от двух точек. Но что это за характер триединства, который такая сущность проявляет для нас как феноменально данная? Мы можем сосчитать только идентичные объекты или объекты, которые мы считаем идентичными – Peter и Paul – два человека, звезда и стол – два физических объекта. Это означает, что целое, состоящее из идентичных объектов, всегда имеет для нас характер некоторого разнообразия, которое мы выражаем, говоря об определенном количестве этих объектов. Таким образом, счет предполагает две вещи: реализацию равенства отдельных элементов, одновременное объединение этих элементов в целое и выявление характера множественности, которым всегда обладает для нас подобное целое. Однако и это лишь предварительное определение, к которому мы вернемся в другом месте при обсуждении закона числа.
Наконец, в этом контексте нам не хватает еще одного, самого важного для дальнейшего изложения понятия отношения, особенность которого также связана с особой проблемой: понятия тождества. Эта проблема заключается прежде всего в том, что мы понимаем отношение как под тождеством, так и под сходством и различием, но поскольку отношение предполагает по меньшей мере двойственность реляционных элементов, то в смысле тождества, казалось бы, должна быть отменена всякая двойственность, всякая множественность, два одинаковых объекта переплавляются в один. В этих условиях как вообще может возникнуть осознание того, что два объекта тождественны, когда и где мы можем испытывать отношения такого рода? Случай, когда мы испытываем нечто подобное, в принципе уже известен нам. Мы представляем что-то в своем воображении – и вот воображаемый образ предстает перед нами, он воспринимается нами. Тогда воображаемый образ не тождественен последующему перцептивному образу, но последний тождественен тому, что представлено в воображаемом образе. Мы осознаем, что именно то, что мы видим, представлено нам в мысленном образе, что мы видим через мысленный образ. Мы видим, на чем основывается возможность говорить здесь о тождестве: она основывается на том, что в представлении есть две вещи, само представление и то, что в нем представлено, естественный символ и то, что в нем символизируется. Последнее, однако, может совпадать с фактом, воспринятым или пережитым нами в другое время.
То же самое можно сказать и о том, где бы мы ни воспринимали символ – даже искусственный – и то, что в нем символизируется. Последнее, однако, может совпадать с фактом, воспринятым или пережитым нами в другое время.
Наконец, то же самое можно сказать и о тех случаях, когда перед нами находится символ – в том числе и искусственный – слово. Здесь, но только здесь, выполняются условия, позволяющие осмысленно применять понятие идентичности. «Тождество» может существовать только между значением символа и данным фактом или между значением двух символов. Ибо только здесь мы имеем двойственность и в то же время абсолютное единство, абсолютное совпадение: Один и тот же объект предстает перед нами один раз непосредственно и один раз через посредничество того или иного символа. И мы переживаем идентичность, ощущая исполнение символа в данном факте.
10. Методология предшествующего феноменологического анализа. Критико-исторический экскурс.
Эпистемологическое направление, которое обычно называют «феноменализмом», можно охарактеризовать тремя принципиальными способами. Во-первых, феноменализм принципиально требует, чтобы все знание «исходило» из данности. Я принял это требование в начале своих замечаний и уточнил его в своем смысле: языковые символы, используемые в познании, в конечном счете, в той мере, в какой они должны иметь значение сами по себе, должны быть заменены данностями. Против тех философских школ, которые в принципе выступают против этого требования, необходимо было поставить вопрос о том, как они, не признавая абсолютной данности, защищают свои слова от того, чтобы они не были просто бессмысленными звуками. Все, что было добавлено, – это то, что существует косвенное и непосредственное приведение к данности, но что о реальной косвенной данности можно говорить только там, где есть репрезентативный (память, фантазия) образ косвенной данности. Во-вторых, феноменализм утверждает, что выйти за пределы данности в плане познания невозможно. О том, в каком смысле это утверждение, которое, разумеется, никогда не бывает абсолютным, верно, а в каком – неверно, пойдет речь в следующей главе. В-третьих, феноменализм утверждает, что то, что он называет «феноменами» в своем смысле, является единственной данностью. Это понятие феноменов, в свою очередь, может быть определено в трех направлениях.
Первое: феномены – это единичные, индивидуальные факты. Только такие факты являются данностью.
Во-вторых: феномены – это явления в отличие от всего того, что материально реально. В частности, они не являются чем-то, что могло бы повториться как идентично то же самое, или существовать для другого сознания, или продолжать существовать как нечто еще не данное.
Наконец, в-третьих: то, что дано, есть большинство феноменов, видимостей – не видимость изменяющегося содержания. Даны «содержания», но нет «актов», которые бы особым образом опосредовали существование этих содержаний.
Если мы определим утверждение, что таким образом могут быть даны только явления, то предыдущие анализы приведут нас к феноменализму. Феноменологический анализ фактов, поскольку вопрос о том, даны ли только явления или что-то еще, является в конечном счете чисто фактическим вопросом, не является самоочевидным или логически необходимым, что не существует никакого другого существования. Логические соображения были необходимы только в одном направлении: если мы хотим знать, дана ли вещь, мы должны поразмыслить над тем, что вообще уступается нам в понятии вещи, мы должны предшествовать этому с – предварительным – анализом понятия вещи, чтобы решить, действительно ли то, что дано здесь или там, может быть рассмотрено как вещь. Только в этом смысле логические аргументы использовались, так сказать, в качестве вспомогательного средства для постановки феноменологического вопроса; фактическое решение принимается, конечно, путем анализа самого данного.
Чтобы особенно подчеркнуть это, я не использовал слишком удобный аргумент, который был частью железного запаса феноменализма со времен Беркли, что это логическое противоречие, если мы приписываем существование воспринимаемому объекту &n too convenient argument, which was part of the ironclad stock of phenomenalism since Berkeley, that it is a logical contradiction if we attribute existence to a perceived object &n too convenient argument, which was part of the ironclad stock of phenomenalism since Berkeley, that it is a logical contradiction if we attribute existence to a perceived object independently of perception. Этот аргумент недавно подвергся справедливой критике с разных сторон[18 - Ср. Карл Штумпф, Erscheinungen und psychische Funktionen, и Oswald Kulpe, Die Realisierung, vol. 1.]. Как аргумент он фактически является petitio in principii [он предполагает то, что должно быть сначала доказано – прим. пер.] Ведь из того, что утверждение о существовании объекта восприятия без того, чтобы его воспринимать, содержит логическое противоречие, никак нельзя заключить, что под бытием мы не можем понимать ничего иного, кроме сознания или данного существования, а только наоборот: ответ на вопрос, есть ли здесь логическое противоречие, можно дать только тогда, когда мы знаем, что такое бытие и что такое данное существование. Ход моей аргументации, повторю ее в другой форме, был иным по отношению к рассматриваемому пункту; отправной точкой является вопрос: что значит, что содержание дано? Значит ли это, что содержание обладает отделимым свойством, например, отношением к чему-то другому (к акту, узнающему Я), так что мы могли бы представить себе содержание один раз с этим свойством, другой раз без него, чтобы косвенно привести его к данности? Это было бы мыслимо само по себе, это не было бы логическим противоречием – не было бы противоречием иметь возможность представить себе невоспринимаемый объект; если я допускаю, что объект представлен мне непосредственно данным содержанием сознания, то из этого нельзя логически заключить, что то, что представлено, само является непосредственно данным содержанием сознания (как обычно выражаются, когда я что-то думаю, это не значит, что то, что думается, также является мышлением). Но здесь я имею в виду факты. Невозможно ответить на предложение представить себе то, что мы сейчас воспринимаем как красный цвет, один раз как воспринимаемый и один раз как не воспринимаемый, просто визуализируя два феноменально различных данных. У меня нет двух таких данных. Поэтому мысль о таком невоспринимаемом цвете – это не логически противоречивая мысль, а пустое слово, которое не может быть наполнено мыслимым содержанием. Если же мы все же говорим о цветах, которые фортексируют, казалось бы, осмысленно, то это логическая проблема.
Точно так же в другом случае, в задаче визуализации двух объектов, которые, несмотря на их двойственность, абсолютно идентичны, я способен представить себе только в одном случае, но и здесь плавно решаемом, что это два объекта, один из которых символически представляет другой, символическая функция одного выполняется в другом. Понятие двух разных, взаимно независимых сущностей, которые не находятся в символическом отношении друг к другу, но между которыми существует тождество, опять-таки является для меня пустым словом, которое не может быть наполнено никаким определенным содержанием. Поэтому, если мы говорим о таком тождестве, казалось бы, осмысленно, это, в свою очередь, ставит логическую проблему.
Если этот феноменологический анализ верен, то из него опять-таки следует, что вещи не даны и что Я не дано, ибо момент тождества играет в этих понятиях существенную роль. И что когда мы описываем данное как то же самое, что уже было раньше, это языковое выражение, даже если оно возникает совершенно немедленно, все же не является простой констатацией данного факта, но некой его интерпретацией, смысл которой необходимо сначала отыскать, что мы должны сначала спросить себя, почему такое утверждение может иметь смысл и в чем он может состоять.
Из последнего и предыдущего замечаний ясно, какова внутренняя связь между предположением о существовании реальных и идеальных объектов, с одной стороны, и существованием актов как непосредственно постигаемых ментальных сущностей – с другой. Мы можем резюмировать эту связь следующим образом: Данное существование реального и идеального включает в себя идею о том, что один и тот же объект может быть понят однажды как индивидуальный феномен, однажды как реальная фокусирующая сущность, однажды как родовая сущность, которая также встречается как то же самое в другом месте, и в другой раз, что это изменение концепции происходит в непосредственно данном. Поэтому не случайно, что феноменология Гуссерля выросла из той психологии, которая представляет себя прежде всего как психология действия, из школы Брентано. Но здесь все еще существует двойная возможность: либо говорят, что данное явление становится реальной вещью или общим понятием через добавление соответствующего акта – вещь есть явление, распознанное в конкретном акте суждения, род есть явление, от которого я абстрагируюсь здесь и сейчас. такова, если я не очень ошибаюсь, точка зрения фактического учения Брентано и его учеников. Она претерпела свою первую модификацию благодаря разделению содержания и объекта идей, впервые введенному Казимиром Твардовским[19 - Казимир Твардовский, «Об основании и о смысле слов», Вена, 1894.]. Здесь объект, который здесь точнее означает реальный объект, уже становится чем-то единообразно данным, которому направленный на него акт соответствует только как акт схватывания; он уже не может быть определен как явление, постольку, поскольку определенный акт обращается к нему. Дальнейшее развитие мы находим в трактате Мейнонга «Объекты высшего порядка и их отношение к внутреннему восприятию» и в его идее теории объектов как науки и, соответственно, в феноменологии Гуссерля. Это происходит под впечатлением убеждения, что доктрина Брентано неразрывно связана с трудностями, которые противостоят аристотелевской доктрине общего, что она не в состоянии удержать тождественное-одному то, что имеется в виду. Все наши слова (независимо от того, имеют ли они общее значение или обозначают реальную вещь, являются ли они отдельными словами или целыми предложениями) означают определенную вещь, которая, будучи тождественной, может также означаться в другое время и разными людьми. Это тождественное-одно является либо данностью, либо на его место ставится сумма сходных явлений, связанных именно с такими актами, которые существуют в разное время и в разных сознаниях, – таким образом, происходит «психологическая реинтерпретация». (С другой стороны, в критических выступлениях Марти против Мейнонга и Гуссерля, например, как мне кажется, преобладает мысль, которую я высказал в предыдущих параграфах, что здесь проблемы отсекаются, а не решаются. Отсюда его постоянно повторяющийся упрек, который, на мой взгляд, непредвзятый человек всегда должен чувствовать себя в какой-то степени оправданным, что здесь, в Гуссерле и Мейнонге, излишне вводятся конечные новые классы объективностей).
Нигде сам Гуссерль не резюмирует точку зрения своей феноменологии более резко, чем в трактате «Логос»:
«Все зависит от того, чтобы увидеть и сделать это полностью своим, чтобы увидеть «сущее», сущее «звук», сущее «вещь-явление», сущее «вещь-зрение», сущее «образ-понятие», сущее «суждение» или «воля» так же непосредственно, как услышать звук, и чтобы судить о сущем в видении». С другой стороны, однако, мы должны остерегаться путаницы Юма и, соответственно, не путать феноменологическое видение с самонаблюдением, с внутренним опытом, короче говоря, с актами, которые вместо сущности скорее помещают соответствующие им детали.» (Философия как строгая наука, Логос, т. 1, с. 318)
Фактически, еще раз резюмируя в заключение, мне кажется, что здесь есть только две возможности. Либо признать реальные и идеальные объекты как столь же многочисленные данности, либо отрицать эти данности – но тогда не допустить, что они вообще возникают через композицию актов и явлений, то есть вывести номиналистическое следствие и задаться лишь вопросом о том, как возможны существительные, описывающие вещи и роды, в качестве «значимых» образований языка.
Глава вторая. Природа суждения
1 Слово и суждение. Вопрос о значении высказывания.
Прежде всего напомним проблему, из которой исходили рассуждения первой главы. Каждое понятие, которое мы используем с научным намерением, должно быть эпистемологически «прояснено», т. е. его содержание должно быть сначала четко определено. Мы сталкиваемся с понятиями как с осмысленными словами, поэтому речь идет о том, чтобы четко определить значение определенных слов-символов. Сделать это окончательно можно, по-видимому, только приписав данному слову прямо или косвенно данный факт, в качестве собственного имени которого мы можем рассматривать это слово. Отсюда возник вопрос: можно ли найти такой факт для каждого слова, можно ли каждое слово, которое мы используем, понимать как имя предмета, который мы можем отнести к себе как данность? Ответ на этот вопрос отрицательный. Мы обнаруживаем, что все наши понятия, которые или в той мере, в какой они обозначают идеальные или реальные объекты, не обозначают сущности как таковые и, таким образом, выходят за пределы данного в своем значении. Я назвал этот результат «номиналистическим», тщетная попытка постичь смысл рассматриваемых слов характеризует их как «простые», бессмысленные «nomina», как просто кажущиеся имена, которым не соответствует никакой названный объект, как имена фиктивных объектов, или даже лучше: как фиктивные имена, ибо сам факт, что они являются именами для чего-то, является «фиктивным».
Но тут возникает вопрос: как это может быть, если все считают, что эти слова имеют определенное значение, если мы осознаем, что используем их осмысленно?
Именно этот вопрос указывает нам путь к решению. Мы используем слова в определенном смысле, мы считаем, что связываем с ними значение, когда используем их. Чтобы ответить на вопрос, в какой степени мы говорим здесь о значении, и это значение может быть нам известно, мы должны задуматься об этом употреблении, мы должны искать слова как компоненты живого языка.
Другая мысль направляет меня в том же направлении. Я спрашивал о значении слова. Но слово никогда не встречается само по себе, а только как часть более полного языкового целого, предложения. Так что, строго говоря, вопрос о значении слова содержит нечто противоположное природе. И может оказаться, что слово само по себе не имеет значения, а приобретает его только в контексте предложения, или что так называемое «значение» слова заключается в функционировании его как части действительно значимого целого.
Чтобы снять с этой идеи хотя бы часть парадоксального привкуса, я хотел бы напомнить вам о словах, для которых, как мы все считаем, применимо по крайней мере нечто подобное: так называемые синкатегорематические выражения «и», «или» и так далее. Возможно, существительные общего и вещественного значения также являются в определенном смысле «синкатегорематическими выражениями».
Языковое целое с единым значением, к которому слово добавляется как элемент, уже называлось «предложением». Вопрос о значении слов, которые мы используем, должен предваряться соответствующим вопросом о предложениях.
Я также называл значение слова концептом, связанным с этим словом (хотя само слово «концепт» взято в самом широком смысле). Соответственно, смысл предложения мы можем описать как суждение, связанное с этим предложением.
Смысл каждого предложения – это суждение. Оно также может быть разного рода другими вещами: пожеланием, приказом, вопросом. Но даже если я, например, выражаю пожелание: «Пусть завтра не будет дождя», то в этом высказывании, несомненно, содержится утверждение, что я, говорящий, испытываю именно это желание. И это утверждение является суждением, об истинности которого я могу спросить (Вы действительно этого хотите? Это правда, что вы этого хотите?). Конечно, это утверждение – не то, что говорящий пытается донести до слушателя, что он пытается выразить (в этом отношении языковые выражения «хотел бы, чтобы это произошло» и «у меня есть желание, чтобы это произошло» различаются по смыслу), но оно неизбежно подразумевается в предложении: я не могу выразить желание, не подразумевая суждения о том, что у меня есть желание, или в более общем смысле: я не могу произнести предложение, не содержащее суждения. Смысл предложения всегда имеет форму суждения, даже если иногда это может быть просто форма.
Исследование «понятий», таким образом, приводит нас к исследованию «суждения», поскольку, как было сказано ранее, слова, возможно, приобретают значение только в контексте предложения, или, как мы можем теперь сказать в ответ, понятия, возможно, приобретают фиксированное содержание только как части суждений. В последней форме идея истории философии не является абсолютно далекой. Вспоминается обозначение Кантом понятий как «предикатов возможных суждений» (Kr. d. r. V., издание KEHRBACH, стр. 89).
Наконец, ход нашего рассмотрения сам собой приводит нас к той области, на которую указывает ранее приведенное возражение Гуссерля против номиналистической позиции. В этом возражении утверждается, что номинализм неизбежно ведет к релятивизации знания и понятия истины. Познание происходит в суждениях, понятие истины находит свое исключительное применение в суждениях. Такой поворот исследования автоматически подводит нас к основной проблеме эпистемологии и к вопросу о том, какую позицию по отношению к этой проблеме занимает номиналистская позиция.
2 Критерий суждения.
Суждение как непосредственно данный факт.
Если мы хотим узнать факт, сделать его особенность ясной для нас, мы должны попытаться постичь его непосредственно, то есть привести его непосредственно к данности. Таким образом, если мы хотим ответить на вопрос о природе суждения, мы должны сделать суждение данностью. Задача не кажется трудноразрешимой: нужно, кажется, только осуществлять суждение в своем сознании и смотреть на процесс суждения и его фактическое содержание лишь по мере того, как они предстают перед нашим опытом. Если быть еще более точным: суждения – это смысл предложений. Поэтому речь идет о том, чтобы произносить, читать или слышать предложение «осмысленно», с «осознанием его смысла» и одновременно фиксировать этот смысл в нашем сознании.
Должен ли этот путь привести к желаемой цели? Если мы осмысливаем предложение, должен ли смысл предложения всегда присутствовать для слушающего или говорящего как данность? Мы уже знаем, что это не так. Употреблять слово со смыслом и иметь его значение перед глазами – две разные вещи, и то, что верно для отдельного слова в этом отношении, должно быть, конечно, верно и для предложения.
Но приводит ли простое, непосредственное наблюдение за тем, что происходит в сознании, когда мы произносим предложение со смыслом, к желаемому успеху в каждом конкретном случае, можно, конечно, узнать только опытным путем. В этом отношении древнее определение суждения как «композиции идей», восходящее к Аристотелю, кажется мне поучительным. Очевидно, что это определение основано на лингвистически сформулированном предложении. Предложение представляет собой комбинацию двух слов – оно состоит из субъекта, предиката и соединительной копулы. Каждое из этих отдельных слов имеет свое собственное значение, которое, тем не менее, становится частью значения целого. Это очевидно: определение выводит характер того, что имеется в виду в предложении, из характера предложения. Оно конструирует суждение и его концептуальную сущность, анализируя языковое выражение предложения, вместо того чтобы полагаться на прямой анализ фактов самого суждения. Когда мы выносим суждение: Все люди смертны: действительно ли мы сначала вводим понятия «человек» и «смертность», а затем связываем эти два понятия? Показывает ли нам что-нибудь прямое наблюдение, прямое сознание о таких процессах? Я думаю, что даже спор о том, не происходит ли, возможно, прямо противоположного, разложения «общей концепции» на две отдельные концепции, показывает, насколько мала роль прямого анализа какой-то не чисто языковой сущности во всей теории суждения, основанной на пропозиции. Но не надо было бы конструировать сущность суждения из сущности пропозиции, не надо было бы путать эту конструкцию с прямым анализом, если бы искомое суждение само, без лишних слов, предстало перед анализом. (Наконец, что касается самой цепочки умозаключений, через которую возникло концептуальное определение суждения: если языковое предложение является составным, должен ли смысл действительно быть также составным? Должно ли каждое самостоятельное слово в предложении соответствовать компоненту смысла?
Должно ли суждение связываться или это происходит, если связывается предложение? Так много выводов, так много вопросительных знаков).
Мне кажется, что весь путь, по которому здесь анализируется приговор, – это неверный путь. И он характеризует себя таковым с самого начала. Мы хотели исходить из смысла предложения, языкового целого, чтобы понять, в чем вообще состоит «смысл» отдельного слова; упомянутое здесь определение исходит из того, что смысл предложения содержит в себе смысл отдельных слов, тем самым предполагая, что последние известны.
Но если мы не достигаем цели таким образом, то какой путь мы должны выбрать? Ошибка заключается в том, что мы начинаем с лингвистического предложения. Смысловое употребление слова или предложения не тождественно существованию смысла и никак не предполагает его. Поэтому мы должны, наоборот, максимально освободить себя от внимания к языковому выражению. Иными словами, мы должны попытаться уловить то, что иначе подразумевается в словах, в предложении, в случае, когда оно присутствует там не как нечто означаемое, а как нечто данное. Мы должны начать с данного без слов и пройти через него, чтобы увидеть, есть ли в нем что-то, что мы могли бы выразить в предложении определенного типа. Или, говоря иначе, смысл каждого предложения (в отличие от смысла отдельного слова) характеризуется для нас как «суждение». Именно поэтому мы придали вопросу о значении предложения другую форму вопроса о природе суждения. Если мы хотим ответить на этот вопрос, мы должны принести суждение в его своеобразии в реальность. Это нельзя сделать так, чтобы мы произносили пропозицию и одновременно пытались привнести суждение в реальность, а только так, чтобы мы исследовали известные нам факты, чтобы увидеть, есть ли среди них факт, который мы можем описать и рассмотреть как суждение. Если мы нашли такой факт, то мы одновременно привели суждение к реальности.
Но теперь возникает вопрос: как мы распознаем факт как суждение? Что является характеристикой, критерием суждения? Когда мы классифицируем факт как суждение?
Ответ на этот вопрос старый, и я уже использовал искомый критерий выше: я называю суждением объект, по отношению к которому я могу осмысленно поставить вопрос об истинности, который я могу утверждать и отрицать, т. е. описывать как истинный и ложный. Тот факт, что я могу понимать каждое предложение как выражение «утверждения», об истинности которого я могу спросить, делает смысл каждого предложения суждением.
Конечно, это определение является лишь внешней характеристикой, а не определением сущности суждения, что мы и пытаемся получить. В частности, я ни в коем случае не предполагаю само понятие истины как окончательно проясненное или философски определенное понятие; я лишь предполагаю тот известный факт, что мы используем это понятие и используем его определенным образом. Но что мы на самом деле подразумеваем под вопросом об истине, на этот вопрос мы сможем ответить в философском смысле только одновременно с вопросом о природе суждения.
Мне дано восприятие, я вижу красный цвет или слышу звук. Имеет ли смысл называть эти факты истинными или ложными как таковые? Даже спрашивать об их истинности? Очевидно, нет: я могу спросить, соответствует ли звук, который я слышу, «реальному» звуку или это субъективно обусловленный феномен, действительно ли объект, который я вижу, красный, и суждение, утверждающее это, следовательно, истинно, но цвет, который я вижу как таковой, или звук, который я слышу как таковой, не являются «истинными» или «ложными».
Эта идея была явно подчеркнута в самом начале. Это старое учение о том, что ошибаться могут не органы чувств как таковые, а только разум.
Как и в случае с содержанием восприятия, так и в случае с чувствами и волевыми актами. Чувство печали, гнева или радости есть или нет, оно также может быть укоренено более или менее глубоко в личности, оно может быть оправданным или неоправданным, но оно не может быть «истинным» или «ложным». Мы, конечно, говорим об «истинном чувстве», но в этом явно образном выражении мы имеем в виду более точно «подлинное», «искреннее» чувство, то есть мы имеем в виду, что способ, которым человек выражает свое чувство, соответствует его реальному чувству и что само чувство не является продуктом временной автосуггестии.
В то же время мы видим, почему во всех этих случаях понятие истины не может быть применено по аналогии. Мы имеем дело с некоторыми простыми фактами – такие факты существуют или не существуют, какой смысл утверждать или даже отрицать их, если они существуют?
А теперь сравните эти факты с содержанием нашего воображения, произвольным плодом фантазии. Здесь мы тоже изначально имеем дело с заданным содержанием, к которому применимы те же правила, что и к перцептивным образам и ощущениям. Но в то же время фантазийный образ – это не просто объект, основанный на самом себе, он указывает на что-то другое, на то, что в то же время не является, а именно не является непосредственно данным, он имеет «символическую функцию». Представляя себе золотую гору, я представляю себе нечто в форме фантастического образа, который сам по себе не является фантастическим образом, а именно вид, который такая гора открыла бы мне, если бы стояла передо мной во плоти.
А теперь мы немного изменим пример, заменив фантазийный образ на образ памяти. Образ памяти также указывает на что-то другое; через образ памяти мы вспоминаем что-то другое, существовавшее в прошлом, что «представлено» в этом образе памяти. Теперь я представляю себе прошлое происшествие, я стараюсь представить его как можно более четко, тогда я, очевидно, могу спросить, имело ли это происшествие «реальность» и в том виде, в каком его показывает мне моя память, то есть является ли мой образ памяти «правильным» или «фальсифицирует» то, что я помню. Образы памяти могут быть истинными или ложными, и имеет смысл задавать им вопрос об истинности. Вы видите, на чем это основано: образ памяти – это, конечно, данное содержание, но это нечто большее: это содержание, которое претендует на то, чтобы представлять или изображать другое.
В то же время возникает вопрос о том, что, собственно, означает «вопрос истины». Согласно старому определению, «истина» – это «соответствие объекту». Если согласиться с этим определением, то сущность можно назвать «истинной» только в том случае, если она, во-первых, имеет «объект», то есть относится к чему-то вне себя, и, во-вторых, «соответствует» этому «объекту», то есть призвана его представлять или изображать. Поэтому в нашем языке мы можем сказать, что истинным может быть только тот объект, который, во-первых, является символом, а во-вторых, естественным символом.
Есть, конечно, еще один момент: очевидно, что я могу задавать вопрос о соответствии одного образа другому только там, где действительно есть два образа, где я могу хотя бы теоретически провести различие между представлением и изображаемым. Я могу спросить, действительно ли у Октавио Пикколомини был такой сын, какого Шиллер приписывает ему в «Максе», но я не могу спросить в том же смысле, действительно ли у старого мавра было два таких сына, как Франц и Карл Мавр, потому что последние три личности существуют только в том виде, в каком они изображены в представлении Шиллера, и поэтому нет смысла противопоставлять их их представлению и искать в них различные и соответствующие черты. По той же причине мы не можем спрашивать об истинности простого фантастического образа. У фантазийного образа есть объект, который он представляет, но этот объект не имеет особого существования; он существует только как объект сиюминутного фантазийного образа. Однако мы также можем изменить фантазийный образ в наших мыслях таким образом, что вопрос о его «истинности» приобретет соответствующее значение, как в случае с образом памяти. Я жду в гости друга, которого не видел двадцать лет. И теперь я представляю, как он будет выглядеть сейчас, я изменяю образ, который память показывает мне о нем в моем сознании, точно так же, как я думаю, что внешность человека имеет тенденцию меняться за двадцать лет. Я создаю для себя фантазийный образ, но этот фантазийный образ хочет или должен представлять то, что я ожидаю увидеть через несколько минут. И теперь я могу спросить, верен ли этот образ, созданный моим воображением, того, что я ожидаю, окажется ли он истинным или ложным. Я могу спросить об истинности фантазийного образа, когда фантазийный образ становится «образом ожидания»[20 - Это выражение и параллель памяти и ожидания, которую оно подразумевает, я нашел только в Groos, Das Seelenleben des Kindes, третье издание, Берлин 1911; на странице 34 Groos разделяет образы воображения на «образы прошлого, образы будущего и свободные фантазии».].
В образе воспоминания и ожидания мы находим данный нам факт, относительно которого мы можем с полным правом задать вопрос о его истинности. Поэтому каждый образ памяти или ожидания следует называть «суждением», поскольку «суждение» должно означать то и только то, что может быть истинным или ложным. Обратите внимание: образ воспоминания – это суждение, оно не «обосновывает» и не «оправдывает» его. Задача, которую я ставил перед собой, заключалась в том, чтобы подвести суждение под данное, я хотел решить эту задачу, отыскав среди известных мне фактов содержание, к которому можно обратиться как к суждению, обратившись к образу памяти или ожидания, я таким образом выполнил эту задачу до сих пор.
3. Память, ожидание и эмпатия как три формы, в которых суждение может быть непосредственно дано. Особое положение суждения ожидания.
Образ воображения, с одной стороны, и образ памяти и ожидания, с другой, отличаются друг от друга определенным образом; точно так же образ памяти и ожидания имеют характерные различия. Мы можем охарактеризовать эти различия, говоря о том, что в образе памяти и ожидания воображаемый объект в то же время устанавливается или представляется как реальный, с одной стороны, в определенный момент прошлого, с другой – в момент будущей жизни нашего собственного сознания. Сразу оговорюсь, что я даю лишь описание, а не «объяснение» этого различия. Я не могу объяснить факт памяти, вводя понятие прошлого, но наоборот: мы узнаем, что такое «прошлое», через факт памяти. Без памяти для нас не существовало бы прошлого, то есть слово «прошлое» было бы для нас таким же бессмысленным, как термин «красный» для дальтоника. Точно так же термин «будущее» имеет для нас смысл только благодаря факту ожидания. Различие между образом памяти и образом ожидания, а также между ними обоими, с одной стороны, и простым фантазийным образом, с другой, – это непосредственно переживаемое или данное различие. Оно заключается в особом положении косвенно данного или воображаемого; я обозначаю его, вводя термины «будущее» и «прошлое». То, что означают эти слова, может быть, следовательно, пережито или перенесено в реальность только в форме тех элементарных суждений, которые мы называем памятью и ожиданием. Разумеется, оба понятия получают затем расширенное значение благодаря связи между воспоминаниями и ожиданиями, точно так же как каждое понятие расширяется благодаря более точному знанию отношений, в которых факты, первоначально мыслившиеся в нем, находятся к другим.
Вышеупомянутая особенность образа памяти и ожидания, которая отличает их от простого фантазийного образа, делает их примитивными суждениями. Однако в этом отношении мы можем добавить к ним третий факт.
Я вижу напротив себя человека, черты лица которого пробуждают во мне мысль о том, что он испытывает боль. Я представляю себе эту боль. Тогда они для меня только воображаемые, то есть косвенно, а не непосредственно данные; я не чувствую боли, а другой человек чувствует, даже если при определенных обстоятельствах страдания другого человека, возможно, заставляют меня «сочувствовать», то есть действительно заставляют меня чувствовать соответствующую боль. Если я теперь представляю себе боль, то это воображение не является простой фантазией, а относится к той же категории, что память и ожидание, воображаемое «устанавливается как реальное», только не в моем собственном прошлом или будущем, а в «чужом сознании». И здесь мы снова можем спросить, верна или неверна эта идея, то есть действительно ли другой человек чувствует то, что я себе представляю, соответствует ли моя идея своему объекту. Мы хотим поместить эту третью форму суждения наряду с памятью и ожиданием как «эмпатию» (Einf?hlungsbild). Это выражение не совсем удачно, поскольку наводит на мысль, что только «чувства» переносятся таким образом в чужое сознание, тогда как то же самое, естественно, относится и к перцептивным содержаниям и т. д., но это, в конце концов, обычное название для известного всем своеобразного опыта, в котором мы воспринимаем содержание как принадлежащее чужому сознанию.
К понятию «чужое сознание» применимо то же самое, что и к понятиям прошлого и будущего. Оно не предназначено для объяснения факта эмпатии, поэтому не предполагается как понятие, известное в других местах, а приобретает для нас свое значение только благодаря факту эмпатии. Без эмпатии для нашего сознания не существовало бы чужого сознания, так же как без памяти для нас не существовало бы прошлого. Будущее, прошлое и чужое сознание имеют ту общую черту, что они существуют для нас только в форме косвенно данного, или наоборот: объект воображаемого образа может принимать для нас эту троякую форму, которая порождает для нас прошлое, будущее и чужое сознание.
Таким образом, память, ожидание и эмпатия – это три формы, в которых суждение может быть непосредственно пережито нами или непосредственно дано нам. Ибо они представляют собой три случая, в которых данное нам содержание сознания представляет «объект» и в то же время «устанавливает этот представленный объект как реальный», что может происходить как реальное установление в нашем собственном прошлом, в нашей собственной будущей жизни сознания и в чужой сфере сознания.
Из этих трех форм непосредственно переживаемого суждения одна, а именно ожидание, занимает особое положение, поскольку это единственная форма, в которой я могу не только спрашивать об истине со значением, но и, по крайней мере в ряде случаев, непосредственно проверять ее истинность. Я ожидаю, что что-то произойдет немедленно, например, я представляю себе звук, который услышу, когда уроню на землю предмет, который держу в руках. Теперь я провожу эксперимент, и ожидание «материализуется», то есть происходит ожидаемый мною звук, и я ощущаю соответствие между воображаемым образом и возникшим перцептивным содержанием. Таким образом, я непосредственно переживаю истинность, определенность своего суждения ожидания, так же как и ложность своего суждения я переживаю в обмане ожидания, в несовпадении, а скорее в расхождении образа ожидания и возникшего предмета.
Нечто подобное, конечно, невозможно в случае с памятью и эмпатией. Я не могу вернуться в прошлое и сравнить свой образ в памяти с тем, к чему он относится, равно как и заглянуть в сознание другого человека. Поэтому я не могу непосредственно испытать истинность и ложность своего суждения здесь, как в случае ожидания; суждения памяти и эмпатии – это суждения, которые я не могу проверить непосредственно, а только косвенно на предмет их истинности. Строго говоря, эта косвенная проверка заключается в проверке истинности ожидания, на основании которого, как мы полагаем, мы вправе сделать вывод об истинности данного воспоминания или эмпатии. Я верю, что другой человек сердится на меня; я не могу заглянуть внутрь него, чтобы понять, действительно ли его чувство ко мне таково, но я могу наблюдать, продолжает ли он вести себя по отношению ко мне так, чтобы соответствовать такому настроению. (Однако истинность многих ожиданий можно проверить только косвенно, а именно, когда они относятся к объекту, который произойдет только позже. Если я сейчас ожидаю, что что-то произойдет через год, я, конечно, не могу проверить истинность моего текущего ожидания, а только истинность суждения ожидания с тем же содержанием, которое я выскажу через год).
Суждения памяти и эмпатии не могут быть проверены как таковые. Поэтому они подвержены сомнению, которое невозможно разрешить в принципе, и тот, кто получает удовольствие, сомневаясь в существовании прошлого и инопланетного сознания, или считает память и эмпатию лжецами в двух словах, может быть уверен, что они никогда не будут опровергнуты. Но поскольку он не может привести никаких позитивных причин для своего сомнения, оно, естественно, остается просто уловкой, тем более что сомневающийся никогда не сможет перестать делать воспоминания и эмпатии, то есть выносить суждения, в истинности которых он сомневается, раз и навсегда.
Это относится, в частности, к стороннику «солипсизма». Следует лишь добавить, что, как видно из сказанного, вопрос о реальности собственного прошлого стоит на том же уровне, что и вопрос о реальности чужого сознания. Нечто совершенно отличное от сомнения в существовании других сфер сознания, однако, представляет собой феноменалистское сомнение в существовании «реального внешнего мира», как я обсуждал и фиксировал это понятие в предыдущей главе. Реальная вещь, вещь «вне сознания» – это то, что, как мы видели, не может быть приведено в существование ни косвенно, ни прямо, поэтому здесь возникает вопрос, что мы, собственно, понимаем под такой «вещью», под материальным внешним миром, почему эти слова вообще могут обозначать объекты и не являются пустыми словами. Однако мы вполне можем опосредованно привести инобытие и происходящее в нем к реальности, понятие инобытия в любом случае является для нас значимым понятием, но приведение его к реальности происходит только опосредованно и в форме непроверяемых суждений, так что здесь остается открытым другой вопрос – существуют ли такие вещи, как мы здесь представляем, «на самом деле».[21 - Я говорю это вопреки полемике Эдуарда фон Гартмана против феноменализма («Das Grundproblem der Erkenntnistheorie», стр. 57) и против соответствующих замечаний в Volkelt, «Die Quellen der menschlichen Gewi?heit», стр. 45.]
4. возможность общей и индивидуальной репрезентации в воображении и суждении.
Суждение, как мы его теперь знаем, состоит в том, чтобы вообразить и сделать реальным то, что воображается. Эта реализация происходит в тройственной форме памяти, ожидания и эмпатии, или воображаемый объект помещается как реальный в контекст прошлого, будущего или обстоятельств другого сознания. В контексте этих обстоятельств. Ибо сначала прошлые обстоятельства образуют ряд, связанный сам с собой, который доходит до настоящего состояния сознания, вернее, берет от него начало. И наоборот, все содержания этого ряда характеризуются тем, что они могут быть даны нам только в настоящем или опосредованно в виде воспоминаний. С другой стороны, мы имеем серию «будущих» или содержаний, которые могут быть даны нам только в форме ожиданий. Они также образуют ряд, который начинается с «настоящего», то есть с единственного непосредственно данного содержания сознания. Наконец, содержания, принадлежащие чужому сознанию, содержания эмпатии, также выстраиваются в такой ряд, или, скорее, большинство рядов, которые мы мыслим как аналогичные рядам нашего собственного опыта, ведущего от прошлого или ряда вспоминаемых объектов через настоящее к будущему или ряду ожидаемых объектов.
Серия прошлых объектов a1, a2, a3 …, с одной стороны, и будущих объектов a1, a2, a3 …, с другой стороны, простирается от непосредственно данного настоящего, суммы непосредственно данных содержаний a. Когда мы что-то вспоминаем, мы отводим этому определенное место в этом ряду a1, a2 … определенное место в этом ряду. Если мы хотим определить это место более точно, мы делаем это, указывая реально протяженное целое сознательных фактов, к которому принадлежал вспоминаемый факт, как часть, которая составляла его временное окружение. Когда произошел инцидент, который я сейчас вижу перед собой в своей памяти? Когда я стоял на вокзале в Гютерслохе, когда ехал в Тироль. И теперь мы можем задать вопрос о том, какое место занимает все это в контексте прошлого, запомнившихся объектов? Ответ, разумеется, дается соответствующим образом: путем уточнения более полного временного контекста. Место содержания прошлого окончательно определяется тогда и только тогда, когда мы распространили этот контекст на настоящее, то есть когда мы знаем и можем указать звенья ряда, отделяющие вспоминаемый объект от непосредственно данного настоящего. Путешествие состоялось два года назад или оно произошло прошлым летом, так что определение времени имеет желаемую точность, но это определение времени не имело бы для нас никакого смысла, если бы оно не означало серию переживаний, воспринимаемых объектов и т. д., которая ведет в упорядоченной последовательности от нас в настоящем к комплексу воспоминаний, которые я называю путешествием того времени. Мне больше не нужно представлять себе эту серию прошлых событий по отдельности, но я знаю, что при желании мог бы хотя бы бегло просмотреть их в основных чертах. Поэтому полным суждением памяти было бы суждение вида: за a следует a1, a2, a3 вплоть до запомненной оси.
Разумеется, то же самое относится и к суждению ожидания. Суждение ожидания также является полным только тогда, когда оно одновременно определяет место ожидаемого объекта в контексте будущих или ожидаемых объектов, т. е. когда оно указывает содержание a1, a2, a3 … которые ведут от настоящего к нему.
Но воспоминания и ожидания могут приобретать другую форму благодаря особой специфике нашего образного содержания. Сейчас я представляю себе лицо человека, с которым встречаюсь каждый день. Тогда у меня может быть сознание, что образ, который я имею в виду, представляет собой вид, который лицо друга представило мне в определенное время и по определенному поводу. Но может быть и по-другому: у меня может быть сознание, что я представляю себе знакомый облик этого человека без того, чтобы мой воображаемый образ относился к конкретному, темпорально фиксируемому более раннему виду. Другими словами: я видел одно и то же лицо так часто, что уже не мог выделить из памяти отдельные перцептивные образы, и теперь на их место приходит образ памяти, который представляет один из предыдущих образов так же хорошо, как и другой. То же самое, разумеется, относится и к фантазийным образам. В одно время я могу представить себе зрелище, которое я ожидаю увидеть через пять минут, а в другое время я могу представить себе только цвет определенного качества, «бордо» красный, например.
Это придает образам памяти и воображения определенную обобщенность. Конечно, здесь необходимо провести четкое различие: мысленный образ, о котором идет речь, не стал общим понятием. Сам воображаемый образ является индивидуальным объектом, и то, что он представляет, также является индивидуальным объектом – ни вышеупомянутый воображаемый образ не идентичен цветовому жанру, который я называю красным бордо, ни воображаемый образ не представляет этот жанр как мыслимый объект сам по себе. Скорее, только значение воображаемого образа является общим в той мере, в какой один образ памяти представляет серию внутренне индивидуальных перцептивных образов – один так же, как и другой – или в той мере, в какой один перцептивный образ, как и другой, может быть описан как символическое значение образа памяти. Эта «всеобщность» образа памяти, конечно, также подвержена определенным ограничениям. Для меня не существует фантазийного образа, который бы одинаково представлял остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники. Скорее, несколько отдельных объектов могут быть представлены одним и тем же образом памяти только в той мере, в какой они качественно идентичны или, лучше сказать, неотличимы друг от друга[22 - Здесь я должен возразить Корнелиусу в одном пункте, с которым, кстати, я полностью согласен в отношении доктрины «символической функции образов памяти». Корнелиус связывает неопределенность образов памяти с их общностью (Psychologie als Erfahrungswissenschaft, p. 62f); он допускает, что неопределенность увеличивает число различных объектов, представленных в одном и том же образе памяти. Это не совсем верно. Образ памяти, неопределенный в определенном направлении, представляет соответствующие различные объекты, к которым он относится, только в той мере, в какой они не являются различными, или, строго говоря, он представляет похожие объекты, которые становятся из этих различных объектов, если мы пренебрегаем пунктами, в которых они различны.].
Применим это конкретно к ожиданиям. Я представляю себе некое будущее содержание моего сознания. Тогда мы видим, что это воображение становится полным суждением ожидания только тогда, когда мы фиксируем положение ожидаемого в будущем ходе сознания, т. е. когда мы проходим через содержание в воображении, которое отделяет ожидаемое от настоящего контекста сознания. Предположим теперь, что мы не придаем ожидаемому этой полной временной определенности, что мы представляем его «вообще» указанным образом, и далее предположим, что мы также проводим в воображении содержания, отделяющие ожидаемое a от настоящего только в нескольких звеньях b, c, не полностью, и, наконец, также представляем эти содержания непосредственно предшествующими a вообще, тогда мы получаем суждение, которое, выражаясь лингвистически, гласит: «За «a» содержанием a следует «a» содержание b c (содержание, которое имеется в виду в этих образах памяти). Это значит, что мы получаем общее суждение известной формы: при условиях b происходит a. Этому общему суждению противостоит суждение единичного ожидания, т. е. суждение, предсказывающее индивидуально определенное единичное содержание и потому – полностью выполненное – имеющее вид: за наличным содержанием сознания B следует b c d… до a. К этому различию мне придется вернуться в другой связи, а здесь я отмечу лишь два момента: во-первых, здесь следует лишь уточнить, в какой форме предстает общее суждение и в какой мере мы можем поэтому считаться с такими суждениями как со своеобразными условиями. Вопрос о том, как мы приходим к таким суждениям и по какому праву можем считать их истинными, еще не обсуждался. Во-вторых, то, что было сказано применительно к единичному суждению, относится только к этому суждению в той мере, в какой оно полностью выполняется, – я не говорю, что такие полностью выполненные суждения действительно имеют место в сознании.
Еще один момент. Мы уже рассматривали случай, когда мы вспоминаем один и тот же прошлый опыт в разное время. Тогда мы имеем два опыта памяти, но они имеют одинаковый, идентичный смысл, поскольку в них вспоминается или представляется один и тот же объект. В том же смысле мы можем говорить о разных по времени переживаниях суждения, которые имеют одно и то же значение или один и тот же объект, то есть содержат одно и то же суждение. Одно и то же общее ожидание, например, может быть пережито в разное время и разными людьми в форме сознания ожидания. То, что в этом смысле мы противопоставляем одно тождественное суждение численно различным переживаниям суждения, в которых оно предстает перед индивидуальным сознанием, или то, что мы можем говорить об одном и том же (тождественном, а не просто одинаковом) суждении, которое сейчас делается этим, потом этим, является самоочевидным следствием символической природы факта суждения – с символами и только с ними мы можем говорить о тождестве, как мы уже знали ранее.
5. Лингвистически сформулированное суждение как выражение суммы ожиданий.
Вопрос о природе суждения, с которого мы начали, привел нас сначала к трем группам опыта сознания, которые мы можем рассматривать как суждения: воспоминания, интроспекции и ожидания. Отвечает ли это на вопрос о природе суждения? Очевидно, только если смысл или содержание каждого суждения состоит из таких воспоминаний, ожиданий и эмпатий, если смысл каждого предложения суждения, которое мы произносим, можно проследить до таких образований памяти и т. д. Поначалу это кажется очень парадоксальным утверждением.
Поначалу это кажется очень парадоксальным утверждением. Если я высказываю какое-либо суждение: «роза красная», «все люди смертны», то не воспоминания ли и ожидания я хочу выразить здесь в своих словах или которые составляют смысл моих слов?
Чтобы избавиться от кажущейся абсурдности этой мысли, я сначала спрашиваю себя: может быть, смысл наших суждений как-то связан с ожиданиями, как-то с ними связан? Химик утверждает, что золото не растворяется в азотной кислоте, но растворяется в смеси азотной и соляной кислот. Мы сомневаемся в истинности этого суждения, и химик доказывает нам это с помощью эксперимента. Но что, собственно, доказывает эксперимент? Коротко говоря, истинность предсказания о поведении золота, которое содержится в суждении химика, – предсказания, другими словами, ожидания.
Но такие предсказания, очевидно, присущи каждому суждению. Ибо каждое суждение должно быть способно быть проверено на истинность, по крайней мере в идее, даже если мы, возможно, не в состоянии провести эту проверку. Это означает, что для каждого суждения должны существовать критерии, ориентиры его истинности, то есть факты, которые мы можем обратить на себя внимание и появление которых убеждает нас в истинности, а отсутствие – в ложности суждения. Приведем еще два примера. Я говорю о платье, что оно белое. Кто-то другой оспаривает мое суждение: нет, платье желтоватого или кремового цвета. Чтобы доказать это, я могу лишь указать ему на цвет других предметов, которые мы оба описываем как чисто белые или желтоватые. Является ли он таким же, как тот или иной цвет, приближается ли он к тому или иному цветовому впечатлению? Здесь мы имеем искомый критерий, а также ряд предсказаний или ожиданий, которые заключаются в суждении: «это белое», то есть которые должны оказаться истинными или ложными, если суждение окажется истинным или ложным. Или: я говорю о теле: это мел. Если вы хотите, чтобы суждение было доказано, я могу показать вам только одно: что тело ведет себя физически, химически, практически таким образом, что соответствует понятию мела, которое мы оба знаем, то есть я могу только показать вам, что выполняются определенные предсказания, которые должны каким-то образом содержаться в суждении «это мел». Конечно, как ясно показывает этот пример, речь далеко не всегда идет только об одном, а о целом ряде ожиданий: Мел должен оставлять белую линию на поверхности, по которой я его провожу, иметь определенный удельный вес, растворяться в соляной кислоте с шипением и т. д. Кроме того, суждение «это мел» включает в себя и другие суждения, прежде всего суждение «это, то, что я здесь вижу, прежде всего – реальное тело» (не зеркальное изображение, не галлюцинация и т. п.), а значит: его можно взять в руку, он должен оказывать сопротивление прикосновению пальца, быть ощутимым с разных сторон и т. д.
Такие предсказания, как было сказано, «находятся» или «лежат» в рассматриваемом суждении, они «принадлежат ему». Точнее, это означает: когда мы исследуем суждение на предмет его истинности, всегда есть определенные предсказания, которые мы фактически исследуем непосредственно. Или: мы можем и должны приписать каждому суждению ряд предсказаний и, таким образом, ожиданий, которые определяют его истинность, так что истинность ожиданий определяет истинность суждения и наоборот eo ipso. Таким образом, сумма этих ожиданий «эквивалентна» суждению, если под эквивалентными суждениями мы понимаем два суждения, истинность которых взаимно исключает друг друга.
Эти ожидания, конечно, неразрывно связаны с воспоминаниями и эмпатиями. В своем суждении: «Золото растворимо в воде» я опираюсь на воспоминания и, чтобы доказать истинность суждения и убедить сомневающегося, могу сослаться на эксперимент, который я сейчас провожу, а также на эксперимент, свидетелем которого я был ранее: я видел, как вода воздействовала на золото. Здесь истинность суждения опирается на истинность моей памяти. Или я ссылаюсь на утверждение авторитетного лица: профессор X в Y провел эксперимент. Тогда случай эмпатии занимает место ожидания и памяти. Но мы уже знаем: воспоминания и эмпатии отличаются от ожиданий тем, что их нельзя проверить на истинность непосредственно, а опять-таки только посредством ожиданий; в этом отношении мы можем ограничиться здесь упоминанием ожиданий.
Я намеренно говорил об «ожиданиях», а не о переживаниях ожидания, которые должны исполниться или сбыться и которые поэтому лежат в выраженном суждении. Точнее, речь идет об «общих ожиданиях». Суждение: «Это мел» содержит общее ожидание того, что каждый раз, когда я или кто-то другой окунает тело в соляную кислоту, определенный результат станет ощутимым. Что мы понимаем под таким общим ожиданием, что оно выражает себя в индивидуальном опыте ожидания, но не совпадает с ним тождественно (скорее, оно может представлять себя как «то же самое» ожидание в различных таких опытах), можно считать известным из предыдущего параграфа.
Ряд общих ожиданий (включая определенные воспоминания и эмпатии) можно сделать эквивалентным каждому лингвистически сформулированному суждению, общим ожиданиям известной формы: за (мыслимым) содержанием a обычно следует содержание b. Таким образом, суждение «этот объект белый» эквивалентно другому: каждый раз, когда я (или кто-то другой – эмпатия!) смотрю на этот объект (условие a), я нахожу в нем известный моему воображению цвет с его отношениями сходства и различия (предполагающими соответствующие акты сравнения) (и в то же время: когда я это делал, у меня был соответствующий опыт воспоминания!) Таким образом, суждение «это круг» эквивалентно серии ожиданий, которые, сформулированные лингвистически, гласят, что рассматриваемое тело будет рассматриваться определенным образом, будет также вести себя определенным образом, т.е. будет представлять определенные восприятия. Эквивалентность, однако, означает, что когда суждение проверяется на истинность, на самом деле проверяются только эти ожидания, что истинность одного из них рассматривается как неизбежно связанная с истинностью другого, и наоборот.
А теперь сделаем еще один шаг вперед. Можно ли заменить эту эквивалентность тождеством? Может быть, суждение, с которого мы начали, является лишь новым лингвистическим выражением, лингвистическим резюме этих ожиданий? Сначала предположим, что это не так. Тогда смысл пропозиции суждения должен содержать нечто большее, или он должен содержать нечто иное, чем те ожидания. Но если это так, то это большее в любом случае недоказуемо или непроверяемо в отношении своей истинности, поскольку мы видели, что то, что мы проверяем и доказываем, всегда является этими ожиданиями. Более того, это большее или другое, смысл пропозиции, выходящий за пределы ожиданий, должен был бы находиться в определенном отношении к ожиданиям, но это отношение не может быть указано далее. И наконец: это «большее» должно быть каким-то образом воплощено в реальность. Но здесь мы наталкиваемся на уже знакомые нам трудности.
Так что, в конце концов, не остается иного выхода, кроме приведенного выше: законченное предложение суждения «это мел», например, является лишь единым, обобщающим языковым выражением для ряда ожиданий, которые, таким образом, в своей совокупности составляют его смысл par excellence.
Можно ли теперь реализовать эту идею в деталях? Первая и главная трудность, с которой сталкивается эта идея, носит не логический, а психологический характер.
Если смысл наших суждений заключается в ожиданиях, то, по-видимому, суждение как психологический процесс должно быть ожиданием, т. е. заветным, переживанием ожиданий. Или, другими словами, когда мы выносим суждение или понимаем его, ожидания, которые предположительно составляют содержание или смысл суждения, должны каким-то образом присутствовать в нашем сознании. С другой стороны, было бы очевидным изнасилованием фактов утверждать, что каждый раз, когда мы произносим, слышим или читаем предложение, мы испытываем столько-то и столько-то ожиданий. Я, несомненно, могу высказать и понять суждение «это мел», не думая о соляной кислоте и не ожидая сознательно, что вещество, которое я имею перед собой, будет вести себя определенным образом по отношению к соляной кислоте. Как же тогда это ожидание может быть частью смысла суждения?
Я еще раз подчеркиваю: возражение психологическое, оно касается психологического процесса суждения, а не чисто логического вопроса о смысле суждения, который мы ранее рассматривали независимо от всякой психологии. Таким образом, мы вынуждены сделать психологическое отступление от нашего прежнего пути, но не для того, чтобы решить логически объективную проблему психологическим путем, а для того, чтобы примирить психологию суждения с тем, что мы считали объективным смыслом суждения.
Глава вторая. Природа суждения
[Продолжение]
6. Суждение и ожидание.
Отношение ожидания.
Всем знакомы частые случаи «неправильного суждения», недосмотра, механической путаницы. Я хочу взять ручку, а беру нож, лежащий рядом; я хочу войти в свою комнату, а открываю дверь той, что рядом. В таких случаях мы вполне привыкли говорить об «ошибке»: я извиняюсь перед незнакомцем, к которому случайно зашел в комнату, словами: я «ошибся» дверью. Но мы можем говорить об ошибке и истине только там, где есть суждение, а в описанном случае – по крайней мере, я имел в виду именно такие случаи – я вовсе не высказывал суждения, а просто механически выполнял действие. Таким образом, даже если само действие не является «суждением», оно должно каким-то образом представлять или включать его.
Теперь нетрудно понять, как все это увязывается. Совершая действие, я имею определенную цель; действие – это средство для ее достижения. Теперь мы берем средства, которые соответствуют часто осознаваемой и привычной цели, чисто механически, в соответствии с известными законами умственного упражнения и механизации – как взрослые люди, которые «умеют» писать, нам больше не нужно представлять себе отдельные сложные движения письма, необходимые для того, чтобы одно за другим нанести на бумагу определенное слово, но эти движения происходят автоматически в соответствующей последовательности. Все «способности» предполагают такую механизацию. Конечно, я должен изначально научиться тому, что я «могу» делать, то есть я должен предварительно представить себе средства, которые ведут к желаемой цели, я должен ознакомиться с ними как со средствами и сознательно оценить их, прежде чем я смогу механически применять их.
Если я «ошибаюсь» или заблуждаюсь в выборе средств, как в приведенных примерах, то «ошибочным» или «заблуждающимся» здесь, очевидно, является на самом деле суждение о том, что совершаемое действие приведет к желаемой цели, как мы можем сразу сказать: ожидание, что воображаемая цель наступит в результате действия[23 - Суждение о том, что А является «средством» для достижения В, очевидно, означает то же самое, что и: А является «условием» для В, т.е. как общее ожидание того, что после А наступит В.]. Это ожидание, однако, в действительности не переживается, поскольку сознательное воображение и суждение о средствах, которые должны быть выбраны, заменено механическим схватыванием и обращением с этими средствами, механическим действием, в котором первоначальное ожидание присутствует только как бессознательная установка ожидания. Это отношение ожидания, однако, проявляется наиболее отчетливо в непосредственном сознании удивления и разочарования, которое сопровождает неожиданный успех неправильного действия, ошибки и т. д.
Случаи такого рода показывают нам, во-первых, что в психической жизни бессознательная установка ожидания может очень часто занимать место ожидания в реальном смысле, которое выражается в механическом действии и лишь иногда проявляется в сознании, например, когда ожидаемое не материализуется в чувстве разочарования, и, во-вторых, что мы относимся к такой установке или действию точно так же, как к реальному ожиданию, то есть описываем его как «правильное» или «неправильное».
Теперь возникает вопрос: не проливает ли этот факт свет и на суждение в той мере, в какой оно имеет место при произнесении и понимании лингвистических предложений? Не являются ли ожидания, в которых в предыдущем параграфе мы искали смысл таких предложений, все еще психологически присутствующими в говорящем и слушающем, только в форме бессознательных ожиданий? Во время прогулки по лесу я собираюсь небрежно переступить через черную полоску на земле, когда мой спутник сообщает мне, что эта полоска – гадюка. Эта информация оказывает на меня определенное воздействие, она совершенно мгновенно вызывает чувство ужаса, отвращения, непроизвольный шаг назад. Это действие и эти чувства имеют свою причину в неприятной и опасной встрече, но они возникают или, по крайней мере, могут возникнуть до того, как я смогу сознательно представить себе неприятные ощущения от наступления на мягкое, живое тело змеи или даже опасность змеиного укуса. Они являются выражением определенных ожиданий, но происходят так же механически и непосредственно, как и действия в ранее рассмотренных случаях. Разумеется, необходимым условием является то, что я знаю значение слова «гадюка», что я выучил его в прошлом и что я знаком с этим значением (точно так же, как я должен, во-первых, знать действия, которые ведут к определенной цели, а во-вторых, практиковать их так, чтобы они происходили механически, без размышлений или сознательного воображения в нужный момент). В противном случае мне придется сначала сознательно вспомнить, что я должен знать от «сумматора», прежде чем я буду действовать в ответ на это сообщение.
Этот пример можно заменить любым другим. Я вижу на столе стакан с бесцветной жидкостью, и мне говорят, что это серная кислота; следствием этого сообщения является то, что я немедленно и автоматически веду себя по отношению к стакану и его содержимому иначе, чем если бы мне сказали о стакане с водой. Это поведение снова является выражением ожиданий, которые вовсе не обязательно должны быть осознанными ожиданиями.
Возможно, кто-то возразит, что такое поведение возникает только тогда, когда я понимаю сделанное сообщение; оно является простым следствием этого понимания, а не чем-то, что относится к пониманию или суждению как таковому. Это возражение наполовину верно, наполовину нет. Конечно, автоматическое действие – это не «понимание», а следствие понимания; вопрос лишь в том, приходит ли в сознание само понимание, а не только его автоматическое следствие. Вопрос в том, не состоит ли смысл предложения в ряде ожиданий, а понимание этого смысла, следовательно, в лелеянии или переживании этих ожиданий, которое может быть заменено бессознательным отношением ожидания, так что в сознание входят только те действия, которые мы знаем как последствия этих ожиданий. [Ранее, конечно, уже отмечалось, что понимание языковой единицы также выражается для нашего сознания в особом эмпирическом характере, который облекает данную модель: слово кажется нам знакомым (а не просто «известным»), и я сравнил характер знакомости с характером, который имеет для нас известный и знакомый инструмент. Следующие замечания сделают еще более ясным, в какой степени слово действительно является таким инструментом].
Очевидно, мы могли бы рассмотреть те же примеры с точки зрения говорящего. Собеседник, который обращает мое внимание на гадюку, очевидно, хочет дать мне определенную установку на ожидание, это то, что он на самом деле хочет донести до меня. У него самого такое же отношение, и именно оно выражается в произнесенных словах. Но опять-таки, ему не нужно сознательно вынашивать ожидания, о которых идет речь, – как желание обратиться к определенной книге автоматически заставляет меня совершить ряд действий: встать, подойти к двери, нажать на ручку, подойти к книжному шкафу и т. д., так и здесь желание защитить другого человека от опасности при виде извивающегося змеиного тела приводит непосредственно к целесообразным средствам данного восклицания.
Следует помнить еще об одном: мы не можем одновременно испытывать большое количество различных ожиданий, но можем быть настроены на разные вещи в одно и то же время[24 - В исследовании, которое на самом деле преследует психологические цели, здесь, конечно, должны быть сделаны различные различия. С точки зрения психологии, существуют различные типы настроя. Существует напряженное ожидание определенных вещей – вспомните, например, поведение испытуемого в тесте психологической реакции – и это ожидание не может (и в большинстве случаев не будет) принимать форму сознательного ожидания и воображения того, что ожидается, а скорее бессознательного ожидания, которое проявляется в сознании только через интенсивное чувство напряжения и случайные вспышки воображения. С другой стороны, существует привычное отношение ко всем видам вещей, которое присутствует в каждый момент нашей психической жизни и которое дает о себе знать в нашем сознании только через механически выполняемые действия. Первый случай характеризуется в то же время тем, что мы настроены с большей исключительностью на определенные вещи, отчего в то же время страдает привычная настроенность на другие вещи (явление рассеянности у выученных и сильно занятых), и тем, что мы все время «знаем», т. е. можем в любой момент указать и сознательно представить себе, на что мы направлены, чего нет во втором случае. Но между этими двумя формами существуют и постепенные переходы; одна может превратиться в другую.]. Из этого автоматически вытекает значимость использования слов: одно слово служит для объявления и передачи целого ряда ожиданий, которые сами по себе потребовали бы много времени и усилий для объявления или передачи. С помощью одного слова «серная кислота» я готов к тому, как будет вести себя вещество в стакане передо мной в различных направлениях, и способ, которым я должен с ним обращаться, также определен как само собой разумеющееся.
Разумеется, ожидания, которые вызывает у меня отдельное слово, определяются тем значением, которое я научился связывать с этим словом, и это значение может во многом отличаться от того, которое с ним связывает кто-то другой. Химик понимает «серную кислоту» иначе, чем обыватель. Но столь же несомненно, что разница не принципиальна; она состоит лишь в том, что в одном случае ожидания больше и точнее, чем в другом.
7. Решение проблемы номинализма.
Вещные и родовые имена как средство лингвистического обобщения суждений.
Смысл всех наших суждений заключается в определенных ожиданиях (к которым мы добавляем воспоминания и эмпатии в соответствии с вышесказанным). Это утверждение теряет парадоксальность, которая первоначально к нему прилипла, если учесть, что нам не нужно искать эти ожидания как таковые в сознании человека, выносящего или слышащего суждение, а скорее – при условии знакомства с используемыми словами – что они, как правило, заменяются бессознательными ожиданиями. Конечно, тот, кто считает, что осмысленное употребление любых слов или предложений всегда предполагает сознательный поиск, (пусть и неясное) существование смысла, должен найти это утверждение парадоксальным. Но, на мой взгляд, нигде так не видно, как здесь, что это мнение не соответствует природе лингвистического символа, поскольку не признает его важную функцию: функцию, которая состоит в том, чтобы избавить нас от сознательной визуализации всеобъемлющего значения, как было объяснено в конце предыдущего параграфа, или что то же самое означает – это выражение было использовано ранее – представление значения. Важность лингвистического символа для одиночного мышления также основана на этом:
слово удерживает вместе, так сказать, многообразные установки ожидания, которые в противном случае (без такого ассоциативного центра, к которому они все привязаны) разлетелись бы в разные стороны.
Если мы знаем только коммуникативную функцию слова, а не его репрезентативную функцию, то мне кажется непонятным, почему мы так сильно привязаны к понятиям слова не только при коммуникации, но и при уединенном воплощении наших мыслей.
Здесь мы подошли к тому моменту, когда решаются проблемы, постановкой которых я завершил первую главу и начал вторую: проблемы «вещи» и понятия или реальных и идеальных объектов. Я говорю о вещи, но я никогда не могу прямо или косвенно привести то, что я называю этим именем, в состояние бытия; то, что я постигаю непосредственно, всегда является лишь многообразными и изменчивыми проявлениями вещи. Но как может слово «эта вещь здесь» иметь для меня конкретное значение, если это значение никогда не может быть доведено до реальности, если названный объект не может быть отнесен к простому имени? Теперь мы можем ответить на этот вопрос: мы, конечно, никогда не сможем сделать саму вещь данностью, но мы можем сделать значение предложения: Это вещь (или, скорее, видимость вещи). Ибо эта пропозиция, выраженная данным фактом, обозначенным как «это», является лингвистическим резюме ряда ожиданий, которые мы можем возлагать на себя по отдельности. Характер, то есть содержание, этих ожиданий, естественно, зависит от конкретного понятия реального объекта, которым мы пользуемся, но форма самих ожиданий везде одинакова: они всегда являются общими предсказаниями содержания восприятия, которое последует за данным здесь содержанием при определенных известных нам условиях. И точно так же, только несколько более сложным образом, в таких ожиданиях может быть полностью реализован смысл всех предложений, в которых «вещь-концепт» выступает в качестве субъекта или предиката. Слово же, которое «обозначает» вещь или реальный объект[25 - То, что мы различаем и другие реальные объекты, помимо вещей, для которых верно то же самое, мне нужно только еще раз отметить здесь.], не имеет «смысла» само по себе в том же смысле, что и это слово, его «имеющий смысл» состоит скорее только – как и в случае синкатегорематических выражений [слова, которые встречаются не самостоятельно, а в связи с именами собственными – wp] – в функционировании в качестве части значимых целых.
Познание «вещи» может означать не что иное, как: познание различных ожидаемых явлений, в которых «та же самая вещь конституируется». Это «конституирование», однако, состоит в том, что рассматриваемые явления связываются вместе в соответствии с общими законами ожидания, ибо: если мы говорим о данном нечто, что оно является появлением той или иной конкретной вещи, это означает не что иное, как: впоследствии эти и те вполне конкретные другие данные факты должны быть ожидаемы в неизвестных условиях. Заметим, что наличие, существование вещи – это не синоним существования, психического присутствия ожиданий, а действительность, истинность этих законов ожиданий. Я питаю эти ожидания (сознательно или бессознательно) означает то же самое, что: я считаю эту вещь существующей или считаю то, что мне дано, видимостью такой вещи; вещь действительно существует означает то же самое, что: мое ожидание (или данное ожидание, независимо от того, питаю я его или нет) является истинным или действительным.
Это также объясняет, в какой степени мы можем говорить об «одной и той же» вещи, которой соответствует множество и разнообразие явлений. Вещь существует как «та же самая», хотя ее внешний вид меняется, потому что те же самые ожидания остаются действительными или истинными. Я вижу определенную цветную форму, которую сразу же распознаю и обозначаю как переднюю часть стеклянного куба. Смысл этого суждения включает в себя ряд ожиданий, связанных с возникновением других визуальных, тактильных, гравитационных и т. д. восприятий, которые у меня есть. Они связаны с возникновением других восприятий зрения, осязания, веса и т. д., которые у меня появятся, когда я «обойду куб», «возьму его в руку» и т. д., короче говоря, когда я выполню условия, которые мне известны и мыслимы. Все эти ожидания остаются верными независимо от того, действительно ли я, например, «хожу вокруг куба», то есть выполняю соответствующие условия или нет; они также остаются верными во всей своей полноте, если я выполняю одно из условий, например, если я теперь смотрю на куб со спины и тем самым, так сказать, лишаю смысла все остальные. Даже если я переверну куб и тем самым лишу себя возможности видеть его лицевую сторону, все равно остается в силе утверждение, что если бы я прикоснулся к его лицевой стороне, у меня возникло бы определенное тактильное восприятие. Ясно также, что «одно и то же» может восприниматься разными людьми, поскольку закономерно связанные явления могут быть распределены между сознанием нескольких индивидов: Я вижу в своем поле зрения определенный объект и ожидаю, что при определенных условиях другой человек воспримет соответствующий объект. В частности, мое утверждение, что то, что я воспринимаю, не является «простым образом сна», не «галлюцинацией», а, напротив, «реальной вещью», относится прежде всего к обоснованности таких ожиданий, которые включают в себя эмпатию.
Наконец, мы можем также приписать той же самой вещи постоянное существование в течение определенного времени, а именно тогда, когда ожидаемое содержание распространяется на это время. Если я утверждаю, что в определенном месте Германии есть гора, то это подразумевает не только ожидание того, что я восприму ее сейчас, но и того, что я восприму ее через год при соответствующих условиях (которые я обобщаю как путешествие туда). (Впрочем, это относится не только к «вещам» в кратком смысле, но и, например, к реальным процессам: если я растворяю кусок цинка в серной кислоте и это растворение занимает некоторое время, я все равно могу говорить о «том же самом процессе», который происходит здесь в течение всего этого времени. Вещи в собственном смысле слова обладают лишь той особенностью, что распределенные во времени и связанные законом явления остаются качественно теми же самыми. К этому различию мы вернемся позже).
Еще одно слово об упоминавшихся несколько раз «условиях». Можно возразить, что данная формулировка этих условий (когда я хожу вокруг вещи, протягиваю руку и т. д.) уже предполагает вещь или, по крайней мере, понятие вещи вообще. Но это, очевидно, касается только формулировки. По понятным причинам я не могу описать эти состояния словами, не используя понятия вещей (точно так же, как мы везде учимся сначала называть вещи, потому что только вещи, а не состояния, могут иметь репрезентативную, а также коммуникативную функцию слова); я также могу сообщить другому только то, что каким-то образом находит отклик в его сознании; поэтому наши слова последовательно описывают не отдельные состояния, а «вещи» и «роды», и мы можем лингвистически характеризовать отдельные состояния только окольным путем через вещи и роды. Поэтому мы понимаем условия как чистые факты, например, соответствующие ощущения движения при «ходьбе». Тот факт, что мы часто не можем спонтанно представить себе эти ощущения по отдельности, не вызывает возражений, поскольку это происходит там, где нам уже давно не нужно это воображение, потому что мы можем непосредственно реализовать соответствующие условия, когда это необходимо. (Напротив, сравните случаи, когда мы постепенно учимся произносить звук, чуждый нашему родному языку. Здесь мы можем и должны сознательно визуализировать соответствующие движения языка, нёба и т. д., прежде чем мы действительно сформируем звук, кстати, не имея возможности описать соответствующие движения научно, т. е. с помощью соответствующих понятий о вещах (по крайней мере, если мы не изучали фонетику). Чем больше такие движения практикуются, то есть чем больше они могут быть реализованы непосредственно и инстинктивно, тем больше отношения меняются на противоположные: мы разучиваемся сознательно представлять себе данные ощущения и вместо этого учимся описывать их «точно», то есть с помощью общепонятных понятий, и тогда эти описания способны заменить воображение: простая словесная просьба протянуть руку приводит к движению (при наличии соответствующей «воли»), причем мне не нужно представлять себе данные движения). Конечно, было бы недоразумением, если бы кто-то захотел возразить, что такие ощущения движения не являются реальными условиями перцептивного изменения относительно вещи. Конечно, нет, но мы не говорили здесь о «реальных» условиях («причинах»), но мы называем данное содержание A «условием» B, если мы можем в общем случае ожидать B, следующего за A. Наконец, результат наших рассуждений иллюстрируется схемой. Если мы обозначаем данное восприятие как появление вещи («это» – вещь того или иного вида), то это обозначение является обобщающим языковым выражением ряда общих ожиданий. С психологической точки зрения, оно является проявлением этих ожиданий у говорящего и вызывает те же ожидания у слушающего (при условии, что он «усвоил» значение слов); с логической точки зрения, оно является языковым символом, называющим или обозначающим данные ожидания (а не переживания ожиданий). Эти ожидания имеют вид: после заданного сейчас A при условиях B произойдет C: A -> ? -> B. (Пример: то, что я вижу здесь, – это тело, говорит: если я совершу определенные движения, мое визуальное перцептивное содержание изменится таким-то и таким-то образом, если я протяну руку, я восприму твердость и сопротивление и т. д.; это тело определенного вида, например мел, далее говорит: если я применю кислоты, я получу тот или иной опыт и т. д. При этом переживания относятся к прошлым опытам того же рода и к опытам, сделанным другими, и осложняются воспоминаниями и эмпатиями). Пусть теперь у нас есть серия ожиданий: A -> ? -> B, A -> ?? -> C и т. д., а также B -> ?? -> C и т. д., тогда для нас A, B, C и т. д. становятся появлениями «одного и того же» реального объекта. Если я суммирую только те ожидания, которые, следуя за A, ожидают B, C, D и т. д., я получаю суждение «A есть X», то A» также принадлежит реальному X, характеризуемому закономерно связанными явлениями B, D, D. Если, с другой стороны, я думаю обо всех ожиданиях, составляющих явления некоторого реального, собранных и обобщенных в лингвистическом выражении суждения:
A -> ? -> B B -> ?? -> A C -> ??? -> A
A -> ?? -> C B -> ???-> C A -> ??? -> B
то это выражение суждения может быть только одночленом, в левой части не A, не B, не C, а X, полученный суммированием A, B, C… а в правой части – то же самое, т.е.: X -> X. И действительно, лингвистическое суждение, которое здесь получается, является одночастным суждением, а именно «экзистенциальным суждением»: реальный объект X «существует». Он существует, т.е. все его явления будут происходить при соответствующих условиях.
Здесь возникает другой вопрос. Стало понятно, что когда мы оформляем данный материал опыта в суждения, эти суждения должны иметь форму ожиданий; также легко понять, что когда перед нами ряд ожиданий, связанных в описанную выше форму, мы имеем тенденцию обобщить их в языковом выражении. Но почему наши ожидания имеют форму: A -> ? -> B – За A следует B при условиях ? – эта форма, в которую, как мы видели, могут быть облечены элементарные суждения, содержащиеся в наших лингвистически сформулированных суждениях? Почему именно эта более сложная форма вместо, казалось бы, более простой? A -> B – за A следует B? Более подробно мы вернемся к этому вопросу позже, а пока отметим только одно: Легко понять, что из практических соображений, с целью «ориентации», мы требуем знать, в каких различных направлениях каждое вновь возникающее содержание опыта может служить нам знаком для будущих содержаний (как предупреждающее и обещающее предзнаменование). Этой цели, очевидно, лучше всего служит ряд ожиданий, который говорит нам, чего следует ожидать при условиях ?, ??, ?? и т. д., следующих за тем же A, т. е. ряд ожиданий, выраженных в предложении «A есть видимость реального Z».
Понятие рода, идеального объекта, можно сделать понятным очень похожим на понятие вещи, в более общем случае реального объекта. Мы заменяем ожидания A -> ? -> B, A -> ?? -> C, B -> ?? -> C и т. д. (т.е.: за перцептивным содержанием A следует перцептивное содержание B при условиях ?) суммой элементарных суждений о равенстве: A = B, A = C, B = C и т. д. (Эти суждения о равенстве являются также, если мы понимаем их не как простые утверждения сознания равенства, а как суждения, которые говорят о данных содержаниях A и B, что они равны, что между ними существует объективное равенство, как это автоматически следует из сказанного ранее, ожиданиями, а именно ожиданиями, содержащими мысль, что там и тогда, где и когда я снова сравню «те же самые» A и B (то же самое содержание, а не реальный объект, названный тем же самым образом), снова возникнет то же самое суждение о равенстве). Если эти суждения о равенстве обобщаются в выражении суждения, то создается «понятие» рода, общего рода, под которым понимаются A, B, C… создается, то есть создается новое слово G, которое само по себе не обозначает постигаемого объекта, но имеет определенный смысл постольку, поскольку предложение «A есть G» (это «есть» красный, то есть подпадает под родовой термин красный) обозначает ряд мыслимых отношений равенства.
Подчеркну прямо: это изначально идентичные, а не похожие объекты, которые как таковые принадлежат к одному роду, одному понятию. Об отдельном абстрактном моменте цвета цветной поверхности, который я признаю равным моменту цвета других поверхностей, я говорю, что он «есть» небесно-голубой, то есть принадлежит именно к этому роду; об абстрактном моменте высоты тона – что это высота двухтактной буквы С. Конечно, я могу сказать и о цветной поверхности в целом, что она «есть» голубая, о тоне – что это тон именно такой высоты. Но, строго говоря, такое суждение содержит: во-первых, оно говорит, что эта поверхность «имеет» цвет (тон – высоту), то есть с ней связан цветовой момент на манер абстрактного частичного момента, и, во-вторых, этот частичный момент «есть» синий, подпадает под понятие синего.
Наконец, я могу также сформировать понятие синей поверхности или «тональности тона А», под которое подпадают все объекты, которые одинаковы в той мере, в какой о них выносятся одинаковые суждения, во-первых, что они «имеют» абстрактный частичный момент, и, во-вторых, что они «являются» синими или тональностью А. Объекты, подпадающие под это понятие, могут быть неравными в другом «отношении», то есть в отношении другого частичного момента – две поверхности синего цвета могут иметь разные формы – момент, который мы должны «игнорировать», когда делаем эту подстановку под одно и то же понятие. Таким образом, существуют понятия, под которые мы подводим абстрактные частичные моменты (понятие «синий»), понятия, под которые мы подводим объекты в отношении одного частичного момента и в абстракции от других (понятие объекта синего цвета), и, наконец, конечно, понятия, под которые мы подводим целые объекты, включая все их частичные моменты.
Однако понятие одинаковости может быть также заменено специфическим понятием сходства, и сходные объекты также могут относиться к одному и тому же понятию как таковому. Таким образом, красный, зеленый, синий, короче говоря, все объекты, которые мы подводим под общий термин «цвет», не одинаковы, но похожи, и мне кажется, что это сходство должно быть отнесено к одинаковости абстрактного частичного момента всех цветов, который придал бы термину «цвет» его значение. Для нашего сознания не существует, в том же смысле, абстрактного частичного момента цвета или тона во всех цветах или тонах, как не существует абстрактного момента «высоты» или «качества цвета» (в отличие от протяженности), на который мы можем обратить внимание. Но это сходство, которое дает нам повод для формирования понятия «цвет» или «тон», является сходством определенного рода. Если мы подумаем о различных цветах, расположенных рядом, если мы подумаем о ряде тонов, противоположных им, то разница между цветами исчезает, так сказать, как только мы сравниваем цвета и тона, не выделяя отдельных частичных моментов в обоих. (Если мы поступаем именно так, то эффект, о котором я говорю, при определенных обстоятельствах разрушается, например, когда мы замечаем характерное сходство темных цветов и глубоких тонов). Цвета между собой становятся для нашего сознания относительно равными сущностями, их сходство представляется нам относительным равенством, их «качественное единообразие» (см. раздел 9 главы 1) становится относительным единством. Поскольку таким образом сходство может стать относительным сходством или группа объектов, относительно сходных в целом (не по частичным моментам), может быть отделена от других подобных групп, сходство, как и актуальное, то есть абсолютное сходство, обладает концептообразующей функцией, то есть мы говорим об объектах, что они «являются» объектами определенного вида, и подразумеваем под этим, что они могут быть отнесены к такой-то группе или серии сходств. Если мы имеем дело с объектами, различия между которыми невелики (например, разные оттенки одного цвета), то если мы поместим такую группу сходных объектов вместе и противопоставим их другим, более сильно дифференцированным объектам, то впечатление сходства может перейти непосредственно в впечатление одинаковости, точнее, в впечатление неразличимости; благодаря «контрасту» небольшие «объективно существующие различия» исчезают для нашего сознания, становятся «незаметными». Впечатление «относительной одинаковости» соответствует впечатлению неразличимости, благодаря тому же виду сравнения, сопоставления и контраста, благодаря которому мало отличающиеся объекты становятся неразличимыми, а более отличающиеся – «относительно одинаковыми». Отсюда понятно, что и относительно равные объекты мы рассматриваем как равные, то есть предполагаем идентичное «понятие». Таким образом, возникает третья форма понятий – понятия, которые уже не только включают в себя идентичные объекты или объекты, от различий которых (их разных частичных моментов) мы абстрагируемся, но и включают в себя относительно разные объекты. Наконец, объекты могут сначала казаться нам похожими, а затем это сходство может раствориться в одинаковости некоторых частичных моментов, когда огульное представление о единстве сменяется расчленяющим представлением о частичных моментах. Поэтому понятия могут сначала возникнуть психологически и генетически из объединения в группы сходства, а затем стать понятиями, под которыми мы подразумеваем объекты с определенными идентичными свойствами или частичными моментами.[26 - В вышеизложенном я попытался несколько модифицировать понятие серии сходств, введенное Корнелиусом. В двух аспектах. Корнелиус также хочет отождествить каждую оценку данного содержания по отношению к абстрактному частичному содержанию с классификацией всего содержания в серии сходств: синий круг передо мной – синий, то есть он характерно похож на ряд других фигур, которые мы лингвистически называем синими квадратами, прямоугольниками, короче говоря, фигурами «того же цвета» и «другой формы». Круглый, наоборот: он «похож» на красные, желтые, белые и т. д. круги. кругам. Аналогично с точки зрения тона, цвета тона и т. д. У меня есть три возражения против этой идеи: во-первых, она не соответствует данности. Цветная и фигурная поверхность не является абсолютным единством даже для нашего непосредственного восприятия, но содержит эти части в своеобразном и непосредственно переживаемом виде «абстрактных» частей. Во-вторых, теория не учитывает разницу, существующую между такими понятиями, как «цвет» и «тон», с одной стороны, и «карминно-красный» и «охристо-желтый» – с другой. И, наконец, в-третьих, существует ли уже существующее различие между различными группами сходства, к которым, как предполагается, принадлежит одно и то же содержание? Как показывает простой пример, одного факта сходства A с B и C, и тем более сходства B с C, недостаточно для определения группы сходства A-B-C: Пусть A – светло-красный круг, B – светло-зеленый прямоугольник, C – темно-красный прямоугольник – вышеуказанные условия сходства выполняются, но никакая группа сходства ими не очерчивается. Если говорить о различных «отношениях», в которых сходны светло-зеленый и светло-красный, с одной стороны, светло- и темно-красный, красный и зеленый прямоугольники – с другой, что позволяет «группе» сохранять свое единство за счет сходства в «одном и том же отношении», то вновь появилось то, что должно быть объяснено, ибо либо различные «отношения» – это различные объекты, которые сравниваются и обнаруживают сходство, т.е. различные абстрактные частичные моменты – тогда круг сразу же очевиден, либо это различия сходства, и тогда, похоже, качества объектов были прослежены до качеств сходства, которые сами должны быть объяснены таким же образом. Чтобы избежать этих возражений, я сначала отличил концептуальные обобщения сходных объектов (звук, цвет) от обобщений сходных частичных содержаний, а затем ввел понятие относительного сходства, которое должно указать на определенный факт: не взаимное сходство само по себе приводит к концептуальным обобщениям, а только когда оно предстает перед нами как относительное сходство сходных объектов с другими объектами (с которыми они также могут быть сходными в одно и то же время). Здесь немаловажно, что сознание сходства становится сознанием относительного сходства только через сопоставление других содержаний, не принадлежащих к данному ряду сходств, или что, говоря то же самое, сознание относительного сходства предполагает не только сознание сходства, но и сознание различия. Так как светло-красный круг, светло-зеленый прямоугольник и темно-зеленый круг, несмотря на свое сходство, не становятся относительно одинаковыми содержаниями, то их сходство не может служить для определения общего понятия.] Точнее говоря, постепенная трансформация нашей концептуализации происходит тремя путями: первоначально неразличимые содержания дифференцируются; дифференцированные содержания вновь собираются в группы относительно сходных содержаний; объекты, которые в целом просто похожи, становятся объектами с различными и сходными частичными содержаниями. Слово «синий» первоначально используется детьми для коллективного называния синих предметов, то есть всех предметов, образующих определенную группу сходства. Лишь постепенно возникает дифференциация цветового и форменного момента, когда слово «синий» становится названием именно цвета синих предметов, а отдельные оттенки синего цвета дифференцируются, и термин «синий» теперь основывается на относительном равенстве этих цветовых оттенков. —
Предложение, в котором содержание подводится под «общий термин», является – с точки зрения его смысла – суммирующим выражением ряда суждений о равенстве. В той мере, в какой это равенство существует объективно, суждение о подстановке является истинным или правильным. Мы имеем ряд таких суждений: A = B, A = C, B = C и т. д. в языковое выражение, так же легко понять, как и в случае с ранее рассмотренными суждениями A -> B, A -> C, B -> C и т. д., которые входят в суждения о «реальных объектах». В целом, мы можем рассматривать родовое понятие или понятие идеального объекта как аналогичное во всех отношениях понятию реального объекта, за исключением одного момента, что «появления» реального объекта становятся такими появлениями того же объекта через их временную связь (A следует за B при условиях ?), тогда как «появления» идеального объекта становятся такими появлениями того же объекта через их связь одинаковости или сходства. Отсюда следует, что реальным объектам можно приписать существование во времени, которое не имело бы смысла для идеальных объектов как таковых. Я могу сравнивать объекты, близкие по времени, так же хорошо, как и те, которые находятся на расстоянии столетий друг от друга. С другой стороны, вещи и роды имеют свойство быть супраиндивидуальными, поскольку «один и тот же» род может иметь свой вид в одном и другом индивидуальном сознании, а именно если мы предполагаем, что содержание в разных сознаниях одно и то же.
Теперь мы можем кратко подвести итог нашего исследования: простые или составные языковые выражения, которые мы используем, называют частично феноменальные, частично реальные и идеальные объекты. Реальные и идеальные объекты не являются феноменальными как таковыми, то есть их нельзя заставить быть данными. Если, следовательно, мы понимаем «смысл» слова как нечто, названное этим словом, что мы можем воплотить в реальность для себя, то слова, обозначающие идеальные и реальные объекты, сами по себе не имеют смысла или названные ими объекты оказываются фиктивными объектами, словами в смысле номинализма – простыми, т.е. бессмысленными именами. Но мы используем эти имена, потому что с их помощью мы выражаем в языковых терминах суждения ожидания, в которых мы связываем данное содержание. «Существование» этих фиктивных объектов и есть действительность суждения, о котором идет речь.
То, что было сказано здесь о функции существительных, обозначающих вещи и жанры, в принципе также очевидно, на что можно хотя бы намекнуть, если мы рассмотрим общие условия, от которых зависит возникновение и развитие языка.
Первая предварительная ступень языка, как принято считать, дана в непреднамеренном произнесении переживаний, как мы до сих пор знаем их в нашей развитой языковой жизни в междометиях [эмоциональные восклицания «ах», «ох», «пфуй» – wp]. Вторая предварительная стадия состоит в том, что за этими междометиями следует «понимание» со стороны слушателя, воображение, которое «вчувствует» соответствующий опыт в создателя звуков. Третья стадия достигается, когда эти звуки намеренно производятся с целью быть понятыми. Здесь звуки начинают приближаться к реальным образованиям языка в той мере, в какой они выполняют коммуникативную функцию. Если мы теперь понаблюдаем за тем, что передается на этих примитивных уровнях, то это всегда эмоционально подчеркнутые ожидания – ожидания, содержащие момент страха или желания, так же как страх и желание, которые сначала выражаются непосредственно в ярких междометиях и вызывают сопереживание у слушателя. В качестве примера достаточно вспомнить заманивающие и предупреждающие призывы животных, которые, вероятно, являются первыми такими намеренными сообщениями.
Развитие настоящего языка, очевидно, происходит путем увеличения числа ожиданий, передача которых представляется необходимой или желательной, что, конечно же, должно чрезвычайно возрасти в тот момент, когда существа объединяются для совместной работы в более широких целях. Этот рост ожиданий, подлежащих передаче, изначально приводит к развитию определенных звуков, которые служат только этой цели коммуникации и каждый из которых также приписывается определенной коммуникации как средство: звуки становятся суммой искусственных символов, значение которых необходимо усвоить. Начало этому уже положено в животном мире, когда, как в случае с некоторыми стадными животными, используются различные предупредительные сигналы, например, для оповещения о различных опасностях.
Наконец, перед нами стоит задача создания фонетических символов для произвольно или неопределенно большого числа различных ожиданий, которые позволят передать эти ожидания слушателю. Настоящая трудность этой задачи, очевидно, заключается в том, что количество этих символов неизбежно ограничено. Теперь легко понять, что для преодоления этой трудности мы будем использовать два средства. Во-первых, мы будем обозначать одним и тем же символом ожидания, которые всегда связаны друг с другом, одно из которых не возникает без другого, – я напоминаю о том свойстве наших лингвистически фиксированных суждений, что каждое из них содержит сумму ожиданий. А во-вторых, мы должны организовать наши символы таким образом, чтобы из одних и тех же повторяющихся знаков можно было создать неограниченное количество фонетических символов с конкретным значением, которое можно вывести из самих знаков. Это происходит сейчас, как и всегда в подобных случаях. Вспомните алфавит или цифры. Количество букв очень ограничено, количество слов очень велико, существует только десять различных цифр, количество чисел бесконечно. Возможность представлять множество объектов несколькими знаками дается здесь тем, что мы комбинируем эти знаки и выражаем отдельный объект, который должен быть представлен определенной комбинацией определенных знаков. Аналогично и здесь. Мы выражаем индивидуальную сумму ожиданий через комбинацию знаков, которые, в свою очередь, могут повторяться в других комбинациях и служить здесь для построения символа, обозначающего другую сумму ожиданий. Конечно, такая система символов складывается только постепенно; развитие языка ребенка может дать представление о том, как она складывается: ребенок сначала говорит отдельными словами, но эти слова означают то, что взрослый произнес бы в виде предложения, поэтому они также имеют конкретное, узнаваемое значение. Затем те же самые слова неизбежно используются в другом значении, пока к этому значению не добавляется изменяющееся выражение с помощью новых, отличных от других фонетических символов. Однако как только это произошло, слова, которые изначально имели конкретное значение, стали просто строительными блоками для различных языковых символов, наполненных конкретным смыслом.
Конечно, эти отдельные слова также должны иметь значение, которое можно усвоить в определенном смысле. Однако они приобретают это значение не сами по себе, а только благодаря различным языковым целым, в которые они включены как части. Точнее говоря: Мы можем выразить различные ожидаемые суммы только с помощью относительно небольшого числа символов, потому что в них всегда играют роль сходные обстоятельства в сходных контекстах.
Отдельное слово, однако, не просто обозначает такой конкретный факт, а является языковым средством, чья схожая лексика в языковых символах разных смыслов указывает на то, что один и тот же факт принадлежит к составляющим этого смысла.
Язык – это не результат логических рассуждений, а продукт практики, который практика жизни создала для определенной цели. Эта цель в конечном счете состоит в том, чтобы передать от одного человека к другому сходное отношение к будущему и тем самым дать им возможность совместно работать над достижением определенных целей. И язык по своей сути, как мне кажется, выполняет эту задачу в первую очередь.
LITERATUR – Ernst von Aster, Prinzipien der Erkenntnislehre [Versuch einer Neubegr?ndung des Nominalismus] Leipzig 1913.
Генрих Ланц (1838 – 1905)
Проблема репрезентационизма
Глава I. Кантовское учение об объективности
Начиная с Канта, теория объекта в его трансцендентальном освещении становится центральным пунктом философского исследования. Какова природа и сущность объекта, каково основание его объективности, какова сама эта объективность, каково ее отношение к субъекту и, наконец, что есть то, что мы называем субъектом? – Это фундаментальные вопросы трансцендентальной теории объекта. Одним словом, отношение между субъектом и объектом – это фундаментальная проблема критики. Какой природы должна быть объективность, чтобы ее познание было возможным и понятным? – Именно в такой форме ставится вопрос у Канта.
Докантовская философия отвечала на него (если вообще пыталась затронуть его более или менее глубоко) либо в духе теории интенции, рассматривая субъект и объект как две независимые космические потенции, которые связаны и согласованы друг с другом по закону параллелизма или предустановленной гармонии; или, в духе старой немецкой мистики, он отождествлял вещи с субъектом, а субъект с духом, тем самым растворяя всякую объективность и уничтожая ее в акте мистического созерцания. Отношение между субъектом и объектом всегда мыслилось как отношение между духом и вещами, между мыслящей и протяженной субстанцией (res extensa et res cogitans). В этом дуалистическом понимании обоих терминов кроется основная ошибка докантовской философии. Сознание, отделенное от объективного мира, само объективировалось и, будучи объективированным, превращалось в непространственную субстанцию или дух. Там, где сохранялась объективность, сохранялся и принципиальный дуализм, а там, где этот дуализм преодолевался, как у немецких мистиков, а затем у английских идеалистов, исчезала и объективность, знание теряло всякую почву и приводило философию к скептицизму. Эти две фундаментальные ошибки повторялись в каждой философской системе, имевшей хотя бы отдаленное отношение к трансцендентальным тенденциям философии. Однако те системы, которые мы можем считать истоками трансцендентального идеализма, а именно неоплатонический мистицизм и английский идеализм XVII—XVIII веков, – все они возводят эту ошибку в основополагающий принцип своего философствования.
Родоначальник немецкого мистицизма, например, Майстер Экхарт, очень близко подходит к идее трансцендентальной философии со своим принципом равенства сущности между познающим и познаваемым, хотя и только в самой общей и самой дезинтегрированной форме. [27 - Виндельбанд, «История новой философии».]«Ибо сущность постигается только тем, чем она сама является».[28 - Сочинения и проповеди господина Экхарта, перевод Бюттнера, т. I, стр. 85] Сущность всего, однако, есть Божество; следовательно, единственный истинный объект для единственного истинного субъекта – Бога – есть Он Сам в различных проявлениях Своей сущности. Душа человека обладает истинным знанием только в акте мистического откровения, следовательно, лишь в той мере, в какой она несет в себе искры божественного света и совпадает с его сущностью. – «Светом божественной сущности мы должны созерцать божественную сущность».[29 - Мейстер Экхарт, там же, стр. 200] «Когда душа видит себя, она видит Бога». Познавая Бога, а точнее, созерцая его, мы погружаемся в его сущность, теряем всякую индивидуальную объективную детерминацию, превращаемся в абсолютное небытие божественной субстанции, которая (как высшее понятие бытия) лишена всякой детерминации и всякого различия и, как абсолютная пустота чистого сознания, как «несозданное великолепие божественной сущности», есть одновременно все и ничто,[30 - Мейстер Экхарт ibid. стр. 202. Ср. также Н. Cusanus, De docta ignorantia. «Ибо Бог, абсолютное величайшее, не есть это и не другое, он не есть там и не там, но как все, так и ничто из всего». Ср. также «Тождество бытия и небытия» Гегеля, лог. 77 – 108] – вечная «тишина» и полный «покой» самого абстрактного из всех понятий. «В переживании блаженства человек становится ничем, и все сотворенное становится для него ничем». [31 - Мейстер Экхарт там же, стр. 202, ср. стр. 199]– В этом акте мистического созерцания, в переживании высшего блаженства, на которое только способен человек, исчезает всякая объективность, всякая интенция к объекту, исчезает и познание как представление отдельных вещей, и остается только абсолютное тождество[32 - Мейстер Экхарт там же, «Единство», стр. 199 – 200] познающего субъекта с самим собой.
Таким образом, с помощью божественной мудрости мистицизм уничтожает противопоставление субъекта и объекта. Все есть одно и то же, все есть божественность, то есть абсолютное сознание, «несотворенное великолепие божественной сущности». Сущность мира исчерпывается в вечном вневременном акте самосозерцания Бога.
Этого краткого описания философии мастера Экхарта достаточно, чтобы показать, насколько он близок если не к самому Канту, то, по крайней мере, к позднему кантианству Фихте или Шеллинга; это первоисточник немецкого умозрения, если абстрагироваться от его связи с новым платонизмом. Но, несмотря на глубокое родство, она радикально отличается от кантовской и послекантовской философии в вышеупомянутом пункте Она не устанавливает, а уничтожает всякую объективность, превращает ее в дух и, объективируя этот дух в божественную субстанцию, переливает все содержание мира познаваемого в абсолютную пустоту божественного небытия. Единство познающего и познаваемого, которое, по мнению Эккарта, имеет место в самовосприятии и самооткровении Бога, уже не является единством познания, поскольку оно превращается в «неопределенное», «сверхчувственное» видение, в котором уничтожается всякая «активность», всякая детерминированность и отдельность бытия и, в связи с этим, всякая объективность. Высшее познание, говорит Экхарт, – это абсолютное молчание; «душе не дано ни деятельности, ни познания, она больше не знает ни одного образа, ни себя, ни какого-либо существа».[33 - Мейстер Экхарт там же, стр. 34]
Пожалуй, с еще большей ясностью эту связь и отличие от критической философии можно увидеть в системе, из которой немецкий мистицизм сам черпает свои убеждения и которая образует переход от старого к новому периоду философии. Это система нового платонизма. Два основных понятия нового платонизма, en и nous, ставят его в непосредственную связь с новейшей философией. Если понятие Единого предстает как предвосхищение идеи бескачественной и бесконечной субстанции, которая проходит через всю историю философии и даже отражена в концепции Абсолюта Фихте и Шеллинга[34 - Фихте, например, определяет понятие Абсолюта в третьей «Wissenschaftslehre» 1801 года совершенно в смысле Плотина, как нечто стоящее над мышлением и бытием. «Абсолютное не есть ни знание, ни бытие, ни тождество, ни безразличие того и другого, но только и исключительно абсолютное», и аргументация остается той же, что и у Плотина: ни знание, ни бытие не могут быть названы строго абсолютными, поскольку они предполагают друг друга и, таким образом, содержат в себе внутреннее разделение.], то понятие интеллекта, как тождества между мышлением и бытием, образует тот зародыш, из которого при посредничестве спекулятивной философии развились все монистические тенденции современной логики.
Бытие возможно только как бытие мысли. По крайней мере, в сфере умопостигаемого мира идей это предложение представляется Плотину фундаментальной истиной. «Всякая идея не отлична от интеллекта, но всякая идея есть интеллект. А интеллект в своей совокупности есть совокупность идей».[35 - «Эннеады» Плотина, Enn. V. 9, 8] Бытие умопостигаемого мира есть продукт интеллектуальной деятельности, энергии мысли. «Интеллект завершает и свидетельствует о бытии своей деятельностью и мышлением».[36 - Плотин там же, Энн. V 9,8] Как и у Фихте, у Плутина бытие мышления исчерпывается его деятельностью. Продукт мышления по своей сути есть не что иное, как сама деятельность, или «ипостась» [подчинение объективной реальности мысли – wp] в принципе полностью тождественна «энергии» мышления, т.е. они являются лишь двумя моментами одного и того же мышления и различаются только в рефлексии. Объекты мысли не лежат вне самой мысли, а содержатся в ней. Рассудок не стоит напротив интеллигибельного мира как независимое от него существо, которое изображает и отражает отдельную от него реальность, но этот интеллигибельный мир есть сам рассудок, полностью совпадает с ним». Соответственно, нельзя искать умопостигаемое вне интеллекта и предполагать, что в интеллекте есть отпечатки бытия.[37 - Плотин ibid Enn. V 5,2] «Бытие возможно только в истине и через истину и есть не что иное, как сама истина». «Абсолютная истина соглашается не с другим, а с самой собой, и она не говорит ничего, кроме самой себя; она есть; и что она есть, то она и говорит». [38 - Плотин ibid Enn. V 5,2]Ее смысл полностью совпадает с ее объектом.
Это «оно есть то, что оно есть» можно было бы считать крылатым словом современного эпистемологического монизма, если бы в нем не содержался тот элемент мистической метафизики в скрытом виде, который, несмотря на полную идентичность выражений, отделяет плотиновскую доктрину от современной эпистемологии глубокой пропастью. Только более поздний период, через философию Канта, понял, как преодолеть эту метафизику и подняться до концепции эпистемологического субъекта как идеального единства, чистой формы Я-сущности, которая, будучи сама нереальной, делает все реальным. Для Плотина же (как и для докантовской философии) интеллект предстает не только как чистая форма сознания, но и как высший уровень реальности. Для него тождество мышления и бытия синонимично тождеству бытия и мышления. В его философии мышление бытия совпадает с бытием мышления. Не следует забывать, что для Плотина мышление предстает не как абсолютно конечный, эпистемологический prius, а выводится из абсолютного метафизического prius – en, лишенного всех противоположностей; в результате интеллект погружается из ясного царства сознания в темное царство метафизических сущностей. Сознание вновь объективируется и принимается за выражение объективной субстанции; в этом кроется фундаментальная ошибка докантовской философии: она трансцендентна и иллюзорна. Трансцендентна она потому, что ищет в сознании духовную субстанцию объективного мира; иллюзорна – потому, что превращает объективный мир вещей в мир духа (или даже более того, в нечто, превосходящее дух). Идея, составляющая фундаментальную истину и основную предпосылку всей докритической философии, состоит в том, что сознание есть духовная субстанция – непространственная, бесплотная и нематериальная.
Мы уже говорили о мистических и идеалистических системах, что они разрушают объективность мира, одухотворяя сознание. Все реалистические системы, с другой стороны, остаются, что еще хуже, на принципиально дуалистической точке зрения. Они остаются в области преднамеренных предрассудков. Хотя Декарт, например, иногда очень близок к Канту,[39 - Эренст Кассирер, Проблема познания, т. I, с. 375 – 433] основная тенденция его метафизики – утвердить объективность и трансцендентную обоснованность знания через понятие Бога: Бог совершенен, поэтому мошенничество противоречит его понятию; следовательно, состояния мыслящей субстанции должны соответствовать и соответствуют абсолютно объективным состояниям телесного. Дуализм Спинозы столь же несомненен.
Из этих исторических примеров мы ясно видим, что, как бы ни были близки докантовские системы к идеям трансцендентальной философии, они отличаются от нее в одном принципиальном пункте: все они путают понятие сознания с понятием психической субстанции, или психических состояний; отсюда их иллюзионизм, отсюда и их трансцендентность. Только Кант смог показать, что психическая субстанция и сознание – это две совершенно разные вещи. Факт нашего мышления вовсе не доказывает его бытие в качестве духа; cogito ergo sum – неверный вывод, основанный на необоснованном объективировании мышления. Мышление есть сознание чистой действительности понятия; если я мыслю бытие, то из этого еще не следует, что мышление есть бытие, скорее наоборот; из этого можно заключить только, что бытие есть не что иное, как род мышления или действительности; существуют также действительности физического, – но из этого нельзя делать вывод, что действительность есть нечто физическое, а только то, что физическое как таковое есть род действительного суждения; одним словом: исходя из объекта, мы не можем сделать никакого вывода о природе и конституции субъекта. Поэтому из того, что объекты существуют и что эго их осознает, еще не следует, что само это эго действительно существует. Оно содержится в этих объектах не как их составная часть, а как их логические условия, как общая форма их бытия. Как чистая форма всякого объективного существования, как абстрактный способ бытия всякого объекта, это Я не может быть отделено от своего объекта и не может быть понято как независимый объект. Оно существует и познается только в своих объектах, в своих высказываниях, в своих мыслях, «и отдельно от него мы никогда не можем иметь ни малейшего понятия о нем», «потому что сознание само по себе есть не понятие, отличающее какой-либо предмет, а форма его вообще, в той мере, в какой оно должно быть названо знанием».[40 - Кант, Критика чистого разума, стр. 341]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71243533?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Я не могу считать правильным рассматривать обоснование принципов, как этого иногда требует Гуссерль, как задачу метафизики. Определение метафизики как философской дисциплины будет наиболее простым, если поставить перед ней задачу полного удовлетворения поиска знания путем получения единой теории, охватывающей мир в целом. Однако дополнение отдельных наук, заключающееся в этом, достигается не путем анализа и разработки их общих предпосылок, а путем установления общих отношений между ними и идеального дополнения их результатов для формирования единой науки, объектом которой является уже не какая-то часть мира, а мир в целом. Эпистемология логически предшествует отдельным наукам, метафизика следует за ними. Однако с точки зрения времени эти отношения, как известно, обратные.
2
Ганс Корнелиус, Психология как наука об опыте, стр. 20
3
Ср. Макс Дешуар, Эстетика, стр. 169 и 353. Бенно Эрдманн решительно подчеркивает мысль о том, что при использовании слова обозначаемый объект еще не дан (см. пояснения в «Логике I», второе издание, стр. 314). Он также справедливо отмечает, что Беркли, вероятно, первым выразил это убеждение в «Принципах», и цитирует (Archiv f?r systematische Philosophie, vol. 2) характерный отрывок из введения (§19): «При некотором размышлении выяснится, что даже при самой строгой связи идей не обязательно, чтобы имена, обозначающие что-то и представляющие идеи, каждый раз, как только они используются, пробуждали в уме те самые идеи, которые они были призваны представлять, поскольку в чтении и речи обычные имена по большей части используются так же, как буквы используются в алгебре, где, хотя каждая буква обозначает определенное количество, для правильного хода вычислений не обязательно, чтобы на каждом шагу каждая буква вызывала в сознании то конкретное количество, которое она обозначает.» Следующие замечания Беркли в §20 также очень важны; они выражают мысль, к которой я вернусь позже, что «понимание» слова состоит главным образом в том, что оно немедленно производит на слушателя тот же эффект, что и обозначаемая вещь, что, таким образом, и здесь функция слова состоит главным образом в том, чтобы «представлять» обозначаемое.
4
В демонстрации таких рефлексов сознания я вижу главную заслугу экспериментальных исследований мышления, как они были проведены Августом Мессером (Experimentell-psychologische Untersuchungen ?ber das Denken, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 8), Бьюлером («Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorg?nge», ibid. vol. 9) и другими. Ср. также очень меткие замечания в «Принципах человеческого знания» Беркли, Введение, § XX.
5
Для сравнения я ссылаюсь на свое эссе в Zeitschrift f?r Psychologie, vol. 49: «?ber die Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorg?ngen». – Гуссерль также иногда упоминает (Логические исследования II, с. 73), что можно было бы придумать идею объяснения осознания значения слова как простого чувства знакомости. Он возражает, что мы очень хорошо различаем, является ли слово просто известным нам или оно имеет для нас значение; мы также можем быть знакомы с непонятными терминами или словами иностранного языка, значение которых, как мы знаем, мы давно забыли. Конечно. Но из этого, как мне кажется, следует, что чувство, о котором здесь идет речь, – это не просто чувство знакомости, а чувство особого рода. Я бы сравнил его с чувством, которое мы испытываем по отношению к знакомому инструменту, с которым умеем обращаться. Это не просто сравнение – по моему мнению, слово и есть такой инструмент – я вернусь к этому позже. В других местах, однако, Гуссерль, кажется, считает само собой разумеющимся, что даже в «значении» означаемый объект каким-то образом сознательно постигается нами.
6
Эдуард Брэдфорд Титченер, Экспериментальная психология мыслительных процессов, Нью-Йорк, 1909 г.
7
Антон Марти, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, vol. 1, p. 175f
8
Конечно, можно и в определенном смысле нужно проводить различие между общими понятиями и общими объектами. Под «понятием» обычно понимают нечто, имеющее только ментальное существование, продукт разума, и тогда, возможно, задаются вопросом, существует ли общее только как «понятие» или также как (внементальный, реальный или идеальный) «объект». Однако можно взять оба слова и более широко и неопределенно по смыслу: взять слово «объект» как синоним «чего-то» вообще, как уже указывалось ранее, а под «понятием» понимать значение слова как такового, то, что подразумевается в слове. Тогда можно, как это было сделано в тексте, использовать «общее понятие» и «общий объект» изначально неразборчиво [четко не отделяя их друг от друга – wp]. К этому различию я вернусь позже.
9
Как бы ни была изобретательна и последовательна попытка Наторпа интерпретировать все те платоновские термины, которые превращают мир идей в метафизический потусторонний мир, как просто образы, есть, на мой взгляд, моменты, в которых такая интерпретация делает насилие над формулировкой и ходом мысли Платона. Действительно ли все доказательство бессмертия в «Федре» должно быть аллегорией?
10
Ср. Husserl, Logical Investigations II, pp. 153. – В вышеизложенном я в то же время критикую свои собственные ранние замечания в моих «Исследованиях логического содержания причинно-следственного закона», Лейпциг 1905.
11
Марти, однако, кажется, придерживается мнения (Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik aund Sprachphilosophie, vol. 1, p. 328), что понятия можно воспринимать как нечто существующее во времени, но не в определенное время. Однако то, что существует в неопределенное время, существует «либо» сейчас, «либо» в другое время, может существовать «и» сейчас, «и» в другое время. Очевидно, что мы не можем сказать это о «человеке», а только о «любом человеке», то есть о любом индивидууме, который подпадает под понятие «человек». «Человек», с другой стороны, общее понятие человеческого существа, не существует «ни» сейчас, «ни» в любое другое время.
12
Эдмунд Гуссерль, Логические исследования II, стр. 620f: «Подобно тому, как вещь в видимости не стоит там как простая сумма бесчисленных индивидуальных детерминаций, которые может различить последующее индивидуальное наблюдение, и подобно тому, как оно не дробит вещь на детали, но способно наблюдать их только во всегда законченной и единой вещи: так и акт восприятия всегда является однородным единством, которое визуализирует объект простым и непосредственным способом… Возможно также, что мы не позволяем себе довольствоваться „одним взглядом“, а наблюдаем вещь со всех сторон в непрерывном процессе восприятия, сканируя ее, так сказать, нашими органами чувств. Но каждое отдельное восприятие в этом процессе уже является восприятием этой вещи. Смотрю ли я на эту книгу сверху или снизу, изнутри или снаружи, я всегда вижу эту книгу. Это всегда одна и та же страница и одна и та же не только в физическом смысле, но и по мнению самого воспринимающего… Индивидуальные восприятия предмета непрерывно едины. Эта непрерывность означает не просто объективный факт временной демаркации; скорее, ход отдельных актов имеет характер феноменологического единства, в котором слиты отдельные акты. В этом единстве множество актов сливается не только в феноменологическое целое, но и в акт и, более того, в восприятие. В непрерывной последовательности отдельных восприятий мы постоянно воспринимаем этот один и тот же предмет».
13
Как известно, естествознание отождествляет звук с волновым движением воздуха. Как будет показано далее более подробно, это отождествление имеет смысл только как отождествление реального звука с реальным движением воздуха. Отождествлять феноменальный звук с чем-либо другим было бы совершенно бессмысленно.
14
Теодор Липпс, Vom F?hlen, Wollen und Denken, Лейпциг 1902, стр. 6
15
Я не утверждаю здесь, что «логическим противоречием» является утверждение, что феноменальный объект может существовать и без того, чтобы быть данным, но, наоборот, я выступаю против утверждения, что логически необходимо, чтобы все данное было дано «Я».
16
Как видно из того, как вводятся эти примеры, я считаю «данным» в этом отношении только то, что Штумпф называет «психическими сущностями» в своем академическом трактате «Явления и психические функции» (Берлин, 1906), а не психические «функции» Штумпфа, которые я могу рассматривать только как бессознательные, выводимые условия этих данных сущностей. Тот факт, что я не считаю все психические сущности Штумпфа данными, показывает мою позицию по отношению к общим понятиям. С другой стороны, я полностью согласен с феноменологическим анализом, который практикует Шуман в своих «Вкладах в анализ лицевых восприятий».
17
Мы можем получить это сравнительное отношение к содержаниям, которые следуют одно за другим, так же как и к тем, которые даны одновременно; это сознание единства может охватить два последовательных содержания так же, как и два одновременно данных. В тех случаях, когда мы выносим суждение о том, что нечто, увиденное сейчас, равноценно тому, что было увидено давно, без того, чтобы это нечто, увиденное ранее, представлялось сейчас, более того, возможно, без того, чтобы оно точно запоминалось (ср. Грюнбаум, Абстракция равного, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 12) и A. Brunswig, Das Vergleichen und die Relationserkenntnis, Leipzig 1910), я, конечно, считаю, что суждение обусловлено вторичным впечатлением, ассоциативно связанным с фактом одинаковости в смысле Фридриха Шумана (см. F. Schumann, Beitr?ge zur Analyse der Gesichtswahrnehmungen).
18
Ср. Карл Штумпф, Erscheinungen und psychische Funktionen, и Oswald Kulpe, Die Realisierung, vol. 1.
19
Казимир Твардовский, «Об основании и о смысле слов», Вена, 1894.
20
Это выражение и параллель памяти и ожидания, которую оно подразумевает, я нашел только в Groos, Das Seelenleben des Kindes, третье издание, Берлин 1911; на странице 34 Groos разделяет образы воображения на «образы прошлого, образы будущего и свободные фантазии».
21
Я говорю это вопреки полемике Эдуарда фон Гартмана против феноменализма («Das Grundproblem der Erkenntnistheorie», стр. 57) и против соответствующих замечаний в Volkelt, «Die Quellen der menschlichen Gewi?heit», стр. 45.
22
Здесь я должен возразить Корнелиусу в одном пункте, с которым, кстати, я полностью согласен в отношении доктрины «символической функции образов памяти». Корнелиус связывает неопределенность образов памяти с их общностью (Psychologie als Erfahrungswissenschaft, p. 62f); он допускает, что неопределенность увеличивает число различных объектов, представленных в одном и том же образе памяти. Это не совсем верно. Образ памяти, неопределенный в определенном направлении, представляет соответствующие различные объекты, к которым он относится, только в той мере, в какой они не являются различными, или, строго говоря, он представляет похожие объекты, которые становятся из этих различных объектов, если мы пренебрегаем пунктами, в которых они различны.
23
Суждение о том, что А является «средством» для достижения В, очевидно, означает то же самое, что и: А является «условием» для В, т.е. как общее ожидание того, что после А наступит В.
24
В исследовании, которое на самом деле преследует психологические цели, здесь, конечно, должны быть сделаны различные различия. С точки зрения психологии, существуют различные типы настроя. Существует напряженное ожидание определенных вещей – вспомните, например, поведение испытуемого в тесте психологической реакции – и это ожидание не может (и в большинстве случаев не будет) принимать форму сознательного ожидания и воображения того, что ожидается, а скорее бессознательного ожидания, которое проявляется в сознании только через интенсивное чувство напряжения и случайные вспышки воображения. С другой стороны, существует привычное отношение ко всем видам вещей, которое присутствует в каждый момент нашей психической жизни и которое дает о себе знать в нашем сознании только через механически выполняемые действия. Первый случай характеризуется в то же время тем, что мы настроены с большей исключительностью на определенные вещи, отчего в то же время страдает привычная настроенность на другие вещи (явление рассеянности у выученных и сильно занятых), и тем, что мы все время «знаем», т. е. можем в любой момент указать и сознательно представить себе, на что мы направлены, чего нет во втором случае. Но между этими двумя формами существуют и постепенные переходы; одна может превратиться в другую.
25
То, что мы различаем и другие реальные объекты, помимо вещей, для которых верно то же самое, мне нужно только еще раз отметить здесь.
26
В вышеизложенном я попытался несколько модифицировать понятие серии сходств, введенное Корнелиусом. В двух аспектах. Корнелиус также хочет отождествить каждую оценку данного содержания по отношению к абстрактному частичному содержанию с классификацией всего содержания в серии сходств: синий круг передо мной – синий, то есть он характерно похож на ряд других фигур, которые мы лингвистически называем синими квадратами, прямоугольниками, короче говоря, фигурами «того же цвета» и «другой формы». Круглый, наоборот: он «похож» на красные, желтые, белые и т. д. круги. кругам. Аналогично с точки зрения тона, цвета тона и т. д. У меня есть три возражения против этой идеи: во-первых, она не соответствует данности. Цветная и фигурная поверхность не является абсолютным единством даже для нашего непосредственного восприятия, но содержит эти части в своеобразном и непосредственно переживаемом виде «абстрактных» частей. Во-вторых, теория не учитывает разницу, существующую между такими понятиями, как «цвет» и «тон», с одной стороны, и «карминно-красный» и «охристо-желтый» – с другой. И, наконец, в-третьих, существует ли уже существующее различие между различными группами сходства, к которым, как предполагается, принадлежит одно и то же содержание? Как показывает простой пример, одного факта сходства A с B и C, и тем более сходства B с C, недостаточно для определения группы сходства A-B-C: Пусть A – светло-красный круг, B – светло-зеленый прямоугольник, C – темно-красный прямоугольник – вышеуказанные условия сходства выполняются, но никакая группа сходства ими не очерчивается. Если говорить о различных «отношениях», в которых сходны светло-зеленый и светло-красный, с одной стороны, светло- и темно-красный, красный и зеленый прямоугольники – с другой, что позволяет «группе» сохранять свое единство за счет сходства в «одном и том же отношении», то вновь появилось то, что должно быть объяснено, ибо либо различные «отношения» – это различные объекты, которые сравниваются и обнаруживают сходство, т.е. различные абстрактные частичные моменты – тогда круг сразу же очевиден, либо это различия сходства, и тогда, похоже, качества объектов были прослежены до качеств сходства, которые сами должны быть объяснены таким же образом. Чтобы избежать этих возражений, я сначала отличил концептуальные обобщения сходных объектов (звук, цвет) от обобщений сходных частичных содержаний, а затем ввел понятие относительного сходства, которое должно указать на определенный факт: не взаимное сходство само по себе приводит к концептуальным обобщениям, а только когда оно предстает перед нами как относительное сходство сходных объектов с другими объектами (с которыми они также могут быть сходными в одно и то же время). Здесь немаловажно, что сознание сходства становится сознанием относительного сходства только через сопоставление других содержаний, не принадлежащих к данному ряду сходств, или что, говоря то же самое, сознание относительного сходства предполагает не только сознание сходства, но и сознание различия. Так как светло-красный круг, светло-зеленый прямоугольник и темно-зеленый круг, несмотря на свое сходство, не становятся относительно одинаковыми содержаниями, то их сходство не может служить для определения общего понятия.
27
Виндельбанд, «История новой философии».
28
Сочинения и проповеди господина Экхарта, перевод Бюттнера, т. I, стр. 85
29
Мейстер Экхарт, там же, стр. 200
30
Мейстер Экхарт ibid. стр. 202. Ср. также Н. Cusanus, De docta ignorantia. «Ибо Бог, абсолютное величайшее, не есть это и не другое, он не есть там и не там, но как все, так и ничто из всего». Ср. также «Тождество бытия и небытия» Гегеля, лог. 77 – 108
31
Мейстер Экхарт там же, стр. 202, ср. стр. 199
32
Мейстер Экхарт там же, «Единство», стр. 199 – 200
33
Мейстер Экхарт там же, стр. 34
34
Фихте, например, определяет понятие Абсолюта в третьей «Wissenschaftslehre» 1801 года совершенно в смысле Плотина, как нечто стоящее над мышлением и бытием. «Абсолютное не есть ни знание, ни бытие, ни тождество, ни безразличие того и другого, но только и исключительно абсолютное», и аргументация остается той же, что и у Плотина: ни знание, ни бытие не могут быть названы строго абсолютными, поскольку они предполагают друг друга и, таким образом, содержат в себе внутреннее разделение.
35
«Эннеады» Плотина, Enn. V. 9, 8
36
Плотин там же, Энн. V 9,8
37
Плотин ibid Enn. V 5,2
38
Плотин ibid Enn. V 5,2
39
Эренст Кассирер, Проблема познания, т. I, с. 375 – 433
40
Кант, Критика чистого разума, стр. 341
Валерий Алексеевич Антонов
Анализ отношений между субъектом и объектом в философии обретает особую значимость. Он помогает нам осознать, как мы, в свою очередь, формируем значения, укорененные в контексте времени и места, тем самым расширяя наше понимание не только себя, но и окружающего мира.
Германия: философия XIX – начала XX вв.
Том 4. Вещь, объект
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-7819-0 (т. 4)
ISBN 978-5-0064-7775-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Данное собрание из 7 томов включает следующие тома: 1 том «Причинность и детерминизм», 2 том «Скептицизм и пессимизм», 3 том «Идентичность», 4 том «Вещь, объект», 5 том «Номинализм», 6 том «Иррациональность», 7 том «Материализм».
Фриц Маутнер (1849 – 1923)
Предмет
Gegenstand – очевидно, не совсем удачный заимствованный перевод старого философского термина Objekt. Сегодня, после более чем 150-летней жизни, это слово все еще имеет тревожные нотки для очень чувствительных ушей, как в языке искусства, так и в обыденном языке. Я попытаюсь доказать это на двух крайних примерах.
В философском языке, как указывает немецкий словарь, мы в последнее время снова склонны уточнять «предмет» через понятие «объект» или, возможно, просто говорить «объект». В поэтическом языке, несмотря на Гёте и Шиллера, употребление этого слова не совсем соответствует природе немецкого языка. Мое ухо воспринимает «предмет» как предкантианское, как и Готтшед страстно относился к этому слову. В печально известных строках Фридерики Кемпнер: «справа в конце, слева в конце
одни весенние предметы.»
Слово «Gegenstand» выглядит особенно комично.
Эта едва уловимая странность слова вряд ли может быть порождена лингвистической интуицией, которая когда-то (еще при А?делунге) различала этимологию и противилась тому, чтобы называть «термином» любой объект реального мира. Это слово стало для нас вполне привычным. Правда, как мне кажется, только в двух значениях: во-первых, в академическом языке для обозначения объекта внимания (предмета доклада), а во-вторых, в самом широком смысле для обозначения предмета, вещи, материи, но на самом деле только материи, исключая органические вещи. Мы никогда не называем фиалку объектом.
История этого слова начинается с технического использования греческого термина [hypokeimenon – wp]. Интересно, что раньше оно означало то же самое, что и наш «объект» сейчас: предмет, представленный для тщательного изучения, предмет исследования, argumentum. Аристотель часто использовал его в смысле того, что лежит под ним.
В Средние века латинский заимствованный перевод греческого слова был subjectum. Древние латиняне понимали subjectum, помимо первоначального значения прилагательного subjectus (которое является источником французского слова sujet; subject, переводится как подчиненный, заимствованный перевод), прежде всего как грамматический термин. Августин прямо заявляет, что в его время латинские заимствования из греческого языка были иногда менее распространены, чем сами греческие слова. Споры велись по поводу латинских заимствований, но не по поводу греческих оригиналов; точно так же мы считаем, что сегодня можем прояснить понятия, используя этот термин объективно.
В самом греческом языке слова [ousia – wp] и [hypokeimenon – wp] были концептуально очень близки. Первое переводилось как essentia, второе вскоре как subjectum, а вскоре (кем впервые?) как substantia Августин почувствовал разницу и хотел, чтобы Бог назывался только сущностью, а не субстанцией, по тонким причинам его лингвистического чувства.
Итак, вы видите, что средневековое использование языка называло субъективным практически то же самое, что мы сейчас называем предметным. Как это часто бывает, особенно у Аристотеля, метафизика явно находилась под влиянием грамматики. Субъективным было то, что принадлежало субъекту; субъект иногда обозначал то, о чем что-то предицировалось, то есть очень часто конкретный предмет, иногда сущность предмета, или объективным, согласно психологии того времени и латинской формулировке, называлось то, что было вызвано в представлениях их воображателем, то, что мы сейчас называем субъективным. Только на рубеже семнадцатого века эти два термина стали постепенно взаимозаменяться, причем именно в Германии. Предметное и реальное стали почти синонимами. А в языке Канта схоластический subjectum уже настолько полностью утрачен, что он не использует его там, где он был бы уникален. Мир стал предметным. Но под этим предметным миром предметов скрывается нечто иное, именно субъект. И это то, что Кант называет вещью-в-себе, предметом в себе. Если бы Канту удалось сохранить старые схоластические выражения, назвать свою вещь-в-себе предметом-в-себе, великий человек был бы избавлен от самой глубокой ошибки своей системы, а именно от того, что именно человеческий разум вызывает то, что вызывает все человеческие идеи: распространение понятия причинности на вещь-в-себе. Вернее: тогда Кант рисковал бы впасть в гениальное следствие своего ученика Фихте.
Чередование двух терминов – субъективного и объективного – также может привести к трудностям с изобретением хорошего немецкого слова для обозначения вещи. В старых заимствованных переводах перед словом subjectum стоит subject, в новых – object. Objekt буквально передается с помощью Gegenwurf или Widerwurf (Экхарт), subject – Unterwurf. Кроме того, у Экхарта для обозначения субстанций уже используются стоящие или само стоящие существа. Из всех этих попыток перевода заимствований до наших дней сохранилась только одна, наполовину устаревшая: упрек.
Мы все еще понимаем, когда читаем упрек у Лессинга или Шиллера, в смысле предмета, предмета трактата, описания. Однако упрек, который на протяжении веков был очень распространенным словом в языке мистиков и теологов, стал совершенно непонятным для сегодняшнего обыденного языка. Настолько непонятным, что его легко понять неправильно там, где оно встречается у старых авторов (вплоть до Гагедорна).
Слово действительно вышло из употребления как раз в то время, когда в Германии стали заменять термины «субъективный» и «предметный». Постепенно оно было воспринято, опять же в случае заученной народной этимологии, как перевод возражения (вместо objet), [antikeimenon – wp] вместо [hypokeimenon – wp], и поскольку слова Einwurf или Widerspruch уже были доступны, слово Gegenwurf должно было умереть.
В переходный период произошло изменение значения слова предмет, а не новое создание слова. С XVI века оно использовалось в значении сопротивления или оппозиции. Так было с Галлером, который в конце жизни превратил предмет тщательности и добродетели в оппозицию. Object также было очень хорошо сказано в смысле астрономической оппозиции. Но это слово, как Gegenschein и Widerschein, тоже умерло бы, если бы его не воскресил Христиан Вольфф, использовавший его для обозначения предмета в школьном языке.
Я не могу доказать это на основании источников, но, должно быть, когда-то предмет был механическим заимствованным переводом слова obstantia. Obstantia, должно быть, когда-то было более распространенным школьным выражением, в котором значения substantia, субъекта и предмета примерно сливались. В том смысле, в котором obstantia обозначалась предметом, сегодня нам понятнее было бы сказать «противодействие».
Таким образом, Gegenstand стал техническим выражением эпистемологии, перешел через популярные писания в общий язык и стал лишним и до сих пор ложно звучащим синонимом Ding или Sache. Заимствованный перевод Gegenstand впервые зафиксирован Штилером (1691), слово, вероятно, образовалось в «Фруктовом обществе»; но даже Томазий неохотно его признает.
В немецком просторечии слова Ding и Sache стали гораздо более живыми и плодотворными, чем Gegenstand. Такие фразы, как ein liebes Ding (для девочек), Dinger (с измененным множественным числом) для пустяков или mach keine Sachen, не развились из Gegenstand. Тем не менее, можно предположить, что и Ding, и Sache приобрели свое нынешнее значение в результате сознательного или бессознательного перевода заимствований.
В основе лежит среднелатинское causa (причина и выбор). В случае с Ding это употребление должно восходить к очень древним временам; Грим принимает за оригинал юридическое значение litigium. В Sache старое значение Rechtshandel (lis) еще более очевидно, даже если оставить в стороне сомнительную этимологию. (Любопытно, что chose, как и Gegenstand (согласно Литтре), также обозначает только tout ce qui est inanimе [все неодушевленное – wp].
Если мы перейдем к современному употреблению этих терминов, то последний вопрос эпистемологии снова можно поставить в кажущейся схоластической форме (самые глубокие спекуляции часто обвиняются обывателями в схоластике): являются ли предметы, производимые нами, субъектами? (На самом деле верно только в единственном числе: мной, единственным субъектом.) Или мы, субъекты, производим предметы?
Только лингвистическая критика видит игру этой антиномии. Только лингвистическая критика воспринимает наши чувства как случайные чувства и видит абсолютную необходимость, с которой предметы принуждают нас к нашим представлениям о них, как историческую необходимость, то есть, как и вся история, как случайность. Если мы путаем эту предметную необходимость с предметной закономерностью, то впадаем в наивный реализм Бютхнера и Геккеля. Если мы подозреваем немыслимость предметов и считаем наши бедные пять чувств прекрасными инструментами прекрасного разума, мы становимся жертвой теологического или, в конечном счете, спиритуалистического реализма скептического идеалиста Беркли. Он говорит: «Идеи, запечатленные в чувствах автором природы, называются реальными вещами». [Идеи, запечатленные в чувствах автором природы, называются реальными вещами – wp].
Лингвист Штейнталь и физик Лихтенберг, остроумно критиковавший язык, ближе всех подошли к лингвистическому порядку, чтобы не сказать – решению, этой антиномии. Штейнталь однажды сказал: «Понимание предмета, взгляд на вещь – это схожие по смыслу словесные отношения с написанием письма, строительством дома. Я бы счел, что копать яму, строить дом, играть в игру – это еще лучшие примеры. Сравните с тем, что я говорил (Kr. d. Spr. III 59f) о нереальности глаголов труда. Здесь мы снова имеем интенциональный предмет схоластов, интенцию, которая впервые объединяет бесчисленные различия действия в зависимости от направления внимания на предмет (существительное) или на деятельность субъекта (глагол).
Вечно тавтологический язык охотно формирует такие предложения: я рою яму, я вижу цвет, а Лихтенберг уже осветил эту бездну своими молниеносными высказываниями.
«Познавать внешние предметы – это противоречие; человек не может выйти за пределы самого себя… Не странно ли, что человеку совершенно необходимо иметь что-то дважды, когда ему достаточно одной вещи и обязательно должно быть достаточно, потому что нет моста от наших идей к причинам?»
Критику языка не нужно идти дальше. Именно язык делит мир на наблюдателя и его предмет: на вещи в себе и для себя и на вещи для меня. Но мир не существует дважды. Мир существует только один раз. Я ничто, если я не предмет. Но у меня нет предмета. предмет – ничто, если он не во мне. предмет не находится вне меня. предмет, казалось бы, самая осязаемая вещь в мире, по праву является заимствованным переводом сложного философского понятия: предмет неосязаем, предмет субъективен.
Однако я с очень уютной улыбкой обнаруживаю, что использование языка за последние 100 лет – разумеется, не подозревая об этом – предвосхитило лингвокритическую отставку этого понятия предмета. Для сущности, предметивно противостоящей исследующему субъекту, для актуального или сущностного, искали ответ, пока он не был беспомощно найден в слове вопрос. Сегодня Шиллер наверняка сказал бы: вместо человечества великих предметов – человечество великих вопросов (дважды в прологе к «Валленштейну»). Шлегель должен был бы перевести фразу «Быть по-настоящему великим – значит не шевелиться без великих аргументов» сегодня как «шевелиться только тогда, когда возникает великий вопрос».
И немецкий словарь уже признает это значение слова «вопрос». В IV томе (все еще под редакцией Дж. Гримма и Гильдебрандт), цитируя знаменитое «Вот в чем вопрос», говорится: «Frage, das, worauf es ankommt», существенное; и, кроме того, в таких соединениях, как Lebensfrage и т.д.: о предметах, которые занимают общее внимание. В конце этого трудного пути мы, как часто бывает, находим вопрос вместо ответа. Здесь вместо определения предмета мы даже находим слово «вопрос».
LITERATUR – Fritz Mauthner, W?rterbuch der Philosophie, M?nchen/Leipzig 1910/11.
Эрнст фон Астер (1880 – 1948)
Сын офицера учился в Асканийской гимназии в Берлине. Затем он учился в Университете Фридриха Вильгельма там же и в Мюнхене, где его научным учителем был Теодор Липпс. В 1920 году он был назначен на кафедру в Гиссенском университете. Это назначение заранее встретило сильное сопротивление, поскольку Астер был членом СДПГ и публично выступал как пацифист. На заключительном этапе Первой мировой войны он выступал за мир во имя взаимопонимания. Астер также входил в совет Немецкой лиги прав человека. В 1933 году он был уволен по политическим причинам и отправился в изгнание в Швецию. В 1936 году он переехал в Турцию, где получил преподавательскую работу в Стамбуле и Анкаре. Был женат на поэтессе Хильдур Дикселиус (1879—1969).
Труды, лекции и беседы Астера были очень популярны в то время. Он объединял аспекты истории философии с аспектами интеллектуальной истории и добивался большой глубины, ясности и живости изложения. К числу самостоятельных философских работ относятся «Принципы теории познания» (1913), в которых он попытался восстановить номинализм, и «Философия природы» (1932). Он также писал описания Карла Маркса и психоанализа.
Астер известен своей «Историей философии». Эта ставшая классической работа впервые вышла в свет в 1932 году (Alfred Kr?ner Verlag) и была опубликована в 1998 году в восемнадцатом издании, дополненном Эккехардом Мартенсом.
Принципы эпистемологии
Предисловие
В последние годы все большее распространение получает лингвистический прием, согласно которому современные эпистемологические школы делятся на два больших враждебных лагеря: с одной стороны, лагерь «позитивистов», «феноменалистов», «номиналистов», «релятивистов» и «психологов»; с другой – представителей антипсихологического «реализма», поставивших перед собой задачу обосновать или защитить идею абсолютного знания о реальности от любой релятивизации понятия истины и реальности, от любой феноменалистическо-психологической реинтерпретации этих понятий, которая в конечном итоге должна привести к скептицизму.
Тот, кто рассматривает или классифицирует эту книгу с этой точки зрения, скорее всего, отнесет ее к первой категории.
Не следует забывать, однако, что эта классификация была создана противниками всех тенденций, упомянутых в первую очередь, – феноменализма, позитивизма и т. д., и что она служит полемическим целям. Термин «психологизм» на самом деле является попыткой свести к абсурду теорию, обозначенную как релятивистская; таким образом, приведенная выше компиляция уже сделана в отношении предполагаемой общей ошибки всех этих тенденций.
Я бы принял термин «феноменализм» – если перефразировать понятие феномена так, как я перефразировал его в заключительном разделе первой главы, и если ограничить старый постулат феноменализма, что нет выхода за пределы «данного в опыте», в смысле моей второй главы. Я надеюсь, что в этой второй главе рассматриваются фундаментальные критические замечания, которые могут быть сделаны против феноменализма как такового, в частности, критика, которая совсем недавно была сделана самым тщательным и всеобъемлющим образом Освальдом Кюльпе в его книге «Die Realisierung» (том 1).
Что касается «психологизма», то я должен был бы отвергнуть этот термин как совершенно неуместный, поскольку «непосредственно данные явления», из которых я считаю нужным исходить, не могут быть, по моему мнению, названы психическими, или, что то же самое, психология не является для меня наукой о данном как таковом (о «непосредственном опыте»), и не ставит перед собой задачу (в смысле наторпа) реконструировать данное или «данное», как оно видится с достигнутого уровня объективации, но скорее ищет и конструирует закономерную связь из данного – тем же способом и по тем же принципам, что и естествознание. С другой стороны, существенная часть моей эпистемологии основывается на идее, что мы можем получить информацию о значении наших понятий, о том, что мы подразумеваем под определенными понятиями и суждениями, которые предполагаются повсеместно в науке, только путем отвлечения, которое противная сторона, вероятно, охарактеризует как «психологическое». Я имею в виду, в частности, «феноменологию» Эдмунда Гуссерля. Слово «феноменология», первоначально употреблявшееся и самим Гуссерлем, обозначает чистое описание фактов познания, которое должно предшествовать всем теориям познания для других точек зрения, особенно для психологизма и феноменализма, стало названием особого метода эпистемологии. Вся эпистемология, как мы можем охарактеризовать значение этого метода, должна сначала прояснить смысл наших понятий, прежде чем она сможет с ними работать. Это прояснение может произойти только при попытке постичь сам этот смысл и постичь его как можно чище, довести его до самоданности, чтобы затем чисто описать его. Все остальные пути – это обходные пути, которые дают нам информацию не о смысле самих суждений, а в лучшем случае о его происхождении, тем самым предполагая его объективность.
Я попытался выразить контраст, в котором я нахожусь с этим феноменологическим методом эпистемологии, описав свою теорию знания как «номиналистическую». Это означает, что я не считаю феноменологическое описание содержания наших понятий возможным путем простого погружения в это содержание и что поэтому я не могу считать результаты феноменологии Гуссерля очевидными результатами чистого и беспристрастного описания. Погружение в смысл знака – а он есть, и есть проявление этого смысла из данной ситуации – никогда не приводит, согласно природе вещей, к реальному постижению самого этого смысла, оно не выводит из сферы знакового значения в сферу интуитивного постижения означаемого, поскольку слово в осмысленной речи и слухе не обозначает смысл, а замещает его. Нет необходимости подчеркивать, что тем самым определения Гуссерля не представляются ложными или бесполезными: вопрос лишь в том, являются ли они конечным основанием эпистемологии.
Позвольте мне сделать здесь общее замечание. На мой взгляд, ценность эпистемологического исследования, восходящего к принципам, заключается не в отдельных утверждениях, а в ясности и последовательности метода. Исходя из этого, я взял за правило как можно резче прорабатывать контрасты, которые, как мне казалось, я распознал. Я бы предпочел совершить ошибку, слишком резко подчеркнув контраст, чем затушевать его, используя схожие выражения. В то же время я считаю, что такая процедура лучше всего способствует взаимопониманию в современной эпистемологии, при условии, что под пониманием понимается реальное проникновение в причину различий во взглядах, а не случайное согласие с максимально возможным количеством отдельных утверждений.
Однако главной задачей этой книги была не историческая – история эпистемологии, особенно современной, это задача, к которой я надеюсь подойти более внимательно позже, – а систематическая, обоснование той или иной теории. По этой причине иностранные взгляды в явном виде учитывались лишь в той мере, в какой полемика с ними и ссылки на иностранных авторов служили пониманию утверждения или были необходимы для его защиты.
В частности, я воздерживался от ссылок, характеристики и критики всех смежных точек зрения. В своих взглядах я чувствую себя наиболее близким к эпистемологии Ганса Корнелиуса, которого я поэтому неоднократно цитировал. Эта связь не является внешним совпадением; теория познания Корнелиуса всегда казалась мне наиболее безупречной и последовательной формулировкой «феноменализма»; некоторые моменты, в которых она казалась мне неудовлетворительной и сомнительной, послужили первым поводом для написания данной работы. Поэтому я считаю, что могу претендовать на определенную независимость последней, тем более что у меня есть основания полагать, что сам Корнелиус отнюдь не полностью согласен с основными принципами, которые развиваются в нижеследующем. Война – отец всех бед и, конечно, отец истины.
Само собой разумеется, что на меня не только вдохновляли, но и влияли многие другие источники. Я чувствую себя вынужденным прямо упомянуть только об одном: Хотя я отчасти далеко отошел от направления, в котором развивалась теория познания Липпа, я считаю себя учеником Теодора Липпа во многих важных аспектах. —
Столь же мало, как и историческое изложение, методология отдельных наук как таковая была самоцелью моей работы. Методы отдельных наук принимались во внимание лишь в той мере, в какой это было необходимо для доказательства того, что природа и цель знания в донаучном и научном мышлении одинаковы и ведут к одному и тому же типу концептуализации.
Я не могу с уверенностью сказать, насколько справедливо я поступил по отношению к существующей литературе; в этом отношении ни один философский автор не отложит свою книгу с чистой совестью. Насколько то, чего я хотел, достигло безошибочного выражения, должен показать успех. То, что мотивом, побудившим меня написать эту книгу, было лишь стремление достичь внутренней ясности в отношении рассматриваемых проблем, я, как мне кажется, могу утверждать.
Первая глава. Феноменологическое основание
1. Понятие данного
Природу эпистемологии принято определять, приписывая ей двойную задачу – «прояснить» основные понятия и принципы нашего знания, т.е. зафиксировать их содержание определенным и недвусмысленным образом, и «обосновать» или легитимировать их, т.е. доказать наше право использовать именно эти понятия и принципы для построения системы знания. То, что эти две задачи, которые мы можем свести к вопросу о логическом происхождении наших понятий и принципов, тесно связаны между собой, что, в частности, исследование и четкое определение смысла должно предшествовать легитимации и обоснованию, не нуждается в подробном обсуждении.
Эпистемология – философская дисциплина, то есть, как и все философские науки, она возникает из необходимости найти окончательное и абсолютно удовлетворительное решение проблем отдельных наук. Каждая отдельная наука также определяет понятия и устанавливает теоремы, но при этом она предполагает другие теоремы и другие понятия, рассмотрение которых тем более не может входить в рамки данной отдельной науки, поскольку они, как правило, являются общими для всех отдельных наук – вспомните, например, закон причинности. Поэтому рассмотрение этих основных понятий и положений относится к области отдельной науки, которая предшествует отдельным наукам не по времени, а по логике, а именно эпистемологии[1 - Я не могу считать правильным рассматривать обоснование принципов, как этого иногда требует Гуссерль, как задачу метафизики. Определение метафизики как философской дисциплины будет наиболее простым, если поставить перед ней задачу полного удовлетворения поиска знания путем получения единой теории, охватывающей мир в целом. Однако дополнение отдельных наук, заключающееся в этом, достигается не путем анализа и разработки их общих предпосылок, а путем установления общих отношений между ними и идеального дополнения их результатов для формирования единой науки, объектом которой является уже не какая-то часть мира, а мир в целом. Эпистемология логически предшествует отдельным наукам, метафизика следует за ними. Однако с точки зрения времени эти отношения, как известно, обратные.].
В только что приведенной формулировке задачи уже содержится понятие, которое, очевидно, само требует определенного «прояснения». Это понятие концепта. Что мы понимаем под понятием и что означает вопрос о содержании понятия, которое мы должны определить? Не желая давать исчерпывающий ответ на вопрос о природе понятия, я ограничусь несколькими определениями в связи с этим очевидным вопросом, которые, как я могу предположить, являются достаточно общими, чтобы обеспечить признаваемую всеми отправную точку.
Концепты, с которыми работает наука, изначально предстают перед нами в виде определенных значимых величин. Вопрос о том, что содержит то или иное понятие, например, понятие «субстанция», является, таким образом, синонимом другого вопроса – о том, что означает, выражает, говорит данное слово «субстанция». Таким образом, мы возвращаемся от вопроса: что значит определить или прояснить содержание понятия к другому вопросу: что значит определить или прояснить значение слова?
Слово – это прежде всего определенный звук. Но не просто звук, к звуку должно добавиться что-то еще, чтобы он стал словом, языковым знаком: «смысл», который он «имеет», «значение», которое ему «принадлежит», «объект», который он «обозначает», «называет» или «означает». Я не использую здесь эти выражения беспорядочно или в каком-то другом смысле, я использую их только для того, чтобы подчеркнуть то общее, о чем они говорят, а именно: для того чтобы звук стал словом, между ним и чем-то вне его должно существовать определенное отношение, которое мы, возможно, наиболее кратко обозначим, назвав слово символом этого другого. В силу этого отношения со словом связано определенное «знание» о смысле или объекте, который ему приписывается, – знание, которое мы также называем пониманием слова. Однако в природе конкретного звука не заложено, что он имеет конкретное значение; скорее, конкретное значение должно быть сначала придано ему с помощью конвенции, произвольного определения и так далее. Именно поэтому мы должны сначала задавать вопрос о значении каждого слова, которое мы еще не знаем и не узнаем, а также всегда иметь возможность ответить на этот вопрос для каждого слова, которое мы говорим другому. Но даже если мы полностью игнорируем коммуникативную функцию слова, если мы берем слово, известное нам в его значении, если мы используем это слово в уединенной мысли, то возникает необходимость прийти, так сказать, к взаимопониманию с самим собой относительно его значения, определить его для себя ясно и определенно, то есть спросить себя, что мы имеем в виду своими собственными словами. Ответить на этот вопрос, очевидно, может означать не что иное, как: определить то, что составляет значение слова независимо от этого слова, или обратить на это наше внимание в иной форме, чем понимание этого слова. Тот факт, что даже в одиночном мышлении, даже с известными нам словами, мы испытываем эту потребность, потребность сделать значение наших слов «ясным» для себя, является замечательным фактом, который показывает нам, что «знание» в форме понимания слова – знаковое знание, по выражению Гуссерля, – никогда не может быть для нас окончательным знанием, в котором мы можем окончательно увериться. —
Поэтому вместо задачи прояснения содержания наших понятий мы можем говорить о задаче четкого определения значения слов, которые мы используем. В любом случае, давайте сначала дадим задаче такую формулировку.
Я также называю определение значения слова его «дефиницией». Можно возразить, что такое употребление слова «определение» не вполне соответствует философскому определению дефиниции, согласно которому определение сущности вещи не обязательно должно определять значение слова. Я вернусь к философскому понятию определения позже; сейчас же я ограничусь указанием на то, что мы в любом случае можем с полным правом сказать, что математик определяет введенный им символ i = ?-1 или что физик определяет силу, заявляя, что он хочет понимать под силой произведение m ? v. В том же смысле, в каком физик и математик определяют введенные ими новые языковые выражения, эпистемология должна определять слова, то есть наполнять их фиксированным и определенным значением, которые предполагаются «известными» как в науке, так и в языке обычной жизни.
На вопрос о значении слова обычно отвечают, заменяя его другим словом – вспомните перевод слова на иностранный язык – или перефразируя его с помощью ряда слов. Но это, очевидно, только откладывает вопрос; мы вынуждены спрашивать о значении тех других слов, которые предполагаются известными в определении. Если мы не хотим рисковать бесконечным регрессом или очевидным кругом, мы должны в конце концов обратиться к случаю, в котором мы узнаем факт, обозначаемый определяемым словом, уже не только через языковое обозначение, на пути понимания слова, но и без него, непосредственно, в том смысле, что мы уже не заменяем определяемое слово другим словом, но чем-то, что больше не является словом. Каждый знает, как это происходит. Друг рассказывает мне о растении в своем саду, называя его латинским именем. Я спрашиваю его о значении термина, который мне непонятен, и он подводит меня к растению, чтобы ответить: «Это – значит: то, что ты видишь здесь, – это xx». Он обращает мое внимание на факт моего восприятия.
Любое восприятие делает нас знакомыми с чем-то, непосредственно знакомыми, без вмешательства слова, о значении которого нам пришлось бы спрашивать дальше. Любое зрение, слух и т. д. – это непосредственное знакомство, осознание чего-то. Поэтому, ссылаясь на восприятие, мы можем также окончательно и удовлетворительно ответить на вопрос о значении слова, не впадая в вышеупомянутый круг или обращение к нему. Если я знаю, как в приведенном примере, что слово, о котором идет речь, есть название данного объекта, данного мне в восприятии, то значение этого слова известно мне настолько, что дальнейший вопрос в этом направлении становится ненужным. Я привел «сенсорное» восприятие лишь в качестве примера такого прямого познания. Другой пример показывает нам, что это не единственная форма: Хеншен, герой известной сказки, хочет узнать, что такое ужас, и узнает это, испытав его на себе с помощью своей жены. Переживая чувство, это чувство становится известным нам в своем своеобразии так же непосредственно, как и воспринимаемое содержание в сенсорном восприятии.
Все, что становится нам известным таким образом, мы описываем в той мере, в какой оно нам известно, как нечто непосредственно данное. Всякое окончательное определение слова может, таким образом, состояться только в том, чтобы сделать значение слова данным. В той мере, в какой это определение осуществляется с целью передать значение слова другим, оно, конечно, сталкивается с определенными трудностями: я никогда не знаю с уверенностью, действительно ли другой человек, которому я указываю на факт, воспринимает то же самое, что и я; более того, я не знаю, в какой степени он действительно имеет в виду тот же самый момент в целом, на который я обращаю его внимание и который, возможно, содержит ряд абстрактных и конкретных частей, которые я хочу заставить его осознать. Но эти трудности могут служить именно для того, чтобы подтвердить, что только таким образом можно дать реальный ответ на вопрос о значении слова. Мы предполагаем, что дальтоник не имеет того количества цветовых впечатлений, которое имеет человек с нормальным зрением – следствием этого является то, что дальтоник никогда не сможет связать понятный смысл с названиями цветов, о которых идет речь, что они остаются для него пустыми словами.
Таким образом, сделать значение используемого нами слова понятным другому человеку можно лишь в той мере, в какой мы должны предположить, что этот человек при тех же условиях постигает те же факты в непосредственной реальности. Насколько эта предпосылка верна, решить в принципе невозможно; мы можем оставить этот вопрос и дальнейший вопрос о правильности этой предпосылки в стороне на данном этапе с тем большим основанием, что, как известно, важнейшая задача определения состоит изначально не в том, чтобы договориться с другими, а с самим собой о значении слова, прояснить его для собственного сознания. Разумеется, только когда мы задаемся вопросом о том, насколько то, что мы определили как значение слова, является этим значением и в языковом употреблении, снова вступает в игру отношение к другим.
2. Возражения Наторпа и Риккерта против концепции данности
Понятие «данности», особенно применение этого понятия к фактам восприятия, то тут, то там встречает противоречие и неприятие, как мне кажется, из-за недоразумений. Когда мы открываем глаза, то, что мы там видим, становится для нас косвенно «известным», в определенном смысле полностью и окончательно известным. Мы можем лучше всего понять, что это значит, если вспомним контраст между данностью и «значением». Как только мы узнаем о чем-то только через символ, через переданное нам слово, на котором основывается «понимание», после визуализации того, что «только» представлено словом, должен возникнуть вопрос о том, «что» здесь имеется в виду. С объектом, который существует для нас в манере восприятия, именно в той мере, в какой это так, этот вопрос больше не нужно задавать, он становится бессмысленным.
Поэтому можно по-прежнему спрашивать, «чем» является данная вещь по своей сути. Но этот вопрос идет в другом направлении, он идет к научному познанию, определению, суждению о том, что стало известно нам в восприятии. Если мы постигли факт в восприятии, то мы еще не постигли его научно, еще ничего не сравнили, не установили его отношения к другим вещам, не подвели его под законы. Не сказано также, в какой мере попытка определить его таким образом будет успешной, в какой мере, например, мы придем к суждениям, которые таким образом можно согласовать без противоречий. Возможно, Наторп прав, когда, ссылаясь конкретно на закон Вебера, заявляет о невозможности определить то, что воспринимается как таковое, то есть судить об этом без противоречий. Но это не влияет на понятие «данного», как мы его здесь используем. Конечно, данное можно назвать «данным», то есть таким, научное определение которого является задачей, но это не превращает данное, в той мере, в какой оно еще не определено научно, в неизвестное X. Напротив: только научно определенное может быть данным. Напротив: научно определенным может быть только то, что нам известно – как я могу сравнивать и судить о том, чего я еще не познал ни в какой форме? Поэтому всякое научное познание и суждение предполагает другой вид «познания» – непосредственно известное, непосредственно данное. Эту данность также нельзя понимать, как, по-видимому, полагает Наторп, как результат предшествующего процесса познания, который был бы того же рода, что и научное познание, которое продолжается сейчас, так что ничего не остается, кроме процесса определения и его внутреннего закона, который прогрессирует в бесконечность: ведь и в этом случае мы сталкиваемся с внутренним абсурдом, что сравнение и суждение имеют место и что то, что сравнивается и судится, т. е. логический приус суждения, возникает только из суждения. Несколько иной контраст с нашим использованием понятия данности возникает, когда мы называем саму данность «категорией». Это, очевидно, означает, что, когда мы говорим о «данном» факте в целом, ему уже должна предшествовать ментальная формация. Отсюда, по-видимому, можно сделать вывод, что ментальные формы, категории в целом, не могут быть прослежены до «данного», а скорее должны логически предшествовать всему данному. На это мы должны были бы ответить, что все «категории» также изначально существуют для нас в виде значимых слов – значимых слов, по отношению к которым возникает необходимость в номинальном определении. Однако я не знаю другого определения, которое было бы действительно окончательным, чем то, которое основано на ссылке на «данность». Разумеется, понятие данности не предполагается неопределенным; то, что означает «данное», должно быть также прояснено путем отсылки к данному – и приведенные выше примеры служат этой цели.
Следует прямо подчеркнуть, что, конечно, предыдущими объяснениями еще ничего не решено относительно того, состоит ли все данное из данных отдельных (сенсорных или эмоциональных) фактов или же мы вправе, как это делает, например, Гуссерль, говорить о непосредственной данности существования категориальных форм, «категориальных данностей». Это феноменологический вопрос факта, к которому мы вернемся позже.
Наконец, вопрос о том, насколько то, что мы знаем как данное, возможно, возникло генетически из чего-то другого, возможно, еще не присутствовало на более низкой стадии развития, конечно, эпистемологически совершенно неважен. С точки зрения эпистемологии мы должны будем лишь требовать, чтобы мы могли каким-то образом сделать элементарные сущности, из которых якобы возникло то, что нам дано, данностью. Если этого нет, то все разговоры об этом остаются работой с неопределимыми, пустыми словами. Генетическая психология прежних времен, считавшая, что может построить развитие психологического в связи с развитием физиологического, содержит множество таких пустых понятий. —
Мы можем запоминать, сравнивать и оценивать то, что нам сразу дается, и, наконец, мы можем это назвать. И это возвращает нас к исходной точке, к определению слов по отношению к фактам.
3. Наименование данного содержания
Однако определение слова через ссылку на данный факт требует более точного определения.
Прежде всего, ясно, что эта ссылка действительно отвечает на вопрос о значении слова окончательно только в том случае, если данный факт полностью воплощает это значение, если слово ни в каком направлении не говорит больше, чем нам здесь дано. Если, например, кто-то протягивает мне кусок мрамора с замечанием, что это каррарский мрамор, то без лишних слов ясно, что это обозначение уже содержит оценку данного, которая охватывает больше, чем само данное позволяет мне распознать, – происхождение камня мне никак не дано. Я никогда не смог бы вывести значение слова «каррарский» мрамор из того, что дает мне здесь восприятие, если бы не знал его заранее.
Давайте будем еще более точными. Если мы применяем слово к данному факту, используем его для его описания, то между словом и фактом все равно может существовать множественная, по крайней мере троекратная связь, даже если применение происходит в одной и той же языковой форме во всех случаях.
Я говорю о цвете, что вижу, что он синий, и хочу сказать, что он подпадает под понятие «синий цвет». Я слышу звук качения и описываю его как качение железнодорожного поезда. Наконец, я вижу вдалеке гору и называю ее Вендельштайном. Лингвистически мы можем использовать одну и ту же форму во всех трех случаях: «это» – синий цвет, движущийся железнодорожный состав – Вендельштайн. В первом случае увиденное или услышанное относится к роду, обозначаемому словом «синий», во втором – признается принадлежащим к предмету «движущийся железнодорожный состав», в третьем – ему приписывается имя «Вендельштейн». Отсюда также очевидно, что первые два случая относятся друг к другу по отношению к третьему, поскольку в них данный факт относится не собственно к данному слову, а к предмету, обозначаемому этим словом, вообще говоря: к смыслу слова, предполагаемому известным и определенным. В последнем случае дело обстоит иначе, если понимать его так, как оно понималось здесь: как отнесение слова к данному факту в качестве его названия или имени собственного (обозначение того, что видится как спиральный камень, на самом деле содержит больше, чем просто обозначение, в этом отношении пример не совсем корректен; но здесь мы можем обойтись без этого). Здесь фактически устанавливается связь между словом и данным фактом, точнее, смысл слова отождествляется с данным фактом, смысл замещается данным фактом. Это как раз и есть утверждение, что данное слово есть имя собственное и не что иное, как имя собственное данного факта. Если при создании слова оно имело другое значение, то оно, так сказать, аннулируется этим присвоением, точно так же как прежнее значение имени собственного фактически уходит в небытие, чем дольше оно используется в этой функции имени.
Отсюда следует, что ни один из первых двух случаев, но, конечно, последний, не может служить для определения данного слова, ибо здесь и только здесь смысл слова не остается чем-то вне данного факта, который только вступает в отношение к последнему, но полностью воплощается в нем (при условии, что слово действительно должно быть именем данного факта). Поэтому мы можем сказать: если мы хотим определить слово через отсылку к данному факту, мы должны сделать этот факт данностью, которой мы можем присвоить слово как имя собственное. Если это удается в конкретном случае, то вопрос о значении слова во всех возможных смыслах решен; это значение настолько четко зафиксировано, что дальнейший вопрос становится ненужным.
Если мы применим это, например, к слову «синий», то это означает, что для того, чтобы действительно наполнить такое слово смыслом в заданном смысле, мы должны сделать «синий», «синий цвет», то есть общее качество цвета, носящее название «синий», данностью. Гуссерль, который в наше время наиболее последовательно отстаивал идею о том, что все анализы смысла должны основываться на феноменологии, поэтому также говорит о том, чтобы привнести «вид» в реальность. Возможно ли это – вопрос, который нам предстоит объективно обсудить. Если предположить, что роды не могут быть даны таким образом, что то, что мы можем сделать данным, всегда только индивид, «этот конкретный синий здесь» – тогда только это общее языковое выражение фиксируется в своем значении, в том, что оно означает или называет, ссылкой на данное, и только в той мере, в какой мы понимаем его как единое языковое целое, абстрагируясь от особого значения его частей. Эта абстракция делает его именем воспринимаемого содержания, ограничивает его значение этой функцией именования, подобно тому, как, как подчеркивалось ранее, многие реальные имена собственные – имена людей, городов и т. д. – все еще имеют значение, которое мы не признаем. – Они все еще имеют значение, которое мы игнорируем, рассматривая их как названия данного конкретного объекта.
Кратко подведем итог: Мы можем окончательно определить слова или, в более общем смысле, лингвистические выражения, ссылаясь на данные, лишь постольку и только постольку, поскольку они могут также рассматриваться как имена этих данных.
4. Непосредственная и опосредованная данность
То, что мы говорим о всевозможных предметах, которые не даны нам непосредственно в тот момент, когда мы о них говорим, что мы используем слова без того, чтобы их значение было доведено до нас как непосредственно данное, очевидно без лишних слов, ибо это самая обыденная вещь в мире. Мы также говорим о прошлом и будущем, я говорю о том, что видел, слышал, чувствовал вчера, – но, называя нечто вчерашнее увиденным, я в то же время говорю, что в данный момент я этого не вижу, что, следовательно, это не является данностью сейчас. Зрелище, которое представилось мне вчера, не дано мне непосредственно в данный момент.
Но именно этот пример может привлечь наше внимание к моменту, без которого обсуждение предыдущих замечаний было бы неполным.
Кто-то говорит со мной о здании, которое я видел раньше, но которое сейчас не стоит передо мной; он упоминает название здания. Я спрашиваю, о каком здании он говорит, в ответ он называет улицу, ведущую к нему, место, где оно стоит, и успех этого описания заключается в том, что я теперь могу ответить для себя на вопрос, какое здание имеет в виду другой человек, потому что, хотя я не вижу его сам, я могу представить его в своей памяти. Вспомнив его, я знаю, что имеется в виду, могу продолжать знакомиться с ним, судить о нем, сравнивать его; я могу сказать себе: именно то, что передо мной, то, на что я смотрю, и есть то, что другой человек описывает этим словом.
Что же на самом деле присутствует в случае памяти? Предположим, что я стою прямо перед зданием и смотрю на него. Теперь я закрываю глаза и пытаюсь представить в памяти то, что я видел раньше. Тогда того, что я видел раньше, больше нет – темно-красноватой области со всевозможными пятнами, которая представляет собой поле зрения, когда мои глаза закрыты. И все же там есть нечто, на что я могу смотреть, что я могу наблюдать и узнавать лучше, и что, следовательно, качественно отличается от того, что я видел раньше, даже если оно имеет несомненное сходство с ним. Мы называем это образом памяти здания.
Мы отличаем воспоминание-образ увиденного от самого увиденного, воспоминание-образ звука от услышанного звука. Однако следует особо подчеркнуть, что не в каждом случае, когда мы говорим о воспоминании, должен существовать и яркий образ того, что вспоминается (к этому мы вернемся позже), но такие образы памяти есть у всех, и все их знают; их существование – факт, отрицать который бессмысленно. Вопрос может заключаться только в том, как правильно описать этот факт.
Образ памяти качественно отличается от увиденного или услышанного содержания. Это отличие также описывается словами, разумеется, тем же способом, каким могут быть описаны непосредственно воспринимаемые различия – по аналогии. Говорят, что образ памяти имеет что-то размытое, блеклое, затененное, нечеткое – «воображаемый цвет не блестит, воображаемый тон не звучит» (Лотце). В этом часто звучащем описании, несомненно, много правды, но в нем есть и опасность. Опасность заключается в том, что оно предполагает, что разница между образом памяти и воспоминанием – это просто разница в степени, разница в «интенсивности». Например, увиденная форма может быть более четкой или более нечеткой, более ясной или более размытой, увиденный цвет – более или менее ярким, услышанный звук – более интенсивным, чем другой. Легко ошибиться в том, что разница между образом в памяти и воспоминанием – это просто усиление разницы, которую мы уже находим между перцептивными содержаниями. Существует разница в «интенсивности» между громким и тихим звуком. Теперь я позволяю звуку становиться все тише и тише – превращает ли это его из услышанного звука в запомнившийся образ звука? Если бы эта идея была возможна, то следовало бы представить себе непрерывный ряд, на крайних концах которого были бы услышанный громкий звук и запомненный тихий звук, поскольку даже в ряду образов памяти существует разница между громким и тихим. Невозможность этой идеи очевидна из того факта, что образ памяти громкого звука таким образом оказался бы в соседстве с услышанным тихим звуком, что эти два содержания должны были бы быть более похожими, чем услышанный и запомненный звук одной и той же громкости. Действительно, если бы это было так, было бы невозможно понять, как можно говорить об образах памяти громких и тихих звуков. То же самое относится и к «ясности» и «размытости». Туман делает видимое более нечетким, более размытым, но не уменьшает разницы между увиденным и запомненным, и то, что видно в тумане, меньше всего похоже на то, что ясно помнится. Таким образом, мы должны сказать: различие между образом памяти и образом восприятия не является различием четкости, размытости или интенсивности, оно лишь показывает определенные аналогии с этими различиями, известными из области восприятия, а также памяти, но в остальном является различием sui generis, и прежде всего различием, не показывающим никаких степеней, принципиальным различием, которое не может быть преодолено никакими переходами: Мы не можем представить себе никаких промежуточных звеньев, которые постепенно вели бы от слабого звука к воспоминанию о громком, или от туманно увиденного к ясно запомненному образу, так же как мы не можем рисковать спутать две вещи такого рода.
На это можно возразить, что путаница между восприятием и образами памяти или фантазии (тот факт, что к последним применимо то же самое, что и к образам памяти, будет обсуждаться более подробно через некоторое время) на самом деле происходит не так уж редко. Когда мы видим яркие сны, разве то, что мы помним и фантазируем, не принимается за реальность, то есть за то, что мы воспринимаем, и разве не то же самое происходит при лихорадочном бреде и галлюцинациях? Разве не разыгрывается воображение боязливого человека, когда ему кажется, что он видит призраков или разбойников в темноте, например, в одиноком лесу? На мой взгляд, при ближайшем рассмотрении такой случай, как настоящая галлюцинация, сразу же отметает это возражение. Рассмотрим, например, некоторые слуховые галлюцинации, такие как звон в ушах. Здесь, очевидно, имеет место определенное восприятие, а не воспоминание или фантастический образ, человек действительно слышит определенный звук. Однако это перцептивное содержание возникает в ненормальных условиях, а именно в условиях, при которых в противном случае могут возникнуть только образы памяти или фантазии; физиологический стимул во внешнем слуховом органе, который в противном случае представляет собой conditio sine qua non [основную предпосылку – wp] для возникновения слухового восприятия, отсутствует. Теперь, конечно (и по практическим причинам этот термин не чужд языковому употреблению), можно назвать фантомным образом любое содержание, которое не вызвано стимуляцией внешнего органа чувств, но это понятие фантомного образа, конечно, не является феноменологически полезным, оно различает восприятие и память не по их фактическому различию, а по той причине, которая обычно им приписывается. Если, следовательно, на основании такого использования языка сказать, что в сновидении «простой фантазийный образ» принимается за «объект реального восприятия», то это ни в коем случае не означает, что фантазийный образ в нашем смысле слова был здесь перепутан с перцептивным содержанием. Конечно, галлюцинации и иллюзии могут возникать и другим путем, в котором фантазийное содержание иногда играет определенную роль. Я имею в виду, например, тот факт, что мы считаем, что видим всевозможные фигуры в мешанине линий, точек и поверхностей, которые возникают тем отчетливее, чем дольше мы на них смотрим, и чем отчетливее мы ранее представляли себе эти фигуры, визуализировали их как фантазийные образы. Очевидно, что подобные эффекты возникают в результате того, что мы определенным образом группируем эти беспорядочно нагроможденные пятна, объединяем их в единое целое, обращаем на них внимание, с одной стороны, и игнорируем – с другой. Легко понять по психологическим причинам, что «концепция», однажды реализованная, становится все более и более фиксированной, когда она позволяет неизвестной нам форме возникнуть из случайной путаницы, так же как легко понять, что воображаемый образ, который мы могли иметь раньше, оказывает на нас направляющее, корректирующее воздействие в этом отношении. Это, очевидно, можно объяснить так же, как и то, что испуганный человек в лесу принимает ствол дерева с торчащей веткой за человека с угрожающей рукой, или когда мы произвольно или непроизвольно слышим определенные ритмы, а в конце концов голоса и слова, из мешанины звуков (например, грохот железнодорожного поезда). Если здесь и происходит обман, то опять-таки не в том смысле, что фантастический образ путается с перцептивным содержанием, а в том, что конкретная форма воспринимаемого неверно оценивается в соответствии с его происхождением, его причиной. Наконец, может, конечно, случиться (и это, вероятно, правило у душевнобольных), что оба типа галлюцинаций сочетаются: восприятия, возникшие ненормальным образом, понимаются и интерпретируются в соответствии с привычной озабоченностью фантазией.
Если образ памяти характерно отличается от перцептивного содержания, то, с другой стороны, он, как правило, похож на него. Это видно уже из термина «образ памяти». Образ памяти звука – это образ услышанного звука.
Но именно это выражение «образ памяти» может привлечь наше внимание к другому важному различию между ними, которое еще не было установлено в предыдущем разделе и которое достаточно часто упускалось из виду. Когда мы называем одну вещь «образом» другой, когда мы ставим эти две вещи в отношения копии и оригинала, это не просто означает, что они похожи друг на друга. Если два человека похожи друг на друга, это не означает, что один из них является «образом» другого. Скорее, это выражение означает нечто большее, оно означает, что один объект имеет или должен иметь определенную функцию по отношению к другому, именно функцию изображения, воспроизведения, репрезентации. Фотография передо мной – это изображение человека, которого я знаю, то есть она представляет мне этого человека, дает мне его облик.
То же самое относится и к образу памяти. Образ памяти – это не только настоящее содержание сознания, которое имеет определенное сходство с прошлым, но оно имеет ту особенность, что в нем, с его помощью, мы вспоминаем именно то прошлое, осознаем его, что мы переживаем его, другими словами, как «образ», как представление прошлого. Если бы было иначе, мы не могли бы ничего знать о сходстве образа памяти с прежним содержанием, потому что прошлое содержание – это прошлое, мы не можем его вызвать и поставить рядом с образом памяти для сравнения. Оно присутствует для нашего сознания и может быть постигнуто только через образ памяти, т. е. через то, что образ памяти есть не только единичный, отдельно существующий факт сознания, но факт, который в то же время открывается нам как представитель, как представление, как образ того другого, более раннего. Это последняя, не поддающаяся дальнейшему прослеживанию или объяснению особенность всех образов памяти – мы не можем иметь образ памяти, не осознавая в то же время, что этот образ памяти означает прошлое. Используя известное выражение Гуссерля, мы можем говорить о непосредственно переживаемой интенции образа памяти. Корнелиус[2 - Ганс Корнелиус, Психология как наука об опыте, стр. 20], который особенно ярко подчеркивает эту особенность, называет образы памяти «естественными символами» и говорит об их «символической функции». Если бы факт этой символической функции не существовал для нашего сознания, мы бы не только ничего не знали о прошлом, но для нашего сознания вообще не существовало бы прошлого, было бы только настоящее; слово «прошлое» не имело бы для нас абсолютно никакого значения. По этой самой причине факт «символической функции» образов памяти не может быть прослежен или объяснен дальше; «объяснить» это означало бы прояснить, как образы памяти оказались в таком отношении к прошлому или как сознание прошлого могло быть связано с ними, но ответ на этот вопрос всегда предполагал бы существование какого-то сознания прошлого.
Благодаря посредничеству образа памяти я могу визуализировать нечто прошлое, то есть поместить его перед собой таким образом, чтобы я мог схватить его, узнать его, оценить его, как если бы он был непосредственно настоящим. Я хочу знать, был ли этот предмет больше или меньше, светлее или темнее другого, и я могу сравнить их в своей памяти. И это сравнение – сравнение, действительно проведенное перед лицом образа памяти, а не просто воспоминание о результате более раннего сравнения, проведенного перед самим объектом. Разумеется, мы можем узнать объект из воспоминания-образа и судить о нем по отношению к воспоминанию-образу лишь в той мере, в какой воспоминание-образ представляет, изображает, запечатлевает его; это обстоятельство особенно существенно в том отношении, что воспоминание-образ никогда не может иметь большей ясности, чем предшествующее перцептивное содержание.
Благодаря памяти-образу становится возможным, чтобы объект, который не дан нам непосредственно, был визуализирован таким образом, чтобы он был нам известен, узнаваем, сравним, назван, но дан опосредованно, через посредничество памяти-образа. Здесь тоже что-то дано непосредственно, а именно образ памяти, но есть особенность, что через эту непосредственно данную вещь мы можем узнать не только ее собственную природу, но и природу другого, именно прошлого и теперь вспоминаемого, и можем судить о ней, сравнивая и анализируя ее.
В то же время из этого можно заключить, в каком, но только в каком смысле, можно сказать, что в восприятии и в воспоминании этого самого факта нам дано «то же самое», «тот же самый объект». При правильном понимании это может означать только то, что в обоих случаях мы можем постичь и познать одну и ту же вещь, только в одном случае непосредственно, а в другом – опосредованно. Однако было бы неверно толковать это предложение в том смысле, что каждый раз нам непосредственно дается одна и та же вещь. Если иногда говорят, что в случае восприятия и памяти одна и та же вещь каждый раз «объективна» для нас, а разница заключается лишь в различных «актах» восприятия или памяти, которые относятся к этой цели, то такая форма выражения, по крайней мере, предполагает мнение, что здесь существует аналогичное отношение, как в случае, когда нам сначала нравится, а затем не нравится один и тот же звук, который мы слышим. Здесь непосредственно дан один и тот же объект, к которому одно за другим отсылают различные чувства. С другой стороны, с памятью и восприятием дело обстоит принципиально иначе, поскольку здесь одна и та же вещь не дается даже частично, а непосредственно даются разные вещи, только одна одновременно раскрывается как представление другой и в этом отношении как «одна и та же вещь». Наконец, как уже неоднократно упоминалось, к «фантазийным образам» применимо то же самое, что и к образам памяти. Если я сейчас попытаюсь представить в своем воображении внешность знакомого, которого я давно не видел и который, как я знаю, сильно изменился за это время, то я, конечно, не имею перед собой того, что я буду иметь, когда действительно увижу этого знакомого. Но передо мной есть образ, который представляет эту внешность, образ, который является или хочет быть образом этого будущего содержания. И в каждом фантастическом образе что-то воображается, что-то, что может или могло бы, по крайней мере, столкнуться со мной в другое время в непосредственной реальности, точно так же, как в каждом образе памяти что-то вспоминается, что-то, что когда-то было непосредственно дано мне. Таким образом, фантазийный образ также имеет символическую функцию по своей природе, что-то также косвенно дается мне в фантазийном образе.
Таким образом, мы можем различить два типа данности – косвенную и опосредованную через воображаемый образ (если мы обобщим память и фантазийные образы в этом термине). Теперь возникает вопрос: не существует ли других подобных типов данности? Не существует ли другого способа, с помощью которого объект, не являющийся непосредственно данным, может стать для нас известным, узнаваемым и оцениваемым, помимо посредничества концептуального образа?
Давайте подойдем к этому вопросу более специализированно. Бесспорно, что мы визуализируем далеко не все объекты, о которых говорим. Утверждения, звучащие тут и там и кажущиеся само собой разумеющимися, являются грубым нарушением фактов, которые самонаблюдение легко распознает как таковые; достаточно понаблюдать за тем, как мы читаем книгу и читаем ее с пониманием, чтобы увидеть, как мало сопутствующих фантазмов, мимолетных и бессмысленных[3 - Ср. Макс Дешуар, Эстетика, стр. 169 и 353. Бенно Эрдманн решительно подчеркивает мысль о том, что при использовании слова обозначаемый объект еще не дан (см. пояснения в «Логике I», второе издание, стр. 314). Он также справедливо отмечает, что Беркли, вероятно, первым выразил это убеждение в «Принципах», и цитирует (Archiv f?r systematische Philosophie, vol. 2) характерный отрывок из введения (§19): «При некотором размышлении выяснится, что даже при самой строгой связи идей не обязательно, чтобы имена, обозначающие что-то и представляющие идеи, каждый раз, как только они используются, пробуждали в уме те самые идеи, которые они были призваны представлять, поскольку в чтении и речи обычные имена по большей части используются так же, как буквы используются в алгебре, где, хотя каждая буква обозначает определенное количество, для правильного хода вычислений не обязательно, чтобы на каждом шагу каждая буква вызывала в сознании то конкретное количество, которое она обозначает.» Следующие замечания Беркли в §20 также очень важны; они выражают мысль, к которой я вернусь позже, что «понимание» слова состоит главным образом в том, что оно немедленно производит на слушателя тот же эффект, что и обозначаемая вещь, что, таким образом, и здесь функция слова состоит главным образом в том, чтобы «представлять» обозначаемое.]. Тем не менее, мы что-то «подразумеваем» своими словами, и мы знаем, что мы под ними подразумеваем, мы думаем и «сознательно» направлены на что-то. И если мы «понимаем» слова книги, которую читаем, это также означает, что наше мышление направлено на определенные объекты. Мы знаем, о каких объектах здесь идет речь, без необходимости их визуализировать. Но когда объект становится нам известен, когда мы сознательно сосредотачиваемся на нем, это, по-видимому, означает не что иное, как: он нам дан. Но это данное существование объекта, которое существует, когда мы только думаем о нем, когда мы нацелены на него со смыслом, не было бы опосредовано ярким концептуальным образом, так что здесь мы имели бы третий «вид» данного существования.
Полученные таким образом три типа можно в конечном счете охарактеризовать как три стадии визуализации, то есть данности объекта. Визуализируя что-либо, мы, так сказать, приближаемся к его непосредственной данности в большей степени, чем «просто» мысля его. Но как бы я ни отдалял «просто» знаковое значение от непосредственной данности, это различие остается в некотором роде различием степени.
Я полагаю, что таким образом я хотя бы схематично охарактеризовал точку зрения, которой, похоже, часто придерживаются в школе Бретано, Гуссерля и Мейнонга, более того, она считается само собой разумеющейся. Меня не волнуют здесь ни конкретные формулировки, которые используются, ни более точные различия, которые делаются.
Каким бы правдоподобным ни казался вышеупомянутый подход, при ближайшем рассмотрении он, на мой взгляд, оказывается несовершенным.
Когда мы описывали присутствие объекта через образ памяти как косвенное присутствие объекта, мы делали это потому, что в случае яркого воспоминания здесь присутствует нечто, что мы находим и в случае прямого присутствия: а именно, определенный факт становится известным нам таким образом, что мы можем направить на него наше познание, проанализировать его, исследовать его природу, сравнить его, отличить его. Впервые, предположим, я спрашиваю себя, одинаковой или разной высоты три ворот знаменитых Ворот Победы в Мюнхене. Я могу ответить на этот вопрос, стоя перед Воротами Победы и сравнивая их. Но я также могу с такой же уверенностью провести это сравнение, используя свой образ памяти, при условии, что мой образ памяти содержит рассматриваемые части достаточно четко, чтобы их можно было представить (точно так же я могу судить о воспринимаемых воротах Победы только в той степени, в какой воспринимаются и оцениваемые части; если ворота расплываются перед глазами, потому что я стою слишком далеко, я также не могу судить об их относительной высоте).
Впоследствии я могу знакомиться с ранее увиденными фактами по образу памяти. Возможно ли то же самое, если я теперь «мыслю объект невизуализированным образом»? Есть ли у меня тогда перед глазами нечто, к чему я могу обратиться в плане суждения, сравнения и узнавания? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.
Конечно, я могу выносить суждения об объектах, не визуализируя их, могу сразу и непосредственно говорить о вещах всевозможные вещи, отвечать на вопросы, не обращаясь к визуальной основе. Но эти суждения никогда не являются, в том смысле, в каком они делаются, полученными по отношению к самим фактам, считанными с них, как это возможно, когда объект стоит передо мной непосредственно или как запомненный или воображаемый; скорее, они являются выражением знания, которое человек, выносящий суждение, уже получил ранее, получил от самого объекта. По этой самой причине они могут нести в себе самую большую мыслимую силу убеждения (когда не хватает самоочевидной убежденности, это как раз повод для нас вернуться к наблюдению), но они никогда не обладают «доказательством», которым обладает суждение, которое для нашего сознания основано на самом объекте, поскольку считывается с него, и которым оно обладает лишь в той мере, в какой это так.
Подведем краткий итог: в случае понимания слова без сопутствующей визуализации, простого «думания» об объекте, нет ничего, что могло бы заменить сам объект для нашего познания так, как это происходит в случае воспоминания и фантазийного образа. Нет ничего, что представляло бы предполагаемый объект в том смысле, в котором этот термин обсуждался и использовался ранее, есть только нечто – слово, знак, – что его представляет. Именно поэтому мы не должны говорить здесь о «данности», если хотим сохранить наше значение этого термина. Напротив, «быть данным» и «быть мыслимым» остаются типичными противоположностями. По этой самой причине с каждым словом, которое мы слышим или используем сами (в разговоре или во «внутренней» речи), мы можем задать вопрос, что здесь имеется в виду, и на этот вопрос можно окончательно ответить только тогда, когда данное заняло место означаемого. Да, можно сказать и наоборот: объект А дан нам тогда и только тогда, когда перед нами есть нечто, на что нам достаточно взглянуть, чтобы полностью и окончательно ответить на вопрос, что подразумевается под словом А. Против сказанного здесь можно выдвинуть возражения, которые я рассмотрю подробнее, чтобы не допустить неправильного понимания смысла утверждения. Говорят, что если мы используем слово осмысленно, то есть не попугайничаем, то у нас есть или должно быть осознание его значения. Разумеется, против такого способа выражения, который я сам использовал выше, возразить нечего. Но теперь мы говорим, что эта обычная и понятная манера говорить не может означать ничего другого, кроме того, что мы сознательно постигаем этот смысл в данный момент и имеем его перед собой, нацелены на него и смотрим на него, даже если не в ярком представлении. Заметим: объявляется невозможным, чтобы это выражение означало что-либо иное. Чтобы отвергнуть это возражение, я должен указать на другую возможность.
Прежде всего напомню вам о двойном значении, которое мы связываем с родственным термином, словом «знание». Я сейчас думаю об опыте, который был у меня год назад, я помню этот опыт, он присутствует в моем «знании». Но я также «знал» об этом опыте час назад, четыре недели назад, в то время, когда я был занят совершенно другими вещами. И поэтому даже в этот момент я знаю тысячу вещей, о которых в данный момент совершенно не подозреваю. Каждый знаком с этим разным употреблением слова «знание» и знает, что оно означает: под «знанием» мы понимаем, с одной стороны, осознанную визуализацию, присутствие, воплощение в реальность, а с другой – «потенциальное» знание, предрасположенность, духовное обладание. Я «знаю» все, чему мне не нужно учиться заново, но могу в любой момент взять из своей памяти то, что моя память дает мне, когда я в этом нуждаюсь. Возможно, тот же двойной смысл повторяется в понятии «сознание», что мы также должны различать актуальное и потенциальное сознание. Понимать значение слова, осознавать его, значит не только визуализировать его, но и нести его определенным образом в себе, иметь его мысленно готовым, уметь его представить. Разумеется, это наличие под рукой, доступность, способность представить его должно отличаться от просто потенциального знания, которое я использовал в качестве примера – мы, очевидно, не делаем различия между ними без веских причин, «сознание», понимаемое как диспозиция, должно было бы охватывать лишь часть того, что охватывает наше «знание». И более того: если мы называем такую диспозицию не просто «знанием», а «сознанием» вещи, то она, очевидно, должна находиться в более близком отношении к действительному «сознанию», т. е. к реализованному и «данному» в данный момент. Чтобы выполнить это требование, зафиксируем мысль более точно: в данный момент я имею всевозможные знания, исторические, научные, технические и т. д, в большом количестве, которые не имеют никакого отношения к тому, что я сейчас представляю; но в моем распоряжении есть и другие знания, тесно связанные с тем, чем я сейчас занимаюсь, и существование этих знаний одновременно определенным образом проявляет себя в моем опыте, выбрасывает в сознание «рефлекс» в виде разного рода переживаний, например, эмоциональных. Давайте сразу же рассмотрим тот случай, который нас здесь в первую очередь интересует, – понимание слов с этой точки зрения: слово, значение которого нам известно, представляется нам иным, чем незнакомое слово чужого языка, оно кажется знакомым или, лучше сказать, привычным, знакомым, само собой разумеющимся.
Наша способность визуализировать его значение открывается нам, дает о себе знать в этом эмоциональном характере, в том, как слово предстает перед нами – и в этом смысле можно сказать, что мы становимся «сознательными» в отношении нашего знания, не того, что оно содержит, а того, что оно существует, в этом чувстве. Кроме того, слово часто может иметь для нас более конкретный эмоциональный характер, и этот эмоциональный характер может во многом определяться смыслом слова, сферой, в которой оно используется. Вспомните такие слова, как «знаменитый» и «печально известный», подумайте о том, как одно слово может заставить вас перенестись в определенную ситуацию, подумайте о мистической магии, которая окружает некоторые слова, о манящем и пугающем свойстве, которое скрывается в других словах. Такое ощущение, конечно, не является значением данного слова, поэтому нельзя сказать, что значение слова передается нам в этом ощущении – чувство благоговейного трепета, которое человек связывает со словом «религия», не является значением, которое он связывает с этим словом. Но мы можем сказать, что он связывает с этим словом некий смысл, очень определенный смысл, который раскрывается в появлении этого чувства, которое оно в него вселяет, и в этом смысле чувство есть «осознание» этого смысла, а также того факта, что слушающий или говорящий знает этот смысл, имеет его наготове[4 - В демонстрации таких рефлексов сознания я вижу главную заслугу экспериментальных исследований мышления, как они были проведены Августом Мессером (Experimentell-psychologische Untersuchungen ?ber das Denken, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 8), Бьюлером («Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorg?nge», ibid. vol. 9) и другими. Ср. также очень меткие замечания в «Принципах человеческого знания» Беркли, Введение, § XX.].
Теперь кто-то возразит и против этого. Либо, скажут они, этот рефлекс сознания, назовем ли мы его чувством, состоянием сознания или чем-то еще, есть просто фактический эффект этой диспозиции знания и его конкретного содержания. Тогда он может быть, самое большее, признаком нашей способности воспроизводить смысл слова в сознательных представлениях; признаком, из которого мы должны были бы вывести эту способность, то есть наше знание в этом отношении. Однако на самом деле мы не нуждаемся в умозаключении, чтобы понять, понимаем ли мы слово или нет, употребляем ли мы его со смыслом или без, но сразу же ясно осознаем его. Поэтому, по-видимому, остается только другая возможность, что рассматриваемое чувство не является таким просто фактическим эффектом, но что в нем мы осознаем в более узком смысле, что мы подразумеваем под словом нечто и именно эту вещь. Но тогда мы попадаем на старое место, ибо тогда в ощущении должно быть сознание «этого», т. е. означаемого объекта, который сам по себе не может быть просто диспозицией. Иными словами, придется признать, что с пониманием-слушанием слова связано некое данное существование означаемого объекта. Но эта альтернатива ошибочна. Если нас спросят, понимаем ли мы слово, которое нам знакомо и хорошо известно, знаем ли мы его значение, мы, конечно, прямо и с полной убежденностью ответим на этот вопрос утвердительно, мы не выводим наше знание из того, что слово кажется нам знакомым, – в этом не может быть никаких сомнений. Поэтому, если смотреть объективно и логически, такой вывод можно сделать. Это ощущение знакомости имеет автоматическое следствие, а именно то, что мы относимся к слову как к известному, знакомому, а значит, и понятному, и поэтому на вопрос о том, связываем ли мы с ним значение, мы сразу же отвечаем «да» в слепой убежденности. Точно так же, как на вопрос о том, можем ли мы сейчас прочесть определенное стихотворение, которое мы выучили в прошлом, мы сразу же отвечаем «да», не задумываясь об этом, из непосредственного чувства. Хотя мы, очевидно, не делаем сознательных выводов, но, с точки зрения логики, вывод есть: вывод от настоящего опыта к будущей реализации. Так и здесь: я могу узнать, действительно ли я знаю значение слова, только попытавшись его визуализировать. И не так уж редко, когда нас спрашивают, знаем ли мы значение термина, предложения и т. д., мы сначала отвечаем утвердительно, а затем терпим кораблекрушение, когда пытаемся представить себе значение – и тогда нам приходится признать, что первоначальное убеждение было неверным, что «да» было основано на ложном выводе.[5 - Для сравнения я ссылаюсь на свое эссе в Zeitschrift f?r Psychologie, vol. 49: «?ber die Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorg?ngen». – Гуссерль также иногда упоминает (Логические исследования II, с. 73), что можно было бы придумать идею объяснения осознания значения слова как простого чувства знакомости. Он возражает, что мы очень хорошо различаем, является ли слово просто известным нам или оно имеет для нас значение; мы также можем быть знакомы с непонятными терминами или словами иностранного языка, значение которых, как мы знаем, мы давно забыли. Конечно. Но из этого, как мне кажется, следует, что чувство, о котором здесь идет речь, – это не просто чувство знакомости, а чувство особого рода. Я бы сравнил его с чувством, которое мы испытываем по отношению к знакомому инструменту, с которым умеем обращаться. Это не просто сравнение – по моему мнению, слово и есть такой инструмент – я вернусь к этому позже. В других местах, однако, Гуссерль, кажется, считает само собой разумеющимся, что даже в «значении» означаемый объект каким-то образом сознательно постигается нами.]
Возможны еще два возражения. Первое: если предположить, что мы осознаем значение слова в ярких представлениях, то мы осознаем, что именно то, что мы сейчас представляем, и есть объект, обозначенный этим словом. Я говорю о Бранденбургских воротах, и теперь я внутренне вижу их перед собой и знаю: это и есть «Бранденбургские ворота», то, что обозначается этим словом. Но как может возникнуть это осознание, если не на основе некоего сравнения между тем, что я подразумеваю под словом, что я думаю под ним, и тем, что я вижу перед собой внутренне? Перефразируя Гуссерля, я переживаю «исполнение» своего намерения, связанного со словом, я переживаю тождество того, что я имею в виду, с тем, что я теперь вижу внутри себя. Для этого, однако, я должен иметь перед собой означаемое или мыслимое как таковое, оно должно быть дано мне как означаемое. Однако и этот аргумент я не могу признать: По моему мнению, то, что я переживаю в этом случае, не есть тождественное совпадение двух объектов, один из которых воображаемый, а другой просто мыслимый, а просто своеобразное отношение между словом (звуком) и воображаемым фактом: я переживаю слово как название этого факта. В утверждении, конечно, что слово действительно является именем этого воображаемого объекта (или даже только тем, что оно является для меня этим именем), есть еще нечто, что выходит за пределы этих реляционных переживаний и, строго говоря, требует специального рассмотрения на основе ретроспективного опыта, а именно мысль, что во всех случаях, когда я использовал слово, оно происходило в этом смысле, т. е. могло быть заменено этим воображаемым содержанием. Во-вторых, мы недаром говорим, что можем «обращать внимание» на «смысл» слова и на его «звучание». Как это возможно, если смысл как таковой не задан? И здесь я хотел бы напомнить вам о соответствующих случаях, чтобы прояснить ситуацию. Бывает, что форма предмета, которым мы долгое время пользовались, вдруг «бросается» нам в глаза как необычная. Мы часто видели этот предмет, но никогда не обращали внимания на форму, то есть не останавливались на ней, всегда воспринимали ее как должное и использовали предмет только так, как ему подобает. Точно так же звук слова может поразить нас однажды, мы можем остановиться на нем, тогда как до сих пор мы лишь «обращали внимание на смысл», то есть просто пользовались словом, просто предоставляли себя его ассоциативному руководству». —
Я еще раз подчеркиваю: в мои намерения не входило немедленно доказать истинность предложенной здесь теории, а лишь доказать, что она возможна. Это было сделано для того, чтобы ответить на возражение, что когда мы говорим о сознании значения слова, это не может означать ничего другого, кроме определенного вида данного существования этого значения. С другой стороны, следует убедительно показать, что такой способ говорить в любом случае несостоятелен, если мы придерживаемся понятия «данности», которое мы сформировали в связи с непосредственной данностью и фактами памяти и воображения. Высказывание о том, что мы «сознаем» значение наших слов, даже не представляя себе их объект, может, следовательно, иметь приемлемый смысл, если мы понимаем это «сознание» как «знание», подобно тому как мы обычно говорим о таком знании как о предрасположенности, способности, только как о «знании», которое проявляется и раскрывается сознанию в определенных характерных переживаниях. Само это понятие «знания», конечно, еще требует эпистемологического прояснения, к которому я должен обратиться позже. В разных случаях утверждалось, что более поздние экспериментально-психологические исследования мышления, например, проведенные Мессером, Ахом, Бюлером и другими, также экспериментально доказали, что существует данное существование идеальных объектов в смысле Гуссерля, что существуют гуссерлевские акты и т. д. как постижимый факт сознания. В противовес этому я должен, помимо вышеупомянутых замечаний, вернуться к моей уже упомянутой работе в т. 49 «Zeitschrift f?r Psychologie». Мне нечего опровергать из того, что я там сказал, я лишь ссылаюсь на появившуюся за это время критику Титченера[6 - Эдуард Брэдфорд Титченер, Экспериментальная психология мыслительных процессов, Нью-Йорк, 1909 г.] экспериментов Бьюлера и Мессера. Сам Бьюлер считает, что я должен был экспериментально обосновать свою точку зрения о том, что переживания, наблюдаемые его испытуемыми, на самом деле были состояниями сознания, похожими на ощущения, а не непосредственно постигаемыми интенсиональными актами в его понимании. Но моя мысль, которую я хотел прежде всего выразить, состояла именно в том, что в таких экспериментах возможна двойная установка: установка на реальное описание и анализ данности и установка на объект, который просто «объявляют», как я его там называю, «наивно описывают», как я его называю в следующем разделе. В последнем случае это наивное описание, данное в записи (которое, конечно, само по себе не становится бесполезным), если оно должно быть использовано в смысле феноменологической констатации факта, все еще требует интерпретации самим психологом, который, конечно, должен в конечном счете основывать его на своих собственных наблюдениях. Теперь мне кажется более чем вероятным, исходя из результатов самого эксперимента, что испытуемые Бьюлера вели себя не наблюдательно, а информативно или наивно-описательно, тогда как единственными испытуемыми, которые действительно наблюдались, были, по сути, испытуемые Марбе, к которым я могу обоснованно обратиться за экспериментальным подтверждением своих взглядов. В то же время я согласен с Марбе и Дюрром в том, что действительно наблюдательное поведение испытуемых возможно только в том случае, если перед ними ставятся простые умственные задачи.
5. Феноменологическое описание и наивное описание
Могут ли все термины, которые мы используем осмысленно, быть определены через ссылку на данные факты? Может ли значение каждого слова, которое я использую, быть полностью сведено к данному?
Когда мы подходим к этому вопросу, очевидно, очень важному для эпистемологии, мы одновременно ставим перед собой очень общую задачу инвентаризации чисто данного как такового, задачу общей феноменологии, взятой в самом широком смысле этого слова.
Поначалу эта задача кажется очень простой. Казалось бы, все, что мне нужно сделать, – это перечислить, констатировать то, что есть для меня в определенный момент как непосредственно данное, то, что находится передо мной, – как при такой задаче вообще можно сомневаться, заблуждаться, иметь разные мнения? И все же при ближайшем рассмотрении обнаруживается удивительный поначалу факт, что едва ли можно найти больше противоречий, чем в чисто феноменологических, чисто описательных вопросах, в простом изложении непосредственно данного. Можем ли мы подвести общие объекты под данное, или же номинализм прав, когда утверждает, что таких общих объектов не существует ни в каком виде, а есть только – realiter и phenomenaliter – отдельные содержания и омонимичные слова (одинаковые или похожие звуки), которые мы к ним прилагаем? Существует ли телесная вещь как особый постигаемый объект, или то, что мы называем таковым, как учит идеализм Беркли, есть лишь сумма перцептивных содержаний? Существуют ли чувства как самостоятельные содержания сознания, или то, что мы называем ими, есть просто ряд телесных ощущений? Существуют ли «акты» видения, слышания, чувствования, мышления как самостоятельные содержания, которые можно пережить и постичь? Каждый, кто знаком с литературой, с историей этих, казалось бы, чисто феноменологических вопросов, знает, насколько резко противоположны здесь взгляды.
Как возможны такие противоречия? Как могут возникать ошибки в чистом описании данности и как мы должны себя вести, чтобы избежать этих ошибок?
Поскольку, безусловно, права может быть только одна из спорящих сторон (предполагать, что в сознании одной стороны присутствует нечто, отсутствующее в сознании другой, было бы несколько наивным решением спора), мы должны прежде всего предположить в общем виде, что желание, намерение, задача определить, описать и воспроизвести словами данные факты могут как-то повлиять на результат феноменологического описания, фальсифицировать его в той или иной степени. Точнее, здесь есть две возможности.
С одной стороны, желание описать данное и связанная с этим желанием, так сказать, теоретическая установка могут убрать некоторые вещи из нашего поля зрения, возможно, заставить их вообще исчезнуть, или, наоборот, создать факты для нашего сознания в том или ином смысле. Подумайте, например, о мимолетных эмоциональных переживаниях, об аффектах, которые несовместимы с такой теоретической установкой, с намерением самонаблюдения. Конечно, в широких пределах память, а возможно, и фантазия, которая не подвержена этой трудности, могут вступить здесь в игру в качестве дополнения. Или другой случай, который можно было бы здесь использовать: намерение констатировать и перечислить данное невольно приводит к анализу, расчленению, то есть к тенденции разложить то, что нам дано, на отдельные, резко очерченные факты. Но не является ли этот анализ также своего рода фальсификацией? Во-первых, имеем ли мы право описывать то, что дано нам в момент анализа, как то, что было дано раньше, когда факты были перед нами в неанализированном виде? Можно, по крайней мере, задаться этим вопросом. А с другой стороны: не могут ли некоторые вещи быть уничтожены и сведены на нет этим анализом? Целое часто больше, чем сумма его частей; но анализ имеет тенденцию подменять целое суммой частей. Так что и здесь результатом может стать то, что сама установка на чистое описание данного эскамотизирует [интерпретирует – wp] важные компоненты данного и подталкивает другие вещи на их место. Легко видеть, что здесь возникают реальные и отнюдь не незначительные трудности для феноменологического описания, которые могут привести к различиям во взглядах.
Однако даже в этом последнем случае использование памяти и воображения дает определенную возможность принципиального решения. Мы слышим звук, сначала как единое целое, затем концентрируясь на его частях или на той или иной отдельной частице. Затем сравнение того, что мы слышим сейчас, с тем, что мы слышали раньше, показывает нам, что нечто новое, нечто иное на самом деле возникло благодаря нашей внимательности к частицам, так что мы не можем просто сказать, что частицы уже были там раньше. С другой стороны: у меня был общий опыт, и теперь воспоминание именно об этом общем опыте показывает мне определенные характерные частичные переживания в нем: тогда я могу утверждать, что эти частичные переживания были даны в то время, потому что воспоминание показывает мне эти части как данные в общем содержании в то время. Мы видим разницу между этими двумя случаями: память является средством повторного рассмотрения самого предыдущего факта, а именно через посредничество образа памяти, и результат, который она дает, таким образом (при условии верности памяти) дает природу самого предыдущего факта.
Последующий анализ звука, с другой стороны, осуществляется на перцептивном содержании, которое является просто новым перцептивным содержанием по сравнению с предшествующим (неанализированным звуком) и не имеет функции репрезентации предшествующего содержания. Наконец: я разлагаю в памяти общее переживание на составные части, но те части, которые я могу ухватить здесь по отдельности, изолировать их до некоторой степени, все же показывают нечто характерно иное, недостаток по сравнению с общим переживанием того времени: тогда я приду к заключению, что это общее переживание все же имеет особую черту, которую по какой-то причине нельзя выделить так, как это было возможно с другими частичными переживаниями. Ошибки, неопределенность суждений, конечно, все еще остаются возможными. —
Однако, кроме того, теперь существует вторая возможность, второй источник ошибок. Описание данного также предполагает описание и воспроизведение данного в словах. Может оказаться, что это воспроизведение незаметно добавляет всевозможные вещи, содержит непреднамеренное изменение или суждение о данном, а затем, будучи ошибочно воспринято как чистое описание, позволяет нам утверждать как «данное» то, что на самом деле таковым не являлось. Марти, который недавно указал на этот источник ошибок, говорит о фальсификации описательных выводов через «внутреннюю форму языка». Например, он обвиняет теорию эмпатии в том, что она позволяет обмануть себя внутренней формой языка, когда понимает всевозможные общепринятые выражения, приписывающие неодушевленным вещам активность, как будто говорящий действительно чувствует жизнь, душевность этой вещи[7 - Антон Марти, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, vol. 1, p. 175f]. Или вот еще пример: я заявляю о существовании определенного эмоционального переживания словами «я испытываю удовольствие». Эти слова разбивают переживание на три фактора: удовольствие, ощущение удовольствия и ощущение «я»; они как бы констатируют существование этой троицы. Но нельзя отбросить мысль о том, что это тройственное разделение – лишь ошибка языковой формы.
Мне кажется, что при более внимательном рассмотрении этот источник ошибок не следует недооценивать, особенно с учетом того, что было сказано в предыдущем параграфе. Мы обозначаем объект перед собой совершенно непосредственно, намереваясь просто описать или обозначить его определенным словом. Поэтому, как учит нас повседневный опыт, слово, которое мы используем, вполне может уже содержать в себе суждение об объекте: суждение о его происхождении, о том, что мы должны от него ожидать, без того, чтобы мы осознавали это суждение. Оно не осуществляется нами как таковое, оно лишь подразумевается в смысле слова, которое инстинктивно представилось нам как наиболее подходящее обозначение данной вещи. Если бы «смысл» слова, которое мы используем, всегда был нам дан, то, конечно, мы должны были бы без лишних слов понять, в какой степени это слово действительно охватывает факты, которые мы хотим уловить, но мы уже знаем, что это не так. Поэтому требуется специальная рефлексия над этим значением, специальное рассмотрение, которое, так сказать, сначала сталкивает значение с данным фактом, чтобы определить, можно ли и в какой степени рассматривать слово как обозначение или описание данного. Если, например, меня спросят, что я «вижу» в данный момент, то есть что мне сразу дано как нечто видимое, я, конечно, сначала отвечу: мой стол. Но это доказывает лишь то, что мне дано нечто, что автоматически подсказывает мне это обозначение; если я хочу знать, действительно ли это было точное феноменологическое определение, которое я произнес, я должен спросить себя далее, не подразумевается ли в утверждении, что то, что я вижу здесь, есть мой стол, гораздо больше, чем простое обозначение, действительно ли выражение «мой стол здесь» может быть заменено в своем значении чем-то, что дано мне здесь, на моих глазах. И таким образом я, возможно, приду к выводу, что необходимо гораздо более сложное выражение, чтобы действительно назвать то, что здесь дано. Феноменологическое определение данного и наивное его описание – мы можем кратко резюмировать это – это toto coelo [абсолютно – wp] разные вещи.
6. Проблема общего
Теперь, когда в предыдущих параграфах было очерчено понятие «данности» и одновременно установлены условия, при которых только и можно говорить о данности факта в точном смысле, вернемся к вопросу: можно ли действительно довести до данности «смысл» всех используемых нами слов, т. е. можно ли каждому слову приписать данный факт, который мог бы заменить данное слово, который мог бы рассматриваться как факт, именем которого является это слово?
Я ставлю этот вопрос сразу же в связи с особой проблемой: проблемой общего. Соответствуют ли слова общего значения как таковые схватываемым объектам, объектам, которые мы можем привести к данному? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся со старой оппозицией концептуального номинализма и концептуального реализма или концептуализма. Номинализм всех оттенков – в этом его суть – утверждает, что общие понятия, общие объекты – это фикция, объекты, которые не существуют ни в каком смысле, ни как реальные, ни как идеальные, ни как физические, ни как психические, ни как независимые, ни как частичные объекты, сущности, которые поэтому не могут стать известными нам ни в какой форме, которые ни при каких обстоятельствах не могут существовать для нас как феноменальные факты. Теперь, поскольку на вопрос о значении слова можно окончательно ответить, лишь вызвав к жизни факт, именем которого это слово является, из этого следует, что общие слова как таковые вообще не имеют никакого значения, что они ничего не обозначают, что они – пустые слова, то есть звуки, «flatus locis»; любой способ говорить, который приписывает им значение, является простой фикцией. Остается ответить на вопрос: как могла возникнуть такая фикция, как мы стали использовать слова, которые, как нам кажется, соответствуют определенному, осязаемому объекту, с которым мы обращаемся так, как будто это так и есть, хотя на самом деле это не так. Именно в ответе на этот вопрос и расходятся различные номиналистические теории – средневековых номиналистов, Беркли, Юма. Если на вопрос о том, можем ли мы каким-либо образом привнести в реальность общие объекты как таковые, ответить отрицательно, то это означает, что мы стоим eo ipso на почве номинализма. С другой стороны, все концептуалистско-реалистические решения проблемы – от Платона до современных теоретиков объекта – как бы далеко они ни расходились, должны согласиться с тем, что общие понятия или объекты существуют в той или иной форме и существуют для нас, постигаемые нами, как феноменальные данности. Различные концептуалистские взгляды теперь снова расходятся в вопросе о том, как мы должны определить это существование и как мы должны определить это схватывание более детально. В основном здесь можно выделить четыре типично различных взгляда, которые мы называем взглядами Платона, Аристотеля, Локка и современных теоретиков объекта (Гуссерля и Мейнонга, которые независимо друг от друга пришли к, казалось бы, очень близким теориям).
Открытие «понятия» и, в данном случае, общего в противовес индивидуальному, как известно, является достижением Сократа, у которого его перенимает Платон. Хорошо известно, какое значение придает ему Платон, в какой степени понятие концепта находится в центре его философии. Когда в «Протагоре» обсуждается добродетель, а в «Теэтете» – знание, первое, что всегда говорится, – это не перечисление отдельных добродетелей, знаний или видов знания, а определение «добродетели» и «знания», не указание на разнообразие объектов, которые мы обозначаем как добродетели и знания, а признание единой сущности, с которой мы логически связываем их через это обозначение. Таким образом, изначально резко разделены: сумма, множественность, разнообразие индивидов и противоположное им единое общее, под которое мы их, говоря по-платоновски, включаем: в котором они участвуют – «человек» и неопределенно много похожих и одновременно разных индивидуальных человеческих существ[8 - Конечно, можно и в определенном смысле нужно проводить различие между общими понятиями и общими объектами. Под «понятием» обычно понимают нечто, имеющее только ментальное существование, продукт разума, и тогда, возможно, задаются вопросом, существует ли общее только как «понятие» или также как (внементальный, реальный или идеальный) «объект». Однако можно взять оба слова и более широко и неопределенно по смыслу: взять слово «объект» как синоним «чего-то» вообще, как уже указывалось ранее, а под «понятием» понимать значение слова как такового, то, что подразумевается в слове. Тогда можно, как это было сделано в тексте, использовать «общее понятие» и «общий объект» изначально неразборчиво [четко не отделяя их друг от друга – wp]. К этому различию я вернусь позже.].
Причина, по которой Платон придает такое особое значение различию между общим и индивидуальным, причина, по которой он всегда начинает с определения сущности общих, а не индивидуальных сущностей, очевидно, заключается в том, что он впервые осознал, возможно под влиянием сократовской мысли, связь между научным прозрением, проницательным пониманием, очевидным знанием истины, с одной стороны, и общим знанием – с другой; связь, которую Кант описывает, называя «всеобщность» и «необходимость» в знании взаимозаменяемыми понятиями. Поднявшись над результатом, который дает нам фактическое измерение суммы углов одного треугольника, и осознав, что для треугольника не обязательно, чтобы сумма углов была равна 2 R, мы поднимаемся от простой констатации факта, как это делает геодезист, к научной проницательности математика. И это осознание того, что научное познание истины всегда связано с общим (которое он, очевидно, впервые увидел в математике), становится особенно важным для Платона, поскольку открывает ему путь к победе над его главным противником, скептицизмом софистов. Безудержный скептицизм софистов завершается предложением, что не существует истины, которая была бы действительна для всех людей. Мы окунаем обе руки в одну и ту же воду, и она кажется одной руке холодной, а другой теплой – как нет смысла рукам спорить о том, кто из них прав, так нет смысла двум людям спорить о своих мыслях, о том, кто из них представляет себе истину, а кто – ложь; для каждого из них его мысль истинна.
Здесь нет убеждения, доказательства или опровержения, а есть только убеждение, то есть попытка с помощью искусства речи (которому софисты намереваются научить) убедить собеседника принять свои идеи вместо его собственных. Платон стремится опровергнуть этот скептицизм, подхватывая то, что верно в аргументах и примерах софистов, и отделяя их от ложных выводов: Однако там, где речь идет только об отдельных единичных сущностях, нет универсальной истины, нет познания, а есть только воображение, мышление, ибо единичное есть нечто возникающее и исчезающее, нечто постоянно меняющееся, различное в зависимости от того, как его рассматривают, как показывают и примеры софистов, – как же то, что никогда нельзя постичь в строгом тождестве, может быть действительным, вечным и действительным для всех, как того требует идея истины? Пока софисты правы, но единичным и индивидуальным объектам противопоставляются общие понятия, которые не возникают и не исчезают, которые по самой своей природе удалены от изменений, каждое из которых противостоит множественности изменяющихся индивидов как Единое, остающееся неизменным. Отдельный человек – это сначала ребенок, потом юноша, потом мужчина и старик; поэтому ни одно из этих определений мы не можем отнести к нему как действительно действительное, он в одном отношении сын, в другом в то же время отец, поэтому к нему применимы противоречивые определения. С другой стороны, понятие «ребенок» никогда не может стать понятием «старик», тогда как понятия «отец» и «сын» всегда находятся в фиксированном отношении друг к другу. Единая вещь может стать из одной двумя, тремя и более: стоит только разбить ее, и она в одно и то же время едина и множественна, ибо включает части в себя; с другой стороны, число 1 никогда не может стать числом 2, но между ними существует неизменное математическое отношение. Вот почему по отношению к общим понятиям существует то, чего нет по отношению к отдельным вещам: строго достоверная истина и знание. Это познание относится именно к неизменным отношениям, существующим между понятиями, к систематическому порядку понятийной системы. Разумеется, то, что относится к понятиям, косвенно переносится и на индивидов, поскольку индивиды участвуют в понятиях, поскольку они подпадают под понятия, то, что относится к понятиям, относится и к ним: поскольку человек – ребенок, он не старик, поскольку вещь одна, она не большинство, и так далее.
Путь к познанию истины, отрицаемый софистами, – это путь к общим понятиям. Общие же понятия образуют целостный мир вечных и неизменных предметов, которые существуют сами по себе, то есть не в отдельных вещах, а отдельно от них и только в логическом отношении к ним. Как же постичь эти объекты? Нетрудно заметить, что по мере того, как Платон подходит к этому вопросу, «идеи» начинают очень близко подходить к отдельным вещам по способу их существования. Мы не «видим» человека, как мы видим отдельных людей, но мы постигаем его, мысля в лице отдельного человека. Это схватывание, однако, теперь описывается как воспоминание: вид отдельного человека вызывает во мне воспоминание об идее человека. Но мы можем вспомнить только то, что видели и видели раньше, поэтому в предсуществовании мы должны были жить в мире идей и видеть этот мир так же, как мы живем сейчас в мире физических вещей.
У нас, как я только что сказал, сразу же возникает впечатление, что с этим поворотом в метафизику сам характер логически-всеобщего в идеях определенным образом разрушается, что они сами становятся чем-то индивидуальным. Причину этого легко увидеть. Все, что существует в определенное время, «hic et nunc» [здесь и сейчас – wp], является в то же время индивидуальным. Мы можем приписать ему общее понятие, в которое мы можем мысленно включить все качественные определения этого индивида, и если мы представим себе один и тот же объект – что мы можем сделать в любой момент – как существующий в другое время, то эти два объекта представляют собой два воплощения одного и того же понятия. Поэтому всеобщее должно мыслиться как то, что по своей природе не существует ни сейчас, ни в другое время; как только мы говорим о чем-то, что привязано таким образом к моменту времени, мы уже находимся рядом с индивидуальным. Поэтому всеобщее должно мыслиться как вневременное – но метафизическая доктрина идей Платона превращает эту вневременность в вечное существование в смысле вечного бытия. Но то, что существует всегда, существует и в определенное время. Таким образом, всеобщее превращается из вневременного идеала во временно-реальное и, следовательно, в индивидуальную сущность. Последняя причина этого, однако, очевидна: идеи должны быть постигаемыми объектами, но Платон может представить себе это постижение только по аналогии с восприятием отдельных вещей[9 - Как бы ни была изобретательна и последовательна попытка Наторпа интерпретировать все те платоновские термины, которые превращают мир идей в метафизический потусторонний мир, как просто образы, есть, на мой взгляд, моменты, в которых такая интерпретация делает насилие над формулировкой и ходом мысли Платона. Действительно ли все доказательство бессмертия в «Федре» должно быть аллегорией?].
При превращении «красного» в некое индивидуальное существо рядом с индивидуальным красным, «человека» – в некое реальное существо рядом с индивидуальным человеком возникли известные трудности, о которых говорит Аристотель в своей «Критике». Кроме того, были особые неудобства, вытекающие из платоновского метафизического поворота вещей, из того, что Идеи должны были не только составлять мир наряду с миром индивидов, но в конечном счете единственный реальный и истинный мир, в то же время и действительный объект познания. Конечно, вещи должны участвовать в Идеях – но что следует понимать под этим «участием»? Так Платон подводит нас к аристотелевскому решению проблемы общего.
Аристотель сначала обижается на метафизический выход за пределы мира идей, который кажется ему излишним дублированием реальности. Поэтому он переносит общее на индивидуальные вещи. «Человек» не существует как особое существо вне индивидуального человеческого существа. Но в каждом отдельном человеке мы можем различить две вещи: чисто индивидуальные черты, отличающие его от других людей, и общие человеческие черты, которые он имеет с другими и которые делают его человеком. Олицетворением всех этих общих черт в каждом человеческом индивиде является человек, то есть универсальный человек, «человечество» в общем абстрактном смысле. Однако вслед за Платоном Аристотель придает этой идее особый поворот. Только по отношению к общепонятному, учил Платон, существует научное понимание, существуют связи необходимости, строго обоснованная истина; чисто индивидуальное, напротив, является случайным, не поддающимся научному определению. Таким образом, мир идей становится реальной действительностью, а мир индивида – лишь видимостью. Аристотель сохраняет это привилегированное положение общего для научного осознания истины (а также для опровержения основанной на ней софистики), а значит, и для основанных на ней следствий. Таким образом, общее в человеке становится в то же время подлинным ядром его бытия, вокруг которого «случайные», сугубо индивидуальные детерминации лежат как внешняя оболочка. Человек прежде всего человек – в этом выражается его внутренняя сущность, к которой индивидуальные характеристики добавляются лишь как реальность второго порядка. Таким образом, Аристотель считает, что он усовершенствовал платоновскую доктрину и в то же время сохранил то, что в ней на самом деле верно. Общие предметы не становятся особой метафизической реальностью вне индивидуальных вещей, а индивидуальные вещи не сводятся к простому иллюзорному миру, а остаются единственной реальностью. С другой стороны, как учил Платон, общее остается единственным объектом истинного знания и, следовательно, актуально реальным: ведь в индивидуальном мы должны различать истинную сущность и случайные придатки, и это различие совпадает с различием общего понятия и индивидуальных особенностей. Наконец, неопределимое «участие» вещей в идеях, как кажется, заменяется более четким представлением об отношении между индивидом и общим понятием, поскольку общее становится (абстрактной) частью индивида, той частью, которая повторяется идентично в разных индивидах.
Для Аристотеля общие объекты, таким образом, непосредственно постижимы, столь же постижимы, как и индивиды, поскольку они постигаются в них через абстрагирование от чисто индивидуальных компонентов. Устойчива ли эта доктрина и действительно ли она устраняет трудности платоновского взгляда? Как бы очевидно это ни казалось, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Если универсальное должно существовать в каком-либо смысле, оно, как справедливо подчеркивал Платон, должно быть единым и тождественным, в отличие от неопределенного множества индивидов. «Человек» един в отличие от множества индивидуальных человеческих существ и т. д. И если все индивидуальное определяется временем и, возможно, местом, то каждый отдельный человек находится в определенное время и в определенном месте, «человек» – это нечто вневременное, без «hic» и «nunc». Вот передо мной два человека, я абстрагируюсь от их индивидуальных черт, фокусируюсь только на том, что их объединяет, – превращает ли это этих двух людей в единое, идентичное существо? Выражение «мы обращаем внимание на то, что у нас есть общего» не должно вводить в заблуждение, потому что эта «общность» – не тождество, а одинаковость, в одном можно найти те же черты, что и в другом, и я обращаю на них внимание, но одинаковость – это не тождество, напротив, она предполагает двойственность. Я смотрю на два синих цвета в отношении того, что в них одинаково; однако эти идентичные абстрактные моменты становятся чем-то идентичным лишь постольку, поскольку они «одинаково синие», то есть принадлежат к одному и тому же роду. Таким образом, мы говорим о тождестве не на основе одной лишь абстракции, а только тогда, когда две тождественные сущности подведены под общее понятие, так что то, что абстрактно выделено как таковое, еще не является общим, даже если признать, что абстрактное выделение тождественных моментов находится в определенном отношении к подведению данных индивидов под одно и то же понятие, что, точнее говоря, мы подчиняем различные индивиды одному и тому же общему понятию только там, где находим такие тождественные компоненты. [10 - Ср. Husserl, Logical Investigations II, pp. 153. – В вышеизложенном я в то же время критикую свои собственные ранние замечания в моих «Исследованиях логического содержания причинно-следственного закона», Лейпциг 1905.]Следует особо подчеркнуть, что даже если мы игнорируем пространственно-временную позицию объекта, индивидуальный объект не становится общим объектом. Если я игнорирую тот факт, что вещь существует здесь и сейчас, если я не обращаю внимания на ее пространственно-временную определенность, это означает, что я игнорирую конкретную пространственно-временную позицию, в которой она находится, я могу мысленно переместить ее в любую другую позицию, я могу оставить ее пространственно-временную позицию совершенно неопределенной – но это не означает, что она становится вневременной сущностью: она становится вневременной сущностью, сущностью, которая по своей природе не существует в определенное время, чье существование не имеет ничего общего с реальным временем и реальным пространством, как это имеет место для «человека», для «треугольника», для «числа» «3» и т. д. словом, для каждого общего понятия[11 - Марти, однако, кажется, придерживается мнения (Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik aund Sprachphilosophie, vol. 1, p. 328), что понятия можно воспринимать как нечто существующее во времени, но не в определенное время. Однако то, что существует в неопределенное время, существует «либо» сейчас, «либо» в другое время, может существовать «и» сейчас, «и» в другое время. Очевидно, что мы не можем сказать это о «человеке», а только о «любом человеке», то есть о любом индивидууме, который подпадает под понятие «человек». «Человек», с другой стороны, общее понятие человеческого существа, не существует «ни» сейчас, «ни» в любое другое время.].
В результате получается, что либо разговоры о тождественном общем объекте, «человеке», «цвете» и т. д. являются просто фиктивными разговорами: тогда мы остаемся с номинализмом. Либо такая сущность есть, и в этом случае мы должны вернуться от Аристотеля к Платону, потому что искать эту сущность нужно не в индивиде, а вне его, пусть и не как реально существующую вещь.
А теперь другая сторона теории Аристотеля. Аристотель хочет искоренить метафизические компоненты платоновского учения, но удалось ли ему это сделать? Метафизическая реальность общего остается принципиально той же самой, даже если общее переносится на индивидуальное. Прежде всего, если общее-концептуальное должно быть сущностью вещей, это означает, что для каждого отдельного объекта существует только одно общее понятие, к которому он принадлежит и которое мы должны найти. Теперь, с другой стороны, к нам приходит убеждение, что образование понятий – это, в определенных пределах, дело нашего произвола, что мы всегда можем включить два объекта, если они имеют определенные общие черты, в одно и то же понятие, что мы можем, таким образом, отнести объект к любому числу понятий. Ни вечно неизменный платоновский мир идей, ни аристотелевское представление о столь же неизменной понятийной сущности в каждой вещи не соответствуют этой стороне общих понятий. Это приводит нас к Локку.
Локк исходит из того, что то, что предлагает нам восприятие, – это единственное, что нам дано, и все воспринимаемое как таковое индивидуально. Разум же создает из восприятий новые сущности, с одной стороны, разбивая их на части, а с другой – объединяя в новые целые. Таким же образом создаются общие идеи. Мы видели треугольники разных форм, а теперь объединяем увиденное и запомненное в одну идею треугольника вообще, «треугольник вообще». Этот треугольник вообще не является ни чем-то метафизически реальным вне нас, ни чем-то физически реальным в воспринимаемом мире, но это нечто созданное нами, которое, следовательно, существует только как наше воображение.
Понятно, что Локк таким образом отбросил метафизическое из платоновской и аристотелевской доктрины. Но столь же очевидно, что против обычных образов, которые, по его мнению, должно создавать воображение и с помощью которых он хочет решить проблему общего, можно выдвинуть те же возражения, что и против платоновских идей и аристотелевских абстрактных объектов: это вполне очевидные временные сущности, даже возникающие и исчезающие, а значит, индивидуальные объекты. Только не физические, а психологические. Кроме того, существуют известные неудобства, которые возникают из-за необходимого объединения противоречивых элементов в эти общие образы и на которых Беркли затем основывает свою резкую критику доктрины Локка.
Если слово общего значения действительно соответствует постигаемому объекту, то этот объект нельзя представить ни как абстрактную часть отдельных объектов, ни как образованный из них фантастический образ, который в конечном счете также индивидуален, но его можно представить только как объект собственного рода, вневременной природы, который – в этом отношении мы должны вернуться к Платону – стоит за пределами всего физически и психологически реального. Мы должны постичь этот объект, конечно, с помощью восприятия отдельных объектов, но не в форме простого ассоциативно срабатывающего воспоминания, не в форме абстрагирующего возвышения и не в форме фантазирующего обобщения, а именно в его собственной форме, в особом «акте» обобщения. Это подводит нас к позиции современных теоретиков объекта, которая, можно сказать, сама собой возникает как результат критики платоновской, аристотелевской и локковской доктрин.
Я привожу пример Гуссерля:
«В том смысле, что мы подразумеваем красный цвет in specie, мне представляется красный объект, и в этом смысле мы смотрим в его сторону (что мы, в конце концов, не имеем в виду). В то же время в нем возникает красный момент, и в этом отношении мы снова можем сказать, что смотрим на него. Но мы также не имеем в виду этот момент, эту индивидуально определенную единичную черту в объекте, как, например, когда делаем феноменологическое замечание о том, что красные моменты дизъюнктивных [дифференцированных – wp] частей поверхности также дизъюнктивны. Хотя красный объект и возвышенный красный момент появляются в нем, мы скорее имеем в виду один идентичный красный, и мы имеем его в новом способе сознания, благодаря которому вид вместо индивида становится для нас объективным». (Логические исследования II, стр. 106.
Мы «подразумеваем» тождественный красный, то есть, конечно, не только: мы подразумеваем его, например, словами, но и постигаем его, как, очевидно, следует из выражения: «он становится объективным для нас, а не для индивида».
Я не верю, что теория Гуссерля может быть атакована и опровергнута так же, как теория Аристотеля и Локка. Он не считает себя вынужденным приписывать общему объекту свойства, которые снова делают его индивидуальным.
Я не могу признать опровержение Марти (Untersuchung zur Grundlegung etc. vol. 1, p. 337) обоснованным. Оно исходит именно из той путаницы, с которой Гуссерль хочет бороться, из аристотелевского смешения абстрактного и индивидуального частичного содержания и общего («красный момент» и «краснота в виде»). На вопрос, существует ли «цвет» только один раз или также снова в «синем» и «красном», что привело бы к известным неудобствам, ответ таков: «цвет» как тождественный объект существует только один раз, но в синем и красном существует абстрактный цвет-момент, который относится к «цвету» как виду, так же как красный-момент в красном, который я сейчас видел, относится к «красному» как виду. Однако утверждение, что существование истинных родов «in abstracto» и «для себя» влечет за собой противоречие, основано на нечеткой форме выражения. Это было бы противоречием, если бы хотели говорить об абстрактном частичном объекте индивида, существующего in concreto, и точно так же, если бы хотели говорить о роде, который не является родом чего-то, то есть не находится в своеобразном отношении к чему-то индивидуальному, что позволяет этому индивидуальному быть подведенным под род; я не нахожу никакого дальнейшего противоречия. Наконец, что касается вопроса о том, называется ли краснота в виде вида краснотой в том же смысле, что и краснота отдельного красного цвета, находящегося передо мной, то следует сказать, что у Гуссерля слово «краснота» обозначает в каждом случае одно и то же, а именно красноту в виде вида, но что выражение: «есть» краснота, имеет каждый раз разное значение: в применении к абстрактному красному моменту цвета передо мной это означает, что этот момент стоит в логическом отношении индивида к роду; в применении к роду это означает, что он называется краснотой.
Таким образом, мы можем назвать эту теорию единственно возможной теорией общего, если будем настаивать на предпосылке, что слова общего значения соответствуют постигаемым объектам, то есть что вопрос о значении таких слов вообще может быть задан со смыслом. Поэтому она остается единственно возможной теорией, если мы не ставим себя на почву номинализма.
Тем не менее, если сравнить эту теорию с теорией Аристотеля и Локка, то в ней, несомненно, есть что-то неудовлетворительное. Аристотель и Локк определенным образом пытаются заставить нас понять общее и то, как мы приходим к нему от индивидуального. Они делают это, обращаясь к процессу абстрагирования, с которым мы также знакомы, или к композиционной функции воображения, с которой мы также знакомы, пытаясь проследить общее до таких вещей. Гуссерль, с другой стороны, обходится без такого прослеживания; мы узнаем только об особом акте обобщения и особой природе вневременных идеальных объектов. Любое более подробное описание, любое определение природы этих вещей отвергается как невозможное; в основном говорится лишь о том, чем они не являются (не реальны, вневременны). В этом кроется сила, неопровержимость, но и очевидная слабость позиции Гуссерля. Эта слабость становится особенно очевидной, если учесть, что мы также не получаем никакой реальной информации об отношении общего к индивидуальному. Его можно описать в различных терминах: Общее всеобъемлюще, оно также содержит в себе индивидуальное, как род оно, конечно, отлично от индивидуального, но тем не менее снова содержит его в себе. Аристотель и Локк пытались объяснить эти отношения; Аристотель – описывая общее как абстрактную часть, которая является общей для различных индивидов и повторяется в них; Локк – рассматривая общую концепцию как продукт воображения, возникающий в результате обработки различных индивидуальных сущностей. Эти определения не достигли того, что должны были, но все же были попытками в этом направлении, тогда как у Гуссерля мы снова сталкиваемся только с конечным и неописуемым, таким как «акт обобщения» и «идеальные объекты». В сущности, мы испытываем здесь ту же неудовлетворенность, что и в случае с платоновским «причастием». Там, где мы ожидаем описания, постижения, мы встречаем либо просто слова, не говорящие нам ничего нового (обобщение), либо туманные аналогии, такие как участие. И, наконец, самое, пожалуй, важное. Если мы делаем предложения о «треугольнике», о треугольнике вообще, то эти предложения также применимы eo ipso [в себе – wp] к отдельному треугольнику и, более того, к каждому отдельному треугольнику, ко всем треугольникам. Аристотель и Локк ясно указывают на эту связь: то, что истинно для треугольника, истинно и для отдельного треугольника, потому что треугольник содержится в отдельном треугольнике, и это истинно для всех отдельных треугольников, потому что это то, что одинаково повторяется во всех них. Точно так же Локк может сказать: отдельные треугольники содержатся в общей треугольной идее, поэтому о них также можно судить, судя об общем треугольнике. Гуссерль, напротив, не может объяснить эту связь дальше. Треугольник – это объект, отличный от индивидуального треугольника, даже если он основан в нем и находится с ним в своеобразной логической связи. Благодаря этой связи то, что заложено в сущности первого, «очевидно» истинно для второго. Вопрос «почему» остается без ответа. Конечно, теперь Гуссерль ссылается на прямой феноменологический анализ для всех своих определений. То, что представляет собой красный цвет, не может быть описано далее, но может быть постигнуто только в созерцании, перенесено в реальность. Так же и с актом обобщения и вневременной идеальной природой общих объектов. Тот, кто смотрит на красный цвет и в то же время конкретно рассматривает, думает, наблюдает его как представителя вида красного, имеет перед собой общий объект, о котором идет речь, настолько непосредственно, что он также постигает разницу между общим и индивидуальным объектами так же непосредственно, как мы постигаем разницу между красным и синим цветом путем сравнения. И осознавая таким образом связь между видовым и индивидуальным, мы делаем для себя очевидным положение о том, что то, что относится к этим объектам in specie, должно относиться и к нему in concreto.
С точки зрения логики, этот аргумент невозможно оспорить. Но действительно ли феноменологическое описание говорит здесь так однозначно, как думает Гуссерль? Учитывая существование аристотелевских, локковских и номиналистских теорий, это уже кажется сомнительным. Спросим объективно: действительно ли при рассмотрении отдельного объекта in specie нам дается новый объект, именно вид как таковой, о котором мы можем судить, сравнивать и различать? Я могу лишь сказать, что такое описание кажется мне неточной интерпретацией феноменологических фактов.
Разумеется, необходимо признать некоторые различия. Во-первых: я могу, например, взять перед собой синий цвет и смотреть на него исключительно как на самого себя. Я либо не называю его вообще, либо называю его «это здесь», «этот цвет здесь» и т. д., сознавая, что эти слова предназначены только для того, чтобы назвать, зафиксировать то, на что я смотрю. В другой раз я говорю о цвете, что он синий, голубой. Тогда для моего непосредственного сознания слово и данный факт вступают в иные отношения; я знаю, что здесь я не только называю и фиксирую, но и сужу и тем самым выхожу за пределы данного здесь содержания. Но это не значит, что я имею перед собой объект (или объекты), с которым я соотношу данный синий цвет в смысле моего суждения, как данный объект, выражая суждение с пониманием. Однако это необходимо только в том случае, если встать на ту точку зрения, что если слово используется с пониманием, то обозначаемый им объект также должен быть дан. Поскольку Гуссерль стоит на этой точке зрения, его учение о непосредственно постигаемых, идеальных объектах является лишь логичным. Но эта точка зрения уже была отвергнута ранее.
Во-вторых, мы можем, например, судить о нарисованном на бумаге треугольнике один раз с точки зрения его индивидуальных свойств и один раз с целью геометрической демонстрации с точки зрения существенных свойств треугольника в целом. Но и здесь я должен отрицать, что в этом случае для нас возникает новый объект; феноменологический факт заключается, как мне кажется, лишь в том, что некоторые другие моменты в нарисованном треугольнике выделяются для нашего внимания и что конечный результат, сформулированный лингвистически как суждение о треугольнике в целом, переносится на нас осознанием того, что он выходит в своей обоснованности за пределы содержания этого рисунка. Почему? На этот вопрос еще предстоит ответить. Подведем краткий итог: Есть смысл сказать, что мы рассматриваем треугольник и как отдельное целое, и как треугольник в целом. И у нас есть осознание того, одно это или другое. Но во втором случае это осознание, как мне кажется, не есть данность вида, а знание о принадлежности данного индивидуального содержания к чему-то, что не дано непосредственно. Поэтому я не могу признать, что теория Гуссерля является результатом очевидного феноменологического описания. Тем более мы вправе указать на вышеупомянутые недостатки теории, которая отсекает ряд вопросов, а не отвечает на них. Если мы теперь отвергнем доктрину Гуссерля, то останется только позиция номинализма. Ведь мы видели, что на вопрос о значении слова можно ответить окончательно и удовлетворительно, лишь приведя в существование факт, которым можно заменить слово, к которому оно относится лишь как репрезентативное имя собственное. В применении к словам так называемого общего значения это означает, что мы должны сделать общие объекты данностью – «красный», вид «звук». Эти объекты могут быть только такими, как их определяет Гуссерль: вневременными и идеальными – потому что все временное есть eo ipso индивидуальное – вне индивидуально данного; отделенное от него и его частей – потому что каждая часть индивидуального есть также индивидуально существующая и преходящая сущность, которая обнаруживается в том же качестве, но не как тождественная, в различных индивидуальных. Если таких идеальных условий не существует, то вопрос о значении этих слов остается без ответа, т. е. эти слова вообще не могут иметь значения в том смысле, который мы до сих пор предполагали. Это слова, которым мы не можем приписать ни одного известного нам постижимого объекта, который бы они обозначали, и когда мы говорим о таких объектах, об общих объектах, мы осуществляем простую фикцию. Если мы определим термин «номинализм» достаточно широко, чтобы обозначить этот тезис, который, по общему признанию, изначально является по сути негативным, то, отвергнув теорию Гуссерля, мы встанем на почву номинализма.
Конечно, номинализм становится настоящей теорией только тогда, когда у него есть определенный ответ на вопрос, как мы приходим к таким фикциям и с каким правом, в каком смысле мы можем, тем не менее, говорить, как мы это делаем, о том, что «существуют» общие понятия, под которые могут быть подведены отдельные, индивидуальные объекты. И когда мы получим такую теорию, настанет время исследовать ее на предмет того, может ли она удовлетворительно ответить на те вопросы, которые доктрина Гуссерля отсекает.
Наконец, последнее замечание. Помимо прямого феноменологического описания, Гуссерль ссылается в своей теории еще на один момент, на котором он делает особый акцент. По его словам, «внутреннее право конкретных (или идеальных) объектов наряду с индивидуальными (или реальными) объектами» является «главным основанием для чистой логики и эпистемологии». Это «точка, в которой релятивистский и эмпирический психологизм отличается от идеализма, который является единственной возможностью эпистемологии, единодушной с самой собой».
«Разумеется, под идеализмом здесь понимается не метафизическая доктрина, а та форма эпистемологии, которая признает идеальное как условие возможности объективного знания вообще и не психологизирует его». (Логические исследования II, стр. 107)
Это самый важный момент, в котором номинализм должен доказать смысл своего существования; он должен показать, что не отменяет «возможность объективного знания», что он не ведет к несостоятельным релятивистским и скептическим последствиям. Это также является важнейшей задачей следующих глав.
7. Проблема вещи (реальных предметов)
Мы видим перед собой вещь определенного вида, например дерево. Можем ли мы тогда сказать, что эта вещь, дерево, стоящее перед нами, непосредственно дано нам? Нет сомнений в том, что нечто непосредственно дано нам здесь, и более того, что мы называем это нечто деревом без дальнейших размышлений. Но мы знаем, что одного этого факта недостаточно, чтобы ответить на вопрос утвердительно. Мы знаем, что может случиться так, что, намереваясь просто описать и обозначить данное, мы используем для этого обозначения слова, которые, согласно их значению, выходят за пределы данного, говорят больше и нечто иное, чем охватывает данное. Поэтому требуется эксплицитная рефлексия над значением этих описательных терминов и конфронтация с данностью, чтобы решить, действительно ли это была только феноменологическая характеристика, только именование данности. И здесь, применительно к данному случаю, легко указать на всевозможные вещи, которые, очевидно, включены в утверждение, что стоящая передо мной вещь – это вещь, а именно дерево. Например, у этой вещи также есть спина, она также обладает силой и твердостью. И то и другое принадлежит этому дереву: предположим, например, что твердости нет, что нащупывающая рука не встречает сопротивления, а без сопротивления тянется в пустой воздух; или что, когда я хочу посмотреть на дерево со спины, вся картина исчезает; тогда я должен признать, что ошибался в утверждении, что передо мной стоит вещь, дерево, что я только «верил», что вижу дерево, вещь.
Таким образом, утверждение, что это дерево, подразумевает, что у него есть спина, твердость, массивность. Но в данный момент мы уже не воспринимаем эти факты, они нам не даны, поэтому смысл предполагаемого описания включает в себя размышление о том, что не дано. Возможно, можно утверждать, что обратная сторона, твердость, упругость в определенном смысле даны: имеет смысл сказать: я вижу твердость, я также вижу, что дерево имеет объем и, следовательно, обратную сторону. Однако здесь необходимо провести точное различие: мы, очевидно, не видим обратной стороны дерева, но мы видим, что у него есть такая сторона, или, что означает то же самое, мы видим, что у него есть обратная сторона, что оно обладает твердостью и упругостью, подобно тому, как мы «видим», что суп на столе еще горячий. Это значит: мы видим здесь что-то, что дает нам немедленное убеждение, что здесь есть тепло. Мы не видим самого тепла, но мы знаем, что оно есть, и выражаем это знание в соответствующих суждениях, более того, мы ведем себя в соответствии с этим знанием. Конечно, что-то в происходящем дает нам это знание, навязывает его нам, как это было в нашем примере с поднимающимся паром, не в виде сознательно выполненного умозаключения, а в определенной степени автоматически, инстинктивно, без того, чтобы мы вообще осознавали, что здесь есть некое посредничество. Точно так же в том, что мы видим в дереве, есть определенные моменты, которые сразу же заставляют нас приписать ему обратную сторону и т. д. в словах и действиях – сказать, какие именно моменты, конечно, нелегко, это требует специального анализа. Но каковы бы ни были эти моменты в данности, которые заставляют нас говорить, что мы видим в дереве эти качества, – несомненно то, что мы не видим в дереве обратной стороны и т. д. И, таким образом, мы видим не дерево, в том смысле, в каком мы понимаем под видением непосредственную данность, а лишь нечто, стоящее в определенном отношении к этой вещи, называемой деревом, одну сторону, один вид дерева.
То же самое мы видим и с другой стороны. Мы ходим вокруг дерева. Видим ли мы одно и то же или разные вещи? Очевидно, что мы видим одно и то же, поскольку всегда видим одно и то же дерево, но также очевидно, что в каждом случае мы видим нечто иное, поскольку зрение, которое предстает перед нами, очевидно, другое и иное, таким образом: нам дано нечто иное, о чем мы, тем не менее, говорим, что это то же самое. Отсюда снова следует, что вещь следует отличать от данного и что утверждение, что данное есть вещь, подразумевает не простое описание, именование данного, а суждение о нем, отношение данного к чему-то другому, именно к вещи. Само это отношение еще нуждается в анализе; оно лишь условно обозначено, когда мы называем данное возникновением вещи. Возможно, кто-то снова возразит, что здесь нет никакого различия, поскольку, прогуливаясь вокруг дерева, мы даже не осознаем разницу меняющихся взглядов именно тогда, когда убеждены, что перед нами именно эта вещь, дерево, поскольку вместо него перед нами идентичная вещь. Но это неверно. Мы, несомненно, осознаем, что здесь есть по крайней мере несколько точек зрения, то есть что существует временное различие, и мы также неизбежно осознаем качественное различие точек зрения, как только мы действительно настраиваемся на данное описательным образом и не довольствуемся тем обозначением, которое данное сразу же нам предлагает; когда мы анализируем феноменологически, а не просто описываем наивно, как было сказано ранее. Конечно, в связи с этими предыдущими замечаниями здесь возможно последнее возражение, к которому я вернусь ниже: возражение, что этот анализ также уничтожает непосредственно данное, тождественное вещи, саму вещь.
Во-первых, мы можем представить полученный до сих пор результат в другой форме. Если мы заменим одного человека, движущегося вокруг вещи, разными людьми, смотрящими на нее одновременно, то вещь, очевидно, будет точно такой же. Наблюдатели видят «одно и то же», поскольку все они говорят об одном и том же, они видят разные вещи, поскольку то, что дается сразу, столь же очевидно отличается, зрение, которое есть у одного человека, не тождественно зрению, которое представляется другому. Наконец: я снова смотрю на вещь одну, но теперь я закрываю глаза или отвожу взгляд – тогда вид, который был раньше, исчез, на его место пришло что-то другое, что-то вроде однородной земли, которая предстает перед нами, когда глаза закрыты. Но мы говорим о вещи: она все еще здесь, она все еще существует. Таким образом, мы говорим о вещи все то, что, очевидно, не относится к непосредственно данному, а именно, что это та же самая вещь, с какой бы стороны на нее ни смотрели, и что она все еще существует, когда на нее больше не смотрят, – из чего следует, что непосредственно данное и вещь – это две разные вещи, что вещь не является непосредственно данным.
Проблема, которая, как видно, присуща понятию вещи, в точности аналогична проблеме рода, рассмотренной в предыдущем разделе. Попытка дать нам род как таковой, общий объект, «тот» синий, не приводит ни к какому результату; данное всегда остается конкретным, индивидуальным синим, вообще говоря, индивидом, который подпадает под данный род, принадлежит к нему. Так и здесь: мы никогда не привносим в данное вещь, но всегда лишь состояние восприятия, принадлежащее вещи, которая стоит в определенном отношении к ней. Мы можем использовать термин «появление» в обоих случаях: В каждом случае нам дается только индивидуальный, темпорально определяемый вид рода, а не сам вневременной, тождественный род, и точно так же только изменяющийся вид вещи, а не всегда постоянная, неизменная вещь. При этом, разумеется, вопрос о том, что означает здесь каждый раз «появление», остается без ответа, как и вопрос о природе рода и вещи.
Если проблема рода – это проблема, характерная для античной философии, то вопрос о сущности вещи принадлежит почти исключительно философии более позднего времени. Декарт затрагивает ее в своем известном рассуждении о «куске воска», хотя его конечный замысел лежит в другом русле. Все, что мы можем уловить в куске воска при чувственном восприятии, меняется в тот момент, когда мы подносим его к огню. Но мы по-прежнему утверждаем, что кусок воска тот же, что и раньше. Таким образом, в результате исследования мы, используя язык, вводим себя в заблуждение и используем неверное выражение, когда говорим, что видим сам воск, а не то, что судим о его наличии по восприятию цвета и формы. Первым, кто действительно ставит проблему в нашем понимании, является Локк. Когда мы воспринимаем вещь, мы видим определенную форму и цвет, ощущаем определенную твердость, чувствуем сопротивление и тяжесть. Но теперь мы отличаем, по крайней мере на словах, саму вещь, саму субстанцию, от этого видимого сейчас цвета и формы, ощущаемой сейчас твердости и т. д. Вещь не есть этот цвет, но она его несет, она не есть эта твердость, которую я ощущаю, но она ее имеет. В связи с этим возникает вопрос: что такое сама вещь? И именно на этот вопрос нельзя найти удовлетворительного ответа, потому что, пытаясь постичь саму вещь, мы всегда остаемся лишь с одной из уже упомянутых «идей». Таким образом, понятие субстанции вещи остается для Локка «неясным», потому что это понятие, которое не может быть заменено данным фактом, идеей в его языке.
Проблема Локка находит свое известное радикальное решение у Беркли. Вещь есть не что иное, как сумма обстоятельств, в которых она якобы предстает перед нами. Яблоко, которое я держу в руке, – это цвет и форма, которые я вижу, твердость и тяжесть, которые я чувствую, запах, который я воспринимаю, и так далее. Решение Беркли простое и последовательное, но оно сразу же вызывает ряд опасений, которые, возможно, уже сдерживали Локка от радикального идеализма. Эти видимости приходят и уходят, они различны в зависимости от стороны, расстояния, положения, в котором я смотрю на вещь, в зависимости от того, как я ее вижу, осязаю и т. д. Если вещь есть только сумма этих явлений, то она сама есть нечто постоянно меняющееся – но вещь должна быть «единой» и постоянной, неизменной, тождественной, с какого бы расстояния, стороны и т. д. я на нее ни смотрел. Если вещь должна быть лишь другим названием для суммы этих условий, то как мы можем разделить их лингвистически, как мы это делаем, и вместо того, чтобы говорить, что вещь – это такая-то и такая-то форма и цвет, твердость и тяжесть, говорить скорее об одной и той же вещи, которая представляет нам сначала этот, а затем тот вид? Если рассматривать такое использование языка как осмысленное, то вещь не может быть суммой своих проявлений в большей степени, чем вид может быть суммой входящих в него индивидов.
Иными словами, Беркли может последовательно придерживаться своей доктрины только в том случае, если он не отождествляет вещь с суммой ее явлений, а объявляет понятие вещи фикцией, то есть словом, которое не соответствует никакому мыслимому объекту, которое вообще не имеет никакого мыслимого смысла – если мы хотим понять, что оно означает, мы всегда получаем нечто другое, а именно его предполагаемые явления. Это также приводит нас к подлинному номинализму.
Если мы хотим избежать этого номинализма, сама вещь должна каким-то образом стать данностью. Если это возможно, то это может означать только одно: Должна быть возможность, так сказать, просмотреть соответствующую внешность вещи, как она дана, постичь в ней и вместе с ней нечто другое, единую, идентичную сущность, которая стоит перед нами как идентично та же самая, сразу узнаваемая, в то время как внешность меняется, которая понимается как стоящая в особом отношении к внешности и о которой мы в конце концов непосредственно узнаем, что она имеет другие свойства, чем те, которые мы только что постигли.
Если встать на эту точку зрения, если утверждать это как феноменальный факт, тогда, но только тогда, сама вещь, а не только ее так называемые видимости, является данностью в собственном смысле слова, и таким образом можно избежать номиналистического следствия. Такая теория, как легко заметить, находится на том же уровне, что и теория общих объектов Гуссерля, и действительно отстаивается им (пусть и не так схематически заостренно, как я ее сформулировал).[12 - Эдмунд Гуссерль, Логические исследования II, стр. 620f: «Подобно тому, как вещь в видимости не стоит там как простая сумма бесчисленных индивидуальных детерминаций, которые может различить последующее индивидуальное наблюдение, и подобно тому, как оно не дробит вещь на детали, но способно наблюдать их только во всегда законченной и единой вещи: так и акт восприятия всегда является однородным единством, которое визуализирует объект простым и непосредственным способом… Возможно также, что мы не позволяем себе довольствоваться „одним взглядом“, а наблюдаем вещь со всех сторон в непрерывном процессе восприятия, сканируя ее, так сказать, нашими органами чувств. Но каждое отдельное восприятие в этом процессе уже является восприятием этой вещи. Смотрю ли я на эту книгу сверху или снизу, изнутри или снаружи, я всегда вижу эту книгу. Это всегда одна и та же страница и одна и та же не только в физическом смысле, но и по мнению самого воспринимающего… Индивидуальные восприятия предмета непрерывно едины. Эта непрерывность означает не просто объективный факт временной демаркации; скорее, ход отдельных актов имеет характер феноменологического единства, в котором слиты отдельные акты. В этом единстве множество актов сливается не только в феноменологическое целое, но и в акт и, более того, в восприятие. В непрерывной последовательности отдельных восприятий мы постоянно воспринимаем этот один и тот же предмет».] Но она содержит те же самые неудовлетворительные компоненты.
Вещь должна отличаться от цвета и формы, которые мы сейчас в ней воспринимаем, от твердости, давления, которые мы ощущаем, и т. д., она должна быть чем-то, что стоит в определенном отношении к этим содержаниям нашего восприятия. Однако, с другой стороны, мы можем сказать, что вещь охватывает эти условия, она определенным образом содержит их в себе. Таким образом, отношение между вещью и внешним видом вновь и вновь предстает перед нами в не очень однозначных, не очень ясных аналогиях, и если мы спрашиваем о природе этого отношения, нам отвечают, тем не менее, лишь ссылкой на своеобразную, не поддающуюся дальнейшему описанию данность. В частности: Если мы утверждаем о вещи, что она должна иметь спину, что она должна быть осязаемой, то это утверждение выражает связанность существования якобы данного факта «вещь» и этих осязаемых фактов. Является ли это связывание выражением эмпирического закона? Тогда также должно быть возможным, чтобы вещь не имела обратной стороны. Но если, например, при обходе вещи воспринимаемая вещь исчезает, а не показывает нам ожидаемую обратную сторону, то мы заявляем, что ошиблись, что здесь присутствовала только видимая вещь; если же мы предполагаем не эмпирическую, а сразу понятную, своеобразную существенную связь между явлением вещи и обратной стороной, то мы снова увеличили число последних, далее не прослеживаемых и не описываемых фактов на один, и притом весьма загадочный. За этим следует дальнейший вопрос: Что это значит: данный факт (вещь) существует один раз «реально» и затем также «видимо» присутствует? И наконец: как мы можем утверждать, что он продолжает существовать, если мы его не воспринимаем? Существует ли опять-таки особенность данного положения вещей, не поддающаяся дальнейшему описанию, которая в некотором смысле вынуждает нас к этому утверждению? В любом случае, теория не подходит для того, чтобы сделать его понятным. Мы не получаем удовлетворительного ответа ни на один из этих вопросов.
Но само описание я могу признать правильным не больше, чем в случае с общими объектами. Конечно, мы сразу и непосредственно называем дерево одним и тем же именем, независимо от того, с какой стороны мы его видим; разный взгляд автоматически вызывает одинаковое практическое поведение с нашей стороны. Но мы знаем, что это поведение не обязательно должно быть основано на непосредственном восприятии самой вещи – утверждение, что это должно быть так, является интерпретацией феноменологических фактов. Таким образом, мы также приходим к номиналистическому результату в отношении понятия вещи, сформулированному ранее. Конечно, и здесь возникает проблема, без решения которой номинализм витает в воздухе: как мы приходим к использованию имен вещей и к их осмысленному использованию? Следует хотя бы вкратце рассмотреть еще несколько возможных возражений. Я не отрицаю, что мы можем в одно время «обратить внимание» на внешний вид стоящей перед нами вещи в ее своеобразном цвете и форме, а в другое время «схватить» тот же самый внешний вид как внешний вид вещи. Я также не отрицаю, что в каждом случае существует феноменально ощутимое различие. Следует также признать, что в первом случае, обходя вещь, мы заметим отдельные внешние проявления в их отличии друг от друга, тогда как во втором случае этого не произойдет. Но опять же, это различие не состоит в том, что во втором случае мы обращаем внимание на другой непосредственно воспринимаемый факт (саму вещь), а должно быть поставлено на тот же уровень, что и обсуждавшееся ранее различие между обращением внимания на «звук» и на «смысл» слова. Как и там, феноменальное различие здесь также, как мне кажется, состоит в том, что, с одной стороны, мы останавливаемся на самой вещи в соответствии с ее особенностью, а с другой – просто отдаемся ассоциативному эффекту, который исходит от нее и сразу же устанавливается; мы наблюдаем ее, так сказать, только в такой степени и в течение такого длительного времени, что автоматически устанавливается определенное практическое поведение. Короче говоря, во втором случае определенный феноменальный факт не добавляется в нашу концепцию, а максимум что-то отбрасывается. Разумеется, в данный момент это объяснение опять-таки можно рассматривать лишь как предварительную возможность, более точное обоснование которой отложим на потом; здесь мы лишь хотим показать, что, если мы действительно феноменологически различаем внимание к вещи и внимание к простой видимости, это простое различие еще ничего не доказывает в пользу непосредственного существования самой вещи. Ибо заново возникает вопрос, как именно феноменологически можно описать тот факт, которому мы придаем языковое выражение, говоря о внимании к вещи.
Другой момент, на который можно было бы сослаться с противоположной стороны, заключается в следующем. Существует непосредственное впечатление, которое мы с полным правом можем назвать впечатлением «вещи как реальности». Когда мы смотрим на стол, то, что мы видим, производит на нас такое впечатление в большей степени, чем, скажем, слегка поднимающийся, плывущий дым от костра или даже чем субъективно обусловленный феномен мерцающего глаза. Поэтому можно было бы заключить, что мы «видим» здесь, с одной стороны, материальную реальность, а с другой – просто внешний вид объекта. Однако здесь следует различать две вещи:
Во-первых, само впечатление, характер твердого, самосущего, неразрушимого, как мы могли бы описать его более подробно, и, во-вторых, обозначение этого характера как характера осязаемой реальности.
Этот характер дается нам сразу, но это не вещь как таковая; утверждение, что вещь передо мной – это вещь, не означает, что она обладает этим характером. Мы можем, как мне кажется, охарактеризовать вещь еще более точно. Среди проявлений вещи есть такие, которые, по нашему мнению, принадлежат ей как вещи более существенно, чем другие; в них мы считаем, что, так сказать, приближаемся к вещи. Почему мы так считаем, на этот вопрос опять-таки нельзя ответить прямо; объяснение этого факта предполагает анализ самого понятия вещи. Пока же я ограничусь тем, что, когда мы берем вещь в руки и ощущаем ее твердость, сопротивление, которое она оказывает нашей прощупывающей руке, мы скорее говорим о том, что держим и исследуем «вещь». Поэтому мы ни в коем случае не будем отождествлять вещь с тем давлением и сопротивлением, которые мы сейчас ощущаем. Однако теперь мы можем распознать осязаемость, твердость содержимого, которое мы видим, точно так же, как мы распознали тепло в предыдущем примере с кипящим супом. На основании каких непосредственно данных моментов – это опять же должно оставаться открытым вопросом. Но мне кажется, что именно этот факт мы имеем в виду, когда говорим о «видении» материальной реальности объекта, или, как лучше было бы выразиться, о взгляде на объект. С этим впечатлением «вещности» связано, но не тождественно ему, другое впечатление: впечатление, что мы «бодрствуем» перед лицом «живой реальности», в отличие от «сновидческого» характера, который иногда принимает мир и события вокруг нас. Предвидя это, я заметил, что этот так называемый «сновидческий» характер, как мне кажется, заключается скорее в калейдоскопическом распаде реальности, которую мы видим, на отдельные образы, которые мы лишь пассивно пропускаем мимо себя как таковые, в то время как эти «образы» становятся «живой реальностью», как только мы ожидающе настраиваемся от одного к другому, как только мы немедленно встречаем каждое новое содержание, которое входит, с практическим и ожидающим отношением, которое мы знаем, что оно должно иметь.
Все эти впечатления в лучшем случае являются содержаниями, на основании которых мы рассматриваем объект как обладающий вещной реальностью, но они не являются тем, что мы обозначаем словом «вещь»; поэтому мы не можем использовать их для ответа на вопрос о том, что мы понимаем под словом «вещь». Напротив, теория понятия вещи должна доказать свою правоту, заставив нас понять, почему эти впечатления могут стать для нас знаками того, что перед нами стоит «вещь». —
То, что было сказано здесь о «вещи», в равной степени относится и к ряду других объектов, которые в обыденной речи не принято называть вещами. Я слышу звук, например жужжание машины. Теперь я попеременно отхожу от машины и приближаюсь к ней: меняется ли при этом звук, который я слышу, или я все время слышу «один и тот же звук»? Или: я стою в пяти шагах от машины, кто-то другой – в 50 шагах от нее – слышим ли мы один и тот же звук или разные? На этот вопрос, очевидно, можно ответить и «да», и «нет» – в зависимости от того, что мы понимаем под «слышимым звуком». То, что дается мне непосредственно, когда я сначала стою близко к источнику звука, а затем на расстоянии 50 шагов от него, очевидно, отличается и даже весьма существенно отличается; и все же мы можем говорить об одном и том же звуке, который постоянно звучит и который «звучит» по-разному в этот момент. Таким образом, мы различаем две вещи, которые, тем не менее, обозначаем одним и тем же именем «звук, который я сейчас слышу», именем, которое, следовательно, является двусмысленным. Соответственно, мы хотим провести различие между «феноменальным» и «реальным» звуком. Как легко заметить, реальный звук относится к феноменальному звуку так же, как вещь относится к своему изменяющемуся виду. Если мы, наконец, закрываем глаза, внешность нам больше не дана, но мы твердо уверены, что имеет смысл утверждать, что сама вещь по-прежнему существует. Точно так же, если мы закрываем уши, мы больше не слышим звук, феноменальный звук исчез, но мы убеждены, что реальный звук продолжает быть слышенным.
Реальный и феноменальный звук не тождественны, даже если они называются одним и тем же словом, потому что мы говорим о реальном звуке самые разные вещи (он не меняется, когда я меняю положение, он все еще существует, когда я закрываю уши, и т. д.), которые были бы явно ложными в случае реального звука. Как мы можем воспринимать только внешний вид, но не саму вещь, так и мы можем визуализировать только феноменальный, но не реальный звук. Также не имеет смысла отождествлять реальный звук с каким-либо конкретным из феноменальных звуковых восприятий, в которых он «появляется». Почему реальный звук должен быть более идентичен тому, что я слышу на расстоянии 10, чем тому, что я слышу на расстоянии 50 или 100 шагов от источника звука? Такое утверждение было бы совершенно произвольным. Скорее, мы можем лишь смириться с результатом: реальный звук – это постоянное, продолжающееся существование чего-то, что не дано непосредственно само по себе, что появляется при различных условиях в тех или иных обстоятельствах.
То же самое относится и к видимому цвету, и, наконец, к видимому движению. Один и тот же реальный синий цвет представляется мне по-разному в зависимости от того, смотрю ли я на него с того или иного расстояния, при том или ином освещении или положении глаз. Одно и то же движение движущегося автомобиля выглядит по-разному в зависимости от того, вижу ли я его проезжающим мимо меня, от меня, ко мне или подо мной, в зависимости от того, вижу ли я его движущимся на том или ином расстоянии.[13 - Как известно, естествознание отождествляет звук с волновым движением воздуха. Как будет показано далее более подробно, это отождествление имеет смысл только как отождествление реального звука с реальным движением воздуха. Отождествлять феноменальный звук с чем-либо другим было бы совершенно бессмысленно.]
В то же время очевидно, что эти реальные цвета, звуки, движения и т. д. имеют определенное отношение к физическим вещам. Когда мы приписываем вещи определенный цвет как постоянное и длительное качество, когда мы говорим о ней, что она синяя, мы, очевидно, имеем в виду прежде всего реальный цвет, реальный синий: объект действительно синий, но этот синий цвет не всегда представляется мне феноменально синим; он выглядит темно-серым в сумерках, например, или зеленым при свете лампы.
То, что мы только что сказали о вещах, относится к реальным объектам вообще, если под реальным объектом понимать нечто, что не является феноменально данным, но что мы берем за основу большинства феноменальных условий как проявляющееся в них таким своеобразным образом, как мы видели на примере вещи, реального цвета и так далее. Реальные объекты сопровождаются родовыми, видовыми, или, как принято говорить, идеальными объектами. Как и реальное, идеальное феноменально не дано. Идеальное и реальное одинаково противостоят феноменально данному. Но каждый реальный объект всегда индивидуален и в то же время существует в определенное время, тогда как идеальный мыслится как вневременной. В отношении мира идеального и мира реального исследование привело нас к номиналистическим результатам и, соответственно, к идентичной проблеме: поскольку ни идеальный, ни реальный объект как таковой нам никогда не даны, как же мы тогда вообще можем говорить о таких сущностях, добавлять реальный и идеальный мир к феноменально данному? Как слова, которые якобы обозначают реальные и идеальные объекты, могут быть чем-то большим, чем пустые, бессмысленные слова, поскольку их нельзя наполнить каким-то содержанием?
Но сфера реальных объектов еще не исчерпывается тем, что мы обсуждали, поскольку реальное, о котором мы говорили до сих пор, всегда относилось к сфере физического, в то время как мы также осуществляем полностью соответствующую концептуализацию в сфере психического.
8. Физическое-реальное и психическое-реальное
Феноменальные факты, которые мы рассматриваем как видимость физических вещей или реальных цветов, звуков и движений, о которых шла речь выше, и на основании которых мы говорим о реальных сущностях такого рода, – это все содержание чувственного восприятия, увиденные цвета, услышанные звуки и т. д. Однако, помимо этих содержаний, существуют и другие виды реальностей, о которых мы уже изредка упоминали. Даже когда мы испытываем чувство, аффект, волевой акт, это чувство и воля с их специфическими характеристиками непосредственно известны нам, даны нам. Как мы соотносим цвет, который мы видим, с вещью, как мы говорим о вещах цветных, звучащих, твердых, так мы соотносим чувства и волевые переживания с соответствующей сущностью, а именно с самим собой, так я говорю о «себе», что я счастлив или печален, стремлюсь или сопротивляюсь. Я отношу пережитое чувство к своей личности точно так же, как я отношу увиденный цвет к вещи. И точно так же, как я говорю о вещи, что это одна и та же вещь, которая одновременно и цветная, и твердая, которая предстает передо мной то в таком, то в таком цветовом качестве, так я говорю о том же самом Я, которое испытывает удовольствие и стремление, гнев и тоску, которое то приятно, то неприятно, которое продолжает существовать даже тогда, когда, например, во сне, нет никаких переживаний, которые мы могли бы с ним связать. Переживаем ли мы свое эго, свою личность, так же непосредственно, как переживаем чувство, волевой акт? Мне кажется, что мы делаем это так же мало и так же сильно, как видим или осязаем вещь. Когда мы испытываем чувство, существует ли особый момент, связанный с нашим переживанием чувства, который мы могли бы назвать «чувством Я»? Или мы находим такой момент в воспоминаниях, в ретроспективном наблюдении? Я абсолютно не убежден в этом. Возможно, кто-то думает, что каждое чувство и каждый волевой акт имеют общий абстрактный момент, момент, который отличает их как обстоятельства своего рода от всех физических обстоятельств, от цвета, который виден, и т. д. Возможно, с этим можно согласиться, возможно, с этим можно согласиться. Возможно, с этим можно согласиться, возможно, можно сказать – мы можем хотя бы раз это предположить, – что ради этого момента мы противопоставляем акты воли и чувства как психические сущности этим другим реальностям. Но является ли тогда этот абстрактный момент психикой, т. е. тем общим, устойчивым, стойким «я», с которым мы соотносим психические реальности? Тогда мы могли бы с тем же успехом отождествить эту вещь с тем общим признаком, который позволяет нам группировать феноменальные цвета, звуки и тактильные качества в род. Или, говоря иначе: тогда мы имели бы опыт, который сопровождал бы все чувства как один и тот же опыт; но как мы могли бы говорить об идентичном «я»? Как бы мы пришли к утверждению, что это «я» продолжает существовать во сне?
Кроме того, каждой личности присущ определенный характер. Он, собственно, и делает личность определенной личностью в первую очередь. Если мы переживаем личность, мы должны переживать и характер. Но характер, как наш собственный, так и чужой, – это то, что, очевидно, не переживается непосредственно и не заявляется в своей особенности, а скорее умозаключается, причем умозаключается довольно трудоемко и неопределенно. Короче говоря, мне кажется, что все, что было сказано о восприятии вещей, можно применить и к восприятию эго или души. Иными словами, концепция эго предстает как концепция того же рода, что и концепция вещи, как концепция реального объекта, который влечет за собой те же проблемы для нас, что мы узнали там.
Разница лишь в том, что понятие эго содержит особую проблему: вопрос о том, как мы приходим к понятию других эго, других личностей. Как только мы прояснили, как возникает у нас понятие определенной вещи или что в нем содержится, мы ответили на вопрос о природе понятия вещи вообще, поскольку нам остается только перенести результат на все остальные случаи. С другой стороны, мы, очевидно, не получаем понятие собственного «я» точно так же, как понятие чужой личности. Точнее: данные факты, которые мы относим к собственному «я», которые мы понимаем как его выражения, не только отличаются от тех, в которых проявляется чужая духовная жизнь, но они также должны быть даны нам другим способом. Ранее мы проводили различие между прямо и косвенно данными (вспомненными, фантазированными) фактами.
Если мы описываем чувство, о котором знаем, как чувство чужой личности, «ты», то это чувство, очевидно, никогда не может быть дано нам напрямую, но должно быть каким-то образом дано нам косвенно. Это порождает двойной вопрос:
Во-первых, как мы можем соотнести любое содержание, которое каким-то образом дано нам, с эго, личностью, душой, чтобы утверждать, что они являются выражением такого психического-реального? Что мы понимаем под этим понятием эго и т.д.?
И во-вторых, как мы приходим конкретно к знанию тех фактов, которые мы относим к чужой личности, к вам, как эти факты даются нам?
Мы должны провести резкое различие между этими двумя вопросами; вопрос, который необходимо было прояснить в данный момент, был только первым; вопрос о том, как мы переживаем наш собственный поток сознания [james] в отличие от чужого, и в отношении каких переживаний противопоставление Я и Ты может стать для нас значимым, будет обсуждаться позже.
С исторической точки зрения Беркли, несмотря на свою критику понятия вещи, все же рассматривает понятие эго или души как самоочевидное понятие, смысл которого не нуждается в исследовании. И только Юм применяет локковско-берклианскую критику понятия субстанции к ментальной субстанции, в результате чего эго, как и физическая вещь, становится для него пучком восприятий. В настоящем мы частично следуем за HUME и отождествляем эго с суммой переживаний, или с потоком событий сознания, – точка зрения, в которой встречаются такие противоположные позиции, как Мах и наторп (чье эпистемологическое эго, конечно, находится на другой странице); напротив, частично мы говорим о непосредственном переживании эго. Но между этими двумя взглядами существуют переходы; если присмотреться к ним повнимательнее, они обычно не так резко противостоят друг другу, как может показаться на первый взгляд. Одним из главных представителей психологической школы, говорящей о непосредственно переживаемом эго, является Теодор Липпс. Но сам Липпс проводит резкое различие между непосредственно переживаемым «я» и предполагаемым реальным «я» с его диспозициями и чертами характера. Таким образом, он с готовностью признает, что имеет смысл говорить об эго, которое не является непосредственно переживаемым, но, скорее, как и вещь, основано на непосредственно данном. И там, где он говорит о непосредственно переживаемом эго, он делает это таким образом, что эго становится почти просто абстрактным моментом в эмоциональном опыте. Эго сравнивается с абстрактным моментом звука, который превращает цвет тона, высоту и громкость в моменты звука. Само чувство характеризуется по своей природе как чувство «Я»[14 - Теодор Липпс, Vom F?hlen, Wollen und Denken, Лейпциг 1902, стр. 6]. Это уже приближает его к взглядам Вундта. Для Вундта всякое переживание делится на субъективную и объективную стороны (объект переживания и переживающий субъект); объективная сторона – это воспринимаемое, вспоминаемое, воображаемое содержание, субъективная сторона непосредственно отождествляется с чувством, которое связано с этим содержанием, чувство имеет особый характер субъективности. Теперь можно с готовностью признать, что ощущения, к которым в этом пункте можно, пожалуй, добавить и переживания воли, характеризуются общим моментом абстрактного характера, который обычно отличает их от чувственной реальности, а также от образов памяти. Можно, конечно, назвать этот момент и субъективностью, если понимать, что изначально это лишь обозначение. Однако ни этот абстрактный момент, ни это обозначение не могут облегчить нам понимание того, как мы приходим к отнесению ощущений к идентичному, постоянному и устойчивому «я», к одному и тому же реальному объекту, который продолжает существовать как тот же объект, пока меняются приходящие к нему ощущения, который в конечном счете все еще существует со своими диспозициями, когда, как во сне, вообще не испытывает никаких ощущений. Поэтому, даже если указать на особый общий момент в ощущениях и назвать этот момент субъективностью, ничего не получится для ответа на вопрос о сущности понятия эго.
Контраст в вопросе о непосредственно переживаемом «я» уменьшается еще больше, если добавить, что противники непосредственно переживаемого «я» также говорят и могут говорить о непосредственно переживаемом «единстве» сознания. Последовательность восприятий, ощущений, волевых актов и т. д., то есть, точнее говоря, то, что только для них составляет данность, переживается не как простая сумма, а как более или менее замкнутое целое.
Единственное, что следует отвергнуть, – это мысль о том, что это единство возникает только благодаря тому, что различные элементы хода сознания переживаются, так сказать, в отношении одной точки, т. е. в отношении эго, что непосредственно переживаемое единство существует в этом непосредственно переживаемом отношении. Если бы можно было переживать нечто как единство, только переживая его по отношению к точке единства, то то же самое в конечном счете должно было бы относиться и к самой точке единства, что привело бы к регрессу. О том, как это единство соотносится с опытом ощущения, мы кратко поговорим в другом месте. Однако здесь следует отметить, что тот факт, что ход событий в сознании переживается не как сумма, а как целое, не позволяет нам понять, как мы приходим к концепции постоянного и стойкого эго за пределами этих событий в сознании. И уж тем более не следует рассматривать эти два понятия как идентичные.
Возможно и другое возражение. Если мы говорим о сознании или, чтобы избежать двусмысленности этого слова, скажем скорее о данном бытии, то не предполагается ли в каждом случае уже некое Я, которому что-то дается? Не теряет ли понятие данного смысл без этого Я? Не может ли утверждение, что объект дан, быть прямо заменено другим: он связан с Я?
На это я сначала должен ответить: Мы использовали примеры, чтобы прояснить, что значит «быть данным». Другими словами, мы сделали само содержание понятия данности данным и тем самым установили его единственным способом, которым, как нам известно, понятия вообще могут быть определены в терминах содержания (хотя и только в тех пределах, в которых, как нам также известно, это может произойти – поскольку понятие данности является общим понятием, оно, естественно, содержит знакомую нам проблему общих объектов как таковых). Таким образом, понятие данного определяется и вводится без того, чтобы предполагалось понятие «я», без того, чтобы оно использовалось.
Конечно, утверждение, что существование содержания может быть только отношением его к непосредственно переживаемому «я», обычно имеет в основе другую мысль. Аргумент выглядит так: если я вижу цвет, то этот цвет дан мне. Но теперь я утверждаю, что этот цвет все еще существует, когда его никто не видит, т. е. когда он не дан, когда данность, так сказать, отпадает от него. Но данность может отпасть от объекта, а объект остаться тем же самым, если он является лишь отношением к чему-то другому, в которое объект может и не может войти. Но в этом аргументе есть несколько ошибок. Прежде всего, как мы уже знаем, неверно утверждать о самом данном феноменальном содержании, что оно существует и без того, чтобы быть данным как феноменальное содержание: реальный цвет, о котором мы говорим, что он все еще существует, когда мы закрываем глаза, не тождественен тому, что мы видели за мгновение до этого, но это реальная сущность, которая при данных условиях представляется мне в этом, при других условиях в другом феноменальном цвете. Если мы понимаем синий цвет здесь как эту конкретную феноменальную данность, то не имеет смысла говорить о нем, что он существует, не будучи данностью, так же как не имеет смысла говорить, что он существует, не будучи синим. Ибо тогда ничто иное не может быть понято существом этого данного факта, как данное существование; это одно и то же, говорю ли я, что определенный факт дан или определенный данный факт есть, существует[15 - Я не утверждаю здесь, что «логическим противоречием» является утверждение, что феноменальный объект может существовать и без того, чтобы быть данным, но, наоборот, я выступаю против утверждения, что логически необходимо, чтобы все данное было дано «Я».].
Наконец, утверждение, что всякое данное содержание должно быть кому-то дано, может, конечно, иметь и другой смысл. Оно может иметь смысл. Оно может иметь тот смысл, что каждое такое содержание должно появиться как звено в потоке связного события сознания, связанного с воспоминаниями, чувствами, волевыми актами, которые мы относим к одному и тому же эго. Но тогда, как вы видите, данное и данное кому-то не являются синонимами, даже если я считаю фактически верным, но потому не самоочевидным положением, что все данное также дается кому-то, то есть в контексте жизни сознания.
Возьмем личность, эго, душу, в том смысле, который был определен сейчас, как реальный, нефеноменальный, самосуществующий, постоянный, идентичный объект, с которым связаны постоянно меняющиеся приходящие и уходящие чувства, волевые акты, воспоминания и т. д. Эта личность относится к своим чертам характера, склонностям и т. д. так же, как физический объект относится к своему идентичному, постоянному реальному цвету или форме, которые по-разному проявляются в меняющихся восприятиях цвета и формы. Характер и художественные, научные склонности – это склонности воли, чувства и мысли, т. е. реальные, постоянные факты в личности, которые сами по себе не воспринимаются, но проявляются в определенных переживаемых актах воли, чувства и мысли, подобно тому как свойство золота быть легкоплавким не воспринимается само по себе, но является склонностью золота к определенным воспринимаемым изменениям. Наконец, в области психически-реального, так же как и в области физического, существуют не только постоянные, но и временные предрасположенности или реальные свойства. Я вспоминаю тождественное состояние движения сферы, которое появляется в восприятии, но само по себе не является перцептивным содержанием, и вспоминаю, например, состояние плохого настроения, которое длится некоторое время, но само по себе является преходящим, которое также не является специфическим переживанием, а проявляется во всех видах переживаний.
9. Данность отношений
а) Реляционный опыт и объективные отношения
До сих пор, когда мы говорили о данности, мы имели в виду увиденный цвет, услышанный звук, пережитое чувство. Однако это даже не затрагивает определенную группу обстоятельств.
Ограниченное количество точек распределено по листу бумаги через случайные промежутки времени. Что мы видим, когда смотрим на этот рисунок? Самый очевидный ответ, казалось бы, заключается в том, что мы видим эти точки в их своеобразном цвете и форме, а также белый фон, на котором они выделяются. То, что этот ответ недостаточен, является общим местом в современной психологии, по крайней мере со времен эссе Эренфельса о «гештальт-качествах» и последовавших за ним научных дискуссий.
Точки, которые мы там видим, не изолированы друг от друга, а образуют некую фигуру, и о фигуре как таковой можно сказать, что она есть нечто «видимое» нами, точно так же, как и о точках. Они образуют фигуру, но мы также можем сказать, что они образуют более или менее единое целое. Теперь мы думаем о том, что точки расположены не нерегулярно, как раньше, а через равные промежутки времени. Теперь есть около шести точек, которые образуют изображение шестерки игральных костей. Тогда форма изображения, которое мы видим, изменилась, но в то же время целое, которое это образование для нас представляет, стало более однородным, характер однородности, который на него накладывается, усилился. Или: мы сохраняем неравномерное распределение, но в то же время придаем отдельным точкам, а также отдельным частям фона другой цвет. И опять же, изменение цвета – не единственное изменение, произошедшее в структуре; мы одновременно видим, что однородность целого перед нами уменьшилась или что она приобрела в большей степени характер множественности. Наконец, этот характер единства и множественности фигуры может изменяться и без всякого изменения цвета или формы данного. Например, если точки расположены в виде горизонтального креста, мы можем произвольно видеть фигуру в виде креста в одном случае, а затем суммировать точки таким образом, что наше сознание увидит два прямых угла, встречающихся в одной точке. Тогда точки и расстояния между ними остаются точно такими же, но фигура в обоих случаях имеет совершенно иной вид: ведь единый характер целого нарушен или изменен[16 - Как видно из того, как вводятся эти примеры, я считаю «данным» в этом отношении только то, что Штумпф называет «психическими сущностями» в своем академическом трактате «Явления и психические функции» (Берлин, 1906), а не психические «функции» Штумпфа, которые я могу рассматривать только как бессознательные, выводимые условия этих данных сущностей. Тот факт, что я не считаю все психические сущности Штумпфа данными, показывает мою позицию по отношению к общим понятиям. С другой стороны, я полностью согласен с феноменологическим анализом, который практикует Шуман в своих «Вкладах в анализ лицевых восприятий».].
Помимо цветов и форм, мы, конечно, могли бы выбрать в качестве примера тона или тактильные качества. Ряд тонов также представляется нам более или менее замкнутым целым, однородность которого уменьшается по мере увеличения разнообразия отдельных тонов и регулярности отдельных интервалов. Тот факт, что здесь мы имеем дело с последовательным единством, целым, растянутым во времени, в то время как ряд точек, расположенных в легко понятной форме, обычно представляет для нашего восприятия по крайней мере одновременную сущность, не имеет существенного значения.
Таким образом, единство и множественность сущности предстают перед нами как особый, непосредственно постижимый характер, как постижимая характеристика самой этой сущности. Или, говоря иначе: существуют обстоятельства, которые дают нам повод для формирования понятий единства и множественности, в которых мы непосредственно переживаем смысл этих понятий, без которых эти слова вообще не имели бы для нас смысла. Конечно, эти содержания как обоснованные содержания, как характеристики, всегда связаны с другими содержаниями, которые мы переживаем как единые или многообразные; они также существенно зависят от обосновывающих содержаний в своей природе и силе – момент единости может быть увеличен, он всегда имеет определенную степень, – но, как показывают примеры, они также самостоятельно изменчивы в определенных пределах.
Единство и множественность – противоположности, но – за исключением пограничного случая абсолютного единства – они одновременно реализуются в каждой структуре, которая предстает перед нашим восприятием, только впечатление от ее единства является обратным впечатлению от ее множественности; если одно увеличивается, то другое уменьшается в той же пропорции. И в большем числе случаев мы также переживаем в объекте одновременно и единство, и множественность, хотя обычно не оба в одинаковой степени, но одно подчинено другому, а именно везде, где перцептивное или имагинативное содержание предстает перед нами как единое целое, и в то же время мы осознаем части, которые оно содержит. Есть, конечно, и такие случаи, когда воспринимаемое или воображаемое содержание первоначально предстает перед нами только как единое целое и когда требуется особое рассмотрение, изменение отношения, чтобы осознать множественность, большинство частей. Примером может служить тон, который звучит в течение нескольких секунд, не меняя своего качества, и в котором мы лишь впоследствии, по памяти, различаем фазы. К осознанию единства и разнообразия присоединяется еще одна группа феноменальных фактов. Я сравниваю два цвета и понимаю, что они одинаковы; в другой раз я распознаю два тона как разные. Я смотрю на два лица и нахожу их похожими; я узнаю, что два участка дороги длиннее, чем другой. Не подлежит сомнению, что во всех этих случаях в моем сознании присутствуют не только цвета, звуки, расстояния, но что с этими содержаниями связано что-то еще, что на них строится другое отдельное состояние сознания, именно сознание одинаковости, сходства, различия, то есть состояние опыта, которое заставляет меня говорить об одинаковости цветов, различии звуков и т. д. В другое время я могу видеть те же цвета и формы, но мне не приходит в голову сравнивать их; мне не хватает сознания одинаковости, различия и сходства. С другой стороны, мы, конечно, можем ощущать сходство только тогда, когда перед нами находится некое одинаковое содержание, перцептивное или имагинативное. Сознание одинаковости, как и любое другое реляционное сознание, – это «обоснованный факт», факт, который не может существовать для воображения без основы из других, независимых содержаний. Теперь мы должны прояснить: этот данный факт, который я назвал здесь непосредственным сознанием равенства, не является равенством, которое существует между двумя сравниваемыми объектами. Чтобы иметь этот феноменальный факт, я должен определенным образом удерживать сравниваемые объекты вместе, я должен их сравнивать; но объекты также равны, их равенство существует, оно есть, когда я не сравниваю, когда феноменальный факт равенства, сознание равенства, не существует. Да, объекты также могут быть равными и переживаться как неравные, как доказывает пример геометрически-оптических иллюзий – точно так же, как объективный красный цвет может показаться мне серым при определенных условиях (ночью). Объективное равенство, отношение, существующее между двумя объектами, соотносится с реляционным сознанием, с обсуждаемыми здесь фактами, точно так же, как феноменальный синий цвет соотносится с реальным синим цветом стоящей передо мной вещи.
Или короче: понятие объективного или реального равенства – это именно понятие реальной сущности, которая не дана нам как таковая, а только в своих явлениях. Мы не знали бы о синем цвете, если бы не видели синих цветов, мы ничего не знали бы о равенстве, если бы не могли постичь это феноменологическое отношение как таковое; но мы не постигаем реально существующий синий цвет, который остается тем же самым, даже если он становится невидимым, и мы не постигаем равенство, которое также остается тем же самым, даже если никакой данный факт не убеждает нас в его существовании. Таким образом, понятие объективно существующего отношения включает в себя ту же проблему, что и понятие вещи и рода.
Здесь возникает один вопрос: Как соотносятся реальные отношения, объективно существующие одинаковость, различие, единство, множественность, с физическим и психическим реальным и их различием, о которых мы говорили в предыдущих параграфах? Прежде всего, сходство и различие, очевидно, могут быть обнаружены как в одной, так и в другой области; психические и физические объекты могут быть одинаковыми и разными, могут быть едиными и реализовывать множественность внутри себя. Отношения, рассматриваемые как реальные сущности, выходят, таким образом, за рамки противопоставления физического и психического. Есть и еще один момент. Мы также можем сравнивать феноменальные факты как таковые (более того, строго говоря, по очевидным причинам это единственные вещи, которые мы можем сравнивать прямо и непосредственно) и признавать их одинаковыми и различными, едиными и составными. Замечательно, следовательно, то, что у нас не только есть феноменальное осознание одинаковости и различия по отношению к таким феноменальным реальностям, но что мы можем также говорить об объективно существующем одинаковости и различии их здесь на основе такого осознания; они равны или неравны, они содержат множественность и так далее. Это не только означает, что мы теперь имеем соответствующее сознание отношений к этим условиям, но это означает, что эти отношения существуют в действительности, объективно, и существовали бы также, если бы мы не довели их до нашего сознания. Поэтому мы можем, как бы странно это ни звучало, приписывать феноменальным обстоятельствам реальные отношения. Это основа возможности феноменологии, чистого описания как науки. Ведь если мы хотим описывать, классифицировать и систематизировать феноменальные факты как таковые, мы хотим делать это в объективно обоснованных суждениях. Сравнение и анализ (разложение целого на части) являются средствами описания, а сравнение и анализ относятся к сходству и различию, единообразию и большинству. Поэтому должно быть возможно установить эти отношения как объективно существующие в суждениях, основанных на феноменальных обстоятельствах. На чем в конечном счете основывается эта особенность отношений, будет рассмотрено позже.
Это одновременно разрешит серьезное для феноменализма возражение, которое, в частности, выдвигает Штумпф («Явления и психические функции») и на которое иногда ссылается Гуссерль, – возражение, что мы можем сказать о тоне, например, что он – этот самый тон – имеет определенную высоту и тембр, а не что он приобретает их только в результате соответствующего анализа, направленного на него.
Ведь равенство и различие существуют и между идеальными сущностями, между жанрами. Поэтому мы не должны считать отношения вообще идеальными объектами. Равенство, существующее, например, между двумя физическими вещами, – это, во-первых, нечто конкретное, а не нечто общее, и, во-вторых, оно не существует вне времени в том же смысле, что и общие объекты: эти вещи могут быть одинаковыми какое-то время, а затем стать разными. Равенство in abstracto – это, конечно, общий, а значит, идеальный объект.
б) О феноменологии реляционного сознания и теории отношений.
Сознание единства и множественности, с одной стороны, и одинаковости и различия – с другой, не случайно оказались рядом. Скорее, между ними существует внутренняя феноменологическая связь. Три факта показывают нам, что понятия одинаковости и * единства и, соответственно, разнообразия и множественности имеют отношение друг к другу.
Во-первых, в предыдущем параграфе я обратил внимание на своеобразную связь между понятиями единства и множественности. Мы можем легко увидеть, что такие же отношения существуют между одинаковостью и различием.
Во-вторых, я вижу два одинаковых цвета рядом, разделенных пространством, или слышу два тона, один за другим, разделенные промежутком времени. Если я затем сдвину их вплотную друг к другу, если позволю разделительному пространству или времени исчезнуть, цвета и звуки неизбежно сольются в единое целое. В более общем смысле осознание того, что перед нами два одинаковых объекта, сливается с осознанием того, что присутствует один объект, как только исчезают все различия, включая пространственно-временные, то есть равенство фактически становится совершенным. Там, где мы должны испытывать абсолютное равенство, мы на самом деле испытываем единство.
И наконец, в-третьих, вместо того чтобы сказать: два объекта одинаковы, мы также говорим: это «один и тот же» объект, только отличающийся в ту или иную сторону, например, пространственно, временно, по отношению к более общему контексту; или существует только один объект, но он существует дважды.
Первый факт показывает нам, что между единством и множественностью существует аналогия, второй – что между этими двумя парами понятий существует внутренняя связь. Третий, наконец, доказывает, что эта связь уже интерпретирована языком обыденной жизни таким образом, что равенство обычно представляется как некий уровень или как форма единства. Но это означало бы не что иное, как то, что сознание равенства восходит к сознанию единства. Для того чтобы такая точка зрения была оправдана, необходимо более точно определить то сознание единства, к которому можно было бы обратиться именно как к сознанию равенства.
Предположим, мы смотрим на два одинаковых цветовых пятна, разделенных небольшим промежутком. Тогда эти пятна вместе с пространством между ними могут образовать фигуру для нашего восприятия. Более того, как уже было подчеркнуто, они всегда будут это делать, когда пространство между ними исчезнет. Это сознание единства, которое превращает два сравниваемых содержания в более или менее независимые части пространственной фигуры, очевидно, не является искомым сознанием одинаковости; напротив, уже подчеркивалось, что в этом сознании полного единства сознание одинаковости скорее исчезает. Скорее, предпосылкой для возникновения сознания одинаковости является то, что объекты, одинаковость которых мы должны осознать, не противостоят нам сразу как части понятийного содержания, в случае цветов и форм как части пространственной фигуры, в случае звуков как фазы последовательного целого, но что всякая связь такого рода растворяется, что объекты резко выделяются и противостоят друг другу как двойственность или большинство, множественность. Это уже заложено в слове «отношение»; равенство – это отношение. Отношение может существовать только между двумя или более объектами; оно означает отрицание абсолютного единства. В то же время здесь мы имеем дело с сущностью сравнения: сравнивать два объекта не значит просто наблюдать их вместе, как иногда думают. Если я просто вижу комплекс штрихов в ряде нарисованных штрихов, я также наблюдаю штрихи вместе, но это совместное наблюдение не является тем, что характеризует сравнение. Напротив, характерным для сравнения является различие, взаимная отнесенность наблюдаемых вместе объектов. Если мы теперь сравним два объекта таким образом, то есть если мы будем практиковать то наблюдение, которое исключает существование единой фигуры для нашего сознания, мы все же сможем обрести сознание единства по отношению к наблюдаемым объектам. И именно это сознание мы называем сознанием единства – сознанием единства, которое неразрывно сочетается таким особым образом с сознанием множественности.
Рассмотрим этот вопрос на специальном примере. Если мы сравниваем две цветные поверхности рядом друг с другом, то, если сравнение действительно имеет место, границы поверхностей должны как можно резче отстоять друг от друга. Пространство между ними, которое может их соединять, регулярно учитывается только в той мере, в какой оно является разделяющим пространством; качества, содержащиеся в нем, меркнут на заднем плане. Точно так же, когда мы сравниваем два или более тона, эти тона не должны сливаться в один тон, и у нас не должно создаваться впечатление прерванного тона, если сравнение действительно имеет место, но они должны четко противостоять друг другу в своем отдельном временном существовании, мы должны, перефразируя, осознавать, что один тон уже закончился, а другой начинается. Временной интервал снова наблюдается только как разделяющий интервал.[17 - Мы можем получить это сравнительное отношение к содержаниям, которые следуют одно за другим, так же как и к тем, которые даны одновременно; это сознание единства может охватить два последовательных содержания так же, как и два одновременно данных. В тех случаях, когда мы выносим суждение о том, что нечто, увиденное сейчас, равноценно тому, что было увидено давно, без того, чтобы это нечто, увиденное ранее, представлялось сейчас, более того, возможно, без того, чтобы оно точно запоминалось (ср. Грюнбаум, Абстракция равного, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 12) и A. Brunswig, Das Vergleichen und die Relationserkenntnis, Leipzig 1910), я, конечно, считаю, что суждение обусловлено вторичным впечатлением, ассоциативно связанным с фактом одинаковости в смысле Фридриха Шумана (см. F. Schumann, Beitr?ge zur Analyse der Gesichtswahrnehmungen).] Неважно, возникает ли это отношение, входящее в сущность сравнения, произвольно или само собой, т. е. предстает ли само сравнение перед нами как «осязаемость» или нет. Вполне понятно, что осознание равенства скорее всего возникнет там, где содержание сразу же предстает перед нами как четко разграниченное и разделенное, не требующее никаких усилий внимания. Труднее всего это будет сделать там, где два содержания не имеют пространственного качества и являются одновременными, то есть обязательно переживаются как временное целое, которое, если содержания действительно одинаковы, может быть растворено только при условии, что присутствует хотя бы одно различие фундаментальных элементов, и здесь также, чтобы осуществить фактическое сравнение, всегда необходимо несколько раз обратить внимание на звуки, сначала больше внимания уделяя одному, а затем больше другому, то есть одновременность двух звуков может быть осознана только в том случае, если они действительно одинаковы. Другими словами, одновременность растворяется в последовательности. Конечно, мы можем сравнивать между собой и сами пространства и времена, но тогда сами эти пространства и времена должны находиться в разных точках «того» пространства или времени и как таковые приходить к нашему осознанию по отдельности, они не должны переживаться нами как части пространственно-временного целого. Мы не должны позволять себе обманываться термином «одновременность». Осознание одновременности двух событий – это, несмотря на слово, не переживание одинаковости, а осознание единства иного рода, осознание отрезка времени, наполненного множественностью содержаний.
Чтобы не быть неправильно понятым, я хотел бы сделать особое замечание: из того факта, что поверхность навязывает нам восприятие как совершенно однородное целое без каких-либо разделяющих частей, мы, конечно, можем заключить, что отдельные части, из которых состоит поверхность, не имеют никакого различия в цвете, но восприятие одинаковости и переживаемое сознание одинаковости – это, конечно, две разные вещи. Тем, кто считает сомнительным говорить здесь о реализации, я напомню, что в таком случае, если мы хотим говорить точно, мы не склонны говорить, что части были признаны равными, а скорее, что они были «неразличимы» и, следовательно, с большой вероятностью должны рассматриваться как равные. Сознание неразличимости часто четко отличается от позитивного сознания равенства, как показывают, в частности, тахистоскопические сравнения, и там, где это происходит, по моим наблюдениям, термин «неразличимый» почти всегда является выражением того факта, что сравнение вообще не состоялось, потому что сравниваемые объекты не смогли отличиться друг от друга – чего, с другой стороны, следовало бы ожидать, если бы существовало различие, поэтому неразличимость является признаком равенства. (В других случаях, конечно, «недифференцированный» был выбран в качестве выражения для осознания положительного равенства, чтобы сделать как можно более осторожное суждение и указать, что человек хочет выразить только свое субъективное убеждение).
Сознание единства, которое мы имеем по отношению к двум пространственно или временно разделенным феноменальным реальностям как таковым, то есть с полным осознанием их пространственно-временной разделенности, есть сознание равенства. Следует отметить, что это осознание абсолютного единства, которое уже не способно к увеличению.
Абсолютное единство противопоставляется большему или меньшему единству сущности, способной к постепенному возрастанию, и подобно тому, как сознание одинаковости есть качественное сознание единства, т. е. сознание единства, связанное с сознанием пространственно-временной множественности сравниваемого, мы находим соответствующее сознание качественного единства в факте сходства. Сходство может возрастать до одинаковости, одинаковость может рассматриваться как высшая степень сходства, так же как однородность – относительное единство – может возрастать до абсолютного единства. Равенство противоположно разнообразию, оно исключает разнообразие, так же как абсолютное единство исключает все разнообразие. Сходство же не исключает определенного качественного различия, а скорее включает его в себя – сходные объекты всегда в то же время различны, – а единообразие точно так же включает в себя относительную множественность. Сознание сходства, таким образом, содержит в себе одновременно и сознание различия, сознание множественности. Разница лишь в том, что в той мере, в какой этот момент различия или множественности выдвигается вперед и доминирует, сходство становится для нас менее важным, чтобы в конце концов перейти в чистое сознание различия.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что существует два различных типа сходства, только один из которых можно понимать как более низкий уровень одинаковости. Если я брошу шарик с высоты 1 метр, а другой – с высоты 2 метра на пластину из слоновой кости, оба звуковых впечатления будут разными по интенсивности, но в то же время похожими друг на друга. Теперь я постепенно увеличиваю высоту падения первого шарика, и одновременно с этим сходство впечатлений увеличивается, пока при одинаковой высоте падения не достигается полное равенство. Сравните это с другим случаем: сначала звучит тон, затем его октава. Тогда эти два тона также находятся в отношениях сходства – созвучие, или сходство звучания, наблюдаемое в последовательно звучащих тонах, является определенным видом сходства. Но сходство, которое, даже если оно имеет степени (два тона могут быть более или менее созвучны), никогда не может рассматриваться как меньшая степень одинаковости. Чтобы понять это своеобразное сходство, мы можем поискать его в другой области. Представьте себе два круга одинакового размера, но разного цвета. Тогда эти фигуры, с одной стороны, одинаковы по форме, а с другой – различны по цвету. Таким образом, у нас есть сознание одинаковости и сознание различия, но оба они как бы неопосредованно находятся рядом друг с другом, поскольку относятся к разным объектам. Однако мы можем также намеренно сделать так, чтобы это разделение цвета и формы исчезло для нашего внимания, и сравнить обе фигуры как единое целое. Тогда сознание единства и множественности остается, но объекты, к которым оно относится, уже не стоят отдельно, и, следовательно, сами эти впечатления также должны слиться в единое сознание отношений.
Но таким продуктом слияния является, как мы знаем, сознание сходства. И два круга, сравниваемые таким образом, действительно кажутся нам похожими. Но в этом сходстве есть иное единство и разнообразие, чем в предыдущем случае с двумя звуковыми впечатлениями. Там громкость звуковых впечатлений одновременно и сходна, и различна в той мере, в какой она не сходна (однородна). Каждый сдвиг в сторону сходства требует соответствующего сдвига в сторону различия. Здесь же, строго говоря, единство и множественность относятся к разным сторонам объекта, так что сдвиг в одну сторону, увеличение равномерности, не может означать сдвига в другую сторону, уменьшение множественности, и наоборот. В то же время можно заметить, что в данном случае увеличение и уменьшение вообще не могут иметь места. Единство формы так же абсолютно, как и множественность цвета. Благодаря этому сочетанию максимально возможного единства с максимально возможной множественностью, подобное сходство достигает своей высшей степени, причем эта высшая степень не может совпадать с равенством как таковым.
Сознание сходства и различия связано с другим феноменальным набором отношений: с определенным числом, двойственностью, троичностью и т. д. Разумеется, мы должны быть в состоянии осознать, что означает триединство в конкретном случае, так же как мы должны быть в состоянии осознать значение слов «равенство» и «сходство». Когда мы рассматриваем ряд из трех точек, мы сразу же схватываем их в их определенном количестве и отличаем их как три от четырех, так и от двух точек. Но что это за характер триединства, который такая сущность проявляет для нас как феноменально данная? Мы можем сосчитать только идентичные объекты или объекты, которые мы считаем идентичными – Peter и Paul – два человека, звезда и стол – два физических объекта. Это означает, что целое, состоящее из идентичных объектов, всегда имеет для нас характер некоторого разнообразия, которое мы выражаем, говоря об определенном количестве этих объектов. Таким образом, счет предполагает две вещи: реализацию равенства отдельных элементов, одновременное объединение этих элементов в целое и выявление характера множественности, которым всегда обладает для нас подобное целое. Однако и это лишь предварительное определение, к которому мы вернемся в другом месте при обсуждении закона числа.
Наконец, в этом контексте нам не хватает еще одного, самого важного для дальнейшего изложения понятия отношения, особенность которого также связана с особой проблемой: понятия тождества. Эта проблема заключается прежде всего в том, что мы понимаем отношение как под тождеством, так и под сходством и различием, но поскольку отношение предполагает по меньшей мере двойственность реляционных элементов, то в смысле тождества, казалось бы, должна быть отменена всякая двойственность, всякая множественность, два одинаковых объекта переплавляются в один. В этих условиях как вообще может возникнуть осознание того, что два объекта тождественны, когда и где мы можем испытывать отношения такого рода? Случай, когда мы испытываем нечто подобное, в принципе уже известен нам. Мы представляем что-то в своем воображении – и вот воображаемый образ предстает перед нами, он воспринимается нами. Тогда воображаемый образ не тождественен последующему перцептивному образу, но последний тождественен тому, что представлено в воображаемом образе. Мы осознаем, что именно то, что мы видим, представлено нам в мысленном образе, что мы видим через мысленный образ. Мы видим, на чем основывается возможность говорить здесь о тождестве: она основывается на том, что в представлении есть две вещи, само представление и то, что в нем представлено, естественный символ и то, что в нем символизируется. Последнее, однако, может совпадать с фактом, воспринятым или пережитым нами в другое время.
То же самое можно сказать и о том, где бы мы ни воспринимали символ – даже искусственный – и то, что в нем символизируется. Последнее, однако, может совпадать с фактом, воспринятым или пережитым нами в другое время.
Наконец, то же самое можно сказать и о тех случаях, когда перед нами находится символ – в том числе и искусственный – слово. Здесь, но только здесь, выполняются условия, позволяющие осмысленно применять понятие идентичности. «Тождество» может существовать только между значением символа и данным фактом или между значением двух символов. Ибо только здесь мы имеем двойственность и в то же время абсолютное единство, абсолютное совпадение: Один и тот же объект предстает перед нами один раз непосредственно и один раз через посредничество того или иного символа. И мы переживаем идентичность, ощущая исполнение символа в данном факте.
10. Методология предшествующего феноменологического анализа. Критико-исторический экскурс.
Эпистемологическое направление, которое обычно называют «феноменализмом», можно охарактеризовать тремя принципиальными способами. Во-первых, феноменализм принципиально требует, чтобы все знание «исходило» из данности. Я принял это требование в начале своих замечаний и уточнил его в своем смысле: языковые символы, используемые в познании, в конечном счете, в той мере, в какой они должны иметь значение сами по себе, должны быть заменены данностями. Против тех философских школ, которые в принципе выступают против этого требования, необходимо было поставить вопрос о том, как они, не признавая абсолютной данности, защищают свои слова от того, чтобы они не были просто бессмысленными звуками. Все, что было добавлено, – это то, что существует косвенное и непосредственное приведение к данности, но что о реальной косвенной данности можно говорить только там, где есть репрезентативный (память, фантазия) образ косвенной данности. Во-вторых, феноменализм утверждает, что выйти за пределы данности в плане познания невозможно. О том, в каком смысле это утверждение, которое, разумеется, никогда не бывает абсолютным, верно, а в каком – неверно, пойдет речь в следующей главе. В-третьих, феноменализм утверждает, что то, что он называет «феноменами» в своем смысле, является единственной данностью. Это понятие феноменов, в свою очередь, может быть определено в трех направлениях.
Первое: феномены – это единичные, индивидуальные факты. Только такие факты являются данностью.
Во-вторых: феномены – это явления в отличие от всего того, что материально реально. В частности, они не являются чем-то, что могло бы повториться как идентично то же самое, или существовать для другого сознания, или продолжать существовать как нечто еще не данное.
Наконец, в-третьих: то, что дано, есть большинство феноменов, видимостей – не видимость изменяющегося содержания. Даны «содержания», но нет «актов», которые бы особым образом опосредовали существование этих содержаний.
Если мы определим утверждение, что таким образом могут быть даны только явления, то предыдущие анализы приведут нас к феноменализму. Феноменологический анализ фактов, поскольку вопрос о том, даны ли только явления или что-то еще, является в конечном счете чисто фактическим вопросом, не является самоочевидным или логически необходимым, что не существует никакого другого существования. Логические соображения были необходимы только в одном направлении: если мы хотим знать, дана ли вещь, мы должны поразмыслить над тем, что вообще уступается нам в понятии вещи, мы должны предшествовать этому с – предварительным – анализом понятия вещи, чтобы решить, действительно ли то, что дано здесь или там, может быть рассмотрено как вещь. Только в этом смысле логические аргументы использовались, так сказать, в качестве вспомогательного средства для постановки феноменологического вопроса; фактическое решение принимается, конечно, путем анализа самого данного.
Чтобы особенно подчеркнуть это, я не использовал слишком удобный аргумент, который был частью железного запаса феноменализма со времен Беркли, что это логическое противоречие, если мы приписываем существование воспринимаемому объекту &n too convenient argument, which was part of the ironclad stock of phenomenalism since Berkeley, that it is a logical contradiction if we attribute existence to a perceived object &n too convenient argument, which was part of the ironclad stock of phenomenalism since Berkeley, that it is a logical contradiction if we attribute existence to a perceived object independently of perception. Этот аргумент недавно подвергся справедливой критике с разных сторон[18 - Ср. Карл Штумпф, Erscheinungen und psychische Funktionen, и Oswald Kulpe, Die Realisierung, vol. 1.]. Как аргумент он фактически является petitio in principii [он предполагает то, что должно быть сначала доказано – прим. пер.] Ведь из того, что утверждение о существовании объекта восприятия без того, чтобы его воспринимать, содержит логическое противоречие, никак нельзя заключить, что под бытием мы не можем понимать ничего иного, кроме сознания или данного существования, а только наоборот: ответ на вопрос, есть ли здесь логическое противоречие, можно дать только тогда, когда мы знаем, что такое бытие и что такое данное существование. Ход моей аргументации, повторю ее в другой форме, был иным по отношению к рассматриваемому пункту; отправной точкой является вопрос: что значит, что содержание дано? Значит ли это, что содержание обладает отделимым свойством, например, отношением к чему-то другому (к акту, узнающему Я), так что мы могли бы представить себе содержание один раз с этим свойством, другой раз без него, чтобы косвенно привести его к данности? Это было бы мыслимо само по себе, это не было бы логическим противоречием – не было бы противоречием иметь возможность представить себе невоспринимаемый объект; если я допускаю, что объект представлен мне непосредственно данным содержанием сознания, то из этого нельзя логически заключить, что то, что представлено, само является непосредственно данным содержанием сознания (как обычно выражаются, когда я что-то думаю, это не значит, что то, что думается, также является мышлением). Но здесь я имею в виду факты. Невозможно ответить на предложение представить себе то, что мы сейчас воспринимаем как красный цвет, один раз как воспринимаемый и один раз как не воспринимаемый, просто визуализируя два феноменально различных данных. У меня нет двух таких данных. Поэтому мысль о таком невоспринимаемом цвете – это не логически противоречивая мысль, а пустое слово, которое не может быть наполнено мыслимым содержанием. Если же мы все же говорим о цветах, которые фортексируют, казалось бы, осмысленно, то это логическая проблема.
Точно так же в другом случае, в задаче визуализации двух объектов, которые, несмотря на их двойственность, абсолютно идентичны, я способен представить себе только в одном случае, но и здесь плавно решаемом, что это два объекта, один из которых символически представляет другой, символическая функция одного выполняется в другом. Понятие двух разных, взаимно независимых сущностей, которые не находятся в символическом отношении друг к другу, но между которыми существует тождество, опять-таки является для меня пустым словом, которое не может быть наполнено никаким определенным содержанием. Поэтому, если мы говорим о таком тождестве, казалось бы, осмысленно, это, в свою очередь, ставит логическую проблему.
Если этот феноменологический анализ верен, то из него опять-таки следует, что вещи не даны и что Я не дано, ибо момент тождества играет в этих понятиях существенную роль. И что когда мы описываем данное как то же самое, что уже было раньше, это языковое выражение, даже если оно возникает совершенно немедленно, все же не является простой констатацией данного факта, но некой его интерпретацией, смысл которой необходимо сначала отыскать, что мы должны сначала спросить себя, почему такое утверждение может иметь смысл и в чем он может состоять.
Из последнего и предыдущего замечаний ясно, какова внутренняя связь между предположением о существовании реальных и идеальных объектов, с одной стороны, и существованием актов как непосредственно постигаемых ментальных сущностей – с другой. Мы можем резюмировать эту связь следующим образом: Данное существование реального и идеального включает в себя идею о том, что один и тот же объект может быть понят однажды как индивидуальный феномен, однажды как реальная фокусирующая сущность, однажды как родовая сущность, которая также встречается как то же самое в другом месте, и в другой раз, что это изменение концепции происходит в непосредственно данном. Поэтому не случайно, что феноменология Гуссерля выросла из той психологии, которая представляет себя прежде всего как психология действия, из школы Брентано. Но здесь все еще существует двойная возможность: либо говорят, что данное явление становится реальной вещью или общим понятием через добавление соответствующего акта – вещь есть явление, распознанное в конкретном акте суждения, род есть явление, от которого я абстрагируюсь здесь и сейчас. такова, если я не очень ошибаюсь, точка зрения фактического учения Брентано и его учеников. Она претерпела свою первую модификацию благодаря разделению содержания и объекта идей, впервые введенному Казимиром Твардовским[19 - Казимир Твардовский, «Об основании и о смысле слов», Вена, 1894.]. Здесь объект, который здесь точнее означает реальный объект, уже становится чем-то единообразно данным, которому направленный на него акт соответствует только как акт схватывания; он уже не может быть определен как явление, постольку, поскольку определенный акт обращается к нему. Дальнейшее развитие мы находим в трактате Мейнонга «Объекты высшего порядка и их отношение к внутреннему восприятию» и в его идее теории объектов как науки и, соответственно, в феноменологии Гуссерля. Это происходит под впечатлением убеждения, что доктрина Брентано неразрывно связана с трудностями, которые противостоят аристотелевской доктрине общего, что она не в состоянии удержать тождественное-одному то, что имеется в виду. Все наши слова (независимо от того, имеют ли они общее значение или обозначают реальную вещь, являются ли они отдельными словами или целыми предложениями) означают определенную вещь, которая, будучи тождественной, может также означаться в другое время и разными людьми. Это тождественное-одно является либо данностью, либо на его место ставится сумма сходных явлений, связанных именно с такими актами, которые существуют в разное время и в разных сознаниях, – таким образом, происходит «психологическая реинтерпретация». (С другой стороны, в критических выступлениях Марти против Мейнонга и Гуссерля, например, как мне кажется, преобладает мысль, которую я высказал в предыдущих параграфах, что здесь проблемы отсекаются, а не решаются. Отсюда его постоянно повторяющийся упрек, который, на мой взгляд, непредвзятый человек всегда должен чувствовать себя в какой-то степени оправданным, что здесь, в Гуссерле и Мейнонге, излишне вводятся конечные новые классы объективностей).
Нигде сам Гуссерль не резюмирует точку зрения своей феноменологии более резко, чем в трактате «Логос»:
«Все зависит от того, чтобы увидеть и сделать это полностью своим, чтобы увидеть «сущее», сущее «звук», сущее «вещь-явление», сущее «вещь-зрение», сущее «образ-понятие», сущее «суждение» или «воля» так же непосредственно, как услышать звук, и чтобы судить о сущем в видении». С другой стороны, однако, мы должны остерегаться путаницы Юма и, соответственно, не путать феноменологическое видение с самонаблюдением, с внутренним опытом, короче говоря, с актами, которые вместо сущности скорее помещают соответствующие им детали.» (Философия как строгая наука, Логос, т. 1, с. 318)
Фактически, еще раз резюмируя в заключение, мне кажется, что здесь есть только две возможности. Либо признать реальные и идеальные объекты как столь же многочисленные данности, либо отрицать эти данности – но тогда не допустить, что они вообще возникают через композицию актов и явлений, то есть вывести номиналистическое следствие и задаться лишь вопросом о том, как возможны существительные, описывающие вещи и роды, в качестве «значимых» образований языка.
Глава вторая. Природа суждения
1 Слово и суждение. Вопрос о значении высказывания.
Прежде всего напомним проблему, из которой исходили рассуждения первой главы. Каждое понятие, которое мы используем с научным намерением, должно быть эпистемологически «прояснено», т. е. его содержание должно быть сначала четко определено. Мы сталкиваемся с понятиями как с осмысленными словами, поэтому речь идет о том, чтобы четко определить значение определенных слов-символов. Сделать это окончательно можно, по-видимому, только приписав данному слову прямо или косвенно данный факт, в качестве собственного имени которого мы можем рассматривать это слово. Отсюда возник вопрос: можно ли найти такой факт для каждого слова, можно ли каждое слово, которое мы используем, понимать как имя предмета, который мы можем отнести к себе как данность? Ответ на этот вопрос отрицательный. Мы обнаруживаем, что все наши понятия, которые или в той мере, в какой они обозначают идеальные или реальные объекты, не обозначают сущности как таковые и, таким образом, выходят за пределы данного в своем значении. Я назвал этот результат «номиналистическим», тщетная попытка постичь смысл рассматриваемых слов характеризует их как «простые», бессмысленные «nomina», как просто кажущиеся имена, которым не соответствует никакой названный объект, как имена фиктивных объектов, или даже лучше: как фиктивные имена, ибо сам факт, что они являются именами для чего-то, является «фиктивным».
Но тут возникает вопрос: как это может быть, если все считают, что эти слова имеют определенное значение, если мы осознаем, что используем их осмысленно?
Именно этот вопрос указывает нам путь к решению. Мы используем слова в определенном смысле, мы считаем, что связываем с ними значение, когда используем их. Чтобы ответить на вопрос, в какой степени мы говорим здесь о значении, и это значение может быть нам известно, мы должны задуматься об этом употреблении, мы должны искать слова как компоненты живого языка.
Другая мысль направляет меня в том же направлении. Я спрашивал о значении слова. Но слово никогда не встречается само по себе, а только как часть более полного языкового целого, предложения. Так что, строго говоря, вопрос о значении слова содержит нечто противоположное природе. И может оказаться, что слово само по себе не имеет значения, а приобретает его только в контексте предложения, или что так называемое «значение» слова заключается в функционировании его как части действительно значимого целого.
Чтобы снять с этой идеи хотя бы часть парадоксального привкуса, я хотел бы напомнить вам о словах, для которых, как мы все считаем, применимо по крайней мере нечто подобное: так называемые синкатегорематические выражения «и», «или» и так далее. Возможно, существительные общего и вещественного значения также являются в определенном смысле «синкатегорематическими выражениями».
Языковое целое с единым значением, к которому слово добавляется как элемент, уже называлось «предложением». Вопрос о значении слов, которые мы используем, должен предваряться соответствующим вопросом о предложениях.
Я также называл значение слова концептом, связанным с этим словом (хотя само слово «концепт» взято в самом широком смысле). Соответственно, смысл предложения мы можем описать как суждение, связанное с этим предложением.
Смысл каждого предложения – это суждение. Оно также может быть разного рода другими вещами: пожеланием, приказом, вопросом. Но даже если я, например, выражаю пожелание: «Пусть завтра не будет дождя», то в этом высказывании, несомненно, содержится утверждение, что я, говорящий, испытываю именно это желание. И это утверждение является суждением, об истинности которого я могу спросить (Вы действительно этого хотите? Это правда, что вы этого хотите?). Конечно, это утверждение – не то, что говорящий пытается донести до слушателя, что он пытается выразить (в этом отношении языковые выражения «хотел бы, чтобы это произошло» и «у меня есть желание, чтобы это произошло» различаются по смыслу), но оно неизбежно подразумевается в предложении: я не могу выразить желание, не подразумевая суждения о том, что у меня есть желание, или в более общем смысле: я не могу произнести предложение, не содержащее суждения. Смысл предложения всегда имеет форму суждения, даже если иногда это может быть просто форма.
Исследование «понятий», таким образом, приводит нас к исследованию «суждения», поскольку, как было сказано ранее, слова, возможно, приобретают значение только в контексте предложения, или, как мы можем теперь сказать в ответ, понятия, возможно, приобретают фиксированное содержание только как части суждений. В последней форме идея истории философии не является абсолютно далекой. Вспоминается обозначение Кантом понятий как «предикатов возможных суждений» (Kr. d. r. V., издание KEHRBACH, стр. 89).
Наконец, ход нашего рассмотрения сам собой приводит нас к той области, на которую указывает ранее приведенное возражение Гуссерля против номиналистической позиции. В этом возражении утверждается, что номинализм неизбежно ведет к релятивизации знания и понятия истины. Познание происходит в суждениях, понятие истины находит свое исключительное применение в суждениях. Такой поворот исследования автоматически подводит нас к основной проблеме эпистемологии и к вопросу о том, какую позицию по отношению к этой проблеме занимает номиналистская позиция.
2 Критерий суждения.
Суждение как непосредственно данный факт.
Если мы хотим узнать факт, сделать его особенность ясной для нас, мы должны попытаться постичь его непосредственно, то есть привести его непосредственно к данности. Таким образом, если мы хотим ответить на вопрос о природе суждения, мы должны сделать суждение данностью. Задача не кажется трудноразрешимой: нужно, кажется, только осуществлять суждение в своем сознании и смотреть на процесс суждения и его фактическое содержание лишь по мере того, как они предстают перед нашим опытом. Если быть еще более точным: суждения – это смысл предложений. Поэтому речь идет о том, чтобы произносить, читать или слышать предложение «осмысленно», с «осознанием его смысла» и одновременно фиксировать этот смысл в нашем сознании.
Должен ли этот путь привести к желаемой цели? Если мы осмысливаем предложение, должен ли смысл предложения всегда присутствовать для слушающего или говорящего как данность? Мы уже знаем, что это не так. Употреблять слово со смыслом и иметь его значение перед глазами – две разные вещи, и то, что верно для отдельного слова в этом отношении, должно быть, конечно, верно и для предложения.
Но приводит ли простое, непосредственное наблюдение за тем, что происходит в сознании, когда мы произносим предложение со смыслом, к желаемому успеху в каждом конкретном случае, можно, конечно, узнать только опытным путем. В этом отношении древнее определение суждения как «композиции идей», восходящее к Аристотелю, кажется мне поучительным. Очевидно, что это определение основано на лингвистически сформулированном предложении. Предложение представляет собой комбинацию двух слов – оно состоит из субъекта, предиката и соединительной копулы. Каждое из этих отдельных слов имеет свое собственное значение, которое, тем не менее, становится частью значения целого. Это очевидно: определение выводит характер того, что имеется в виду в предложении, из характера предложения. Оно конструирует суждение и его концептуальную сущность, анализируя языковое выражение предложения, вместо того чтобы полагаться на прямой анализ фактов самого суждения. Когда мы выносим суждение: Все люди смертны: действительно ли мы сначала вводим понятия «человек» и «смертность», а затем связываем эти два понятия? Показывает ли нам что-нибудь прямое наблюдение, прямое сознание о таких процессах? Я думаю, что даже спор о том, не происходит ли, возможно, прямо противоположного, разложения «общей концепции» на две отдельные концепции, показывает, насколько мала роль прямого анализа какой-то не чисто языковой сущности во всей теории суждения, основанной на пропозиции. Но не надо было бы конструировать сущность суждения из сущности пропозиции, не надо было бы путать эту конструкцию с прямым анализом, если бы искомое суждение само, без лишних слов, предстало перед анализом. (Наконец, что касается самой цепочки умозаключений, через которую возникло концептуальное определение суждения: если языковое предложение является составным, должен ли смысл действительно быть также составным? Должно ли каждое самостоятельное слово в предложении соответствовать компоненту смысла?
Должно ли суждение связываться или это происходит, если связывается предложение? Так много выводов, так много вопросительных знаков).
Мне кажется, что весь путь, по которому здесь анализируется приговор, – это неверный путь. И он характеризует себя таковым с самого начала. Мы хотели исходить из смысла предложения, языкового целого, чтобы понять, в чем вообще состоит «смысл» отдельного слова; упомянутое здесь определение исходит из того, что смысл предложения содержит в себе смысл отдельных слов, тем самым предполагая, что последние известны.
Но если мы не достигаем цели таким образом, то какой путь мы должны выбрать? Ошибка заключается в том, что мы начинаем с лингвистического предложения. Смысловое употребление слова или предложения не тождественно существованию смысла и никак не предполагает его. Поэтому мы должны, наоборот, максимально освободить себя от внимания к языковому выражению. Иными словами, мы должны попытаться уловить то, что иначе подразумевается в словах, в предложении, в случае, когда оно присутствует там не как нечто означаемое, а как нечто данное. Мы должны начать с данного без слов и пройти через него, чтобы увидеть, есть ли в нем что-то, что мы могли бы выразить в предложении определенного типа. Или, говоря иначе, смысл каждого предложения (в отличие от смысла отдельного слова) характеризуется для нас как «суждение». Именно поэтому мы придали вопросу о значении предложения другую форму вопроса о природе суждения. Если мы хотим ответить на этот вопрос, мы должны принести суждение в его своеобразии в реальность. Это нельзя сделать так, чтобы мы произносили пропозицию и одновременно пытались привнести суждение в реальность, а только так, чтобы мы исследовали известные нам факты, чтобы увидеть, есть ли среди них факт, который мы можем описать и рассмотреть как суждение. Если мы нашли такой факт, то мы одновременно привели суждение к реальности.
Но теперь возникает вопрос: как мы распознаем факт как суждение? Что является характеристикой, критерием суждения? Когда мы классифицируем факт как суждение?
Ответ на этот вопрос старый, и я уже использовал искомый критерий выше: я называю суждением объект, по отношению к которому я могу осмысленно поставить вопрос об истинности, который я могу утверждать и отрицать, т. е. описывать как истинный и ложный. Тот факт, что я могу понимать каждое предложение как выражение «утверждения», об истинности которого я могу спросить, делает смысл каждого предложения суждением.
Конечно, это определение является лишь внешней характеристикой, а не определением сущности суждения, что мы и пытаемся получить. В частности, я ни в коем случае не предполагаю само понятие истины как окончательно проясненное или философски определенное понятие; я лишь предполагаю тот известный факт, что мы используем это понятие и используем его определенным образом. Но что мы на самом деле подразумеваем под вопросом об истине, на этот вопрос мы сможем ответить в философском смысле только одновременно с вопросом о природе суждения.
Мне дано восприятие, я вижу красный цвет или слышу звук. Имеет ли смысл называть эти факты истинными или ложными как таковые? Даже спрашивать об их истинности? Очевидно, нет: я могу спросить, соответствует ли звук, который я слышу, «реальному» звуку или это субъективно обусловленный феномен, действительно ли объект, который я вижу, красный, и суждение, утверждающее это, следовательно, истинно, но цвет, который я вижу как таковой, или звук, который я слышу как таковой, не являются «истинными» или «ложными».
Эта идея была явно подчеркнута в самом начале. Это старое учение о том, что ошибаться могут не органы чувств как таковые, а только разум.
Как и в случае с содержанием восприятия, так и в случае с чувствами и волевыми актами. Чувство печали, гнева или радости есть или нет, оно также может быть укоренено более или менее глубоко в личности, оно может быть оправданным или неоправданным, но оно не может быть «истинным» или «ложным». Мы, конечно, говорим об «истинном чувстве», но в этом явно образном выражении мы имеем в виду более точно «подлинное», «искреннее» чувство, то есть мы имеем в виду, что способ, которым человек выражает свое чувство, соответствует его реальному чувству и что само чувство не является продуктом временной автосуггестии.
В то же время мы видим, почему во всех этих случаях понятие истины не может быть применено по аналогии. Мы имеем дело с некоторыми простыми фактами – такие факты существуют или не существуют, какой смысл утверждать или даже отрицать их, если они существуют?
А теперь сравните эти факты с содержанием нашего воображения, произвольным плодом фантазии. Здесь мы тоже изначально имеем дело с заданным содержанием, к которому применимы те же правила, что и к перцептивным образам и ощущениям. Но в то же время фантазийный образ – это не просто объект, основанный на самом себе, он указывает на что-то другое, на то, что в то же время не является, а именно не является непосредственно данным, он имеет «символическую функцию». Представляя себе золотую гору, я представляю себе нечто в форме фантастического образа, который сам по себе не является фантастическим образом, а именно вид, который такая гора открыла бы мне, если бы стояла передо мной во плоти.
А теперь мы немного изменим пример, заменив фантазийный образ на образ памяти. Образ памяти также указывает на что-то другое; через образ памяти мы вспоминаем что-то другое, существовавшее в прошлом, что «представлено» в этом образе памяти. Теперь я представляю себе прошлое происшествие, я стараюсь представить его как можно более четко, тогда я, очевидно, могу спросить, имело ли это происшествие «реальность» и в том виде, в каком его показывает мне моя память, то есть является ли мой образ памяти «правильным» или «фальсифицирует» то, что я помню. Образы памяти могут быть истинными или ложными, и имеет смысл задавать им вопрос об истинности. Вы видите, на чем это основано: образ памяти – это, конечно, данное содержание, но это нечто большее: это содержание, которое претендует на то, чтобы представлять или изображать другое.
В то же время возникает вопрос о том, что, собственно, означает «вопрос истины». Согласно старому определению, «истина» – это «соответствие объекту». Если согласиться с этим определением, то сущность можно назвать «истинной» только в том случае, если она, во-первых, имеет «объект», то есть относится к чему-то вне себя, и, во-вторых, «соответствует» этому «объекту», то есть призвана его представлять или изображать. Поэтому в нашем языке мы можем сказать, что истинным может быть только тот объект, который, во-первых, является символом, а во-вторых, естественным символом.
Есть, конечно, еще один момент: очевидно, что я могу задавать вопрос о соответствии одного образа другому только там, где действительно есть два образа, где я могу хотя бы теоретически провести различие между представлением и изображаемым. Я могу спросить, действительно ли у Октавио Пикколомини был такой сын, какого Шиллер приписывает ему в «Максе», но я не могу спросить в том же смысле, действительно ли у старого мавра было два таких сына, как Франц и Карл Мавр, потому что последние три личности существуют только в том виде, в каком они изображены в представлении Шиллера, и поэтому нет смысла противопоставлять их их представлению и искать в них различные и соответствующие черты. По той же причине мы не можем спрашивать об истинности простого фантастического образа. У фантазийного образа есть объект, который он представляет, но этот объект не имеет особого существования; он существует только как объект сиюминутного фантазийного образа. Однако мы также можем изменить фантазийный образ в наших мыслях таким образом, что вопрос о его «истинности» приобретет соответствующее значение, как в случае с образом памяти. Я жду в гости друга, которого не видел двадцать лет. И теперь я представляю, как он будет выглядеть сейчас, я изменяю образ, который память показывает мне о нем в моем сознании, точно так же, как я думаю, что внешность человека имеет тенденцию меняться за двадцать лет. Я создаю для себя фантазийный образ, но этот фантазийный образ хочет или должен представлять то, что я ожидаю увидеть через несколько минут. И теперь я могу спросить, верен ли этот образ, созданный моим воображением, того, что я ожидаю, окажется ли он истинным или ложным. Я могу спросить об истинности фантазийного образа, когда фантазийный образ становится «образом ожидания»[20 - Это выражение и параллель памяти и ожидания, которую оно подразумевает, я нашел только в Groos, Das Seelenleben des Kindes, третье издание, Берлин 1911; на странице 34 Groos разделяет образы воображения на «образы прошлого, образы будущего и свободные фантазии».].
В образе воспоминания и ожидания мы находим данный нам факт, относительно которого мы можем с полным правом задать вопрос о его истинности. Поэтому каждый образ памяти или ожидания следует называть «суждением», поскольку «суждение» должно означать то и только то, что может быть истинным или ложным. Обратите внимание: образ воспоминания – это суждение, оно не «обосновывает» и не «оправдывает» его. Задача, которую я ставил перед собой, заключалась в том, чтобы подвести суждение под данное, я хотел решить эту задачу, отыскав среди известных мне фактов содержание, к которому можно обратиться как к суждению, обратившись к образу памяти или ожидания, я таким образом выполнил эту задачу до сих пор.
3. Память, ожидание и эмпатия как три формы, в которых суждение может быть непосредственно дано. Особое положение суждения ожидания.
Образ воображения, с одной стороны, и образ памяти и ожидания, с другой, отличаются друг от друга определенным образом; точно так же образ памяти и ожидания имеют характерные различия. Мы можем охарактеризовать эти различия, говоря о том, что в образе памяти и ожидания воображаемый объект в то же время устанавливается или представляется как реальный, с одной стороны, в определенный момент прошлого, с другой – в момент будущей жизни нашего собственного сознания. Сразу оговорюсь, что я даю лишь описание, а не «объяснение» этого различия. Я не могу объяснить факт памяти, вводя понятие прошлого, но наоборот: мы узнаем, что такое «прошлое», через факт памяти. Без памяти для нас не существовало бы прошлого, то есть слово «прошлое» было бы для нас таким же бессмысленным, как термин «красный» для дальтоника. Точно так же термин «будущее» имеет для нас смысл только благодаря факту ожидания. Различие между образом памяти и образом ожидания, а также между ними обоими, с одной стороны, и простым фантазийным образом, с другой, – это непосредственно переживаемое или данное различие. Оно заключается в особом положении косвенно данного или воображаемого; я обозначаю его, вводя термины «будущее» и «прошлое». То, что означают эти слова, может быть, следовательно, пережито или перенесено в реальность только в форме тех элементарных суждений, которые мы называем памятью и ожиданием. Разумеется, оба понятия получают затем расширенное значение благодаря связи между воспоминаниями и ожиданиями, точно так же как каждое понятие расширяется благодаря более точному знанию отношений, в которых факты, первоначально мыслившиеся в нем, находятся к другим.
Вышеупомянутая особенность образа памяти и ожидания, которая отличает их от простого фантазийного образа, делает их примитивными суждениями. Однако в этом отношении мы можем добавить к ним третий факт.
Я вижу напротив себя человека, черты лица которого пробуждают во мне мысль о том, что он испытывает боль. Я представляю себе эту боль. Тогда они для меня только воображаемые, то есть косвенно, а не непосредственно данные; я не чувствую боли, а другой человек чувствует, даже если при определенных обстоятельствах страдания другого человека, возможно, заставляют меня «сочувствовать», то есть действительно заставляют меня чувствовать соответствующую боль. Если я теперь представляю себе боль, то это воображение не является простой фантазией, а относится к той же категории, что память и ожидание, воображаемое «устанавливается как реальное», только не в моем собственном прошлом или будущем, а в «чужом сознании». И здесь мы снова можем спросить, верна или неверна эта идея, то есть действительно ли другой человек чувствует то, что я себе представляю, соответствует ли моя идея своему объекту. Мы хотим поместить эту третью форму суждения наряду с памятью и ожиданием как «эмпатию» (Einf?hlungsbild). Это выражение не совсем удачно, поскольку наводит на мысль, что только «чувства» переносятся таким образом в чужое сознание, тогда как то же самое, естественно, относится и к перцептивным содержаниям и т. д., но это, в конце концов, обычное название для известного всем своеобразного опыта, в котором мы воспринимаем содержание как принадлежащее чужому сознанию.
К понятию «чужое сознание» применимо то же самое, что и к понятиям прошлого и будущего. Оно не предназначено для объяснения факта эмпатии, поэтому не предполагается как понятие, известное в других местах, а приобретает для нас свое значение только благодаря факту эмпатии. Без эмпатии для нашего сознания не существовало бы чужого сознания, так же как без памяти для нас не существовало бы прошлого. Будущее, прошлое и чужое сознание имеют ту общую черту, что они существуют для нас только в форме косвенно данного, или наоборот: объект воображаемого образа может принимать для нас эту троякую форму, которая порождает для нас прошлое, будущее и чужое сознание.
Таким образом, память, ожидание и эмпатия – это три формы, в которых суждение может быть непосредственно пережито нами или непосредственно дано нам. Ибо они представляют собой три случая, в которых данное нам содержание сознания представляет «объект» и в то же время «устанавливает этот представленный объект как реальный», что может происходить как реальное установление в нашем собственном прошлом, в нашей собственной будущей жизни сознания и в чужой сфере сознания.
Из этих трех форм непосредственно переживаемого суждения одна, а именно ожидание, занимает особое положение, поскольку это единственная форма, в которой я могу не только спрашивать об истине со значением, но и, по крайней мере в ряде случаев, непосредственно проверять ее истинность. Я ожидаю, что что-то произойдет немедленно, например, я представляю себе звук, который услышу, когда уроню на землю предмет, который держу в руках. Теперь я провожу эксперимент, и ожидание «материализуется», то есть происходит ожидаемый мною звук, и я ощущаю соответствие между воображаемым образом и возникшим перцептивным содержанием. Таким образом, я непосредственно переживаю истинность, определенность своего суждения ожидания, так же как и ложность своего суждения я переживаю в обмане ожидания, в несовпадении, а скорее в расхождении образа ожидания и возникшего предмета.
Нечто подобное, конечно, невозможно в случае с памятью и эмпатией. Я не могу вернуться в прошлое и сравнить свой образ в памяти с тем, к чему он относится, равно как и заглянуть в сознание другого человека. Поэтому я не могу непосредственно испытать истинность и ложность своего суждения здесь, как в случае ожидания; суждения памяти и эмпатии – это суждения, которые я не могу проверить непосредственно, а только косвенно на предмет их истинности. Строго говоря, эта косвенная проверка заключается в проверке истинности ожидания, на основании которого, как мы полагаем, мы вправе сделать вывод об истинности данного воспоминания или эмпатии. Я верю, что другой человек сердится на меня; я не могу заглянуть внутрь него, чтобы понять, действительно ли его чувство ко мне таково, но я могу наблюдать, продолжает ли он вести себя по отношению ко мне так, чтобы соответствовать такому настроению. (Однако истинность многих ожиданий можно проверить только косвенно, а именно, когда они относятся к объекту, который произойдет только позже. Если я сейчас ожидаю, что что-то произойдет через год, я, конечно, не могу проверить истинность моего текущего ожидания, а только истинность суждения ожидания с тем же содержанием, которое я выскажу через год).
Суждения памяти и эмпатии не могут быть проверены как таковые. Поэтому они подвержены сомнению, которое невозможно разрешить в принципе, и тот, кто получает удовольствие, сомневаясь в существовании прошлого и инопланетного сознания, или считает память и эмпатию лжецами в двух словах, может быть уверен, что они никогда не будут опровергнуты. Но поскольку он не может привести никаких позитивных причин для своего сомнения, оно, естественно, остается просто уловкой, тем более что сомневающийся никогда не сможет перестать делать воспоминания и эмпатии, то есть выносить суждения, в истинности которых он сомневается, раз и навсегда.
Это относится, в частности, к стороннику «солипсизма». Следует лишь добавить, что, как видно из сказанного, вопрос о реальности собственного прошлого стоит на том же уровне, что и вопрос о реальности чужого сознания. Нечто совершенно отличное от сомнения в существовании других сфер сознания, однако, представляет собой феноменалистское сомнение в существовании «реального внешнего мира», как я обсуждал и фиксировал это понятие в предыдущей главе. Реальная вещь, вещь «вне сознания» – это то, что, как мы видели, не может быть приведено в существование ни косвенно, ни прямо, поэтому здесь возникает вопрос, что мы, собственно, понимаем под такой «вещью», под материальным внешним миром, почему эти слова вообще могут обозначать объекты и не являются пустыми словами. Однако мы вполне можем опосредованно привести инобытие и происходящее в нем к реальности, понятие инобытия в любом случае является для нас значимым понятием, но приведение его к реальности происходит только опосредованно и в форме непроверяемых суждений, так что здесь остается открытым другой вопрос – существуют ли такие вещи, как мы здесь представляем, «на самом деле».[21 - Я говорю это вопреки полемике Эдуарда фон Гартмана против феноменализма («Das Grundproblem der Erkenntnistheorie», стр. 57) и против соответствующих замечаний в Volkelt, «Die Quellen der menschlichen Gewi?heit», стр. 45.]
4. возможность общей и индивидуальной репрезентации в воображении и суждении.
Суждение, как мы его теперь знаем, состоит в том, чтобы вообразить и сделать реальным то, что воображается. Эта реализация происходит в тройственной форме памяти, ожидания и эмпатии, или воображаемый объект помещается как реальный в контекст прошлого, будущего или обстоятельств другого сознания. В контексте этих обстоятельств. Ибо сначала прошлые обстоятельства образуют ряд, связанный сам с собой, который доходит до настоящего состояния сознания, вернее, берет от него начало. И наоборот, все содержания этого ряда характеризуются тем, что они могут быть даны нам только в настоящем или опосредованно в виде воспоминаний. С другой стороны, мы имеем серию «будущих» или содержаний, которые могут быть даны нам только в форме ожиданий. Они также образуют ряд, который начинается с «настоящего», то есть с единственного непосредственно данного содержания сознания. Наконец, содержания, принадлежащие чужому сознанию, содержания эмпатии, также выстраиваются в такой ряд, или, скорее, большинство рядов, которые мы мыслим как аналогичные рядам нашего собственного опыта, ведущего от прошлого или ряда вспоминаемых объектов через настоящее к будущему или ряду ожидаемых объектов.
Серия прошлых объектов a1, a2, a3 …, с одной стороны, и будущих объектов a1, a2, a3 …, с другой стороны, простирается от непосредственно данного настоящего, суммы непосредственно данных содержаний a. Когда мы что-то вспоминаем, мы отводим этому определенное место в этом ряду a1, a2 … определенное место в этом ряду. Если мы хотим определить это место более точно, мы делаем это, указывая реально протяженное целое сознательных фактов, к которому принадлежал вспоминаемый факт, как часть, которая составляла его временное окружение. Когда произошел инцидент, который я сейчас вижу перед собой в своей памяти? Когда я стоял на вокзале в Гютерслохе, когда ехал в Тироль. И теперь мы можем задать вопрос о том, какое место занимает все это в контексте прошлого, запомнившихся объектов? Ответ, разумеется, дается соответствующим образом: путем уточнения более полного временного контекста. Место содержания прошлого окончательно определяется тогда и только тогда, когда мы распространили этот контекст на настоящее, то есть когда мы знаем и можем указать звенья ряда, отделяющие вспоминаемый объект от непосредственно данного настоящего. Путешествие состоялось два года назад или оно произошло прошлым летом, так что определение времени имеет желаемую точность, но это определение времени не имело бы для нас никакого смысла, если бы оно не означало серию переживаний, воспринимаемых объектов и т. д., которая ведет в упорядоченной последовательности от нас в настоящем к комплексу воспоминаний, которые я называю путешествием того времени. Мне больше не нужно представлять себе эту серию прошлых событий по отдельности, но я знаю, что при желании мог бы хотя бы бегло просмотреть их в основных чертах. Поэтому полным суждением памяти было бы суждение вида: за a следует a1, a2, a3 вплоть до запомненной оси.
Разумеется, то же самое относится и к суждению ожидания. Суждение ожидания также является полным только тогда, когда оно одновременно определяет место ожидаемого объекта в контексте будущих или ожидаемых объектов, т. е. когда оно указывает содержание a1, a2, a3 … которые ведут от настоящего к нему.
Но воспоминания и ожидания могут приобретать другую форму благодаря особой специфике нашего образного содержания. Сейчас я представляю себе лицо человека, с которым встречаюсь каждый день. Тогда у меня может быть сознание, что образ, который я имею в виду, представляет собой вид, который лицо друга представило мне в определенное время и по определенному поводу. Но может быть и по-другому: у меня может быть сознание, что я представляю себе знакомый облик этого человека без того, чтобы мой воображаемый образ относился к конкретному, темпорально фиксируемому более раннему виду. Другими словами: я видел одно и то же лицо так часто, что уже не мог выделить из памяти отдельные перцептивные образы, и теперь на их место приходит образ памяти, который представляет один из предыдущих образов так же хорошо, как и другой. То же самое, разумеется, относится и к фантазийным образам. В одно время я могу представить себе зрелище, которое я ожидаю увидеть через пять минут, а в другое время я могу представить себе только цвет определенного качества, «бордо» красный, например.
Это придает образам памяти и воображения определенную обобщенность. Конечно, здесь необходимо провести четкое различие: мысленный образ, о котором идет речь, не стал общим понятием. Сам воображаемый образ является индивидуальным объектом, и то, что он представляет, также является индивидуальным объектом – ни вышеупомянутый воображаемый образ не идентичен цветовому жанру, который я называю красным бордо, ни воображаемый образ не представляет этот жанр как мыслимый объект сам по себе. Скорее, только значение воображаемого образа является общим в той мере, в какой один образ памяти представляет серию внутренне индивидуальных перцептивных образов – один так же, как и другой – или в той мере, в какой один перцептивный образ, как и другой, может быть описан как символическое значение образа памяти. Эта «всеобщность» образа памяти, конечно, также подвержена определенным ограничениям. Для меня не существует фантазийного образа, который бы одинаково представлял остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники. Скорее, несколько отдельных объектов могут быть представлены одним и тем же образом памяти только в той мере, в какой они качественно идентичны или, лучше сказать, неотличимы друг от друга[22 - Здесь я должен возразить Корнелиусу в одном пункте, с которым, кстати, я полностью согласен в отношении доктрины «символической функции образов памяти». Корнелиус связывает неопределенность образов памяти с их общностью (Psychologie als Erfahrungswissenschaft, p. 62f); он допускает, что неопределенность увеличивает число различных объектов, представленных в одном и том же образе памяти. Это не совсем верно. Образ памяти, неопределенный в определенном направлении, представляет соответствующие различные объекты, к которым он относится, только в той мере, в какой они не являются различными, или, строго говоря, он представляет похожие объекты, которые становятся из этих различных объектов, если мы пренебрегаем пунктами, в которых они различны.].
Применим это конкретно к ожиданиям. Я представляю себе некое будущее содержание моего сознания. Тогда мы видим, что это воображение становится полным суждением ожидания только тогда, когда мы фиксируем положение ожидаемого в будущем ходе сознания, т. е. когда мы проходим через содержание в воображении, которое отделяет ожидаемое от настоящего контекста сознания. Предположим теперь, что мы не придаем ожидаемому этой полной временной определенности, что мы представляем его «вообще» указанным образом, и далее предположим, что мы также проводим в воображении содержания, отделяющие ожидаемое a от настоящего только в нескольких звеньях b, c, не полностью, и, наконец, также представляем эти содержания непосредственно предшествующими a вообще, тогда мы получаем суждение, которое, выражаясь лингвистически, гласит: «За «a» содержанием a следует «a» содержание b c (содержание, которое имеется в виду в этих образах памяти). Это значит, что мы получаем общее суждение известной формы: при условиях b происходит a. Этому общему суждению противостоит суждение единичного ожидания, т. е. суждение, предсказывающее индивидуально определенное единичное содержание и потому – полностью выполненное – имеющее вид: за наличным содержанием сознания B следует b c d… до a. К этому различию мне придется вернуться в другой связи, а здесь я отмечу лишь два момента: во-первых, здесь следует лишь уточнить, в какой форме предстает общее суждение и в какой мере мы можем поэтому считаться с такими суждениями как со своеобразными условиями. Вопрос о том, как мы приходим к таким суждениям и по какому праву можем считать их истинными, еще не обсуждался. Во-вторых, то, что было сказано применительно к единичному суждению, относится только к этому суждению в той мере, в какой оно полностью выполняется, – я не говорю, что такие полностью выполненные суждения действительно имеют место в сознании.
Еще один момент. Мы уже рассматривали случай, когда мы вспоминаем один и тот же прошлый опыт в разное время. Тогда мы имеем два опыта памяти, но они имеют одинаковый, идентичный смысл, поскольку в них вспоминается или представляется один и тот же объект. В том же смысле мы можем говорить о разных по времени переживаниях суждения, которые имеют одно и то же значение или один и тот же объект, то есть содержат одно и то же суждение. Одно и то же общее ожидание, например, может быть пережито в разное время и разными людьми в форме сознания ожидания. То, что в этом смысле мы противопоставляем одно тождественное суждение численно различным переживаниям суждения, в которых оно предстает перед индивидуальным сознанием, или то, что мы можем говорить об одном и том же (тождественном, а не просто одинаковом) суждении, которое сейчас делается этим, потом этим, является самоочевидным следствием символической природы факта суждения – с символами и только с ними мы можем говорить о тождестве, как мы уже знали ранее.
5. Лингвистически сформулированное суждение как выражение суммы ожиданий.
Вопрос о природе суждения, с которого мы начали, привел нас сначала к трем группам опыта сознания, которые мы можем рассматривать как суждения: воспоминания, интроспекции и ожидания. Отвечает ли это на вопрос о природе суждения? Очевидно, только если смысл или содержание каждого суждения состоит из таких воспоминаний, ожиданий и эмпатий, если смысл каждого предложения суждения, которое мы произносим, можно проследить до таких образований памяти и т. д. Поначалу это кажется очень парадоксальным утверждением.
Поначалу это кажется очень парадоксальным утверждением. Если я высказываю какое-либо суждение: «роза красная», «все люди смертны», то не воспоминания ли и ожидания я хочу выразить здесь в своих словах или которые составляют смысл моих слов?
Чтобы избавиться от кажущейся абсурдности этой мысли, я сначала спрашиваю себя: может быть, смысл наших суждений как-то связан с ожиданиями, как-то с ними связан? Химик утверждает, что золото не растворяется в азотной кислоте, но растворяется в смеси азотной и соляной кислот. Мы сомневаемся в истинности этого суждения, и химик доказывает нам это с помощью эксперимента. Но что, собственно, доказывает эксперимент? Коротко говоря, истинность предсказания о поведении золота, которое содержится в суждении химика, – предсказания, другими словами, ожидания.
Но такие предсказания, очевидно, присущи каждому суждению. Ибо каждое суждение должно быть способно быть проверено на истинность, по крайней мере в идее, даже если мы, возможно, не в состоянии провести эту проверку. Это означает, что для каждого суждения должны существовать критерии, ориентиры его истинности, то есть факты, которые мы можем обратить на себя внимание и появление которых убеждает нас в истинности, а отсутствие – в ложности суждения. Приведем еще два примера. Я говорю о платье, что оно белое. Кто-то другой оспаривает мое суждение: нет, платье желтоватого или кремового цвета. Чтобы доказать это, я могу лишь указать ему на цвет других предметов, которые мы оба описываем как чисто белые или желтоватые. Является ли он таким же, как тот или иной цвет, приближается ли он к тому или иному цветовому впечатлению? Здесь мы имеем искомый критерий, а также ряд предсказаний или ожиданий, которые заключаются в суждении: «это белое», то есть которые должны оказаться истинными или ложными, если суждение окажется истинным или ложным. Или: я говорю о теле: это мел. Если вы хотите, чтобы суждение было доказано, я могу показать вам только одно: что тело ведет себя физически, химически, практически таким образом, что соответствует понятию мела, которое мы оба знаем, то есть я могу только показать вам, что выполняются определенные предсказания, которые должны каким-то образом содержаться в суждении «это мел». Конечно, как ясно показывает этот пример, речь далеко не всегда идет только об одном, а о целом ряде ожиданий: Мел должен оставлять белую линию на поверхности, по которой я его провожу, иметь определенный удельный вес, растворяться в соляной кислоте с шипением и т. д. Кроме того, суждение «это мел» включает в себя и другие суждения, прежде всего суждение «это, то, что я здесь вижу, прежде всего – реальное тело» (не зеркальное изображение, не галлюцинация и т. п.), а значит: его можно взять в руку, он должен оказывать сопротивление прикосновению пальца, быть ощутимым с разных сторон и т. д.
Такие предсказания, как было сказано, «находятся» или «лежат» в рассматриваемом суждении, они «принадлежат ему». Точнее, это означает: когда мы исследуем суждение на предмет его истинности, всегда есть определенные предсказания, которые мы фактически исследуем непосредственно. Или: мы можем и должны приписать каждому суждению ряд предсказаний и, таким образом, ожиданий, которые определяют его истинность, так что истинность ожиданий определяет истинность суждения и наоборот eo ipso. Таким образом, сумма этих ожиданий «эквивалентна» суждению, если под эквивалентными суждениями мы понимаем два суждения, истинность которых взаимно исключает друг друга.
Эти ожидания, конечно, неразрывно связаны с воспоминаниями и эмпатиями. В своем суждении: «Золото растворимо в воде» я опираюсь на воспоминания и, чтобы доказать истинность суждения и убедить сомневающегося, могу сослаться на эксперимент, который я сейчас провожу, а также на эксперимент, свидетелем которого я был ранее: я видел, как вода воздействовала на золото. Здесь истинность суждения опирается на истинность моей памяти. Или я ссылаюсь на утверждение авторитетного лица: профессор X в Y провел эксперимент. Тогда случай эмпатии занимает место ожидания и памяти. Но мы уже знаем: воспоминания и эмпатии отличаются от ожиданий тем, что их нельзя проверить на истинность непосредственно, а опять-таки только посредством ожиданий; в этом отношении мы можем ограничиться здесь упоминанием ожиданий.
Я намеренно говорил об «ожиданиях», а не о переживаниях ожидания, которые должны исполниться или сбыться и которые поэтому лежат в выраженном суждении. Точнее, речь идет об «общих ожиданиях». Суждение: «Это мел» содержит общее ожидание того, что каждый раз, когда я или кто-то другой окунает тело в соляную кислоту, определенный результат станет ощутимым. Что мы понимаем под таким общим ожиданием, что оно выражает себя в индивидуальном опыте ожидания, но не совпадает с ним тождественно (скорее, оно может представлять себя как «то же самое» ожидание в различных таких опытах), можно считать известным из предыдущего параграфа.
Ряд общих ожиданий (включая определенные воспоминания и эмпатии) можно сделать эквивалентным каждому лингвистически сформулированному суждению, общим ожиданиям известной формы: за (мыслимым) содержанием a обычно следует содержание b. Таким образом, суждение «этот объект белый» эквивалентно другому: каждый раз, когда я (или кто-то другой – эмпатия!) смотрю на этот объект (условие a), я нахожу в нем известный моему воображению цвет с его отношениями сходства и различия (предполагающими соответствующие акты сравнения) (и в то же время: когда я это делал, у меня был соответствующий опыт воспоминания!) Таким образом, суждение «это круг» эквивалентно серии ожиданий, которые, сформулированные лингвистически, гласят, что рассматриваемое тело будет рассматриваться определенным образом, будет также вести себя определенным образом, т.е. будет представлять определенные восприятия. Эквивалентность, однако, означает, что когда суждение проверяется на истинность, на самом деле проверяются только эти ожидания, что истинность одного из них рассматривается как неизбежно связанная с истинностью другого, и наоборот.
А теперь сделаем еще один шаг вперед. Можно ли заменить эту эквивалентность тождеством? Может быть, суждение, с которого мы начали, является лишь новым лингвистическим выражением, лингвистическим резюме этих ожиданий? Сначала предположим, что это не так. Тогда смысл пропозиции суждения должен содержать нечто большее, или он должен содержать нечто иное, чем те ожидания. Но если это так, то это большее в любом случае недоказуемо или непроверяемо в отношении своей истинности, поскольку мы видели, что то, что мы проверяем и доказываем, всегда является этими ожиданиями. Более того, это большее или другое, смысл пропозиции, выходящий за пределы ожиданий, должен был бы находиться в определенном отношении к ожиданиям, но это отношение не может быть указано далее. И наконец: это «большее» должно быть каким-то образом воплощено в реальность. Но здесь мы наталкиваемся на уже знакомые нам трудности.
Так что, в конце концов, не остается иного выхода, кроме приведенного выше: законченное предложение суждения «это мел», например, является лишь единым, обобщающим языковым выражением для ряда ожиданий, которые, таким образом, в своей совокупности составляют его смысл par excellence.
Можно ли теперь реализовать эту идею в деталях? Первая и главная трудность, с которой сталкивается эта идея, носит не логический, а психологический характер.
Если смысл наших суждений заключается в ожиданиях, то, по-видимому, суждение как психологический процесс должно быть ожиданием, т. е. заветным, переживанием ожиданий. Или, другими словами, когда мы выносим суждение или понимаем его, ожидания, которые предположительно составляют содержание или смысл суждения, должны каким-то образом присутствовать в нашем сознании. С другой стороны, было бы очевидным изнасилованием фактов утверждать, что каждый раз, когда мы произносим, слышим или читаем предложение, мы испытываем столько-то и столько-то ожиданий. Я, несомненно, могу высказать и понять суждение «это мел», не думая о соляной кислоте и не ожидая сознательно, что вещество, которое я имею перед собой, будет вести себя определенным образом по отношению к соляной кислоте. Как же тогда это ожидание может быть частью смысла суждения?
Я еще раз подчеркиваю: возражение психологическое, оно касается психологического процесса суждения, а не чисто логического вопроса о смысле суждения, который мы ранее рассматривали независимо от всякой психологии. Таким образом, мы вынуждены сделать психологическое отступление от нашего прежнего пути, но не для того, чтобы решить логически объективную проблему психологическим путем, а для того, чтобы примирить психологию суждения с тем, что мы считали объективным смыслом суждения.
Глава вторая. Природа суждения
[Продолжение]
6. Суждение и ожидание.
Отношение ожидания.
Всем знакомы частые случаи «неправильного суждения», недосмотра, механической путаницы. Я хочу взять ручку, а беру нож, лежащий рядом; я хочу войти в свою комнату, а открываю дверь той, что рядом. В таких случаях мы вполне привыкли говорить об «ошибке»: я извиняюсь перед незнакомцем, к которому случайно зашел в комнату, словами: я «ошибся» дверью. Но мы можем говорить об ошибке и истине только там, где есть суждение, а в описанном случае – по крайней мере, я имел в виду именно такие случаи – я вовсе не высказывал суждения, а просто механически выполнял действие. Таким образом, даже если само действие не является «суждением», оно должно каким-то образом представлять или включать его.
Теперь нетрудно понять, как все это увязывается. Совершая действие, я имею определенную цель; действие – это средство для ее достижения. Теперь мы берем средства, которые соответствуют часто осознаваемой и привычной цели, чисто механически, в соответствии с известными законами умственного упражнения и механизации – как взрослые люди, которые «умеют» писать, нам больше не нужно представлять себе отдельные сложные движения письма, необходимые для того, чтобы одно за другим нанести на бумагу определенное слово, но эти движения происходят автоматически в соответствующей последовательности. Все «способности» предполагают такую механизацию. Конечно, я должен изначально научиться тому, что я «могу» делать, то есть я должен предварительно представить себе средства, которые ведут к желаемой цели, я должен ознакомиться с ними как со средствами и сознательно оценить их, прежде чем я смогу механически применять их.
Если я «ошибаюсь» или заблуждаюсь в выборе средств, как в приведенных примерах, то «ошибочным» или «заблуждающимся» здесь, очевидно, является на самом деле суждение о том, что совершаемое действие приведет к желаемой цели, как мы можем сразу сказать: ожидание, что воображаемая цель наступит в результате действия[23 - Суждение о том, что А является «средством» для достижения В, очевидно, означает то же самое, что и: А является «условием» для В, т.е. как общее ожидание того, что после А наступит В.]. Это ожидание, однако, в действительности не переживается, поскольку сознательное воображение и суждение о средствах, которые должны быть выбраны, заменено механическим схватыванием и обращением с этими средствами, механическим действием, в котором первоначальное ожидание присутствует только как бессознательная установка ожидания. Это отношение ожидания, однако, проявляется наиболее отчетливо в непосредственном сознании удивления и разочарования, которое сопровождает неожиданный успех неправильного действия, ошибки и т. д.
Случаи такого рода показывают нам, во-первых, что в психической жизни бессознательная установка ожидания может очень часто занимать место ожидания в реальном смысле, которое выражается в механическом действии и лишь иногда проявляется в сознании, например, когда ожидаемое не материализуется в чувстве разочарования, и, во-вторых, что мы относимся к такой установке или действию точно так же, как к реальному ожиданию, то есть описываем его как «правильное» или «неправильное».
Теперь возникает вопрос: не проливает ли этот факт свет и на суждение в той мере, в какой оно имеет место при произнесении и понимании лингвистических предложений? Не являются ли ожидания, в которых в предыдущем параграфе мы искали смысл таких предложений, все еще психологически присутствующими в говорящем и слушающем, только в форме бессознательных ожиданий? Во время прогулки по лесу я собираюсь небрежно переступить через черную полоску на земле, когда мой спутник сообщает мне, что эта полоска – гадюка. Эта информация оказывает на меня определенное воздействие, она совершенно мгновенно вызывает чувство ужаса, отвращения, непроизвольный шаг назад. Это действие и эти чувства имеют свою причину в неприятной и опасной встрече, но они возникают или, по крайней мере, могут возникнуть до того, как я смогу сознательно представить себе неприятные ощущения от наступления на мягкое, живое тело змеи или даже опасность змеиного укуса. Они являются выражением определенных ожиданий, но происходят так же механически и непосредственно, как и действия в ранее рассмотренных случаях. Разумеется, необходимым условием является то, что я знаю значение слова «гадюка», что я выучил его в прошлом и что я знаком с этим значением (точно так же, как я должен, во-первых, знать действия, которые ведут к определенной цели, а во-вторых, практиковать их так, чтобы они происходили механически, без размышлений или сознательного воображения в нужный момент). В противном случае мне придется сначала сознательно вспомнить, что я должен знать от «сумматора», прежде чем я буду действовать в ответ на это сообщение.
Этот пример можно заменить любым другим. Я вижу на столе стакан с бесцветной жидкостью, и мне говорят, что это серная кислота; следствием этого сообщения является то, что я немедленно и автоматически веду себя по отношению к стакану и его содержимому иначе, чем если бы мне сказали о стакане с водой. Это поведение снова является выражением ожиданий, которые вовсе не обязательно должны быть осознанными ожиданиями.
Возможно, кто-то возразит, что такое поведение возникает только тогда, когда я понимаю сделанное сообщение; оно является простым следствием этого понимания, а не чем-то, что относится к пониманию или суждению как таковому. Это возражение наполовину верно, наполовину нет. Конечно, автоматическое действие – это не «понимание», а следствие понимания; вопрос лишь в том, приходит ли в сознание само понимание, а не только его автоматическое следствие. Вопрос в том, не состоит ли смысл предложения в ряде ожиданий, а понимание этого смысла, следовательно, в лелеянии или переживании этих ожиданий, которое может быть заменено бессознательным отношением ожидания, так что в сознание входят только те действия, которые мы знаем как последствия этих ожиданий. [Ранее, конечно, уже отмечалось, что понимание языковой единицы также выражается для нашего сознания в особом эмпирическом характере, который облекает данную модель: слово кажется нам знакомым (а не просто «известным»), и я сравнил характер знакомости с характером, который имеет для нас известный и знакомый инструмент. Следующие замечания сделают еще более ясным, в какой степени слово действительно является таким инструментом].
Очевидно, мы могли бы рассмотреть те же примеры с точки зрения говорящего. Собеседник, который обращает мое внимание на гадюку, очевидно, хочет дать мне определенную установку на ожидание, это то, что он на самом деле хочет донести до меня. У него самого такое же отношение, и именно оно выражается в произнесенных словах. Но опять-таки, ему не нужно сознательно вынашивать ожидания, о которых идет речь, – как желание обратиться к определенной книге автоматически заставляет меня совершить ряд действий: встать, подойти к двери, нажать на ручку, подойти к книжному шкафу и т. д., так и здесь желание защитить другого человека от опасности при виде извивающегося змеиного тела приводит непосредственно к целесообразным средствам данного восклицания.
Следует помнить еще об одном: мы не можем одновременно испытывать большое количество различных ожиданий, но можем быть настроены на разные вещи в одно и то же время[24 - В исследовании, которое на самом деле преследует психологические цели, здесь, конечно, должны быть сделаны различные различия. С точки зрения психологии, существуют различные типы настроя. Существует напряженное ожидание определенных вещей – вспомните, например, поведение испытуемого в тесте психологической реакции – и это ожидание не может (и в большинстве случаев не будет) принимать форму сознательного ожидания и воображения того, что ожидается, а скорее бессознательного ожидания, которое проявляется в сознании только через интенсивное чувство напряжения и случайные вспышки воображения. С другой стороны, существует привычное отношение ко всем видам вещей, которое присутствует в каждый момент нашей психической жизни и которое дает о себе знать в нашем сознании только через механически выполняемые действия. Первый случай характеризуется в то же время тем, что мы настроены с большей исключительностью на определенные вещи, отчего в то же время страдает привычная настроенность на другие вещи (явление рассеянности у выученных и сильно занятых), и тем, что мы все время «знаем», т. е. можем в любой момент указать и сознательно представить себе, на что мы направлены, чего нет во втором случае. Но между этими двумя формами существуют и постепенные переходы; одна может превратиться в другую.]. Из этого автоматически вытекает значимость использования слов: одно слово служит для объявления и передачи целого ряда ожиданий, которые сами по себе потребовали бы много времени и усилий для объявления или передачи. С помощью одного слова «серная кислота» я готов к тому, как будет вести себя вещество в стакане передо мной в различных направлениях, и способ, которым я должен с ним обращаться, также определен как само собой разумеющееся.
Разумеется, ожидания, которые вызывает у меня отдельное слово, определяются тем значением, которое я научился связывать с этим словом, и это значение может во многом отличаться от того, которое с ним связывает кто-то другой. Химик понимает «серную кислоту» иначе, чем обыватель. Но столь же несомненно, что разница не принципиальна; она состоит лишь в том, что в одном случае ожидания больше и точнее, чем в другом.
7. Решение проблемы номинализма.
Вещные и родовые имена как средство лингвистического обобщения суждений.
Смысл всех наших суждений заключается в определенных ожиданиях (к которым мы добавляем воспоминания и эмпатии в соответствии с вышесказанным). Это утверждение теряет парадоксальность, которая первоначально к нему прилипла, если учесть, что нам не нужно искать эти ожидания как таковые в сознании человека, выносящего или слышащего суждение, а скорее – при условии знакомства с используемыми словами – что они, как правило, заменяются бессознательными ожиданиями. Конечно, тот, кто считает, что осмысленное употребление любых слов или предложений всегда предполагает сознательный поиск, (пусть и неясное) существование смысла, должен найти это утверждение парадоксальным. Но, на мой взгляд, нигде так не видно, как здесь, что это мнение не соответствует природе лингвистического символа, поскольку не признает его важную функцию: функцию, которая состоит в том, чтобы избавить нас от сознательной визуализации всеобъемлющего значения, как было объяснено в конце предыдущего параграфа, или что то же самое означает – это выражение было использовано ранее – представление значения. Важность лингвистического символа для одиночного мышления также основана на этом:
слово удерживает вместе, так сказать, многообразные установки ожидания, которые в противном случае (без такого ассоциативного центра, к которому они все привязаны) разлетелись бы в разные стороны.
Если мы знаем только коммуникативную функцию слова, а не его репрезентативную функцию, то мне кажется непонятным, почему мы так сильно привязаны к понятиям слова не только при коммуникации, но и при уединенном воплощении наших мыслей.
Здесь мы подошли к тому моменту, когда решаются проблемы, постановкой которых я завершил первую главу и начал вторую: проблемы «вещи» и понятия или реальных и идеальных объектов. Я говорю о вещи, но я никогда не могу прямо или косвенно привести то, что я называю этим именем, в состояние бытия; то, что я постигаю непосредственно, всегда является лишь многообразными и изменчивыми проявлениями вещи. Но как может слово «эта вещь здесь» иметь для меня конкретное значение, если это значение никогда не может быть доведено до реальности, если названный объект не может быть отнесен к простому имени? Теперь мы можем ответить на этот вопрос: мы, конечно, никогда не сможем сделать саму вещь данностью, но мы можем сделать значение предложения: Это вещь (или, скорее, видимость вещи). Ибо эта пропозиция, выраженная данным фактом, обозначенным как «это», является лингвистическим резюме ряда ожиданий, которые мы можем возлагать на себя по отдельности. Характер, то есть содержание, этих ожиданий, естественно, зависит от конкретного понятия реального объекта, которым мы пользуемся, но форма самих ожиданий везде одинакова: они всегда являются общими предсказаниями содержания восприятия, которое последует за данным здесь содержанием при определенных известных нам условиях. И точно так же, только несколько более сложным образом, в таких ожиданиях может быть полностью реализован смысл всех предложений, в которых «вещь-концепт» выступает в качестве субъекта или предиката. Слово же, которое «обозначает» вещь или реальный объект[25 - То, что мы различаем и другие реальные объекты, помимо вещей, для которых верно то же самое, мне нужно только еще раз отметить здесь.], не имеет «смысла» само по себе в том же смысле, что и это слово, его «имеющий смысл» состоит скорее только – как и в случае синкатегорематических выражений [слова, которые встречаются не самостоятельно, а в связи с именами собственными – wp] – в функционировании в качестве части значимых целых.
Познание «вещи» может означать не что иное, как: познание различных ожидаемых явлений, в которых «та же самая вещь конституируется». Это «конституирование», однако, состоит в том, что рассматриваемые явления связываются вместе в соответствии с общими законами ожидания, ибо: если мы говорим о данном нечто, что оно является появлением той или иной конкретной вещи, это означает не что иное, как: впоследствии эти и те вполне конкретные другие данные факты должны быть ожидаемы в неизвестных условиях. Заметим, что наличие, существование вещи – это не синоним существования, психического присутствия ожиданий, а действительность, истинность этих законов ожиданий. Я питаю эти ожидания (сознательно или бессознательно) означает то же самое, что: я считаю эту вещь существующей или считаю то, что мне дано, видимостью такой вещи; вещь действительно существует означает то же самое, что: мое ожидание (или данное ожидание, независимо от того, питаю я его или нет) является истинным или действительным.
Это также объясняет, в какой степени мы можем говорить об «одной и той же» вещи, которой соответствует множество и разнообразие явлений. Вещь существует как «та же самая», хотя ее внешний вид меняется, потому что те же самые ожидания остаются действительными или истинными. Я вижу определенную цветную форму, которую сразу же распознаю и обозначаю как переднюю часть стеклянного куба. Смысл этого суждения включает в себя ряд ожиданий, связанных с возникновением других визуальных, тактильных, гравитационных и т. д. восприятий, которые у меня есть. Они связаны с возникновением других восприятий зрения, осязания, веса и т. д., которые у меня появятся, когда я «обойду куб», «возьму его в руку» и т. д., короче говоря, когда я выполню условия, которые мне известны и мыслимы. Все эти ожидания остаются верными независимо от того, действительно ли я, например, «хожу вокруг куба», то есть выполняю соответствующие условия или нет; они также остаются верными во всей своей полноте, если я выполняю одно из условий, например, если я теперь смотрю на куб со спины и тем самым, так сказать, лишаю смысла все остальные. Даже если я переверну куб и тем самым лишу себя возможности видеть его лицевую сторону, все равно остается в силе утверждение, что если бы я прикоснулся к его лицевой стороне, у меня возникло бы определенное тактильное восприятие. Ясно также, что «одно и то же» может восприниматься разными людьми, поскольку закономерно связанные явления могут быть распределены между сознанием нескольких индивидов: Я вижу в своем поле зрения определенный объект и ожидаю, что при определенных условиях другой человек воспримет соответствующий объект. В частности, мое утверждение, что то, что я воспринимаю, не является «простым образом сна», не «галлюцинацией», а, напротив, «реальной вещью», относится прежде всего к обоснованности таких ожиданий, которые включают в себя эмпатию.
Наконец, мы можем также приписать той же самой вещи постоянное существование в течение определенного времени, а именно тогда, когда ожидаемое содержание распространяется на это время. Если я утверждаю, что в определенном месте Германии есть гора, то это подразумевает не только ожидание того, что я восприму ее сейчас, но и того, что я восприму ее через год при соответствующих условиях (которые я обобщаю как путешествие туда). (Впрочем, это относится не только к «вещам» в кратком смысле, но и, например, к реальным процессам: если я растворяю кусок цинка в серной кислоте и это растворение занимает некоторое время, я все равно могу говорить о «том же самом процессе», который происходит здесь в течение всего этого времени. Вещи в собственном смысле слова обладают лишь той особенностью, что распределенные во времени и связанные законом явления остаются качественно теми же самыми. К этому различию мы вернемся позже).
Еще одно слово об упоминавшихся несколько раз «условиях». Можно возразить, что данная формулировка этих условий (когда я хожу вокруг вещи, протягиваю руку и т. д.) уже предполагает вещь или, по крайней мере, понятие вещи вообще. Но это, очевидно, касается только формулировки. По понятным причинам я не могу описать эти состояния словами, не используя понятия вещей (точно так же, как мы везде учимся сначала называть вещи, потому что только вещи, а не состояния, могут иметь репрезентативную, а также коммуникативную функцию слова); я также могу сообщить другому только то, что каким-то образом находит отклик в его сознании; поэтому наши слова последовательно описывают не отдельные состояния, а «вещи» и «роды», и мы можем лингвистически характеризовать отдельные состояния только окольным путем через вещи и роды. Поэтому мы понимаем условия как чистые факты, например, соответствующие ощущения движения при «ходьбе». Тот факт, что мы часто не можем спонтанно представить себе эти ощущения по отдельности, не вызывает возражений, поскольку это происходит там, где нам уже давно не нужно это воображение, потому что мы можем непосредственно реализовать соответствующие условия, когда это необходимо. (Напротив, сравните случаи, когда мы постепенно учимся произносить звук, чуждый нашему родному языку. Здесь мы можем и должны сознательно визуализировать соответствующие движения языка, нёба и т. д., прежде чем мы действительно сформируем звук, кстати, не имея возможности описать соответствующие движения научно, т. е. с помощью соответствующих понятий о вещах (по крайней мере, если мы не изучали фонетику). Чем больше такие движения практикуются, то есть чем больше они могут быть реализованы непосредственно и инстинктивно, тем больше отношения меняются на противоположные: мы разучиваемся сознательно представлять себе данные ощущения и вместо этого учимся описывать их «точно», то есть с помощью общепонятных понятий, и тогда эти описания способны заменить воображение: простая словесная просьба протянуть руку приводит к движению (при наличии соответствующей «воли»), причем мне не нужно представлять себе данные движения). Конечно, было бы недоразумением, если бы кто-то захотел возразить, что такие ощущения движения не являются реальными условиями перцептивного изменения относительно вещи. Конечно, нет, но мы не говорили здесь о «реальных» условиях («причинах»), но мы называем данное содержание A «условием» B, если мы можем в общем случае ожидать B, следующего за A. Наконец, результат наших рассуждений иллюстрируется схемой. Если мы обозначаем данное восприятие как появление вещи («это» – вещь того или иного вида), то это обозначение является обобщающим языковым выражением ряда общих ожиданий. С психологической точки зрения, оно является проявлением этих ожиданий у говорящего и вызывает те же ожидания у слушающего (при условии, что он «усвоил» значение слов); с логической точки зрения, оно является языковым символом, называющим или обозначающим данные ожидания (а не переживания ожиданий). Эти ожидания имеют вид: после заданного сейчас A при условиях B произойдет C: A -> ? -> B. (Пример: то, что я вижу здесь, – это тело, говорит: если я совершу определенные движения, мое визуальное перцептивное содержание изменится таким-то и таким-то образом, если я протяну руку, я восприму твердость и сопротивление и т. д.; это тело определенного вида, например мел, далее говорит: если я применю кислоты, я получу тот или иной опыт и т. д. При этом переживания относятся к прошлым опытам того же рода и к опытам, сделанным другими, и осложняются воспоминаниями и эмпатиями). Пусть теперь у нас есть серия ожиданий: A -> ? -> B, A -> ?? -> C и т. д., а также B -> ?? -> C и т. д., тогда для нас A, B, C и т. д. становятся появлениями «одного и того же» реального объекта. Если я суммирую только те ожидания, которые, следуя за A, ожидают B, C, D и т. д., я получаю суждение «A есть X», то A» также принадлежит реальному X, характеризуемому закономерно связанными явлениями B, D, D. Если, с другой стороны, я думаю обо всех ожиданиях, составляющих явления некоторого реального, собранных и обобщенных в лингвистическом выражении суждения:
A -> ? -> B B -> ?? -> A C -> ??? -> A
A -> ?? -> C B -> ???-> C A -> ??? -> B
то это выражение суждения может быть только одночленом, в левой части не A, не B, не C, а X, полученный суммированием A, B, C… а в правой части – то же самое, т.е.: X -> X. И действительно, лингвистическое суждение, которое здесь получается, является одночастным суждением, а именно «экзистенциальным суждением»: реальный объект X «существует». Он существует, т.е. все его явления будут происходить при соответствующих условиях.
Здесь возникает другой вопрос. Стало понятно, что когда мы оформляем данный материал опыта в суждения, эти суждения должны иметь форму ожиданий; также легко понять, что когда перед нами ряд ожиданий, связанных в описанную выше форму, мы имеем тенденцию обобщить их в языковом выражении. Но почему наши ожидания имеют форму: A -> ? -> B – За A следует B при условиях ? – эта форма, в которую, как мы видели, могут быть облечены элементарные суждения, содержащиеся в наших лингвистически сформулированных суждениях? Почему именно эта более сложная форма вместо, казалось бы, более простой? A -> B – за A следует B? Более подробно мы вернемся к этому вопросу позже, а пока отметим только одно: Легко понять, что из практических соображений, с целью «ориентации», мы требуем знать, в каких различных направлениях каждое вновь возникающее содержание опыта может служить нам знаком для будущих содержаний (как предупреждающее и обещающее предзнаменование). Этой цели, очевидно, лучше всего служит ряд ожиданий, который говорит нам, чего следует ожидать при условиях ?, ??, ?? и т. д., следующих за тем же A, т. е. ряд ожиданий, выраженных в предложении «A есть видимость реального Z».
Понятие рода, идеального объекта, можно сделать понятным очень похожим на понятие вещи, в более общем случае реального объекта. Мы заменяем ожидания A -> ? -> B, A -> ?? -> C, B -> ?? -> C и т. д. (т.е.: за перцептивным содержанием A следует перцептивное содержание B при условиях ?) суммой элементарных суждений о равенстве: A = B, A = C, B = C и т. д. (Эти суждения о равенстве являются также, если мы понимаем их не как простые утверждения сознания равенства, а как суждения, которые говорят о данных содержаниях A и B, что они равны, что между ними существует объективное равенство, как это автоматически следует из сказанного ранее, ожиданиями, а именно ожиданиями, содержащими мысль, что там и тогда, где и когда я снова сравню «те же самые» A и B (то же самое содержание, а не реальный объект, названный тем же самым образом), снова возникнет то же самое суждение о равенстве). Если эти суждения о равенстве обобщаются в выражении суждения, то создается «понятие» рода, общего рода, под которым понимаются A, B, C… создается, то есть создается новое слово G, которое само по себе не обозначает постигаемого объекта, но имеет определенный смысл постольку, поскольку предложение «A есть G» (это «есть» красный, то есть подпадает под родовой термин красный) обозначает ряд мыслимых отношений равенства.
Подчеркну прямо: это изначально идентичные, а не похожие объекты, которые как таковые принадлежат к одному роду, одному понятию. Об отдельном абстрактном моменте цвета цветной поверхности, который я признаю равным моменту цвета других поверхностей, я говорю, что он «есть» небесно-голубой, то есть принадлежит именно к этому роду; об абстрактном моменте высоты тона – что это высота двухтактной буквы С. Конечно, я могу сказать и о цветной поверхности в целом, что она «есть» голубая, о тоне – что это тон именно такой высоты. Но, строго говоря, такое суждение содержит: во-первых, оно говорит, что эта поверхность «имеет» цвет (тон – высоту), то есть с ней связан цветовой момент на манер абстрактного частичного момента, и, во-вторых, этот частичный момент «есть» синий, подпадает под понятие синего.
Наконец, я могу также сформировать понятие синей поверхности или «тональности тона А», под которое подпадают все объекты, которые одинаковы в той мере, в какой о них выносятся одинаковые суждения, во-первых, что они «имеют» абстрактный частичный момент, и, во-вторых, что они «являются» синими или тональностью А. Объекты, подпадающие под это понятие, могут быть неравными в другом «отношении», то есть в отношении другого частичного момента – две поверхности синего цвета могут иметь разные формы – момент, который мы должны «игнорировать», когда делаем эту подстановку под одно и то же понятие. Таким образом, существуют понятия, под которые мы подводим абстрактные частичные моменты (понятие «синий»), понятия, под которые мы подводим объекты в отношении одного частичного момента и в абстракции от других (понятие объекта синего цвета), и, наконец, конечно, понятия, под которые мы подводим целые объекты, включая все их частичные моменты.
Однако понятие одинаковости может быть также заменено специфическим понятием сходства, и сходные объекты также могут относиться к одному и тому же понятию как таковому. Таким образом, красный, зеленый, синий, короче говоря, все объекты, которые мы подводим под общий термин «цвет», не одинаковы, но похожи, и мне кажется, что это сходство должно быть отнесено к одинаковости абстрактного частичного момента всех цветов, который придал бы термину «цвет» его значение. Для нашего сознания не существует, в том же смысле, абстрактного частичного момента цвета или тона во всех цветах или тонах, как не существует абстрактного момента «высоты» или «качества цвета» (в отличие от протяженности), на который мы можем обратить внимание. Но это сходство, которое дает нам повод для формирования понятия «цвет» или «тон», является сходством определенного рода. Если мы подумаем о различных цветах, расположенных рядом, если мы подумаем о ряде тонов, противоположных им, то разница между цветами исчезает, так сказать, как только мы сравниваем цвета и тона, не выделяя отдельных частичных моментов в обоих. (Если мы поступаем именно так, то эффект, о котором я говорю, при определенных обстоятельствах разрушается, например, когда мы замечаем характерное сходство темных цветов и глубоких тонов). Цвета между собой становятся для нашего сознания относительно равными сущностями, их сходство представляется нам относительным равенством, их «качественное единообразие» (см. раздел 9 главы 1) становится относительным единством. Поскольку таким образом сходство может стать относительным сходством или группа объектов, относительно сходных в целом (не по частичным моментам), может быть отделена от других подобных групп, сходство, как и актуальное, то есть абсолютное сходство, обладает концептообразующей функцией, то есть мы говорим об объектах, что они «являются» объектами определенного вида, и подразумеваем под этим, что они могут быть отнесены к такой-то группе или серии сходств. Если мы имеем дело с объектами, различия между которыми невелики (например, разные оттенки одного цвета), то если мы поместим такую группу сходных объектов вместе и противопоставим их другим, более сильно дифференцированным объектам, то впечатление сходства может перейти непосредственно в впечатление одинаковости, точнее, в впечатление неразличимости; благодаря «контрасту» небольшие «объективно существующие различия» исчезают для нашего сознания, становятся «незаметными». Впечатление «относительной одинаковости» соответствует впечатлению неразличимости, благодаря тому же виду сравнения, сопоставления и контраста, благодаря которому мало отличающиеся объекты становятся неразличимыми, а более отличающиеся – «относительно одинаковыми». Отсюда понятно, что и относительно равные объекты мы рассматриваем как равные, то есть предполагаем идентичное «понятие». Таким образом, возникает третья форма понятий – понятия, которые уже не только включают в себя идентичные объекты или объекты, от различий которых (их разных частичных моментов) мы абстрагируемся, но и включают в себя относительно разные объекты. Наконец, объекты могут сначала казаться нам похожими, а затем это сходство может раствориться в одинаковости некоторых частичных моментов, когда огульное представление о единстве сменяется расчленяющим представлением о частичных моментах. Поэтому понятия могут сначала возникнуть психологически и генетически из объединения в группы сходства, а затем стать понятиями, под которыми мы подразумеваем объекты с определенными идентичными свойствами или частичными моментами.[26 - В вышеизложенном я попытался несколько модифицировать понятие серии сходств, введенное Корнелиусом. В двух аспектах. Корнелиус также хочет отождествить каждую оценку данного содержания по отношению к абстрактному частичному содержанию с классификацией всего содержания в серии сходств: синий круг передо мной – синий, то есть он характерно похож на ряд других фигур, которые мы лингвистически называем синими квадратами, прямоугольниками, короче говоря, фигурами «того же цвета» и «другой формы». Круглый, наоборот: он «похож» на красные, желтые, белые и т. д. круги. кругам. Аналогично с точки зрения тона, цвета тона и т. д. У меня есть три возражения против этой идеи: во-первых, она не соответствует данности. Цветная и фигурная поверхность не является абсолютным единством даже для нашего непосредственного восприятия, но содержит эти части в своеобразном и непосредственно переживаемом виде «абстрактных» частей. Во-вторых, теория не учитывает разницу, существующую между такими понятиями, как «цвет» и «тон», с одной стороны, и «карминно-красный» и «охристо-желтый» – с другой. И, наконец, в-третьих, существует ли уже существующее различие между различными группами сходства, к которым, как предполагается, принадлежит одно и то же содержание? Как показывает простой пример, одного факта сходства A с B и C, и тем более сходства B с C, недостаточно для определения группы сходства A-B-C: Пусть A – светло-красный круг, B – светло-зеленый прямоугольник, C – темно-красный прямоугольник – вышеуказанные условия сходства выполняются, но никакая группа сходства ими не очерчивается. Если говорить о различных «отношениях», в которых сходны светло-зеленый и светло-красный, с одной стороны, светло- и темно-красный, красный и зеленый прямоугольники – с другой, что позволяет «группе» сохранять свое единство за счет сходства в «одном и том же отношении», то вновь появилось то, что должно быть объяснено, ибо либо различные «отношения» – это различные объекты, которые сравниваются и обнаруживают сходство, т.е. различные абстрактные частичные моменты – тогда круг сразу же очевиден, либо это различия сходства, и тогда, похоже, качества объектов были прослежены до качеств сходства, которые сами должны быть объяснены таким же образом. Чтобы избежать этих возражений, я сначала отличил концептуальные обобщения сходных объектов (звук, цвет) от обобщений сходных частичных содержаний, а затем ввел понятие относительного сходства, которое должно указать на определенный факт: не взаимное сходство само по себе приводит к концептуальным обобщениям, а только когда оно предстает перед нами как относительное сходство сходных объектов с другими объектами (с которыми они также могут быть сходными в одно и то же время). Здесь немаловажно, что сознание сходства становится сознанием относительного сходства только через сопоставление других содержаний, не принадлежащих к данному ряду сходств, или что, говоря то же самое, сознание относительного сходства предполагает не только сознание сходства, но и сознание различия. Так как светло-красный круг, светло-зеленый прямоугольник и темно-зеленый круг, несмотря на свое сходство, не становятся относительно одинаковыми содержаниями, то их сходство не может служить для определения общего понятия.] Точнее говоря, постепенная трансформация нашей концептуализации происходит тремя путями: первоначально неразличимые содержания дифференцируются; дифференцированные содержания вновь собираются в группы относительно сходных содержаний; объекты, которые в целом просто похожи, становятся объектами с различными и сходными частичными содержаниями. Слово «синий» первоначально используется детьми для коллективного называния синих предметов, то есть всех предметов, образующих определенную группу сходства. Лишь постепенно возникает дифференциация цветового и форменного момента, когда слово «синий» становится названием именно цвета синих предметов, а отдельные оттенки синего цвета дифференцируются, и термин «синий» теперь основывается на относительном равенстве этих цветовых оттенков. —
Предложение, в котором содержание подводится под «общий термин», является – с точки зрения его смысла – суммирующим выражением ряда суждений о равенстве. В той мере, в какой это равенство существует объективно, суждение о подстановке является истинным или правильным. Мы имеем ряд таких суждений: A = B, A = C, B = C и т. д. в языковое выражение, так же легко понять, как и в случае с ранее рассмотренными суждениями A -> B, A -> C, B -> C и т. д., которые входят в суждения о «реальных объектах». В целом, мы можем рассматривать родовое понятие или понятие идеального объекта как аналогичное во всех отношениях понятию реального объекта, за исключением одного момента, что «появления» реального объекта становятся такими появлениями того же объекта через их временную связь (A следует за B при условиях ?), тогда как «появления» идеального объекта становятся такими появлениями того же объекта через их связь одинаковости или сходства. Отсюда следует, что реальным объектам можно приписать существование во времени, которое не имело бы смысла для идеальных объектов как таковых. Я могу сравнивать объекты, близкие по времени, так же хорошо, как и те, которые находятся на расстоянии столетий друг от друга. С другой стороны, вещи и роды имеют свойство быть супраиндивидуальными, поскольку «один и тот же» род может иметь свой вид в одном и другом индивидуальном сознании, а именно если мы предполагаем, что содержание в разных сознаниях одно и то же.
Теперь мы можем кратко подвести итог нашего исследования: простые или составные языковые выражения, которые мы используем, называют частично феноменальные, частично реальные и идеальные объекты. Реальные и идеальные объекты не являются феноменальными как таковыми, то есть их нельзя заставить быть данными. Если, следовательно, мы понимаем «смысл» слова как нечто, названное этим словом, что мы можем воплотить в реальность для себя, то слова, обозначающие идеальные и реальные объекты, сами по себе не имеют смысла или названные ими объекты оказываются фиктивными объектами, словами в смысле номинализма – простыми, т.е. бессмысленными именами. Но мы используем эти имена, потому что с их помощью мы выражаем в языковых терминах суждения ожидания, в которых мы связываем данное содержание. «Существование» этих фиктивных объектов и есть действительность суждения, о котором идет речь.
То, что было сказано здесь о функции существительных, обозначающих вещи и жанры, в принципе также очевидно, на что можно хотя бы намекнуть, если мы рассмотрим общие условия, от которых зависит возникновение и развитие языка.
Первая предварительная ступень языка, как принято считать, дана в непреднамеренном произнесении переживаний, как мы до сих пор знаем их в нашей развитой языковой жизни в междометиях [эмоциональные восклицания «ах», «ох», «пфуй» – wp]. Вторая предварительная стадия состоит в том, что за этими междометиями следует «понимание» со стороны слушателя, воображение, которое «вчувствует» соответствующий опыт в создателя звуков. Третья стадия достигается, когда эти звуки намеренно производятся с целью быть понятыми. Здесь звуки начинают приближаться к реальным образованиям языка в той мере, в какой они выполняют коммуникативную функцию. Если мы теперь понаблюдаем за тем, что передается на этих примитивных уровнях, то это всегда эмоционально подчеркнутые ожидания – ожидания, содержащие момент страха или желания, так же как страх и желание, которые сначала выражаются непосредственно в ярких междометиях и вызывают сопереживание у слушателя. В качестве примера достаточно вспомнить заманивающие и предупреждающие призывы животных, которые, вероятно, являются первыми такими намеренными сообщениями.
Развитие настоящего языка, очевидно, происходит путем увеличения числа ожиданий, передача которых представляется необходимой или желательной, что, конечно же, должно чрезвычайно возрасти в тот момент, когда существа объединяются для совместной работы в более широких целях. Этот рост ожиданий, подлежащих передаче, изначально приводит к развитию определенных звуков, которые служат только этой цели коммуникации и каждый из которых также приписывается определенной коммуникации как средство: звуки становятся суммой искусственных символов, значение которых необходимо усвоить. Начало этому уже положено в животном мире, когда, как в случае с некоторыми стадными животными, используются различные предупредительные сигналы, например, для оповещения о различных опасностях.
Наконец, перед нами стоит задача создания фонетических символов для произвольно или неопределенно большого числа различных ожиданий, которые позволят передать эти ожидания слушателю. Настоящая трудность этой задачи, очевидно, заключается в том, что количество этих символов неизбежно ограничено. Теперь легко понять, что для преодоления этой трудности мы будем использовать два средства. Во-первых, мы будем обозначать одним и тем же символом ожидания, которые всегда связаны друг с другом, одно из которых не возникает без другого, – я напоминаю о том свойстве наших лингвистически фиксированных суждений, что каждое из них содержит сумму ожиданий. А во-вторых, мы должны организовать наши символы таким образом, чтобы из одних и тех же повторяющихся знаков можно было создать неограниченное количество фонетических символов с конкретным значением, которое можно вывести из самих знаков. Это происходит сейчас, как и всегда в подобных случаях. Вспомните алфавит или цифры. Количество букв очень ограничено, количество слов очень велико, существует только десять различных цифр, количество чисел бесконечно. Возможность представлять множество объектов несколькими знаками дается здесь тем, что мы комбинируем эти знаки и выражаем отдельный объект, который должен быть представлен определенной комбинацией определенных знаков. Аналогично и здесь. Мы выражаем индивидуальную сумму ожиданий через комбинацию знаков, которые, в свою очередь, могут повторяться в других комбинациях и служить здесь для построения символа, обозначающего другую сумму ожиданий. Конечно, такая система символов складывается только постепенно; развитие языка ребенка может дать представление о том, как она складывается: ребенок сначала говорит отдельными словами, но эти слова означают то, что взрослый произнес бы в виде предложения, поэтому они также имеют конкретное, узнаваемое значение. Затем те же самые слова неизбежно используются в другом значении, пока к этому значению не добавляется изменяющееся выражение с помощью новых, отличных от других фонетических символов. Однако как только это произошло, слова, которые изначально имели конкретное значение, стали просто строительными блоками для различных языковых символов, наполненных конкретным смыслом.
Конечно, эти отдельные слова также должны иметь значение, которое можно усвоить в определенном смысле. Однако они приобретают это значение не сами по себе, а только благодаря различным языковым целым, в которые они включены как части. Точнее говоря: Мы можем выразить различные ожидаемые суммы только с помощью относительно небольшого числа символов, потому что в них всегда играют роль сходные обстоятельства в сходных контекстах.
Отдельное слово, однако, не просто обозначает такой конкретный факт, а является языковым средством, чья схожая лексика в языковых символах разных смыслов указывает на то, что один и тот же факт принадлежит к составляющим этого смысла.
Язык – это не результат логических рассуждений, а продукт практики, который практика жизни создала для определенной цели. Эта цель в конечном счете состоит в том, чтобы передать от одного человека к другому сходное отношение к будущему и тем самым дать им возможность совместно работать над достижением определенных целей. И язык по своей сути, как мне кажется, выполняет эту задачу в первую очередь.
LITERATUR – Ernst von Aster, Prinzipien der Erkenntnislehre [Versuch einer Neubegr?ndung des Nominalismus] Leipzig 1913.
Генрих Ланц (1838 – 1905)
Проблема репрезентационизма
Глава I. Кантовское учение об объективности
Начиная с Канта, теория объекта в его трансцендентальном освещении становится центральным пунктом философского исследования. Какова природа и сущность объекта, каково основание его объективности, какова сама эта объективность, каково ее отношение к субъекту и, наконец, что есть то, что мы называем субъектом? – Это фундаментальные вопросы трансцендентальной теории объекта. Одним словом, отношение между субъектом и объектом – это фундаментальная проблема критики. Какой природы должна быть объективность, чтобы ее познание было возможным и понятным? – Именно в такой форме ставится вопрос у Канта.
Докантовская философия отвечала на него (если вообще пыталась затронуть его более или менее глубоко) либо в духе теории интенции, рассматривая субъект и объект как две независимые космические потенции, которые связаны и согласованы друг с другом по закону параллелизма или предустановленной гармонии; или, в духе старой немецкой мистики, он отождествлял вещи с субъектом, а субъект с духом, тем самым растворяя всякую объективность и уничтожая ее в акте мистического созерцания. Отношение между субъектом и объектом всегда мыслилось как отношение между духом и вещами, между мыслящей и протяженной субстанцией (res extensa et res cogitans). В этом дуалистическом понимании обоих терминов кроется основная ошибка докантовской философии. Сознание, отделенное от объективного мира, само объективировалось и, будучи объективированным, превращалось в непространственную субстанцию или дух. Там, где сохранялась объективность, сохранялся и принципиальный дуализм, а там, где этот дуализм преодолевался, как у немецких мистиков, а затем у английских идеалистов, исчезала и объективность, знание теряло всякую почву и приводило философию к скептицизму. Эти две фундаментальные ошибки повторялись в каждой философской системе, имевшей хотя бы отдаленное отношение к трансцендентальным тенденциям философии. Однако те системы, которые мы можем считать истоками трансцендентального идеализма, а именно неоплатонический мистицизм и английский идеализм XVII—XVIII веков, – все они возводят эту ошибку в основополагающий принцип своего философствования.
Родоначальник немецкого мистицизма, например, Майстер Экхарт, очень близко подходит к идее трансцендентальной философии со своим принципом равенства сущности между познающим и познаваемым, хотя и только в самой общей и самой дезинтегрированной форме. [27 - Виндельбанд, «История новой философии».]«Ибо сущность постигается только тем, чем она сама является».[28 - Сочинения и проповеди господина Экхарта, перевод Бюттнера, т. I, стр. 85] Сущность всего, однако, есть Божество; следовательно, единственный истинный объект для единственного истинного субъекта – Бога – есть Он Сам в различных проявлениях Своей сущности. Душа человека обладает истинным знанием только в акте мистического откровения, следовательно, лишь в той мере, в какой она несет в себе искры божественного света и совпадает с его сущностью. – «Светом божественной сущности мы должны созерцать божественную сущность».[29 - Мейстер Экхарт, там же, стр. 200] «Когда душа видит себя, она видит Бога». Познавая Бога, а точнее, созерцая его, мы погружаемся в его сущность, теряем всякую индивидуальную объективную детерминацию, превращаемся в абсолютное небытие божественной субстанции, которая (как высшее понятие бытия) лишена всякой детерминации и всякого различия и, как абсолютная пустота чистого сознания, как «несозданное великолепие божественной сущности», есть одновременно все и ничто,[30 - Мейстер Экхарт ibid. стр. 202. Ср. также Н. Cusanus, De docta ignorantia. «Ибо Бог, абсолютное величайшее, не есть это и не другое, он не есть там и не там, но как все, так и ничто из всего». Ср. также «Тождество бытия и небытия» Гегеля, лог. 77 – 108] – вечная «тишина» и полный «покой» самого абстрактного из всех понятий. «В переживании блаженства человек становится ничем, и все сотворенное становится для него ничем». [31 - Мейстер Экхарт там же, стр. 202, ср. стр. 199]– В этом акте мистического созерцания, в переживании высшего блаженства, на которое только способен человек, исчезает всякая объективность, всякая интенция к объекту, исчезает и познание как представление отдельных вещей, и остается только абсолютное тождество[32 - Мейстер Экхарт там же, «Единство», стр. 199 – 200] познающего субъекта с самим собой.
Таким образом, с помощью божественной мудрости мистицизм уничтожает противопоставление субъекта и объекта. Все есть одно и то же, все есть божественность, то есть абсолютное сознание, «несотворенное великолепие божественной сущности». Сущность мира исчерпывается в вечном вневременном акте самосозерцания Бога.
Этого краткого описания философии мастера Экхарта достаточно, чтобы показать, насколько он близок если не к самому Канту, то, по крайней мере, к позднему кантианству Фихте или Шеллинга; это первоисточник немецкого умозрения, если абстрагироваться от его связи с новым платонизмом. Но, несмотря на глубокое родство, она радикально отличается от кантовской и послекантовской философии в вышеупомянутом пункте Она не устанавливает, а уничтожает всякую объективность, превращает ее в дух и, объективируя этот дух в божественную субстанцию, переливает все содержание мира познаваемого в абсолютную пустоту божественного небытия. Единство познающего и познаваемого, которое, по мнению Эккарта, имеет место в самовосприятии и самооткровении Бога, уже не является единством познания, поскольку оно превращается в «неопределенное», «сверхчувственное» видение, в котором уничтожается всякая «активность», всякая детерминированность и отдельность бытия и, в связи с этим, всякая объективность. Высшее познание, говорит Экхарт, – это абсолютное молчание; «душе не дано ни деятельности, ни познания, она больше не знает ни одного образа, ни себя, ни какого-либо существа».[33 - Мейстер Экхарт там же, стр. 34]
Пожалуй, с еще большей ясностью эту связь и отличие от критической философии можно увидеть в системе, из которой немецкий мистицизм сам черпает свои убеждения и которая образует переход от старого к новому периоду философии. Это система нового платонизма. Два основных понятия нового платонизма, en и nous, ставят его в непосредственную связь с новейшей философией. Если понятие Единого предстает как предвосхищение идеи бескачественной и бесконечной субстанции, которая проходит через всю историю философии и даже отражена в концепции Абсолюта Фихте и Шеллинга[34 - Фихте, например, определяет понятие Абсолюта в третьей «Wissenschaftslehre» 1801 года совершенно в смысле Плотина, как нечто стоящее над мышлением и бытием. «Абсолютное не есть ни знание, ни бытие, ни тождество, ни безразличие того и другого, но только и исключительно абсолютное», и аргументация остается той же, что и у Плотина: ни знание, ни бытие не могут быть названы строго абсолютными, поскольку они предполагают друг друга и, таким образом, содержат в себе внутреннее разделение.], то понятие интеллекта, как тождества между мышлением и бытием, образует тот зародыш, из которого при посредничестве спекулятивной философии развились все монистические тенденции современной логики.
Бытие возможно только как бытие мысли. По крайней мере, в сфере умопостигаемого мира идей это предложение представляется Плотину фундаментальной истиной. «Всякая идея не отлична от интеллекта, но всякая идея есть интеллект. А интеллект в своей совокупности есть совокупность идей».[35 - «Эннеады» Плотина, Enn. V. 9, 8] Бытие умопостигаемого мира есть продукт интеллектуальной деятельности, энергии мысли. «Интеллект завершает и свидетельствует о бытии своей деятельностью и мышлением».[36 - Плотин там же, Энн. V 9,8] Как и у Фихте, у Плутина бытие мышления исчерпывается его деятельностью. Продукт мышления по своей сути есть не что иное, как сама деятельность, или «ипостась» [подчинение объективной реальности мысли – wp] в принципе полностью тождественна «энергии» мышления, т.е. они являются лишь двумя моментами одного и того же мышления и различаются только в рефлексии. Объекты мысли не лежат вне самой мысли, а содержатся в ней. Рассудок не стоит напротив интеллигибельного мира как независимое от него существо, которое изображает и отражает отдельную от него реальность, но этот интеллигибельный мир есть сам рассудок, полностью совпадает с ним». Соответственно, нельзя искать умопостигаемое вне интеллекта и предполагать, что в интеллекте есть отпечатки бытия.[37 - Плотин ibid Enn. V 5,2] «Бытие возможно только в истине и через истину и есть не что иное, как сама истина». «Абсолютная истина соглашается не с другим, а с самой собой, и она не говорит ничего, кроме самой себя; она есть; и что она есть, то она и говорит». [38 - Плотин ibid Enn. V 5,2]Ее смысл полностью совпадает с ее объектом.
Это «оно есть то, что оно есть» можно было бы считать крылатым словом современного эпистемологического монизма, если бы в нем не содержался тот элемент мистической метафизики в скрытом виде, который, несмотря на полную идентичность выражений, отделяет плотиновскую доктрину от современной эпистемологии глубокой пропастью. Только более поздний период, через философию Канта, понял, как преодолеть эту метафизику и подняться до концепции эпистемологического субъекта как идеального единства, чистой формы Я-сущности, которая, будучи сама нереальной, делает все реальным. Для Плотина же (как и для докантовской философии) интеллект предстает не только как чистая форма сознания, но и как высший уровень реальности. Для него тождество мышления и бытия синонимично тождеству бытия и мышления. В его философии мышление бытия совпадает с бытием мышления. Не следует забывать, что для Плотина мышление предстает не как абсолютно конечный, эпистемологический prius, а выводится из абсолютного метафизического prius – en, лишенного всех противоположностей; в результате интеллект погружается из ясного царства сознания в темное царство метафизических сущностей. Сознание вновь объективируется и принимается за выражение объективной субстанции; в этом кроется фундаментальная ошибка докантовской философии: она трансцендентна и иллюзорна. Трансцендентна она потому, что ищет в сознании духовную субстанцию объективного мира; иллюзорна – потому, что превращает объективный мир вещей в мир духа (или даже более того, в нечто, превосходящее дух). Идея, составляющая фундаментальную истину и основную предпосылку всей докритической философии, состоит в том, что сознание есть духовная субстанция – непространственная, бесплотная и нематериальная.
Мы уже говорили о мистических и идеалистических системах, что они разрушают объективность мира, одухотворяя сознание. Все реалистические системы, с другой стороны, остаются, что еще хуже, на принципиально дуалистической точке зрения. Они остаются в области преднамеренных предрассудков. Хотя Декарт, например, иногда очень близок к Канту,[39 - Эренст Кассирер, Проблема познания, т. I, с. 375 – 433] основная тенденция его метафизики – утвердить объективность и трансцендентную обоснованность знания через понятие Бога: Бог совершенен, поэтому мошенничество противоречит его понятию; следовательно, состояния мыслящей субстанции должны соответствовать и соответствуют абсолютно объективным состояниям телесного. Дуализм Спинозы столь же несомненен.
Из этих исторических примеров мы ясно видим, что, как бы ни были близки докантовские системы к идеям трансцендентальной философии, они отличаются от нее в одном принципиальном пункте: все они путают понятие сознания с понятием психической субстанции, или психических состояний; отсюда их иллюзионизм, отсюда и их трансцендентность. Только Кант смог показать, что психическая субстанция и сознание – это две совершенно разные вещи. Факт нашего мышления вовсе не доказывает его бытие в качестве духа; cogito ergo sum – неверный вывод, основанный на необоснованном объективировании мышления. Мышление есть сознание чистой действительности понятия; если я мыслю бытие, то из этого еще не следует, что мышление есть бытие, скорее наоборот; из этого можно заключить только, что бытие есть не что иное, как род мышления или действительности; существуют также действительности физического, – но из этого нельзя делать вывод, что действительность есть нечто физическое, а только то, что физическое как таковое есть род действительного суждения; одним словом: исходя из объекта, мы не можем сделать никакого вывода о природе и конституции субъекта. Поэтому из того, что объекты существуют и что эго их осознает, еще не следует, что само это эго действительно существует. Оно содержится в этих объектах не как их составная часть, а как их логические условия, как общая форма их бытия. Как чистая форма всякого объективного существования, как абстрактный способ бытия всякого объекта, это Я не может быть отделено от своего объекта и не может быть понято как независимый объект. Оно существует и познается только в своих объектах, в своих высказываниях, в своих мыслях, «и отдельно от него мы никогда не можем иметь ни малейшего понятия о нем», «потому что сознание само по себе есть не понятие, отличающее какой-либо предмет, а форма его вообще, в той мере, в какой оно должно быть названо знанием».[40 - Кант, Критика чистого разума, стр. 341]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71243533?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Я не могу считать правильным рассматривать обоснование принципов, как этого иногда требует Гуссерль, как задачу метафизики. Определение метафизики как философской дисциплины будет наиболее простым, если поставить перед ней задачу полного удовлетворения поиска знания путем получения единой теории, охватывающей мир в целом. Однако дополнение отдельных наук, заключающееся в этом, достигается не путем анализа и разработки их общих предпосылок, а путем установления общих отношений между ними и идеального дополнения их результатов для формирования единой науки, объектом которой является уже не какая-то часть мира, а мир в целом. Эпистемология логически предшествует отдельным наукам, метафизика следует за ними. Однако с точки зрения времени эти отношения, как известно, обратные.
2
Ганс Корнелиус, Психология как наука об опыте, стр. 20
3
Ср. Макс Дешуар, Эстетика, стр. 169 и 353. Бенно Эрдманн решительно подчеркивает мысль о том, что при использовании слова обозначаемый объект еще не дан (см. пояснения в «Логике I», второе издание, стр. 314). Он также справедливо отмечает, что Беркли, вероятно, первым выразил это убеждение в «Принципах», и цитирует (Archiv f?r systematische Philosophie, vol. 2) характерный отрывок из введения (§19): «При некотором размышлении выяснится, что даже при самой строгой связи идей не обязательно, чтобы имена, обозначающие что-то и представляющие идеи, каждый раз, как только они используются, пробуждали в уме те самые идеи, которые они были призваны представлять, поскольку в чтении и речи обычные имена по большей части используются так же, как буквы используются в алгебре, где, хотя каждая буква обозначает определенное количество, для правильного хода вычислений не обязательно, чтобы на каждом шагу каждая буква вызывала в сознании то конкретное количество, которое она обозначает.» Следующие замечания Беркли в §20 также очень важны; они выражают мысль, к которой я вернусь позже, что «понимание» слова состоит главным образом в том, что оно немедленно производит на слушателя тот же эффект, что и обозначаемая вещь, что, таким образом, и здесь функция слова состоит главным образом в том, чтобы «представлять» обозначаемое.
4
В демонстрации таких рефлексов сознания я вижу главную заслугу экспериментальных исследований мышления, как они были проведены Августом Мессером (Experimentell-psychologische Untersuchungen ?ber das Denken, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 8), Бьюлером («Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorg?nge», ibid. vol. 9) и другими. Ср. также очень меткие замечания в «Принципах человеческого знания» Беркли, Введение, § XX.
5
Для сравнения я ссылаюсь на свое эссе в Zeitschrift f?r Psychologie, vol. 49: «?ber die Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorg?ngen». – Гуссерль также иногда упоминает (Логические исследования II, с. 73), что можно было бы придумать идею объяснения осознания значения слова как простого чувства знакомости. Он возражает, что мы очень хорошо различаем, является ли слово просто известным нам или оно имеет для нас значение; мы также можем быть знакомы с непонятными терминами или словами иностранного языка, значение которых, как мы знаем, мы давно забыли. Конечно. Но из этого, как мне кажется, следует, что чувство, о котором здесь идет речь, – это не просто чувство знакомости, а чувство особого рода. Я бы сравнил его с чувством, которое мы испытываем по отношению к знакомому инструменту, с которым умеем обращаться. Это не просто сравнение – по моему мнению, слово и есть такой инструмент – я вернусь к этому позже. В других местах, однако, Гуссерль, кажется, считает само собой разумеющимся, что даже в «значении» означаемый объект каким-то образом сознательно постигается нами.
6
Эдуард Брэдфорд Титченер, Экспериментальная психология мыслительных процессов, Нью-Йорк, 1909 г.
7
Антон Марти, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, vol. 1, p. 175f
8
Конечно, можно и в определенном смысле нужно проводить различие между общими понятиями и общими объектами. Под «понятием» обычно понимают нечто, имеющее только ментальное существование, продукт разума, и тогда, возможно, задаются вопросом, существует ли общее только как «понятие» или также как (внементальный, реальный или идеальный) «объект». Однако можно взять оба слова и более широко и неопределенно по смыслу: взять слово «объект» как синоним «чего-то» вообще, как уже указывалось ранее, а под «понятием» понимать значение слова как такового, то, что подразумевается в слове. Тогда можно, как это было сделано в тексте, использовать «общее понятие» и «общий объект» изначально неразборчиво [четко не отделяя их друг от друга – wp]. К этому различию я вернусь позже.
9
Как бы ни была изобретательна и последовательна попытка Наторпа интерпретировать все те платоновские термины, которые превращают мир идей в метафизический потусторонний мир, как просто образы, есть, на мой взгляд, моменты, в которых такая интерпретация делает насилие над формулировкой и ходом мысли Платона. Действительно ли все доказательство бессмертия в «Федре» должно быть аллегорией?
10
Ср. Husserl, Logical Investigations II, pp. 153. – В вышеизложенном я в то же время критикую свои собственные ранние замечания в моих «Исследованиях логического содержания причинно-следственного закона», Лейпциг 1905.
11
Марти, однако, кажется, придерживается мнения (Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik aund Sprachphilosophie, vol. 1, p. 328), что понятия можно воспринимать как нечто существующее во времени, но не в определенное время. Однако то, что существует в неопределенное время, существует «либо» сейчас, «либо» в другое время, может существовать «и» сейчас, «и» в другое время. Очевидно, что мы не можем сказать это о «человеке», а только о «любом человеке», то есть о любом индивидууме, который подпадает под понятие «человек». «Человек», с другой стороны, общее понятие человеческого существа, не существует «ни» сейчас, «ни» в любое другое время.
12
Эдмунд Гуссерль, Логические исследования II, стр. 620f: «Подобно тому, как вещь в видимости не стоит там как простая сумма бесчисленных индивидуальных детерминаций, которые может различить последующее индивидуальное наблюдение, и подобно тому, как оно не дробит вещь на детали, но способно наблюдать их только во всегда законченной и единой вещи: так и акт восприятия всегда является однородным единством, которое визуализирует объект простым и непосредственным способом… Возможно также, что мы не позволяем себе довольствоваться „одним взглядом“, а наблюдаем вещь со всех сторон в непрерывном процессе восприятия, сканируя ее, так сказать, нашими органами чувств. Но каждое отдельное восприятие в этом процессе уже является восприятием этой вещи. Смотрю ли я на эту книгу сверху или снизу, изнутри или снаружи, я всегда вижу эту книгу. Это всегда одна и та же страница и одна и та же не только в физическом смысле, но и по мнению самого воспринимающего… Индивидуальные восприятия предмета непрерывно едины. Эта непрерывность означает не просто объективный факт временной демаркации; скорее, ход отдельных актов имеет характер феноменологического единства, в котором слиты отдельные акты. В этом единстве множество актов сливается не только в феноменологическое целое, но и в акт и, более того, в восприятие. В непрерывной последовательности отдельных восприятий мы постоянно воспринимаем этот один и тот же предмет».
13
Как известно, естествознание отождествляет звук с волновым движением воздуха. Как будет показано далее более подробно, это отождествление имеет смысл только как отождествление реального звука с реальным движением воздуха. Отождествлять феноменальный звук с чем-либо другим было бы совершенно бессмысленно.
14
Теодор Липпс, Vom F?hlen, Wollen und Denken, Лейпциг 1902, стр. 6
15
Я не утверждаю здесь, что «логическим противоречием» является утверждение, что феноменальный объект может существовать и без того, чтобы быть данным, но, наоборот, я выступаю против утверждения, что логически необходимо, чтобы все данное было дано «Я».
16
Как видно из того, как вводятся эти примеры, я считаю «данным» в этом отношении только то, что Штумпф называет «психическими сущностями» в своем академическом трактате «Явления и психические функции» (Берлин, 1906), а не психические «функции» Штумпфа, которые я могу рассматривать только как бессознательные, выводимые условия этих данных сущностей. Тот факт, что я не считаю все психические сущности Штумпфа данными, показывает мою позицию по отношению к общим понятиям. С другой стороны, я полностью согласен с феноменологическим анализом, который практикует Шуман в своих «Вкладах в анализ лицевых восприятий».
17
Мы можем получить это сравнительное отношение к содержаниям, которые следуют одно за другим, так же как и к тем, которые даны одновременно; это сознание единства может охватить два последовательных содержания так же, как и два одновременно данных. В тех случаях, когда мы выносим суждение о том, что нечто, увиденное сейчас, равноценно тому, что было увидено давно, без того, чтобы это нечто, увиденное ранее, представлялось сейчас, более того, возможно, без того, чтобы оно точно запоминалось (ср. Грюнбаум, Абстракция равного, Archiv f?r die gesamte Psychologie, vol. 12) и A. Brunswig, Das Vergleichen und die Relationserkenntnis, Leipzig 1910), я, конечно, считаю, что суждение обусловлено вторичным впечатлением, ассоциативно связанным с фактом одинаковости в смысле Фридриха Шумана (см. F. Schumann, Beitr?ge zur Analyse der Gesichtswahrnehmungen).
18
Ср. Карл Штумпф, Erscheinungen und psychische Funktionen, и Oswald Kulpe, Die Realisierung, vol. 1.
19
Казимир Твардовский, «Об основании и о смысле слов», Вена, 1894.
20
Это выражение и параллель памяти и ожидания, которую оно подразумевает, я нашел только в Groos, Das Seelenleben des Kindes, третье издание, Берлин 1911; на странице 34 Groos разделяет образы воображения на «образы прошлого, образы будущего и свободные фантазии».
21
Я говорю это вопреки полемике Эдуарда фон Гартмана против феноменализма («Das Grundproblem der Erkenntnistheorie», стр. 57) и против соответствующих замечаний в Volkelt, «Die Quellen der menschlichen Gewi?heit», стр. 45.
22
Здесь я должен возразить Корнелиусу в одном пункте, с которым, кстати, я полностью согласен в отношении доктрины «символической функции образов памяти». Корнелиус связывает неопределенность образов памяти с их общностью (Psychologie als Erfahrungswissenschaft, p. 62f); он допускает, что неопределенность увеличивает число различных объектов, представленных в одном и том же образе памяти. Это не совсем верно. Образ памяти, неопределенный в определенном направлении, представляет соответствующие различные объекты, к которым он относится, только в той мере, в какой они не являются различными, или, строго говоря, он представляет похожие объекты, которые становятся из этих различных объектов, если мы пренебрегаем пунктами, в которых они различны.
23
Суждение о том, что А является «средством» для достижения В, очевидно, означает то же самое, что и: А является «условием» для В, т.е. как общее ожидание того, что после А наступит В.
24
В исследовании, которое на самом деле преследует психологические цели, здесь, конечно, должны быть сделаны различные различия. С точки зрения психологии, существуют различные типы настроя. Существует напряженное ожидание определенных вещей – вспомните, например, поведение испытуемого в тесте психологической реакции – и это ожидание не может (и в большинстве случаев не будет) принимать форму сознательного ожидания и воображения того, что ожидается, а скорее бессознательного ожидания, которое проявляется в сознании только через интенсивное чувство напряжения и случайные вспышки воображения. С другой стороны, существует привычное отношение ко всем видам вещей, которое присутствует в каждый момент нашей психической жизни и которое дает о себе знать в нашем сознании только через механически выполняемые действия. Первый случай характеризуется в то же время тем, что мы настроены с большей исключительностью на определенные вещи, отчего в то же время страдает привычная настроенность на другие вещи (явление рассеянности у выученных и сильно занятых), и тем, что мы все время «знаем», т. е. можем в любой момент указать и сознательно представить себе, на что мы направлены, чего нет во втором случае. Но между этими двумя формами существуют и постепенные переходы; одна может превратиться в другую.
25
То, что мы различаем и другие реальные объекты, помимо вещей, для которых верно то же самое, мне нужно только еще раз отметить здесь.
26
В вышеизложенном я попытался несколько модифицировать понятие серии сходств, введенное Корнелиусом. В двух аспектах. Корнелиус также хочет отождествить каждую оценку данного содержания по отношению к абстрактному частичному содержанию с классификацией всего содержания в серии сходств: синий круг передо мной – синий, то есть он характерно похож на ряд других фигур, которые мы лингвистически называем синими квадратами, прямоугольниками, короче говоря, фигурами «того же цвета» и «другой формы». Круглый, наоборот: он «похож» на красные, желтые, белые и т. д. круги. кругам. Аналогично с точки зрения тона, цвета тона и т. д. У меня есть три возражения против этой идеи: во-первых, она не соответствует данности. Цветная и фигурная поверхность не является абсолютным единством даже для нашего непосредственного восприятия, но содержит эти части в своеобразном и непосредственно переживаемом виде «абстрактных» частей. Во-вторых, теория не учитывает разницу, существующую между такими понятиями, как «цвет» и «тон», с одной стороны, и «карминно-красный» и «охристо-желтый» – с другой. И, наконец, в-третьих, существует ли уже существующее различие между различными группами сходства, к которым, как предполагается, принадлежит одно и то же содержание? Как показывает простой пример, одного факта сходства A с B и C, и тем более сходства B с C, недостаточно для определения группы сходства A-B-C: Пусть A – светло-красный круг, B – светло-зеленый прямоугольник, C – темно-красный прямоугольник – вышеуказанные условия сходства выполняются, но никакая группа сходства ими не очерчивается. Если говорить о различных «отношениях», в которых сходны светло-зеленый и светло-красный, с одной стороны, светло- и темно-красный, красный и зеленый прямоугольники – с другой, что позволяет «группе» сохранять свое единство за счет сходства в «одном и том же отношении», то вновь появилось то, что должно быть объяснено, ибо либо различные «отношения» – это различные объекты, которые сравниваются и обнаруживают сходство, т.е. различные абстрактные частичные моменты – тогда круг сразу же очевиден, либо это различия сходства, и тогда, похоже, качества объектов были прослежены до качеств сходства, которые сами должны быть объяснены таким же образом. Чтобы избежать этих возражений, я сначала отличил концептуальные обобщения сходных объектов (звук, цвет) от обобщений сходных частичных содержаний, а затем ввел понятие относительного сходства, которое должно указать на определенный факт: не взаимное сходство само по себе приводит к концептуальным обобщениям, а только когда оно предстает перед нами как относительное сходство сходных объектов с другими объектами (с которыми они также могут быть сходными в одно и то же время). Здесь немаловажно, что сознание сходства становится сознанием относительного сходства только через сопоставление других содержаний, не принадлежащих к данному ряду сходств, или что, говоря то же самое, сознание относительного сходства предполагает не только сознание сходства, но и сознание различия. Так как светло-красный круг, светло-зеленый прямоугольник и темно-зеленый круг, несмотря на свое сходство, не становятся относительно одинаковыми содержаниями, то их сходство не может служить для определения общего понятия.
27
Виндельбанд, «История новой философии».
28
Сочинения и проповеди господина Экхарта, перевод Бюттнера, т. I, стр. 85
29
Мейстер Экхарт, там же, стр. 200
30
Мейстер Экхарт ibid. стр. 202. Ср. также Н. Cusanus, De docta ignorantia. «Ибо Бог, абсолютное величайшее, не есть это и не другое, он не есть там и не там, но как все, так и ничто из всего». Ср. также «Тождество бытия и небытия» Гегеля, лог. 77 – 108
31
Мейстер Экхарт там же, стр. 202, ср. стр. 199
32
Мейстер Экхарт там же, «Единство», стр. 199 – 200
33
Мейстер Экхарт там же, стр. 34
34
Фихте, например, определяет понятие Абсолюта в третьей «Wissenschaftslehre» 1801 года совершенно в смысле Плотина, как нечто стоящее над мышлением и бытием. «Абсолютное не есть ни знание, ни бытие, ни тождество, ни безразличие того и другого, но только и исключительно абсолютное», и аргументация остается той же, что и у Плотина: ни знание, ни бытие не могут быть названы строго абсолютными, поскольку они предполагают друг друга и, таким образом, содержат в себе внутреннее разделение.
35
«Эннеады» Плотина, Enn. V. 9, 8
36
Плотин там же, Энн. V 9,8
37
Плотин ibid Enn. V 5,2
38
Плотин ibid Enn. V 5,2
39
Эренст Кассирер, Проблема познания, т. I, с. 375 – 433
40
Кант, Критика чистого разума, стр. 341
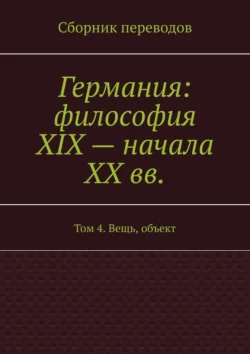
Валерий Антонов
Тип: электронная книга
Жанр: Философия и логика
Язык: на русском языке
Стоимость: 480.00 ₽
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 23.10.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Анализ отношений между субъектом и объектом в философии обретает особую значимость. Он помогает нам осознать, как мы, в свою очередь, формируем значения, укорененные в контексте времени и места, тем самым расширяя наше понимание не только себя, но и окружающего мира.