Сны брошенного дома
Сны брошенного дома
Сергей Гриненко
У дома такая судьба – провожать. Всегда от него уходят, а он остается. Вот и дом Уоррена глядел вслед удалявшемуся художнику ослепленными глазницами заколоченных окон. Смешанное это чувство – горечь расставания и, одновременно, удовлетворение от сделанного, помноженные на ощущение собственного бессмертия… Ведь то, что однажды родилось на свет, не умирает никогда!
Сны брошенного дома
Сергей Гриненко
© Сергей Гриненко, 2024
ISBN 978-5-0064-7663-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СНЫ БРОШЕННОГО ДОМА
История дома Уоррена
Дом Уоррена стоял заброшенным уже лет двадцать. Когда-то это был большой и светлый дом, на самом берегу моря, несколько в отдалении от поселка. Огромными, в два человеческих роста, окнами мастерской дом смотрел в морскую даль, где, прямо напротив этих окон вставало и садилось солнце, а ночами протягивалась к спящему на песке дому лунная дорога.
Дом постоянно достраивался и перестраивался, отчего со временем приобрел вид несколько хаотично, на первый взгляд, расположенных пристроек и террас к мастерской, продолжавшей оставаться, безусловно, центром всей этой архитектурной композиции. Тем не менее, внутри дом был устроен очень удобно: каждая из более чем десятка комнат имела, с одной стороны, сообщение с другими, а с другой – располагала отдельным, изолированным выходом либо на террасу, по порожкам которой можно было спуститься во двор, либо сразу напрямую на песок пляжа или аллею небольшого парка, прятавшего особняк Уоррена от глаз жителей поселка со стороны гор. Так что каждый из посетителей и гостей этого дома на побережье, занимавший на какое-то время одну из его комнат, имел возможность, не тревожа других, в любое время дня и ночи войти к себе или покинуть свое пристанище.
А гостей всегда было много. Эндрю Уоррен был писателем, и на лето к нему слетались со всех концов страны такие же, как он, отрешенного вида служители пера, чтобы, проведя в «коммуне» лето, набраться новых творческих идей, а заодно и поделиться своими черновиками, набросками или просто мыслями с коллегами по писательскому цеху.
Когда революционные волнения докатились до захолустного Побережья, где обосновался Уоррен, писательская коммуна не очень-то взволновалась. И это было роковой ошибкой. В одну из ночей в дом ворвались несколько десятков вооруженных, кто чем, людей, выволокли ничего не понимающих постояльцев во двор, где устроили акт длительного и жестокого избиения, после чего велели всем убираться на все четыре стороны, заявив, что дом подлежит конфискации в пользу государства. В ту же ночь дом был разграблен практически полностью.
Друзья и гости Эндрю Уоррена после такого, разумеется, растворились каждый в неизвестном направлении, а хозяин, проведя несколько ночей прямо на пляже, залечивая синяки и душевные раны, предпринял несколько робких попыток восстановить свое право собственности на особняк. Однако, противные, как мигрень, визиты к новым революционным чиновникам не дали результата, Эндрю Уоррену было велено убираться восвояси, пока его не обвинили в неповиновении новой власти.
И вот, однажды ночью писатель при свете луны нежно попрощался со своим бывшим жилищем, где было проведено столько прекрасных часов, и, погладив на прощанье камень, который когда-то он собственноручно заложил в основание будущего дома, направился прочь вдоль прибоя в сторону железнодорожной станции, находившейся в нескольких милях южнее поселка.
С тех пор его больше никто и никогда не видел…
А дом остался – брошенный в постепенно приходящем в запустение парке исполин, с выбитыми зубами-дверями, раскуроченными глазами-окнами и переломленным временем и судьбой хребтом кровли.
Когда страна пришла в себя после революционного экстаза, то обнаружилось, что за несколько лет погромов и расправ уничтожены не просто «аристократические гнезда», а целый ряд памятников истории, архитектуры и культурного наследия. Властью был издан декрет, бравший под охрану драгоценные руины некогда прекрасных усадеб и предписывавший местным чиновникам предпринять все возможные меры по их восстановлению и созданию на их базе музеев, памятников истории и рекреационных объектов.
Так были восстановлены несколько десятков старых дворянских имений по всей стране, но небольшой и, собственно говоря, никогда не являвшийся «памятником старой аристократии» дом Уоррена в медвежьем углу страны, на Побережье, вдали от больших городов, никого не интересовал и потому восстановлен не был. В то же время, формально он числился под номером 213 в реестре подлежащих восстановлению объектов культурного наследия, что предохраняло его от сноса.
Так и стоял заброшенный дом на берегу, никому не нужный, ничем не интересный, медленно разрушаясь под действием морских ветров, дождей и едкого прибрежного климата. Со временем спустившиеся с деревьев парка лианы, вьюны и другие ползучие растения укутали дом, забаррикадировав покореженные двери и выбитые окна, сквозь доски пола пробилась трава, а на полуразрушенной кровле свили свои гнезда птицы.
Все забыли о доме Уоррена. До тех пор, пока он сам не напомнил о себе.
Стоящий на отшибе, он пользовался популярностью у местных мальчишек, устраивавших в старом парке и полуразрушенном особняке свои игры. И однажды в доме случился пожар. Как выяснилось впоследствии, мальчишки разложили костер прямо в центре гостиной, примыкающей к бывшей мастерской Уоррена, и высушенный ветрами и солнцем пол вспыхнул, как порох.
В огне погибли опоясывающие дом деревянные террасы, сгорели все примыкавшие к дому хозяйственные постройки и деревянные флигели, но каменный остов мастерской писателя остался стоять, глядя мертвыми глазами трех огромных закопченных оконных проемов на берег.
В том пожаре погибло двое мальчишек, так и не сумевших найти в испуге выход из лабиринта полыхавших комнат. Поползли разговоры о том, что это сам дом отомстил и за своего хозяина, и за события той далекой уже ночи, когда была учинена расправа над писательской коммуной. С тех пор за домом Уоррена прочно закрепилась репутация «гиблого места», породившая несколько сочиненных досужими репортерами страшилок о «Доме-Мстителе».
Местные жители с удовольствием бы своими руками разобрали до самого основания каменные стены, устоявшие в огне, но государственный декрет охранял «проклятый дом». Поэтому все, на что они решились, чтобы хоть как-то морально поддержать родителей погибших в пожаре мальчиков, а заодно и чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, так это заколотить раз и навсегда дверные и оконные проемы, обнести особняк Уоррена проволочным забором и объявить его под страхом сурового взыскания территорией, раз и навсегда закрытой для посещений кем бы то ни было, кроме федеральных чиновников.
Этот день остался в памяти горожан как «день, когда мы хоронили Дом». Случилось это на семидесятый день после похорон погибших в огне сорванцов – Тонни Холдера и Джейка Вирджелла.
Вокруг закопченных стен дома Уоррена собралось человек сто. День был осенний, дождливый, неуютный, поэтому женщины и детвора, раскрыв большие черные зонты отступили и сгрудились под кронами деревьев некогда ухоженного парка, почти превратившегося теперь в маленький тропический лес, и, не переговариваясь, с каким-то гнетущим чувством смотрели, как мужчины работают молотками, плотно подгоняя друг к другу доски, чтобы закрыть доступ внутрь «проклятого дома».
Не понятное никому, но крайне осязаемое каждым чувство странной вины носилось в воздухе. Его прикосновение ощущали все – и молчавшие под черными зонтами женщины и дети, и работавшие под дождем и промокшие до нитки мужчины.
Настроение действительно было похоронным. Звук стучащих молотков вызывал только одну ассоциацию – заколачивание гвоздей в крышку гроба. Это были действительно похороны. Похороны дома Уоррена.
Каждый из присутствовавших мысленно прощался с домом, как с живым существом. Да, как с живым. Но никому и в голову не приходила мысль о том, что дом действительно был живой, такой же живой, как любой из окруживших его в тот день людей.
Дом терпеливо ждал, когда последняя подогнанная доска погрузит помещение в почти непроницаемый мрак. Дом ждал, когда начнут расходиться пришедшие поглазеть на него люди. И горожане, постояв еще немного под дождем, действительно стали расходиться – не спеша, группами, тихо и почтительно о чем-то переговариваясь или же в торжественном молчании, подобающем похоронам. Каждый из них думал о чем-то своем. Но не было ни одного человека, не испытывавшего странной тоски, какая сковывает сердце, когда ты прощаешься с кем-нибудь навсегда.
И вот, когда последняя горстка людей тронулась прочь, бросая через плечо прощальные взгляды на страшный, искореженный погромом, временем и пожаром особняк, на чердаке раздался медленный, осторожный скрип. Этот скрип, как и звук чего-то тяжело и весомо ухнувшего за дверью, долетел едва уловимо до замыкавшего шествие Вильяма Скрола, но он списал это на обман слуха, игру воображения и мерное дыхание прибоя.
А дом, впервые за долгое время получивший возможность действительно полного уединения, не боясь более выдать себя, медленно разминал затекшие свои суставы. Лианы и вьюны ринулись к уцелевшим в огне металлическим остовам дверей и обвили дверные ручки гордиевыми узлами. Остатки деревянного пола в мастерской вибрировали и скрипели, выплевывая притягивавшие его к мощным дубовым лагам гвозди. Раздвигая освобожденные доски, снизу поднимались и становились в человеческий рост прекрасные фантастические цветы, рожденные некогда писательским воображением Эндрю Уоррена.
Да, наконец-то дом получил возможность жить, жить по-настоящему, свободно и ни от кого не таясь! Какое ему теперь дело до «толстокожих», не видящих чуда у себя под носом людей?! Какое дело до глупых сплетен, которые о нем сочинили горожане, наградив его, дом романтика, статусом «гиблого места»?!
Он был создан воображением своего хозяина, наполнен им, наделен трепетной душой и населен прекрасными образами, задуманными некогда здесь Эндрю Уорреном. Да, образы и сюжеты эти так и не успели лечь на бумагу, но обитали здесь, как младенец в утробе матери.
Что уж поделать, если что-то, однажды родившееся в сердце художника, уже никогда не умирает, обреченное, таясь от занятых жизнью материи людей, довольствоваться ролью призрака, видения, фантома?
Что делать теперь ему, живому дому, не виноватому ни в том, что его создали таким, ни во всей той мерзости, которую учинили в нем люди, оставив его сиротой?
Покачивая венчиками вставших из пола фантастических исполинских цветов, источавших нездешний, дурманящий аромат, дом погружался в первый мирный после такого долгого перерыва, и оттого такой желанный, сон.
Спи же, дом Уоррена, ты заслужил свой покой!
Странник.
Люк Брийе был уличным аристократом новой волны.
Он воспитывался в интернате и своих родителей не знал. Еще в начальных классах Люк проявлял недюжинные склонности к гуманитарным дисциплинам, в то время как по арифметике имел критически низкие оценки, едва позволявшие ему аттестовываться и переходить на следующую ступень образования.
В итоге, интернат он закончил, будучи непревзойденным в литературе, изобразительном искусстве и, почему-то, физике, в то время как в графах оценок по остальным дисциплинам красовались лаконичные «удовлетворительно».
Покинув интернат и оказавшись лицом к лицу с огромным миром, в котором у него никого не было, и суровыми реалиями провинции, Люк не пал духом. Он нанялся сторожем на один из складов, получив, таким образом, сразу и крышу сторожки над головой, и бездну времени для того, чтобы понять, как ему жить дальше.
А дальше – Люк хотел стать художником. Большим художником.
Его увлечение началось с того, что в младших классах интерната он стал чертить на полях тетрадей и учебников забавные шаржи и карикатуры на своих одноклассников и учителей. Однажды его едкая карикатура на учителя истории с не менее едкой подписью, передразнивавшей фамилию преподавателя, оказалась на столе директора интерната.
Мистер Холбрук, директор, не будучи лично уязвленным шаржем, дождался, когда учитель истории вывалит на него и нерадивого ученика весь свой праведный гнев и покинет кабинет, всерьез посмотрел на юного Люка и сказал:
– Парень, тебе нужно учиться рисовать, у тебя ведь талант к этому!
И с тех пор в любую свободную минуту Люк делал небольшие наброски и этюды – на интернатскую жизнь, на унылые пейзажи за окном его комнаты в кампусе и вообще, на все, что видел вокруг. Этюды эти делались уже не на полях тетрадей и не марали страниц учебников, а исполнялись хорошего качества карандашом или акварелью на специально покупаемой в подарок Люку директором Холбруком бумаге.
И, оказавшись в сторожке, он не утратил ни своей тяги к изобразительству, ни мечты зарабатывать этим деньги.
Долгими вечерами и ночами, отрываясь от карандаша (акварели пришлось забросить ввиду дороговизны красок и специальной акварельной бумаги), Люк занимался самообразованием. Он увлекся античной, а затем и классической философией, прекрасно разбирался в литературе, продолжил свои увлечения исторической наукой, а затем и теологией.
Одним словом, по истечении четырех лет ночных дежурств в маленькой сторожке миру явился прекрасно образованный, аристократически воспитанный и отточивший на бесконечных этюдах свою художественную технику молодой человек, полный оптимизма и горящий желанием изменить мир. Разумеется, в лучшую сторону.
По прошествии нескольких десятилетий после революции страна осознала дефицит в молодых, образованных людях, способных дать обществу что-то достойное в культурной и досуговой сфере. Начали один за другим открываться художественные, музыкальные, театральные, хореографические курсы, послужившие социальными лифтами на государственную службу для целого поколения учителей, актеров, танцоров, музыкантов и художников.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71243242?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сергей Гриненко
У дома такая судьба – провожать. Всегда от него уходят, а он остается. Вот и дом Уоррена глядел вслед удалявшемуся художнику ослепленными глазницами заколоченных окон. Смешанное это чувство – горечь расставания и, одновременно, удовлетворение от сделанного, помноженные на ощущение собственного бессмертия… Ведь то, что однажды родилось на свет, не умирает никогда!
Сны брошенного дома
Сергей Гриненко
© Сергей Гриненко, 2024
ISBN 978-5-0064-7663-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СНЫ БРОШЕННОГО ДОМА
История дома Уоррена
Дом Уоррена стоял заброшенным уже лет двадцать. Когда-то это был большой и светлый дом, на самом берегу моря, несколько в отдалении от поселка. Огромными, в два человеческих роста, окнами мастерской дом смотрел в морскую даль, где, прямо напротив этих окон вставало и садилось солнце, а ночами протягивалась к спящему на песке дому лунная дорога.
Дом постоянно достраивался и перестраивался, отчего со временем приобрел вид несколько хаотично, на первый взгляд, расположенных пристроек и террас к мастерской, продолжавшей оставаться, безусловно, центром всей этой архитектурной композиции. Тем не менее, внутри дом был устроен очень удобно: каждая из более чем десятка комнат имела, с одной стороны, сообщение с другими, а с другой – располагала отдельным, изолированным выходом либо на террасу, по порожкам которой можно было спуститься во двор, либо сразу напрямую на песок пляжа или аллею небольшого парка, прятавшего особняк Уоррена от глаз жителей поселка со стороны гор. Так что каждый из посетителей и гостей этого дома на побережье, занимавший на какое-то время одну из его комнат, имел возможность, не тревожа других, в любое время дня и ночи войти к себе или покинуть свое пристанище.
А гостей всегда было много. Эндрю Уоррен был писателем, и на лето к нему слетались со всех концов страны такие же, как он, отрешенного вида служители пера, чтобы, проведя в «коммуне» лето, набраться новых творческих идей, а заодно и поделиться своими черновиками, набросками или просто мыслями с коллегами по писательскому цеху.
Когда революционные волнения докатились до захолустного Побережья, где обосновался Уоррен, писательская коммуна не очень-то взволновалась. И это было роковой ошибкой. В одну из ночей в дом ворвались несколько десятков вооруженных, кто чем, людей, выволокли ничего не понимающих постояльцев во двор, где устроили акт длительного и жестокого избиения, после чего велели всем убираться на все четыре стороны, заявив, что дом подлежит конфискации в пользу государства. В ту же ночь дом был разграблен практически полностью.
Друзья и гости Эндрю Уоррена после такого, разумеется, растворились каждый в неизвестном направлении, а хозяин, проведя несколько ночей прямо на пляже, залечивая синяки и душевные раны, предпринял несколько робких попыток восстановить свое право собственности на особняк. Однако, противные, как мигрень, визиты к новым революционным чиновникам не дали результата, Эндрю Уоррену было велено убираться восвояси, пока его не обвинили в неповиновении новой власти.
И вот, однажды ночью писатель при свете луны нежно попрощался со своим бывшим жилищем, где было проведено столько прекрасных часов, и, погладив на прощанье камень, который когда-то он собственноручно заложил в основание будущего дома, направился прочь вдоль прибоя в сторону железнодорожной станции, находившейся в нескольких милях южнее поселка.
С тех пор его больше никто и никогда не видел…
А дом остался – брошенный в постепенно приходящем в запустение парке исполин, с выбитыми зубами-дверями, раскуроченными глазами-окнами и переломленным временем и судьбой хребтом кровли.
Когда страна пришла в себя после революционного экстаза, то обнаружилось, что за несколько лет погромов и расправ уничтожены не просто «аристократические гнезда», а целый ряд памятников истории, архитектуры и культурного наследия. Властью был издан декрет, бравший под охрану драгоценные руины некогда прекрасных усадеб и предписывавший местным чиновникам предпринять все возможные меры по их восстановлению и созданию на их базе музеев, памятников истории и рекреационных объектов.
Так были восстановлены несколько десятков старых дворянских имений по всей стране, но небольшой и, собственно говоря, никогда не являвшийся «памятником старой аристократии» дом Уоррена в медвежьем углу страны, на Побережье, вдали от больших городов, никого не интересовал и потому восстановлен не был. В то же время, формально он числился под номером 213 в реестре подлежащих восстановлению объектов культурного наследия, что предохраняло его от сноса.
Так и стоял заброшенный дом на берегу, никому не нужный, ничем не интересный, медленно разрушаясь под действием морских ветров, дождей и едкого прибрежного климата. Со временем спустившиеся с деревьев парка лианы, вьюны и другие ползучие растения укутали дом, забаррикадировав покореженные двери и выбитые окна, сквозь доски пола пробилась трава, а на полуразрушенной кровле свили свои гнезда птицы.
Все забыли о доме Уоррена. До тех пор, пока он сам не напомнил о себе.
Стоящий на отшибе, он пользовался популярностью у местных мальчишек, устраивавших в старом парке и полуразрушенном особняке свои игры. И однажды в доме случился пожар. Как выяснилось впоследствии, мальчишки разложили костер прямо в центре гостиной, примыкающей к бывшей мастерской Уоррена, и высушенный ветрами и солнцем пол вспыхнул, как порох.
В огне погибли опоясывающие дом деревянные террасы, сгорели все примыкавшие к дому хозяйственные постройки и деревянные флигели, но каменный остов мастерской писателя остался стоять, глядя мертвыми глазами трех огромных закопченных оконных проемов на берег.
В том пожаре погибло двое мальчишек, так и не сумевших найти в испуге выход из лабиринта полыхавших комнат. Поползли разговоры о том, что это сам дом отомстил и за своего хозяина, и за события той далекой уже ночи, когда была учинена расправа над писательской коммуной. С тех пор за домом Уоррена прочно закрепилась репутация «гиблого места», породившая несколько сочиненных досужими репортерами страшилок о «Доме-Мстителе».
Местные жители с удовольствием бы своими руками разобрали до самого основания каменные стены, устоявшие в огне, но государственный декрет охранял «проклятый дом». Поэтому все, на что они решились, чтобы хоть как-то морально поддержать родителей погибших в пожаре мальчиков, а заодно и чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, так это заколотить раз и навсегда дверные и оконные проемы, обнести особняк Уоррена проволочным забором и объявить его под страхом сурового взыскания территорией, раз и навсегда закрытой для посещений кем бы то ни было, кроме федеральных чиновников.
Этот день остался в памяти горожан как «день, когда мы хоронили Дом». Случилось это на семидесятый день после похорон погибших в огне сорванцов – Тонни Холдера и Джейка Вирджелла.
Вокруг закопченных стен дома Уоррена собралось человек сто. День был осенний, дождливый, неуютный, поэтому женщины и детвора, раскрыв большие черные зонты отступили и сгрудились под кронами деревьев некогда ухоженного парка, почти превратившегося теперь в маленький тропический лес, и, не переговариваясь, с каким-то гнетущим чувством смотрели, как мужчины работают молотками, плотно подгоняя друг к другу доски, чтобы закрыть доступ внутрь «проклятого дома».
Не понятное никому, но крайне осязаемое каждым чувство странной вины носилось в воздухе. Его прикосновение ощущали все – и молчавшие под черными зонтами женщины и дети, и работавшие под дождем и промокшие до нитки мужчины.
Настроение действительно было похоронным. Звук стучащих молотков вызывал только одну ассоциацию – заколачивание гвоздей в крышку гроба. Это были действительно похороны. Похороны дома Уоррена.
Каждый из присутствовавших мысленно прощался с домом, как с живым существом. Да, как с живым. Но никому и в голову не приходила мысль о том, что дом действительно был живой, такой же живой, как любой из окруживших его в тот день людей.
Дом терпеливо ждал, когда последняя подогнанная доска погрузит помещение в почти непроницаемый мрак. Дом ждал, когда начнут расходиться пришедшие поглазеть на него люди. И горожане, постояв еще немного под дождем, действительно стали расходиться – не спеша, группами, тихо и почтительно о чем-то переговариваясь или же в торжественном молчании, подобающем похоронам. Каждый из них думал о чем-то своем. Но не было ни одного человека, не испытывавшего странной тоски, какая сковывает сердце, когда ты прощаешься с кем-нибудь навсегда.
И вот, когда последняя горстка людей тронулась прочь, бросая через плечо прощальные взгляды на страшный, искореженный погромом, временем и пожаром особняк, на чердаке раздался медленный, осторожный скрип. Этот скрип, как и звук чего-то тяжело и весомо ухнувшего за дверью, долетел едва уловимо до замыкавшего шествие Вильяма Скрола, но он списал это на обман слуха, игру воображения и мерное дыхание прибоя.
А дом, впервые за долгое время получивший возможность действительно полного уединения, не боясь более выдать себя, медленно разминал затекшие свои суставы. Лианы и вьюны ринулись к уцелевшим в огне металлическим остовам дверей и обвили дверные ручки гордиевыми узлами. Остатки деревянного пола в мастерской вибрировали и скрипели, выплевывая притягивавшие его к мощным дубовым лагам гвозди. Раздвигая освобожденные доски, снизу поднимались и становились в человеческий рост прекрасные фантастические цветы, рожденные некогда писательским воображением Эндрю Уоррена.
Да, наконец-то дом получил возможность жить, жить по-настоящему, свободно и ни от кого не таясь! Какое ему теперь дело до «толстокожих», не видящих чуда у себя под носом людей?! Какое дело до глупых сплетен, которые о нем сочинили горожане, наградив его, дом романтика, статусом «гиблого места»?!
Он был создан воображением своего хозяина, наполнен им, наделен трепетной душой и населен прекрасными образами, задуманными некогда здесь Эндрю Уорреном. Да, образы и сюжеты эти так и не успели лечь на бумагу, но обитали здесь, как младенец в утробе матери.
Что уж поделать, если что-то, однажды родившееся в сердце художника, уже никогда не умирает, обреченное, таясь от занятых жизнью материи людей, довольствоваться ролью призрака, видения, фантома?
Что делать теперь ему, живому дому, не виноватому ни в том, что его создали таким, ни во всей той мерзости, которую учинили в нем люди, оставив его сиротой?
Покачивая венчиками вставших из пола фантастических исполинских цветов, источавших нездешний, дурманящий аромат, дом погружался в первый мирный после такого долгого перерыва, и оттого такой желанный, сон.
Спи же, дом Уоррена, ты заслужил свой покой!
Странник.
Люк Брийе был уличным аристократом новой волны.
Он воспитывался в интернате и своих родителей не знал. Еще в начальных классах Люк проявлял недюжинные склонности к гуманитарным дисциплинам, в то время как по арифметике имел критически низкие оценки, едва позволявшие ему аттестовываться и переходить на следующую ступень образования.
В итоге, интернат он закончил, будучи непревзойденным в литературе, изобразительном искусстве и, почему-то, физике, в то время как в графах оценок по остальным дисциплинам красовались лаконичные «удовлетворительно».
Покинув интернат и оказавшись лицом к лицу с огромным миром, в котором у него никого не было, и суровыми реалиями провинции, Люк не пал духом. Он нанялся сторожем на один из складов, получив, таким образом, сразу и крышу сторожки над головой, и бездну времени для того, чтобы понять, как ему жить дальше.
А дальше – Люк хотел стать художником. Большим художником.
Его увлечение началось с того, что в младших классах интерната он стал чертить на полях тетрадей и учебников забавные шаржи и карикатуры на своих одноклассников и учителей. Однажды его едкая карикатура на учителя истории с не менее едкой подписью, передразнивавшей фамилию преподавателя, оказалась на столе директора интерната.
Мистер Холбрук, директор, не будучи лично уязвленным шаржем, дождался, когда учитель истории вывалит на него и нерадивого ученика весь свой праведный гнев и покинет кабинет, всерьез посмотрел на юного Люка и сказал:
– Парень, тебе нужно учиться рисовать, у тебя ведь талант к этому!
И с тех пор в любую свободную минуту Люк делал небольшие наброски и этюды – на интернатскую жизнь, на унылые пейзажи за окном его комнаты в кампусе и вообще, на все, что видел вокруг. Этюды эти делались уже не на полях тетрадей и не марали страниц учебников, а исполнялись хорошего качества карандашом или акварелью на специально покупаемой в подарок Люку директором Холбруком бумаге.
И, оказавшись в сторожке, он не утратил ни своей тяги к изобразительству, ни мечты зарабатывать этим деньги.
Долгими вечерами и ночами, отрываясь от карандаша (акварели пришлось забросить ввиду дороговизны красок и специальной акварельной бумаги), Люк занимался самообразованием. Он увлекся античной, а затем и классической философией, прекрасно разбирался в литературе, продолжил свои увлечения исторической наукой, а затем и теологией.
Одним словом, по истечении четырех лет ночных дежурств в маленькой сторожке миру явился прекрасно образованный, аристократически воспитанный и отточивший на бесконечных этюдах свою художественную технику молодой человек, полный оптимизма и горящий желанием изменить мир. Разумеется, в лучшую сторону.
По прошествии нескольких десятилетий после революции страна осознала дефицит в молодых, образованных людях, способных дать обществу что-то достойное в культурной и досуговой сфере. Начали один за другим открываться художественные, музыкальные, театральные, хореографические курсы, послужившие социальными лифтами на государственную службу для целого поколения учителей, актеров, танцоров, музыкантов и художников.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71243242?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
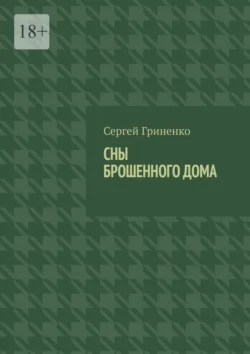
Сергей Гриненко
Тип: электронная книга
Жанр: Триллеры
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 23.10.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: У дома такая судьба – провожать. Всегда от него уходят, а он остается. Вот и дом Уоррена глядел вслед удалявшемуся художнику ослепленными глазницами заколоченных окон. Смешанное это чувство – горечь расставания и, одновременно, удовлетворение от сделанного, помноженные на ощущение собственного бессмертия… Ведь то, что однажды родилось на свет, не умирает никогда!