Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 1. Причинность и детерминизм
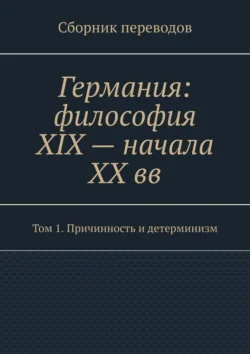
Валерий Антонов
Тип: электронная книга
Жанр: Философия и логика
Язык: на русском языке
Стоимость: 480.00 ₽
Статус: В продаже
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 09.10.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Понять, что такое причина, имеет решающее значение для науки, философии и даже повседневной жизни. Данную категорию человек использует не только для объяснения природных явлений, но и для анализа собственных действий, решений и даже жизненных выборов. В этой книге мы углубимся в понятие причины, его философские корни, научные применения и влияние на наше повседневное мышление.