Аахен – Яхрома
Аахен – Яхрома
Никита Алексеев
«Аахен – Яхрома» – это путевые заметки и иллюстрации ко всем местам в Европе, где Никита Алексеев побывал за свою жизнь, что-то среднее между дневниковыми записями и травелогом.
Собранные в текстах и рисунках, подробности путешествий служили для художника своего рода мнемоническим инструментом, позволявшим легко вызволить из памяти далекие воспоминания.
Раньше эти записи существовали в форме арт-объекта, «книги-чемодана»: обтянутого кожей короба, в котором лежали 600 с лишним рисунков. К коробу была подвешена флешка с текстами. Единственный экземпляр «книги-чемодана» был продан неизвестному коллекционеру и утерян. Рисунки и тексты впервые публикуются в настоящем издании.
В написании географических названий и достопримечательностей с целью не нарушать алфавитный порядок повествования сохранена авторская орфография.
Содержит нецензурную брань. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Никита Алексеев
Аахен – Яхрома
© Музей современного искусства «Гараж», 2024
© Никита Алексеев, текст и иллюстрации, 2010
Предисловие
Никита Алексеев, будучи в первую очередь художником, никогда, однако, не делил для себя творчество на визуальное и литературное. Почти во всех его работах текст – неотъемлемая часть изображения: авторские комментарии к выставкам или инкорпорированные в образ поэтические вставки не кажутся вторичными и становятся равноправными элементами целого.
Художник и man of letters, Никита не просто был постоянно занят сочинительством, сочетая слово и образ, а превратил эту работу в служение. История этой книги по-своему отражает такую двойную страсть – к рисованию и писательству.
В последние годы Никита активно вел свой блог, ежедневно публикуя заметки о мимолетном и вечном. У него было много благодарных читателей в соцсетях. В 2018 году в издательстве Grundrisse вышла его книга «В поисках Дерева-Метлы. Короткие мысли отшельника из Соломенной сторожки», основанная на этих постах-записках. По ней хорошо видно, как работает Никитин нарратив: картинка, текст, картинка, текст, – как будто разворачивается бесконечный свиток, украшенный миниатюрами. В его наследии большое количество таких свитков – многометровых рисунков, расстилающихся пространственным рассказом. И один из них, своего рода путевой дневник, – сейчас перед вами.
Возможность путешествовать для Никиты всегда была подарком судьбы, или, как он говорил, «незаслуженной благодатью». В жизни художника были и поездки по стране во времена СССР, и знакомство с европейскими государствами после эмиграции в 1987 году, и, наконец, насыщенный разнообразными туристическими маршрутами период работы журналистом в еженедельном издании «Иностранец», где Никита писал об искусстве, путешествиях, вине и еде.
Никита был невероятно открытым и свободным человеком. Еще в 1970–1980-е годы, находясь за железным занавесом, он мыслил себя гражданином мира. Куда бы он ни приезжал – на Канары или в маленькую греческую деревню, – было ощущение, что он не случайный гость здесь, а словно возвращается в знакомые места. Он мог, например, подростком изучить биографию Гофмана, а много лет спустя, приехав на родину писателя в Бамберг, провести тебя по городу как коренной житель: «Вот тут Гофман жил, здесь дверь, описанная в одной из его сказок, а там он любил пить пиво».
Не всякий путешественник может увидеть вещи, которые замечал Никита. Он разглядывал мир во всех его деталях, как будто внутренним зрением, иногда даже не успев оказаться на месте. Путешествие для него было не только поездкой по туристическим маршрутам и знакомством с историческими памятниками, но и возможностью соприкоснуться с живой реальностью во всем ее многообразии. Для него имели значение цвет травы у озера в Изборске, яркие глаза коз на альпийском лугу, вкус севанской форели, запахи, фактуры земли. Собранные вместе, подробности служили своего рода мнемоническим инструментом, позволявшим легко вызволить из памяти далекие воспоминания.
История сборника путевых очерков «Аахен – Яхрома» началась в 2009 году с организованной в Центральном доме художника выставки «Европейская мастерская», для которой Никита придумал проект. Он составил список всех мест, где когда-либо побывал, написал их названия на маленьких зеркалах губной помадой и решил вымостить из них дорожку через весь огромный зал, расположив топонимы по алфавиту. Всего набралось почти 600 географических точек. Помню, как помогала ему в реализации задуманного: на строительном рынке заказала ошалевшему стекольщику около 700 (с запасом) кусочков зеркала 10 ? 15 см, потом купила огромное количество губной помады, дотащила все это до выставочного зала и там раскладывала на полу зеркальную тропинку.
Затем Никита, как человек профессиональный, решил переработать и развить идею – так возник иллюстрированный травелог «Аахен – Яхрома». О каждом из мест он написал короткое эссе, сопроводив его графической зарисовкой. И добавил еще 16 точек на земном шаре, «где я никогда не был и вряд ли буду», которые не вошли в настоящую книгу. Никита тогда уже сильно болел, но эта работа его спасала: он каждый день садился за стол рисовать, продолжал трудиться за компьютером, набирая тексты. К лету 2010 года серия рисунков и текстов была завершена. На персональной выставке «Впечатления» в галерее GMG Никита выставил ее в виде «книги-чемодана»: заказал мастеру Илье Шевелёву короб, обтянутый кожей, и сложил в него 600 с лишним рисунков, в том числе буквицы. Тексты были записаны на маленькую серебряную флешку, подвешенную к ручке «чемодана».
В начале лета 2011 года единственный экземпляр «книги-чемодана» был продан на ярмарке неизвестно кому. Где она сейчас – неизвестно, ее следы теряются где-то в Европе. Но летом 2010 года, когда из-за смога было невозможно находиться на улице, я сидела в торфяном чаду, в раскаленном от жары помещении «Винзавода», – сканировала эти графические листы с иллюстрациями, редактировала тексты. Так удалось сохранить весь материал.
Текст никогда не издавался, и, зная Никиту как великолепного рассказчика и рисовальщика, я посчитала важным наконец его опубликовать.
`САША ОБУХОВА
А
1. Аахен
1987–1993
В первый раз на платформе HBF Aachen я оказался 14 марта 1987 года – ехал с востока на запад. Уезжал из России и не был уверен, что вернусь. По перрону Белорусского вокзала мел снег, в Восточной Польше он лежал унылыми проплешинами на сырой серой земле, после Познани поля уже зеленели, а за Ганновером на газонах придорожных садиков начали мелькать гиацинты.
Не знаю, на самом ли деле я тогда из-за угла какого-то пакгауза заметил очертания Палатинской капеллы Карла Великого. Наверно, почудилось. Наверно, очень хотелось увидеть то, что много раз разглядывал на сероватых иллюстрациях в советских книгах по истории искусства.
Палатинскую капеллу я так и не видел, хотя мимо аахенского вокзала впоследствии проезжал много раз. Париж – Кёльн – Дюссельдорф – Бохум – Бремен и обратно… Париж – Москва – Париж – Москва – Париж… В те времена железнодорожный билет стоил дешевле, чем авиационный, вот я и путешествовал по рельсам туда-сюда.
В последний раз на платформе HBF Aachen я был поздним ноябрем 1993-го. Мы с Юлей Токайе, котом Чернухой и таксой Долли возвращались в Москву. Долли стоически терпела после ранней прогулки в Венсенне, и, когда я ее часов через пять вывел на аахенскую платформу, она тут же навалила большую кучу. Усатый полицейский в серо-зеленой форме, подпиравший стену неподалеку, двинулся арестовывать и штрафовать нас, но тут паровоз дал свисток, мы с Долли вспрыгнули на порог вагона и поехали на восток.
2. Абрамцево
1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1983, 1994
О да, «Девушка с персиками» и длинно тянущиеся по темной воде речки Вори сочные зеленые водоросли. Поддельного русского стиля церковка, которую я старательно рисовал гуашью на серой бумаге. Перламутровое шелушение врубелевских майолик. Разлапистая «избушка Бабы-яги», куда хотелось забраться, хотя детство уже кончилось. Пыльно-восковой запах музея. Облака, низко плывущие в бледном небе.
Мои родители три года снимали дачу на 55-м километре, в трех километрах от Абрамцева. Я туда ездил на велосипеде по щербатой дороге, кое-где почему-то вымощенной блоками красного ясписного мрамора.
Велосипед «Спутник» подпрыгивал на рытвинах и толстенных, отполированных прохожими и велосипедистами корнях сосен – их оранжево-фиолетовые стволы уходили в небо. А я отмахивал на своем пути ветки акаций, сиявшие солнечно-желтыми цветками.
Через неделю срывал только-только созревшие стручки и, высеяв на ладонь блаженного вкуса и запаха ядра, делал «пищалки». Катил, подпрыгивая на корнях и рытвинах, отпустив руль, и пищал, будто счастливая птичка.
Колесо вихляло. Пару раз я падал и обдирал колени.
Впрочем, о подобном куда лучше написал Набоков.
3. Адлер
1963, 1983
Когда-то давным-давно я был с отчимом и мамой во Фрунзенской: это рядом с Сочи; прибыли мы туда на Ту-104 в адлерский аэропорт. Потом мы даже оттуда отправлялись куда-то на четырехместном самолете чехословацкого производства. Помню, летели вдоль берега, а сбоку стоял Кавказ. Со снегом.
Потом я попал в Адлер, наверно, в 1983 году, после московской Олимпиады. И было так.
Мы большой компанией собрались в Гюльрипш отдыхать. Самолет вылетал из Внукова рано утром, а до того мы отмечали день рождения Васи Макаревича и во Внуково приехали вовсе пьяные. Мы – Маша Порудоминская, Коля Козлов, подруга Маши, имя позабыл, и я. В самолете пили коньяк, а Коля играл на блокфлейте «Зеленые рукава».
Вообще-то мы летели в Сухуми, но приземлились отчего-то в Адлере. Было жарко и душно, очень хотелось спать. Пройдя контроль, мы ушли под тень кустов рядом со взлетно-посадочной полосой и легли на колючей южной траве – не было сил сразу ехать в Абхазию.
Я помню, что, когда засыпал, вокруг очень сильно пахло керосином. А проснулся оттого, что меня шершавым языком лизнула корова, пасшаяся на обочине адлерского тармака.
4. Ай-Георгий
1958–1996
Эта гора находится в Крыму, восточнее Судака. Она очень красива, над ней вечно тянутся облака. Между двух ее вершин, в распадке, кое-где еще видны остатки керамического водопровода, устроенного не то греками, не то генуэзцами, не то татарами от горного источника.
Он давно пересох. Вместо него была глубокая яма, до краев засыпанная сухими листьями мелкого, скукоженного ветром дуба. Мы в нее прыгали с высокого каменистого края, будто на батут, затем чихали от пыли.
И спускались к морю вниз.
5. Айн-Туффиха-Бей
2003
В крошечной бухте – ларек, похожий на русский сарайчик, где я купил бутылку сицилийской минеральной воды. Было жарко. Я попил воды, снял сандалии, потоптался вдоль прилива. Средиземное море было густого синего цвета, небо бледное, куда-то плыл – в Ливию? – огромный танкер.
6. Айос-Павлос
2002
Кафе, где мы пили фраппе (удивительное греческое изобретение – остывший растворимый кофе, взбитый со льдом), было украшено византийскими флажками с двуглавыми птичками. Было очень жарко, но чуть продувал ветерок.
Ниже нас были цитадель Фессалоник, кое-где еще облепленная хижинами, построенными, наверно, беженцами из Смирны, и чистенький монастырь, он же Православный университет. Оттуда время от времени доносились дурные вопли павлинов. Мне так никто толком и не объяснил, зачем монахи разводят этих птиц. Основная версия такая.
Павлин – символ дьявола, вот монахи и лелеют его, чтобы не забыть, как ужасна земная жизнь. Не очень убедительно, хотя езиды, которых нередко называют чертопоклонниками, действительно почитают положительного бога в виде павлина. Но это все равно туманно, как душный воздух в Салониках в августе. И где персидские манихеи, а где греческие исихасты?
Где-то далеко, на краю выгнутого морского горизонта, маячила в солнечной мгле гора Олимп.
7. Ай-Петри
1970
На юг от горы – небольшое Черное море, а дальше – Турция, прочий Левант и Африка вплоть до Антарктиды. На север – крымские степи, Дикое поле, Украина и Россия вплоть до Северного полюса. Под горой расположен придурковатый и хамоватый город Ялта. Он особенно хорош зимой, когда, если повезет, чахлые пальмы, растущие вдоль набережной, растрепанными шапками покрывает мокрый снег. Во всяком случае, я так думаю.
8. Айра
2003
Неподалеку виднелась скала Святого Павла, на которую якобы напоролся корабль, везший апостола в Рим. Рядом с пристанью стоял роскошный ярко-красный, весь в никеле, автобус Leylands, сделанный не позже 1968 года, – таких на Мальте, к счастью, еще много. На выцветшем уже весной газоне местные старички играли в странную игру вроде петанка, но не с шарами, а с металлическими цилиндрами. Наверно, в такой маленькой стране шары катать бессмысленно.
9. Акулова Гора
1965
Про этот поселок, находящийся возле станции Мамонтовка Северной железной дороги, всем известно, что когда-то там провел лето Владимир Маяковский, к которому я отношусь с большим сомнением. А я на Акуловой Горе не был с 1965 года, когда мои мама и отчим сняли на лето там дачу на окраине. Моему сводному брату как раз исполнился год с небольшим.
Странным местом была Акулова Гора: несколько трехэтажных желто-белых послевоенных домов с пилястрами, покрытыми как бы коринфскими капителями, из разряда тех, что строили пленные немцы, а вокруг обычная подмосковная не то деревня, не то дачный поселок. Сирень, лопухи, грядки с клубникой, покосившиеся заборы и чудесные кружевные березы.
В соседнем доме жил пожилой пьяница. Когда он, шатаясь, возвращался домой, из-за забора на него с громким хлопаньем крыльев вылетал роскошный петух, желтыми когтистыми лапами хватался за загривок хозяина и начинал его долбить клювом по плеши. Помню, как на медно-загорелой коже выступали рубиновые капли. Тот ругался матом, избавлялся от петуха, а когда заходил в дом, оттуда неслась брань его жены. Она держала козу, и родители покупали парное молоко, налитое в литровые мутноватые банки.
Валентин Иванович, мой отчим, часто оставался на Акуловой Горе по нескольку дней, а мама каждый день ездила в Москву на работу. В одно утро она, спеша к автобусу на станцию Мамонтовка, засмотрелась на трясогузку, бегавшую и стрекотавшую у нее под ногами. Автобус ее не дождался, уехал и минут через десять упал в пруд возле станции – погибло около пятидесяти человек. В последующие дни было страшно: почти в каждом доме (кроме наших соседей с петухом и козой) кто-то умер.
Спасибо трясогузке.
10. Александров
1968, 1984
Родители много лет снимали дачи по Северной дороге – прежде всего потому, что мама работала в издательстве «Прогресс», переродившемся из Издательства иностранной литературы, а находилось оно возле платформы Маленковская, рядом с ВДНХ, в зданиях бывшей богадельни. То есть маме удобнее было добираться до работы по этой железной дороге. Да и отчиму было не так сложно: его издательство «Искусство» тогда еще сидело в Костянском переулке, рядом со Сретенкой.
В результате сыроватая и почти таежная природа северного Подмосковья мне с детства знакома лучше, чем подмосковный юг (я потом узнал, что две климатические зоны делятся ровно посреди Москвы: Кремль – это север, а Замоскворечье – юг).
Когда мы снимали дачу рядом с платформой 55-й километр, я все время ездил на электричке то южнее (в Ашукинскую, в Пушкин, в Челюскинскую), то на север – в Софрино, Загорск. А однажды забрался далеко, за 101-й километр, в Александров. Значение термина «101-й километр» я уже приблизительно понимал. И про Ивана Грозного, после изобретения опричнины удалившегося в Александровскую слободу, читал.
Но запустение и уныние, увиденное в Александрове, меня поразило. Там был какой-то собор (кажется, XVI столетия); если не ошибаюсь, видны были оплывшие валы и старинные кирпичные стены крепости, неряшливо побеленные поверх кирпича. Сушилось белье на веревках, протянутых между покосившимися уездными домишками и гнилыми советскими бараками.
Помню, съел бутерброд, припасенный из дома, и поехал обратно на 55-й километр. А еще помню: небо было ярко-ярко синее.
Потом в Александров меня случайно занесло ночью в июне 1983-го. Вместе со Свеном Гундлахом мы выбирались из Ростова Великого, куда попали совершенно случайно. До Александрова мы доехали на странном поезде, состоявшем из двух вагонов, но следовавшем из Хабаровска. Дальше Александрова он нас не повез, там мы часа два прозябли в зале ожидания местного вокзала, провонявшем безнадежностью, а потом в пять утра появилась электричка, ехавшая почему-то не до Ярославского вокзала, а до платформы Москва-3.
11. Алкмар
1997
В Амстердаме праздновали День королевы. Моросил, как обычно бывает в Нидерландах, перелетный дождик. Мы с покойным Ко Винтерсом серьезно напились и накурились, так что утром, когда я осознал, что надо забираться в автобус и ехать куда-то, в место, называющееся Алкмар, меня начало подташнивать.
В тот раз я оказался в Голландии в качестве журналиста из газеты «Иностранец» в компании фотокорреспондента Саши Перепонова (перед тем как улечься спать накануне поездки в Алкмар, мы с ним еще пили можжевеловку-йеневер из пластмассовых коробочек для фотокассет) и дюжины туроператоров, которые в основном были несимпатичными тетками с пергидрольными – теперь это называется платиновыми? – волосами.
Утром небо было низкое и серое – ни признака эфемерной вермееровской голубизны. Лил дождь, вокруг унылые польдеры, огромный танкер проплыл над головой по каналу. Но потом началось чудо: в обе стороны от шоссе к идеально ровному горизонту узкими полосками потянулись делянки цветущих тюльпанов – ослепительно-желтые, красные, черные, белые, оранжевые, лиловые, лимонные. Они не сходились в предполагаемую евклидову точку схода, но и, вопреки Лобачевскому, не перекрещивались. Они тянулись в счастливую бесконечность.
Куда там Мондриану!
В Алкмаре – сырной столице Нидерландов, как быстро выяснилось, – были толпы туристов. Красномордые мужики квадратного телосложения им на потеху таскали на каких-то особенных носилках огромные круги сыра гуда. Что же, этот сыр я люблю – и молодой, и выдержанный.
В местном турбюро я выдернул из плексигласовой стойки буклетик и узнал из него важное. Во-первых, Алкмар – одно из первых поселений батавов в болотах, которые потом стали Голландией. Во-вторых, в XVI столетии злодей герцог Альба осадил Алкмар, но не смог его взять. С тех пор пошла поговорка: «Победа начинается в Алкмаре».
Я в это верю. Чтобы сделать хороший сыр, надо прежде долго культивировать болото, а потом не сдаваться всяким гадам.
12. Алупка
1958. И позже
В моей семье есть предание, что мой дед Степан Иванович Демакин – бастард не то внука, не то правнука того графа Воронцова (которого обессмертил Пушкин в эпиграмме про «полный будет наконец»), построившего Орлиное Гнездо, Алупкинский дворец и разбившего вокруг него роскошный парк. Так что для меня идиотская архитектура воронцовских сооружений, угнетенные крымским климатом пальмы и великолепные платаны, кипарисы да магнолии – дело родственное. Мне там мазохистски нравится.
13. Алушта
1958–2008
На редкость неприятный город. Его единственное положительное качество – то, что это первое место по пути из Симферополя на южный берег Крыма, где начинает пахнуть морем. Что там было при греках, генуэзцах и татарах – не знаю. Думаю, то же самое. Ленивые и глупые оставались в Алуште, прочие тащились дальше.
14. Алчак
1975–1996
По-тюркски Алчак значит «низкий, подлый». Но я люблю эту округлую, низенькую горку, с востока замыкающую Судакскую бухту. Там камни, загоревшие на протяжении веков, магический запах полыни и чабреца, а в конце апреля, если повезет, можно увидеть не только алые грозди горицвета, низенькие южные дикие ирисы, но и горные пионы. И ничего подлого мне Алчак не сделал. Он мне позволял стоять на его покатой спине и смотреть вперед – в море, назад – на гору Ай-Георгий, на восток – в сторону мыса Меганом и на запад – на крепостную гору и твердый, умный лоб горы Сокол.
15. Амстердам
1991, 1997
Я плохо знаю этот город, хоть и бывал там несколько раз. Ну да, каналы и велосипеды, витрины с проститутками и квартиры на первом этаже с окнами без занавесок, выглядящие как мебельные магазины. Только отчего-то на диване сидит человек и смотрит телевизор.
При этом я себя в Амстердаме всегда чувствую хорошо. И музеи там превосходные. Однажды мы с Мариной Черниковой стояли в Рейксмузеуме перед «Ночным дозором» – картиной, которая, как мы сейчас знаем, вовсе не изображает ночную уличную сцену. Просто за века полотно заросло грязью, а отчистили – оказалось, Рембрандт рисовал день.
Марина сказала умную вещь: «Знаешь, почему Рембрандт – великий живописец? Я знаю, я в Голландии уже много лет живу. Здесь трудно поймать свет. Здесь нет ни лета, ни зимы. Солнце выглянет, и тут же снова небо затянут тучи. Рембрандт пытался успеть дописать картину, но боялся, торопился, старался запомнить свет и цвет и в потемках потом дорисовывал свои чудеса».
А в другой раз я стоял на Принсенграхт, кажется, и смотрел на мутную воду, пахнувшую, как мне помнится, прокисшим гороховым супом. Тут рядом уселась на придорожную тумбу здоровенная морская чайка, заорала дурным голосом. И взглянула на меня кровянисто-янтарным глазом. Он был совсем как отражающие потемки жемчуга на картинах Рембрандта.
16. Анакапри
1999
Мы с Сашей были на Искье в начале октября – прекрасное время для юга Италии. Уже не жарко, но и до зимней промозглости еще далеко. Сплавали на Капри, а через пару дней захотелось вернуться туда, особенно чтобы подняться на Монте-Соларо и полюбоваться оттуда панорамой Неаполитанского залива.
Утро было прохладное и солнечное, великолепно пахли лимоны в садике нашей гостиницы. Мы пришли в порт, и в кассе нам сказали: «Вы что? Какой Капри? Это здесь, в гавани, тихо, а в море черт знает что, шторм. Нет, на Капри сегодня никто не поплывет». Расстроились и уселись за столиком кафе – мороженое, что ли, есть. На горизонте на самом деле крутились страшные черные тучи. И тут мы увидели: у причала стоит маленький кораблик с надписью «на Капри» и люди на него поднимаются. Мы вприпрыжку побежали, еле успели. Когда вышли в море, стало ясно: действительно шторм. Саша успела спуститься с палубы вниз, в салон-трюм, а я испугался, что рухну со страшно крутой лестницы, и вцепился в поручни, будто обезьяна. Так час и висел на них: обливало соленой холодной водой, било в физиономию жестким ветром. Из трюма вылез матрос, попытался спасти и понял, что это опаснее, чем оставить дурака-straniero там, где он оказался. Потом меня треснуло боком о поручни – наверно, я заработал трещину в ребре.
Когда приплыли в Марину Гранде, распогодилось. Мы поднялись в городок Капри, ребро болело ужасно, но сияло солнце. Сели в маленький автобусик, поехали наверх, в Анакапри («над Капри»). Оказалось, что фуникулер на вершину Монте-Соларо не работает. Мы задумались, стоит ли идти смотреть главную достопримечательность Анакапри виллу Сан-Микеле, построенную норвежцем Акселем Мунте на руинах чего-то римского, и решили, что не надо. Вместо этого пошли в местную церковь, и оказалось, что не зря: там под ногами был восторг. Желто-сине-зелено-белый кафельный пол, изображающий земной рай.
Львы, лежащие рядом с ланями, лимонные деревья, обвитые змеями, кудрявые облака, звезды и порхающие меж ними птицы, веселые собаки, немыслимого вида крокодилы и полосатые, будто тигры, кошки. Или это тигры и были?
Повезло нам удивительно. Откуда мы знали, что в Анакапри есть такое чудо?
Спускались мы в Капри по крутой, многомаршевой Финикийской лестнице. Было красиво, ребро болело. Построенная почитателями Ваала и Астарты лестница нас привела прямо на улицу Трагара – тоже зрелище. Длиной метров сто, застроена низенькими крестьянскими домами, и в каждом магазин, как в Нью-Йорке – Лондоне – Париже – Токио – Милане. То «Вьюттон», то «Кавалли», то «Эрмес», то «Прада», то «Картье», то «Версаче» с кроссовками со стразами, или пуще – художественные галереи с Шагалом и золочеными скульптурами Дали. И толпа американских и японских туристов.
Мы пошли вниз, в Марину Гранде. И снова налетели тучи. Только уселись на террасе кафе что-то выпить в ожидании кораблика на Искью, как полил жуткий дождь, а ураган разыгрался такой, что зонтики попадали, пластмассовые стулья полетели в море. Спрятаться в кафе не было возможности: его хозяева почему-то всех выгнали вон и опустили железные занавеси. Мы прятались в соседнем магазинчике – ликер Limoncello, фаянсовые лимоны, луны и солнца, открытки с видами Капри и Анакапри, лимоны из марципана – в компании пожилых британцев, щебетавших на королевском английском о причудах погоды.
А потом снова прояснилось, и мы поплыли на Искью.
17. Андреевка
2008
Мы – Оля Лопухова, Андрей Филиппов и я – были в Бахчисарае, проводили рекогносцировку для выставки «Плененные Бахчисараем», закончившейся глупым провинциальным скандалом. Захотелось на море, и мы думали, куда ехать – в ближайшее Угловое или чуть дальше, в Андреевку? Угловое – место унылое, поэтому решили отправиться в Андреевку. Тем более что одного из нас звали Андреем.
Юго-западное побережье Крыма скучно. Это плоский берег с глинистыми буграми, санатории и пансионаты мерзкой брежневской архитектуры и дуроватые отдыхающие, по большей части из Донецка и Днепропетровска. Раньше в эти места они попадали по бесплатным путевкам, полученным в профсоюзах и парторганизациях оборонных заводов, теперь – по глупости и от безденежья. Они рады бы были попасть в Анталью, но надо же куда-то детей отвезти покупаться и подышать морским воздухом!
В конечном счете они совершенно правы.
Андреевка оказалась много лучше Углового. Там было зелено, за куртинами темных тополей, каштанов и акаций белели и розовели, будто испуганные нимфы, дома с кудрявыми пилончиками, карнизами и аттиками – той же архитектуры, что в Москве на Хорошевке когда-то под присмотром советских архитекторов строили немецкие пленные.
И на берегу оказалось хорошо. Пусто. Дул свежий западный ветер из Стамбула, а кисленькое вино «Жемчужина Инкермана» вполне соответствовало Андреевке.
18. Анже
1997
В Анже я был проездом. Но помню тихую речку Мен и огромную крепость с полосатыми черно-бело-красными башнями. А вот «Ковер Апокалипсиса» я не видел – не удосужился, не успел пойти в музей. Жалко. Вместо этого полчаса проторчал на берегу речки, глядел на тростник и на изумрудные водоросли, тянущиеся по течению.
В Анже когда-то жил в свое удовольствие Добрый Король Рене, суверен Неаполя, Двух Сицилий, граф Прованса и Анжу, а вдобавок – король иерусалимский. Вообще-то Рене был только титулярным королем, еле-еле сохранил под своей рукой кусочек Анжу, но при нем начал зреть тот французский язык, на котором потом сочиняли Вийон и Ронсар, а анжуйские виноделы достигли таких высот, что французы теперь не знают, как правильнее писать о вине из Анжу: angevin или раздельно – ange vin. Что, конечно, противоречит французской грамматике.
Так ведь и Паскаль тоже родился по соседству. Ну а водоросли – они были совсем такие же, на первый взгляд, как в речке Воре, под Москвой.
19. Арава
2000, 2003
Жара была жуткая. Такая, что все за окном автобуса дрожало как студень. Проехали Иерихон, замаячила Иордания и иссохшие камыши по берегу Иордана. Кумранские скалы лезли в пустое небо клыками мертвой челюсти.
Наш автобус обогнал джип с солдатами: как они, в бронежилетах, с раскаленными автоматами, могут это выдержать? Мы с Даней Филипповым вышли из кондиционированного автобуса на берег Мертвого моря. Это был ветер? Наверно. Но больше было похоже на удар по голове подушкой, раскаленной на сковороде. Волны горячего воздуха гоняли по берегу пластмассовые стулья. Те, что унесло в воду, болтались на поверхности вверх ножками. Мы полезли купаться в желеобразную воду, и я, как все до меня, почувствовал себя совершенно по-идиотски.
Ясно: сиди в этой жиже как в шезлонге, но ни в коем случае не трепыхайся, а то слезами изойдешь. Грязь смыли и поехали дальше в сторону Красного моря, мимо Гоморры и Содома.
Во второй раз в Араве я оказался с Сашей. Было прохладно, даже цвели какие-то бледные белесые цветочки, наподобие асфоделей. Или это и есть лилии полей? Ветра не было, купаться не хотелось. Вышедший вместе с нами из автобуса юный французский еврей спросил, не знаем ли мы, как идти в Масаду.
Зачем этот вопрос – не знаю. Рядом висел знак, указывающий, что Масада там – направо и вверх. Наверно, он считал, что еврейский героизм в Израиле повсюду, и не мог найти азимут. Мы с Сашей подумали, не пойти ли нам тоже в Масаду. Решили, что нет. Во-первых, лень было карабкаться в гору, а во-вторых, коллективное самоубийство все же не повод для туристского любопытства.
И поехали обратно в Иерусалим.
20. Арагац
2001
В тот раз я попал в Армению по поводу 1700-летия принятия христианства: отправился туда с фотокорреспондентом «Иностранца» Наташей якобы делать репортаж. Летели мы колоритно – на Ил-86, нанятом Союзом армян России и груженном под завязку разным народом. Там были: очень богатые армяне, небогатые армяне, несколько депутатов Госдумы, какие-то российские чиновники и парочка православных священников. Богатые армяне и приближенные к ним лица начали подогревать свои чувства по поводу путешествия в Армению коньяком (не армянским, а французским) еще в Шереметьеве. Прочие пили что могли. В аэропорту Звартноц почти все выгрузились сильно пьяными. Встречали нас красной ковровой дорожкой и духовым оркестром. Попутчиков мы с Наташей увидели снова, когда летели обратно, – они присмирели.
Переночевали мы у Сусанны Гюламирян, а с утра художник Артак Погосян вызвался повозить нас по окрестностям Еревана. Мы залезли в разбитые «Жигули» и сначала поехали в Хор Вирап, полюбовались монастырем, который я очень люблю, посмотрели на Арарат, дрожавший в жарком мареве, и на турецкую границу. Заглянули в Арташат, вернее, в деревеньку на его окраине.
Потом Артак повез нас в сторону горы Арагац. Добрались до крепости Амберд – очень красиво, особенно хороша строгой и элегантной архитектуры церковь, стоящая на краю головокружительной пропасти.
Далее он предложил отправиться вверх на Арагац – там вроде бы где-то высоко есть озеро, куда можно доехать на машине. Он там никогда не был, но слышал – места фантастические. По разбитой дороге начали карабкаться в направлении неба, «Жигули» хрипели и возмущенно тряслись.
Потом закипел мотор. Пока он остывал, пошел снег. Мы двинулись дальше, оказались на узкой перемычке между двумя отрогами – с обеих сторон склоны под семьдесят градусов, лети да лети, – и уперлись в колдобину, пересечь которую можно только на БТР.
Стало ясно, что до горного озера мы не доберемся, надо возвращаться. Артак предложил нам выйти из машины, но мы заявили, что если погибать, так вместе. Он зверским образом развернул дряхлый автомобиль (несчастный мотор надсадно взвыл, камни из-под колес посыпались в пропасть – прямо канал Discovery), и мы покатили вниз.
В очередной раз повезло.
21. Аржантёй
1997, 2002, 2004
Сейчас там не осталось ничего, что было при импрессионистах и Сера, – никто уже не купается в Уазе. Обычный пригород, населенный парижанами средневысокого достатка. Соответственно, мало арабов и блэков, живущих в соседнем Сен-Дени в многоэтажках, много адвокатов, врачей, торговцев антиквариатом, инженеров, чиновников в ранге столоначальников и менеджеров по продажам, трудящихся в больших компаниях.
Скука.
Это – претендующие на разнообразие, но удручающе однообразные двухэтажные особнячки-«павильоны», отгороженные от улицы заборчиками из кованого железа, и аккуратные палисадники с буксом, шиповником, жимолостью и туями.
За каждым павильоном – узенький длинный садик, огороженный увитой плющом стеной из аккуратно дикого камня. Обязателен крошечный пруд, иногда с фонтанчиком, несколько яблонь и вишен, качели для детей и парочка грядок с чабрецом, тмином, кудрявой петрушкой и морковкой – чтобы радоваться своей, а не купленной в супермаркете зелени.
Я вряд ли попал бы в Аржантёй (бывал в десятке подобных пригородов), если бы там не жили некоторое время моя приятельница Пакита Миро-Эскофе и ее дочки-красавицы Настя Блинова-Миро и Ева Латышева-Миро. У Пакиты тоже был забор из кованого железа, букс и жимолость, грядка с чабрецом, качели, прудик и две старые яблони. Но еще у нее в саду цвела магнолия, оставшаяся от предыдущих хозяев, а по стенам в доме были развешаны картины русских художников из ее коллекции.
Например, великолепная маленькая картинка Бори Матросова с кривым-косым деревенским забором и его же «Комната повешенного».
В том и дело, видимо, что современный Аржантёй, над которым легко издеваться по антибуржуазным причинам, ничем не хуже того, что было, есть и будет. Не исключено – даже лучше.
22. Аркашон
1999
Ниже Жиронды берег Бискайского залива тянется монотонной прямой линией до самого Сан-Себастьяна. Только в Аркашоне он вдруг образует глубокий, почти замкнутый залив.
Мы отправились в Аркашон из Бордо, это недалеко, около шестидесяти километров. В Бордо было солнечно; когда приехали к океану, моросил дождь, по небу неслись низкие серо-синие облака. На волнорезе девочка в ярко-желтой пластиковой накидке, борясь с прихотями ветра, запускала желтого воздушного змея – он все время норовил упасть в море.
В конце концов змей все же плюхнулся в волны, девочка его выудила, как большого ската, стряхнула воду и побежала к родителям, выгуливавшим на берегу косматого ньюфаундленда.
Потом мы ели в ресторанчике восхитительных устриц, крошечных рапан – забыл, как они называются по-французски, – ракушки coque, мидии, морских ежей, лангустин и мелких серых креветок, запивали прохладным белым бордо.
23. Арланда
1990
Интересно, по-шведски Arlanda – это то же самое, что Air Land? Со шведов станется, если они свой главный автомобиль назвали «Вольво», что на языке Цицерона значит «качусь». Почему бы свой главный аэропорт не назвать «страной воздуха»? В Арланде я оказался, когда еще совсем плохо знал другие европейские аэропорты. Но именно там я задумался о том, что аэропорт – очень ясный символ страны. Шереметьево – это действительно Россия, Мальпенса – Италия, а Руасси – Франция.
В Арланде было как в фильмах Бергмана. Или так показалось. Скорее, показалось. Там было просторно, деловито и очень прохладно. Пограничник, взглянув на мой советский паспорт и французский вид на жительство, спросил, зачем я прибыл в Швецию. Я пожал плечами и ответил, что просто так. Он тоже пожал плечами и шлепнул печатью.
24. Арнея
2002, 2003, 2006, 2007
В этом чистеньком, уютном, пахнущем медом городке в Халкидиках мы останавливались каждый раз на пути в Девелики или возвращаясь в Салоники. Чтобы запастись продуктами, но главное – полюбоваться.
Арнея лежит в долине между зеленых даже в августовскую жару, прохладных, хотя и невысоких гор. Их склоны заставлены разноцветными ульями, и это дает любопытный оптический и ментальный эффект: вблизи понятно, что смотришь на фанерные коробки, выкрашенные в голубой, белый, зеленый, желтый, красный, лиловый, оранжевый цвет; вдали они обманчиво глядятся цветочками – и какого же размера должны быть пчелы, сосущие их нектар?
На маленькой главной площади Арнеи почти во всех домах «захаропластейоны», то есть кондитерские, где торгуют медом разных видов, фруктами, сваренными в меду и восхитительными пирожными, сделанными с молоком буйволиц и медом. Аромат горного меда пропитал охристый известняк, из которого сложены дома Арнеи, жужжат пчелы, а посреди площади стоит огромный древний платан.
Из-под его корней бьет родничок, к стволу на длинных цепочках приделаны две металлические кружки, чтобы каждый мог напиться. Как вкусна эта вода!
А на скамеечке в тени дерева вечно сидят два усатых старика в черных костюмах и белоснежных сорочках, смотрят на приезжих и перебирают четки-коболой. Это одни и те же старики или разные? Не знаю.
25. Арташат
2001
Артак повез нас в Арташат – у него там был знакомый, который объяснил бы мне разницу между монофизитами и монотелетами. Мы три раза прокатились по одним и тем же пыльным улицам, застроенным социалистическими блочными бараками, выцветшими от лютого армянского солнца. Тут он понял, что забыл адрес. И мы поехали в соседнюю деревню. Ее название, к сожалению, я не запомнил.
Там увидел, как пекут в тандырах лаваш, и это оказалось важнее, чем тринитарная теология.
Где я, где богословие, где плоский хлеб, где мои плоские мысли?
В низенькой кухне земляная печь излучала невыносимый жар; в полутьме, пересеченной снопами солнечного цвета, золотыми искрами плясала пыль. Толстенькая женщина в черном платье шлепала лепешки теста на стенку тоныра, вытаскивала оттуда готовый хлеб и укладывала его в деревянный ящик из-под голландских помидоров, устеленный соломой.
При чем здесь помидоры из Нидерландов, при чем божественная воля и природа? Только при том, что видеть, как пекут лаваш, и тут же его есть – прямой путь к блаженству.
А блаженство есть блаженство есть блаженство есть блаженство есть блаженство…
26. Архангельское
…–1989
Сколько себя помню, бывал в Архангельском. В детстве часто: там лечились время от времени в военном санатории мои дедушки – генерал и адмирал. Папа и мама их навещали и возили меня с собой. Подростком несколько раз туда ездил на этюды – пытался рисовать аллеи парка. Потом в Архангельское я попадал реже, но это было тем более интересно. Я начал понимать, какие молодцы были наши магнаты екатерининских времен, если построили себе загородные дворцы вполне европейского качества.
Да, архитектура – вторичная, не Ренн и братья Адам. Театр в Архангельском – не палладиевский Олимпико в Виченце. Картинная галерея – не хуже, но и не лучше, чем у Дориа-Памфили в Риме. Так ведь до Шереметевых и Юсуповых в России ничего подобного вообще не было.
Потом в Архангельское приезжал раз лет в пять. Последний – в конце 80-х, зимой, было страшно холодно. От парковых скульптур, спрятанных в ящики, по снегу тянулись ослепительные тени. Дворец был закрыт на ремонт.
Я все собираюсь снова побывать в Архангельском.
27. Аштарак
2001
Там мы оказались с Артаком. Он заявил, что надо обязательно посмотреть в Аштараке три древние церкви: Циранавор («Пурпурная»), Спитакавор («Белая») и Кармравор («Красная»), – но уточнил, что видел их давным-давно и мало что помнит.
Церкви оказались хоть и полуразрушенные, но отличной архитектуры (как большинство старинных армянских церквей) и внушительного размера. Куда интереснее, что все три были приблизительно одного темно-серого цвета, ничего пурпурного, белого и карминного не виднелось. Возможно, из-за того, что под слепящим солнцем все теряет цвет. О нем можно только думать.
В Аштараке я подумал, кроме прочего, о вине «Аштарак», похожем на херес. Недаром Микоян в «Книге о вкусной и здоровой пище» рассуждал об «особенном хересном направлении армянского виноделия». Это вино я с удовольствием пил в юности, впоследствии распробовал настоящие хересы и амонтильядо из Андалусии. «Аштарак» рядом с ними – вполне достоин. Думаю, потому, что в Андалусии наверняка такое же безжалостное солнце, как в Армении; история этих двух стран, как ни парадоксально, имеет много общего, так что синтез горечи и сладости вполне естественен и для танцующих фламенко, и для играющих на дудуке.
28. Аю-Даг
1958–2008
В Крыму я бывал с раннего детства, сначала – на Южном берегу. Следовательно, я не мог не запомнить очертаний мыса Аю-Даг, он же Медведь-гора. Он и правда похож на сонного медведя, уткнувшегося носом в бесконечное время. Конечно, это самая гармоничная по форме из прибрежных Крымских гор.
Много позже я влюбился в эту гору еще и благодаря ее названию – нелепому смешению (как в конечном счете нелепа вся история Крыма) греческого и тюркского языков.
Назывался бы этот мыс Куцали-Даг или Айос-Орос, все было бы, так сказать, нормально. Но Аю-Даг тем и отличается от Святой горы, то есть Афона, что там нет хотя бы сколько-нибудь внятных следов христианской святости. Откопали вроде бы нищие руины храмиков времен Иордана Готского и кесаря Феодосия – ну и что?
Мусульмане не имели обычая строить места поклонения вдали от городов и сел. На Медведе следов читателей Корана еще меньше, чем христианских. Почему же для крымских татар эта гора Hagios?
Возможно, святость горы восходит к эллинским временам? Это убедительно, ведь древние греки относились к медведям с большим почтением. Но и следы тех, кто придумал «комедию», «медвежью песню», на Аю-Даге стерлись давным-давно.
У меня есть странное предположение. Аю-Даг свят по эстетической причине. Его очертания, увиденные и с востока, и с запада, все время хочется вспоминать и рисовать.
Б
29. Бабин
1977, 1978, 1979
Подниматься в эту маленькую деревеньку надо от предместья Косова, перейдя речку Рыбницу по вихляющемуся подвесному мосту. Потом разбитая глинистая дорога, на которой кое-где торчат лбы отполированных валунов, круто идет вверх, и неба не видно в густом, серебряно-мшистом буковом лесе. По обочине – лисички, рыжики, маслята, белянки, иногда золотые цесарские грибы и, если очень повезет, «баранчик», похожий на аллонжевый парик времен императрицы Марии Терезы.
А потом лес раскрывается пологим и широким зеленым склоном. На нем – дюжина деревянных хат и церковь, будто построенная японцами, случайно перенесенными в Карпаты. Она похожа силуэтом на грибы, обступившие обочину дороги в Бабин, и одновременно – на древнейшие синтоистские храмы. А внутри церкви – чудесное тщание гуцулов. Деревянные стены завешаны килимами со строгими геометрическими узорами. На алтаре – деревянная утварь. В бабинской церкви я впервые увидел потир, выточенный из дерева. Идеальной аскетической формы и гениально украшенный умными народными узорами. Зато какие рипиды, прислоненные к входу в сакристию! Тоже деревянные, но как щедро они покрыты позолотой, и такие пухлые щеки, такие кудрявые волосы у херувимов, улыбающихся из их сердцевин!
На обедне женщины стояли в бабинце, отделенном от средокрестия, как в синагоге, аркой, трогательно расписанной зверями, цветами и ангелами. Празднично наряженные мужчины тяжело смотрели на выстроившихся у алтаря юношей и отроковиц в пионерских галстуках, державших в руках рипиды, словно переходящие знамена.
От церкви виднелась долина Рыбницы и противоположный склон с высаженной из маленьких елочек надписью: «Слава КПРС». С каждым годом деревца подрастали, буквы смазывались – и через два года уже почти не читались.
30. Бадачонь
1998
В путеводителях пишут: «В Бадачони полно пьяных австрийцев». И это правда. Будь я австрийцем, тоже ездил бы в Бадачонь, благо близко. От Москвы туда – как до Перми, а от Вены рукой подать. А вино, безусловно, не хуже, чем с лучших австрийских виноградников и, что важно, – дешевле.
И пейзаж странный. Способствующий этилическому*** блаженству. Под ногами – болотистое озеро Балатон; галдят чайки, низко тянутся с востока пышные облака. За спиной – причудливого вида конические горки, подпоясанные спиральными террасами виноградников.
Счастью Бадачони благоприятствовало – это касается и меня, и австрийцев, и прочих приезжих – то, что мадьярский язык, звучащий в паузах между немецким, русским и английским, герметичен, будто закупоренная бутылка вина.
Венгерское вино способен оценить любой любитель. Венгерский язык – достояние знатоков.
Я не могу понять, как мадьярам удалось сохранить в европейской бутылке свои немыслимые падежи и идиомы.
31. Балабаново
1971
У меня есть повторяющийся сон: я попадаю в Балабаново. Причем это Балабаново оказывается всякий раз другим. То это гористая местность, то морской берег, то что-то отдаленно похожее на настоящее Балабаново, а то и вовсе нечто несусветное. Снится мне этот поселок, расположенный километрах в ста к юго-западу от Москвы, – до него надо доехать по Киевской железной дороге, если направляешься в Боровск.
В Боровске я был больше сорока лет назад. А про Балабаново почти ничего не помню, ведь раза три провел там минут по десять – двадцать в ожидании автобуса в Боровск или электрички в Москву.
Пыльная пристанционная площадь. Какая-то фабрика, спичечная, что ли? Магазин с обычным тогда набором: хлеб, сахар, соль, спички, водка, портвейн, запыленные шоколадные конфеты, кильки в томате. Кудлатая собака, валяющаяся в тени возле магазина. Вот и всё.
32. Балаклава
2008
До конца советской власти Балаклава была наглухо закрытым военным городом, базой подводных лодок. В Севастополь можно было попасть только со специальными документами, а в Балаклаву, кажется, вообще не пускали. Так что я там оказался совсем недавно.
Странное место. Узкая, похожая на фьорд бухта, стиснутая щербатыми скалами. Улица, тянущаяся вдоль берега, сейчас напоминает какой-нибудь не слишком процветающий средиземноморский курорт. Дома (построенные и в начале прошлого века, и в советское время) по большей части уже аккуратно отремонтированы, хотя некоторые еще стоят в запустении. Несколько вилл, принадлежавших русской знати – Юсуповым и кому-то еще, – почему-то ветшают до сих пор.
Толпы туристов и дюжина кафе и ресторанов возле гавани. В одном из них мы ели очень вкусных барабулек. Гавань – вполне себе «марина» в Греции или Хорватии, с парочкой роскошных яхт. Одна, кажется, принадлежит украинскому президенту.
После обеда катались на катере по бухте, потом выплыли ненадолго в открытое море. На вершине одной из скал виднелись руины крепости, когда-то поставленной генуэзцами. С воды-то и видна во всей красе военно-морская база, построенная в Балаклавской бухте, – чудовищное, фараонское зрелище. Бетонированные зевы огромных туннелей, уходящих на километры вглубь скальной породы: они должны были выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Не знаю, есть ли еще где-то на свете курортный поселок с такими декорациями.
А прямо над туннелями строилась отвратительная многоэтажная гостиница, и ее ребристый остов делал балаклавский пейзаж еще страннее.
33. Балатонфюред
1998
В этом курортном городке, где лечат болезни сердца, я пробыл с полчаса и запомнил только извилистые гостиницы в духе югендстиля да старую липу в городском саду, которую когда-то посадил лечившийся тут Рабиндранат Тагор. В честь этого к стволу приделана памятная табличка на хинди, венгерском и английском. Интересно, читает ли кто-то Тагора? Я, к сожалению, не читал ничего.
34. Балмакаан
2002
В конце 60-х валлиец Иэн Эванс вроде был многообещающим молодым писателем в стиле фэнтези. В решающий день (то ли галлюциногенами злоупотребил, то ли всегда имел склонность к мистическим призывам) ему был голос, сообщивший: «Брось Лондон, брось все, отправляйся в горную Шотландию, там будет хорошо». Иэн так и поступил. Добрался до поселка Драмнадрохит на берегу Лох-Несса, залез на гору, стоящую над Драмнадрохитом, и там, в урочище Балмакаан, обнаружил несколько заброшенных домов. Он спросил у местных властей, может ли там поселиться. «Да ради бога, хутор выморочный, там уже лет пятьдесят никто не живет».
Иэн привел один из домов в более или менее обитаемый вид, разбил огород, постепенно вокруг него собралось что-то вроде коммуны.
Мы туда попали с Ирой Падвой, когда путешествовали по Хайлендс, благодаря ее дочке Альбине, учившейся в Эдинбурге и побывавшей у Иэна годом раньше.
Болотистый выгон на вершине пологой горы, вокруг лес. Четыре дома, сложенные из гранитных блоков. Капуста, морковь, картошка на огороде. Куры в курятнике. Сарай, набитый ржавыми железками, возле него десяток покореженных автомобилей, в том числе «Роллс-Ройс» времен юности королевы Елизаветы, переделанный в грузовик. В главном, огромном доме живут похожий на лешего Иэн, его явно сумасшедшая жена-художница (в галерейке в Инвернессе мы видели ее выставку, картинки несколько напоминают Чюрлёниса) и их страдающая аутизмом дочка-подросток. Есть электричество, но нет ни радио, ни телевизора, не говоря о компьютере. Имеется старый проигрыватель и стопка пластинок 60–70-х годов. Чугунная угольная печка и рычащий антикварный холодильник. Холод страшный; хотя была весна, все ходили в нескольких парах шерстяных носков, укутанные в пледы.
В соседнем доме обитает пара, занимающаяся изготовлением довольно красивой керамики, которую изредка покупают туристы, поднимающиеся из Драмнадрохита. В двух других – какая-то полоумная старушка и вполне вменяемая девица неясного рода занятий. Каждое лето приезжает в отпуск профессор-музыковед из Кембриджа, старый приятель Иэна, и проводит время в шалаше, который построил себе на огромной сосне в лесу. Исследует пение птиц.
Постоянное население Балмакаана живет, как я понимаю, наполовину натуральным хозяйством, наполовину на пособия на грани полного нищенства. Альбина сказала захватить им гостинцев. Мы прибыли с несколькими пачками печенья, блоком сигарет, бутылкой виски, еще какой-то снедью, и хозяева были искренне рады, но не интересовались, кто мы такие и зачем появились. Снова заехав в Балмакаан на следующий день, и не с пустыми руками, уже Иэн и его жена угощали нас вкуснейшим оленьим окороком – подарил какой-то драмнадрохитский охотник.
Жители поселка к Иэну и его племени относятся по-разному. Одни считают то ли колдунами и последователями опасной секты, то ли просто выродками, другие, наоборот, всячески опекают.
Мы пытались выведать, почему они решили жить такой жизнью. Спасаются от цивилизации? Ищут истины у природы на манер Генри Торо? Придерживаются какой-то особенной веры? Иэн ответил: «Да жить-то тут хреново. Вы бы здесь зимой в этой природе посидели… И веры у нас никакой особенной нету. Так, живем, и всё…» Помолчал, пожевал пустоту гнилыми зубами и добавил: «А все равно хорошо».
35. Банска Быстрица
1998
Маленький чистенький городок в центре Словакии, посреди невысоких гор. Бежит быстрая речка. Барочная церковь на горбатой, мощенной крупной галькой площади, а перед ней – непременная «чумная колонна» со статуей Девы Марии, поставленная в благодарность за избавление от мора в XVII веке, какие повсеместны в Чехии, Словакии и Венгрии. Неподалеку современный монумент, сооруженный в честь того, что Банска Быстрица – это географический центр Европы. Такой же памятник я видел в Венгрии и, кажется, где-то еще.
36. Банска Штявница
1998
Что представляет собой Банска Штявница, расположенная километрах в пятидесяти от Банска Быстрицы, почти не помню. Кажется, я был там в маленьком краеведческом музее с окаменелостями и чучелами. Еще на крышах многих домов в этом городке красовались аистовые гнезда: великолепные птицы высовывались оттуда и щелкали клювами. Меня поразило, сколько аистов в тех краях…
Где-то рядом с Банска Штявницей мы заехали в удивительно красивую, идиллическую деревеньку: побеленные дома, расписанные голубыми и красными розами, аисты на соломенных крышах, раскормленные гуси на улице, яблоки, груши да абрикосы, зреющие в садах. Мы зашли в один из домов – уже не помню зачем, наверно, наш водитель Штефан Мадярич посоветовал, – нас радушно приняли хозяева, старик и старушка, угостили галушками с брынзой и ветчиной и абрикосовой палинкой. Деревенские словаки вообще на редкость дружелюбные люди. Я у них купил себе и Саше две пары черно-белых вязаных носков, какие здесь испокон века делают из двух видов шерсти. Белая происходит от местных белых овец, а черную везут из-за гор, из Польши, где стада черные.
А потом мы поехали в знаменитую пещеру. Чтобы попасть в нее, пришлось полчаса карабкаться по крутой тропинке в гору, однако это того стоило. Я не бывал в других знаменитых пещерах, сравнивать не могу, но эти сталактиты и сталагмиты, мелодичный звук падающих капель и совсем другой, чем снаружи, воздух не портила даже дурацкая зеленовато-розовая подсветка.
37. Барвиха
1957, 1979
Когда-то, меня еще на свете не было, мой дед-генерал, выйдя в отставку, начал строить дачу в Барвихе, но не достроил: деньги кончились. Когда я был совсем маленький, бабушка и дедушка одно или два лета дом там снимали. Выезжали мы на дачу основательно. На грузовике, кузов которого был набит подушками, матрасами, кастрюлями, изумительным бабушкиным тазом для варки варенья, сиявшим как солнце, везли керогаз, книжки, постельное белье и столовую посуду.
Эта детская Барвиха мне запомнилась как идеальная деревня с козами, курами и утками. Потом я там не бывал очень долго, а в конце 70-х с друзьями почему-то оказался на даче, когда-то принадлежавшей Алексею Толстому, где продолжали жить его наследники. Это был обветшавший просторный дом с остатками былой роскоши – какая-то антикварная мебель, картины на стенах, которые я не запомнил. Друзья шепнули: «Хозяйка – дочь Берии и очень от этого мучается».
С тех пор я только несколько раз проезжал мимо Барвихи и про роскошь, процветающую там ныне, знаю из обыденных историй насчет жителей Рублевки. А из журнала «Арт-хроника» выяснил недавно, что бывшей дачей Алексея Толстого теперь владеет Петр Авен, с которым я когда-то был знаком, – жили в одном доме на улице Дмитрия Ульянова, там же, где Миша Рошаль и Никола Овчинников.
38. Бардеёв
1998
В этот городишко, про который я ничего раньше не слышал, мы заехали по дороге в Медзилаборец и деревню Микова, оттуда родом отец и мать Энди Уорхола. Остановились на пустынной площади, и я изумился. Не ожидал увидеть в восточном углу Словакии что-то подобное. Площадь застроена ренессансными зданиями, отдаленно похожими на те, что позже я встречал на севере Италии, в Тренто. С пышными портиками и остатками фресок. Те дома, где росписи не уцелели, выкрашены в веселые цвета. Да, все это провинциально, но тем и приятно. Местный готический собор Святого Эгидия – очень сдержанный, ясно прорисованный – действительно хорош, как и его готические алтари.
И странно, почему-то ни души. Я зашел в пивную на углу площади – там тоже пусто, только муха гудела – и выпил отличного местного пива «Шариш». Поехали дальше.
Позже я узнал, что город Бардеёв весьма старинный, что в XIV столетии венгерский король Карл Роберт Анжуйский пригласил сюда немецких купцов и ремесленников из Силезии, благодаря которым город процвел и стал одним из главных торговых пунктов на пути Запад – Восток. Потом пришла пора упадка, и неудивительно, что мало кто ныне что-то знает о Бардеёве. А место милое, вернуться бы туда.
39. Бар-лё-Дюк
1987
Вскоре после приезда в Париж я познакомился с молодым художником, имени которого не помню (Андре? Анри? Арно?), по фамилии Пуассон-Кентен. Он был сыном, как мне сообщили, знаменитого когда-то психиатра-альтернативщика Пуассон-Кентена, лечившего пациентов не аминазином, а кокаином и марихуаной. Недавно я попытался узнать, был ли такой психиатр во Франции, похоже – не было. Возможно, это аберрация сознания. Но я же точно знал этого молодого художника, одетого, как положено было в конце 80-х, в куртку-бомбер, рваные джинсы и ботинки «мартенсы»?
Я тогда совсем плохо говорил по-французски и, когда Пуассон-Кентен меня при первой встрече спросил, знаю ли я Анди Вароль, выставку которого (которой) он недавно видел, честно ответил, что не знаю. Секунды через три до меня дошло, что речь идет об Энди Уорхоле, но мой знакомец остался при убеждении, что я и есть образец тупого ruskoff, про Варолю не слышавшего благодаря козням кажебистов, засевших за железным занавесом.
Берлинская стена еще вполне стояла.
При этом он придерживался, как положено было, коммунистических убеждений, но говорил, что во Франции настоящих коммунистов нет, одни фашисты.
Художник он был, по-моему, безнадежный. Делал большие коллажи из страниц бесплатных журналов, а потом их замазывал гудроном.
Как бы то ни было, у меня еще почти не было знакомых, настоящих французов, и, когда Анри-Арно-Андре предложил зачем-то поехать навестить его дедушку в Барруа, я тут же согласился: это для меня была первая поездка куда-то во Францию.
Вот и поехали на восток от Парижа, через город Труа, присоседившись к знакомым Пуассон-Кентена.
Бар-лё-Дюк я почти не видел, помню только тяжелую готическую церковь и ровненькие зеленые изгороди перед домами, а также мягкие очертания холмов, укутанные влажным воздухом. В Баре мы сели на автобус и через полчаса оказались в деревне, где проживал дедушка, тамошний нотабль, наследник династии врачей, нотариусов, банкиров и адвокатов. О таких много написал Пруст – правда, у него про Нормандию, а восток Франции все же несколько иное.
Когда мы приехали, уже было темно. Но колючая проволока, разгораживавшая участки, была видна. Потом мне кто-то из знакомых французов (не иначе, с юга или из Фландрии) объяснил, что жители округи Бар-лё-Дюк страдают любовью к колючей проволоке. Там и в Первую, и во Вторую мировые войны были страшные бои. Наверно, поэтому.
Жилищем моего приятеля оказалась голубятня, построенная не то в XIII веке, не то позже, – цилиндрическая башня из местного пористого известняка. Это был подарок дедушки. Внутри от пола до кровли ярусами идут ниши, посередине башни – огромное вертикальное бревно с опускающимся и поднимающимся воротом, позволяющим добраться до каждой ниши. Оказывается, такие голубятни монахи клюнийских аббатств строили на всем западе Европы, и их голубиная почта была по тем временам не менее эффективна, чем WWW. Может быть, от нее было даже больше толка: фон бессмысленной информации тогда точно был ниже.
В этой башне мы и провели две ночи – на надувных матрасах, с электрическим фонариком.
Утром старушка (жалко не в белом накрахмаленном чепце) сообщила, что дедушка Пуассон-Кентен ждет нас к обеду.
Он проживал в здоровенном доме конца прошлого столетия, выстроенном в идиотском неоготическом стиле. Гостиная расписана в прерафаэлитском духе: цветастые рыцари на конях, гончие собаки, томные дамы, прозрачные деревца на мерно расположенных холмах. Сделано очень хорошо. Я спросил древнего днями хозяина (к счастью, прилично говорившего по-английски), кто же это нарисовал? Он ответил, что не помнит, был какой-то нищий русский художник давным-давно, его отец дал ему кров и за какие-то деньги заказал эти картины. Полез в секретер, достал бумажку и сообщил: «А, его звали Стеллецкий».
Действительно, был такой мирискусник второго разряда, хоть и хороший, и он сильно бедствовал в эмиграции.
На столе были салфетки с лилиями, вилки и ножи с лилиями на черенках, тарелки с лилиями на ободках. Дедушка Пуассон-Кентен сказал, заметив мое внимание к этим узорам: «Да, молодой человек, я роялист. Если во Франции не будет короля, ей пиздец. Но я не такой мудак, чтобы верить, что истинная династия будет восстановлена. А в республику, в этих голлистов, коммунистов, троцкистов, националистов, христианских и социал-демократов я, блядь, не верю. Так что в этой реальности я анархист. Поживите с мое – поймете меня».
Эта мудрая клоунада много мне дала. Хорошо бы в России был царь из приличной старой семьи, от которого ничего бы не зависело. Тогда перестало бы противно жить в России.
На следующий день пошли в гости к местным виноделам, на ферму в километре от голубятни, и везде тянулась колючая проволока.
У виноделов, красномордых и сильно нетрезвых ребят, тоже было интересно. Первым делом они начали хлопать пробками, а потом стали жаловаться, как их замучило законодательство насчет «контролируемых деноминаций». «Мы же, блядь, тоже люди… Этим из Шампани, что, всё, а нам ничего? Мы же, блядь, не виноваты, что от нашего виноградника до шампанского двадцать километров, а вино-то у нас не хуже, скажи? А какого же у нас его не покупают? Самим приходится пить, блядь!»
Подарили нам ящик шипучки, мы его еле дотащили до голубятни. Я не очень разбираюсь в шампанском. По-моему, bulles были хорошие, но непонятно, что же они мучаются в безнадежном соревновании с шампанскими мухами, а не делают достойное деревенское вино?
Наутро поехали в Париж. Кентен-Пуассон сказал, что билеты на поезд брать не надо, и так доедем. Когда пришли контролеры, он меня потащил прятаться в туалет, оттуда нас, разумеется, выковыряли. Он тряс под носом у железнодорожных сбиров своей carte d’identitе, где вместо фотографии была вклеена картинка из детского журнала Тентене, а я притворился, что вовсе не понимаю по-французски. Контролеры сказали что-то про «пунк» и «русков», putain alors и merde donque и позволили ехать дальше.
Эта поездка мне многое рассказала о Франции – и плохое, и очень хорошее. Про лексику и политику – в любом случае.
40. Барранка-де-Диаболо
2001
В Плайя-де-лас-Америкас нам с Сашей стало скучно через три дня, тенерифское Рождество начало раздражать (сколько можно смотреть на темнокожих безработных, наряженных Санта-Клаусами и топчущихся у входа в супермаркет под увитыми елочными лампочками пальмами?). И купаться в океане надоело. Тем более что я чуть не утонул. И вообще, начался шторм.
Захотелось где-нибудь спокойно походить ногами. Мы справились в агентстве по туризму, где это можно сделать. Выяснилось, что нигде. Надо брать экскурсию или, наняв машину, самим ехать куда-то, а уже потом ходить ногами. Но в конце недлинного разговора с девицей из агентства выяснилось, что можно на рейсовом автобусе добраться до какого-то городка недалеко от Плайя-де-лас-Америкас, а там рукой подать до Барранка-де-Диаболо, где ногами вполне можно ходить.
Что такое «барранка» мы не знали, но звучит сочно, особенно в сочетании с тем, что она «чертова». Совсем по-прутковски. Что-то в манере «желания быть испанцем». С испанцами, впрочем, на Тенерифе туго – на дверях заведений рядом с надписью «We are speaking English, Ici on parle fran?ais, Deutche spraechen, parliamo Italiano» добавлено: «habla castillano».
То есть мы, канарцы, говорящие по-андалусийски, не кастильцы-арагонцы. Ну и ладно, хотя хорошо бы в Сочи что-нибудь написали на местном диалекте.
А barranca по-кастильски – это «спуск, уклон, речной берег».
Мы сели в автобус, минут двадцать ехали вверх и вышли на площади городка, где не было ни намека на тень. Между двумя пальмами на фоне фантастически синего неба висела гирлянда с Дедом Морозом в санях, запряженных оленями; с фронтона белоснежной, дикого колониального стиля церкви благословляла святая Мария Гваделупская, украшенная выцветшими пластмассовыми розами; на кресте сидел белый голубь; на жаре зевала рыжая канарская дворняга.
Стояла надпись: «Барранка-де-Диаболо. Опасная дорога, будьте осторожны». Мы робко встали на тропу. Ни одной опасности не было, кроме возможности удивиться старательно рассаженным молодым драконовым деревьям, агавам, обильным олеандрам и неизвестной мне африканско-субтропической флоре. О да, был какой-то провал вниз, с острыми камнями, похожими на зубы древних рептилий. Наверно, он-то и был страшен в этом уклоне в сторону туристической красоты.
Я, инвалид, его прошел легко. В Крыму не такое когда-то видел. Но дышалось в этой «барранке» удивительно легко, и небо светилось здесь океанским, всеобщим светом.
Когда мы шли обратно, встретили пожилую голландскую пару. Дама в бледно-зеленых шароварах и соломенной шляпе спросила: «Там очень трудно?» – «Нет, – ответили мы в один голос, – там всем просто. Никаких чертей, только виднеется внизу русло давным-давно высохшей речки».
У автобусной остановки образовалась эфемерная тень, в ней позевывала собака – возможно, наследница тех, кто дал имя Канарскому архипелагу. И тут на балкончике соседнего дома диким свистом распелась канарейка.
Приехал кадмиево-желтый автобус, мы отправились вниз, к черным крабам и алым Санта-Клаусам побережья.
41. Барселона
1990
С тех пор я в Барселоне, к сожалению, не бывал. А поехал туда с парижской приятельницей Джудит Бизо – ей почему-то очень хотелось посмотреть выставку калифорнийских художников мексиканского происхождения, которую делал в Барселоне какой-то ее знакомый. Предложила съездить вместе, я с радостью согласился – очень хотелось увидеть каталонскую столицу.
Выставка оказалась интересная. Но куда любопытнее мне был город. Жалко, что провел там всего два дня и наверняка увидел очень мало, хотя и возвращался в гостиницу только переночевать.
Гостиница, где мы остановились, находилась на Рамблас. В кишение этих пешеходных улиц я и окунулся сразу же. Воздух там был густым от запаха анаши – кажется, ее только что легализовали. Мне страшно понравились маленькие темные бары, где за стойкой с потолка свисали вяленые окорока, наливали в зеленоватые стаканчики херес, а на закуску подавали толстыми ломтями порубанную колбасу чоризо и острый сыр.
Слонялся по узеньким полутрущобным улочкам Барри-Готико и Барри-Чино, по идее они были с односторонним движением, но машины там бодались, как бараны, – побеждал самый упрямый, а побежденный пятился.
Удивился собору, обсаженному пальмами: готический стиль очень непривычно выглядел рядом с субтропической растительностью. Потом набрел на еще одну церковь. Ее барочный фасад закрывал беленький классицистический портик, дальше, ближе к трансепту, шли готические контрфорсы, а апсидная часть этой базилики, обстроенная трухлявыми сараями, была романской, а то и чуть ли не вестготской.
Что же касается сооружений Гауди – посмотрев на них в натуре, я утвердился во мнении, что это противно. Надеюсь, Саграда Фамилию никогда не закончат: в недостроенном виде она лучше, чем так, как ее задумал автор. Каса Бальо и Каса Мила? От них веет не только дурным вкусом, но и сумасшествием. А вот парк Гуэль понравился: среди сочной зелени бесконечная скамейка, уделанная мозаикой из битых тарелок, и даже знаменитые покосившиеся колонны выглядели весело.
Перед отъездом обедали в рыбном ресторанчике рядом с портом, ели мрачного вида, но очень вкусную паэлью с чернилами каракатиц, потом я пошел посмотреть стоявшую в гавани, рядом с памятником Колумбу, реконструкцию «Санта-Марии». Поразительно, как на такой посудине можно было отправиться в неведомое плавание?
42. Барынино
1960, 1961, 1962, 1975
Воюхино – родная деревня моей бабушки Веры, крошечная. Не знаю, как сейчас, а раньше там был всего десяток домов. Ближайшее село с магазином и автобусной остановкой – находящееся километрах в трех Барынино. Насколько помню, ничего интересного там не было. Правда, места красивые: волнистые холмы, поля, прозрачный светлый березняк, куда мы ходили по грибы.
Если свернуть с пути в Воюхино на почти заросшую дорогу в лес, можно прийти в Побоище. По преданию, там когда-то случилась битва с татарами. Почему-то вдоль этой лесной дороги часто можно было найти белемниты, окаменелые раковины мезозойских головоногих. Местные называли их «чертовы пальцы» и «татарские стрелы», а я-то уже лет в семь, страшно интересуясь палеонтологией, знал, что ни к чертям, ни к татарам они не имеют отношения.
Бабушка рассказывала, что во времена ее детства в Побоище было богатое поместье какой-то генеральши. Барыня была добрая и привечала крестьянских детей. Самое сильное впечатление бабушки: она с генеральскими детьми каталась на тележке, в которую был запряжен огромный сенбернар.
В начале 60-х от поместья оставался только заросший тиной пруд и темная липовая аллея. Сейчас, наверно, нет ничего.
43. Бассум
1992
Забавно, когда зачем-то попадаешь в место, куда не собирался, о котором раньше не слышал и посещение которого не оставило почти никаких следов в памяти. Так и Бассум, расположенный километрах в тридцати к югу от Бремена.
Мы с Сережей Воронцовым выставлялись в кунстферейне в Гандеркезее, который находился даже не в самой деревне, а на отшибе, на хуторе, на чердаке огромного фермерского дома, где жил местный архитектор, председатель этого культурного учреждения. Один из членов его попечительского совета, адвокат, живший в городке Бассуме, пригласил Сережу и меня к себе поужинать. Поужинали – он накормил нас отличной малосольной селедкой со сметаной и яблоками и вкусным запеченным палтусом. Поговорили о чем-то. Он отвез нас обратно в Гандеркезее. Вот и всё.
44. Бахмач
1977, 1978, 1979, 1982
Я никогда не бывал в Бахмаче и не знаю, каков он. Только несколько раз проезжал мимо бахмачского вокзала (вокзал как вокзал) на поезде по пути в Карпаты или обратно. Но меня покорило сочетание звуков в слове «Бахмач» – очень сочное. Названия соседних станций тоже отзываются в сердце: Конотоп, Нежин, Кобыжча, Бровары…
45. Бахчисарай
1983–2008
Хотя Крым я знал с детства, в его западную горную часть впервые попал в конце 70-х благодаря Сереже Рыженко, у которого были друзья в Крымской обсерватории, в поселке Научный – это рядом с Бахчисараем. Мы гуляли по окрестностям, ходили на Тепе-Кермен, и я сразу полюбил эти края. Потом, с начала 80-х, с Андреем Филипповым, Димой Мачабели, другими друзьями я каждое лето посещал Бахчисарай. Мы приезжали туда на поезде, ели казавшиеся очень вкусными пельмени в привокзальном заведении, запасались вином, ехали на автобусе мимо Ханского дворца до Староселья, поднимались на плоскогорье напротив Чуфут-Кале и устраивали там стоянку. Несколько дней бродили по горам, потом спускались к морю.
Сначала Ханский дворец меня обескуражил, я еще вовсе не понимал сути исламской архитектуры. Да и вообще, он казался маленьким и провинциальным. И что это такое «Фонтан слез»? С какой стати Пушкин про него стихотворение написал – глупость какая-то! Но постепенно я проникся настроением бахчисарайского сераля и, когда увидел в Стамбуле колоссальный дворец султанов, смотрел на него через оптику бахчисарайской бледной реплики османского величия.
В 80-е городок был обшарпанным и по-советско-крымски нищим, туристы там появлялись редко, Ханский дворец-музей обветшал. Еду раздобыть было трудно – имелся один ужасный ресторан и одна чебуречная. Но была там нежная элегическая атмосфера.
Потом я уехал во Францию и до начала 90-х, кажется, не бывал в Бахчисарае. Город сильно изменился, начали возвращаться татары, с минаретов зазвучала молитва. Пооткрывались кафе и рестораны, шла бурная торговлишка. В 1995-м мы сделали во дворце забавную выставку «Сухая вода» – исключительно акварели, а акварелью из ее участников мало кто умел работать. Из Москвы туда приехала толпа друзей и знакомых, человек сто, заселили всю полуразвалившуюся бахчисарайскую гостиницу. Жители, по-моему, не понимали, что творится. Но не возражали.
Потом я не возвращался больше десяти лет. Поводом приехать снова оказалась подготовка большой русско-греческо-турецко-украинской выставки, о которой Андрей Филиппов мечтал много лет. Первыми в июне 2008 года в Бахчисарай из Москвы на рекогносцировку приехали Оля Лопухова, Андрей и я, из Стамбула – турецкая кураторша Берал Мадра, из Салоник – Мария Цанцаноглу. Потом, в сентябре, все уже собрались на выставку.
В 2008-м Бахчисарай я, естественно, узнал. Но изменения были огромные. Повсюду лавки и рестораны, шумная торговля сувенирами и татарскими сладостями, множество новых домов, а дворец весь отреставрирован и вылизан, причем по большей части плохо, в духе восточного ресторана. И толпы туристов. Все это отлично: город живет. Но я с долей ностальгии вспомнил его былой облик.
Перед открытием выставки случился скандал – нас обвинили в чем-то вроде разжигания религиозной и национальной розни. По-моему, глупость полная, но было противно. Остался тяжелый осадок.
Вернусь ли я снова в Бахчисарай? Вряд ли. И бродить по горам я уже не состоянии, и любоваться городом не смогу. Я его вспоминать буду.
По еще такой очень важной причине. Когда я в третий раз читал то, что написал про Бахчисарай, позвонила Саша и сказала, что Оля Лопухова умерла – как-то совсем странно: от последствий операции наподобие вырезания аденоидов. Я помню, как в один из бахчисарайских дней солнечная Оля, осатанев от бахчисарайской бессмыслицы, рано утром забралась на плоскую гору напротив Ханского дворца, – снизу видна была череда крошечных телеграфных столбов и согнутые ветром, словно трава, сосны. Рассказала, что там было прекрасно.
Оля в раю – неважно, есть он или нет. Я – в долине памяти.
46. Безенелло
2006–2008
Слева, если смотреть в сторону гор, течет река Адидже. Справа – коническая горка, на ее вершине под облаками виднеется замок Безено. Посматривает на округу. Между ними, обрамленная виноградниками и яблочными садами, лежит деревня Безенелло.
Именно лежит. Безенелло спит. Просыпается к Рождеству, и его обитатели строят на повороте узенькой via Bolzano великолепный пресепио. Тут мраморный фонтан, из пасти глуповатого льва тихо струится ледяная вода, и в летний зной так хорошо утолить жажду. А к Рождеству на его чаше жители Безенелло сооружают из дощечек и прутиков водообильную Палестину. Вода из пасти льва – и Средиземное море, и Иордан, и Генисаретское озеро, и Мертвое море; и стоят над зыбью пастухи, овцы, ослы и волы, грядут на верблюдах три волхва, а в шалашике из сухой травы сидит фаянсовая Мария, лелеет беленького младенца.
47. Бейт-Шемеш
2000, 2003
Совершенно случайно мы с покойным Даней Филипповым в 2000 году отправились в Израиль: в «Иностранце» мне предложили поездку на неделю в Эйлат на двоих в дорогой отель all inclusive. Саша по какой-то причине поехать не могла, я позвонил Андрею Филиппову, мечтавшему еще раз попасть в Израиль, он тоже отчего-то не мог. А Даня с радостью согласился.
И я, и он отправлялись в Израиль в первый раз. Прилетели в Тель-Авив, нас прокатили по нему на автобусе, потом прогуляли по Яффе, отвезли в Иерусалим, а на следующее утро мы заехали на полчаса в Вифлеем и отправились мимо Мертвого моря в Эйлат. Гостиница оказалась действительно хорошей, море тоже, но тут же стало ясно, что невозможно торчать на этом курорте, больше ничего не увидев в Израиле. На второй день я позвонил Володе Рубинчику, которого шапочно знал по Москве, в городок Бейт-Шемеш («Дом Солнца») – это километрах в тридцати от Иерусалима. Володя очень обрадовался и потребовал, чтобы мы тут же ехали к нему. Он и его жена Саша приняли нас фантастически радушно, водили по Иерусалиму, рассказали массу всего интересного.
А в 2003-м снова появилась в «Иностранце» возможность даровой поездки в Израиль. Я позвонил Рубинчикам, они вновь очень обрадовались. Это был март, как раз накануне начала второй войны в Ираке. Я был уверен, что будет уже жарко, но, когда прилетели с Сашей, нас встретил дождь и пронизывающий холод. Израильтяне радовались: редко столько воды проливается на их сухую землю.
Как дурак, я привез Володе бутылку какой-то дорогой водки. Мы ее выпили, а на следующий день пошли в книжный магазинчик, который он держит в Бейт-Шемеше. Дверь в дверь там продовольственный, и Володя затащил меня в него. На полках стояли всевозможные водки, в том числе точно такая же, какую привез я, молдавский коньяк, грузинское вино и пиво из Сум, Ярославля, Харькова, Питера, Курска, Нижнего Новгорода; разумеется, горы сала и колбас.
В Бейт-Шемеше половина жителей – выходцы из СССР. Вторая половина – крутые ортодоксы, в свою очередь делящиеся пополам: одни из Магриба, другие из Америки.
Мы каждый день ездили в Иерусалим. Володя и Саша предупредили, что к их остановке подъезжают два вида автобусов: один «нормальный», второй «американский», то есть на нем ездят американские религиозники. В таком ни в коем случае мужчине нельзя садиться рядом с женщиной, а женщине – с мужчиной. В первый же раз мы угодили на «американский» автобус, где одетые в черное пассажиры, болтавшие на американском английском по мобильным телефонам, смотрели на нас с омерзением.
В один из дней мы с Володей и его престарелой собакой, слепым черно-седым королевским пуделем, отправились погулять по окрестностям Бейт-Шемеша. Проходили мимо микрорайона, построенного как социальное жилье, но заселенного самозахватом этими самыми американцами. Двери были заложены шлакоблоками, жители попадали к себе через окна, по приставленным доскам. Возле домов ни деревца, хотя вокруг тщательно возделанная зелень, и, что самое удивительное, весь микрорайон огорожен мощным железным решетчатым забором. Я спросил у Володи: «Кто забор поставил?» – «Да сами и поставили», – ответил он.
Что же, хочется людям самим себя загонять в гетто, их дело.
Там по голой земле слонялись два маленьких мальчика. Увидели собаку, подбежали к забору, ухватились ручонками за железные прутья и начали тявкать: «Ав! Ав! Ав!» Вот событие – собака прошла!
Израиль той весной выглядел удивительно. Холмы, будто где-нибудь в долине Луары, были покрыты сочной травой, в ней сверкали яркие цветы. Были ли там «лилии полей»? Должно быть, были.
48. Белгород
Начиная с 1956-го
В Белгороде я никогда не бывал. Но проезжал мимо с тех пор, как себя помню. И он для меня начало юга. Пока едешь на поезде в сторону Крыма, Орел и Курск – это еще Россия, а Белгород, стоящий у границы с Украиной, уже – по ощущению юг. И недаром граница пролегла именно там. Россия по преимуществу северная страна, Украина и географически, и культурно тяготеет к югу.
Особенно ясно, что в Белгороде юг приближается все ближе и все быстрее, когда едешь в Крым весной, в апреле. В Белгороде деревья еще только-только, как и в Курске, начинают распускаться. Но точно знаешь: еще несколько часов – и будет настоящая весна.
Эту уверенность укрепляют окружающие Белгород белые меловые горки, точно южные по очертаниям.
Такие горы можно найти и в России, но там они выглядят странно.
49. Белогорск
1983, возможно
Ак-Сарай («Белый дворец») был столицей ханов Гиреев, пока они не утратили вкус к кочевой жизни на плоской местности и не переселились в предгорья, в Бахчисарай («Дворец-сад»).
Когда татар в 1944 году депортировали из Крыма, городок переименовали в Белогорск. Переименования – странное дело. «Бело» оставили, видимо, потому, что для славянского сознания белизна – это синоним чего-то хорошего. Хотя красное все же лучше, могли бы и Красногорском назвать, в СССР все равно уже было несколько Красногорсков. Здесь «-горск» – очевидное преувеличение. В Белогорске гор нет – ни белых, ни других. Там холмы, да вдали виднеются отроги Восточной гряды. Весной они зеленеют травой, а в прочее время цвета выгоревшей гимнастерки.
В Белогорск попадаешь, когда следуешь из Симферополя в Судак. Позади горизонтальность Центрального Крыма, впереди горы, а потом море. Белогорск – это всего лишь точка между городами, которую я всегда проезжал. Однажды, не помню уже почему (автобус сломался?), я застрял там на два часа. Заняться было нечем. Палило солнце, по площади ветер гонял пыль. Торчали контражуром в бледно-голубом небе пирамидальные тополя.
Наверно, сейчас в Белогорске интереснее. Наверняка построена мечеть; возможно, даже медресе. Наверняка украинцы, татары и русские делят между собой что-то и никак не могут поделить.
Еще в Ак-Сарае (Белогорске) я почему-то несколько раз видел в небе продолговатый аэростат, наподобие тех, что во время войны поднимали в целях заграждения от вражеских аэропланов над Москвой. В Белогорске так боролись с НАТО? Или это для красоты?
Такой же аэростат я заметил как-то над низкими Арденнскими горами в Бельгии, и это было очень красиво.
50. Берлин
1988–2004
Я попал в Западный Берлин весной 1988 года благодаря Лизе Шмитц, затеявшей проект «ИсKunstво», первый, где художники из Москвы выставлялись вместе с немецкими, и это же был мой первый выезд из Франции в какую-то другую страну. Незадолго до того я посмотрел «Небо над Берлином» Вендерса, фильм мне очень понравился, поэтому многое в городе я узнавал. Или видел город через кино.
Перед Берлином я заехал в Кёльн к Гройсам. В Берлин почему-то отправился самолетом, он на подлете очень круто взял вниз (заложило уши) и приземлился в аэропорту Тегель. Меня встретила Лиза, по дороге к ней мы проезжали французский военный городок: обычный французский поселочек, главная улица называлась avenue Gеnеral Leclerc.
Я жил у Лизы в Крейцберге, на Таборштрассе. Рядом Ораниенштрассе, где немыслимо перемешались турки и левые берлинские интеллектуалы, кебабные харчевни и самые модные галереи, анархисты и строгие мусульмане. В каком-то кафе сидели пожилые трансвеститы с набеленными лицами, с вурдалачьими алыми губами. В другом кафе, на Кантштрассе, чудом уцелевшем во время бомбежек, все сохранялось в неприкосновенности, будто на дворе 30-е годы, а в загончике рядом с кухней на потеху посетителям содержался огромный боров.
На путях разбомбленного в 45-м вокзала панки устрашающего вида, но совершенно безобидные жгли среди бурьяна костры. По огромному блошиному рынку возле Бранденбургских ворот ветер гонял тучи пыли, торговали там черт знает чем, в том числе слежавшимся советским военным обмундированием, пластами сложенным на земле.
Торчала занозой стена. Мне понравилось прогуливаться вдоль нее, разглядывать граффити. Кое-где возле стены были смотровые площадки, поднявшись на которые можно было увидеть другую сторону. Как-то мы ужинали на террасе кафе возле стены, а гэдээровский пограничник смотрел с вышки в бинокль в наши тарелки.
Мне очень полюбилось одно место на берегу Шпрее – туда можно было пробраться через дыру в изгороди из колючей проволоки. Горы песка, лопухи, кусты акации (как у Генриха Сапгира: «У черты цивилизации расцвели кусты акации…»). Я брал с собой бутылку вина, смотрел на воду, на лебедей, плававших вдоль берега, на гэдээровский сторожевой катер, курсировавший туда-обратно по фарватеру, и на другой берег, фланкированный пятиметровыми бетонными плитами с колючей проволокой поверху. Потом Лиза мне сказала, что по мудреной берлинской политгеографии место моего отдохновения принадлежит ГДР и находиться там небезопасно.
Я вернулся в Берлин через несколько месяцев, на выставку, вместе с Николой Овчинниковым. Из Москвы прибыли Сережа Волков, Сережа Воронцов, Свен Гундлах, Ира Нахова, Сережа Ануфриев, Д. А. Пригов, Вадик Захаров, Володя Сорокин, Иосиф Бакштейн, потом откуда-то из Австрии подтянулись Костя Звездочётов и Герман Виноградов. Почти для всех это был первый выезд за границу.
В это же время в Берлине оказались питерцы: Новиков, Африка, Курёхин. Началась короткая эпоха моды на всё Made in USSR и постоянных вояжей наших художников по заграницам.
Жили мы там же, где давалась выставка, – в реконструированном личном вокзале кайзера в районе Шарлоттенбург. Выставка оказалась скорее хорошая, хотя никакого общего языка с нашими немецкими коллегами, довольно скучными художниками, не было.
Я собирался сходить в восточную зону, но так и не собрался.
В последующие годы я несколько раз бывал в Берлине – просто так или по каким-то художественным поводам. В 1992 году у нас с Сережей Воронцовым была выставка в маленькой галерейке Ирены Налепы. Одновременно там оказались Маша Константинова и Коля Козлов. Мы с Колей почему-то всю ночь бродили под моросящим дождиком по Крейцбургу, время от времени отхлебывая из бутылки виски. Забрели во двор, выходивший на реку. Там на пинг-понговом столе спал промокший пьяный Йорг Иммендорф, он мутно посмотрел на нас и снова заснул.
В 1988-м я видел, как он куролесил в снобском Cafе de Paris.
Мы зашли в распахнутые двери его мастерской, там штабелями стояли картины стоимостью несколько сотен тысяч марок каждая и ящики с пивом. Мы достали одну бутылку – виски у нас закончился. Пиво оказалось безалкогольное.
Я вернулся в Берлин только в 2004-м, на выставку коллекций Вадика Захарова и Харалампия Орошакова в Kupferstichkabinett и не узнал города – не понимал, где нахожусь.
51. Берново
1978
Как хорошо, что по молодости мы много и бесцельно путешествовали, – в меру наших возможностей. Так мы почти случайно оказались с Машей Константиновой в селе Берново Тверской губернии. Туда ранее попал Пушкин. Ему, я считаю, вообще везло: он попадал, и не всегда по своей воле, в разные места, но они никогда не были безнадежны. Пушкин не попал, например, в рудники под Иркутском или на линию атаки на Кавказе.
Я думаю, Бог, в которого не верю, его справедливо спасал. Нельзя не спасать такого гения.
В Бернове – усадьба семейства Вульфов, в которой росла Анна Полторацкая, будущая Керн. У Вульфов в Бернове Пушкин написал «Анчар», беспросветное стихотворение. А мы с Машей – что же? – решили, что следующий Новый год надо встретить в Бернове. Обсудили эту мысль с друзьями, и они согласились, что идея хорошая.
Каким образом мне удалось найти телефон сельсовета в Бернове, не помню, но это было трудно. Я провел несколько часов за аппаратом, добиваясь через Тверь – Калинин кого-нибудь из райцентра Старица, чтобы дозвониться до села Берново. Удалось. Выяснилось, что там даже гостиница есть, а в ней – телефон. Я позвонил. Спросил, можно ли у них остановиться.
Переполошенная женщина у телефона сначала не могла понять, чего от нее хотят, а потом радостно сказала: «Приезжайте, конечно!»
Мы в Москве запаслись едой и выпивкой (даже какие-то маринованные шашлыки с собой в кастрюле везли), отправились в Берново. Путь неблизкий: до Калинина в вымерзшей электричке, потом часа полтора на обледенелом автобусе. Добрались – нас встречает старушка, хотел бы я сказать в повойнике, но она была в ситцевом белом в синенькую крапинку платочке, а поверх – в завязанном на спине сером шерстяном платке. «Здравствуйте, гости».
Гостиница выглядела так, как, наверно, когда-то выглядели хорошие постоялые дворы. Длинный, составленный из срубов дом. Натоплено жарко, и очень чисто. Беленькие занавески и обои в мелкий цветочек. «Если что приготовить, то там кухня, вы печку-то топить умеете? Водички попить – в сенях кадка». Вода была вкусная, в жестяной бочке, под коркой льда.
Это была одна из лучших встреч Нового года. А с утра мы пошли в усадьбу Вульфов, она почему-то была открыта 1 января. Там не было никого, кроме нас. Мы посмотрели на штофные обои, старую мебель и какие-то memorabilia, я уставился в окошко. По косогору над речкой в сторону черного елового леса мела метель.
Вернулись в гостиницу забирать вещи, прошли мимо странного здания, оказавшегося винокурней. Не знаю, как она выглядела при Пушкине; надеюсь, приблизительно так же. Потому что она была как на картине Брейгеля, а Пушкин, этого художника не знавший, его наверняка понял бы, если бы увидел. А понял ли бы Пушкина Брейгель?
Над берегом речушки стояло бревенчатое чудище, облепленное чуланами, похожими на оборонительные башенки, и увенчанное ржавыми металлическими трубами. Оно вдруг присело, ухнуло, из труб в морозное небо пыхнули облака пара, пахнувшие сивухой.
Окошки винокурни мигнули, и дико крикнула ворона, летевшая мимо.
Мы дождались на морозе автобуса и поехали в Калинин не через Старицу, а через Грузины.
52. Биргу-Витториоза
2003
Очень жалко, что на Мальте я пока был всего раз и только неделю. Я тут же полюбил ее – по нескольким причинам. Прежде всего потому, что в этой крошечной стране (остров Мальта длиной 27 километров, остров Годзо – меньше 15, между ними совсем миниатюрный Комино общей площадью 316 квадратных километров) не чувствуешь отсутствия пространства. И потому что отовсюду видно море, надо только забраться чуть повыше или зайти за угол. И потому что мальтийцы разумно устроили свою страну. А каков мальтийский язык! В основе арабский, но немыслимым образом смешавшийся с итальянским, испанским, французским, английским и даже немецким! Чего стоит месса в великом кафедральном соборе Святого Иоанна, когда возглашают: «Аллах Акбар!» Но тут же на улице звучит превосходный английский, разъезжают старинные автобусы British Leylands и стоят красные телефонные будки.
А Биргу-Витториоза – это первая столица рыцарей-иоаннитов, где они обосновались до того, как построили по соседству Валетту. Биргу по-мальтийски значит «укрепленный город», Витториозой город стал называться в честь победы над турками в Великой осаде в 1565 году. Поэтому здесь сохранились самые старые здания и фортификации рыцарей. Мрачные, тяжелые, но украшенные веселенькими цветочками в горшочках. А главная достопримечательность – исполинский форт Святого Ангела, которому после Второй великой осады в 1940–1943 годах официально был присвоен статус корабля Королевского флота, HMS Saint Angel. Своими очертаниями он, правда, похож на колоссальный броненосец.
53. Благодатное
1956–2009
Это ошибка: населенного пункта с таким названием в Крыму нет. Благодатные есть в Харьковской, Курской и Красноярской областях, а также в Челябинской области имеется поселение Благодатное, основанное, как я понимаю, какими-то сектантами националистическо-языческо-экологической ориентации. Ни в одном из этих Благодатных я не бывал.
Зато в Крыму есть: Богатое, два Изобильных, Доброе, Счастливое, Раздольное, Плодовое, Приветное, Урожайное. Все это появилось после того, как татар и греков депортировали из Крыма и исторические названия заменили плодами убогой топонимической фантазии.
Вот и синтезировались они у меня в обобщенное крымское Благодатное.
54. Бологое
1983
Естественно, я много раз проезжал Бологое на пути в Питер и обратно. Однажды очутился там часа на три глухой ночью. Мы с Колей Панитковым ехали в деревню недалеко от Осташкова, где у его друзей был дом. В Бологом часть вагонов отцепили от поезда и отогнали на дальние пути. Мы спросили у проводницы, долго ли будем стоять; она ответила, что не меньше трех часов. Спать не хотелось, и мы пошли к вокзалу. Там было пусто, дремал кто-то на лавках. Постучались в дверь буфета, никто не откликнулся. Вышли на привокзальную площадь, там тоже ни души, куда-то тянулась скудно освещенная улица. Пошли обратно в вагон и легли спать. Сквозь сон я слышал, как застучали колеса, – поезд поехал дальше.
Потом я часто расспрашивал знакомых, бывал ли кто-то из них в Бологом. Такой не нашелся.
Как я понимаю, Бологое стало важным транспортным узлом во многом по случайности: Николаевскую железную дорогу тянули по прямой (неважно, правдива ли история про царя и линейку), и Бологое оказалось на этой линии. А могло бы до сих пор быть никому не известной деревней.
55. Болонья
1992, 2007, 2008
В первый раз я приехал в Болонью в 92-м на поезде, через Швейцарию – это была моя вторая поездка в Италию. Паоло Спровьери устраивал там выставку своей коллекции в городской галерее, куда прибыло довольно много народа из Москвы, я был вместе с Юлей, из Парижа приехала Джудит Бизо со своей подругой-колумбийкой – вылетело из памяти, как ее звали. Она была женой большого чиновника ЮНЕСКО, роскошного индийца Раджа Изара. В Болонье много пили, и жена Свена Гундлаха Эмма умудрилась свалиться вниз головой с очень крутой лестницы в гостинице, но, к счастью, сломала большой палец ноги, а не что-то более важное для жизни.
Напротив гостиницы стоял четырехэтажный палаццо. В окнах верхнего этажа не было ни стекол, ни рам. На третьем этаже окна были затянуты выцветшими и драными красными жалюзи. На втором кто-то жил. На первом был дорогой обувной магазин. Сейчас в Болонье такого уже нет, все отреставрировали.
Это один из самых моих любимых городов в Италии. Он уютен и гуманен. Там нет такой концентрации памятников, как во Флоренции или в Венеции, зато есть спокойствие и теплота. И конечно, недаром жители Болоньи так гордятся своими аркадами, протянувшимися вдоль улиц старого города: в жару не палит солнце, в непогоду не мочит дождь. Этим восхищался еще Петр Толстой, посетивший Болонью в конце XVII века.
Впрочем, и достопримечательностей в Болонье достаточно. И базилика Святого Петрония, фасад которой горожане за многие века так и не удосужились закончить. И изумительная площадь, на которой она стоит. И неимоверное надгробие Святого Доминика. И страннейший, совершенно мистический комплекс базилики Святого Стефана. Конечно, «Две башни», одна из которых покосилась давным-давно настолько, что, когда смотришь на нее, хочется отбежать подальше: вот-вот рухнет тебе на голову. Ничего, стоит и простоит еще долго.
И еще очень много всего – я и успел-то увидеть малую часть.
Во второй раз я попал в Болонью с Сашей в январе 2008 года – мы ездили на пару дней во Флоренцию, а на обратном пути в Роверето на полдня остановились в Болонье. Походили по городу, был солнечный зимний день. Саша там была впервые, я многое узнавал и помнил улицы – было так приятно вернуться. И очень хочется возвращаться снова.
В третий раз мы очутились в Болонье на два часа на местной ярмарке современного искусства – непонятно зачем по просьбе стекольщика из Мурано Адриано Беренго поехали встретиться с ним. Посмотрели современное искусство, съели в ярмарочном ресторане мясо alla bolognese (вкусное), и, когда вышли на автостоянку, по небу катились пурпурно-апельсиновые закатные облака. Под ними терракота крыш была черной, ревел ураган.
Совсем не ясно, почему Адриано по дороге в Венецию, рассказывая о том, как он развивает бизнес в Японии, завез нас домой в Роверето. Крюк – четыреста километров.
56. Больцано (Бозен)
2006–2008
На перроне вокзала городка Больцано, столицы Верхнего Адидже, написано «Добро пожаловать!» по-итальянски и по-немецки. Есть приветствие и на третьем языке, ладинском: Benuni! На этом языке в области Южный Тироль говорят несколько тысяч человек, но в Больцано (Бозене) он не слышен. Итальянский – да, но чаще звучит немецкий в южно-австрийском варианте. Названия улиц – на двух языках, реклама – в основном по-немецки. Архитектура явно не итальянская, а австрийская. На улицах пахнет так, как пахнет на торговых улицах старых австрийских городов: корицей, ванилью, жареными колбасками, паприкой и еще чем-то теплым и домашним.
Город сочится богатством: ювелирные и часовые лавки, банки, магазины с товарами самых дорогих марок. Названия улиц такие: улица Райффайзен (этот банк был основан в Больцано) и улица Сберегательных Касс. На главной торговой улице (via dei Portici, она же Аркаденштрассе) я набрел на магазин Obberrauch-Zitt, уже лет сто пятьдесят торгующий твидом и лоденом. Там я постепенно купил два пиджака из настоящего шотландского твида (один ношу, второй – для картины «Живопись для твидового пиджака») и пальтишко из лодена. Дорого, но я давно о таком мечтал.
На променаде в парке, тянущемся вдоль реки Изарко, впадающей в Адидже, занимаются бегом здоровяки южнотирольцы. Прямо в черте города стоит среди виноградников замок Мареччо, он же шлосс Маретш. На одной из боковых улочек за красными воротами с белыми крестами – резиденция Тевтонского ордена. Город обступили горы, по склонам лепятся шале, в небо втыкаются зубья Доломитовых Альп.
Италия здесь кончилась, хотя на карте она тянется еще километров на пятьдесят вверх, в горы, до перевала Бреннеро.
57. Большая Яйла
1970
На стареньком микроавтобусе киностудии поехали вверх по петляющей разбитой дороге. Рафик пыхтел и хрипел. Было жарко, воздух стоял густой пеленой, и я жалел, что пришлось куда-то ехать: нельзя было найти место для съемок где-нибудь поближе? И вообще, я что-то не помнил, чтобы у Стивенсона в «Острове сокровищ» упоминались высокие горы. Но режиссер Фридман вбил себе в голову, что этот эпизод его кинематографического бреда необходимо снимать на верхушке Яйлы, а художник фильма Константин Загорский отправился туда смотреть место. И зачем-то прихватил с собой меня и ассистента оператора – наверно, чтобы не бездельничали.
Наконец приехали. Оказалось, что здесь красиво. Под ногами – Ялта, море изгибается под синим-синим куполом неба. На покрытом выцветшей травой плато растут японского вида деревья, перекрученные ветром.
И прохладно, не так, как внизу.
Загорский посмотрел вокруг, покачал головой и сказал: «Ладно, поехали обратно». Сели в рафик, двинулись, через несколько десятков метров что-то громыхнуло, мы остановились, шофер пошел смотреть, что случилось. Выяснилось: пропороли шину о ржавую железяку, невесть откуда здесь взявшуюся. Запасного колеса не было. Шофер остался при машине, а мы сначала по крутой тропинке, потом по вполне прогулочной дорожке быстро скатились в Ялту, на Чайную горку, чтобы отправить кого-нибудь выручать микроавтобус и его водителя.
На Яйле так, кажется, ничего и не снимали.
58. Большие Вязёмы
1985
По дороге в Звенигород и в Можженку я все время проезжал мимо Больших Вязём, но никак не мог собраться сходить туда – совсем недалеко от станции Голицыно. Однажды, в прекрасный весенний день, сошел с электрички и прогулялся до усадьбы. И не пожалел – Преображенская церковь, построенная Борисом Годуновым, очень хороша. И странная стоит рядом с ней звонница, совсем не похожая на подмосковную архитектуру. Она скорее ближе к псковским звонницам, но и сильно от них отличается. В Пскове они тяжелые, крепко упершиеся в землю, а здесь ажурная, легкая, и небо, светящееся в ее пролетах, важнее, чем здание.
Посмотрел на могилу Николая Пушкина, умершего в младенчестве брата поэта. Издали полюбовался усадьбой Голицыных – в ней был какой-то НИИ, близко подойти было нельзя. Сейчас, говорят, там открыли небольшой музей.
59. Бон
1989
Город Бон (Beaune) находится в Бургундии, там делают великолепные вина, и, говорят, он редкостно красив: его центр – это драгоценность романской и готической архитектуры. Я не видел. Про Бон у меня странные воспоминания.
Мы с Николой Овчинниковым и Юлей Токайе направлялись на взятой у знакомых Юли машине в Прато (это близ Флоренции) на выставку художников из СССР. Это была моя первая поездка в Италию. А машина – спортивного вида дряхлая «Рено-Фуэго» красного цвета, до сих пор вспоминаю о ней с нежностью. Из Парижа выехали не рано, до Бургундии (это более или менее треть пути) добрались поздно вечером. Надо было где-то ночевать.
На въезде в Бон мы увидели кубическое здание, сиявшее неоновой вывеской: Hotel. Остановились, подошли к двери. На ней было написано: «Вставьте свою банковскую карту и наберите персональный код». Кто-то из нас так и сделал. Дверь, чмокнув, отворилась, впустила, закрылась. Мы оказались в клаустрофобическом помещении, где стояло что-то вроде банкомата. Инструкция гласила: «Вставьте банковскую карту, выберите в меню пожелания, наберите свой персональный код». Так и поступили. Устройство пожужжало, из щели вылезли магнитные ключи. Мы сунули их в щель следующей двери, она чмокнула и раскрылась. Нашли свои номера – белье было поглажено безупречно, а за окном темень и пустота – и легли спать. Утром захотелось есть, мы нашли буфетную комнату. Автомат с бутербродами вроде тех, что продают в поездах, йогуртом, колой, водой, мороженым, шоколадками; второй механизм наливал жиденький кофе. Эти агрегаты уже принимали монетки.
Позавтракав, мы вышли вон. Дверь, чмокнув, выпустила нас на обочину дороги.
60. Бонн
1988
Я туда приехал из Кёльна, где гостил у Бориса и Наташи Гройс, на трамвае. В Бонн меня пригласили граф и графиня Ламбсдорф, устроившие в соседнем Кёнигсвинтере выставку, где показывали работы Бориса Биргера и мои. Затея страннейшая – не вижу ничего общего между собой и Биргером.
С графом Хагеном Ламбсдорф-Галаганом (он из русской ветви Ламбсдорфов, его пращур был воспитателем Николая I, что чести ему не делает, а прадед – очень неплохим министром иностранных дел при Александре III) и графиней Рут Ламбсдорф фон дер Вейде (происходящей из какого-то совсем древнего германского рода) я познакомился в начале 80-х, когда Хаген служил советником по культуре посольства ФРГ в России. Ламбсдорфы опекали Альфреда Шнитке и Олега Янковского (что очень хорошо), а также коллекционировали неофициальное искусство – что тоже неплохо.
Впоследствии граф Хаген был первым послом в Латвии. До 1917 года его семья там и жила, а потом – в Чехии. Я с радостью вновь встретился с ним и Рут в 2004-м в Берлине, в их пенсионерской квартире рядом с Фазаниенштрассе. Там моя картинка висела бок о бок с Родченко. Что бы подумал Родченко?
Итак, я приехал в Бонн, вернее, в его предместье Бад-Годесберг, где проживали Ламбсдорфы. Тек Рейн, за ним мягко поднимались холмы. Вокруг – старательные особнячки то сецессионной, то грюндерской, то баухаусной архитектуры с чудными, греющими душу садиками. В одном из них жили Хаген и Рут.
Среди этого благолепия – Kunsthalle Bonn, где была какая-то важная выставка, которую я совсем не помню, и стеклянные «билдинги» с огромными логотипами главных немецких политических партий. <…>
61. Бордо
1999
Я пробыл в Шато-Маньоль, находящемся километрах в десяти от Бордо, неделю. В качестве винного критика. Главный энолог компании Barton & Guestier, пожилой британец, рассказывал про особенности виноделия в Bordelais, а очаровательная молодая дама (ее звали Элен или Софи?) учила пробовать вино, показывала указкой на плакат с изображением человеческого языка: эта зона воспринимает горечь, эта – алкогольную легкость, эта – фруктовые тона, а вот эта – табак, севильскую кожу и влагу мха. Ну и нос, нос, нос… Она говорила об архитектуре вина и о балансе тяжести и легкости. Будто я об этом не знал до поездки в Бордо. Знал. Читал. Но слушал ее с удовольствием. Она была хороша, как вино.
В Шато-Маньоль я жил в номере, где за пару лет до того останавливался Боб Клинтон: широкое французское окно, шагнешь – за ним немыслимо зеленый газон, обомшелые мраморные статуи и магнолия, усыпанная белыми, похожими на каменные цветами.
Всю неделю мы слушали лекции по энологии и психологии/физиологии восприятия переброженного виноградного сока. Ездили по другим виноградникам, пробовали чудеса французского умения творить вино.
Да, истинно чудеса. Но последний день я провел в Бордо в компании Софи-Элен (или ее звали Мари-Элизабет?). Я ее попросил заказать в ресторане борделезское блюдо, про которое раньше читал: аркашонские устрицы вместе с горячими свиными колбасками «шиполата». Оказалось – невероятно вкусно.
Потом мы прогулялись по Бордо – «Окраине вод».
Странный город, очень красивый и очень тяжелый. Его уверенная в себе, отлаженная и не склонная к лишним фантазиям архитектура говорит: да, это мы, купцы-работорговцы, негоцианты между Европой, Америкой, Африкой и Азией, построили для себя эти жилища, церкви и присутственные дома. Нам архитектор рассказал что-то про композитный, коринфский, ионический, дорический ордер, а мы ответили: «Делай как хочешь, но покрепче. И главное – углы закругли. А то лошади мордами об углы побьются».
Я это к тому, что Бордо, в сущности, похож на Нижний Новгород и даже Кострому. Но куда мощнее: в России – Волга, во Франции – океан.
Например: в окне одного из винных магазинов я разглядел суперпрофессиональный штопор ценой 5000 франков. То же самое наверняка можно найти, даже дороже, в Костроме. Но что там откупоривать штопором за 700 евро, «цвеймадеру» кашинского разлива, отчаянно дегустированную Салтыковым-Щедриным?
62. Борисоглебск
1963
Отец недавно разошелся с мамой и пытался как-то выйти из положения. Иногда у него это получалось хорошо. Например, он повез меня в Ростов Великий. Мы залезли в брюхатый икарус (гениальное изделие, почти такие же придуманы Энки Билалем в его комиксах) и отправились на север. Проехали Петровское – там удивительная ампирная колокольня дурной архитектуры, но стоит она так, что ее нельзя забыть. Это шприц, воткнутый в бессмыслицу неба. Вокруг метались вороны, пытались что-то объяснить.
Мы доехали до Ростова, а про него – особенный разговор.
На второй день, переночевав в Доме колхозника (через пятнадцать лет он уже назывался гостиницей «Ростов»), поехали – чего ради? – в Борисоглебск. Час тряслись по ухабам в покрытом инеем автобусе марки ПАЗ. Эти чудища клепали в городке Павловске, где-то рядом с Нижним. Их надо теперь беречь. Подобное в России, боюсь, уже не сделают.
Из ниши надвратной церкви Борисоглебского монастыря вместо необходимой там иконы ехидно поглядывал Ленин в хитрованской кепочке. В монастыре мерзло на веревках штопаное-перештопаное белье, из одного барака в другой несся мат.
Древнерусская архитектура? В Борисоглебске она очень плоха: кирпич на кирпич, да из битого кирпича узорчики над окнами и по обводу храма.
Не иначе, сейчас в Борисоглебске бараков в монастыре нет, и веревки не тянутся на морозе от одной дурной мысли до другой. И на чреватом икарусе с дугообразным воздухозаборником до Борисоглебска уже не доберешься.
И ПАЗа не дождешься. А вороны, слава богу, наверняка на месте.
Спасибо пантократору за Борисоглебск.
63. Боровск
1971
Итак, после Балабанова, в трясучем автобусе – в Боровск. Мне чудится, что на подъезде к Боровску дорога шла круто вниз, а потом в чаше, между холмов, открывался город, – прямо как в Италии? Конечно, чудится. Холмы вокруг Боровска низенькие, хотя и повыше, чем в большинстве мест Среднерусской возвышенности. Ее географы зачем-то лет двадцать назад разжаловали до звания Среднерусской долины.
И все же речка Протва загибается дугой между холмиков в Боровске почти так же, как Адидже в Вероне. Да, Альпы в пятидесяти верстах от Боровска невозможны, но березы и ветлы там столь же прозрачны и геометрически определённы, как оливы и кипарисы на картинах Джанбеллини.
Учащихся отделения промграфики и рекламы МХУ памяти 1905 года отправили на летнюю практику в село Теряево, в Иосифо-Волоцкий монастырь, на север. Учащихся отделения театральной живописи, в том числе Ксюшу Шимановскую (у нас был роман, потом она стала моей первой женой, мы прожили вместе месяцев шесть) – на юг, в Боровск.
Через пару недель, рискуя быть уволенным из МХУ, я сбежал из Теряева и отправился в Боровск. Первое, что увидел, въезжая в чашу, был огромный старообрядческий Покровский собор, построенный накануне Первой мировой войны, и там была автобаза. Второе – речку Протву, по течению которой тянулись изумрудные пузырчатые водоросли, а детишки на берегу удили пескарей. Третье – памятник космосу на высоком бугре над Протвой. В Боровске какое-то время жил Циолковский, бредил о лучистом человечестве (его дикие мечтания отчасти сбылись в виде пленников WWW).
Это сооружение воспроизводило памятник космосу возле ВДНХ, который придумал скульптор Файдыш-Крандиевский. Изделие безвестного боровского мастера было лучше: не фальшиво устремленное в небеса, а приземистое; не из титана, а из проржавевшей кровельной жести; и ракета на вершине покрашена серебрянкой, как крест на деревенском кладбище.
Ксюша и другие практиканты МХУ жили в здании какого-то ПТУ, когда-то реальном училище, стоявшем под памятником космосу, на крутом съезде к реке. Его закругленный угол был будто обгрызен пираньями: некий тракторист не справился с управлением и окончил жизнь, протаранив это крепкое сооружение.
Выше «космоса» простиралась рыночная площадь, вдоль которой тянулись торговые ряды с аркадами, подпертыми колоннами, статью похожими на перезревшие огурцы. В рядах находились магазины, где торговали ничем. И было заведение «Буратино» – там из опрокинутых стеклянных конусов, в Москве содержавших томатный и прокисший мандариновый сок, торговали портвейном по двадцать пять копеек за стакан и плодово-ягодным вином (Abolu Pussaldais) латышского производства – по двадцать.
Дальше тянулись улочки с домишками, украшенными резными наличниками, с белыми фиранками и горшками резеды. Там-то и происходила настоящая боровская жизнь, и в эти домишки годами наведывались сообразительные студенты МХУ и Суриковского института, тоже ездившие на летнюю практику в Боровск.
Боровск веками был гнездом старообрядчества (здесь заморили голодом боярыню Морозову), соответственно, в домишках с белыми занавесочками самые сообразительные из учащихся выторговывали «доски» разного качества иконописи и старопечатные, а то и написанные «братским» полууставом книги.
К сожалению, я к сообразительным не принадлежал.
В домах с резедой шла очень серьезная жизнь. В одном из них проживал с женой поп единственной служившей тогда в Боровске церкви. Матушка, заведя любовника, сбросила мужа в подпол и задалась целью заморить его голодом. Священника спасло то, что прихожане через неделю начали недоумевать: куда делся батюшка, почему в церкви службы нет?
Николай Семенович Лесков, услышав такое, пожал бы плечами и спросил: «Ну и что такое? Дело русское, православное. Страсть, господа, и глупость – как у Шекспира, но по-нашему».
Тянулись луга и песчаные отмели Протвы. За ними – беленький Пафнутьев-Боровский монастырь.
Святой Иосиф Волоцкий стоял за то, чтобы церковь была сильной в государстве, владела обильным имуществом и имела решающее слово в общественных делах.
Святой Пафнутий Боровский, близкий к афонскому исихазму, думал, что церковь не должна заботиться о политике: ее долг быть рядом с каждой из своих бессловесных овечек.
В результате и Иосифо-Волоцкий, и Пафнутьев-Боровский монастыри оказались одними из святейших и, соответственно, богатейших монастырей России. Но занимательно, что меня, тогда еще не крещенного и не выбывшего по своему желанию из церкви, географически мотало между стяжательством и нестяжательством.
64. Бородино
1966
Отец повез меня в Бородино. Скорее всего, из соображений приобщения к патриотизму. Мы долго ехали на электричке, а потом бесконечно ходили по флешам и разглядывали памятники. Стал ли я после патриотом? В принятом ныне в России смысле – скорее нет. Мне жалко Наполеона, он, как бы то ни было, не Гитлер.
Для меня самое интересное насчет Бородинской битвы – это то, что в ней по факту не победил никто. Там земля просто пропиталась трупными соками тысяч людей.
Этот ужас я понимал уже в подростковом возрасте.
Мое главное впечатление от Бородина было такое: как так, здесь ведь очень красиво?
65. Бохум
1992
Я пробыл день в Бохуме по пути в Гандеркезее, под Бремен, на выставку в связи с проектом KunstEuropa. Сабина Хэнсген, работавшая тогда в Бохумском университете, предложила прочитать какую-то лекцию студентам-русоведам, за нее платили не то 200, не то 300 марок, деньги тогда ощутимые. А я был беден как церковная мышь.
Первое, что увидел, сойдя с поезда, – коническую скульптуру Ричарда Серра из ржавого железа, снаружи обклеенную афишками рок-концертов и левацкими листовками. Зашел внутрь – там валялись экскременты и пустые шприцы.
Тогда мне Серра ужасно не понравился.
Лекцию (про что – не помню) я кое-как прочитал, лектор из меня шваховый. Переночевал у Сабины, с утра мы поехали на окраину Бохума, там был частный музей какого-то коллекционера современного искусства, прежде всего минимализма и концептуализма. Этот музей находился в идиллической зеленой местности и произвел на меня удручающее впечатление: кубическое здание из бетона, стоявшее на площадке, засыпанной антрацитом и огороженной сетчатым железным забором высотой метра в четыре. Рядом на зеленой траве валялись огромные ржавые оковалки – еще одно изделие Серра.
Неподалеку – китайский сад, подаренный Шанхайским университетом Бохумскому: крошечные прудики, каменные мостики, ветвящиеся тропки, гармоничная растительность. Безумно красиво.
Сабина мне рассказала, что Андрей Монастырский, бывший тогда ее мужем, влюбился в этот садик и мечтал поступить на должность его сторожа. Сабина и ее университетские друзья попытались это устроить. Оказалось, невозможно. Гастарбайтера на должность сторожа университетского китайского садика взять было нельзя. Она полагалась только гражданину ФРГ.
Как ни странно, Бохум для меня связан с Ричардом Серра. Я впервые там увидел его большие скульптуры не на фотографиях, а в натуре и постепенно начал что-то понимать. Окончательно осознал, что он великий скульптор, на Венецианской биеннале 2002 года, где его спирали из ржавого железа были выставлены рядом с инсталляцией «В будущее возьмут не всех» Ильи Кабакова.
66. Братислава
1998
Было так. В буклетике, присланном посольством почти новорожденной Республики Словакии, я прочитал, что в деревне Микова на самом востоке страны каждое лето проводится спортивно-культурный праздник в честь Энди Уорхола: из этого глухого карпатского угла происходили его родители.
Спросил у главного редактора «Иностранца» Ильи Вайса: «Можно я попробую туда поехать?» – «Да ради бога».
Времена были ангельские. Я позвонил в словацкое посольство, рассказал о своей идее, они обрадовались. Дальше связался с братиславской газетой «Правда». Мой отец, уйдя на пенсию, числился ее корреспондентом в Москве и что-то писал в Словакию на постсоветские темы. Словацкие правдисты тоже очень обрадовались.
В результате словацкое посольство нам с фотографом Игорем Стомахиным оплатило полет на самолете только что вылупившегося из яйца национального авиаперевозчика. А газета «Правда» предоставила в наше распоряжение на две недели белый «Мерседес» (это был единственный белый «Мерседес», виденный мной в Словакии) и его водителя Стефана Мадярича, обладателя огромных черных усов.
Более того, словаки профинансировали наше путешествие: мы не платили в гостиницах и очень редко – в ресторанах. Видимо, в те ангельские времена словакам попритчилось, что мы очень выгодные агенты влияния. Или словаки по природе немыслимо гостеприимны?
Но о Братиславе. По пути в центр города Братислава мне показалась похожей на южнорусский или украинский город, но в улучшенном виде. Блочные и панельные дома, пирамидальные тополя, все зелено, по дороге катятся старенькие «Шкоды», такие же, как беленькие «Жигули» в Запорожье.
Оглядевшись поутру, погуляв по старому городу, понял: Братислава, она же Бреслау, она же Пожонь, – город очень непростой, со множеством слоев, и очень красивый.
Недаром там когда-то угнездились римляне, а венгры с австрийцами, когда Будапешт захватили турки, сделали на три века Братиславу столицей Венгерского королевства.
В этом маленьком и тихом городе культурный, исторический и эстетический millefeuille благоухает очень вкусно – как кофе и пирожные, которые в братиславских кафе не хуже, чем в Вене.
Переночевав в советской постройки гостинице «Киев» и позавтракав в столовке вкусными блинчиками-палачинками с абрикосовым и яблочным повидлом, я день бродил по старому городу, любовался строго завитым барокко (именно в Пожони я начал любить барокко, который по глупости раньше недолюбливал) и остатками готики, в которой там ясно звучат мотивы юга Европы.
Постоял на берегу Дуная, посмотрел на мост имени Словацкого народного восстания. Словаки с их дуче-кардиналом Йозефом Тисо, конечно, сильно сглупили, подружившись с Гитлером. Но против нацистов в 1944 году все же поднялись именно словаки, а не единокровные чехи, да и за Дубчека им спасибо: Пражская весна началась благодаря этому идеалистическому коммунисту из маленькой холмисто-горной страны.
За мостом, с другой стороны Дуная, по непонятной мне причине есть еще кусочек Словакии. Четыре квадратные версты. Дальше Австрия, и Вена – в шестидесяти километрах. Каково было словакам при коммунистах смотреть из-за реки в сторону Австрии и понимать, что поехать туда нельзя? Это почти то же самое, как если бы житель Серпухова был отрезан от Москвы.
Хотел бы я жить в Братиславе? С удовольствием, но предпочел бы маленький словацкий городок вроде Бардеёва или Кежмарока. Климат хороший, пейзажи успокаивающие, и, что важно, Словакия очень удачно расположена: до Лондона, Москвы, Осло, Рима расстояние почти равное.
67. Бремен
1992
Это единственный большой северный немецкий город, где я бывал, – до Гамбурга или Любека, к сожалению, не добрался. И он мне сразу напомнил «Будденброков» Томаса Манна, которых я очень любил в молодости, но потом не перечитывал.
Хотя до моря еще километров шестьдесят и в Бремене нет порта, город – морской, даже не могу объяснить почему. То ли небо не такое, как в глубине континента, то ли в атмосфере города есть что-то открытое океану. Вместо моря – спокойная река Везер и дух уверенности в себе, воспитанный местными бюргерами за многие годы.
На площади перед ренессансной ратушей (здание великолепное, такое только прапрапрапрадедушки героев Томаса Манна могли построить ради своего величия) и мощным романским собором Святого Петра – огромная, почти десятиметровая статуя Роланда, символизирующая, что Бремен не подчиняется никому, кроме императора. Сначала я был уверен, что это стилизация под Средневековье, сделанная в начале ХХ века кем-то вроде Барлаха. Оказалось, никакая не стилизация, а XIV столетие, уникальный образец средневековой монументальной скульптуры. Рядышком – потешная скульптура с бременскими музыкантами: на постаменте осел, на осле собака, на собаке кошка, на кошке петух. В улочке, выходящей на площадь, краснокирпичный дом, этакий баухаус, стилизованный под готику, на нем звонница с фарфоровым карильоном: звук удивительный, прозрачно сказочный.
Крошечные разноцветные домики квартала Шнор – непонятно, как в них умещались здоровенные бременцы, или несколько веков назад они были меньше ростом? И массивные, под стать современным бременцам, бюргерские дома конца XIX века, глядящие высокими крылечками на реку.
В местном музее много картин художников школы Ворпсведе, которыми в Бремене страшно гордятся: тусклые пейзажи с морем и дюнами. В кунстхалле – выставка современных венгерских художников, наших коллег по KunstEuropa: не хуже, не лучше, чем португальцы и норвежцы. Зашли в университет, там богатый архив по неофициальному советскому искусству и литературе, собранный профессором Аймермахером, Сабиной Хэнсген и Георгом Витте. Спасибо им.
В городском парке были ручные поросята, тут же на ярчайшей зеленой траве – нахальные чайки, норовящие своровать жареную картошку и сосиски с прилавка киоска.
В один из дней в Бремене мы с Юлей зашли пообедать в ресторанчик «Фюрст фон Бисмарк», он нас притянул старозаветным обликом: белые вышитые занавесочки на окнах, старинная почерневшая мебель. Мы долго читали меню, оно было по-немецки и по-английски, искали что-нибудь традиционно бременское. Нашли что-то вроде тартара из сырого мяса и, как мы поняли, нечто типа форшмака из малосольной сельди. Тартар нам принесли, он был вполне вкусен, а селедку – нет. На наши напоминания официантка, говорившая только по-немецки, повторяла: «Nein!» – и на ее лице было написано удивление.
Мы об этом рассказали Сабине, а она ответила, что эти два блюда в Бремене есть за одной трапезой нельзя, и всё тут.
68. Бремерхафен
1992
В один из дней мы поехали в Бремерхафен посмотреть на море. Северное море было свинцово-серое, дул сильный ветер, метались и истошно орали чайки. Вдоль причалов стояли разномастные корабли, в том числе старинный клипер.
Из дверей прибрежных ресторанов густо пахло морской снедью, в воздухе висела соленая водяная пыль. По совету бременских знакомых зашли в недавно открытый новый культурный центр, расположенный в здании бывшего спортивного комплекса. Главное выставочное пространство находилось в пятидесятиметровом бассейне, а какая-то супердизайнерская мебель, которую там показывали, выглядела по-дурацки в яме, выложенной кафелем цвета морской волны.
69. Брессаноне (Бриксен)
2006–2008
От Роверето до Больцано меньше часа на поезде по долине реки Адидже. Она вся засажена виноградниками и яблочными садами – когда едешь летом, воздух пропитан сладостным яблочным духом. Но и поздней осенью, когда я решил посетить Брессаноне (Бриксен), чудилось, что запах не выветрился. За Меццакороной кончается область Трентино, начинается Южный Тироль. Если Трентино еще более или менее Италия, то тут многое меняется. Другие очертания гор, архитектура уже совершенно австрийская, а все названия на двух языках: Ора – Ауэр, Энья – Ноймаркт, Вадена – Платен.
За Больцано (Бозеном) поезд ныряет в туннель, оказывается в узкой долине, снова долина, снова туннель, снова долина, снова туннель… Горы все выше, на скале в Кьюзе (Клаузене) на верхушке скалы торчит сказочного вида замок.
Минут через сорок после Бозена – Бриксен. Я вышел из почти пустого вагона, вместе со мной еще двое: молодой африканец в широчайших, непонятно как не сваливающихся с задницы джинсах, и пожилая дама в пальто-лодене. Я направился в сторону центра: чуть не в каждом втором здании – больница либо оздоровительный центр; редкие прохожие, попадавшиеся навстречу, все пожилые. Они приветствовали меня: «Gruess Gott!» – я им отвечал тем же. Вышел на площадь с внушительным, перестроенным в барочном стиле романским собором и средневековым архиепископским дворцом.
Многие века Бриксен был независимым княжеством под властью князя-епископа и вошел в состав империи Габсбургов только в 1803 году. Я постоял под дождиком на пустой площади, полюбовался на собор и дворец, вернулся на вокзал. Заглянул в буфет, выпил кофе (он все же был итальянский, крепкий) и подумал, не проехать ли еще сорок километров до австрийской границы, в Бреннер. Но оказалось, что туда поезд только через час, а обратно на юг – через десять минут. И отправился в Роверето.
70. Брест
1987–1993
12 марта 1987 года, рано утром, я впервые пересекал границу СССР и не был уверен, что вернусь когда-то в Москву.
Сначала – хамский пограничный досмотр, правда, в тот раз не велели вылезать из вагона с багажом и идти в здание вокзала. Потом – долгая, лязгающая замена колес под вагонами. Наконец двинулись, и я прилип к окну, чтобы видеть, как кончается СССР и начинается Польша. Граница была как положено: колючая проволока, вышки, распаханная нейтральная полоса, река Буг, а там Польша. Пришли польские пограничники, с подчеркнутым безразличием посмотрели паспорта. С той стороны Буга оказалось так же, как с восточной. Поля, перелески, утлые домишки.
Впоследствии Брест я проезжал много раз, последний – в 1993-м: с Юлей Токайе, таксой Долли и котом Чернухой мы окончательно возвращались в Россию.
В конце 80-х – начале 90-х билеты на поезд стоили намного дешевле, чем на самолет. А некоторое время железнодорожные билеты можно было купить вовсе за смешные деньги. Тогда в них не указывалась фамилия пассажира, и в каждом номере «Русской мысли» печатались объявления о продаже билетов Париж – Москва. Если не ошибаюсь, за двести франков, то есть меньше чем за пятьдесят долларов. Во всяком случае, я, при своей безденежности, однажды купил целое купе и ехал в блаженном одиночестве. Продавали билеты приезжие-«пылесосы» из Советского Союза. Как они потом возвращались обратно, не знаю. Возможно, кто-то из них не возвращался, а прочим их друзья и родные переправляли в Париж новые билеты.
Однажды, кажется в 90-м, со мной в Бресте приключилась занимательная история. Мой приятель, парижский журналист Тома Джонсон, узнав, что я собираюсь в Москву, спросил, не могу ли я прихватить с собой маленькую посылочку, которую хотят передать его русские знакомые?
Тома имел склонность ко всякой экзотической публике, дружил с «Тиграми освобождения Тамил-Илам» и с боевым крылом IRA, а заодно опекал приверженцев рождения детей в морской воде, как-то очутившихся в Париже. Мне они испортили отдых в Крыму, в Судаке. Дюжина беременных женщин и их мужей, как и я, поселились на Хуторе и тоже ходили на море в бухту Капсель. Держались они по-сектантски, пропагандировали свою водородящую веру, пару раз беременные рожали на глазах посторонних. К счастью, мне не пришлось это видеть.
Но по дружбе с Томасом я согласился передать посылочку. Ее – две здоровенные и тяжеленные спортивные сумки – приволок к поезду парень, которого сопровождала жена, кормившая младенца грудью прямо на перроне. Слава богу, сумки он втащил в купе сам.
В Бресте советский пограничник спросил, что я везу. Я ответил: два чемодана (в Москву я вез довольно много гостинцев) и две этих сумки. Он спросил, что в чемоданах и в сумках. Я рассказал про содержание чемоданов, а про сумки сообщил, что они не мои, просто знакомые попросили передать. И что в них – понятия не имею.
Пограничник велел выгружаться с багажом. Я в два захода отволок его в здание таможни. В моих чемоданах ничего предосудительного не нашли, а в сумках оказались пакеты со статьями по поводу водорождения, ксерокопии писем на сотнях страниц в ООН, Всемирную федерацию здравоохранения и еще куда-то про то же самое, а также несколько десятков журналов по карате и кун-фу. Решать, является ли криминалом или нет, собрался консилиум таможенников и пограничников. В конце концов решили: хрен с ним, пусть везет. На прощание таможенный начальник резонно посоветовал мне впредь смотреть, что везу, а то какую антисоветчину либо наркотики положат.
Таская багаж, я еле успел к отправлению поезда.
71. Бронницы
1971
Я учился на третьем курсе МХУ, мы ездили на дачу к кому-то из соучеников в Пески, в поселок художников, а на обратном пути зачем-то высадились в Бронницах, купили в привокзальном магазине портвейн и пили его на заросшем лопухами пустыре, в тени водокачки.
72. Брынково
1975
С середины 70-х в Брынкове наверняка многое изменилось, как же иначе.
А было так. Деревенька Брынково находилась на другом берегу мелкой, богатой уклейками и пескарями речки Рузы от оплывших валов крепости городка Рузы, какое-то время столицы удельного княжества.
Из Рузы в Брынково надо было переходить по шаткому дощатому мостику. Мы туда попали с Машей Константиновой в конце сентября: в ее детстве родители снимали в Брынкове дачу, и мы отправились навестить эти места.
Был серенький денек. На яркой зеленой траве, совсем не осенней, вдоль берега Рузы паслись привязанные к белым березам белые козы, они взглядывали на нас янтарными глазами, перечеркнутыми черными горизонтальными зрачками. За березами белела церковь с голубенькими главками. Ничем не примечательная, но я ее вспоминаю не реже, чем истинные шедевры русской архитектуры вроде Покрова на Нерли. Ее стандартность и эстетическая беспомощность – такие церкви повсюду в Подмосковье – делает ее обязательной и благословляющей приметой среднерусского пейзажа.
Горько пахло палыми листьями и ботвой, которую жгли на огородах.
«Островитян» Лескова я тогда, кажется, не читал. Теперь эта гениальная книжка и описанный там Старгород для меня крепко сшиты с Брынково и Рузой.
Рядом с церковью стояло несколько домиков под суриковыми и зелеными жестяными крышами, с белыми занавесками и геранью в окнах. В один из них мы зашли. Старушка, помнившая Машу, пустила нас на ночлег. Мы чем-то поужинали, выпили бутылку сладкого молдавского вина «Лидия», купленного в магазине в Рузе, и легли спать. Спать было трудно: на узенькой кровати вдвоем уместиться было невозможно, тем более что она стояла с наклоном к полу чуть не на тридцать градусов.
С утра распогодилось. Мы бродили по зеленому лугу, любовались на трухлявые подберезовики. Стояли на мосту – под солнцем песчаное дно речки сияло золотом, серебряными тенями метались мелкие рыбки.
Сходили на Висельную гору и поехали на автобусе мимо речки Исконы в Можайск.
73. Брюгге
1997
Я провел в Брюгге всего полчаса, жалко. Прилетели в Брюссель, поехали из аэропорта в город, потом – дальше, в Амстердам. По дороге нас завезли в Брюгге, но предупредили, чтобы мы не разбегались. Большинство попутчиков, пергидрольные бабы из московских турагентств, никуда бежать не собирались: Брюгге – город не торговый, шубу и бриллианты задешево не купишь. Они скучно смотрели в серо-зеленую воду каналов.
А я туда мечтал попасть с тех пор, как в конце 70-х мне повезло делать иллюстрации для сборника пьес Мишеля де Гелядероде, которого моя мама случайно прочитала по-польски, рассказала о нем моему отчиму Валентину Маликову, начальнику редакции драматургии издательства «Искусство», и тот понял, что этот драматург, совершенно неизвестный в России, – замечателен.
Гельдероде я не перечитывал с тех пор, как делал рисунки для этой книжки, совсем беспомощные: лучше бы заказали Игорю Макаревичу. Наверно, Гельдероде – стилизатор и даже декоратор, словом, «брейгелевщина» и, хуже того, «костеровщина». Но сколько помню, в его пьесах воспаленным нервом бьется религиозный мотив, и мозг отзывается то болью, то счастьем. Я, тогда новокрещеный православный христианин, много из его текста узнал о христианстве и католичестве. Если я потом сознательно выбыл из церкви и религиозности в целом, в этом нет вины Гельдероде. Но он мне многое объяснил. Наверно, потому, что сам думал когда-то о том же, о чем думаю я последние лет двадцать.
Что в бытии Бога смысла нет. И не остается ничего, кроме как быть Тертуллианом с его credo quia absurdum est.
Итак, Брюгге – это город полностью религиозный. Его часто сравнивают с Венецией: мол, и там и там каналы, а в них отражается Бог. В этом сравнении есть смысл, и, конечно, он имеет прямое отношение к болотной географии этих городов. Кроме того, оба города уперто католические.
В католичестве есть понятие «избыточная благодать». Это когда грешнику дается то, что он никак не заслужил и, возможно, никогда не заслужит.
Здесь сходство кончается. В Брюгге нет католического лукавства Лагуны, нет и венецианской расслабленности. В Брюгге – именно упертость католического купца, торгующего с кем угодно и как угодно по всему миру, но никогда не отказывающегося от своего символа веры. А тут один шаг до протестантства.
Жители Брюгге этот шаг не сделали.
Постоял, посмотрел, как темные кирпичные дома, обросшие мхом и плющом, отражаются в канале. Послушал чаек и поехал по плоским местам дальше, в Нидерланды.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71018122?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Никита Алексеев
«Аахен – Яхрома» – это путевые заметки и иллюстрации ко всем местам в Европе, где Никита Алексеев побывал за свою жизнь, что-то среднее между дневниковыми записями и травелогом.
Собранные в текстах и рисунках, подробности путешествий служили для художника своего рода мнемоническим инструментом, позволявшим легко вызволить из памяти далекие воспоминания.
Раньше эти записи существовали в форме арт-объекта, «книги-чемодана»: обтянутого кожей короба, в котором лежали 600 с лишним рисунков. К коробу была подвешена флешка с текстами. Единственный экземпляр «книги-чемодана» был продан неизвестному коллекционеру и утерян. Рисунки и тексты впервые публикуются в настоящем издании.
В написании географических названий и достопримечательностей с целью не нарушать алфавитный порядок повествования сохранена авторская орфография.
Содержит нецензурную брань. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Никита Алексеев
Аахен – Яхрома
© Музей современного искусства «Гараж», 2024
© Никита Алексеев, текст и иллюстрации, 2010
Предисловие
Никита Алексеев, будучи в первую очередь художником, никогда, однако, не делил для себя творчество на визуальное и литературное. Почти во всех его работах текст – неотъемлемая часть изображения: авторские комментарии к выставкам или инкорпорированные в образ поэтические вставки не кажутся вторичными и становятся равноправными элементами целого.
Художник и man of letters, Никита не просто был постоянно занят сочинительством, сочетая слово и образ, а превратил эту работу в служение. История этой книги по-своему отражает такую двойную страсть – к рисованию и писательству.
В последние годы Никита активно вел свой блог, ежедневно публикуя заметки о мимолетном и вечном. У него было много благодарных читателей в соцсетях. В 2018 году в издательстве Grundrisse вышла его книга «В поисках Дерева-Метлы. Короткие мысли отшельника из Соломенной сторожки», основанная на этих постах-записках. По ней хорошо видно, как работает Никитин нарратив: картинка, текст, картинка, текст, – как будто разворачивается бесконечный свиток, украшенный миниатюрами. В его наследии большое количество таких свитков – многометровых рисунков, расстилающихся пространственным рассказом. И один из них, своего рода путевой дневник, – сейчас перед вами.
Возможность путешествовать для Никиты всегда была подарком судьбы, или, как он говорил, «незаслуженной благодатью». В жизни художника были и поездки по стране во времена СССР, и знакомство с европейскими государствами после эмиграции в 1987 году, и, наконец, насыщенный разнообразными туристическими маршрутами период работы журналистом в еженедельном издании «Иностранец», где Никита писал об искусстве, путешествиях, вине и еде.
Никита был невероятно открытым и свободным человеком. Еще в 1970–1980-е годы, находясь за железным занавесом, он мыслил себя гражданином мира. Куда бы он ни приезжал – на Канары или в маленькую греческую деревню, – было ощущение, что он не случайный гость здесь, а словно возвращается в знакомые места. Он мог, например, подростком изучить биографию Гофмана, а много лет спустя, приехав на родину писателя в Бамберг, провести тебя по городу как коренной житель: «Вот тут Гофман жил, здесь дверь, описанная в одной из его сказок, а там он любил пить пиво».
Не всякий путешественник может увидеть вещи, которые замечал Никита. Он разглядывал мир во всех его деталях, как будто внутренним зрением, иногда даже не успев оказаться на месте. Путешествие для него было не только поездкой по туристическим маршрутам и знакомством с историческими памятниками, но и возможностью соприкоснуться с живой реальностью во всем ее многообразии. Для него имели значение цвет травы у озера в Изборске, яркие глаза коз на альпийском лугу, вкус севанской форели, запахи, фактуры земли. Собранные вместе, подробности служили своего рода мнемоническим инструментом, позволявшим легко вызволить из памяти далекие воспоминания.
История сборника путевых очерков «Аахен – Яхрома» началась в 2009 году с организованной в Центральном доме художника выставки «Европейская мастерская», для которой Никита придумал проект. Он составил список всех мест, где когда-либо побывал, написал их названия на маленьких зеркалах губной помадой и решил вымостить из них дорожку через весь огромный зал, расположив топонимы по алфавиту. Всего набралось почти 600 географических точек. Помню, как помогала ему в реализации задуманного: на строительном рынке заказала ошалевшему стекольщику около 700 (с запасом) кусочков зеркала 10 ? 15 см, потом купила огромное количество губной помады, дотащила все это до выставочного зала и там раскладывала на полу зеркальную тропинку.
Затем Никита, как человек профессиональный, решил переработать и развить идею – так возник иллюстрированный травелог «Аахен – Яхрома». О каждом из мест он написал короткое эссе, сопроводив его графической зарисовкой. И добавил еще 16 точек на земном шаре, «где я никогда не был и вряд ли буду», которые не вошли в настоящую книгу. Никита тогда уже сильно болел, но эта работа его спасала: он каждый день садился за стол рисовать, продолжал трудиться за компьютером, набирая тексты. К лету 2010 года серия рисунков и текстов была завершена. На персональной выставке «Впечатления» в галерее GMG Никита выставил ее в виде «книги-чемодана»: заказал мастеру Илье Шевелёву короб, обтянутый кожей, и сложил в него 600 с лишним рисунков, в том числе буквицы. Тексты были записаны на маленькую серебряную флешку, подвешенную к ручке «чемодана».
В начале лета 2011 года единственный экземпляр «книги-чемодана» был продан на ярмарке неизвестно кому. Где она сейчас – неизвестно, ее следы теряются где-то в Европе. Но летом 2010 года, когда из-за смога было невозможно находиться на улице, я сидела в торфяном чаду, в раскаленном от жары помещении «Винзавода», – сканировала эти графические листы с иллюстрациями, редактировала тексты. Так удалось сохранить весь материал.
Текст никогда не издавался, и, зная Никиту как великолепного рассказчика и рисовальщика, я посчитала важным наконец его опубликовать.
`САША ОБУХОВА
А
1. Аахен
1987–1993
В первый раз на платформе HBF Aachen я оказался 14 марта 1987 года – ехал с востока на запад. Уезжал из России и не был уверен, что вернусь. По перрону Белорусского вокзала мел снег, в Восточной Польше он лежал унылыми проплешинами на сырой серой земле, после Познани поля уже зеленели, а за Ганновером на газонах придорожных садиков начали мелькать гиацинты.
Не знаю, на самом ли деле я тогда из-за угла какого-то пакгауза заметил очертания Палатинской капеллы Карла Великого. Наверно, почудилось. Наверно, очень хотелось увидеть то, что много раз разглядывал на сероватых иллюстрациях в советских книгах по истории искусства.
Палатинскую капеллу я так и не видел, хотя мимо аахенского вокзала впоследствии проезжал много раз. Париж – Кёльн – Дюссельдорф – Бохум – Бремен и обратно… Париж – Москва – Париж – Москва – Париж… В те времена железнодорожный билет стоил дешевле, чем авиационный, вот я и путешествовал по рельсам туда-сюда.
В последний раз на платформе HBF Aachen я был поздним ноябрем 1993-го. Мы с Юлей Токайе, котом Чернухой и таксой Долли возвращались в Москву. Долли стоически терпела после ранней прогулки в Венсенне, и, когда я ее часов через пять вывел на аахенскую платформу, она тут же навалила большую кучу. Усатый полицейский в серо-зеленой форме, подпиравший стену неподалеку, двинулся арестовывать и штрафовать нас, но тут паровоз дал свисток, мы с Долли вспрыгнули на порог вагона и поехали на восток.
2. Абрамцево
1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1983, 1994
О да, «Девушка с персиками» и длинно тянущиеся по темной воде речки Вори сочные зеленые водоросли. Поддельного русского стиля церковка, которую я старательно рисовал гуашью на серой бумаге. Перламутровое шелушение врубелевских майолик. Разлапистая «избушка Бабы-яги», куда хотелось забраться, хотя детство уже кончилось. Пыльно-восковой запах музея. Облака, низко плывущие в бледном небе.
Мои родители три года снимали дачу на 55-м километре, в трех километрах от Абрамцева. Я туда ездил на велосипеде по щербатой дороге, кое-где почему-то вымощенной блоками красного ясписного мрамора.
Велосипед «Спутник» подпрыгивал на рытвинах и толстенных, отполированных прохожими и велосипедистами корнях сосен – их оранжево-фиолетовые стволы уходили в небо. А я отмахивал на своем пути ветки акаций, сиявшие солнечно-желтыми цветками.
Через неделю срывал только-только созревшие стручки и, высеяв на ладонь блаженного вкуса и запаха ядра, делал «пищалки». Катил, подпрыгивая на корнях и рытвинах, отпустив руль, и пищал, будто счастливая птичка.
Колесо вихляло. Пару раз я падал и обдирал колени.
Впрочем, о подобном куда лучше написал Набоков.
3. Адлер
1963, 1983
Когда-то давным-давно я был с отчимом и мамой во Фрунзенской: это рядом с Сочи; прибыли мы туда на Ту-104 в адлерский аэропорт. Потом мы даже оттуда отправлялись куда-то на четырехместном самолете чехословацкого производства. Помню, летели вдоль берега, а сбоку стоял Кавказ. Со снегом.
Потом я попал в Адлер, наверно, в 1983 году, после московской Олимпиады. И было так.
Мы большой компанией собрались в Гюльрипш отдыхать. Самолет вылетал из Внукова рано утром, а до того мы отмечали день рождения Васи Макаревича и во Внуково приехали вовсе пьяные. Мы – Маша Порудоминская, Коля Козлов, подруга Маши, имя позабыл, и я. В самолете пили коньяк, а Коля играл на блокфлейте «Зеленые рукава».
Вообще-то мы летели в Сухуми, но приземлились отчего-то в Адлере. Было жарко и душно, очень хотелось спать. Пройдя контроль, мы ушли под тень кустов рядом со взлетно-посадочной полосой и легли на колючей южной траве – не было сил сразу ехать в Абхазию.
Я помню, что, когда засыпал, вокруг очень сильно пахло керосином. А проснулся оттого, что меня шершавым языком лизнула корова, пасшаяся на обочине адлерского тармака.
4. Ай-Георгий
1958–1996
Эта гора находится в Крыму, восточнее Судака. Она очень красива, над ней вечно тянутся облака. Между двух ее вершин, в распадке, кое-где еще видны остатки керамического водопровода, устроенного не то греками, не то генуэзцами, не то татарами от горного источника.
Он давно пересох. Вместо него была глубокая яма, до краев засыпанная сухими листьями мелкого, скукоженного ветром дуба. Мы в нее прыгали с высокого каменистого края, будто на батут, затем чихали от пыли.
И спускались к морю вниз.
5. Айн-Туффиха-Бей
2003
В крошечной бухте – ларек, похожий на русский сарайчик, где я купил бутылку сицилийской минеральной воды. Было жарко. Я попил воды, снял сандалии, потоптался вдоль прилива. Средиземное море было густого синего цвета, небо бледное, куда-то плыл – в Ливию? – огромный танкер.
6. Айос-Павлос
2002
Кафе, где мы пили фраппе (удивительное греческое изобретение – остывший растворимый кофе, взбитый со льдом), было украшено византийскими флажками с двуглавыми птичками. Было очень жарко, но чуть продувал ветерок.
Ниже нас были цитадель Фессалоник, кое-где еще облепленная хижинами, построенными, наверно, беженцами из Смирны, и чистенький монастырь, он же Православный университет. Оттуда время от времени доносились дурные вопли павлинов. Мне так никто толком и не объяснил, зачем монахи разводят этих птиц. Основная версия такая.
Павлин – символ дьявола, вот монахи и лелеют его, чтобы не забыть, как ужасна земная жизнь. Не очень убедительно, хотя езиды, которых нередко называют чертопоклонниками, действительно почитают положительного бога в виде павлина. Но это все равно туманно, как душный воздух в Салониках в августе. И где персидские манихеи, а где греческие исихасты?
Где-то далеко, на краю выгнутого морского горизонта, маячила в солнечной мгле гора Олимп.
7. Ай-Петри
1970
На юг от горы – небольшое Черное море, а дальше – Турция, прочий Левант и Африка вплоть до Антарктиды. На север – крымские степи, Дикое поле, Украина и Россия вплоть до Северного полюса. Под горой расположен придурковатый и хамоватый город Ялта. Он особенно хорош зимой, когда, если повезет, чахлые пальмы, растущие вдоль набережной, растрепанными шапками покрывает мокрый снег. Во всяком случае, я так думаю.
8. Айра
2003
Неподалеку виднелась скала Святого Павла, на которую якобы напоролся корабль, везший апостола в Рим. Рядом с пристанью стоял роскошный ярко-красный, весь в никеле, автобус Leylands, сделанный не позже 1968 года, – таких на Мальте, к счастью, еще много. На выцветшем уже весной газоне местные старички играли в странную игру вроде петанка, но не с шарами, а с металлическими цилиндрами. Наверно, в такой маленькой стране шары катать бессмысленно.
9. Акулова Гора
1965
Про этот поселок, находящийся возле станции Мамонтовка Северной железной дороги, всем известно, что когда-то там провел лето Владимир Маяковский, к которому я отношусь с большим сомнением. А я на Акуловой Горе не был с 1965 года, когда мои мама и отчим сняли на лето там дачу на окраине. Моему сводному брату как раз исполнился год с небольшим.
Странным местом была Акулова Гора: несколько трехэтажных желто-белых послевоенных домов с пилястрами, покрытыми как бы коринфскими капителями, из разряда тех, что строили пленные немцы, а вокруг обычная подмосковная не то деревня, не то дачный поселок. Сирень, лопухи, грядки с клубникой, покосившиеся заборы и чудесные кружевные березы.
В соседнем доме жил пожилой пьяница. Когда он, шатаясь, возвращался домой, из-за забора на него с громким хлопаньем крыльев вылетал роскошный петух, желтыми когтистыми лапами хватался за загривок хозяина и начинал его долбить клювом по плеши. Помню, как на медно-загорелой коже выступали рубиновые капли. Тот ругался матом, избавлялся от петуха, а когда заходил в дом, оттуда неслась брань его жены. Она держала козу, и родители покупали парное молоко, налитое в литровые мутноватые банки.
Валентин Иванович, мой отчим, часто оставался на Акуловой Горе по нескольку дней, а мама каждый день ездила в Москву на работу. В одно утро она, спеша к автобусу на станцию Мамонтовка, засмотрелась на трясогузку, бегавшую и стрекотавшую у нее под ногами. Автобус ее не дождался, уехал и минут через десять упал в пруд возле станции – погибло около пятидесяти человек. В последующие дни было страшно: почти в каждом доме (кроме наших соседей с петухом и козой) кто-то умер.
Спасибо трясогузке.
10. Александров
1968, 1984
Родители много лет снимали дачи по Северной дороге – прежде всего потому, что мама работала в издательстве «Прогресс», переродившемся из Издательства иностранной литературы, а находилось оно возле платформы Маленковская, рядом с ВДНХ, в зданиях бывшей богадельни. То есть маме удобнее было добираться до работы по этой железной дороге. Да и отчиму было не так сложно: его издательство «Искусство» тогда еще сидело в Костянском переулке, рядом со Сретенкой.
В результате сыроватая и почти таежная природа северного Подмосковья мне с детства знакома лучше, чем подмосковный юг (я потом узнал, что две климатические зоны делятся ровно посреди Москвы: Кремль – это север, а Замоскворечье – юг).
Когда мы снимали дачу рядом с платформой 55-й километр, я все время ездил на электричке то южнее (в Ашукинскую, в Пушкин, в Челюскинскую), то на север – в Софрино, Загорск. А однажды забрался далеко, за 101-й километр, в Александров. Значение термина «101-й километр» я уже приблизительно понимал. И про Ивана Грозного, после изобретения опричнины удалившегося в Александровскую слободу, читал.
Но запустение и уныние, увиденное в Александрове, меня поразило. Там был какой-то собор (кажется, XVI столетия); если не ошибаюсь, видны были оплывшие валы и старинные кирпичные стены крепости, неряшливо побеленные поверх кирпича. Сушилось белье на веревках, протянутых между покосившимися уездными домишками и гнилыми советскими бараками.
Помню, съел бутерброд, припасенный из дома, и поехал обратно на 55-й километр. А еще помню: небо было ярко-ярко синее.
Потом в Александров меня случайно занесло ночью в июне 1983-го. Вместе со Свеном Гундлахом мы выбирались из Ростова Великого, куда попали совершенно случайно. До Александрова мы доехали на странном поезде, состоявшем из двух вагонов, но следовавшем из Хабаровска. Дальше Александрова он нас не повез, там мы часа два прозябли в зале ожидания местного вокзала, провонявшем безнадежностью, а потом в пять утра появилась электричка, ехавшая почему-то не до Ярославского вокзала, а до платформы Москва-3.
11. Алкмар
1997
В Амстердаме праздновали День королевы. Моросил, как обычно бывает в Нидерландах, перелетный дождик. Мы с покойным Ко Винтерсом серьезно напились и накурились, так что утром, когда я осознал, что надо забираться в автобус и ехать куда-то, в место, называющееся Алкмар, меня начало подташнивать.
В тот раз я оказался в Голландии в качестве журналиста из газеты «Иностранец» в компании фотокорреспондента Саши Перепонова (перед тем как улечься спать накануне поездки в Алкмар, мы с ним еще пили можжевеловку-йеневер из пластмассовых коробочек для фотокассет) и дюжины туроператоров, которые в основном были несимпатичными тетками с пергидрольными – теперь это называется платиновыми? – волосами.
Утром небо было низкое и серое – ни признака эфемерной вермееровской голубизны. Лил дождь, вокруг унылые польдеры, огромный танкер проплыл над головой по каналу. Но потом началось чудо: в обе стороны от шоссе к идеально ровному горизонту узкими полосками потянулись делянки цветущих тюльпанов – ослепительно-желтые, красные, черные, белые, оранжевые, лиловые, лимонные. Они не сходились в предполагаемую евклидову точку схода, но и, вопреки Лобачевскому, не перекрещивались. Они тянулись в счастливую бесконечность.
Куда там Мондриану!
В Алкмаре – сырной столице Нидерландов, как быстро выяснилось, – были толпы туристов. Красномордые мужики квадратного телосложения им на потеху таскали на каких-то особенных носилках огромные круги сыра гуда. Что же, этот сыр я люблю – и молодой, и выдержанный.
В местном турбюро я выдернул из плексигласовой стойки буклетик и узнал из него важное. Во-первых, Алкмар – одно из первых поселений батавов в болотах, которые потом стали Голландией. Во-вторых, в XVI столетии злодей герцог Альба осадил Алкмар, но не смог его взять. С тех пор пошла поговорка: «Победа начинается в Алкмаре».
Я в это верю. Чтобы сделать хороший сыр, надо прежде долго культивировать болото, а потом не сдаваться всяким гадам.
12. Алупка
1958. И позже
В моей семье есть предание, что мой дед Степан Иванович Демакин – бастард не то внука, не то правнука того графа Воронцова (которого обессмертил Пушкин в эпиграмме про «полный будет наконец»), построившего Орлиное Гнездо, Алупкинский дворец и разбившего вокруг него роскошный парк. Так что для меня идиотская архитектура воронцовских сооружений, угнетенные крымским климатом пальмы и великолепные платаны, кипарисы да магнолии – дело родственное. Мне там мазохистски нравится.
13. Алушта
1958–2008
На редкость неприятный город. Его единственное положительное качество – то, что это первое место по пути из Симферополя на южный берег Крыма, где начинает пахнуть морем. Что там было при греках, генуэзцах и татарах – не знаю. Думаю, то же самое. Ленивые и глупые оставались в Алуште, прочие тащились дальше.
14. Алчак
1975–1996
По-тюркски Алчак значит «низкий, подлый». Но я люблю эту округлую, низенькую горку, с востока замыкающую Судакскую бухту. Там камни, загоревшие на протяжении веков, магический запах полыни и чабреца, а в конце апреля, если повезет, можно увидеть не только алые грозди горицвета, низенькие южные дикие ирисы, но и горные пионы. И ничего подлого мне Алчак не сделал. Он мне позволял стоять на его покатой спине и смотреть вперед – в море, назад – на гору Ай-Георгий, на восток – в сторону мыса Меганом и на запад – на крепостную гору и твердый, умный лоб горы Сокол.
15. Амстердам
1991, 1997
Я плохо знаю этот город, хоть и бывал там несколько раз. Ну да, каналы и велосипеды, витрины с проститутками и квартиры на первом этаже с окнами без занавесок, выглядящие как мебельные магазины. Только отчего-то на диване сидит человек и смотрит телевизор.
При этом я себя в Амстердаме всегда чувствую хорошо. И музеи там превосходные. Однажды мы с Мариной Черниковой стояли в Рейксмузеуме перед «Ночным дозором» – картиной, которая, как мы сейчас знаем, вовсе не изображает ночную уличную сцену. Просто за века полотно заросло грязью, а отчистили – оказалось, Рембрандт рисовал день.
Марина сказала умную вещь: «Знаешь, почему Рембрандт – великий живописец? Я знаю, я в Голландии уже много лет живу. Здесь трудно поймать свет. Здесь нет ни лета, ни зимы. Солнце выглянет, и тут же снова небо затянут тучи. Рембрандт пытался успеть дописать картину, но боялся, торопился, старался запомнить свет и цвет и в потемках потом дорисовывал свои чудеса».
А в другой раз я стоял на Принсенграхт, кажется, и смотрел на мутную воду, пахнувшую, как мне помнится, прокисшим гороховым супом. Тут рядом уселась на придорожную тумбу здоровенная морская чайка, заорала дурным голосом. И взглянула на меня кровянисто-янтарным глазом. Он был совсем как отражающие потемки жемчуга на картинах Рембрандта.
16. Анакапри
1999
Мы с Сашей были на Искье в начале октября – прекрасное время для юга Италии. Уже не жарко, но и до зимней промозглости еще далеко. Сплавали на Капри, а через пару дней захотелось вернуться туда, особенно чтобы подняться на Монте-Соларо и полюбоваться оттуда панорамой Неаполитанского залива.
Утро было прохладное и солнечное, великолепно пахли лимоны в садике нашей гостиницы. Мы пришли в порт, и в кассе нам сказали: «Вы что? Какой Капри? Это здесь, в гавани, тихо, а в море черт знает что, шторм. Нет, на Капри сегодня никто не поплывет». Расстроились и уселись за столиком кафе – мороженое, что ли, есть. На горизонте на самом деле крутились страшные черные тучи. И тут мы увидели: у причала стоит маленький кораблик с надписью «на Капри» и люди на него поднимаются. Мы вприпрыжку побежали, еле успели. Когда вышли в море, стало ясно: действительно шторм. Саша успела спуститься с палубы вниз, в салон-трюм, а я испугался, что рухну со страшно крутой лестницы, и вцепился в поручни, будто обезьяна. Так час и висел на них: обливало соленой холодной водой, било в физиономию жестким ветром. Из трюма вылез матрос, попытался спасти и понял, что это опаснее, чем оставить дурака-straniero там, где он оказался. Потом меня треснуло боком о поручни – наверно, я заработал трещину в ребре.
Когда приплыли в Марину Гранде, распогодилось. Мы поднялись в городок Капри, ребро болело ужасно, но сияло солнце. Сели в маленький автобусик, поехали наверх, в Анакапри («над Капри»). Оказалось, что фуникулер на вершину Монте-Соларо не работает. Мы задумались, стоит ли идти смотреть главную достопримечательность Анакапри виллу Сан-Микеле, построенную норвежцем Акселем Мунте на руинах чего-то римского, и решили, что не надо. Вместо этого пошли в местную церковь, и оказалось, что не зря: там под ногами был восторг. Желто-сине-зелено-белый кафельный пол, изображающий земной рай.
Львы, лежащие рядом с ланями, лимонные деревья, обвитые змеями, кудрявые облака, звезды и порхающие меж ними птицы, веселые собаки, немыслимого вида крокодилы и полосатые, будто тигры, кошки. Или это тигры и были?
Повезло нам удивительно. Откуда мы знали, что в Анакапри есть такое чудо?
Спускались мы в Капри по крутой, многомаршевой Финикийской лестнице. Было красиво, ребро болело. Построенная почитателями Ваала и Астарты лестница нас привела прямо на улицу Трагара – тоже зрелище. Длиной метров сто, застроена низенькими крестьянскими домами, и в каждом магазин, как в Нью-Йорке – Лондоне – Париже – Токио – Милане. То «Вьюттон», то «Кавалли», то «Эрмес», то «Прада», то «Картье», то «Версаче» с кроссовками со стразами, или пуще – художественные галереи с Шагалом и золочеными скульптурами Дали. И толпа американских и японских туристов.
Мы пошли вниз, в Марину Гранде. И снова налетели тучи. Только уселись на террасе кафе что-то выпить в ожидании кораблика на Искью, как полил жуткий дождь, а ураган разыгрался такой, что зонтики попадали, пластмассовые стулья полетели в море. Спрятаться в кафе не было возможности: его хозяева почему-то всех выгнали вон и опустили железные занавеси. Мы прятались в соседнем магазинчике – ликер Limoncello, фаянсовые лимоны, луны и солнца, открытки с видами Капри и Анакапри, лимоны из марципана – в компании пожилых британцев, щебетавших на королевском английском о причудах погоды.
А потом снова прояснилось, и мы поплыли на Искью.
17. Андреевка
2008
Мы – Оля Лопухова, Андрей Филиппов и я – были в Бахчисарае, проводили рекогносцировку для выставки «Плененные Бахчисараем», закончившейся глупым провинциальным скандалом. Захотелось на море, и мы думали, куда ехать – в ближайшее Угловое или чуть дальше, в Андреевку? Угловое – место унылое, поэтому решили отправиться в Андреевку. Тем более что одного из нас звали Андреем.
Юго-западное побережье Крыма скучно. Это плоский берег с глинистыми буграми, санатории и пансионаты мерзкой брежневской архитектуры и дуроватые отдыхающие, по большей части из Донецка и Днепропетровска. Раньше в эти места они попадали по бесплатным путевкам, полученным в профсоюзах и парторганизациях оборонных заводов, теперь – по глупости и от безденежья. Они рады бы были попасть в Анталью, но надо же куда-то детей отвезти покупаться и подышать морским воздухом!
В конечном счете они совершенно правы.
Андреевка оказалась много лучше Углового. Там было зелено, за куртинами темных тополей, каштанов и акаций белели и розовели, будто испуганные нимфы, дома с кудрявыми пилончиками, карнизами и аттиками – той же архитектуры, что в Москве на Хорошевке когда-то под присмотром советских архитекторов строили немецкие пленные.
И на берегу оказалось хорошо. Пусто. Дул свежий западный ветер из Стамбула, а кисленькое вино «Жемчужина Инкермана» вполне соответствовало Андреевке.
18. Анже
1997
В Анже я был проездом. Но помню тихую речку Мен и огромную крепость с полосатыми черно-бело-красными башнями. А вот «Ковер Апокалипсиса» я не видел – не удосужился, не успел пойти в музей. Жалко. Вместо этого полчаса проторчал на берегу речки, глядел на тростник и на изумрудные водоросли, тянущиеся по течению.
В Анже когда-то жил в свое удовольствие Добрый Король Рене, суверен Неаполя, Двух Сицилий, граф Прованса и Анжу, а вдобавок – король иерусалимский. Вообще-то Рене был только титулярным королем, еле-еле сохранил под своей рукой кусочек Анжу, но при нем начал зреть тот французский язык, на котором потом сочиняли Вийон и Ронсар, а анжуйские виноделы достигли таких высот, что французы теперь не знают, как правильнее писать о вине из Анжу: angevin или раздельно – ange vin. Что, конечно, противоречит французской грамматике.
Так ведь и Паскаль тоже родился по соседству. Ну а водоросли – они были совсем такие же, на первый взгляд, как в речке Воре, под Москвой.
19. Арава
2000, 2003
Жара была жуткая. Такая, что все за окном автобуса дрожало как студень. Проехали Иерихон, замаячила Иордания и иссохшие камыши по берегу Иордана. Кумранские скалы лезли в пустое небо клыками мертвой челюсти.
Наш автобус обогнал джип с солдатами: как они, в бронежилетах, с раскаленными автоматами, могут это выдержать? Мы с Даней Филипповым вышли из кондиционированного автобуса на берег Мертвого моря. Это был ветер? Наверно. Но больше было похоже на удар по голове подушкой, раскаленной на сковороде. Волны горячего воздуха гоняли по берегу пластмассовые стулья. Те, что унесло в воду, болтались на поверхности вверх ножками. Мы полезли купаться в желеобразную воду, и я, как все до меня, почувствовал себя совершенно по-идиотски.
Ясно: сиди в этой жиже как в шезлонге, но ни в коем случае не трепыхайся, а то слезами изойдешь. Грязь смыли и поехали дальше в сторону Красного моря, мимо Гоморры и Содома.
Во второй раз в Араве я оказался с Сашей. Было прохладно, даже цвели какие-то бледные белесые цветочки, наподобие асфоделей. Или это и есть лилии полей? Ветра не было, купаться не хотелось. Вышедший вместе с нами из автобуса юный французский еврей спросил, не знаем ли мы, как идти в Масаду.
Зачем этот вопрос – не знаю. Рядом висел знак, указывающий, что Масада там – направо и вверх. Наверно, он считал, что еврейский героизм в Израиле повсюду, и не мог найти азимут. Мы с Сашей подумали, не пойти ли нам тоже в Масаду. Решили, что нет. Во-первых, лень было карабкаться в гору, а во-вторых, коллективное самоубийство все же не повод для туристского любопытства.
И поехали обратно в Иерусалим.
20. Арагац
2001
В тот раз я попал в Армению по поводу 1700-летия принятия христианства: отправился туда с фотокорреспондентом «Иностранца» Наташей якобы делать репортаж. Летели мы колоритно – на Ил-86, нанятом Союзом армян России и груженном под завязку разным народом. Там были: очень богатые армяне, небогатые армяне, несколько депутатов Госдумы, какие-то российские чиновники и парочка православных священников. Богатые армяне и приближенные к ним лица начали подогревать свои чувства по поводу путешествия в Армению коньяком (не армянским, а французским) еще в Шереметьеве. Прочие пили что могли. В аэропорту Звартноц почти все выгрузились сильно пьяными. Встречали нас красной ковровой дорожкой и духовым оркестром. Попутчиков мы с Наташей увидели снова, когда летели обратно, – они присмирели.
Переночевали мы у Сусанны Гюламирян, а с утра художник Артак Погосян вызвался повозить нас по окрестностям Еревана. Мы залезли в разбитые «Жигули» и сначала поехали в Хор Вирап, полюбовались монастырем, который я очень люблю, посмотрели на Арарат, дрожавший в жарком мареве, и на турецкую границу. Заглянули в Арташат, вернее, в деревеньку на его окраине.
Потом Артак повез нас в сторону горы Арагац. Добрались до крепости Амберд – очень красиво, особенно хороша строгой и элегантной архитектуры церковь, стоящая на краю головокружительной пропасти.
Далее он предложил отправиться вверх на Арагац – там вроде бы где-то высоко есть озеро, куда можно доехать на машине. Он там никогда не был, но слышал – места фантастические. По разбитой дороге начали карабкаться в направлении неба, «Жигули» хрипели и возмущенно тряслись.
Потом закипел мотор. Пока он остывал, пошел снег. Мы двинулись дальше, оказались на узкой перемычке между двумя отрогами – с обеих сторон склоны под семьдесят градусов, лети да лети, – и уперлись в колдобину, пересечь которую можно только на БТР.
Стало ясно, что до горного озера мы не доберемся, надо возвращаться. Артак предложил нам выйти из машины, но мы заявили, что если погибать, так вместе. Он зверским образом развернул дряхлый автомобиль (несчастный мотор надсадно взвыл, камни из-под колес посыпались в пропасть – прямо канал Discovery), и мы покатили вниз.
В очередной раз повезло.
21. Аржантёй
1997, 2002, 2004
Сейчас там не осталось ничего, что было при импрессионистах и Сера, – никто уже не купается в Уазе. Обычный пригород, населенный парижанами средневысокого достатка. Соответственно, мало арабов и блэков, живущих в соседнем Сен-Дени в многоэтажках, много адвокатов, врачей, торговцев антиквариатом, инженеров, чиновников в ранге столоначальников и менеджеров по продажам, трудящихся в больших компаниях.
Скука.
Это – претендующие на разнообразие, но удручающе однообразные двухэтажные особнячки-«павильоны», отгороженные от улицы заборчиками из кованого железа, и аккуратные палисадники с буксом, шиповником, жимолостью и туями.
За каждым павильоном – узенький длинный садик, огороженный увитой плющом стеной из аккуратно дикого камня. Обязателен крошечный пруд, иногда с фонтанчиком, несколько яблонь и вишен, качели для детей и парочка грядок с чабрецом, тмином, кудрявой петрушкой и морковкой – чтобы радоваться своей, а не купленной в супермаркете зелени.
Я вряд ли попал бы в Аржантёй (бывал в десятке подобных пригородов), если бы там не жили некоторое время моя приятельница Пакита Миро-Эскофе и ее дочки-красавицы Настя Блинова-Миро и Ева Латышева-Миро. У Пакиты тоже был забор из кованого железа, букс и жимолость, грядка с чабрецом, качели, прудик и две старые яблони. Но еще у нее в саду цвела магнолия, оставшаяся от предыдущих хозяев, а по стенам в доме были развешаны картины русских художников из ее коллекции.
Например, великолепная маленькая картинка Бори Матросова с кривым-косым деревенским забором и его же «Комната повешенного».
В том и дело, видимо, что современный Аржантёй, над которым легко издеваться по антибуржуазным причинам, ничем не хуже того, что было, есть и будет. Не исключено – даже лучше.
22. Аркашон
1999
Ниже Жиронды берег Бискайского залива тянется монотонной прямой линией до самого Сан-Себастьяна. Только в Аркашоне он вдруг образует глубокий, почти замкнутый залив.
Мы отправились в Аркашон из Бордо, это недалеко, около шестидесяти километров. В Бордо было солнечно; когда приехали к океану, моросил дождь, по небу неслись низкие серо-синие облака. На волнорезе девочка в ярко-желтой пластиковой накидке, борясь с прихотями ветра, запускала желтого воздушного змея – он все время норовил упасть в море.
В конце концов змей все же плюхнулся в волны, девочка его выудила, как большого ската, стряхнула воду и побежала к родителям, выгуливавшим на берегу косматого ньюфаундленда.
Потом мы ели в ресторанчике восхитительных устриц, крошечных рапан – забыл, как они называются по-французски, – ракушки coque, мидии, морских ежей, лангустин и мелких серых креветок, запивали прохладным белым бордо.
23. Арланда
1990
Интересно, по-шведски Arlanda – это то же самое, что Air Land? Со шведов станется, если они свой главный автомобиль назвали «Вольво», что на языке Цицерона значит «качусь». Почему бы свой главный аэропорт не назвать «страной воздуха»? В Арланде я оказался, когда еще совсем плохо знал другие европейские аэропорты. Но именно там я задумался о том, что аэропорт – очень ясный символ страны. Шереметьево – это действительно Россия, Мальпенса – Италия, а Руасси – Франция.
В Арланде было как в фильмах Бергмана. Или так показалось. Скорее, показалось. Там было просторно, деловито и очень прохладно. Пограничник, взглянув на мой советский паспорт и французский вид на жительство, спросил, зачем я прибыл в Швецию. Я пожал плечами и ответил, что просто так. Он тоже пожал плечами и шлепнул печатью.
24. Арнея
2002, 2003, 2006, 2007
В этом чистеньком, уютном, пахнущем медом городке в Халкидиках мы останавливались каждый раз на пути в Девелики или возвращаясь в Салоники. Чтобы запастись продуктами, но главное – полюбоваться.
Арнея лежит в долине между зеленых даже в августовскую жару, прохладных, хотя и невысоких гор. Их склоны заставлены разноцветными ульями, и это дает любопытный оптический и ментальный эффект: вблизи понятно, что смотришь на фанерные коробки, выкрашенные в голубой, белый, зеленый, желтый, красный, лиловый, оранжевый цвет; вдали они обманчиво глядятся цветочками – и какого же размера должны быть пчелы, сосущие их нектар?
На маленькой главной площади Арнеи почти во всех домах «захаропластейоны», то есть кондитерские, где торгуют медом разных видов, фруктами, сваренными в меду и восхитительными пирожными, сделанными с молоком буйволиц и медом. Аромат горного меда пропитал охристый известняк, из которого сложены дома Арнеи, жужжат пчелы, а посреди площади стоит огромный древний платан.
Из-под его корней бьет родничок, к стволу на длинных цепочках приделаны две металлические кружки, чтобы каждый мог напиться. Как вкусна эта вода!
А на скамеечке в тени дерева вечно сидят два усатых старика в черных костюмах и белоснежных сорочках, смотрят на приезжих и перебирают четки-коболой. Это одни и те же старики или разные? Не знаю.
25. Арташат
2001
Артак повез нас в Арташат – у него там был знакомый, который объяснил бы мне разницу между монофизитами и монотелетами. Мы три раза прокатились по одним и тем же пыльным улицам, застроенным социалистическими блочными бараками, выцветшими от лютого армянского солнца. Тут он понял, что забыл адрес. И мы поехали в соседнюю деревню. Ее название, к сожалению, я не запомнил.
Там увидел, как пекут в тандырах лаваш, и это оказалось важнее, чем тринитарная теология.
Где я, где богословие, где плоский хлеб, где мои плоские мысли?
В низенькой кухне земляная печь излучала невыносимый жар; в полутьме, пересеченной снопами солнечного цвета, золотыми искрами плясала пыль. Толстенькая женщина в черном платье шлепала лепешки теста на стенку тоныра, вытаскивала оттуда готовый хлеб и укладывала его в деревянный ящик из-под голландских помидоров, устеленный соломой.
При чем здесь помидоры из Нидерландов, при чем божественная воля и природа? Только при том, что видеть, как пекут лаваш, и тут же его есть – прямой путь к блаженству.
А блаженство есть блаженство есть блаженство есть блаженство есть блаженство…
26. Архангельское
…–1989
Сколько себя помню, бывал в Архангельском. В детстве часто: там лечились время от времени в военном санатории мои дедушки – генерал и адмирал. Папа и мама их навещали и возили меня с собой. Подростком несколько раз туда ездил на этюды – пытался рисовать аллеи парка. Потом в Архангельское я попадал реже, но это было тем более интересно. Я начал понимать, какие молодцы были наши магнаты екатерининских времен, если построили себе загородные дворцы вполне европейского качества.
Да, архитектура – вторичная, не Ренн и братья Адам. Театр в Архангельском – не палладиевский Олимпико в Виченце. Картинная галерея – не хуже, но и не лучше, чем у Дориа-Памфили в Риме. Так ведь до Шереметевых и Юсуповых в России ничего подобного вообще не было.
Потом в Архангельское приезжал раз лет в пять. Последний – в конце 80-х, зимой, было страшно холодно. От парковых скульптур, спрятанных в ящики, по снегу тянулись ослепительные тени. Дворец был закрыт на ремонт.
Я все собираюсь снова побывать в Архангельском.
27. Аштарак
2001
Там мы оказались с Артаком. Он заявил, что надо обязательно посмотреть в Аштараке три древние церкви: Циранавор («Пурпурная»), Спитакавор («Белая») и Кармравор («Красная»), – но уточнил, что видел их давным-давно и мало что помнит.
Церкви оказались хоть и полуразрушенные, но отличной архитектуры (как большинство старинных армянских церквей) и внушительного размера. Куда интереснее, что все три были приблизительно одного темно-серого цвета, ничего пурпурного, белого и карминного не виднелось. Возможно, из-за того, что под слепящим солнцем все теряет цвет. О нем можно только думать.
В Аштараке я подумал, кроме прочего, о вине «Аштарак», похожем на херес. Недаром Микоян в «Книге о вкусной и здоровой пище» рассуждал об «особенном хересном направлении армянского виноделия». Это вино я с удовольствием пил в юности, впоследствии распробовал настоящие хересы и амонтильядо из Андалусии. «Аштарак» рядом с ними – вполне достоин. Думаю, потому, что в Андалусии наверняка такое же безжалостное солнце, как в Армении; история этих двух стран, как ни парадоксально, имеет много общего, так что синтез горечи и сладости вполне естественен и для танцующих фламенко, и для играющих на дудуке.
28. Аю-Даг
1958–2008
В Крыму я бывал с раннего детства, сначала – на Южном берегу. Следовательно, я не мог не запомнить очертаний мыса Аю-Даг, он же Медведь-гора. Он и правда похож на сонного медведя, уткнувшегося носом в бесконечное время. Конечно, это самая гармоничная по форме из прибрежных Крымских гор.
Много позже я влюбился в эту гору еще и благодаря ее названию – нелепому смешению (как в конечном счете нелепа вся история Крыма) греческого и тюркского языков.
Назывался бы этот мыс Куцали-Даг или Айос-Орос, все было бы, так сказать, нормально. Но Аю-Даг тем и отличается от Святой горы, то есть Афона, что там нет хотя бы сколько-нибудь внятных следов христианской святости. Откопали вроде бы нищие руины храмиков времен Иордана Готского и кесаря Феодосия – ну и что?
Мусульмане не имели обычая строить места поклонения вдали от городов и сел. На Медведе следов читателей Корана еще меньше, чем христианских. Почему же для крымских татар эта гора Hagios?
Возможно, святость горы восходит к эллинским временам? Это убедительно, ведь древние греки относились к медведям с большим почтением. Но и следы тех, кто придумал «комедию», «медвежью песню», на Аю-Даге стерлись давным-давно.
У меня есть странное предположение. Аю-Даг свят по эстетической причине. Его очертания, увиденные и с востока, и с запада, все время хочется вспоминать и рисовать.
Б
29. Бабин
1977, 1978, 1979
Подниматься в эту маленькую деревеньку надо от предместья Косова, перейдя речку Рыбницу по вихляющемуся подвесному мосту. Потом разбитая глинистая дорога, на которой кое-где торчат лбы отполированных валунов, круто идет вверх, и неба не видно в густом, серебряно-мшистом буковом лесе. По обочине – лисички, рыжики, маслята, белянки, иногда золотые цесарские грибы и, если очень повезет, «баранчик», похожий на аллонжевый парик времен императрицы Марии Терезы.
А потом лес раскрывается пологим и широким зеленым склоном. На нем – дюжина деревянных хат и церковь, будто построенная японцами, случайно перенесенными в Карпаты. Она похожа силуэтом на грибы, обступившие обочину дороги в Бабин, и одновременно – на древнейшие синтоистские храмы. А внутри церкви – чудесное тщание гуцулов. Деревянные стены завешаны килимами со строгими геометрическими узорами. На алтаре – деревянная утварь. В бабинской церкви я впервые увидел потир, выточенный из дерева. Идеальной аскетической формы и гениально украшенный умными народными узорами. Зато какие рипиды, прислоненные к входу в сакристию! Тоже деревянные, но как щедро они покрыты позолотой, и такие пухлые щеки, такие кудрявые волосы у херувимов, улыбающихся из их сердцевин!
На обедне женщины стояли в бабинце, отделенном от средокрестия, как в синагоге, аркой, трогательно расписанной зверями, цветами и ангелами. Празднично наряженные мужчины тяжело смотрели на выстроившихся у алтаря юношей и отроковиц в пионерских галстуках, державших в руках рипиды, словно переходящие знамена.
От церкви виднелась долина Рыбницы и противоположный склон с высаженной из маленьких елочек надписью: «Слава КПРС». С каждым годом деревца подрастали, буквы смазывались – и через два года уже почти не читались.
30. Бадачонь
1998
В путеводителях пишут: «В Бадачони полно пьяных австрийцев». И это правда. Будь я австрийцем, тоже ездил бы в Бадачонь, благо близко. От Москвы туда – как до Перми, а от Вены рукой подать. А вино, безусловно, не хуже, чем с лучших австрийских виноградников и, что важно, – дешевле.
И пейзаж странный. Способствующий этилическому*** блаженству. Под ногами – болотистое озеро Балатон; галдят чайки, низко тянутся с востока пышные облака. За спиной – причудливого вида конические горки, подпоясанные спиральными террасами виноградников.
Счастью Бадачони благоприятствовало – это касается и меня, и австрийцев, и прочих приезжих – то, что мадьярский язык, звучащий в паузах между немецким, русским и английским, герметичен, будто закупоренная бутылка вина.
Венгерское вино способен оценить любой любитель. Венгерский язык – достояние знатоков.
Я не могу понять, как мадьярам удалось сохранить в европейской бутылке свои немыслимые падежи и идиомы.
31. Балабаново
1971
У меня есть повторяющийся сон: я попадаю в Балабаново. Причем это Балабаново оказывается всякий раз другим. То это гористая местность, то морской берег, то что-то отдаленно похожее на настоящее Балабаново, а то и вовсе нечто несусветное. Снится мне этот поселок, расположенный километрах в ста к юго-западу от Москвы, – до него надо доехать по Киевской железной дороге, если направляешься в Боровск.
В Боровске я был больше сорока лет назад. А про Балабаново почти ничего не помню, ведь раза три провел там минут по десять – двадцать в ожидании автобуса в Боровск или электрички в Москву.
Пыльная пристанционная площадь. Какая-то фабрика, спичечная, что ли? Магазин с обычным тогда набором: хлеб, сахар, соль, спички, водка, портвейн, запыленные шоколадные конфеты, кильки в томате. Кудлатая собака, валяющаяся в тени возле магазина. Вот и всё.
32. Балаклава
2008
До конца советской власти Балаклава была наглухо закрытым военным городом, базой подводных лодок. В Севастополь можно было попасть только со специальными документами, а в Балаклаву, кажется, вообще не пускали. Так что я там оказался совсем недавно.
Странное место. Узкая, похожая на фьорд бухта, стиснутая щербатыми скалами. Улица, тянущаяся вдоль берега, сейчас напоминает какой-нибудь не слишком процветающий средиземноморский курорт. Дома (построенные и в начале прошлого века, и в советское время) по большей части уже аккуратно отремонтированы, хотя некоторые еще стоят в запустении. Несколько вилл, принадлежавших русской знати – Юсуповым и кому-то еще, – почему-то ветшают до сих пор.
Толпы туристов и дюжина кафе и ресторанов возле гавани. В одном из них мы ели очень вкусных барабулек. Гавань – вполне себе «марина» в Греции или Хорватии, с парочкой роскошных яхт. Одна, кажется, принадлежит украинскому президенту.
После обеда катались на катере по бухте, потом выплыли ненадолго в открытое море. На вершине одной из скал виднелись руины крепости, когда-то поставленной генуэзцами. С воды-то и видна во всей красе военно-морская база, построенная в Балаклавской бухте, – чудовищное, фараонское зрелище. Бетонированные зевы огромных туннелей, уходящих на километры вглубь скальной породы: они должны были выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Не знаю, есть ли еще где-то на свете курортный поселок с такими декорациями.
А прямо над туннелями строилась отвратительная многоэтажная гостиница, и ее ребристый остов делал балаклавский пейзаж еще страннее.
33. Балатонфюред
1998
В этом курортном городке, где лечат болезни сердца, я пробыл с полчаса и запомнил только извилистые гостиницы в духе югендстиля да старую липу в городском саду, которую когда-то посадил лечившийся тут Рабиндранат Тагор. В честь этого к стволу приделана памятная табличка на хинди, венгерском и английском. Интересно, читает ли кто-то Тагора? Я, к сожалению, не читал ничего.
34. Балмакаан
2002
В конце 60-х валлиец Иэн Эванс вроде был многообещающим молодым писателем в стиле фэнтези. В решающий день (то ли галлюциногенами злоупотребил, то ли всегда имел склонность к мистическим призывам) ему был голос, сообщивший: «Брось Лондон, брось все, отправляйся в горную Шотландию, там будет хорошо». Иэн так и поступил. Добрался до поселка Драмнадрохит на берегу Лох-Несса, залез на гору, стоящую над Драмнадрохитом, и там, в урочище Балмакаан, обнаружил несколько заброшенных домов. Он спросил у местных властей, может ли там поселиться. «Да ради бога, хутор выморочный, там уже лет пятьдесят никто не живет».
Иэн привел один из домов в более или менее обитаемый вид, разбил огород, постепенно вокруг него собралось что-то вроде коммуны.
Мы туда попали с Ирой Падвой, когда путешествовали по Хайлендс, благодаря ее дочке Альбине, учившейся в Эдинбурге и побывавшей у Иэна годом раньше.
Болотистый выгон на вершине пологой горы, вокруг лес. Четыре дома, сложенные из гранитных блоков. Капуста, морковь, картошка на огороде. Куры в курятнике. Сарай, набитый ржавыми железками, возле него десяток покореженных автомобилей, в том числе «Роллс-Ройс» времен юности королевы Елизаветы, переделанный в грузовик. В главном, огромном доме живут похожий на лешего Иэн, его явно сумасшедшая жена-художница (в галерейке в Инвернессе мы видели ее выставку, картинки несколько напоминают Чюрлёниса) и их страдающая аутизмом дочка-подросток. Есть электричество, но нет ни радио, ни телевизора, не говоря о компьютере. Имеется старый проигрыватель и стопка пластинок 60–70-х годов. Чугунная угольная печка и рычащий антикварный холодильник. Холод страшный; хотя была весна, все ходили в нескольких парах шерстяных носков, укутанные в пледы.
В соседнем доме обитает пара, занимающаяся изготовлением довольно красивой керамики, которую изредка покупают туристы, поднимающиеся из Драмнадрохита. В двух других – какая-то полоумная старушка и вполне вменяемая девица неясного рода занятий. Каждое лето приезжает в отпуск профессор-музыковед из Кембриджа, старый приятель Иэна, и проводит время в шалаше, который построил себе на огромной сосне в лесу. Исследует пение птиц.
Постоянное население Балмакаана живет, как я понимаю, наполовину натуральным хозяйством, наполовину на пособия на грани полного нищенства. Альбина сказала захватить им гостинцев. Мы прибыли с несколькими пачками печенья, блоком сигарет, бутылкой виски, еще какой-то снедью, и хозяева были искренне рады, но не интересовались, кто мы такие и зачем появились. Снова заехав в Балмакаан на следующий день, и не с пустыми руками, уже Иэн и его жена угощали нас вкуснейшим оленьим окороком – подарил какой-то драмнадрохитский охотник.
Жители поселка к Иэну и его племени относятся по-разному. Одни считают то ли колдунами и последователями опасной секты, то ли просто выродками, другие, наоборот, всячески опекают.
Мы пытались выведать, почему они решили жить такой жизнью. Спасаются от цивилизации? Ищут истины у природы на манер Генри Торо? Придерживаются какой-то особенной веры? Иэн ответил: «Да жить-то тут хреново. Вы бы здесь зимой в этой природе посидели… И веры у нас никакой особенной нету. Так, живем, и всё…» Помолчал, пожевал пустоту гнилыми зубами и добавил: «А все равно хорошо».
35. Банска Быстрица
1998
Маленький чистенький городок в центре Словакии, посреди невысоких гор. Бежит быстрая речка. Барочная церковь на горбатой, мощенной крупной галькой площади, а перед ней – непременная «чумная колонна» со статуей Девы Марии, поставленная в благодарность за избавление от мора в XVII веке, какие повсеместны в Чехии, Словакии и Венгрии. Неподалеку современный монумент, сооруженный в честь того, что Банска Быстрица – это географический центр Европы. Такой же памятник я видел в Венгрии и, кажется, где-то еще.
36. Банска Штявница
1998
Что представляет собой Банска Штявница, расположенная километрах в пятидесяти от Банска Быстрицы, почти не помню. Кажется, я был там в маленьком краеведческом музее с окаменелостями и чучелами. Еще на крышах многих домов в этом городке красовались аистовые гнезда: великолепные птицы высовывались оттуда и щелкали клювами. Меня поразило, сколько аистов в тех краях…
Где-то рядом с Банска Штявницей мы заехали в удивительно красивую, идиллическую деревеньку: побеленные дома, расписанные голубыми и красными розами, аисты на соломенных крышах, раскормленные гуси на улице, яблоки, груши да абрикосы, зреющие в садах. Мы зашли в один из домов – уже не помню зачем, наверно, наш водитель Штефан Мадярич посоветовал, – нас радушно приняли хозяева, старик и старушка, угостили галушками с брынзой и ветчиной и абрикосовой палинкой. Деревенские словаки вообще на редкость дружелюбные люди. Я у них купил себе и Саше две пары черно-белых вязаных носков, какие здесь испокон века делают из двух видов шерсти. Белая происходит от местных белых овец, а черную везут из-за гор, из Польши, где стада черные.
А потом мы поехали в знаменитую пещеру. Чтобы попасть в нее, пришлось полчаса карабкаться по крутой тропинке в гору, однако это того стоило. Я не бывал в других знаменитых пещерах, сравнивать не могу, но эти сталактиты и сталагмиты, мелодичный звук падающих капель и совсем другой, чем снаружи, воздух не портила даже дурацкая зеленовато-розовая подсветка.
37. Барвиха
1957, 1979
Когда-то, меня еще на свете не было, мой дед-генерал, выйдя в отставку, начал строить дачу в Барвихе, но не достроил: деньги кончились. Когда я был совсем маленький, бабушка и дедушка одно или два лета дом там снимали. Выезжали мы на дачу основательно. На грузовике, кузов которого был набит подушками, матрасами, кастрюлями, изумительным бабушкиным тазом для варки варенья, сиявшим как солнце, везли керогаз, книжки, постельное белье и столовую посуду.
Эта детская Барвиха мне запомнилась как идеальная деревня с козами, курами и утками. Потом я там не бывал очень долго, а в конце 70-х с друзьями почему-то оказался на даче, когда-то принадлежавшей Алексею Толстому, где продолжали жить его наследники. Это был обветшавший просторный дом с остатками былой роскоши – какая-то антикварная мебель, картины на стенах, которые я не запомнил. Друзья шепнули: «Хозяйка – дочь Берии и очень от этого мучается».
С тех пор я только несколько раз проезжал мимо Барвихи и про роскошь, процветающую там ныне, знаю из обыденных историй насчет жителей Рублевки. А из журнала «Арт-хроника» выяснил недавно, что бывшей дачей Алексея Толстого теперь владеет Петр Авен, с которым я когда-то был знаком, – жили в одном доме на улице Дмитрия Ульянова, там же, где Миша Рошаль и Никола Овчинников.
38. Бардеёв
1998
В этот городишко, про который я ничего раньше не слышал, мы заехали по дороге в Медзилаборец и деревню Микова, оттуда родом отец и мать Энди Уорхола. Остановились на пустынной площади, и я изумился. Не ожидал увидеть в восточном углу Словакии что-то подобное. Площадь застроена ренессансными зданиями, отдаленно похожими на те, что позже я встречал на севере Италии, в Тренто. С пышными портиками и остатками фресок. Те дома, где росписи не уцелели, выкрашены в веселые цвета. Да, все это провинциально, но тем и приятно. Местный готический собор Святого Эгидия – очень сдержанный, ясно прорисованный – действительно хорош, как и его готические алтари.
И странно, почему-то ни души. Я зашел в пивную на углу площади – там тоже пусто, только муха гудела – и выпил отличного местного пива «Шариш». Поехали дальше.
Позже я узнал, что город Бардеёв весьма старинный, что в XIV столетии венгерский король Карл Роберт Анжуйский пригласил сюда немецких купцов и ремесленников из Силезии, благодаря которым город процвел и стал одним из главных торговых пунктов на пути Запад – Восток. Потом пришла пора упадка, и неудивительно, что мало кто ныне что-то знает о Бардеёве. А место милое, вернуться бы туда.
39. Бар-лё-Дюк
1987
Вскоре после приезда в Париж я познакомился с молодым художником, имени которого не помню (Андре? Анри? Арно?), по фамилии Пуассон-Кентен. Он был сыном, как мне сообщили, знаменитого когда-то психиатра-альтернативщика Пуассон-Кентена, лечившего пациентов не аминазином, а кокаином и марихуаной. Недавно я попытался узнать, был ли такой психиатр во Франции, похоже – не было. Возможно, это аберрация сознания. Но я же точно знал этого молодого художника, одетого, как положено было в конце 80-х, в куртку-бомбер, рваные джинсы и ботинки «мартенсы»?
Я тогда совсем плохо говорил по-французски и, когда Пуассон-Кентен меня при первой встрече спросил, знаю ли я Анди Вароль, выставку которого (которой) он недавно видел, честно ответил, что не знаю. Секунды через три до меня дошло, что речь идет об Энди Уорхоле, но мой знакомец остался при убеждении, что я и есть образец тупого ruskoff, про Варолю не слышавшего благодаря козням кажебистов, засевших за железным занавесом.
Берлинская стена еще вполне стояла.
При этом он придерживался, как положено было, коммунистических убеждений, но говорил, что во Франции настоящих коммунистов нет, одни фашисты.
Художник он был, по-моему, безнадежный. Делал большие коллажи из страниц бесплатных журналов, а потом их замазывал гудроном.
Как бы то ни было, у меня еще почти не было знакомых, настоящих французов, и, когда Анри-Арно-Андре предложил зачем-то поехать навестить его дедушку в Барруа, я тут же согласился: это для меня была первая поездка куда-то во Францию.
Вот и поехали на восток от Парижа, через город Труа, присоседившись к знакомым Пуассон-Кентена.
Бар-лё-Дюк я почти не видел, помню только тяжелую готическую церковь и ровненькие зеленые изгороди перед домами, а также мягкие очертания холмов, укутанные влажным воздухом. В Баре мы сели на автобус и через полчаса оказались в деревне, где проживал дедушка, тамошний нотабль, наследник династии врачей, нотариусов, банкиров и адвокатов. О таких много написал Пруст – правда, у него про Нормандию, а восток Франции все же несколько иное.
Когда мы приехали, уже было темно. Но колючая проволока, разгораживавшая участки, была видна. Потом мне кто-то из знакомых французов (не иначе, с юга или из Фландрии) объяснил, что жители округи Бар-лё-Дюк страдают любовью к колючей проволоке. Там и в Первую, и во Вторую мировые войны были страшные бои. Наверно, поэтому.
Жилищем моего приятеля оказалась голубятня, построенная не то в XIII веке, не то позже, – цилиндрическая башня из местного пористого известняка. Это был подарок дедушки. Внутри от пола до кровли ярусами идут ниши, посередине башни – огромное вертикальное бревно с опускающимся и поднимающимся воротом, позволяющим добраться до каждой ниши. Оказывается, такие голубятни монахи клюнийских аббатств строили на всем западе Европы, и их голубиная почта была по тем временам не менее эффективна, чем WWW. Может быть, от нее было даже больше толка: фон бессмысленной информации тогда точно был ниже.
В этой башне мы и провели две ночи – на надувных матрасах, с электрическим фонариком.
Утром старушка (жалко не в белом накрахмаленном чепце) сообщила, что дедушка Пуассон-Кентен ждет нас к обеду.
Он проживал в здоровенном доме конца прошлого столетия, выстроенном в идиотском неоготическом стиле. Гостиная расписана в прерафаэлитском духе: цветастые рыцари на конях, гончие собаки, томные дамы, прозрачные деревца на мерно расположенных холмах. Сделано очень хорошо. Я спросил древнего днями хозяина (к счастью, прилично говорившего по-английски), кто же это нарисовал? Он ответил, что не помнит, был какой-то нищий русский художник давным-давно, его отец дал ему кров и за какие-то деньги заказал эти картины. Полез в секретер, достал бумажку и сообщил: «А, его звали Стеллецкий».
Действительно, был такой мирискусник второго разряда, хоть и хороший, и он сильно бедствовал в эмиграции.
На столе были салфетки с лилиями, вилки и ножи с лилиями на черенках, тарелки с лилиями на ободках. Дедушка Пуассон-Кентен сказал, заметив мое внимание к этим узорам: «Да, молодой человек, я роялист. Если во Франции не будет короля, ей пиздец. Но я не такой мудак, чтобы верить, что истинная династия будет восстановлена. А в республику, в этих голлистов, коммунистов, троцкистов, националистов, христианских и социал-демократов я, блядь, не верю. Так что в этой реальности я анархист. Поживите с мое – поймете меня».
Эта мудрая клоунада много мне дала. Хорошо бы в России был царь из приличной старой семьи, от которого ничего бы не зависело. Тогда перестало бы противно жить в России.
На следующий день пошли в гости к местным виноделам, на ферму в километре от голубятни, и везде тянулась колючая проволока.
У виноделов, красномордых и сильно нетрезвых ребят, тоже было интересно. Первым делом они начали хлопать пробками, а потом стали жаловаться, как их замучило законодательство насчет «контролируемых деноминаций». «Мы же, блядь, тоже люди… Этим из Шампани, что, всё, а нам ничего? Мы же, блядь, не виноваты, что от нашего виноградника до шампанского двадцать километров, а вино-то у нас не хуже, скажи? А какого же у нас его не покупают? Самим приходится пить, блядь!»
Подарили нам ящик шипучки, мы его еле дотащили до голубятни. Я не очень разбираюсь в шампанском. По-моему, bulles были хорошие, но непонятно, что же они мучаются в безнадежном соревновании с шампанскими мухами, а не делают достойное деревенское вино?
Наутро поехали в Париж. Кентен-Пуассон сказал, что билеты на поезд брать не надо, и так доедем. Когда пришли контролеры, он меня потащил прятаться в туалет, оттуда нас, разумеется, выковыряли. Он тряс под носом у железнодорожных сбиров своей carte d’identitе, где вместо фотографии была вклеена картинка из детского журнала Тентене, а я притворился, что вовсе не понимаю по-французски. Контролеры сказали что-то про «пунк» и «русков», putain alors и merde donque и позволили ехать дальше.
Эта поездка мне многое рассказала о Франции – и плохое, и очень хорошее. Про лексику и политику – в любом случае.
40. Барранка-де-Диаболо
2001
В Плайя-де-лас-Америкас нам с Сашей стало скучно через три дня, тенерифское Рождество начало раздражать (сколько можно смотреть на темнокожих безработных, наряженных Санта-Клаусами и топчущихся у входа в супермаркет под увитыми елочными лампочками пальмами?). И купаться в океане надоело. Тем более что я чуть не утонул. И вообще, начался шторм.
Захотелось где-нибудь спокойно походить ногами. Мы справились в агентстве по туризму, где это можно сделать. Выяснилось, что нигде. Надо брать экскурсию или, наняв машину, самим ехать куда-то, а уже потом ходить ногами. Но в конце недлинного разговора с девицей из агентства выяснилось, что можно на рейсовом автобусе добраться до какого-то городка недалеко от Плайя-де-лас-Америкас, а там рукой подать до Барранка-де-Диаболо, где ногами вполне можно ходить.
Что такое «барранка» мы не знали, но звучит сочно, особенно в сочетании с тем, что она «чертова». Совсем по-прутковски. Что-то в манере «желания быть испанцем». С испанцами, впрочем, на Тенерифе туго – на дверях заведений рядом с надписью «We are speaking English, Ici on parle fran?ais, Deutche spraechen, parliamo Italiano» добавлено: «habla castillano».
То есть мы, канарцы, говорящие по-андалусийски, не кастильцы-арагонцы. Ну и ладно, хотя хорошо бы в Сочи что-нибудь написали на местном диалекте.
А barranca по-кастильски – это «спуск, уклон, речной берег».
Мы сели в автобус, минут двадцать ехали вверх и вышли на площади городка, где не было ни намека на тень. Между двумя пальмами на фоне фантастически синего неба висела гирлянда с Дедом Морозом в санях, запряженных оленями; с фронтона белоснежной, дикого колониального стиля церкви благословляла святая Мария Гваделупская, украшенная выцветшими пластмассовыми розами; на кресте сидел белый голубь; на жаре зевала рыжая канарская дворняга.
Стояла надпись: «Барранка-де-Диаболо. Опасная дорога, будьте осторожны». Мы робко встали на тропу. Ни одной опасности не было, кроме возможности удивиться старательно рассаженным молодым драконовым деревьям, агавам, обильным олеандрам и неизвестной мне африканско-субтропической флоре. О да, был какой-то провал вниз, с острыми камнями, похожими на зубы древних рептилий. Наверно, он-то и был страшен в этом уклоне в сторону туристической красоты.
Я, инвалид, его прошел легко. В Крыму не такое когда-то видел. Но дышалось в этой «барранке» удивительно легко, и небо светилось здесь океанским, всеобщим светом.
Когда мы шли обратно, встретили пожилую голландскую пару. Дама в бледно-зеленых шароварах и соломенной шляпе спросила: «Там очень трудно?» – «Нет, – ответили мы в один голос, – там всем просто. Никаких чертей, только виднеется внизу русло давным-давно высохшей речки».
У автобусной остановки образовалась эфемерная тень, в ней позевывала собака – возможно, наследница тех, кто дал имя Канарскому архипелагу. И тут на балкончике соседнего дома диким свистом распелась канарейка.
Приехал кадмиево-желтый автобус, мы отправились вниз, к черным крабам и алым Санта-Клаусам побережья.
41. Барселона
1990
С тех пор я в Барселоне, к сожалению, не бывал. А поехал туда с парижской приятельницей Джудит Бизо – ей почему-то очень хотелось посмотреть выставку калифорнийских художников мексиканского происхождения, которую делал в Барселоне какой-то ее знакомый. Предложила съездить вместе, я с радостью согласился – очень хотелось увидеть каталонскую столицу.
Выставка оказалась интересная. Но куда любопытнее мне был город. Жалко, что провел там всего два дня и наверняка увидел очень мало, хотя и возвращался в гостиницу только переночевать.
Гостиница, где мы остановились, находилась на Рамблас. В кишение этих пешеходных улиц я и окунулся сразу же. Воздух там был густым от запаха анаши – кажется, ее только что легализовали. Мне страшно понравились маленькие темные бары, где за стойкой с потолка свисали вяленые окорока, наливали в зеленоватые стаканчики херес, а на закуску подавали толстыми ломтями порубанную колбасу чоризо и острый сыр.
Слонялся по узеньким полутрущобным улочкам Барри-Готико и Барри-Чино, по идее они были с односторонним движением, но машины там бодались, как бараны, – побеждал самый упрямый, а побежденный пятился.
Удивился собору, обсаженному пальмами: готический стиль очень непривычно выглядел рядом с субтропической растительностью. Потом набрел на еще одну церковь. Ее барочный фасад закрывал беленький классицистический портик, дальше, ближе к трансепту, шли готические контрфорсы, а апсидная часть этой базилики, обстроенная трухлявыми сараями, была романской, а то и чуть ли не вестготской.
Что же касается сооружений Гауди – посмотрев на них в натуре, я утвердился во мнении, что это противно. Надеюсь, Саграда Фамилию никогда не закончат: в недостроенном виде она лучше, чем так, как ее задумал автор. Каса Бальо и Каса Мила? От них веет не только дурным вкусом, но и сумасшествием. А вот парк Гуэль понравился: среди сочной зелени бесконечная скамейка, уделанная мозаикой из битых тарелок, и даже знаменитые покосившиеся колонны выглядели весело.
Перед отъездом обедали в рыбном ресторанчике рядом с портом, ели мрачного вида, но очень вкусную паэлью с чернилами каракатиц, потом я пошел посмотреть стоявшую в гавани, рядом с памятником Колумбу, реконструкцию «Санта-Марии». Поразительно, как на такой посудине можно было отправиться в неведомое плавание?
42. Барынино
1960, 1961, 1962, 1975
Воюхино – родная деревня моей бабушки Веры, крошечная. Не знаю, как сейчас, а раньше там был всего десяток домов. Ближайшее село с магазином и автобусной остановкой – находящееся километрах в трех Барынино. Насколько помню, ничего интересного там не было. Правда, места красивые: волнистые холмы, поля, прозрачный светлый березняк, куда мы ходили по грибы.
Если свернуть с пути в Воюхино на почти заросшую дорогу в лес, можно прийти в Побоище. По преданию, там когда-то случилась битва с татарами. Почему-то вдоль этой лесной дороги часто можно было найти белемниты, окаменелые раковины мезозойских головоногих. Местные называли их «чертовы пальцы» и «татарские стрелы», а я-то уже лет в семь, страшно интересуясь палеонтологией, знал, что ни к чертям, ни к татарам они не имеют отношения.
Бабушка рассказывала, что во времена ее детства в Побоище было богатое поместье какой-то генеральши. Барыня была добрая и привечала крестьянских детей. Самое сильное впечатление бабушки: она с генеральскими детьми каталась на тележке, в которую был запряжен огромный сенбернар.
В начале 60-х от поместья оставался только заросший тиной пруд и темная липовая аллея. Сейчас, наверно, нет ничего.
43. Бассум
1992
Забавно, когда зачем-то попадаешь в место, куда не собирался, о котором раньше не слышал и посещение которого не оставило почти никаких следов в памяти. Так и Бассум, расположенный километрах в тридцати к югу от Бремена.
Мы с Сережей Воронцовым выставлялись в кунстферейне в Гандеркезее, который находился даже не в самой деревне, а на отшибе, на хуторе, на чердаке огромного фермерского дома, где жил местный архитектор, председатель этого культурного учреждения. Один из членов его попечительского совета, адвокат, живший в городке Бассуме, пригласил Сережу и меня к себе поужинать. Поужинали – он накормил нас отличной малосольной селедкой со сметаной и яблоками и вкусным запеченным палтусом. Поговорили о чем-то. Он отвез нас обратно в Гандеркезее. Вот и всё.
44. Бахмач
1977, 1978, 1979, 1982
Я никогда не бывал в Бахмаче и не знаю, каков он. Только несколько раз проезжал мимо бахмачского вокзала (вокзал как вокзал) на поезде по пути в Карпаты или обратно. Но меня покорило сочетание звуков в слове «Бахмач» – очень сочное. Названия соседних станций тоже отзываются в сердце: Конотоп, Нежин, Кобыжча, Бровары…
45. Бахчисарай
1983–2008
Хотя Крым я знал с детства, в его западную горную часть впервые попал в конце 70-х благодаря Сереже Рыженко, у которого были друзья в Крымской обсерватории, в поселке Научный – это рядом с Бахчисараем. Мы гуляли по окрестностям, ходили на Тепе-Кермен, и я сразу полюбил эти края. Потом, с начала 80-х, с Андреем Филипповым, Димой Мачабели, другими друзьями я каждое лето посещал Бахчисарай. Мы приезжали туда на поезде, ели казавшиеся очень вкусными пельмени в привокзальном заведении, запасались вином, ехали на автобусе мимо Ханского дворца до Староселья, поднимались на плоскогорье напротив Чуфут-Кале и устраивали там стоянку. Несколько дней бродили по горам, потом спускались к морю.
Сначала Ханский дворец меня обескуражил, я еще вовсе не понимал сути исламской архитектуры. Да и вообще, он казался маленьким и провинциальным. И что это такое «Фонтан слез»? С какой стати Пушкин про него стихотворение написал – глупость какая-то! Но постепенно я проникся настроением бахчисарайского сераля и, когда увидел в Стамбуле колоссальный дворец султанов, смотрел на него через оптику бахчисарайской бледной реплики османского величия.
В 80-е городок был обшарпанным и по-советско-крымски нищим, туристы там появлялись редко, Ханский дворец-музей обветшал. Еду раздобыть было трудно – имелся один ужасный ресторан и одна чебуречная. Но была там нежная элегическая атмосфера.
Потом я уехал во Францию и до начала 90-х, кажется, не бывал в Бахчисарае. Город сильно изменился, начали возвращаться татары, с минаретов зазвучала молитва. Пооткрывались кафе и рестораны, шла бурная торговлишка. В 1995-м мы сделали во дворце забавную выставку «Сухая вода» – исключительно акварели, а акварелью из ее участников мало кто умел работать. Из Москвы туда приехала толпа друзей и знакомых, человек сто, заселили всю полуразвалившуюся бахчисарайскую гостиницу. Жители, по-моему, не понимали, что творится. Но не возражали.
Потом я не возвращался больше десяти лет. Поводом приехать снова оказалась подготовка большой русско-греческо-турецко-украинской выставки, о которой Андрей Филиппов мечтал много лет. Первыми в июне 2008 года в Бахчисарай из Москвы на рекогносцировку приехали Оля Лопухова, Андрей и я, из Стамбула – турецкая кураторша Берал Мадра, из Салоник – Мария Цанцаноглу. Потом, в сентябре, все уже собрались на выставку.
В 2008-м Бахчисарай я, естественно, узнал. Но изменения были огромные. Повсюду лавки и рестораны, шумная торговля сувенирами и татарскими сладостями, множество новых домов, а дворец весь отреставрирован и вылизан, причем по большей части плохо, в духе восточного ресторана. И толпы туристов. Все это отлично: город живет. Но я с долей ностальгии вспомнил его былой облик.
Перед открытием выставки случился скандал – нас обвинили в чем-то вроде разжигания религиозной и национальной розни. По-моему, глупость полная, но было противно. Остался тяжелый осадок.
Вернусь ли я снова в Бахчисарай? Вряд ли. И бродить по горам я уже не состоянии, и любоваться городом не смогу. Я его вспоминать буду.
По еще такой очень важной причине. Когда я в третий раз читал то, что написал про Бахчисарай, позвонила Саша и сказала, что Оля Лопухова умерла – как-то совсем странно: от последствий операции наподобие вырезания аденоидов. Я помню, как в один из бахчисарайских дней солнечная Оля, осатанев от бахчисарайской бессмыслицы, рано утром забралась на плоскую гору напротив Ханского дворца, – снизу видна была череда крошечных телеграфных столбов и согнутые ветром, словно трава, сосны. Рассказала, что там было прекрасно.
Оля в раю – неважно, есть он или нет. Я – в долине памяти.
46. Безенелло
2006–2008
Слева, если смотреть в сторону гор, течет река Адидже. Справа – коническая горка, на ее вершине под облаками виднеется замок Безено. Посматривает на округу. Между ними, обрамленная виноградниками и яблочными садами, лежит деревня Безенелло.
Именно лежит. Безенелло спит. Просыпается к Рождеству, и его обитатели строят на повороте узенькой via Bolzano великолепный пресепио. Тут мраморный фонтан, из пасти глуповатого льва тихо струится ледяная вода, и в летний зной так хорошо утолить жажду. А к Рождеству на его чаше жители Безенелло сооружают из дощечек и прутиков водообильную Палестину. Вода из пасти льва – и Средиземное море, и Иордан, и Генисаретское озеро, и Мертвое море; и стоят над зыбью пастухи, овцы, ослы и волы, грядут на верблюдах три волхва, а в шалашике из сухой травы сидит фаянсовая Мария, лелеет беленького младенца.
47. Бейт-Шемеш
2000, 2003
Совершенно случайно мы с покойным Даней Филипповым в 2000 году отправились в Израиль: в «Иностранце» мне предложили поездку на неделю в Эйлат на двоих в дорогой отель all inclusive. Саша по какой-то причине поехать не могла, я позвонил Андрею Филиппову, мечтавшему еще раз попасть в Израиль, он тоже отчего-то не мог. А Даня с радостью согласился.
И я, и он отправлялись в Израиль в первый раз. Прилетели в Тель-Авив, нас прокатили по нему на автобусе, потом прогуляли по Яффе, отвезли в Иерусалим, а на следующее утро мы заехали на полчаса в Вифлеем и отправились мимо Мертвого моря в Эйлат. Гостиница оказалась действительно хорошей, море тоже, но тут же стало ясно, что невозможно торчать на этом курорте, больше ничего не увидев в Израиле. На второй день я позвонил Володе Рубинчику, которого шапочно знал по Москве, в городок Бейт-Шемеш («Дом Солнца») – это километрах в тридцати от Иерусалима. Володя очень обрадовался и потребовал, чтобы мы тут же ехали к нему. Он и его жена Саша приняли нас фантастически радушно, водили по Иерусалиму, рассказали массу всего интересного.
А в 2003-м снова появилась в «Иностранце» возможность даровой поездки в Израиль. Я позвонил Рубинчикам, они вновь очень обрадовались. Это был март, как раз накануне начала второй войны в Ираке. Я был уверен, что будет уже жарко, но, когда прилетели с Сашей, нас встретил дождь и пронизывающий холод. Израильтяне радовались: редко столько воды проливается на их сухую землю.
Как дурак, я привез Володе бутылку какой-то дорогой водки. Мы ее выпили, а на следующий день пошли в книжный магазинчик, который он держит в Бейт-Шемеше. Дверь в дверь там продовольственный, и Володя затащил меня в него. На полках стояли всевозможные водки, в том числе точно такая же, какую привез я, молдавский коньяк, грузинское вино и пиво из Сум, Ярославля, Харькова, Питера, Курска, Нижнего Новгорода; разумеется, горы сала и колбас.
В Бейт-Шемеше половина жителей – выходцы из СССР. Вторая половина – крутые ортодоксы, в свою очередь делящиеся пополам: одни из Магриба, другие из Америки.
Мы каждый день ездили в Иерусалим. Володя и Саша предупредили, что к их остановке подъезжают два вида автобусов: один «нормальный», второй «американский», то есть на нем ездят американские религиозники. В таком ни в коем случае мужчине нельзя садиться рядом с женщиной, а женщине – с мужчиной. В первый же раз мы угодили на «американский» автобус, где одетые в черное пассажиры, болтавшие на американском английском по мобильным телефонам, смотрели на нас с омерзением.
В один из дней мы с Володей и его престарелой собакой, слепым черно-седым королевским пуделем, отправились погулять по окрестностям Бейт-Шемеша. Проходили мимо микрорайона, построенного как социальное жилье, но заселенного самозахватом этими самыми американцами. Двери были заложены шлакоблоками, жители попадали к себе через окна, по приставленным доскам. Возле домов ни деревца, хотя вокруг тщательно возделанная зелень, и, что самое удивительное, весь микрорайон огорожен мощным железным решетчатым забором. Я спросил у Володи: «Кто забор поставил?» – «Да сами и поставили», – ответил он.
Что же, хочется людям самим себя загонять в гетто, их дело.
Там по голой земле слонялись два маленьких мальчика. Увидели собаку, подбежали к забору, ухватились ручонками за железные прутья и начали тявкать: «Ав! Ав! Ав!» Вот событие – собака прошла!
Израиль той весной выглядел удивительно. Холмы, будто где-нибудь в долине Луары, были покрыты сочной травой, в ней сверкали яркие цветы. Были ли там «лилии полей»? Должно быть, были.
48. Белгород
Начиная с 1956-го
В Белгороде я никогда не бывал. Но проезжал мимо с тех пор, как себя помню. И он для меня начало юга. Пока едешь на поезде в сторону Крыма, Орел и Курск – это еще Россия, а Белгород, стоящий у границы с Украиной, уже – по ощущению юг. И недаром граница пролегла именно там. Россия по преимуществу северная страна, Украина и географически, и культурно тяготеет к югу.
Особенно ясно, что в Белгороде юг приближается все ближе и все быстрее, когда едешь в Крым весной, в апреле. В Белгороде деревья еще только-только, как и в Курске, начинают распускаться. Но точно знаешь: еще несколько часов – и будет настоящая весна.
Эту уверенность укрепляют окружающие Белгород белые меловые горки, точно южные по очертаниям.
Такие горы можно найти и в России, но там они выглядят странно.
49. Белогорск
1983, возможно
Ак-Сарай («Белый дворец») был столицей ханов Гиреев, пока они не утратили вкус к кочевой жизни на плоской местности и не переселились в предгорья, в Бахчисарай («Дворец-сад»).
Когда татар в 1944 году депортировали из Крыма, городок переименовали в Белогорск. Переименования – странное дело. «Бело» оставили, видимо, потому, что для славянского сознания белизна – это синоним чего-то хорошего. Хотя красное все же лучше, могли бы и Красногорском назвать, в СССР все равно уже было несколько Красногорсков. Здесь «-горск» – очевидное преувеличение. В Белогорске гор нет – ни белых, ни других. Там холмы, да вдали виднеются отроги Восточной гряды. Весной они зеленеют травой, а в прочее время цвета выгоревшей гимнастерки.
В Белогорск попадаешь, когда следуешь из Симферополя в Судак. Позади горизонтальность Центрального Крыма, впереди горы, а потом море. Белогорск – это всего лишь точка между городами, которую я всегда проезжал. Однажды, не помню уже почему (автобус сломался?), я застрял там на два часа. Заняться было нечем. Палило солнце, по площади ветер гонял пыль. Торчали контражуром в бледно-голубом небе пирамидальные тополя.
Наверно, сейчас в Белогорске интереснее. Наверняка построена мечеть; возможно, даже медресе. Наверняка украинцы, татары и русские делят между собой что-то и никак не могут поделить.
Еще в Ак-Сарае (Белогорске) я почему-то несколько раз видел в небе продолговатый аэростат, наподобие тех, что во время войны поднимали в целях заграждения от вражеских аэропланов над Москвой. В Белогорске так боролись с НАТО? Или это для красоты?
Такой же аэростат я заметил как-то над низкими Арденнскими горами в Бельгии, и это было очень красиво.
50. Берлин
1988–2004
Я попал в Западный Берлин весной 1988 года благодаря Лизе Шмитц, затеявшей проект «ИсKunstво», первый, где художники из Москвы выставлялись вместе с немецкими, и это же был мой первый выезд из Франции в какую-то другую страну. Незадолго до того я посмотрел «Небо над Берлином» Вендерса, фильм мне очень понравился, поэтому многое в городе я узнавал. Или видел город через кино.
Перед Берлином я заехал в Кёльн к Гройсам. В Берлин почему-то отправился самолетом, он на подлете очень круто взял вниз (заложило уши) и приземлился в аэропорту Тегель. Меня встретила Лиза, по дороге к ней мы проезжали французский военный городок: обычный французский поселочек, главная улица называлась avenue Gеnеral Leclerc.
Я жил у Лизы в Крейцберге, на Таборштрассе. Рядом Ораниенштрассе, где немыслимо перемешались турки и левые берлинские интеллектуалы, кебабные харчевни и самые модные галереи, анархисты и строгие мусульмане. В каком-то кафе сидели пожилые трансвеститы с набеленными лицами, с вурдалачьими алыми губами. В другом кафе, на Кантштрассе, чудом уцелевшем во время бомбежек, все сохранялось в неприкосновенности, будто на дворе 30-е годы, а в загончике рядом с кухней на потеху посетителям содержался огромный боров.
На путях разбомбленного в 45-м вокзала панки устрашающего вида, но совершенно безобидные жгли среди бурьяна костры. По огромному блошиному рынку возле Бранденбургских ворот ветер гонял тучи пыли, торговали там черт знает чем, в том числе слежавшимся советским военным обмундированием, пластами сложенным на земле.
Торчала занозой стена. Мне понравилось прогуливаться вдоль нее, разглядывать граффити. Кое-где возле стены были смотровые площадки, поднявшись на которые можно было увидеть другую сторону. Как-то мы ужинали на террасе кафе возле стены, а гэдээровский пограничник смотрел с вышки в бинокль в наши тарелки.
Мне очень полюбилось одно место на берегу Шпрее – туда можно было пробраться через дыру в изгороди из колючей проволоки. Горы песка, лопухи, кусты акации (как у Генриха Сапгира: «У черты цивилизации расцвели кусты акации…»). Я брал с собой бутылку вина, смотрел на воду, на лебедей, плававших вдоль берега, на гэдээровский сторожевой катер, курсировавший туда-обратно по фарватеру, и на другой берег, фланкированный пятиметровыми бетонными плитами с колючей проволокой поверху. Потом Лиза мне сказала, что по мудреной берлинской политгеографии место моего отдохновения принадлежит ГДР и находиться там небезопасно.
Я вернулся в Берлин через несколько месяцев, на выставку, вместе с Николой Овчинниковым. Из Москвы прибыли Сережа Волков, Сережа Воронцов, Свен Гундлах, Ира Нахова, Сережа Ануфриев, Д. А. Пригов, Вадик Захаров, Володя Сорокин, Иосиф Бакштейн, потом откуда-то из Австрии подтянулись Костя Звездочётов и Герман Виноградов. Почти для всех это был первый выезд за границу.
В это же время в Берлине оказались питерцы: Новиков, Африка, Курёхин. Началась короткая эпоха моды на всё Made in USSR и постоянных вояжей наших художников по заграницам.
Жили мы там же, где давалась выставка, – в реконструированном личном вокзале кайзера в районе Шарлоттенбург. Выставка оказалась скорее хорошая, хотя никакого общего языка с нашими немецкими коллегами, довольно скучными художниками, не было.
Я собирался сходить в восточную зону, но так и не собрался.
В последующие годы я несколько раз бывал в Берлине – просто так или по каким-то художественным поводам. В 1992 году у нас с Сережей Воронцовым была выставка в маленькой галерейке Ирены Налепы. Одновременно там оказались Маша Константинова и Коля Козлов. Мы с Колей почему-то всю ночь бродили под моросящим дождиком по Крейцбургу, время от времени отхлебывая из бутылки виски. Забрели во двор, выходивший на реку. Там на пинг-понговом столе спал промокший пьяный Йорг Иммендорф, он мутно посмотрел на нас и снова заснул.
В 1988-м я видел, как он куролесил в снобском Cafе de Paris.
Мы зашли в распахнутые двери его мастерской, там штабелями стояли картины стоимостью несколько сотен тысяч марок каждая и ящики с пивом. Мы достали одну бутылку – виски у нас закончился. Пиво оказалось безалкогольное.
Я вернулся в Берлин только в 2004-м, на выставку коллекций Вадика Захарова и Харалампия Орошакова в Kupferstichkabinett и не узнал города – не понимал, где нахожусь.
51. Берново
1978
Как хорошо, что по молодости мы много и бесцельно путешествовали, – в меру наших возможностей. Так мы почти случайно оказались с Машей Константиновой в селе Берново Тверской губернии. Туда ранее попал Пушкин. Ему, я считаю, вообще везло: он попадал, и не всегда по своей воле, в разные места, но они никогда не были безнадежны. Пушкин не попал, например, в рудники под Иркутском или на линию атаки на Кавказе.
Я думаю, Бог, в которого не верю, его справедливо спасал. Нельзя не спасать такого гения.
В Бернове – усадьба семейства Вульфов, в которой росла Анна Полторацкая, будущая Керн. У Вульфов в Бернове Пушкин написал «Анчар», беспросветное стихотворение. А мы с Машей – что же? – решили, что следующий Новый год надо встретить в Бернове. Обсудили эту мысль с друзьями, и они согласились, что идея хорошая.
Каким образом мне удалось найти телефон сельсовета в Бернове, не помню, но это было трудно. Я провел несколько часов за аппаратом, добиваясь через Тверь – Калинин кого-нибудь из райцентра Старица, чтобы дозвониться до села Берново. Удалось. Выяснилось, что там даже гостиница есть, а в ней – телефон. Я позвонил. Спросил, можно ли у них остановиться.
Переполошенная женщина у телефона сначала не могла понять, чего от нее хотят, а потом радостно сказала: «Приезжайте, конечно!»
Мы в Москве запаслись едой и выпивкой (даже какие-то маринованные шашлыки с собой в кастрюле везли), отправились в Берново. Путь неблизкий: до Калинина в вымерзшей электричке, потом часа полтора на обледенелом автобусе. Добрались – нас встречает старушка, хотел бы я сказать в повойнике, но она была в ситцевом белом в синенькую крапинку платочке, а поверх – в завязанном на спине сером шерстяном платке. «Здравствуйте, гости».
Гостиница выглядела так, как, наверно, когда-то выглядели хорошие постоялые дворы. Длинный, составленный из срубов дом. Натоплено жарко, и очень чисто. Беленькие занавески и обои в мелкий цветочек. «Если что приготовить, то там кухня, вы печку-то топить умеете? Водички попить – в сенях кадка». Вода была вкусная, в жестяной бочке, под коркой льда.
Это была одна из лучших встреч Нового года. А с утра мы пошли в усадьбу Вульфов, она почему-то была открыта 1 января. Там не было никого, кроме нас. Мы посмотрели на штофные обои, старую мебель и какие-то memorabilia, я уставился в окошко. По косогору над речкой в сторону черного елового леса мела метель.
Вернулись в гостиницу забирать вещи, прошли мимо странного здания, оказавшегося винокурней. Не знаю, как она выглядела при Пушкине; надеюсь, приблизительно так же. Потому что она была как на картине Брейгеля, а Пушкин, этого художника не знавший, его наверняка понял бы, если бы увидел. А понял ли бы Пушкина Брейгель?
Над берегом речушки стояло бревенчатое чудище, облепленное чуланами, похожими на оборонительные башенки, и увенчанное ржавыми металлическими трубами. Оно вдруг присело, ухнуло, из труб в морозное небо пыхнули облака пара, пахнувшие сивухой.
Окошки винокурни мигнули, и дико крикнула ворона, летевшая мимо.
Мы дождались на морозе автобуса и поехали в Калинин не через Старицу, а через Грузины.
52. Биргу-Витториоза
2003
Очень жалко, что на Мальте я пока был всего раз и только неделю. Я тут же полюбил ее – по нескольким причинам. Прежде всего потому, что в этой крошечной стране (остров Мальта длиной 27 километров, остров Годзо – меньше 15, между ними совсем миниатюрный Комино общей площадью 316 квадратных километров) не чувствуешь отсутствия пространства. И потому что отовсюду видно море, надо только забраться чуть повыше или зайти за угол. И потому что мальтийцы разумно устроили свою страну. А каков мальтийский язык! В основе арабский, но немыслимым образом смешавшийся с итальянским, испанским, французским, английским и даже немецким! Чего стоит месса в великом кафедральном соборе Святого Иоанна, когда возглашают: «Аллах Акбар!» Но тут же на улице звучит превосходный английский, разъезжают старинные автобусы British Leylands и стоят красные телефонные будки.
А Биргу-Витториоза – это первая столица рыцарей-иоаннитов, где они обосновались до того, как построили по соседству Валетту. Биргу по-мальтийски значит «укрепленный город», Витториозой город стал называться в честь победы над турками в Великой осаде в 1565 году. Поэтому здесь сохранились самые старые здания и фортификации рыцарей. Мрачные, тяжелые, но украшенные веселенькими цветочками в горшочках. А главная достопримечательность – исполинский форт Святого Ангела, которому после Второй великой осады в 1940–1943 годах официально был присвоен статус корабля Королевского флота, HMS Saint Angel. Своими очертаниями он, правда, похож на колоссальный броненосец.
53. Благодатное
1956–2009
Это ошибка: населенного пункта с таким названием в Крыму нет. Благодатные есть в Харьковской, Курской и Красноярской областях, а также в Челябинской области имеется поселение Благодатное, основанное, как я понимаю, какими-то сектантами националистическо-языческо-экологической ориентации. Ни в одном из этих Благодатных я не бывал.
Зато в Крыму есть: Богатое, два Изобильных, Доброе, Счастливое, Раздольное, Плодовое, Приветное, Урожайное. Все это появилось после того, как татар и греков депортировали из Крыма и исторические названия заменили плодами убогой топонимической фантазии.
Вот и синтезировались они у меня в обобщенное крымское Благодатное.
54. Бологое
1983
Естественно, я много раз проезжал Бологое на пути в Питер и обратно. Однажды очутился там часа на три глухой ночью. Мы с Колей Панитковым ехали в деревню недалеко от Осташкова, где у его друзей был дом. В Бологом часть вагонов отцепили от поезда и отогнали на дальние пути. Мы спросили у проводницы, долго ли будем стоять; она ответила, что не меньше трех часов. Спать не хотелось, и мы пошли к вокзалу. Там было пусто, дремал кто-то на лавках. Постучались в дверь буфета, никто не откликнулся. Вышли на привокзальную площадь, там тоже ни души, куда-то тянулась скудно освещенная улица. Пошли обратно в вагон и легли спать. Сквозь сон я слышал, как застучали колеса, – поезд поехал дальше.
Потом я часто расспрашивал знакомых, бывал ли кто-то из них в Бологом. Такой не нашелся.
Как я понимаю, Бологое стало важным транспортным узлом во многом по случайности: Николаевскую железную дорогу тянули по прямой (неважно, правдива ли история про царя и линейку), и Бологое оказалось на этой линии. А могло бы до сих пор быть никому не известной деревней.
55. Болонья
1992, 2007, 2008
В первый раз я приехал в Болонью в 92-м на поезде, через Швейцарию – это была моя вторая поездка в Италию. Паоло Спровьери устраивал там выставку своей коллекции в городской галерее, куда прибыло довольно много народа из Москвы, я был вместе с Юлей, из Парижа приехала Джудит Бизо со своей подругой-колумбийкой – вылетело из памяти, как ее звали. Она была женой большого чиновника ЮНЕСКО, роскошного индийца Раджа Изара. В Болонье много пили, и жена Свена Гундлаха Эмма умудрилась свалиться вниз головой с очень крутой лестницы в гостинице, но, к счастью, сломала большой палец ноги, а не что-то более важное для жизни.
Напротив гостиницы стоял четырехэтажный палаццо. В окнах верхнего этажа не было ни стекол, ни рам. На третьем этаже окна были затянуты выцветшими и драными красными жалюзи. На втором кто-то жил. На первом был дорогой обувной магазин. Сейчас в Болонье такого уже нет, все отреставрировали.
Это один из самых моих любимых городов в Италии. Он уютен и гуманен. Там нет такой концентрации памятников, как во Флоренции или в Венеции, зато есть спокойствие и теплота. И конечно, недаром жители Болоньи так гордятся своими аркадами, протянувшимися вдоль улиц старого города: в жару не палит солнце, в непогоду не мочит дождь. Этим восхищался еще Петр Толстой, посетивший Болонью в конце XVII века.
Впрочем, и достопримечательностей в Болонье достаточно. И базилика Святого Петрония, фасад которой горожане за многие века так и не удосужились закончить. И изумительная площадь, на которой она стоит. И неимоверное надгробие Святого Доминика. И страннейший, совершенно мистический комплекс базилики Святого Стефана. Конечно, «Две башни», одна из которых покосилась давным-давно настолько, что, когда смотришь на нее, хочется отбежать подальше: вот-вот рухнет тебе на голову. Ничего, стоит и простоит еще долго.
И еще очень много всего – я и успел-то увидеть малую часть.
Во второй раз я попал в Болонью с Сашей в январе 2008 года – мы ездили на пару дней во Флоренцию, а на обратном пути в Роверето на полдня остановились в Болонье. Походили по городу, был солнечный зимний день. Саша там была впервые, я многое узнавал и помнил улицы – было так приятно вернуться. И очень хочется возвращаться снова.
В третий раз мы очутились в Болонье на два часа на местной ярмарке современного искусства – непонятно зачем по просьбе стекольщика из Мурано Адриано Беренго поехали встретиться с ним. Посмотрели современное искусство, съели в ярмарочном ресторане мясо alla bolognese (вкусное), и, когда вышли на автостоянку, по небу катились пурпурно-апельсиновые закатные облака. Под ними терракота крыш была черной, ревел ураган.
Совсем не ясно, почему Адриано по дороге в Венецию, рассказывая о том, как он развивает бизнес в Японии, завез нас домой в Роверето. Крюк – четыреста километров.
56. Больцано (Бозен)
2006–2008
На перроне вокзала городка Больцано, столицы Верхнего Адидже, написано «Добро пожаловать!» по-итальянски и по-немецки. Есть приветствие и на третьем языке, ладинском: Benuni! На этом языке в области Южный Тироль говорят несколько тысяч человек, но в Больцано (Бозене) он не слышен. Итальянский – да, но чаще звучит немецкий в южно-австрийском варианте. Названия улиц – на двух языках, реклама – в основном по-немецки. Архитектура явно не итальянская, а австрийская. На улицах пахнет так, как пахнет на торговых улицах старых австрийских городов: корицей, ванилью, жареными колбасками, паприкой и еще чем-то теплым и домашним.
Город сочится богатством: ювелирные и часовые лавки, банки, магазины с товарами самых дорогих марок. Названия улиц такие: улица Райффайзен (этот банк был основан в Больцано) и улица Сберегательных Касс. На главной торговой улице (via dei Portici, она же Аркаденштрассе) я набрел на магазин Obberrauch-Zitt, уже лет сто пятьдесят торгующий твидом и лоденом. Там я постепенно купил два пиджака из настоящего шотландского твида (один ношу, второй – для картины «Живопись для твидового пиджака») и пальтишко из лодена. Дорого, но я давно о таком мечтал.
На променаде в парке, тянущемся вдоль реки Изарко, впадающей в Адидже, занимаются бегом здоровяки южнотирольцы. Прямо в черте города стоит среди виноградников замок Мареччо, он же шлосс Маретш. На одной из боковых улочек за красными воротами с белыми крестами – резиденция Тевтонского ордена. Город обступили горы, по склонам лепятся шале, в небо втыкаются зубья Доломитовых Альп.
Италия здесь кончилась, хотя на карте она тянется еще километров на пятьдесят вверх, в горы, до перевала Бреннеро.
57. Большая Яйла
1970
На стареньком микроавтобусе киностудии поехали вверх по петляющей разбитой дороге. Рафик пыхтел и хрипел. Было жарко, воздух стоял густой пеленой, и я жалел, что пришлось куда-то ехать: нельзя было найти место для съемок где-нибудь поближе? И вообще, я что-то не помнил, чтобы у Стивенсона в «Острове сокровищ» упоминались высокие горы. Но режиссер Фридман вбил себе в голову, что этот эпизод его кинематографического бреда необходимо снимать на верхушке Яйлы, а художник фильма Константин Загорский отправился туда смотреть место. И зачем-то прихватил с собой меня и ассистента оператора – наверно, чтобы не бездельничали.
Наконец приехали. Оказалось, что здесь красиво. Под ногами – Ялта, море изгибается под синим-синим куполом неба. На покрытом выцветшей травой плато растут японского вида деревья, перекрученные ветром.
И прохладно, не так, как внизу.
Загорский посмотрел вокруг, покачал головой и сказал: «Ладно, поехали обратно». Сели в рафик, двинулись, через несколько десятков метров что-то громыхнуло, мы остановились, шофер пошел смотреть, что случилось. Выяснилось: пропороли шину о ржавую железяку, невесть откуда здесь взявшуюся. Запасного колеса не было. Шофер остался при машине, а мы сначала по крутой тропинке, потом по вполне прогулочной дорожке быстро скатились в Ялту, на Чайную горку, чтобы отправить кого-нибудь выручать микроавтобус и его водителя.
На Яйле так, кажется, ничего и не снимали.
58. Большие Вязёмы
1985
По дороге в Звенигород и в Можженку я все время проезжал мимо Больших Вязём, но никак не мог собраться сходить туда – совсем недалеко от станции Голицыно. Однажды, в прекрасный весенний день, сошел с электрички и прогулялся до усадьбы. И не пожалел – Преображенская церковь, построенная Борисом Годуновым, очень хороша. И странная стоит рядом с ней звонница, совсем не похожая на подмосковную архитектуру. Она скорее ближе к псковским звонницам, но и сильно от них отличается. В Пскове они тяжелые, крепко упершиеся в землю, а здесь ажурная, легкая, и небо, светящееся в ее пролетах, важнее, чем здание.
Посмотрел на могилу Николая Пушкина, умершего в младенчестве брата поэта. Издали полюбовался усадьбой Голицыных – в ней был какой-то НИИ, близко подойти было нельзя. Сейчас, говорят, там открыли небольшой музей.
59. Бон
1989
Город Бон (Beaune) находится в Бургундии, там делают великолепные вина, и, говорят, он редкостно красив: его центр – это драгоценность романской и готической архитектуры. Я не видел. Про Бон у меня странные воспоминания.
Мы с Николой Овчинниковым и Юлей Токайе направлялись на взятой у знакомых Юли машине в Прато (это близ Флоренции) на выставку художников из СССР. Это была моя первая поездка в Италию. А машина – спортивного вида дряхлая «Рено-Фуэго» красного цвета, до сих пор вспоминаю о ней с нежностью. Из Парижа выехали не рано, до Бургундии (это более или менее треть пути) добрались поздно вечером. Надо было где-то ночевать.
На въезде в Бон мы увидели кубическое здание, сиявшее неоновой вывеской: Hotel. Остановились, подошли к двери. На ней было написано: «Вставьте свою банковскую карту и наберите персональный код». Кто-то из нас так и сделал. Дверь, чмокнув, отворилась, впустила, закрылась. Мы оказались в клаустрофобическом помещении, где стояло что-то вроде банкомата. Инструкция гласила: «Вставьте банковскую карту, выберите в меню пожелания, наберите свой персональный код». Так и поступили. Устройство пожужжало, из щели вылезли магнитные ключи. Мы сунули их в щель следующей двери, она чмокнула и раскрылась. Нашли свои номера – белье было поглажено безупречно, а за окном темень и пустота – и легли спать. Утром захотелось есть, мы нашли буфетную комнату. Автомат с бутербродами вроде тех, что продают в поездах, йогуртом, колой, водой, мороженым, шоколадками; второй механизм наливал жиденький кофе. Эти агрегаты уже принимали монетки.
Позавтракав, мы вышли вон. Дверь, чмокнув, выпустила нас на обочину дороги.
60. Бонн
1988
Я туда приехал из Кёльна, где гостил у Бориса и Наташи Гройс, на трамвае. В Бонн меня пригласили граф и графиня Ламбсдорф, устроившие в соседнем Кёнигсвинтере выставку, где показывали работы Бориса Биргера и мои. Затея страннейшая – не вижу ничего общего между собой и Биргером.
С графом Хагеном Ламбсдорф-Галаганом (он из русской ветви Ламбсдорфов, его пращур был воспитателем Николая I, что чести ему не делает, а прадед – очень неплохим министром иностранных дел при Александре III) и графиней Рут Ламбсдорф фон дер Вейде (происходящей из какого-то совсем древнего германского рода) я познакомился в начале 80-х, когда Хаген служил советником по культуре посольства ФРГ в России. Ламбсдорфы опекали Альфреда Шнитке и Олега Янковского (что очень хорошо), а также коллекционировали неофициальное искусство – что тоже неплохо.
Впоследствии граф Хаген был первым послом в Латвии. До 1917 года его семья там и жила, а потом – в Чехии. Я с радостью вновь встретился с ним и Рут в 2004-м в Берлине, в их пенсионерской квартире рядом с Фазаниенштрассе. Там моя картинка висела бок о бок с Родченко. Что бы подумал Родченко?
Итак, я приехал в Бонн, вернее, в его предместье Бад-Годесберг, где проживали Ламбсдорфы. Тек Рейн, за ним мягко поднимались холмы. Вокруг – старательные особнячки то сецессионной, то грюндерской, то баухаусной архитектуры с чудными, греющими душу садиками. В одном из них жили Хаген и Рут.
Среди этого благолепия – Kunsthalle Bonn, где была какая-то важная выставка, которую я совсем не помню, и стеклянные «билдинги» с огромными логотипами главных немецких политических партий. <…>
61. Бордо
1999
Я пробыл в Шато-Маньоль, находящемся километрах в десяти от Бордо, неделю. В качестве винного критика. Главный энолог компании Barton & Guestier, пожилой британец, рассказывал про особенности виноделия в Bordelais, а очаровательная молодая дама (ее звали Элен или Софи?) учила пробовать вино, показывала указкой на плакат с изображением человеческого языка: эта зона воспринимает горечь, эта – алкогольную легкость, эта – фруктовые тона, а вот эта – табак, севильскую кожу и влагу мха. Ну и нос, нос, нос… Она говорила об архитектуре вина и о балансе тяжести и легкости. Будто я об этом не знал до поездки в Бордо. Знал. Читал. Но слушал ее с удовольствием. Она была хороша, как вино.
В Шато-Маньоль я жил в номере, где за пару лет до того останавливался Боб Клинтон: широкое французское окно, шагнешь – за ним немыслимо зеленый газон, обомшелые мраморные статуи и магнолия, усыпанная белыми, похожими на каменные цветами.
Всю неделю мы слушали лекции по энологии и психологии/физиологии восприятия переброженного виноградного сока. Ездили по другим виноградникам, пробовали чудеса французского умения творить вино.
Да, истинно чудеса. Но последний день я провел в Бордо в компании Софи-Элен (или ее звали Мари-Элизабет?). Я ее попросил заказать в ресторане борделезское блюдо, про которое раньше читал: аркашонские устрицы вместе с горячими свиными колбасками «шиполата». Оказалось – невероятно вкусно.
Потом мы прогулялись по Бордо – «Окраине вод».
Странный город, очень красивый и очень тяжелый. Его уверенная в себе, отлаженная и не склонная к лишним фантазиям архитектура говорит: да, это мы, купцы-работорговцы, негоцианты между Европой, Америкой, Африкой и Азией, построили для себя эти жилища, церкви и присутственные дома. Нам архитектор рассказал что-то про композитный, коринфский, ионический, дорический ордер, а мы ответили: «Делай как хочешь, но покрепче. И главное – углы закругли. А то лошади мордами об углы побьются».
Я это к тому, что Бордо, в сущности, похож на Нижний Новгород и даже Кострому. Но куда мощнее: в России – Волга, во Франции – океан.
Например: в окне одного из винных магазинов я разглядел суперпрофессиональный штопор ценой 5000 франков. То же самое наверняка можно найти, даже дороже, в Костроме. Но что там откупоривать штопором за 700 евро, «цвеймадеру» кашинского разлива, отчаянно дегустированную Салтыковым-Щедриным?
62. Борисоглебск
1963
Отец недавно разошелся с мамой и пытался как-то выйти из положения. Иногда у него это получалось хорошо. Например, он повез меня в Ростов Великий. Мы залезли в брюхатый икарус (гениальное изделие, почти такие же придуманы Энки Билалем в его комиксах) и отправились на север. Проехали Петровское – там удивительная ампирная колокольня дурной архитектуры, но стоит она так, что ее нельзя забыть. Это шприц, воткнутый в бессмыслицу неба. Вокруг метались вороны, пытались что-то объяснить.
Мы доехали до Ростова, а про него – особенный разговор.
На второй день, переночевав в Доме колхозника (через пятнадцать лет он уже назывался гостиницей «Ростов»), поехали – чего ради? – в Борисоглебск. Час тряслись по ухабам в покрытом инеем автобусе марки ПАЗ. Эти чудища клепали в городке Павловске, где-то рядом с Нижним. Их надо теперь беречь. Подобное в России, боюсь, уже не сделают.
Из ниши надвратной церкви Борисоглебского монастыря вместо необходимой там иконы ехидно поглядывал Ленин в хитрованской кепочке. В монастыре мерзло на веревках штопаное-перештопаное белье, из одного барака в другой несся мат.
Древнерусская архитектура? В Борисоглебске она очень плоха: кирпич на кирпич, да из битого кирпича узорчики над окнами и по обводу храма.
Не иначе, сейчас в Борисоглебске бараков в монастыре нет, и веревки не тянутся на морозе от одной дурной мысли до другой. И на чреватом икарусе с дугообразным воздухозаборником до Борисоглебска уже не доберешься.
И ПАЗа не дождешься. А вороны, слава богу, наверняка на месте.
Спасибо пантократору за Борисоглебск.
63. Боровск
1971
Итак, после Балабанова, в трясучем автобусе – в Боровск. Мне чудится, что на подъезде к Боровску дорога шла круто вниз, а потом в чаше, между холмов, открывался город, – прямо как в Италии? Конечно, чудится. Холмы вокруг Боровска низенькие, хотя и повыше, чем в большинстве мест Среднерусской возвышенности. Ее географы зачем-то лет двадцать назад разжаловали до звания Среднерусской долины.
И все же речка Протва загибается дугой между холмиков в Боровске почти так же, как Адидже в Вероне. Да, Альпы в пятидесяти верстах от Боровска невозможны, но березы и ветлы там столь же прозрачны и геометрически определённы, как оливы и кипарисы на картинах Джанбеллини.
Учащихся отделения промграфики и рекламы МХУ памяти 1905 года отправили на летнюю практику в село Теряево, в Иосифо-Волоцкий монастырь, на север. Учащихся отделения театральной живописи, в том числе Ксюшу Шимановскую (у нас был роман, потом она стала моей первой женой, мы прожили вместе месяцев шесть) – на юг, в Боровск.
Через пару недель, рискуя быть уволенным из МХУ, я сбежал из Теряева и отправился в Боровск. Первое, что увидел, въезжая в чашу, был огромный старообрядческий Покровский собор, построенный накануне Первой мировой войны, и там была автобаза. Второе – речку Протву, по течению которой тянулись изумрудные пузырчатые водоросли, а детишки на берегу удили пескарей. Третье – памятник космосу на высоком бугре над Протвой. В Боровске какое-то время жил Циолковский, бредил о лучистом человечестве (его дикие мечтания отчасти сбылись в виде пленников WWW).
Это сооружение воспроизводило памятник космосу возле ВДНХ, который придумал скульптор Файдыш-Крандиевский. Изделие безвестного боровского мастера было лучше: не фальшиво устремленное в небеса, а приземистое; не из титана, а из проржавевшей кровельной жести; и ракета на вершине покрашена серебрянкой, как крест на деревенском кладбище.
Ксюша и другие практиканты МХУ жили в здании какого-то ПТУ, когда-то реальном училище, стоявшем под памятником космосу, на крутом съезде к реке. Его закругленный угол был будто обгрызен пираньями: некий тракторист не справился с управлением и окончил жизнь, протаранив это крепкое сооружение.
Выше «космоса» простиралась рыночная площадь, вдоль которой тянулись торговые ряды с аркадами, подпертыми колоннами, статью похожими на перезревшие огурцы. В рядах находились магазины, где торговали ничем. И было заведение «Буратино» – там из опрокинутых стеклянных конусов, в Москве содержавших томатный и прокисший мандариновый сок, торговали портвейном по двадцать пять копеек за стакан и плодово-ягодным вином (Abolu Pussaldais) латышского производства – по двадцать.
Дальше тянулись улочки с домишками, украшенными резными наличниками, с белыми фиранками и горшками резеды. Там-то и происходила настоящая боровская жизнь, и в эти домишки годами наведывались сообразительные студенты МХУ и Суриковского института, тоже ездившие на летнюю практику в Боровск.
Боровск веками был гнездом старообрядчества (здесь заморили голодом боярыню Морозову), соответственно, в домишках с белыми занавесочками самые сообразительные из учащихся выторговывали «доски» разного качества иконописи и старопечатные, а то и написанные «братским» полууставом книги.
К сожалению, я к сообразительным не принадлежал.
В домах с резедой шла очень серьезная жизнь. В одном из них проживал с женой поп единственной служившей тогда в Боровске церкви. Матушка, заведя любовника, сбросила мужа в подпол и задалась целью заморить его голодом. Священника спасло то, что прихожане через неделю начали недоумевать: куда делся батюшка, почему в церкви службы нет?
Николай Семенович Лесков, услышав такое, пожал бы плечами и спросил: «Ну и что такое? Дело русское, православное. Страсть, господа, и глупость – как у Шекспира, но по-нашему».
Тянулись луга и песчаные отмели Протвы. За ними – беленький Пафнутьев-Боровский монастырь.
Святой Иосиф Волоцкий стоял за то, чтобы церковь была сильной в государстве, владела обильным имуществом и имела решающее слово в общественных делах.
Святой Пафнутий Боровский, близкий к афонскому исихазму, думал, что церковь не должна заботиться о политике: ее долг быть рядом с каждой из своих бессловесных овечек.
В результате и Иосифо-Волоцкий, и Пафнутьев-Боровский монастыри оказались одними из святейших и, соответственно, богатейших монастырей России. Но занимательно, что меня, тогда еще не крещенного и не выбывшего по своему желанию из церкви, географически мотало между стяжательством и нестяжательством.
64. Бородино
1966
Отец повез меня в Бородино. Скорее всего, из соображений приобщения к патриотизму. Мы долго ехали на электричке, а потом бесконечно ходили по флешам и разглядывали памятники. Стал ли я после патриотом? В принятом ныне в России смысле – скорее нет. Мне жалко Наполеона, он, как бы то ни было, не Гитлер.
Для меня самое интересное насчет Бородинской битвы – это то, что в ней по факту не победил никто. Там земля просто пропиталась трупными соками тысяч людей.
Этот ужас я понимал уже в подростковом возрасте.
Мое главное впечатление от Бородина было такое: как так, здесь ведь очень красиво?
65. Бохум
1992
Я пробыл день в Бохуме по пути в Гандеркезее, под Бремен, на выставку в связи с проектом KunstEuropa. Сабина Хэнсген, работавшая тогда в Бохумском университете, предложила прочитать какую-то лекцию студентам-русоведам, за нее платили не то 200, не то 300 марок, деньги тогда ощутимые. А я был беден как церковная мышь.
Первое, что увидел, сойдя с поезда, – коническую скульптуру Ричарда Серра из ржавого железа, снаружи обклеенную афишками рок-концертов и левацкими листовками. Зашел внутрь – там валялись экскременты и пустые шприцы.
Тогда мне Серра ужасно не понравился.
Лекцию (про что – не помню) я кое-как прочитал, лектор из меня шваховый. Переночевал у Сабины, с утра мы поехали на окраину Бохума, там был частный музей какого-то коллекционера современного искусства, прежде всего минимализма и концептуализма. Этот музей находился в идиллической зеленой местности и произвел на меня удручающее впечатление: кубическое здание из бетона, стоявшее на площадке, засыпанной антрацитом и огороженной сетчатым железным забором высотой метра в четыре. Рядом на зеленой траве валялись огромные ржавые оковалки – еще одно изделие Серра.
Неподалеку – китайский сад, подаренный Шанхайским университетом Бохумскому: крошечные прудики, каменные мостики, ветвящиеся тропки, гармоничная растительность. Безумно красиво.
Сабина мне рассказала, что Андрей Монастырский, бывший тогда ее мужем, влюбился в этот садик и мечтал поступить на должность его сторожа. Сабина и ее университетские друзья попытались это устроить. Оказалось, невозможно. Гастарбайтера на должность сторожа университетского китайского садика взять было нельзя. Она полагалась только гражданину ФРГ.
Как ни странно, Бохум для меня связан с Ричардом Серра. Я впервые там увидел его большие скульптуры не на фотографиях, а в натуре и постепенно начал что-то понимать. Окончательно осознал, что он великий скульптор, на Венецианской биеннале 2002 года, где его спирали из ржавого железа были выставлены рядом с инсталляцией «В будущее возьмут не всех» Ильи Кабакова.
66. Братислава
1998
Было так. В буклетике, присланном посольством почти новорожденной Республики Словакии, я прочитал, что в деревне Микова на самом востоке страны каждое лето проводится спортивно-культурный праздник в честь Энди Уорхола: из этого глухого карпатского угла происходили его родители.
Спросил у главного редактора «Иностранца» Ильи Вайса: «Можно я попробую туда поехать?» – «Да ради бога».
Времена были ангельские. Я позвонил в словацкое посольство, рассказал о своей идее, они обрадовались. Дальше связался с братиславской газетой «Правда». Мой отец, уйдя на пенсию, числился ее корреспондентом в Москве и что-то писал в Словакию на постсоветские темы. Словацкие правдисты тоже очень обрадовались.
В результате словацкое посольство нам с фотографом Игорем Стомахиным оплатило полет на самолете только что вылупившегося из яйца национального авиаперевозчика. А газета «Правда» предоставила в наше распоряжение на две недели белый «Мерседес» (это был единственный белый «Мерседес», виденный мной в Словакии) и его водителя Стефана Мадярича, обладателя огромных черных усов.
Более того, словаки профинансировали наше путешествие: мы не платили в гостиницах и очень редко – в ресторанах. Видимо, в те ангельские времена словакам попритчилось, что мы очень выгодные агенты влияния. Или словаки по природе немыслимо гостеприимны?
Но о Братиславе. По пути в центр города Братислава мне показалась похожей на южнорусский или украинский город, но в улучшенном виде. Блочные и панельные дома, пирамидальные тополя, все зелено, по дороге катятся старенькие «Шкоды», такие же, как беленькие «Жигули» в Запорожье.
Оглядевшись поутру, погуляв по старому городу, понял: Братислава, она же Бреслау, она же Пожонь, – город очень непростой, со множеством слоев, и очень красивый.
Недаром там когда-то угнездились римляне, а венгры с австрийцами, когда Будапешт захватили турки, сделали на три века Братиславу столицей Венгерского королевства.
В этом маленьком и тихом городе культурный, исторический и эстетический millefeuille благоухает очень вкусно – как кофе и пирожные, которые в братиславских кафе не хуже, чем в Вене.
Переночевав в советской постройки гостинице «Киев» и позавтракав в столовке вкусными блинчиками-палачинками с абрикосовым и яблочным повидлом, я день бродил по старому городу, любовался строго завитым барокко (именно в Пожони я начал любить барокко, который по глупости раньше недолюбливал) и остатками готики, в которой там ясно звучат мотивы юга Европы.
Постоял на берегу Дуная, посмотрел на мост имени Словацкого народного восстания. Словаки с их дуче-кардиналом Йозефом Тисо, конечно, сильно сглупили, подружившись с Гитлером. Но против нацистов в 1944 году все же поднялись именно словаки, а не единокровные чехи, да и за Дубчека им спасибо: Пражская весна началась благодаря этому идеалистическому коммунисту из маленькой холмисто-горной страны.
За мостом, с другой стороны Дуная, по непонятной мне причине есть еще кусочек Словакии. Четыре квадратные версты. Дальше Австрия, и Вена – в шестидесяти километрах. Каково было словакам при коммунистах смотреть из-за реки в сторону Австрии и понимать, что поехать туда нельзя? Это почти то же самое, как если бы житель Серпухова был отрезан от Москвы.
Хотел бы я жить в Братиславе? С удовольствием, но предпочел бы маленький словацкий городок вроде Бардеёва или Кежмарока. Климат хороший, пейзажи успокаивающие, и, что важно, Словакия очень удачно расположена: до Лондона, Москвы, Осло, Рима расстояние почти равное.
67. Бремен
1992
Это единственный большой северный немецкий город, где я бывал, – до Гамбурга или Любека, к сожалению, не добрался. И он мне сразу напомнил «Будденброков» Томаса Манна, которых я очень любил в молодости, но потом не перечитывал.
Хотя до моря еще километров шестьдесят и в Бремене нет порта, город – морской, даже не могу объяснить почему. То ли небо не такое, как в глубине континента, то ли в атмосфере города есть что-то открытое океану. Вместо моря – спокойная река Везер и дух уверенности в себе, воспитанный местными бюргерами за многие годы.
На площади перед ренессансной ратушей (здание великолепное, такое только прапрапрапрадедушки героев Томаса Манна могли построить ради своего величия) и мощным романским собором Святого Петра – огромная, почти десятиметровая статуя Роланда, символизирующая, что Бремен не подчиняется никому, кроме императора. Сначала я был уверен, что это стилизация под Средневековье, сделанная в начале ХХ века кем-то вроде Барлаха. Оказалось, никакая не стилизация, а XIV столетие, уникальный образец средневековой монументальной скульптуры. Рядышком – потешная скульптура с бременскими музыкантами: на постаменте осел, на осле собака, на собаке кошка, на кошке петух. В улочке, выходящей на площадь, краснокирпичный дом, этакий баухаус, стилизованный под готику, на нем звонница с фарфоровым карильоном: звук удивительный, прозрачно сказочный.
Крошечные разноцветные домики квартала Шнор – непонятно, как в них умещались здоровенные бременцы, или несколько веков назад они были меньше ростом? И массивные, под стать современным бременцам, бюргерские дома конца XIX века, глядящие высокими крылечками на реку.
В местном музее много картин художников школы Ворпсведе, которыми в Бремене страшно гордятся: тусклые пейзажи с морем и дюнами. В кунстхалле – выставка современных венгерских художников, наших коллег по KunstEuropa: не хуже, не лучше, чем португальцы и норвежцы. Зашли в университет, там богатый архив по неофициальному советскому искусству и литературе, собранный профессором Аймермахером, Сабиной Хэнсген и Георгом Витте. Спасибо им.
В городском парке были ручные поросята, тут же на ярчайшей зеленой траве – нахальные чайки, норовящие своровать жареную картошку и сосиски с прилавка киоска.
В один из дней в Бремене мы с Юлей зашли пообедать в ресторанчик «Фюрст фон Бисмарк», он нас притянул старозаветным обликом: белые вышитые занавесочки на окнах, старинная почерневшая мебель. Мы долго читали меню, оно было по-немецки и по-английски, искали что-нибудь традиционно бременское. Нашли что-то вроде тартара из сырого мяса и, как мы поняли, нечто типа форшмака из малосольной сельди. Тартар нам принесли, он был вполне вкусен, а селедку – нет. На наши напоминания официантка, говорившая только по-немецки, повторяла: «Nein!» – и на ее лице было написано удивление.
Мы об этом рассказали Сабине, а она ответила, что эти два блюда в Бремене есть за одной трапезой нельзя, и всё тут.
68. Бремерхафен
1992
В один из дней мы поехали в Бремерхафен посмотреть на море. Северное море было свинцово-серое, дул сильный ветер, метались и истошно орали чайки. Вдоль причалов стояли разномастные корабли, в том числе старинный клипер.
Из дверей прибрежных ресторанов густо пахло морской снедью, в воздухе висела соленая водяная пыль. По совету бременских знакомых зашли в недавно открытый новый культурный центр, расположенный в здании бывшего спортивного комплекса. Главное выставочное пространство находилось в пятидесятиметровом бассейне, а какая-то супердизайнерская мебель, которую там показывали, выглядела по-дурацки в яме, выложенной кафелем цвета морской волны.
69. Брессаноне (Бриксен)
2006–2008
От Роверето до Больцано меньше часа на поезде по долине реки Адидже. Она вся засажена виноградниками и яблочными садами – когда едешь летом, воздух пропитан сладостным яблочным духом. Но и поздней осенью, когда я решил посетить Брессаноне (Бриксен), чудилось, что запах не выветрился. За Меццакороной кончается область Трентино, начинается Южный Тироль. Если Трентино еще более или менее Италия, то тут многое меняется. Другие очертания гор, архитектура уже совершенно австрийская, а все названия на двух языках: Ора – Ауэр, Энья – Ноймаркт, Вадена – Платен.
За Больцано (Бозеном) поезд ныряет в туннель, оказывается в узкой долине, снова долина, снова туннель, снова долина, снова туннель… Горы все выше, на скале в Кьюзе (Клаузене) на верхушке скалы торчит сказочного вида замок.
Минут через сорок после Бозена – Бриксен. Я вышел из почти пустого вагона, вместе со мной еще двое: молодой африканец в широчайших, непонятно как не сваливающихся с задницы джинсах, и пожилая дама в пальто-лодене. Я направился в сторону центра: чуть не в каждом втором здании – больница либо оздоровительный центр; редкие прохожие, попадавшиеся навстречу, все пожилые. Они приветствовали меня: «Gruess Gott!» – я им отвечал тем же. Вышел на площадь с внушительным, перестроенным в барочном стиле романским собором и средневековым архиепископским дворцом.
Многие века Бриксен был независимым княжеством под властью князя-епископа и вошел в состав империи Габсбургов только в 1803 году. Я постоял под дождиком на пустой площади, полюбовался на собор и дворец, вернулся на вокзал. Заглянул в буфет, выпил кофе (он все же был итальянский, крепкий) и подумал, не проехать ли еще сорок километров до австрийской границы, в Бреннер. Но оказалось, что туда поезд только через час, а обратно на юг – через десять минут. И отправился в Роверето.
70. Брест
1987–1993
12 марта 1987 года, рано утром, я впервые пересекал границу СССР и не был уверен, что вернусь когда-то в Москву.
Сначала – хамский пограничный досмотр, правда, в тот раз не велели вылезать из вагона с багажом и идти в здание вокзала. Потом – долгая, лязгающая замена колес под вагонами. Наконец двинулись, и я прилип к окну, чтобы видеть, как кончается СССР и начинается Польша. Граница была как положено: колючая проволока, вышки, распаханная нейтральная полоса, река Буг, а там Польша. Пришли польские пограничники, с подчеркнутым безразличием посмотрели паспорта. С той стороны Буга оказалось так же, как с восточной. Поля, перелески, утлые домишки.
Впоследствии Брест я проезжал много раз, последний – в 1993-м: с Юлей Токайе, таксой Долли и котом Чернухой мы окончательно возвращались в Россию.
В конце 80-х – начале 90-х билеты на поезд стоили намного дешевле, чем на самолет. А некоторое время железнодорожные билеты можно было купить вовсе за смешные деньги. Тогда в них не указывалась фамилия пассажира, и в каждом номере «Русской мысли» печатались объявления о продаже билетов Париж – Москва. Если не ошибаюсь, за двести франков, то есть меньше чем за пятьдесят долларов. Во всяком случае, я, при своей безденежности, однажды купил целое купе и ехал в блаженном одиночестве. Продавали билеты приезжие-«пылесосы» из Советского Союза. Как они потом возвращались обратно, не знаю. Возможно, кто-то из них не возвращался, а прочим их друзья и родные переправляли в Париж новые билеты.
Однажды, кажется в 90-м, со мной в Бресте приключилась занимательная история. Мой приятель, парижский журналист Тома Джонсон, узнав, что я собираюсь в Москву, спросил, не могу ли я прихватить с собой маленькую посылочку, которую хотят передать его русские знакомые?
Тома имел склонность ко всякой экзотической публике, дружил с «Тиграми освобождения Тамил-Илам» и с боевым крылом IRA, а заодно опекал приверженцев рождения детей в морской воде, как-то очутившихся в Париже. Мне они испортили отдых в Крыму, в Судаке. Дюжина беременных женщин и их мужей, как и я, поселились на Хуторе и тоже ходили на море в бухту Капсель. Держались они по-сектантски, пропагандировали свою водородящую веру, пару раз беременные рожали на глазах посторонних. К счастью, мне не пришлось это видеть.
Но по дружбе с Томасом я согласился передать посылочку. Ее – две здоровенные и тяжеленные спортивные сумки – приволок к поезду парень, которого сопровождала жена, кормившая младенца грудью прямо на перроне. Слава богу, сумки он втащил в купе сам.
В Бресте советский пограничник спросил, что я везу. Я ответил: два чемодана (в Москву я вез довольно много гостинцев) и две этих сумки. Он спросил, что в чемоданах и в сумках. Я рассказал про содержание чемоданов, а про сумки сообщил, что они не мои, просто знакомые попросили передать. И что в них – понятия не имею.
Пограничник велел выгружаться с багажом. Я в два захода отволок его в здание таможни. В моих чемоданах ничего предосудительного не нашли, а в сумках оказались пакеты со статьями по поводу водорождения, ксерокопии писем на сотнях страниц в ООН, Всемирную федерацию здравоохранения и еще куда-то про то же самое, а также несколько десятков журналов по карате и кун-фу. Решать, является ли криминалом или нет, собрался консилиум таможенников и пограничников. В конце концов решили: хрен с ним, пусть везет. На прощание таможенный начальник резонно посоветовал мне впредь смотреть, что везу, а то какую антисоветчину либо наркотики положат.
Таская багаж, я еле успел к отправлению поезда.
71. Бронницы
1971
Я учился на третьем курсе МХУ, мы ездили на дачу к кому-то из соучеников в Пески, в поселок художников, а на обратном пути зачем-то высадились в Бронницах, купили в привокзальном магазине портвейн и пили его на заросшем лопухами пустыре, в тени водокачки.
72. Брынково
1975
С середины 70-х в Брынкове наверняка многое изменилось, как же иначе.
А было так. Деревенька Брынково находилась на другом берегу мелкой, богатой уклейками и пескарями речки Рузы от оплывших валов крепости городка Рузы, какое-то время столицы удельного княжества.
Из Рузы в Брынково надо было переходить по шаткому дощатому мостику. Мы туда попали с Машей Константиновой в конце сентября: в ее детстве родители снимали в Брынкове дачу, и мы отправились навестить эти места.
Был серенький денек. На яркой зеленой траве, совсем не осенней, вдоль берега Рузы паслись привязанные к белым березам белые козы, они взглядывали на нас янтарными глазами, перечеркнутыми черными горизонтальными зрачками. За березами белела церковь с голубенькими главками. Ничем не примечательная, но я ее вспоминаю не реже, чем истинные шедевры русской архитектуры вроде Покрова на Нерли. Ее стандартность и эстетическая беспомощность – такие церкви повсюду в Подмосковье – делает ее обязательной и благословляющей приметой среднерусского пейзажа.
Горько пахло палыми листьями и ботвой, которую жгли на огородах.
«Островитян» Лескова я тогда, кажется, не читал. Теперь эта гениальная книжка и описанный там Старгород для меня крепко сшиты с Брынково и Рузой.
Рядом с церковью стояло несколько домиков под суриковыми и зелеными жестяными крышами, с белыми занавесками и геранью в окнах. В один из них мы зашли. Старушка, помнившая Машу, пустила нас на ночлег. Мы чем-то поужинали, выпили бутылку сладкого молдавского вина «Лидия», купленного в магазине в Рузе, и легли спать. Спать было трудно: на узенькой кровати вдвоем уместиться было невозможно, тем более что она стояла с наклоном к полу чуть не на тридцать градусов.
С утра распогодилось. Мы бродили по зеленому лугу, любовались на трухлявые подберезовики. Стояли на мосту – под солнцем песчаное дно речки сияло золотом, серебряными тенями метались мелкие рыбки.
Сходили на Висельную гору и поехали на автобусе мимо речки Исконы в Можайск.
73. Брюгге
1997
Я провел в Брюгге всего полчаса, жалко. Прилетели в Брюссель, поехали из аэропорта в город, потом – дальше, в Амстердам. По дороге нас завезли в Брюгге, но предупредили, чтобы мы не разбегались. Большинство попутчиков, пергидрольные бабы из московских турагентств, никуда бежать не собирались: Брюгге – город не торговый, шубу и бриллианты задешево не купишь. Они скучно смотрели в серо-зеленую воду каналов.
А я туда мечтал попасть с тех пор, как в конце 70-х мне повезло делать иллюстрации для сборника пьес Мишеля де Гелядероде, которого моя мама случайно прочитала по-польски, рассказала о нем моему отчиму Валентину Маликову, начальнику редакции драматургии издательства «Искусство», и тот понял, что этот драматург, совершенно неизвестный в России, – замечателен.
Гельдероде я не перечитывал с тех пор, как делал рисунки для этой книжки, совсем беспомощные: лучше бы заказали Игорю Макаревичу. Наверно, Гельдероде – стилизатор и даже декоратор, словом, «брейгелевщина» и, хуже того, «костеровщина». Но сколько помню, в его пьесах воспаленным нервом бьется религиозный мотив, и мозг отзывается то болью, то счастьем. Я, тогда новокрещеный православный христианин, много из его текста узнал о христианстве и католичестве. Если я потом сознательно выбыл из церкви и религиозности в целом, в этом нет вины Гельдероде. Но он мне многое объяснил. Наверно, потому, что сам думал когда-то о том же, о чем думаю я последние лет двадцать.
Что в бытии Бога смысла нет. И не остается ничего, кроме как быть Тертуллианом с его credo quia absurdum est.
Итак, Брюгге – это город полностью религиозный. Его часто сравнивают с Венецией: мол, и там и там каналы, а в них отражается Бог. В этом сравнении есть смысл, и, конечно, он имеет прямое отношение к болотной географии этих городов. Кроме того, оба города уперто католические.
В католичестве есть понятие «избыточная благодать». Это когда грешнику дается то, что он никак не заслужил и, возможно, никогда не заслужит.
Здесь сходство кончается. В Брюгге нет католического лукавства Лагуны, нет и венецианской расслабленности. В Брюгге – именно упертость католического купца, торгующего с кем угодно и как угодно по всему миру, но никогда не отказывающегося от своего символа веры. А тут один шаг до протестантства.
Жители Брюгге этот шаг не сделали.
Постоял, посмотрел, как темные кирпичные дома, обросшие мхом и плющом, отражаются в канале. Послушал чаек и поехал по плоским местам дальше, в Нидерланды.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71018122?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
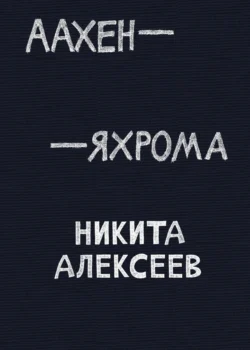
Никита Алексеев
Тип: электронная книга
Жанр: Книги о путешествиях
Язык: на русском языке
Издательство: WebKniga
Дата публикации: 31.08.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Аахен – Яхрома» – это путевые заметки и иллюстрации ко всем местам в Европе, где Никита Алексеев побывал за свою жизнь, что-то среднее между дневниковыми записями и травелогом.