Думки. Апокалипсическая поэма. Том второй
Артём Рящев
Том второй. В мире бушует эпидемия вируса забывчивости. Заражены все, но симптомы у всех разной степени тяжести. Главные герои взрослые пытаются как-то переварить изменения, происходящие в мире, сквозь призму своего устаревшего опыта. Главные герои дети живут свою жизнь, осознавая ее как объективную реальность. Все что было привычного исчезает, перестает работать, улицы заносит серой пылью, откуда-то появляются катуны, люди превращаются в думок. Даже звезды в небе теперь не на своих местах. Но подростки остаются подростками, они находят велосипеды и отправляются на них в путешествие. Героев ждет много странных, а иногда и страшных, приключений.
Артём Рящев
Думки. Апокалипсическая поэма. Том второй
VII. Хрясь!
Это такое озерцо не озерцо, а скорей болотце только еще не совсем. Тина сбилась и валяется островком по середине; по окраю камыш – шуршит от легкого ветерка. Со всех сторон до черноты густой лес – ночь.
Лягушки на дне пускают пузырики; пузырики лопаются на поверхности с радостным хлюпаньем – хлюп! Секнудочка, еще – хлюп! Вдруг одна лягушка показалась над водой, сначала одними только глазами, а теперь и всю мордочку свою выставила. За ней – другая.
– Ква! – квакнула первая.
– Ква-ква! – ответила ей другая.
– Ква! – подтвердила первая.
– Ква-ква! – согласно квакнула другая.
Глазами полупали, полупали да и нырнули обратно на дно пузырики пускать; и снова: хлюп! хлюп!
Над озерцом пролетела одинокая утка хлопая крыльями, где-то в глубине леса заухал филин. Теперь снова тихо, но это ненадолго.
Рыбина выпрыгнула из воды и хлопнула хвостом отчего все озерце разволнилось: островок тины покачивается и хлюпает, вода бьет по бережку и тоже хлюпает. И снова все стихло.
Вдруг где-то недалеко близко зарычал лев, во всю пасть зарычал и этот неожиданный звук разбудил всю округу: птицы снялись со своих мест и – кто куда, лягушки снова всплыли и как давай только квакать, рыбина бьет по воде хвостом и только все успокоится и стихнет, лев снова – и снова кавардак.
Ух и рычит этот лев, даже Обезьянин его боится: так сидит безучастно тихо, шерсть на себе перебирает, ищется, а как льва услышит, начинает ерзать на заднице беспокойно, мямлит что-то неразборчивое себе под нос и за голову хватается своими длиннющими руками.
Только вот нет никакого озерца, нет лягушек, бьющей хвостом рыбины, утки, филина, льва – нет, это я себе так выдумал, слушая удивительно разнообразный Витин храп, а вот Обезьянин есть, его я не выдумал, Обезьянин самый что ни есть настоящий.
Я лежу на своем спортивном мате в кинозале кинотеатра «Космос», смотрю в темный потолок, которого не видно, слушаю как храпит Витя и все никак не могу заснуть, а Обезьянин сидит рядом на корточках, вложив свой круглый живот себе меж коленок, иногда сболтнет что-нибудь, о чем среди культурных людей и говорить-то не принято, или выдумает что-то похабное и тогда его часами не заткнуть, болтает и болтает, а иногда так, пялится только.
Сколько себя помню, я никогда не был один, рядом со мной всегда был Обезьянин – ну, я так его себе назвал. Некоторые люди говорят к месту и не к месту: как крестьяне, так и обезьяне – поговорка такая не поговорка, присказка. Я взял конец слова «крестьянин», приложил его к обезьяне и так получилось имя моему чудищу, чудищу-юдищу, Обезьянину.
Он не всегда был таким, как сейчас: сначала это был вообще один череп. Я взял этот череп из энциклопедии, статья на эн «Неандерталец», а от самого неандертальца почему-то только череп на картинке. Так он у меня и прижился череп этот глазастый, лобастый, с ужасающе огромной челюстью вперед.
Потом череп начал прирастать костями: у – статья «Умелый, человек», кэ – «Кроманьонец». Тут кость, там – еще одна. Со временем у Обезьянина отросла кожа, а на ней – шерсть, хвост тоже потом отрос.
И всегда Обезьянин сам-друг со мною, и ни отстать от него, ни спрятаться. Я его гоню, а он от меня не идет. И ни приручить его, ни выдрессировать.
То пятак утаит, а то и сразу два не отдаст, а как не спросят где пятаки, сделает вид, что забыл отдать, спросят, скажет, что потерял или наврет, что отобрали. В бассейн как-то записался и ни на одно занятие не пришел: то ли воды забоялся, то ли просто ленивый такой. Уроки не учит, а как учит, так все не те. Другу моему как-то соврал да и не зазря соврал, а для выгоды. У, зверюга!
А потом он вдруг как-то и сам собою переродился. Я был в зоопарке и из зоопарка под ручку привел его, самого настоящего орангутанга. С виду безобидный зверь с противоестественно длинными руками оказался похотливей мартовского кота. И до всего-то эти противоестественные руки дотягиваются, а до чего дотянутся, то осаливают.
Орангутанг – и все время сам в себе, и все время сам с собой, и все время сам себя. И с этим орангутангом совсем уж невозможно стало, а самое гадкое, что именно его я и полюбил за обращенное на самого себя его сладострастие.
Обезьянин не только по мелочам пакостить умеет, пятаки красть или врать почем зря. Однажды Обезьянин удушил мальчика. Может, мальчик и сам виноват был, но ведь все равно нельзя душить хоть и виноватых.
Обезьянин ловко поймал шею мальчика под локоть, зажал, другой рукой помогает и держит крепче крепкого. Мальчик побрыкался, подрыгался да и затих, отдался покорно на милость Обезьянину. Лицо красное, на лбу вены пупырщатся, а глазами глядит как будто бы никуда, а и куда-то, куда Обезьянину не видно.
Обезьянина всегда удивляло, как легко и покорно принимают смерть некоторые животные. В передачах про природу показывали, как львица загоняет антилопу, догоняет, вцепляется в нее своими клыками, а антилопа и убегает-то от львицы как будто бы для виду только, а уж как та в нее вцепится, так совсем ложится и смерти ждет. Вот и мальчик этот как антилопа из телека, смирился и жизни назад не требует.
«Как, – думает Обезьянин, – как он так равнодушен к своей жизни? Разве она ему не дорога, что он и не пытается даже ее из-под моего локтя себе обратно достать?! А как удушу, совсем удушу?»
И вдруг стало Обезьянину интересно, что выйдет, если он руку не отпустит.
Тогда я вырвал мальчика из объятий Обезьянина. Обезьянин испугался и убежал, и мальчик испугался, но мальчик не убежал. Я тоже испугался, но тоже не убежал, остался с мальчиком. А он спустился по стеночке, сидит на полу, за шею схватился-держится, жадно дыхает, будто вокруг воздуху мало, и молчит, и на меня смотрит обессмысленными глазами.
Тогда я очень удивился, как это он без злобы на меня и без радости за возвращенную ему его жизнь, а просто сидит и дыхает.
Не помню, чем с мальчиком кончилось, знаю другое. Обезьянин долго после того случая пропадал, но потом все-таки вернулся, но это уже не Обезьянин тогда вернулся, это вместо него пришел сам черт. Как надо черт, с рогами на обезьяньем лбу, в каменные копыта обутый и с длинным-предлинным хвостом. И страшнее этого черта я ничего в целом свете не видывал.
Тогда я взял бетонную плиту на стройке, как из которых дома делают, привязал тому черту на шею, чтоб не смел он головы поднять и на белый свет своим гадким глазом чтоб не смел глядеть. Выл черт от бетонной плиты, что я ему навесил, звезды от его воя дрожали в небе. Изгибается черт, извивается, а от плиты отвязаться все никак не может. Подкинул черт плиту над собой да так вышло, что себя под ней и похоронил: задавила самого же, подкинутая им плита. Вот бы и сказочке конец да только из-под плиты из-под той сквозь малюсенькую щелочку обратно мой Обезьянин-орангутанг вылез и так и живет со мной опять.
Женю вот Обезьянин боится, Женя ему самый закадычный враг. Фенька – делает вид, что знать он не знает никакого Фенька. А вот Витя зато лучший ему приятель: как Витя, так и Обезьянин тут как тут: и потешается он над Витей, и по всякому его обзывает, а то и по уху шлепнет.
В ложечку, которая у меня заместо зеркальца, страшно заглянуть – а как оттуда на меня посмотрит Обезьянин.
Почему иногда ты Обезьянин и поступаешь как Обезьянин, а с другими ты как ты есть – ты? Разве глядишься ты в людей как в ложечку-зеркальце? А Обезьянин тебе на ухо шепчет, его с волосиками губы мерзко щекотятся: «Как у тебя все славно выходит, все гладенько! Все-то у тебя другой в виновниках, а сам ты – золотце, хороший!» И он прав, наверно прав. И так противно от того, что он прав!Вот как Обезьянин смотрит на новенькую? Самыми мерзкими масляными глазами смотрит на новенькую Обезьянин. А уж в мыслях у него тогда, у нормального такого в мыслях и быть не может! А разве может вся эта пакость от новенькой в нем отражаться? – глупость моя догадка да и только. Мое дежурство мой Обезьянин. Хоть, что ли, черенок от лопаты бери и колоти себя им, пока Обезьянина целиком не выколотишь!..
Вот от этого-то я и спать все не могу, потому что мой Обезьянин непременно где-нибудь рядышком и мучает меня. От этого и оттого еще конечно, что Витя страшно храпит.
Не помню как мне все-таки удалось заснуть, но спал я недолго – меня разбудил чей-то взгляд.
Я проснулся, а прямо надо мной нависает новенькая и пристально на меня смотрит глаза в глаза, я даже испугался чуть-чуть.
– Ты чего? – спросил я.
– Вставай, пойдем! – сказала новенькая.
– Куда? – я обсмотрел кинозал заспанными, ничего не видящими глазами. – Все уже встали? Нет? Мне еще палкой с утра трясти!
– В жопу твою палку! Пойдем!
Я преувеличенно скривился:
– Фу как некультурно! – сказал я.
– Что некультурно? – удивилась новенькая.
– Так говорить, не говори так, – попросил я.
– В жопу твою культуру, – сообщила новенькая.
– Говори тогда задница.
– Почему?
– Не так слух режет.
– Тоже мне неженка! – воскликнула новенькая. – В жопу твою задницу! Вставай! – и она схватилась за мое одеяло и сдернула его с меня.
Вот позор, и зачем я лег в одних только трусах! А нет, не в одних, на ногах носки еще есть – но они же тоже ничего не прикрывают да еще и дырявые насквозь все.
Я сел, чтоб скрыть от новенькой позор своего тела.
Сопротивляться, конечно, нет никакого смысла и я протер глаза кулаками, кое-как натянул на себя штаны и рубашку, накинул на шею краснобархатный платок и поплелся вслед за новенькой. У стенок кинозала – спортивные маты, а на них торчат из-под тряпок черно-черные мальчишеские пятки, раздырявленные носки, руки, коленки и встрепанные головы – все спят; тишину нарушает только мирное и многоголосное сопение и даже Витя против своего обыкновения не храпит: хорошее утро чтобы хорошенько выспаться. Но мне не довелось: ни сегодня, ни вчера и, кажется, что и никогда во всю жизнь не усну я нормально.
Я прошел сквозь вестибюль и вышел на паперть Храма Новой Армии Спасения вслед за новенькой. Утро уже занимается, туманная прохлада оплетает ноги, а воздух замер в ожидании начала нового дня. Еще чуть-чуть, еще едва-едва и покажется солнце, раскрасит все, что не покрыто серой пылью, а пока все серое и чуть-чуть как бы потустороннее и от этого становится зябко так, как бывает зябко только по утрам за секундочку до солнца. Я преувеличенно широко потянулся, зевнул шире положенного с протяжным звуком, исторгнутым громче, чем надо. Проделал я всю эту пантомиму лишь затем, чтоб упрекнуть новенькую за то, что она разбудила меня так рано, но она на меня ровным счетом ноль внимания, поэтому мне пришлось спросить:
– Куда мы идем? – спросил я. – Или я и так уже знаю куда, просто еще не знаю, что знаю?
– Ага, – совершенно серьезно ответила новенькая.
– И куда же это? – поинтересовался я. – По утрам я, знаешь ли, соображаю плохо да и во внутрях у меня все еще спит и видит сны, так что я не знаю, где мне найти ответ на этот вопрос.
– А ты проснись и узнай! – потребовала новенькая.
– Я ты разбуди! – предложил я ей.
Новенькая посмотрела на меня странно-ласково, легко подтянулась на носочках, коснулась моих плечей и поцеловала меня быстро и в губы. Видимо все во мне действительно еще спало – я даже покраснеть толком не успел. Но как приятен ее поцелуй! Я закрыл глаза и мысленно уложил его на ту полку моей памяти, куда я кладу все-все связанное с новенькой.
– Разбудила? – спросила новенькая.
Да. Разбудила! У меня сердце колотит и сна ни в одном глазу, но я изобразил на своем лице сомнение: вроде как прислушиваюсь к своим внутрям и говорю:
– Кажется нет, не подействовало, – сказал я. – Тебе придется попробовать еще раз.
Моя провокация не подействовала, новенькая не стала меня больше целовать. Вместо этого, она ловко и крепко схватила меня за щеку, щипнула ее обидно и больно и обозвала меня спящей красавицей. И тут уж я покраснел – наконец действительно, наверное, проснулся, а как проснулся, так сразу же и понял зачем новенькая подняла меня так рано и куда она меня повела. Вернее, куда я еще не знал, но точно знал зачем.
Ноги подвернулись в коленках и я плюхнулся задницей прямо на ступеньку паперти.
– Сидеть! – воскликнул я. – Я не хочу сидеть!
– И что? – новенькая как будто бы удивилась.
– А то! – сообщил я. – Не хочу и не буду, – и я серьезно посмотрел новенькой прямо в глаза.
А ее глаза не дрогнули даже:
– Будешь, – говорит спокойно и просто и тут уж я понял, что:
– Буду, – нехотя согласился я.
Новенькая крепко взяла меня за руку и ласково, но твердо повела меня на казнь. Я же умру с думками сидеть, как же она не понимает! Может вырваться, лечь на пол, бить ногами и руками, расплакаться и начать монючить? – поможет? Наверное нет. Или просто убежать? – я не могу убежать от новенькой, я к ней прилепился уже крепче крепкого. Она у меня в сердце самом обустроилась и даже еще глубже, чем в сердце, в сердце самого сердца она у меня. Значит все, совсем абзац.
Я шел за новенькой молча и без причитаний, мысленно прощаясь и с Феньком, и с Женей, с Три Погибели и даже Вите с капелланом я сказал в своем воображении пару прощальных и теплых слов.
– Почему ты боишься? – спросила новенькая в тот самый момент, когда я рыдал на капеллановом плече, крепко ухватившись за его тонюсенькую шею, будто за спасительную соломинку.
– А почему ты не боишься? – вместо ответа спросил я.
– А чего там бояться? – сказала новенькая.
– Где там? – не понял я.
– В мыслях у думок.
– Где-где?!
– Ты все слышал, – равнодушно констатировала новенькая.
– Как в мыслях у думок?
– Так, в мыслях у думок.
– Ты там была?
Новенькая кажется чуть-чуть замялась:
– Я не уверена, – сказала она и легко пожала плечьми, – думаю да.
– И что же там?
– Сложно сказать, сложно объяснить. Ты должен увидеть сам.
– Так ты поэтому сидела с думками? Подглядывала?
– Да, – коротко и так, будто бы это самое обычное дело подглядывать в мысли к думкам, сказала новенькая.
– Дичь какая! – воскликнул я. – Зачем?
– Интересно, – сказала она. – А тебе разве нет?
– Нет, не интересно. Я их боюсь и особенно не люблю, когда они мычат. А уж в мысли их мне лезть совсем не хочется. Я даже и не думал, что они на самом деле думают, я думал, это просто название для них такое! – мои мысли спутываются, а слова катятся одно за другим не останавливаясь, налетают друг на дружку, друг через дружку перепрыгивают. Говорю, говорю, а все, кажется, нелепица какая-то выходит. – То есть я думал, что они думки, поэтому думают, а потом решил, что, может, они и думают, но нам-то откуда знать, а еще и о чем и пырят они просто, значит, или в эти свои дальние дали?! – закончил я вдруг толи вопросом, толи утверждением, хотя и сам уже не смог бы понять, что если это вопрос, то про что, а если утверждение, то о чем.
– И чего же такого интересного в этих дальних далях? – полюбопытствовала новенькая.
– А мне почем знать?! – я почти что закричал.
– И знать ты, значит, этого не хочешь? – спросила меня новенькая.
– Нет! – воскликнул я. – Не хочу!
– Тогда увы тебе! – сказала новенькая и засмеялась.
– Увы мне! – подтвердил я.
– Зачем ты тогда ходил, думок разглядывал?
– Может, тебя искал!
– И как ты знал, что я среди них?
– А вот знал, может, да просто еще не знал, что знал!
– Не сердись, – примирительно сказал новенькая. – Тебе понравится.
– Чиго? Это думкам в мысли понравится-то?!
– Ага, – сказала новенькая просто и так, что стало понятно, спорить тут больше не о чем.
– Мне Витя скорей понравится и музыкой будет казаться его храп, чем понравится сидеть с думками.
– Не бойся, сегодня тебе не придется сидеть с думками, сегодня мы будем тренироваться без них.
– Хорошо, – сразу как-то согласился я, а в душе камень с плечь.
– Хорошо, – подтвердила новенькая.
И тут мне вдруг обидно стало, чего это мы будем тренироваться сегодня без думок – кем она меня считает, слабаком?
Новенькая будто бы угадала меня:
– Тебе рано. Сначала так потренируешься, чтоб привыкнуть.
Я согласно кивнул и проглотил обиду.
Новенькая вела меня куда-то за ручку, а я даже и по сторонам не смотрел – ведь за ручку. А еще у нее снова прядка выбилась и я все смотрел на эту прядку и снова ревновал ее, потому что снова ветер с ней, а не я да еще и жилка на ее шее снова пульсирует, так пригласительно, вот бы мне ее туда.
Новенькая неожиданно остановилась и выбила меня из своих мыслей. Я машинально сделал еще несколько шагов и стал; посмотрел на нее и покраснел за свои мысли. Так еще ничего, я вроде бы убедился, что новенькая читать мысли не умеет и поэтому думать всякое у нее за спиной я научился не краснея, а думать вот так открыто, прямо ей в лицо все равно еще не умею, краснею как…
– Тебе тут нравится? – спросила новенькая.
Я даже и по сторонам смотреть не стал:
– Мне нравится с тобой, – сказал я.
Новенькая улыбнулась тепло и как-то гордо в тоже время, что вроде как это и так ясно, что мне с нею нравится, мог бы и не говорить.
Я огляделся, потому что выдержать такую улыбку и не сказать какой-нибудь глупости совершенно невозможно. Новенькая привела меня в какой-то парк, которого я никогда раньше не видел – где это мы интересно? Мы стоим на горбатом мосточке, перекинутом в том месте, где одно маленькое пересохшее озерцо впадает в другое такое же пустое озерцо, размерами еще меньше. Чугунная витая перила моста отражается в сухом дне меньшего озерца извилистой тенью. Деревья, однообразно древние и разнообразно корявые, окружают озерца, стоят на пустых их берегах как старые купальщики, будто раздумывают они о температуре воды, но все никак не могут решиться сунуться в воду одним только носочком для того лишь только, чтоб тут же брезгливо оторвать ногу, встряхнуть ею и, заключив, что купаться никакой возможности в такие погоды нет, так и остаться стоять на узенькой кромке воды. Но озерца эти пусты и только серая пыль тихонечко лежит на оголенном их дне и даже кажется, что она рябится чуточку, будто подражая настоящей воде.
– В озере нет воды, – зачем-то ляпнул я очевидное.
– Нам не нужна вода, – сообщила новенькая. – Я и привела тебя сюда, потому что здесь нет воды.
– Почему? – не понял я.
– Пошли, покажу! – сказала новенькая, спустилась с крутого мостка, обошла его и легко спрыгнула в озерцо, подняв пыль с его дна в воздух.
Пыль покружилась вокруг ее лодыжек и улеглась обратно.
– Долго тебя ждать?
Было бы, конечно, неплохо никуда не обходить, а перемахнуть через перилу одним быстрым и уверенным движением и спрыгнуть в озерцо. И даже не просто неплохо, а очень даже хорошо было бы так сделать. Это точно подействовало бы на новенькую. Подействовало бы и как! – да еще и впечатление бы произвело! Вот только я же точно упаду, поскользнусь, переломаю себе все, умру и опозорюсь. Так что я не стал выступать и просто спустился точь-точь вслед за новенькой.
– Смотри! – сказал новенькая.
– Куда? – не понял я.
– Под мостик! – объяснила она.
В арке мостка не по-утрешнему темно; в остальном вроде бы нормально: сухо и серая пыль. Я кивнул – сойдет.
– Тогда раздевайся! – приказала новенькая.
Я вот совсем на такой поворот сюжета не рассчитывал, хотя, конечно, мог бы и сразу догадаться, как именно мы будем тренироваться – без ничего. Думки ведь тоже все как один без ничего сидят и новенькая тогда без ничего сидела.
– Вдруг мне еще рано?! Может, для начала потренируемся так? – промямли я.
– Как так? – новенькая сделала вид, что не поняла, хотя, поняла она все, конечно.
Я замялся.
– В одежде, – выдавил я из себя.
Но новенькая слушать меня не стала – спорить тем более. Она ловко и одним движением выкрутилась из своего цветастого балахона, скинула его на землю и забралась под мосток и он скрыл ее наготу от меня своим полумраком.
Впрочем, и полумрака не понадобилось, я все равно ничего не увидел, потому что у меня от такого закружилась башка. Да еще и мышца где-то там внизу, о которой я даже и не знал до сегодняшнего дня, натянулась аж до скрипа и башка от этого еще только больше. Вот бы сейчас в обморок свалиться или умереть даже! Это, конечно, позорно и очень, но все-таки не так позорно, как раздеться теперь до ничего в предательском свете начинающегося дня.
Убедившись, что новенькая вроде бы на меня не смотрит, я развязал ботиночки, снял их. Штаны или рубашку, первым что? Остаться в одних штанах – я же не Женя, чтоб оставаться в одних штанах. А если без штанов, то две мои ноги-палочки будут уродски торчать из-под широченной рубахи, которую еще тогда дал мне сторож. Обдумал, передумал и решил, что штаны: пояс, пуговица, еще одна, а это оторвана, ужасающе тонкая нога с узластой коленкой и шерсть какая-то реденькая на ней и местами только, вторая нога такая же тонкая и коленка на ней такая же уродская, а вот шерсти на ней почему-то заметно больше, но тоже не везде. Носки надо или нет? Вдруг не заметит, буду в носках. Теперь рубаха. Я снял с плечей незавязанный платок, сложил его по всем правилам и уложил со всем уважением, как и учил нас всегда капеллан, а не кинул его в кучу своих одежек, как делал это обычно перед сном. Снова пуговицы: ворот, ниже, ниже, опять оторвана и вдруг я споткнулся о резиночку, которая у меня заместо пояска – тоже от сторожа еще. Развязал резиночку со всей тщательностью, смотал, убрал в карман брюк и – дальше пуговицы: одна и другая и еще две на рукавах. Снял рубашку и посмотрел вниз на тусы – вот сейчас самый-то позор и начнется.
Разобравшись наконец со своими одеждами, я заскочил под тень моста. Вдруг новенькая ничего не успеет увидеть и ничего не сможет разглядеть!
– Что это у тебя на шее? – спросила новенькая.
– Это ключ, – сказал я.
– От чего ключ? – спросила она.
– Долгая история, – сказал я, – когда-нибудь я тебе ее расскажу.
– А это что? – спросила она.
Я посмотрел вниз на свою впалую грудь, будто там на ней могло быть что-то еще кроме ключа от дома сторожа и чертового пальца.
– Чертов палец, – сказал я и попробовал загородить свою грудь коленками да разве за такими коленками что-нибудь спрячешь.
– Что? – не поняла новенькая.
– Камень у меня на шее – чертов палец, – объяснил я.
– А зачем тебе камень на шее? – удивилась новенькая.
– Фенек дал, – объяснил я. – Долгая история, когда-нибудь я и ее тебе расскажу.
– Хорошо, – согласилась новенькая. – Снимай!
– Нельзя, – сказал я.
– Как так?
– А так, Фенек не велел.
– Хорошо, – легко согласилась новенькая, – тогда не снимай.
Я кивнул.
– Ты умеешь сидеть как они? – спросила новенькая.
– Все умеют, чего тут такого? – ответил я. – Только я не хочу.
– Поздно не хотеть, – констатировала очевидное новенькая. – Садись! – приказала она.
Ну я и сел, ноги к груди, руки на коленках сплетены – чего тут уметь?! Но новенькой не понравилось как я сел:
– Ты неправильно сидишь, а говоришь, что все умеют.
– Что не так? – не понял я. – Руки на коленях, все они так сидят.
– Не так! Ты сидишь, чтоб спрятаться, – объяснила она. – Не прячься, ни от меня, ни от кого. И попробуй расслабиться, – сказала она. – В первый раз ты, конечно, не сможешь, но хотя бы постарайся, а то ты так напряжен, что плечу у тебя выше ушей. Опусти плечи! – приказала она.
Я опустил, новенькой понравилось:
– Так уже лучше, – похвалила она меня.
– А теперь что? – спросил я.
– Теперь думай, – сказала она.
– О чем? – уточнил я.
– Ни о чем, просто думай.
Я, конечно, смолчать не смог и сказал что просто думать никак нельзя, если уж думать, то надо обязательно об чем-то, а она вдруг рассердилась и поэтому я согласился с ней и начал думать, старался даже чтоб ни об чем, пыжился, но у меня совсем почему-то не получается так и всё какие-то мысли в голову лезут.
Каспий. Волга впадает в Каспийское море. В Каспийское? – вроде да. Волга? – Волга. А Каспий куда впадает? Моря вообще впадают куда-нибудь или они как озера – в никуда. А разве он не высох теперь, как и эти озерца? Как же это все теперь мне неважно! А что тебе теперь важно? Теперь – новенькая, только новенькая, а все остальное – нет. И еще я. Ты и я. Я и ты.
Я. Мальчик про возраст которого можно с уверенностью утверждать только одно: ангел в нем уже умер. И вот что я из себя есть.
Характер:
Я осторожен и даже пуглив, тем не менее коленки у меня почти всегда разбиты: иногда какая-нибудь одна, но чаще обе. Я хитер и всегда сумею любого вокруг пальца обмануть, но вместе с тем и ужасающе туп, до того туп, что никак не могу разучить греческие цифры после двенадцати, хоть двенадцать первых натужно кряхтя как-то да осилил. Я глубокий и мучительный завистник, а еще – страшный ревнивец. Но про последнее ты уже и так знаешь, догадалась наверно.
Внешность:
У меня вмятина в носу, полученная при героических, но за давностью забытых, обстоятельствах, волосы неопределенно длинные, глаза, уши не торчат и это особый предмет моей гордости – ведь могли бы, лицо, плавно стекающее к не по-мужски гладкому подбородку, без особых примет – все как у почти каждого. Тело до позора тощее, но по нему там и тут шрамы – разве они не украшают?
Особые навыки:
Я умею взрывать все, что взрывается, а что нет – поджигать. Запускать, что летает, а другое отправлять в плавание. Умею сделать из палки шпагу, из шпаги лук, а из лука самый настоящий мазер. Еще я умею быть дураком – о, самым распоследним из всех дураков дураком умею я быть и как же хорошо у меня это получается!
Краткая биографическая справка:
1) Родился, должно быть, как и все, но этого я, конечно, не помню.
2) Учился, должно быть, как и все, но и этого я почти совсем уже не помню.
А что я помню?
3) Летал на ужасную Бетельгейзе, но лишь однажды, потому что вернется туда только тот, кто окончательно раздружился с головой. Видишь, вот тут почти седой клок волос? – это ее, Бетельгейзе, мне на память подарок.
4) Открыл Америку, сквозь северные льды плыл на лодке: плыл, плыл да и открыл. А потом забыл, что открыл и открыл еще раз – но на этот раз не на лодках, а на красивущих каравеллах.
5) Придумал коня и мы всех победили, но потом десять лет возвращался домой.
6) Прожил робинзоном на необитаемом острове целую бесконечность, но всё-таки спасся. Я всегда спасаюсь.
7) Вот только однажды я покорил почти весь белый свет, но умер в самом расцвете.
О прекрасная, о ужасная моя жизнь!
А больше мне нечего пока тебе порассказать – пока.
Теперь ты. Что известно про тебя? Мало, очень мало.
Имя твое не известно, ты не называешь мне своего имени, ты не называешь его никому и говоришь всем, что это не важно как тебя зовут.
Ты – она. Ты полная противоположность, девочка. Девочка одного примерно со мной возраста, а вот насчет ангела – тоже неизвестно. У девочек вообще бывают ангелы или это у нас только так?
Что ты такое из себя? – непонятно.
Ты – самое необъяснимое и загадочное, но это к тебе и тянет, тянет со страшной силой это к тебе. Почему? Потому что ты красивая. Ты – красивая, такая красивая, что хочется все сокровища, награбленные мной в покоренных городах Старого и Нового света, положить к твоим ногам. Да что там сокровища! – бери и сами города, всю мою империю, простирающуюся от Греции до Индии забирай! Александрия и Мемфис, моя родная Пелла и смертный мой одр Вавилон, я кладу вас к ногам вашей госпожи! Падите на лицо свое и распростритесь перед ней!
Я и не заметил как подполз к новенькой почти вплотную: натурально на заднице подшагал – вот как меня к ней тянет.
Взгляд новенькой как бы сфокусировался из ниоткуда сюда. Она сняла руки с колен и скрестила их у себя на груди. Ее забавно розовые коленки освободились и мне ужасно захотелось накрыть их своими ладошами – разрешит? Я тихонечко положил одну ладошу на ее коленку, другую на другую – разрешила, разрешила и даже сделала вид что ничего и не заметила.
– Ты красивая, – сказал я.
Новенькая безразлично пожала плечьми:
– Я знаю, – сказала она.
Я удивленно посмотрел на нее, а она меня легко угадала и:
– А что я должна была тебе сказать, спасибо?
– Наверное, – предположил я.
Новенькая улыбнулась:
– Это ты должен сказать мне спасибо за то, что я красивая.
Я согласно кивнул. Она, конечно, права и это я должен быть ей благодарен за ее красоту да только кажется, что обычно это бывает совсем не так и когда говоришь женщине, что она красивая, ожидаешь услышать в ответ благодарность. Так что я поспорил бы с новенькой, но она такая красивая, что спорить с ней совсем не хочется, а хочется только соглашаться с ней во всем – вот я и кивнул просто.
Я заглянул ей прямо в ее не голубые и не серые и не ореховые глаза и спросил:
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Ты уже спрашивал, – напомнила она.
– Ты не ответила, – сказал я.
– Нет, – подтвердила она и замолчала.
Потом она спросила:
– Зачем тебе так важно мое имя?
– Я хочу всех знать по имени, – сказал я.
– Зачем?
– Понимаешь, у меня был друг, лучший друг, а теперь я и не помню как его зовут. И его не помню.
– А что с ним?
– Он задумался. Я ходил к нему и рассказывал, пусть он и задумался, а потом перестал и забыл и его имя, и его самого. Знаешь что?
Новенькая вопросительно кивнула.
– Я и свое имя забыл.
– Забыл? – будто бы удивилась новенькая.
Я порылся в голове в поисках своего имени, как делал это уже много раз – как меня зовут? Имя – его нет. Его нет, но как бы не совсем нет, будто осталось от него что-то неуловимое – пустота. Да, пустота – вот что от него осталось. От него и от много чего другого. Имя, как и много других вещей не исчезли бесследно, они оставили после себя пустоту. Эта пустота совершенно особенная, пустота как бы не до конца пустая. Самим своим фактом она указывает на то, что это пустота не изначальная, а пустота опустелого. Это так, как если бы ты жил, жил в комнате, например, и в этой комнате стоял бы, например, стул в самом неподходящем для него, для стула, месте, там, где ему, стулу, совсем никак нельзя стоять, поперек всему, всей комнате поперек, но ты так привык к этому стулу, к тому, где он, стул, стоит, что когда его, стул, вдруг убрали или переставили куда-нибудь, к стеночке, например, или вовсе его, стул, из комнаты вынесли, а ты все равно продолжаешь его, стул, обходить, чтоб об него, об стул, не шибануться, хотя и нет его там, стула, уже давным-давно – вот что такое эта пустота, вот во что превратилось мое имя. Его нет, а оно продолжает мучительно крутиться на языке, и все кажется что вот сейчас ты его вспомнишь, вспоминаешь, вспоминаешь, в вспомнить никак и не можешь и от того, что вспоминаешь, еще крепче, кажется, забываешь свое имя. И ты живешь без имени, будто оно у тебя есть.
– Намертво забыл, – подтвердил я. – Помню только, что, кажется, оно начиналось на А.
– Аркадий? – предположила новенькая.
Я покачал головой:
– Сомневаюсь.
– Антоша?
– Уверен, что нет. Давай не будем гадать.
– Спроси у Жени, вдруг он помнит, – посоветовала новенькая, – или у Фенька.
– Спрошу, – сказал я, – обязательно спрошу.
Мы замолчали. Какие же теплые у нее коленки, как приятно их чувствовать своими холодными ладошами.
И вдруг меня осенило:
– Ты тоже не помнишь.
Новенькая покачала головой.
– Как я сразу этого не понял?!
Новенькая лишь пожала плечьми вместо ответа.
– Давай тогда сами придумаем себе имена? – предложил я.
Новенькая согласно, но равнодушно кивнула.
– Только пусть это будут имена только для нас, мы их никому не расскажем.
Новенькая опять согласилась.
– Ты знаешь, были когда-то первые люди во всем белом свете. Ты ведь у меня тоже первая.
– Первая? – будто бы удивилась новенькая, а я чуть-чуть покраснел.
– Первая, – сказал я. – Но ты не сильно воображай, в детском садике у меня уже была большая любовь.
– Это не считается, – улыбнулась она.
– Не считается, – согласился я, – но была.
Мы помолчали.
– Так вот, – сказал я. – Первого мужчину звали Адам.
– Адам? – переспросила новенькая.
– Адам, – подтвердил я. – Тебе нравится?
Новенькая слегка задрала подбородок, как бы раздумывает, а потом уверенно кивнула:
– Нравится.
– А первую женщину звали Евой. Ева – мне очень нравится.
Новенькая снова кивнула, а я почему-то снова покраснел.
– Привет, Адам! – поздоровалась новенькая со мной.
– Привет, Ева! – поздоровался и я с ней.
– Но ведь мы не первые? – спросила вдруг она меня.
– Первые, – сказал я, – просто наоборот.
– Как это? – не поняла она.
– Мы последние, – объяснил я, – первые наоборот.
– Как так последние? – спросила она.
– Так ведь больше никого и нет, – сказал я и вспомнил вдруг про Женю, ревность воткнула мне в сердце свой раскаленный железный прут и я покраснел, но новенькая согласно кивнула и ревность моя прошла, почти прошла: прут потух, но так и остался торчать в горьком сердце моем.
Так мы и сидели под мосточком в его полумраке, я держал ее за коленки, грелся ладошами от них и ее тепло растекалось по всему моему телу.
– Можно его потрогать? – спросила вдруг Ева.
– Кого? – испугался я и краска залила мое лицо на этот раз так, что заломило даже в ушах.
– Чертов камень? – полуспросила Ева.
Я выдохнул.
– Чертов палец, – поправил я ее и мне так стыдно стало за свои мысли, что новая волна краски окатила меня.
А если вдруг она поняла почему я краснею раз за разом?! – умру, если поняла!
– Чертов палец, – повторил я. – Пожалуйста.
Ева взяла чертов палец с моей груди, чуточку коснувшись меня пястью своей руки и я вздрогнул от этого мимолетного ее прикосновения.
– Ой! – воскликнула вдруг Ева, разжала ладошку и выпустила из руки чертов палец.
Чертов палец с размаху стукнул по костям моей груди и я снова вздрогнул.
– Ой! – повторил она. – Прости, он такой холодный.
– Он всегда холодный, – сказал я.
– Как так? – спросила Ева.
– Не знаю, – сказал я. – Он всегда таким был.
– Хорошо, – сказал Ева. – Можно еще?
Я согласно кивнул:
– Только не бей меня им больше, – попросил я.
– Не буду, – сказала Ева и взяла чертов палец с моей груди, снова легонечко до меня коснувшись. – А зачем Фенек тебе его дал?
– Это я дал его Феньку, – объяснил я. – Я нашел три и Фенек решил повесить эти камни нам на шеи. Жене, себе и мне.
– Зачем?
– Затем, что они почти волшебные, – сказал я таинственным шепотом, выпучил глаза и наклонился к Еве да так близко, что почти коснулся своими губами до ее губ.
– Так как, почти волшебные?
– А так, они в раю побывали, – прошептал я еще таинственней и, закрыв глаза, потянулся своими губами к ее губам.
Я тянулся и тянулся, тянулся, кажется, целую вечность, но все никак не мог дотянуться до ее губ – а ведь они так близко! И вдруг я почувствовал, как камень снова ударил меня по груди. Я открыл глаза, Ева почти смеялась.
– Ой, извини! – притворно сказала она и хитро улыбнулась, а потом вдруг приказала:
– Одевайся! – приказала она.
Ева вылетела из-под мосточка, замерла на секундочку, оказавшись под ярким солнышком, а потом легко и одним будто бы только движением надела на себя свой цветастый балахон. Тогда и я вылез из спасительной тени и оделся так быстро, как только смог, но Ева, кажется, на меня и не глядела.
Я убрал чертов палец под рубашку, застегнулся на все неоторванные пуговицы и накинул краснобархатный платок.
– Как ты таскаешь его на шее? – спросила Ева. – Он же такой холодный.
Я пожал плечьми:
– Я привык, – сказал я.
Тогда Ева тоже пожала плечьми, а потом легко выпрыгнула из пустого озерца, забралась на мостик и села на его перилу, свесив ноги на ту сторону, где должна была быть вода. Я неуклюже вылез вслед за ней, к мостку и – тоже на перила: неуверенно качнулся и чуть не свалился вниз, хорошо, что падать тут метра полтора-два всего лишь.
Я взял Еву за ее яблочную ладошку, а она легко разрешила. Тоненькая красная ниточка повязана маленьким узелком у нее на запястья – я никогда раньше не замечал этой ниточки.
– Зачем тебе эта ниточка, – спросил я и кивнул на красный узелок.
– По этой ниточке я могу выйти от них, – сказала Ева.
– Оттуда, где они думают? – зачем-то уточнил я.
– Оттуда, где они думают, – подтвердила Ева.
– А без ниточки что, не выйти?
– Я не знаю, раньше я никогда не боялась оттуда не выйти.
– Не боялась? – удивился я.
– Нет, – просто подтвердила Ева.
– А теперь боишься? – спросил я.
– Теперь боюсь.
– Почему?
Ева посмотрела мне в самые глаза, склонила голову набок и ее волосы легли ей на плечо.
– Ты и сам знаешь, – тихо сказал она.
– Я знаю, – согласился я, – но мне надо услышать…
Но Ева не дала мне договорить. Мне даже показалось, что она меня и не слушает, потому что она смотрела куда-то чуточку мимо, а глаза ее с каждой секундой становились все веселей и искристей. А потом она вдруг схватила меня под ребра да как защекочет.
Как я боюсь щекотки! Но сейчас, не от щекотки даже, а больше от неожиданности я подскочил задницей на периле и взмыл вдруг в самые облака.
Сам бы я так точно не смог. Что-то подхватило меня со спины под подмышки, подкинуло высоко-высоко, поймало, ловко перевернуло, очень знакомо эйкнуло и свесило меня с перилы в пустоту пересохшего озерца зажав в своих лапищах мои лодыжки – Женя-то тут откуда вдруг взялся?!
Я барахтался и бил лодыжками об чугунную перилу, попробовал подтянуться наверх, но, конечно, этого я не смог и вдруг решимость выпутаться из Жениных лапищь покинула меня и я покорно свесился.
А чего это я так рано сдаюсь, мне так вдруг обидно это стало и я строго приказал Жене:
– Отпусти меня!
Ну Женя и отпустил, озадачено эйкнув – с соображалкой у Жени всегда было туго. Женя отпустил меня, а я шмякнулся всем телом на дно озерца да так и закаменел. Все замерло, ни звука.
Как же Жене легко победить меня, ничего-то ему для этого не надо, напрягаться даже не надо – так, одним пальчиком! А если он и новенькую также, раз и отнимет, ему ведь и это ничего не стоит. Отнимет – новенькую, которая только лишь стала Евой из новенькой, Еву, которой дал имя я – отнимет. А я не дам, не дам! Вот сейчас ты меня победил, а новенькую – не дам; сейчас – пожалуйста, а новенькую – нет. А пока – наслаждайся своей победой, Женя, но без меня – я умер и ты – мой убийца.
Тишину разбил Женя, досадливо и разочарованно:
– Эй, – протянул он.
Смотри-ка кто это у нас тут разочарован! – ты думал, болван чугунный, что я что, полечу, что ли, когда ты меня отпустишь?!
– Эй, – позвал меня Женя, а я ровным счетом ноль внимания на него.
Лежу, умер.
Я услышал топот Жениых ножищ, хлопок подошв о дно озерца, должно быть Женя красиво перепрыгнул через кованную перилу мостка, как я тогда собирался. Снова шаги где-то совсем уже рядом и – Женя сует свои лапищи мне в подмышки, пытается подцепить меня и поднять на ноги, но я так плотно прижал руки к себе, что у Жени все никак это не получается.
– Эй! – позвал меня Женя и хлопнул меня зачем-то по плечу. – Что с тобой?
– Трупное окоченение со мной! – огрызнулся я и не пошевелился даже.
– Тебе холодно? – удивился Женя.
– Почему это холодно? – не понял я.
– Ну, – протянул он, – закоченение, сам сказал.
Мне надоело валяться на полу и изображать из себя труп; я встал и встал я напротив Жени.
Я вытянулся и вытянул каждый позвонок своей спины чтоб быть выше, но мой нос все равно дотянулся только до бескрайней Жениной груди. Так я простоял грозно уткнувшись носом в Женькину грудь с минуту где-то. Затем я занес руку, сжал ее в кулак и сильно как только смог ударил бронзового гиганта по плечу. Женя даже не покачнулся от моего удара. Наверно моему кулаку куда больней от Жени, чем Жене от моего кулака – Женя не поморщился даже.
– Женя! – задрав голос, сказал я. – Тебе бы понравилось, если бы с тобой поступили также?
– Не-а, – честно и радостно признался Женя, – не понравилось бы.
– Вот именно! – заключил я и снова занес свой кулак.
– Ну ладно, – миролюбиво протянул Женя и ловко поймал мой кулак себе в ладошу.
Я попытался вызволить свой кулак из Жениного плена но ничего, конечно, у меня не получилось. И тут я заметил, что за Жениной спиной, на мосточке за нами внимательно и увлеченно наблюдают новенькая и Фенек. Они оба приземлили свои локти на перилу мостка и уперлись щеками в ладони.
– И ты, Брут? – изрек я, хмуро глада на Фенька.
– Ух? – не понял Фенек.
Он посмотрел на новенькую, чтоб она объяснила ему, но новенькая только пожала плечьми.
– И ты тут? – повторил я.
– И я тут! – радостно подтвердил Фенек. – Привет!
– Привет, – поздоровался и я.
– Привет! – Женя тоже зачем-то поздоровался.
– Виделись! – буркнул я. – Что вы здесь забыли? – это я опять Феньку.
– Мы пошли бегать и бегали, а потом бежали мимо забора, – Фенек тыкнул пальчиком где именно, – и вас увидели. Женя и придумал подкрасться незаметно и насмешить тебя.
– Насмешить? – спросил я Женю.
– Ну-у, – протянул Женя, – весело же.
– Вы, сэр, – сказал я английским голосом, – ужасно путаетесь в показаниях.
Я посмотрел на Фенька:
– Предатель, – это я уже нормальным голосом. – Мог бы меня предупредить!
– Тогда он предал бы Женю, – заступилась за Фенька новенькая.
– Почему это? – не понял я.
– Если бы он предупредил тебя, он предал бы Женю, это очевидно, – объяснила новенькая, – а не предупредив тебя о Жене, предал тебя. И что ему маленькому прикажешь делать?!
Вот как у женщин мозги так устроены, что они вечно все умеют наизнанку вывернуть?!
– Ди-ле-ма! – выдохнул Женя, который оказывается внимательно слушал наши прения.
– Ладно, – простил я всех скопом, – живите теперь с этим!
Мне наконец удалось высвободить свой кулак и я выразительно махнул рукой куда-то неопределенно в сторону.
– А вы что тут делаете? – спросил Фенек.
– А мы тут… – начал я и вдруг замялся.
А что мы тут с новенькой делаем?! Я посмотрел на новенькую, но она на помощь мне не спешила. Что такое приличное мальчик может делать с девочкой наедине? – без малейшего понятия, что такое приличное мальчик может делать с девочкой наедине!
…так, – заключил я и снова махнул рукой неопределенно и в сторону.
– Ну и как, так? – поинтересовался Женя.
– Что, как так? – глупо переспросил я.
А Женя чуточку склонил голову на бок и по-обычному подмигнул мне глубоко, отчего я конечно же покраснел алым.
Новенькой Жениной пантомимы не видно, Женя спиной к мосточку стоит, а вот как я краснею видно очень даже отлично, я-то стою к мосточку лицом. Стукнуть разве Женю еще раз?!
– Так как? – невинно переспросил Женя.
– Не до твоей башки дело, – прошипел я тихонечко, чтоб никто, кроме Жени не услышал, а потом, чтоб все слышали: Так!
– Ясно, – согласился Женя и еще раз подмигнул, в другую теперь сторону, отчего я, конечно, опять разалелся и мне опять нестерпимо захотелось врезать кулаком по Жене, пусть это и совершенно бесполезно.
– Тебя капеллан искал, – сообщил вдруг Женя мне.
– И как? – поинтересовался я ехидно.
Женю мой вопрос поставил в тупик. Он чешет свое брюхо и хмурит брови, прислушиваясь к ощущениям, будто бы животом акселерат думает, а не своей темнокудрой головой.
– Что значит как? – спросил Женя. – Не нашел.
– Понятно не нашел, – подтвердил я, – вот же он я, здесь.
Женя недоверчиво на меня посмотрел.
– Проехали, – сказал я.
– Так вот, – продолжил Женя, – говорит, разговор у него к тебе. Знаешь о чем?
– Откуда мне знать, если я с ним еще не разговаривал? – поинтересовался я.
– Логично, – мирно согласился со мной Женя. – Эй! – это он уже Феньку. – Побежали дальше, а то совсем закоченеем, совсем как этот! – и Женя бесцеремонно тыкнул мне пальцем в ключицу.
Я еле на ногах от этого устоял.
– Увидимся! – крикнул Фенек новенькой, а со мной попрощаться забыл.
– Увидимся! – крикнул я Феньку.
– Увидимся! – пообещал Женя.
– Увидимся, – улыбнулась Феньку новенькая.
И они убежали, оставив нас с Евой, наконец, одних.
– Пойдем, – сказала Ева, – надо тебя показать капеллану.
– Пойдем, – неохотно согласился я, – надо показать.
– Что он тебя ищет? – спросила Ева.
– Я не знаю, – соврал я.
Я-то знал, зачем капеллану нужно меня увидеть, предполагал точней. Я и сам хотел встретиться с капелланом да все как-то неохота было этого делать – то еще удовольствие. Но надо же ему отдать второй подарок Слепого Волка – карту. Почему не сегодня, раз сегодня он меня сам искал?!
Мы шли обратными дорожками к моему кинотеатру «Космос», Ева все молчала и я все молчал и только когда мы ступили на паперть Храма Новой Армии Спасения, Ева сказала:
– Мы продолжим тренировки, – сообщила мне Ева.
– Продолжим, – согласился я.
– Но теперь с думками, – предупредила Ева.
– Я об этом подумаю, – сказал я.
– Тут нечего и думать! – сказала Ева. – Ты и сам уже это знаешь.
– Я и сам уже это знаю, – покорно подтвердил я.
– Вот и хорошо, – сказала Ева, положила свои яблочные ладошки мне на плечи, подтянулась на носочках и поцеловала меня быстро и в щеку. – Тебе пора, – сказал она.
– Мне пора, – согласился я и накинул воображаемую петлю себе на шею, затянул ее, склонив голову на бок, зажмурившись и высунув язык.
Когда я открыл глаза, Ева уже растворилась где-то во внутрях моего кинотеатра «Космос».
Новенькая обустроилась в моем кинотеатре «Космос», но где именно никто не знал. Она всегда была где-то близко, но вместе с тем где-то недостижимо далеко и на щедрые предложения мальчиков перебраться к нам в кинозал неизменно отвечала резким отказом.
– У вас тут пахнет…
– Старым бурдюком, – подсказал я, потому что новенькая все никак не могла подобрать подходящее слово.
– Чем? – переспросила она.
– Старым бурдюком, – повторил я.
– А он?.. – спросила она.
– Уж поверь, – сказал я, – он пахнет не хуже.
– Хорошо, – согласилась новенькая. – В общем, тут пахнет и терпеть этого я не собираюсь.
Теперь новенькая много чего не собиралась. Например, она не собиралась терпеть «эту гадость в горшках»: новенькая выдернула из груды горшков в вестибюле все засохшие растения и выкинула их куда-то. Она не собиралась терпеть того, как мы поем и то, как мы трясем нашили палками с краснобархатными хоругвями она тоже не собиралась терпеть и каждый раз, когда капеллан собирал нас для гимнопений, она спрыгивала со своего спортивного коня (он как-то незаметно стал ее спортивным конем, ее местом у нас, ее троном) и демонстративно-сердито уходила из кинозала. Она не собиралась терпеть красную ковровую дорожку, которая покрывала все три этажа лестниц кинотеатра «Космос», а поэтому нам с Женей пришлось ее отодрать от всех ступеней, свернуть в рулон и отнести гнить к картофельным клубням в подвал.
Авантюра с лестницей капеллану, конечно же, не понравилась, лестница, лишенная покрытия стала опасно-скользкой, и он гнул-выгибал свою бровь, наблюдая за нами, а муха на его носу нервно кружила, но ничего не так и не решился сказать новенькой потому что, и это он уже знал, она не собирается терпеть его возражений.
Наводить свои порядки новенькая могла где угодно – мой кинотеатр «Космос» и так сильно пострадал от деятельности капеллана, и я успел смириться с исстриженным на платки и хоругви краснобархатным занавесом, с изуродованным кинозалом, лишенном рядов зрительских кресел, с занавесками на окнах лестничных пролетов, и со многим другим, так что теперь я со странным равнодушием сам даже помогал новенькой крушить останки былого великолепия, но когда ей на глаза попалась дверь будки киномеханика, мне пришлось вмешаться.
– Это место для нас с Феньком, пожалуйста, не надо, – попросил я.
А новенькая вдруг согласилась и сдала будку киномеханика без боя.
Это было наше с Феньком место, только наше, и сюда я никого не пускал, и не пустил бы даже и капеллана, он, правда, совсем в будку киномеханика и не рвался.
Пол в этом маленьком помещении выложен желтой и коричневой плиткой со смещением, поэтому желтые и коричневые плитки образовывали линии параллельные друг дружке, но диагональные самой комнате. На стенах – плакаты с видами какого-то незнакомого города и несколько пикантных плакатов. С видами города висят себе спокойно как висели, а пикантные кому-то понадобилось изорвать и теперь только по клочкам понятно, что они были пикантными. Среди плакатов – обрамленная в рамку какая-то дикая схема вся из треугольничков, кружочков и треугольничков в кружочках, электрическая, наверное. Стол с лампой, несгораемый шкаф, что-то навроде телефона и два огромных, трубастых кинопроектора – два сфинкса. Они лежат на подставках, слепо и молча глядят в маленькие окошечки-бойницы и мне бы уж точно не захотелось разгадывать их загадки.
Но самым интересным в будке киномеханика были даже не кинопроэкторы-сфинксы, самым интересным в будке киномеханика был чемодан-жестянка с фильмом.
В этом чемодане, под его крышкой, я нашел стопку круглых коробок, похожих на большие консервные банки с селедкой, и в каждой такой коробке было много-много километров фильма. Мы запирались вдвоем с Феньком в будке киномеханика, заводили керосиновую лампу, вскрывали консервы с фильмом и часами, кажется, могли рассматривать пленку на свет.
Что это был за фильм, я не знал – мне казалось, что раньше я его не видел или видел, но теперь забыл. Как назывался фильм, тоже было загадкой для нас: там было очень много пленки с буквами, но что толку! – никто из нас таких букв не знал, а если, может, и знал, то и это теперь забыл. Но мы не расстраивались, ведь название в фильме не самое главное, самое главное в фильме это сюжет, но вот только и с сюжетом были проблемы. Во-первых, лента кинофильма сама по себе не звучала и даже не смотря на то, что герои на ней усиленно открывали и закрывали свои рты, узнать о чем они разговаривают мы не могли. А во-вторых, кинопленка была такой длинной – миллион километров и никак не меньше! – что уследить за движением немого сюжета оказалось совершенно невозможным: тут все не так, как когда смотришь фильм по-настоящему в темноте кинозала. Например, герой лихо выхватывает пистолет из кобуры, прокручивает его на указательном пальце и убивает плохиша-злодея выстрелом из него и все это за какую-нибудь коротенькую секундочку. А на пленке что? Миллион совершенно одинаковых кадров тянется километр за километром, а пистолет еще и на сантиметр из кобуры не вытащен, а уж дождаться, когда герой укокошит злодея совсем нет никакой возможности. Поэтому, мы с Феньком раздобыли ножницы и нещадно накромсали пленку. Мы вырезали понравившиеся нам кадры и раскладывали их один за другим по полу. Так у нас получилось не менее десяти разных историй, объединенных одними и теми же персонажами.
И что это были за персонажи! Главным героем, несомненно, был вечно небритый парень с кнутом и пистолетом, который никогда не появлялся в кадре без своей шляпы. У небритой шляпы была девушка, кудрявая и глазастая красотка, а то, что она его девушка было понятно по тому, что именно от нее, а не от злодеев, главному герою доставалось больше всего: лупила она его почем зря, а, может, впрочем, и за дело – сложно разобрать.
– Как его зовут? – спросил я как-то Фенька, рассматривая кадр, на котором небритая шляпа яростно сверкая глазами стоял посреди горящего помещения.
– Ваня, – недолго думая ответил Фенек.
– Как Ваня?! – возмутился я.
Во всех сюжетах слова за главного героя придумывал я и поэтому мне хотелось, чтоб небритую шляпу звали как-нибудь героически.
– А как? – спросил тогда Фенек.
– Не знаю, полковник Лоуренс? – томно выдохнул я.
– Какой-такой полковник Лоуренс? – переспросил Фенек.
Я пожал плечьми, я и сам не знаю, как это имя всплыло в моем сознании.
– Хорошо, – согласился Фенек, – пусть будет полковник Лоуренс.
Хорошо-то хорошо, да Ваня так и остался почему-то Ваней и никаким полковником Лоуренсом так и не стал. Но за Ваню я Феньку, конечно, отомстил.
– Спаси меня, Ваня! – заорал Фенек, поднеся к керосиновой лампе кадр, где плохиш в тюрбане, хватает девушку главного героя за шею. – Ваня, Иван! – требовательно простонал Фенек.
Я поднес к керосиновой лампе следующий кадр. На нем главный плохиш-злодей в круглых очках тянется к девушке главного героя раскаленной кочергой.
– Говори, Дульсинея! – заорал я самым противным своим голосом, изображая плохиша. – Твой Ваня тебе не поможет! – проскрипел я и зловеще засмеялся.
Не знаю уж откуда я выдумал и это имя, но мне показалось, что я за Ваню вполне отомщен Дульсинеей, а Фенек без боя и особого, впрочем, интереса легко принял новое имя для своего персонажа.
Фенек снова поднял предыдущий кадр, где плохиш в тюрбане держит Ванину девушку.
– Ваня, Ваня! – жалобно запищал Фенек. – Он меня сейчас кочергой изжарит!
– Не бойся! – ответил я и достал следующий кадр, где небритая шляпа кнутом выбивает кочергу из рук злодея в круглых очках.
Я всегда завидовал его этому кнуту. Вот мне бы такой кнут, я бы уж показал новенькой как я ее люблю.
– Ох, Ваня! – шепчет Фенек и поднимает кадр, где девушка главного героя висит у него на шее.
Главный плохиш в этой киноленте, тот, не в тюрбане, а в круглых очках, удивительно похож на Витю: толстенький с толстенькими ручками-ножками, с маленькими глазками и поросячим носиком на толстенькой же физиономии – просто вылитый Витя в виде взрослого человека! Только вот одевался главный плохиш совсем по-другому, одевался он аккуратно и одно к другому: длинный кожаный плащ, хлыщевый какой-то наряд под ним и кожаная же шляпа.
– Смотри, на Витю похож, – сказал я Феньку и показал ему кадр с главным плохишом.
– Только Витя без очков, – сказал Фенек.
– Все равно, – сказал я, – пусть и без очков.
Как бы не начиналась нарезанная нами лента, с того, например, как небритая шляпа пробирается в пещеру полную ловушек и выкрадывает оттуда какую-то статуэтку или с того, как он убегает от большого круглого камня, в каких бы передрягах не оказывался наш мой герой один или на пару с Дульсинеей и какие бы козни не строил против них Витя в черно-кожанной шляпе и другие плохиши, в конце концов все герои, участниками какого бы сюжета они не были бы, оказывались в одном месте, где все они и еще целая толпа с хоругвями и замысловатыми на них крестами собирались вокруг какого-то ящика. Ящик не ящик – рундук с ручками, чтоб его таскать туда-сюда: ну они там полфильма его и таскают за ручки эти. И так они там этими своими хоругвями, так похожими на наши, усердно трясли, что в конце концов из рундука вырывалась какая-то неведомая сила, навроде черта, и убила всех кроме, разумеется, хороших парней и их красивых девушек.
– Может и капеллан пытается кого-нибудь вызвать? – сказал я.
Фенек глупо хихикнул.
– Прикинь вызовет? – спросил я.
– Не бойся, даже если и вызовет, хорошие парни и их девушки никогда не погибают, – сказал Фенек и подмигнул мне на Женин манер.
Когда потом, многим потом, я буду рассказывать новенькой эту историю и объяснять, почему я тогда не пустил ее в будку киномеханика, Фенек скажет:
– Там был Ваня в шляпе и Дульсинея тоже была. А вот Вити-злодея там не было. И хоругвей тоже там не было, и никакого черта.
Поэтому, я, наверно, снова напутал и неправильно все рассказываю.
Так вот, Ева растворилась где-то во внутрях моего кинотеатра «Космос» и передо мной сразу же материализовался Витя.
Великолепный синяк уже почти сошел с его лба, теперь это просто шишка и шишкой этой Витя страшно гордится: ходит, рассказывает всем, что набил ее в Крестовом похода, да-да, в Пятом, а при каких обстоятельствах, если спросят, набил он, Витя, шишку, он, Витя, никогда не рассказывает, а только корчит загадочную физиономию и губами еще так, причмокивает – туману напускает.
– Тебя капеллан искал, – сказал Витя.
– Спасибо, – сказал я, – мне уже сообщили.
– Кто? – спросил Витя.
– Кто надо, – огрызнулся я. – Тебе какое дело?
– А такое, – не растерялся Витя, – тебя утром не было.
– И что?
– А то, – Витя уж причмокнул. – Где ты был раз не здесь?
– Отстань, Витя, – попросил я Витю.
– Так где? – не унимался Витя. – С новенькой? – предположил он.
Глазки у Вити влажненько блестят, Витя требует ответа.
– Шерами, – сказал я, – обойдемся без предварительных ласок, давай лучше я тебя сразу по уху шлепну и дело с концом, даккор?
Моя угроза на Витю неожиданно подействовала, он что-то пробурчал под нос, запихнул руки в карманы брючек и обиженно дематериализовался.
Я забрался по главной лестнице, с которой новенькая содрала красную дорожку, на последний этаж Храма Новой Армии Спасения и встал около тяжелых двойных дверей кабинета капеллана. Оттуда такой скрип! – это капеллан гимны свои пишет. Писал он всегда пером и только пером. Не знаю уж где он достает эти индейский перья, не ворон же он ради них ощипывает, но скрипят они по бумаге совершенно ужасно, хуже даже, чем ногтем по стеклу. И судя по тому, как скрипит его перо сейчас, капеллан находится в самом настоящем творческом экстазе. Что ж, самое время его перебить и оторвать. И я громко постучал: та-та-та-даа, та-та-та-даа. Скрип тут же перестал.
– Кто там? – спросил капеллан из-за двери.
– Судьба стучится в дверь! – сообщил я, нажал бронзовую ручку, легонечко приотворил дверь и засунул голову в кабинет капеллана.
– Чегой-то? – удивился капеллан.
– Шутка, – объяснил я.
– Смешно, – согласился капеллан даже не улыбнувшись. – Зачем головой стоишь? Заходи, – пригласил он меня вовнутрь.
Я приотворил дверь еще на чуточку и вошел:
– Желали видеть, мой капеллан? – спросил я.
Но капеллан, кажется, меня не услышал, опять пером своим заскрипел.
Он сидит за столом покрытым зеленым, сильно замурзанным по краям сукном. На столе: стопка исписанной бумаги, стопка еще чистой, несколько скомканных листов тут и там, бронзовая чернильница, вечный календарь с термометром, стрелка которого издохла на нуле, пишущая машинка на самом углу и сам капеллан. Капеллан так мал для своего стола, что его почти и не видно: огромная голова капеллана, фальшивая рука капеллана с заправленным в нее пером, настоящая рука капеллана одними только пальцами да одно плечо с погончиком – вот и все, весь остальной капеллан где-то под крышкой. Да еще и огромадная пишущая машинка сильно его загораживает.
С машинкой с этой вышла однажды приподлая штука. Где он ее нашел или она здесь уже была, этого я не знаю, но придумал капеллан тогда хорошо. Он придумал печатать свои гимны левой, настоящей рукой. Это было бы очень кстати, потому что пишет капеллан своей фальшивой как курица лапой и даже хуже, чем курица лапой, а левой, настоящей писать совсем не умеет. Но пишущая машинка, как, кажется, и все на белом свете отказалась работать как следует. Капеллан нажимал на А, а на заправленном в машинку листе отпечатывалась Б. Он нажимал на Б, а на листе появлялась А. С другими буквами – та же история; а знаки препинания перепутались с цифрами – и это просто доконало капеллана. Капеллан тогда водил в свой кабинет всех мальчиков по очереди, а некоторых так и по нескольку раз, демонстрировал каждому машинку и то, что она не работает, нажимал на разные клавиши, придирчиво проверял и каждый раз оказывалось, что она печатает совсем не то, что надо, а он возмущено спрашивал:
– Да что же это?! Да как так-то?! – будто бы кто-нибудь мог бы ему ответить.
Машинку же капеллан никуда не убрал, так и стоит она у него зачем-то на столе – затем разве, что может быть капеллан иногда и время от времени проверяет не заработала ли?
Впрочем, это все дела давно минувших дней, сейчас капеллан сидит будто меня здесь нет и что-то строчит там у себя.
Капеллан высовывает кончик своего языка от усердия, кусает его, отчего тот белеет, скрипит по бумажному листу пером и что-то шепчет тихонечко почти как про себя, время от времени тыкает кончиком пера в чернильницу, обстукивает его о ее край и снова пишет, и снова шепчет. Вдруг капеллан оторвался от письма, задрал голову и устремил свой взгляд куда-то туда, где противоположная от него стена встречается с потолком, и закаменел. Посидел так, посидел, вдруг ожил, почесал свой нос кончиком пера, снова потыкал в чернильницу, обстучал о ее край, тук-тук-тук, и снова пошел скрипеть: хрг-грм-трк. Так вот что это такое у него на носу: никакая это не муха, это он себе нос, оказывается, пером чешет, когда сочиняет свои гимны.
Наконец капеллан вспомнил про меня: он поднял свои глаза, не отрываясь от письма. Ха, вот это трюк! Раньше я почему-то не замечал, чтоб он такого умел: капеллан как бы одновременно смотрел и на меня, и в бумажный лист, который он марал очередным своим гимном. Но это не выглядит так, будто бы он косит глазами в разные стороны или что-нибудь навроде, он именно умудряется одновременно смотреть сразу в два места – удивительное существо наш капеллан!
– Слушай! – воскликнул капеллан и принялся декламировать, водя глазами от строчки к строчке по исписанному, но и не сводя глаз с меня в тоже время.
Гимн был длиннющий, на несколько листов, а оканчивался он приблизительно таким трехстешием:
Жизни начало не ведает страшную тайну конца
Что полагается, то полагается
Об остальном даже думать нельзя!
– Нравится? – поинтересовался капеллан.
– Хорошо сказано и тонко подмечено, – соврал я.
– Анапест, – похвастался капеллан.
Я, конечно, и сам ямба от хорея не отличу, но мне вдруг захотелось поспорить с капелланом:
– Амфибрахий, – говорю, – да еще и хромой какой-то.
Хромой амфибрахий почему-то очень понравился капеллану, он аж засиял.
– А что, так бывает, – как-то даже застенчиво спросил капеллан, – чтоб хромой?
Ну уж я не стал его расстраивать:
– Бывает, конечно, – говорю, – и вот его блестящий пример, – и на бумажечку, что лежит перед капелланом, показываю.
– Великодушно благодарю, – осклабился капеллан и кивнул, вроде как поклонился.
Лицо капеллана вдруг резко переменилось, будто бы он о чем-то вспомнил.
– Я вот зачем тебя звал, – выпалил он.
Капеллан хлопнул своей фальшивой рукой по столу, отчего перо заправленное в ее деревянные пальцы вылетело и шлепнулось на замаранный каракулями лист бумаги капнув на него размашистой кляксой, соскочил со стула, обошел стол и встал вплотную ко мне, почти носом к носу. Он схватил за пуговицу мою рубаху, подтащил меня за нее еще ближе к себе да так и закаменел, только глаза его, колокола его бьют где-то со мною рядом и на мне все никак сфокусироваться не могут.
Наконец глаза капеллана успокоились и уткнулись мне куда-то под кадык.
– Вы мне тут, – сказал он тихо, будто боялся, что кто-то кроме меня его услышит, – с безымянной этой… – он замялся.
– С новенькой? – помог я капеллану.
– Ну с новенькой, – согласился он. – Вы мне тут детей только не начните делать.
Я аж присел чуточку хоть и стоял:
– Как это? – вывалилось из меня.
Капеллан тяжело вздохнул и притянул меня за пуговицу совсем вплотную.
– А так, – сказал он уже погромче. – Слушай! Когда-то давным давно на земле жили мужчина и женщина, первые люди.
– В чем первые? – спросил я.
– Во всем, – ответил капеллан, – потому что других людей тогда еще не было. И звали их Адам и Ева. Знаешь такую историю?
Я всем телом дрогнул, когда про Адама и Еву услышал.
– Нет, не знаю, – зачем-то наврал я.
– А надо бы, – вздохнул капеллан.– Слушай дальше, чадо! Каждый мужчина в каком-то смысле Адам и каждая женщина в каком-то смысле Ева.
– В каком? – перебил я.
– В каком-то, – повторил капеллан. – Так вот, было сказано им: «Плодитесь и размножайтесь».
– Хорошо! – обрадовался я.
– Хорошо, – согласился со мной капеллан, но тут же не согласился: Я же говорю вам: «Подождите!»
– Кого?
– Не кого, а подождите.
Я стою пень пнем, ресницами хлопаю, делаю вид, что не понимаю и вдруг капеллан как заорет:
– Запрещаю любые мероприятия направленные на увеличение численности!
Я изобразил, что сейчас расхныкаюсь:
– Как это? – промямлил я.
Капеллан снова тяжело вздохнул, отцепился, наконец, от моей пуговицы и ретировался обратно за свой стол, расстегнул у горла серенькую курточку, вздохнул во всю свою чахленькую грудь и стало понятно, что сейчас он разразится речью.
– Значит так, чадо, межполовой вопрос, – озаглавил свою речь капеллан.
Я пусть пока и не принимал участия в мероприятиях направленных на увеличение численности, но вполне себе представляю к чему ведут все эти нелепые телодвижения. Поэтому это я так из себя дурака корчу, чтоб побесить капеллана, а еще смешно смотреть, как он пыхтит и краснеет, объясняя мне столь деликатную тему – и поэтому тоже, что смешно.
В общем и целом, капеллан неплохо осветил межполовой вопрос, на твердую троечку, только вот начал слишком уж издалека. Так я узнал, например, что существует несколько способов размножения:
– Червяк он, что? – спрашивал сам себя капеллан. – Червяк он, создание самого низкого порядка, – отвечал он сам себе. – Червяка разруби посерединке лопатой или ногтем его разполовинь и что получится? Два червяка получится – размножился считай. А вот гидра, например, уже сложнее, она сама с собою делится на две части, но и ее тоже можно лопатой или ногтем, так тоже работает. А ты, у тебя все не так, ты – высшее создание, венец так сказать! Тебя не располовинишь запросто так, для этого женщина нужна.
– Тычинки! – вспомнил вдруг капеллан. – Ну и пестики еще, – добавил он.
И капеллан завел о пестиках и тычинках, и говорил нудно и все как-то расплывчато и так к самому главному, про женщину, не вернулся.
Пока капеллан рассказывал мне о тонкостях размножения, взгляд его блуждал по зеленому сукну стола, огибал чистые бумажные листы, столкнулся пару раз с бронзовой чернильницей, описал вокруг нее несколько кругов, обтер каждую сторону вечного календаря не по разу, обошел стороной ненавистную пишущую машинку, резко перескочил через весь стол с одного его края на другой, прямо на стопку исписанных бумаг и оставался там, на той стороне, и до самого конца оттуда не возвращался, а лишь только бродил по чернильным строчкам гимнов.
– …ни при каких условиях, ни за что. И пусть соблазн велик, а соблазн есть, должен уже быть, необходимо побороть, вытоптать его в себе и дождаться благоприятных условий, потому что уж никак не в сложившихся обстоятельствах же! – закончил свою речь о межполовом вопросе капеллан и хлопнул своей фальшивой рукой по крышке стола.
– Все ясно? – спросил он.
– Безоблачно! – отрапортовал я, мне, чес-слово, надоело уже и ни капельки больше не смешно.
– Молодец! – похвалил меня капеллан, краска с его лица тут же прошла. – Можешь быть свободен.
Я козырнул капеллану по военному, развернулся на каблуках и было уже пошагал к дверям, как вдруг вспомнил:
– Карта, – сказал я и развернулся обратно.
Взгляд капеллана сразу изменился, из блуждающего он в ничтожную долю секунды превратился в сверлящий.
– Какая карта? – спросил капеллан осторожно и засверлил меня взглядом где-то в районе правой коленки.
Я расстегнул несколько пуговиц и достал из-под рубахи карту.
– Карта, где все-все обозначено, – сказал я, – нам ее дал Слепой Волк, вам велел передать.
Капеллан удивленно изогнул одну только бровь, а взглядом всверлился вдруг мне в левое предплечье, где-то по серединке.
– Вместе с глазами, помните? – напомнил я, потому что капеллан так и молчит, предплечье мое сверлит.
– Здесь обозначен наш район и районы, куда нам ходить нельзя, – объяснил я, а капеллан, наконец, расправился в моим предплечьем, теперь вот в груди дырку мне сверлит рядом с самым сердцем, сверлит и все молчит.
Я развернул карту и показываю капеллану ее лицевой стороной; капеллан всверлился в карту.
– А вы знали, что магистральные дороги, автомагистрали, кольцевые дороги и городские автотрассы следует считать нейтральными территориями?
– Это почему еще? – ожил вдруг капеллан, но глаз на меня все равно не поднял.
– Тут так написано, – говорю.
Капеллан что-то совсем как-то размяк, стал будто бы маленький старичок: три морщинки на его лбу превратились в три глубоких рытвины, раньше ровно-ровные, теперь будто шрамы корявые; обмякли брыли, повисли; скулы сползли; глаза заглубились, а свод век над ними почернел; даже маленький остренький его носик как бы потупел и кончиком свесился к запавшим и без того тонким его губам.
– Можно мне, – тихонечко, как бы не ко мне обращаясь, проговорил капеллан.
Я сложил карту и положил ее на стол перед капелланом.
– Никто не знает, – сказал я, – только еще Фенек, но и он никому не скажет.
Вдруг капеллан стукнул по карте своей фальшивой рукой и сразу весь переменился – теперь это снова наш старый-добрый трехлычковый капеллан.
– Совершенно замечательно, – объявил он.
Я не стал уточнять, чего такого совершенно замечательного нашел капеллан во всем этом, мне как-то стыдно за него стало перед самим собою, что он так резко вдруг переменился.
– Еще вопросы имеются? – заорал я на капеллана совершенно в его же, капеллана, духе.
– Вопросов больше не имеется, – был его ответ.
– Тогда я пойду? – спросил я.
– Благодарю за службу! – выпалил капеллан. – Очень ценю, очень.
Благодарю за службу! – разве дождешься от капеллана простого спасибо!
Я вытянулся и козырнул. Капеллан тоже вытянулся и ответил мне тем же жестом. Я снова развернулся на каблуках и, задирая ноги выше ушей, пошагал к дверям, врезался в двери со всего размаху, распахнул их обе широко, оглянулся на капеллана, который так и продолжал стоять фальшиво держа фальшивую руку у своего виска, так и не выдавив из него ничего человеческого, – улыбнулся бы хоть чтоли! – я все тем же дурацким манером пошагал вниз по лестнице и перешел на нормальный шаг только когда стало ясно, что капеллан меня больше не может видеть.
Я спустился в вестибюль, привычно поздоровался с космонавтом, потоптался там, в вестибюле, несколько времени: на улицу не хотелось, в вестибюле оставаться тоже почему-то было совершенно нельзя и я побрел в темноту кинозала моего кинотеатра «Космос».
Женя и Фенек уже были тут, лежали распластавшись на своих спортивных матах, уставшие после пробежки.
Я встал рядом с ними, расставил ноги, руками изобразил какой-то широкий жест и говорю голосом полным драматизма:
– А теперь, – говорю, – внимание, вопрос!
– Какой вопрос? – спросил Фенек.
– Спрашивай, – разрешил Женя.
– Чего? – на соседнем с моим спортивном мате из-под тряпья высунулась Витина голова.
– Вопрос! – повторил я. – Как меня зовут?
Все замолчали, передумывают и только Витя свое вечное:
– Чего? – но и он, протянув это свое «чего?» тут же замолчал.
Разбил тишину Фенек:
– Как… – переспросил Фенек.
– …меня зовут? – закончил за него я.
– Эй! – Женя эйкнул озадаченно. – Действительно, как?
И все снова замолчали, обдумывают. В полной тишине слышно только, как Женя свое пузо скребет, это у него такой способ думать.
Фенек снова разбил молчание.
– Ваня? – предположил он вполне уверенно.
– Ваня? – удивился Женя.
– Ваня? – протянул Витя.
– Нет, дорогая Дульсинея, – сказал я Феньку, – точно не Ваня.
– Дульсинея? – еще больше удивился Женя.
– Какая такая Дуленьсея, а? – спросил Витя.
– Чего? – это Женя Вите.
– Нет, так нет, – сказал Фенек. – Заставлять не буду!
– Спасибо большое, – поблагодарил я Фенька за его великодушие.
– А мне все-таки хотелось бы знать, – раздался опять Витин голос, – кто есть эта Дулиснея?
– Дульсинея, болван! – поправил я Витю.
– Кто? – спросил Женя, ничего не знавшей об истории Вани и прекрасной Дульсинеи.
– Кто, а? – это снова Витя.
– Какая тебе разница кто такая Дульсинея! – почти закричал я. – Неужели никто не помнит как меня зовут?!
Снова все затихли. Фенек только открыл было рот, но ничего так и не выдумал и закрыл его обратно. И Женя еще пузо чешет со всем усердием.
– Чё ты нас мучаешь? – завопил вдруг Витя, будто бы я ему, Вите, по уху снова съездил. – Ты сам-то помнишь? Помнишь или нет?
– Кажется нет, Витя, не помню, – признался я.
– Как так? – ухнул Фенек.
– Как? – эйкнул Женька.
– Как, а? – пропищал Витя.
– Вот так, – ответил я. – Женя прекращай чесать пузо, не поможет тебе это, все равно не вспомнишь.
Женя послушно прекратил.
Хорошо им, и Вите хорошо, и Жене, у них имена есть, у Фенька… Стоп! А как зовут Фенька? Об этом я никогда почему-то не думал.
– А тебя как зовут? – спросил я Фенька.
– Ты и этого не помнишь? – удивился Фенек и схватился за свою ржавую башечку.
– Да как же так! – воскликнул Женя и снова за старое, когтями пузо себе начесывает, но на этот раз, кажется, от волнения.
– Как, а? – это Витя, это он по-привычке повторяет одно и тоже наверное.
– Так помнишь как тебя зовут или нет? – снова спросил я.
– Конечно помню! – говорит Фенек.
– И как? – спрашиваю.
Фенек жалостливо на меня посмотрел:
– Фенек, – говорит.
– Фенек, – подтверждает Женя.
А Витя на этот раз почему-то смолчал.
– Понятно, что Фенек! – воскликнул я. – А звать-то тебя как? Имя у тебя какое?
Фенек растерялся.
– Фенек, – повторил Фенек не совсем, впрочем, уверенно.
– Фенек, – снова подтвердил Женя.
А Витя опять промолчал.
– Разве тебя всегда так звали? – спросил я.
– Всегда, – сказал Фенек.
– Всегда, – повторил за Феньком Женя.
– Ты к сути переходи, к сути! – заверещал Витя; кажется, он, Витя, единственный понял что я имею ввиду.
– Как всегда? – говорю. – В паспорт тебя тоже Феньком записали?
– Куда? – не понял Фенек.
– Да, куда? – спросил Витя.
– Не было у него паспорта, – сообразил вдруг обычно не самый сообразительный Женя. – Он же маленький.
Интересно, а у меня был паспорт с именем или это мне только что так стало казаться, что был, что непременно должен был быть.
– Ну хорошо, не было, – согласился я, – а от рождения тебя как звали?
– Я не помню! – вдруг вспомнил Фенек. – Фенек? – предположил он робко.
– Фенек, – эхом повторил за Феньком Витя.
– Фенек, – эхо отскочило и от Жени.
И тут меня осенило:
– А вдруг и ты не Женя? – предположил я.
– Как это не Женя? – возмутился Женя.
– Да, как? – встрял Витя.
– А ты вдруг не Витя? – тыкнул я в Витю пальцем.
– Как это не Витя? – это Женя.
– Да, как? – это Витя.
– Я ничего не утверждаю, я просто предполагаю, – сказал я, расставил руки стороны и наотмашь шлепнулся на свой спортивный мат лицом вниз.
Мне почему-то вдруг так обидно стало, что я не помню как меня зовут, что захотелось и имя каждого как бы под сомнение поставить, вот поэтому я так и сказал. Может быть и не самый лучший мой поступок, но вот такой уж я человек. Одно утешает, теперь у меня есть новое имя, пусть оно только для нас двоих, для меня и новенькой.
– Вдруг ты еще вспомнишь, – услышал я голос Фенька, это он, Фенек, меня поддержать старается.
– Вспомнишь, – услышал я Женин голос, это и он, Женя, выражает мне свое сочувствие.
– Давайте играть в домино! – предложил вдруг Фенек и я сразу же услышал как защелками доминошные костяшки друг об друга: надо понимать, это не предложение.
Фенек высыпал доминошные костяшки прямо на пол между моим и своим спортивным матом, проверил и перепроверил, чтоб они все спинками вверх и аккуратно их перемешал.
Я сел на своем мате и скрутил ноги по-турецки, Женя улегся рядом на живот.
– Нам нужен четвертый, – напомнил я Феньку. – Ведь мы играли вчетвером со сторожем.
– Может, новенькую позовем? – предложил Женя.
Ага, Женя, щас!
– Ей это неинтересно, – заверил я Женю.
– Как это неинтересно? – удивился Фенек.
– А что ей интересно? – спросил Женя, а сам на меня уставился.
Вот если он сейчас деланно подмигнет, я его по лицу ударю.
Конечно же Женя подмигнул, кто бы сомневался, да только не я. Правая его бровь слегка дрогнула, поднялась, Женя наклонил чуточку голову вбок, бровь его снова чуточку дрогнула, поползла вниз и глаз под ней глубоко закрылся, а потом и накрепко зажмурился – вечно вгоняющий меня в краску Женин жест.
Вот если я сейчас покраснею, то тогда уж точно ударю Женю по лицу.
Конечно же я покраснел, кто бы сомневался, да только не я. Я кажется и создан только для того, что бы вот так краснеть от Жениных издевательств, ничего другого у меня так хорошо не получается. Ах да! еще у меня хорошо получается запрыгивать на Женю в жалкой попытке его, Женю, отмутузить и не важно даже, что каждая попытка заканчивается одним и тем же: Жениной безоговорочной победой, моим позорным поражением. И пусть так, ведь это дело чести, мое сердце алчет отмщения. И я запрыгнул на Женю, как делал это, кажется, миллион уже раз и никак не меньше, и кто бы сомневался да только не я, в миллион первый раз оказался с выкрученной рукой и мордой в пол: Женя выкрутил мне руку хорошо отрепетированным манером и тут же оказался на мне. Я попытался вырваться из-под Жени даже не потому что действительно надеялся вырваться из-под него, я попытался освободиться, следуя давно заведенному между нами порядку, потому что так поступают те, кто не имеет надежд на победу, но храбр сердцем. На этот раз у меня даже почти получилось, мне удалось чуточку приподняться с земли и нас с Женей даже качнуло в сторону, я завалился на бок и, возможно даже у меня появился шанс, если не на победу, то хотя бы на ничью, но не тут-то было – мне на помощь пришел Фенек. Фенек издал боевой клич и запрыгнул на нас с Женей, а я не выдержал груза этих двоих на себе, снова рухнул на живот и вдруг какая-то неведомая сила подхватился нас троих и мы покатились куда-то клубком ухая, эйкая, испуская стоны и рассыпая проклятия. Мы катились вдоль стеночки прямо по уложенным вдоль нее спортивным матам, то соскакивали с них, то опять на них забирались пока не докатились до самого последнего мата. А как мы докатились до самого последнего мата, так сразу покатились обратно рассыпая проклятия, испуская стоны, эйкая и ухая. Маты, маты, маты, Женин мат, мат Фенька, костяшки доминошек впились в мою спину, мой мат и Витин – я сразу ощутил под собой мягонькое и тепленькое.
Витя издал раскатистый звук совершенно определенной природы: Женя тактично промолчал, Фенек завистливо ухнул, я же просто скривился и тоже промолчал, что тут скажешь – Витя.
Витя откопался из-под тряпок, которые служили ему постелью и запричитал:
– Опять ты? А-а-а?! Ну что ты пристал ко мне, как…
Витю оборвал Женя.
– Эй! – заорал он радостно в мое почему-то, а не в Витино ухо. – Четвертым будешь!
– Не буду! – не согласился Витя.
– Почему? – удивился Женя.
– Не хочу быть четвертым, – сообщил Витя.
– Почему? – это опять Женя.
– Потому что не хочу, – уперся Витя, а Женя на это ему опять:
– Почему?
Так они и до вечности могут, заело их, пришлось вмешаться:
– А каким ты хочешь быть?
– Первым! – просиял Витя.
– Почему? – не унимался Женя.
– Потому! – крикнул я на Женю. – Слезь с меня, мне тут дышать нечем! И ты мне руку сломал.
– Не кипиши, может еще и не сломал, – сказал Женя и слез с меня.
Я встал и расправил грудь. Внутри меня что-то щелкнуло и будто бы встало на место. В общем все кажется ничего, только поднывает плечо той руки, которую чуть не выдрал из меня акселерат.
– Ну? – спросил Женя.
– Нормально, – сообщил я, – жить вроде буду.
– Хорошо, – обрадовался Женя.
– Хорошо, – согласился с Женей я.
– Умеешь в домино играть? – спросил Витю Фенек.
– Не умею! – заверещал Витя. – Отстаньте от меня, что вы все ко мне пристали! – Витя тыкнул в меня своим грязненьким пальчиком: А особенно – ты!
– Не бойся, – сказал Женя, Витино брюзжание он по обыкновению пропустил мимо ушей, – мы тебя научим!
– Я не буду ничего учить! – запротестовал Витя. – Я не буду ни во что с вами играть!
– Почему? – удивились Фенек и Женя.
– Не хочу! – ответил Витя на первый вопрос, а потом и на второй: А играть с вами больно, вот почему!
– Ничего не больно! – возмутился Женя и бесцеремонно выволок Витю за шкирку на мой мат.
В домино правила простые да и Витя оказался удивительно сообразительным и почти сразу все понял: цифра к цифре, нет нужной – иди на базар.
– Да понял я, понял, – проворчал Витя и привередливо выбрал себе пять доминошек.
– У кого дубль-один? – спросил я.
– Погоди! – перебил меня Витя. – На что мы играть будем?
– Как на что? – не понял Фенек.
– Ну, что будет тому, кто выиграет, а? – объяснил Витя.
– Тому будет победа! – предложил Женя.
– И все? – разочаровано протянул Витя.
– Хорошо, – сказал я, – а что у тебя есть?
– Пока ничего, – сказал Витя. – Вот выиграю чего-нибудь, тогда и будет.
– Чтоб выиграть чего-нибудь, надо поставить чего-нибудь, а у тебя ничего нет, – объяснил я ему.
– Давайте на щелбаны! – я вспомнил, что со сторожем-то мы на щелбаны играли.
– Как так на щелбаны? – не понял Витя.
– А вот как! – сказал я и легонькой, но удивительно звонко щелкнул Витю по лбу.
– Ай! – завопил Витя. – Больно! Говорю же, с вами играть больно! Не хочу!
Витя развернулся на заднице и пополз было уже обратно к себе на мат, но Женя поймал его за шкирку и вернул на место.
– Да отбей ты ему щелбан обратно наконец! – воскликнул Женя.
Женя, видимо, крепко решил научить Витю давать мне отпор.
– Можно? – нерешительно удивился Витя, смотрите-ка, осмелел неожиданно.
– Ясно, можно! – подтвердил Женя.
– Можно, – неохотно разрешил и я.
Я, может быть, и не разрешил бы, но тут вопрос справедливости.
Витя приподнялся, чтоб дотянуться до меня, робко приложил свою влажную ладошу к моему лбу, скрепился весь как смог, оттянул средний палец и щелкнул меня. Да так подлец хорошо щелкнул, что у меня мозги в черепухе загудели.
Я разжмурился и увидел перед собой счастливую Витину рожу, сияет она у него, как вычищенный самовар. Витя улыбается остро, как-то непривычно втягивая кончики своих губ вовнутрь и с этой странной улыбкой он еще больше похож на того черношляпого Витю из накромсанного нами с Феньком кино.
– Не делай себе привычки, – я отстранил Витю от себя.
– Будем играть на интерес, – объявил Женя.
– Это как? – не унимается Витя.
– Выигравший выиграет, а проигравший проиграет, – объяснил Женя. – Это и есть «на интерес».
– На интерес не интересно, никакой выгоды… – заскулил Витя, но Женя на него так посмотрел, что Витя пришлось заткнуться.
Знаете что у Вити есть и это даже какого-то рода уважение к нему, к Вите, вызывает? Позиция, своя позиция во всем и всегда у Вити есть. Она, конечно, может быть, вам и не понравится, но то, как Витя на ней крепко стоит и даже ни на шажочек от нее никогда не отступается – этого просто нельзя не уважать.
– У меня дубль-один, – ответил на мой давнишний вопрос Женя, – я хожу.
Мы складывали доминошки между собой, цифра к цифре, ходили на базар, если подходящей не было и через несколько кругов Витя деловито кладет последнюю свою доминошку и говорит:
– У меня все! – заявил он, поднял руки и показал нам свои ладони. – Я выиграл!
Витя сидит радостный на моем мате, глазки его жирненько блестят, но никто не спешит его поздравлять: мы втроем молчим, переглядываемся только. У Жени две доминошки на руках, у Фенька тоже две, а у меня одна. У Вити действительно ни одной не осталось.
– Я же выиграл? – повторил Витя.
– Домино заработало! – благоговейным шепотом сказал Фенек.
– Домино заработало! – повторил за Феньком я.
– Заработало! – подтвердил Женя. – Рыбы нет!
– Какой рыбы, а? – затянул Витя. – Я выиграл!
Но никто его не слушал. Фенек вскочил и с криком «Заработало! Заработало!» начал танцевать. За Феньком вскочил и Женя. Он схватил Фенька, несколько раз подкинул его, поставил обратно на пол, схватил меня, не слушая моих протестов, подкинул и меня несколько раз, и, так как его самого никто подбрасывать не собирался, подпрыгнул сам и вот теперь мы все трое танцуем вместе с Феньком.
Мы танцевали рьяно, неистово. Мы танцевали будто мы были чернокожими дикарями из африканских джунглей; мы танцевали будто под страшный рокот жертвенных барабанов; мы танцевали будто охваченные горячечным безумием. Мы задирали коленки выше ушей, махали локтями, корчились и изгибались.
– Эй! – кричит Женя.
– Ух! – ухает Фенек.
– Заработало! – кричу я.
– Заработало! – кричит Женя.
– Заработало! – а это Фенек.
– Я выиграл! – услышал я радостный Витин голос.
Оказывается и Витя с нами тоже танцует. Ну как танцует: подпрыгивает как-то неуклюже, приземляясь сначала на одну, а потом только и на другую ногу, вскидывает свои ручонки к потолку и прижимает их потом себе к груди и весь, ну натурально весь, трясется – даже щеки его, Витины, подлетают, когда он прыгает, делая его глазки до невозможного маленькими и оттягиваются, когда он приземляется, оттягивая за собой и нижние его веки так что становится виден их розовый исподник, как бывает у некоторых собак.
И вдруг из Витиных рукавов вылетело несколько доминошных костяшек. Они стукнули по полу, подлетели, стукнулись друг о дружку и – снова по полу. Все закаменели, между нами встала страшная, темная тишина.
– Ты обманул нас? – разбил тишину Фенек.
– Я хотел выиграть! – сказал Витя с наглостью защищающегося.
– Нечестно? – удивился Женя. – Зачем?
– Затем, что выиграть главное, – объяснил Витя с вызовом.
– Надо доиграть, – мрачно предложил Женя.
Мы с Феньком согласно кивнули.
– Но сначала оторвем Вите руки, – сказал Женя.
– Может на первый раз только рукава? – предложил я.
– Может, – согласился Женя.
Витя вдруг запротестовал:
– Зачем?! – взвизгнул он и, взвизгнув, подпрыгнул даже.
– Чтоб ты там в них ничего не спрятал, – объяснил Женя.
– Думаешь поможет? – усомнился я. – Такой извернется и все равно спрячет.
– Куда? – удивился Женя, его скудного воображения не хватало, чтоб представить себе, куда еще можно спрятать доминошки.
– Да он и в трусы спрятать не постесняется! – пошутил я, мне-то воображения хватает, я с ходу придумаю сто мест куда можно чего-нибудь спрятать, если понадобится.
– Если будут сомнения, я и там проверю! – пообещал Вите Женя, а Витя от такого икнул аж.
– Заодно проверишь, может он петь со всеми или тоже врет, – предложил я Жене.
– Это меня не касается, – совершенно серьезно ответил Женя.
Мы с Женей окружили Витю, взяли его за плечи каждый со своей стороны, Женя схватился за рукав Витиной рубашечки и сильно дернул. Витя качнулся и как-то неопределенно ахнул, рукав оторвался ровно по шву. Я схватился за другой рукав, тоже дернул, Витя опять качнулся, но рукав не оторвался, хрустнул только – не хватило мне сил оторвать Витин рукав.
– Эй! – эйкнул Женя и пришел мне в подмогу.
Женя одним движением оторвал и второй Витин рукав.
Смотреть на Витю – больно делается на Витю смотреть. Он стоит между мной и Женей, опустив голову, будто собирается расхныкаться, скрестил руки и обнимает по-девчачьи сам себя за голые свои, пухленькие плечи. Ну я и не стал смотреть на Витю, подобрал его доминошки и пошел на свой спортивный мат доигрывать.
Мы доиграли еще один круг и – кто бы сомневался да только не я: опять рыба. Но мы не стали хлопать ладошами обо что попадет, кричать радостно кто-кого перекричит «Рыба!», вообще не стали делать ничего из того, что обычно к «рыбе» полагается – на душе так тошно вдруг сделалось и из-за Витиного обмана и от того, что мы так легко в него поверили.
– Собирай костяшки, – сказал Женя Феньку. – Больше не хочется играть.
Витя незаметно дезертировал на свой спортивный мат, закопался под тряпки, которые служили ему постелью да там и затих. Фенек со всей аккуратностью сложил костяшки домино обратно в коробочку. Женя, грустно сопя, тоже ушел на свой мат. А я решил пойти подышать воздухом и отправился посидеть на паперти.
Я сел прямо на ступеньку. Скучная бетонная площадка перед кинотеатром «Космос», по ее периметру – чахленькие березки, у одной в кроне застрял катун – это как он туда запрыгнул? Ветер шебуршит какой-то картоночкой: подбрасывает ее, переворачивает и волочит все дальше и дальше. Вечер. Солнце нависло над горизонтом, еще чуть-чуть и оно завалится, потом будут длинные летние сумерки и начнется ночь.
Во всем белом свете теперь одно только запустение и один только позор. Вселенская поруха, даже домино не работает, а, казалось бы, что может быть проще домино! Нет ничего, что было раньше, но и нового ничего больше нет. И не будет нового уже никогда наверно. И только солнышко все такое же, вечное, неизменное. Весь белый свет рухнул, а солнышко все также поднимается на небо каждое утро и каждый вечер опускается за горизонт. Только на него одно и можно положиться. Разве? Разве можно? А как оно завтра откажется и не взойдет. Разве солнце может отказаться?! Не оно первое, не оно последнее – конечно может! Откажется, как все, что уже отказалось, и все тут. И что мы тогда делать будем?! А ничего мы делать не будем. Капеллан подождет день, подождет два, а как солнце и на третий день не покажется, сочинит гимн на его гибель «Погасло дне?вное светило» или какую-нибудь дичь в этом же роде, присвоит ему номер, ну например, три-шестнадцать-пять и мы выстроимся в полнейшей темноте наших керосиновых ламп в треугольник и будем трясти палками и петь этот его дурацкий гимн. Мы будем петь и трясти палками до самого конца времен.
Дверь за моей спиной скрипнула и на паперть Храма Новой Армии Спасения вышел Фенек. Он сел рядом со мной на ступеньку почти вплотную, его коленка стукнулась об мою.
– Что делаешь? – спросил он.
– На солнышко смотрю, – сказал я.
– Зачем? – удивился Фенек.
– Любуюсь, – говорю.
Фенек посмотрел на солнышко.
– Ух, красивое, – согласился он со мной.
Мы помолчали, а потом Фенек говорит:
– Я ведь просто хотел поиграть, чтоб весело было, – говорит Фенек. – Вот почему Витя такой?! – и уткнулся в меня глазами вопросительно.
Ах, Фенек, что я тебе скажу?!
– Нет причины почему, – говорю. – Витя такой, Женя другой и ты другой, и я, наверное, тоже.
– Но ведь мог же он не мухлевать?
– Может это у него от природы. Создан так чтоли. Вот ты выбирал быть Феньком?
Фенек пошевелил ушами в раздумчивости.
– Нет, кажется.
– И я не выбирал быть собой, и Женя не выбирал быть Женей, и Витя тоже не выбирал быть Витей.
– Но все равно же можно быть культурным человеком, даже если и не выбирал.
– Тогда он перестал бы быть Витей. Разве можем мы перестать быть собой просто по желанию?!
– Наверное нет, – согласился Фенек. – Но я все равно хотел бы, чтоб Витя был хорошим. Можно было бы с ним дружить.
– Представь, а что если все дело в нас, а не в Вите. Может быть для кого-то Витя хороший, просто не для нас?
– То есть он не плохой и не хороший, а и так и так?
– Да. Наверное. Может, и все мы такие, не плохие и не хорошие. Или так: все мы кому-то хорошие, а кому-то плохие. Помнишь Слепого волка, того, Громадину?
– Не такой уж он и громадина, – рассмеялся Фенек.
– А мне он показался самой настоящей громадиной, – рассмеялся и я. – Так вот, он плохой или хороший?
– Он плохой, он глаза собакам вырезает!
– А с нами он был добр, – напомнил я. – Так что?
– Что – что? – не понял Фенек.
– Хороший Слепой волк или плохой? – спрашиваю.
– Ты меня запутал. Так, как ты говоришь, все слишком сложно выходит, – поморщился Фенек. – А должно быть просто: хороший – хороший и значит, а если плохой – то плохой, – Фенек два раза рубанул воздух ребром своей ладоши.
Я улыбнулся.
– Ты это улыбаешься снис… снисх… ад…
– Снисходительно, – снисходительно подсказал я Феньку.
– Да, не улыбайся мне так. Ты просто уже почти взрослый, вот у тебя и мозги набекрень: хорошего от плохого отличить не можешь.
– Наверное, ты прав, – примирительно сказал я.
– Зачем вообще существует все плохое?! – воскликнул Фенек. – Не Витя, а вообще.
– Это риторический вопрос? – спросил я.
– Какой?
– Ты хочешь, чтоб я на него ответил или нет?
– А ты можешь на него ответить?
– Я не знаю могу ли. Я могу предположить.
– Предполагай, – разрешил Фенек.
– Знаешь почему есть тень? – спросил я и показал ему на тень от березок, растянувшуюся во всю длину бетонной площадки.
– Потому что светит солнце? – ответил Фенек.
– Вот именно!
Фенек растерялся:
– Что именно?
– Нет тени без солнышка. Нет тьмы без света. Само существование света обязывает к существованию тьму. Нет плохого без хорошего, нет Жени без Вити. Одно виновник другого и этого, видимо, не изменить.
Фенек тяжело на меня посмотрел:
– Если хорошее существует вместе с плохим, то чего в этом во всем может быть хорошего? – Фенек обвел своей лапкой бетонную площадку имея видимо в виду весь белый свет.
– Например то, что я встретил тебя, и Женю, – сказал я. – А еще я встретил новенькую. Мог бы ведь и не встретить, если бы не это вот все, – и я тоже обвел рукой бетонную площадку, имея ввиду весь белый свет.
– Это да, – раздумчиво согласился Фенек.
– Знаешь что? – мне вдруг очень захотелось поделиться, я почему-то почувствовал совершенную необходимость поделиться, а кому я могу сказать об этом кроме Фенька, не Жене же.
– Что? – спросил Фенек.
– Я ее люблю, – сказал я.
– Новенькую? – зачем-то уточнил Фенек.
– Новенькую, – подтвердил я.
Фенек фыркнул.
– Я ее тоже люблю, – равнодушно сказал он.
– Нет, – улыбнулся я, – я люблю ее совсем по-другому.
– Как по-другому? – удивился Фенек.
– Так, как мужчина любит женщину.
– Фууу! – протянул Фенек, схватился за свои коленки, поддался вперед, разинул пасть и сделал вид, что его сейчас стошнит.
– Только никому не говори, пожалуйста, – попросил я Фенька, – Женьке особенно.
– Фу! – повторил Фенек. – Уж поверь, я такие гадости про тебя болтать не стану!
Ветерок, наконец, утолкал куда-то свою картоночку и все будто бы стихло.
– А что значит, любить так, как мужчина любит женщину? – спросил Фенек. – Это значит, что тебе теперь с ней интересней, чем с нами?
– Ты обидишься, если я скажу тебе правду? – спросил я Фенька.
Фенек подумал.
– Наверно обижусь, – сказал он.
– Мне никогда ни с кем не будет интересней, чем с вами, – соврал я, а Фенек, кажется, все равно на меня обиделся.
Несколько времени мы сидели молча. Фенек попыхтел-попыхтел, пообижался, стукнул даже меня по коленке своим кулачком да и успокоился.
– А про ангелов ты тогда хорошо придумал, зря я на тебя разозлился, – сказал Фенек. – Если бы мы только могли стать ангелами!
– Так ты и так считай что ангел, – сказал я.
– Правда? – удивился Фенек.
– Правда, – я потрепал Фенька по его торчащим лопаткам на которых так и не выросли крылья. – Разве люди умеют так петь? Как ты умеют петь только ангелы.
Мордочка Фенька сровнялась цветом с его веснушками.
– Мне ведь, знаешь, радостно было жить, когда я думал, что стану ангелом, – сказал Фенек. – Так что ты ври-выдумывай, не стесняйся.
– Теперь разрешаешь? – спросил я.
– Теперь разрешаю, – уморно-серьезно подтвердил Фенек, – но только если по делу, а не просто так.
– Хорошо, – согласился я.
– Хорошо, – согласился со мной Фенек.
Мы помолчали еще чуть-чуть. Солнце, наверное, еще не успело скрыться за горизонтом, но отсюда его уже не видно: площадка перед кинотеатром «Космос» стала совсем теперь серой и неуютной.
– Пойдем спать, – предложил Фенек. – Капеллан, наверное, сейчас припрется со своими напутствованиями.
– Пойдем, – легко согласился я, оставаться одному на улице, окутанной серостью сумерек, решительно не хотелось.
– Зажги, пожалуйста, лампадку, – напомнил мне Фенек.
– Все еще боишься темноты? – поддразнил я Фенька.
– Нет, больше не боюсь, – сказал Фенек. – Это я раньше, когда лампадки не было, боялся.
В кинозале горит несколько керосиновых ламп, но почти все уже спят. Витя дрыхнет, Женя разложился на своем спортивном мате и тоже, наверное, дрыхнет.
Я чиркнул спичкой, спичка брызнула и зажглась, я засветил лампадку.
Света от лампадки совсем ничего, но огонек в ней приятно пляшет и от этого становится чуть-чуть уютно. Лампадку принес откуда-то капеллан, потому что Фенек очень боялся темноты по ночам, повесил ее тут, у выхода из кинозала, еще и приколол над ней странную какую-то картину четырьмя железными кнопками. На картине этой есть женщина с нечеловечески грустными глазами. Одной рукой женщина хватается за голову, будто она у нее болит, а другой рукой держит маленького лилипуика за одни только его ноги и решительно не понятно как этот лилипутик у нее из рук не вываливается. Из нормальной одежды у них ничего нет, оба в простыни разноцветные закутаны, женщина так вообще с головой. У лилипутика в руках бумажный лист и там написано что-то, чего не разобрать – буквы странные, на наши похожи как дальние-дальние, седьмая вода на киселе, родственники. Кажется, что художник хотел нарисовать женщину и лилипутика так, чтоб они смотрел друг на друга, но на самом деле их глаза никуда не смотрят, а если куда смотрят, то разве что в пустоту. А еще у лилипутика противоестественно длинные пальцы на ногах и одна ступня намного больше другой, с кистями рук тоже, впрочем, так. Очень странная картина и не понятно зачем она здесь. Капеллан принес ее сложенной вчетверо, поэтому через центр у нее тянутся две пересекающиеся, не разложившиеся складки: горизонтальная складка проходит по самым глазам женщины, отчего они у нее заузились и стали каким-то хонгильдоновскими и еще более грустными.
Я потряс спичкой и направился к себе на спортивный мат. Не успел я лечь, как где-то в глубинах кинотеатра раздался странный то ли скрип, то ли хрип, что-то щелкнуло и что-то хрустнуло и что-то зашумело как радио, которое все никак не может поймать волну.
– Эй! – эйкнул Женя, Женя не спит оказывается.
– Ух! – ухнул со своего спортивного мата Фенек.
– Хрррррр! – раскатился по всему кинозалу Витин храп.
– Что там? – спросил Фенек.
– Кажется, что-то щелкнуло, а потом что-то хрустнуло, – сообщил я.
– Очень ценная информация, – срезал меня Женя.
– Пойдем посмотрим чего там, – кто бы сомневался, что Женя предложит пойти посмотреть чего там, да только не я.
Где-то в глубине Храма снова что-то щелкнуло, а потом снова что-то хрустнуло, теперь забормотало и снова тишина.
– Может само пройдет? – робко предположил я, идти смотреть что там решительно не хотелось, хотелось просто забраться с головой под одеяло и затаиться там.
– Если само пройдет, – возмутился Женя, – то мы никогда не узнаем, чего это там было.
– Вот и хорошо, – это я.
– Ничего хорошего, вставай! – это Женя.
– Может ты с Феньком пойдешь посмотришь, а я, – я замялся, – в тылу останусь.
– Зачем? – удивился Женя.
– Буду охранять, – сказал я.
– Что? – не понял Женя.
– Тыл, – объяснил я.
– От кого?
– Мало от кого!
– Так, – Женя понял, что я морочу ему голову, – бери лампу.
Если я сейчас откажусь, откажусь пусть даже со всей решительностью, то Женя меня за шкирку поволочит посмотреть чего там, он же не отстанет, разве я его, Женю, плохо знаю?! Пришлось соглашаться добровольно.
– А я? – пискнул Фенек. – Мне тоже интересно.
Женя кивнул, мол, присоединяйся.
Раз керосиновая лампа оказалась у меня, то мне пришлось идти впереди всех. Я шел, держа лампу на вытянутой руке, а мои храбрые друзья ступали за мной шаг в шаг, прижавшись к моей спине и укрываясь мной будто щитом: один схватился за один мой бок, другой – за другой.
– Опусти лампу! – шепотом приказал Женя, когда мы очутились в вестибюле.
В вестибюле «щелк!», перемежающееся с «хрясь!» стали слышны отчетливей. И еще бубнеж какой-то между этими «щелк!» и «хрясь!», но что за бубнеж и кто бубнит – не понятно. Понятно только, что весь этот бубнеж, все эти щелчки и хруст происходит где-то на втором или третьем этаже. И что там может издавать такие звуки?
Насекомое, бескрылая муха или паук. Оно сидит там, на этаж или два выше, в уголке лестничной площадки, в темноте. Вся поверхность этой паукообразной мухи выглядит так, будто с нее кожу содрали – красная, но в темноте этого, конечно, не видно, как и не видно, что оно все покрыто редкими волосиками. А глаза! глаза у нее черно-черные, злобно-раскосые, над ними складчатое веки, под – такие же складчатые мешки. Ее лапы в вечном беспокойстве шебуршат, хрустят суставами, она шевелит острыми жвалами, щелкает ими, задирает верхнюю свою хитиновую губу и трясет ею мелко-мелко – получается звук как из ненастроенного радио: это она нас, интересно, к себе заманивает или, наоборот, отпугнуть хочет?!
– Что? – переспросил я. – Зачем?
– Опусти, говорю, лампу! – зашипел на меня Женя. – Слепит и ничего не видно!
– Это тебе может из-за моей спины ничего не видно? – поинтересовался я.
Женя ничего не ответил, Женя тихонечко тыкнул меня в бок и рука с керосиновой лампой опустилась сама собою.
Мелко ступая мы пересекли вестибюль и оказались около космонавта. Я не преминул попрощаться с ним: съест по Жениному капризу меня мухопаук и не увидимся мы больше.
– Прощайте, Юрий Алексеич, – тихонечко прошептал я так, чтоб никто не услышал.
Все тем же манером, я со светом в авангарде и два героя за мной, мы подшагали к лестнице.
– Там! – прошептал громовым шепотом Женя из-за моей спины. – Наверху!
– И без тебя ясно, что наверху! – срезал я Женю.
– Шагай! – Женя легонечко подтолкнул меня к лестнице.
– Я не могу, – пожаловался я.
– Почему? – спросил Женя.
– Фенек схватил меня за бок, оторвет сейчас!
– Эй, Фенек! – приказал Женя. – Ослабь хватку!
– Извини! – извинился Фенек.
– Эй! – снова эйкнул Женя.
– Извини! – снова извинился Фенек.
– Ты можешь никого не хватать за бока? – спросил Женя.
– Страшно, что ух! – признался тогда Фенек.
– Ничего тут страшного, – сказал Женя своим рассудительным голосом выкрученным на минимум, – темно просто.
– Давай до утра подождем, – предложил я. – Светёт и мы пойдем посмотрим чего там.
Наверху опять радио, щелчок и вдруг как хрясь! да так сильно, что мы все втроем разом подпрыгнули, а Фенек снова вцепился в мой бок.
– Фенек! – закричал я шепотом. – Женьку щипай, а не меня, это его затея!
– Извини! – опять извинился Фенек и отпустил меня.
Я ступил на лестницу и поднялся на несколько ступенек.
Щелк! Хрясь!
Еще несколько ступенек и вот мы уже стоим на лестничной площадке. Где эта стрекочущая муха, на этом этаже или на следующем?
Хрясь! Щелк!
Кажется, не на этом, пока можно выдохнуть. Мы двинули дальше.
Радио вдруг поймало волну, не совсем устойчивую, но уже можно что-то разобрать.
– …ты …стыдно – Щелк! – ..кто! – заскрипело сверху. – Хрясь!
– Это же Три Погибели скрипит! – догадался Фенек.
– А Женя испугался! – подразнил я Женю. – Женя испугался и кого?
– Три Погибели! – ответил за меня Фенек.
Женя поморщился и ничего не сказал.
Мы поднялись еще на один пролет.
– …ты вверил их сам себе – Щелк! – Хрясь! – …и зачем вверил! – Щелк! – Хрясь!
– …я у тебя вопрос спросила – Щелк! – Хрясь! – … а ты глухонемым молчишь! – Щелк! – Хрясь!
– Расщелкалась! – сказал Женя.
Она всегда щелкает чем-то там у себя в голове, когда говорит, но сейчас Три Погибели щелкала с особым почему-то неистовством.
Мы поднялись еще на один пролет выше.
– …для призрения! – Щелк! – Хрясь! – …для воспитания!
Еще пролет.
– …а ты их в Крестовый поход! – Щелк! – Хрясь! – Без карты!
Ступенька за ступенькой мы приближаемся к кабинету капеллана, я по-прежнему в авангарде, герои тылы мои подпирают.
– …тебя же как человека на переговор звали! – Щелк! – Хрясь!
– Это она его за Крестовый поход так… – догадался Женя.
Ступенька, еще, Женька все меня вперед подталкивает и подталкивает – а что, собственно, мы тут делаем? Я так у Женя и спросил:
– Все теперь понятно, Три Погибели ругает капеллана за Крестовый поход и щелкает, – сказал я. – Чего мы тут еще забыли?
– А хрустит у них там что?
– Я ведь заранее же предчувствовала, что ты не справишься с этими мальчиками! – орала Три Погибели в своей обычной манере.
Щелк! – Хрясь!
– Какая разница что у них там хрустит! – воскликнул я.
– …а когда ты их за картошкой опять повел, мои предчувствия возобновились вновь и ты не подвел!
Щелк! – Хрясь!
– Надо узнать, – сказал Женя.
– Тебе надо… – но договорить я не успел, Женя потолкал меня к двойным дверям кабинета капеллана.
Я поставил керосиновую лампу на пол и послушно пошагал вперед.
– …прошлого раза тебе на хватило?! – Щелк! – Хрясь! …что мы, жили скучной жизнью? – Щелк! – Хрясь! – Мне это все во сне приснилось… – Щелк! – Хрясь! – …и ведь как по написанному сбылось!
Я лежу ухом на одной из дверей, а на мне лежат Фенек с Женькой.
– Ну? – шепчет мне Женя свободное ухо.
– Что ну? – говорю. – Я сквозь двери смотреть не умею! Да что ты навалился, дай в скважину в замочную посмотрю!
– Я когда увидела это собственными глазами… – Щелк! – Хрясь!
В замочную скважину картина прояснилась, но все равно ничего, конечно, не понятно. Капеллан стоит на коленях перед своим столом, а рука у него фальшивая на крышке перед ним лежит, на зеленом сукне прямо. Три Погибели бегает из угла в угол со скоростью метеора, отчитывает капеллана и страшно щелкает.
– Я тебя словами спрашиваю, – Щелк! – а ты мне молчком молчишь! – завопила Три Погибели да как ударит со всего размаха капеллана своим портновским метром по фальшивой его руке. – Хрясь!
Капеллан всем телом вздрогнул, а казалось бы с чего, рука-то фальшивая.
Концертмейстерша добежала до угла кабинета, развернулась и побежала обратно:
– Что ты глазами мне тут моргаешь? – заорала она на капеллана, – Щелк!
А капеллан весь скукожился, его тщедушное тельце еще меньше стало, голова на тонюсенькой шейке повисла, сейчас заплачет кажется.
Хрясь! – лупанула Три Погибели капеллана со всего размаху, но снова только по фальшивой его руке.
Стукнув капеллана, концертмейстерша побежала в противоположный угол кабинета, потом поскакала назад, но вдруг закаменела рядом со столом, занесла свой портновский метр у себя над плечом.
– Отвечай! – закричала она, а капеллан вздрогнул. – Щелк!
Я бы тоже вздрогнул, вопроса, на который Три Погибели так грозно требовала ответа, она по-моему так и не задала.
Женя с Феньком на меня все наседают и наседают, а мне и схватиться не за что, вот я и схватился за бронзовую ручку дверей, чтоб они меня от замочной скважины не оттолкали.
– Что там, что там? – шепчет Женя. – Там капеллана еще не убило, что он молчит? – и все сильней и сильней на меня наваливается.
– Отвечай! – снова потребовала Три Погибели и занесла над капелланом портновский метр. – Щелк!
– Прости меня, мама! – промямлил капеллан и в этот самый момент рука моя соскользнула, я нажал на бронзовую ручку, дверь растворилась и в кабинет капеллана, прямо на грязный ковер вывалился я, за мной и на меня Женя, а за Женей на Женю и на меня – Фенек.
– Как так, мама?! – спросил я.
Ничего умнее сказать, я, конечно же, не придумал.
Хрясь! – опустился портновский метр.
– Черт! – заорал капеллан, схватил со стола бронзовую чернильницу и запустил ей в меня.
Капеллан промахнулся. Бронзовая чернильница, звеня и подпрыгивая, скатилась по лестницам сквозь несколько этажей, прокатилась по полу вестибюля кинотеатра «Космос», ударилась о что-то, о стеночку наверное, да так там внизу и затихла.
IIX. Осмос
Не сплю – традиция у меня такая. Ночь, а я опять не сплю. Уже третью подряд? Четвертую?
Всю ночь капеллан скрипел у себя пером, потом шаги, шаги, шаги и снова перо – муки творчества. Перо скрипит бесчеловечно громко, на весь кинотеатр. Я представил себе, как слетают треугольными косяками дикие строчки его нового гимна по лестничным пролетам, через вестибюль и – к нам в кинозал. Расселись чернильные закорючки кто-где: по краю сцены как на жердочке, несколько – на табуреточке, по одной на каждом рожке настенных ламп, другие облепили кафедру. Ни одна не чирикнет, потому что в каждой смысла – ровным счетом ноль смысла в каждой. Они даже и на буквы-то не похожи, немые закорючки эти.
Тюк! Тюк! – это капеллан опять пишущую машинку пробует, а она опять отказывается. Дзынь! – машинка дзынькнула своим звоночком, когда капеллан вырвал из нее бумажный лист. Наверное, он нажал на Я, а отпечаталась Ю. Или У. Что угодно могло отпечататься, только не то что он нажал.
Витя на своем спортивном мате сам с собой все что-то ворочается туда-сюда, и сопит, и скулит, и стонет. Сегодня не храпит почему-то. Вот завел, расхныкался. Я к нему – ты чего? А он как весь вздрогнет, руками на меня машет и гонит. А я вижу – у него щечки блестят, на щечках у него слезы.
Завтра что, опять дежурство? Снова краснобархатная повязка – да, дежурство. Но это только если мы опять петь будем, а не будем, так и не придется завтра мне хоругви сворачивать и аккуратно складывать их перед школьной доской. Зачем же эта звезда на каждой хоругви, страшная Бетельгейзе? Зачем скрестились под ней месяц и молоток? Через два по семь – день за днем и – снова повязка. Как, уже два по семь?! – мы же по очереди дежурим. Дни, дни, дни. Мы живем – я живу, мы перестали задавать вопросы – я перестал задавать вопросы: все равно на них никто не ответит, некому на них ответить. Дни, дни, дни. Вот уже и раз в десять дней дежурство. Слишком оно часто стало, но ведь и у всех так. Скучно, не о чем и узелок завязать. Время тянется трудно, будто толчками по пищеводу, как когда глотаешь картофельные клубни. Картофельные клубни. И почему они всегда выходят у него впросырь?!
Не хочу думать о картофельных клубнях, лучше так: Одиссей и кто? – Пенелопа. Руслан и? – Людмила. Адам? Адам и Ева.
Ева – прикоснуться страшно, прикоснусь, а она растает, обниму, а она водой обернется и сквозь утечет. Ты всегда где-то рядом, но где именно, я не знаю – почему? За тобой не уследить, будто прячешься. Ты – здесь, моргнешь и – нет тебя, ускользнула. Ты – ускользающая. Вот бы мне столько глаз да чтоб повсюду! Тогда я никогда бы не оторвал от тебя своего взгляда, уследил бы, не ускользнула бы! А когда одни мои глаза заснут, другие будут бодрствовать – вот в чем хитрость. И никому никогда никакой силой не удалось бы заставить меня сомкнуть все мои веки разом – убить разве пришлось бы.
Почему я все время думаю о ее губах? Мягкие. Кажутся мягкими. Должны быть мягкими, обязаны просто. Все мягкие, полностью, только там, в уголке, где маленький у нее давно заживший шрам, не шрам даже, так – ты просто ее там не касайся, вот и все.
Я чищу зубы, капеллан научил. Мой рот – фальшивая мята и язык от нее холодный. А ты чистишь? Я никогда не видел.
Поцелуи. Интересно, как это, целоваться? Это должно быть противно, а я все равно попробовал бы, вдруг нет. Еще у нее из-под ворота и вверх по шее – жилка. И бьется, всегда. Так хочется туда. Поймать ее губами, с двух сторон, успокоить, чтоб не билась. Так вообще можно?!
Но вернемся к поцелуям. Внимание, вопрос: куда девать руки, когда целуешься? Не за спину же их!
Я представил. Как хорошо, что я почистил зубы. В этом капеллан прав, про зубы. Зубы надо чистить не забывать. Вот и пригодилось. А она – нет. Она не чистила. Она пахнет собой, а не фальшивой мятой, она пахнет собой и на вкус она как она сама – так это должно быть вкусно, вкуснее должно быть даже тягучего консервированного молока – вкусно. Она не закрывает глаза, смотрит. Почему она не закрывает свои не голубые и не серые и не ореховые глаза, когда я ее целую?! Она смотрит лениво, но внимательно. Наблюдает. А я хочу закрыть глаза, чтоб спрятаться от ее взгляда, но не могу. Не могу от них оторваться, от ее не голубых и не серых и не ореховых глаз. У меня должно быть слишком много слюней. Слюней со вкусом фальшивой мяты. Изошелся слюной, как кот на сметану. А куда девать?! – не проглотишь же когда во рту такая вакханалия!
Интересно, попробую ли я когда-нибудь по-настоящему?!
Тебе надо научиться смеяться как Фантомас, им это нравится. Сухо так: хэ-кхэ-кхэ. Еще бы машину. С крыльями. Только зачем мне машина, я ведь не умею. Тогда – смеяться. А если усы? Усы нравятся или будут колоть? А как не вырастут? Что-нибудь да вырастет, не зря же я их скребу через день! Чем чаще, тем гуще. Но не как у Буденного. Конечно, не как у него. Вот если бы! Жаль.
Где бы достать новую рубаху, а то эта совсем почти уже?! Хожу хуже Вити. А она как? Красивое платье, но тоже совсем почти уже. И ноги голые, вечно, черные пятки. Зачем она не принарядится? И пятки. Разве не хочет она нравится? Кому, тебе? И зачем бы ей?! Интересно, а какие им нравятся? Какие, какие! Жени им нравятся, будто и сам не знаешь! Уж точно не такие как. А зачем Женя все за ней увивается, тоже хочет? А зачем она смеется, когда он что-нибудь скажет? У! Женя подходит к спортивному коню, на котором она скрестив ноги по обыкновению, Женя опирается об его бок своими лапищами, отожмется пару раз и стоит, к коню грудью привалившись, ногу за ногу заставил, носком своего сапога стукает по полу или пяткой покачивает из стороны в сторону – сплошное кокетство, смотреть стыдно! Шепчет ей чего-то, а она смеется – чего такого смешного акселерат может сморозить?! И Фенек тоже. Все время на ней. То за ручку ухватится своей лапкой и не отпускает, так и ходит привязанный. А то и совсем. Залезет к ней на коленки и за шею обнимает, мордочкой прикладывается. А она его гладит. Запустит свои пыльцы ему в его рыженькие кудряшки или чешет за ухом. Но Феньку можно. Потому что Фенек не в этом смысле. Но все равно. А ты в каком смысле? А Женя в каком? Ты-то что в этих смыслах знаешь! Тоже не ведал прекрасного общества дам, а все туда же. Окружили, как женихи, горделивые женихи, благородные женихи, неразумные.
Разве могу я думать о, помышлять о, мечтать о?! О тебе, о тебе, о тебе. Но это мысли, только мысли. Но почему же я все время к ним возвращаюсь?! Они гложат меня – можно же так сказать? И как от них всегда так стыдно?! Но их не отогнать. Стыдно, да не отогнать. Еще хуже, когда я по-настоящему, а не в мыслях. Нет, не это. Когда я по-настоящему вижу ее, не в воображении. Кажется, что она все знает, знает о чем я думал, о чем я постоянно думаю. Снова и снова, опять и опять. Ах, как сладостны эти мысли и как дорого за них приходиться платить стыдом! Липким стыдом – без мыла не отмоешься, а то еще и ацетоном оттирать. Сложно вынести, носишь с собой, неподъемная ноша, чемодан без ручки, и не избавиться, и тащить невозможно.
Зачем я не сплю?! А как усну, это не сон, а полуосознанный бред, на краешке сознания. Сложно бежать и ноги липнут к полу – во сне всегда так. Руку не поднять, поднимаешь, а она плетью. А где вторая? Оборачиваешься, чтоб ее, а ее нет. Ищешь что-то, ищешь, уже забыл, что ищешь, а все никак не найдешь – проклятие. Еще застреваешь в пещере все время или между двух скал. Они смыкаются, смыкаются, движутся медленно друг к дружке, медленно, но неотвратимо. Разве пролезу?! И дышать нечем, не вздохнуть. Удушит, задавит. Или иногда такое от стен, когда они – ?же, ?же, еще и еще.
Как тяжело в животе, надо ревиток, две и под язык, для пищеварения. Кислые. Аж скулы выворачивает. И сладко. Сладкая пилюля. Исцели себя сам. Утопающих дело рук самих. Утопающих. Как он так хорошо плавает, Фенек? Как рыба в воде. Рыба. В воде. И жара. Жарко, слишком. Такой никогда не было. Исключительная жара. Исключение подтверждает или уже нет? А как было раньше? Летом? Разве я забыл и так было всегда? Всегда был… Осмос! Осмос? Осмос?!
– Осмос! – так-таки завизжал капеллан.
Спасть я не спал, а как заснул, так меня тут же разбудил капеллан. Даже и не сам капеллан, а один только его голос, потому что капеллана и не видно, зато слышно очень хорошо: он палит по воздуху как из ружья какой-то непонятной бессмыслицей.
– Осмос! – взволнованно вскричал капеллан откуда-то из недалека, со сцены, наверное.
Я поднялся на своем спортивном мате и лег, облокотившись. Огляделся. Так вот сразу и не поймешь, что здесь происходит.
Не смотря на утро, кинозал уже полон подростковым, а потому по большей части бестолковым возбуждением. Кто-то ходил, шуршал, что-то копошил, шмыгал носом и даже храпел. Храпящим, естественно, оказался Витя. Вот это сила – спать и не проснуться от воплей капеллана! Впрочем, Витя всегда спит с особым усердием, будто бы и создан он, Витя, именно для того, чтоб спать.
– Осмос! – снова выпалил капеллан и снова не прибавил ничего для разъяснения.
Совсем ничего не понятно и повтори капеллан это дурацкое слово еще миллион раз, понятней оно не станет, поэтому я покрутил кулаками в глазах, избавил их от склизких заспанок, осмотрелся внимательней и увидел новенькую. Она восседала на спортивном коне по-турецки подвернув под себя ноги.
Новенькая весело смотрела на меня и я поспешил прикрыть голую грудь тряпками, которые служили мне постелью. Надо спать в одежде, чтоб перед ней каждое утро не позориться.
Так, теперь придется одеваться как-нибудь под одеялом.
– Осмос – есть сила разделения! – палил капеллан со сцены, а голос его становился все громче и громче с каждым словом, так что я окончательно проснулся.
Шебуршу под одеялом, натягивая на себя рубаху, а капеллан все ревет:
– Ибо предстоит нам, чада, отделить зерна от плевел! – ревет капеллан.
– От чего отделить? – спросил меня Фенек, едва я справился с рубахой и вынырнул из-под одеяла головой.
– Не знаю, – сказал я. – Подай штаны!
– От плевел! – гаркнул капеллан, будто в ответ Феньку.
Фенек подал мне мои штаны, хихикнул и, оглянувшись на новенькую, совершенно по-Жениному подмигнул мне. Я в ответ тяжело зыркнул на Фенька.
– Отделить зерна от плевел в душах наших! – речь капеллана стала напоминать короткие автоматные очереди.
– Вопрос! – крикнул я.
Я поднял руку, чтоб привлечь внимание разбушевавшегося капеллана и тут же проклял себя за то, что не умею смолчать даже тогда, когда это совершенно необходимо, потому что поднятая моя рука сработала на отлично, она не только привлекла капеллана, но и все подростковое кипишение остановилась одномоментно во всем кинозале и вся Новая Армия Спасения устремила на меня свои взоры, вернее, все попросту пялились на меня. Хорошо хоть штаны уже на мне почти полностью, осталось только чуть-чуть и застегнуться еще.
– Что такое? – спросил капеллан.
Он нахмурил одну только бровь и засверлил меня взглядом.
Я огляделся, отступать уже поздно, все, кто были, вопросительно смотрят на меня:
– Чего от чего отделать будем? – спросил я.
– Тьфу ты! – плеванул на сцену капеллан, раздосадованный моей несообразительностью. – Ну вот мы отделяем гнилые клубни от пригодных. Хорошее отделяем от плохого. Так понятно?
Уж как хорошо понятно! Примерно раз в месяц капеллан сгоняет всех кто есть в подвал перебирать картофельные клубни, что у нас там хранятся. Я уж столько картофельных клубней перебрал, миллион, наверное, тонн и ни как не меньше перебрал я картофельных клубней.
– Понятно, – кивнул я.
– Уже неплохо, – похвалил меня капеллан. – Так вот, плевел, это как гнилой картофельный клубень и наша задача отделить его! Разобрался?
– Картошку опять перебирать будем? – спросил я.
Капеллан схмурился бровью еще сильней, подумал, передумал и неожиданно радостно как завопит:
– Точно! – завопил капеллан. – Только в душах наших!
– Дичь! – буркнул я про себя.
– Молодец! – снова похвалил меня капеллан, моего замечания не услышавший. – Ясно мыслишь! – и продолжил уже ко всем вместе и ни к кому именно: – А когда отделим мы картофельные клубни… тьфу!.. зерна от плевел, хорошее от плохого, тогда оставшееся заблещет чистотой!
– Точно, дичь! – снова буркнул я.
– Кто имеет ухо, да слышит! – загрохотал капеллан. – Так начнется Осмос! Осмос станет нашим спасением на пути и никто не задумается, не скинет одежд своих и не сядет в бесцельном ожидании. Напротив! Каждый будет жить чистотой души своей и деятельным участием и движением своих жизненных сил ширить спасение, неся миру Осмос!
Женю что-то не видно, на новенькую по-прежнему стыдно смотреть, штаны-то я надел, но оказалось что надел их задом наперед, так что я по-прежнему бесштанный, поэтому я посмотрел на Фенька и вопросительно задрал брови. Глаза Фенька блестят как всегда озорно и хитровато, но своего мнения у него о происходящем нет. Фенек пожал плечьми только, как бы говоря: А что тут скажешь?!
– Поэтому нашей миссией является уничтожение главного барьера на пути к достижению Осмоса!
Я тяжело выдохнул. Неужели опять какой-нибудь новый Крестовый поход, только теперь еще с прыжками через барьеры?!
– Ка! Ка! Ка! – закаркал вдруг капеллан на каждое «ка» протыкая воздух у себя над головой фальшивой рукой. – Вот наш барьер – Ка! – и сегодня же мы должны его изничтожить!
Капеллан, кажется, теперь совсем уже спятил.
– Мы свергнем Ка и это станет первым шагом… – капеллан запнулся, но быстро поймал ускользнувшую было мысль и докончил: … первым шагом на верном пути. На пути к Осмосу!
И тут я все понял. Понял вдруг и со всей ясностью придумку капеллана. Точно также бывает, когда гоняешь битый час последние три костяшки в пятнашках и сложить их в правильном порядке все никак не можешь, а потом внезапно как осенит и ты складываешь их как надо за несколько секунд и кажется тогда, что это не ты их сложил, а они как бы сами собою сложились, а ты весь прошлый час только и делал, что мешал им в этом. Так вот, вот что я понял. Капеллан решил, что нужно избавиться от буквы К в названии кинотеатра «Космос», чтоб осталось то, что он называл «осмосом». И как только такая дичь могла прийти к нему в голову, что за похабный ум наш капеллан!
Капеллан принялся объяснять свою придумку и пусть он объяснял путано и туманно, я убедился, что я оказался прав в своей догадке.
На фасаде моего кинотеатра висят красивые и рукописные будто бы буквы, соединяющиеся в название «Космос». Все буквы, кроме первой К, одинакового размера, К-же отличается от остальных не только большим размером, но и особой размашистостью, а ее руки – одна устремлена вверх, другая вытягивается, круто изгибается, изображая стремительный маневр космической ракеты вокруг Земли, и обнимает по низу всю надпись. Мне всегда нравилась эта вывеска, особенно впечатляюще она смотрелась осенними или зимними вечерами, потому что тогда темнело рано, а в темноте эта вывеска, и полоз, и буквы, обязательно загорались газовыми огнями. Когда на эту вывеску покусился капеллан, мне стало так ее жаль и теперь кажется что и ничего я в своей жизни краше нее не видел. И пусть даже она больше никогда не рассветится газовыми огнями, все равно самая красивая.
Так вот, капеллан придумал спустить кого-нибудь с пилой на веревке с крыши и выпилить из вывески несчастную К.
Капеллан закончил свою речь, спрыгнул со сцены и теперь деятельно хлопочет, раздавая указания всем и каждому.
Я одним движением сдернул с себя свои штаны, одним другим натянул их обратно, только теперь правильной стороной, застегнулся на все пуговицы и наконец-то смог избавиться от одеяла. Пока Фенек завязывал мне краснабархатный платок на шее, к нам подошла новенькая.
– Как тебе? – поинтересовалась она и кивнула на капеллана.
– Мне так надоело, что он кромсает мой кинотеатр! – воскликнул я. – Иногда кажется, что и привык уже, а потом – раз! – и понимаю, что не привык ни на капельку даже.
– С каких пор это твой кинотеатр? – спросила новенькая.
– О! Я здесь прожил целую половину своего детства!.. – хотел сказать я, но меня перебил Женя.
Женька возбужден и крайне опасен, в руках у Жени что-то явственно тяжелое и не менее явственно острое, а он этим тяжелым и острым размахивает беспечно перед собой и во все стороны.
– Эй! Я буду! Пилить! – радостно кричит Женя. – Пилой! Болгарской! – и он радостно поднял тяжелую и острую штуку у себя над головой, чуть по носу меня ей не шаркнул.
Видимо это и есть болгарская пила, только на пилу она совсем не похожа: толстая серо-металлическая ручка держит на себе диск с острыми зазубринами, зазубрины холодно блестят, переливаясь в свете утреннего, пробравшегося невесть как в кинозал, лучика солнца. Гадость, короче, а не штука эта пила болгарская!
Женя не стал дожидаться нашего ответа, или похвалы, или что он там еще мог бы от нас ожидать и ускакал куда-то радостно эйкая и держа пилу над головой.
– Дичь! – прокомментировал я Женино сообщение.
– Можно даже сказать, остроумно, – поделилась своим мнением новенькая.
– Остроумно? – переспросил я от удивления.
– В каком-то смысле, – подтвердила новенькая.
– Ты издеваешься! – припечатал я. – Никакого остроумия, одна сплошная дичь!
Новенькая спорить не стала.
Вскоре все-все-все узнали свои роли в предстоящем спектакле, главная из которых досталась Жене. Капеллан, наверно, дал ее ему потому просто, что Женя из нас самый сильный, а также самый крепкоголовый. Его обвяжут веревками и спустят по фасаду кинотеатра «Космос» до самой вывески, там он болгарской пилой перережет три штыречка, которыми крепится прекрасно-рукописная буква К. Держать веревки будут:
– Ты и ты! – капеллан тыкнул своей фальшивой рукой мне в грудь прямо под узел краснобархатного платка.
– А второй кто? – спросил я.
– Ты и ты! – выпалил капеллан. – Сказано же!
После недолгих расспросов выяснилось, что капеллан имеет ввиду меня и, вот уж этого я никак не ожидал, только что проснувшегося Витю. А с другой стороны если посмотреть, то ведь и некого больше мне в напарники поставить: Витя может быть и не сильный, но, наверное, самый сильный после Жени и меня. А еще он тяжелый, это тоже может сыграть свою роль, будет держать Женю если не собственной силой, то хотя бы силой гравитационной. Но все равно, я Вите даже и пустяка не доверил бы, не то что Женю в воздухе на веревке держать!
Сам капеллан во всем этом играл особенную роль: он движитель всего и в прямом и, как он объяснил, в символическом смысле.
Кстати, о движителе. Так как света давно уже нет, а пила, которую капеллан где-то раздобыл, работала именно от него, то вместе с пилой ему пришлось раздобыть где-то и генератор. И когда по его задумке мы спустим на веревках Женю и пилу, когда все остальные способные петь запоют на площадке перед Храмом гимн Осмосу, написанный по случаю, а неспособные петь начнут в такт гимну поднимать и опускать хоругви, капеллан заведет генератор света, который оживит болгарскую пилу, а Женя примется к «уничтожению главного барьера на пути к достижению Осмоса» – злосчастной букве К.
– Наши цели ясны, задачи определены, – подытожил капеллан. – За работу, сейчас же и немедленно! – выпалил капеллан и тут же куда-то исчез.
«Сейчас же и немедленно» означало у капеллана примерно часа через два времени, так что теперь я могу спокойно переварить происходящее. Хотя, чес-слово, переварить такое невозможно, не крокодил же я какой такое переваривать.
Мне захотелось попросить новенькую отвести меня куда-нибудь и совсем неважно куда, важно, чтоб далеко, как можно дальше от этого балагана. Уж лучше я буду с думками сидеть, чем притворять в жизнь шизофреничные фантазии капеллана. Я уже собрался было предложить новенькой уйти отсюда, вдруг капеллан не заметит моего отсутствия, не смотря даже на то, что мне во всем этом действии отводилась одна из центральных ролей, получалось же и раньше отлынивать от Храмовых обязанностей, ведь капеллан обычно следил за выполнением своих распоряжений не так рьяно, как раздавал их, но едва я раскрыл рот, собравшись с мыслями, откуда-то со сцены раздался скрипучий голос Три Погибели. За всей суматохой сегодняшнего утра я даже и не заметил, когда она успела появиться здесь у нас в кинозале, а может быть, она была тут и все время.
– Где этот вундер-киндер? – заорала Три Погибели по своему обыкновению обращаясь к своим туфлям, да так громко заорала, будто они находились не у нее перед носом в полуметре каком-нибудь, а то и меньше, и даже не в соседнем городе, а как минимум где-нибудь на другом континенте на другой стороне Земли. – И где мой инструмент?! – поинтересовалась Три Погибели у своих туфель уже не так громко, будто за секундочку они успели переплыть океан и оказаться хоть и далеко от нее, но все же с этой стороны планеты.
– Мне придется выкатить ее рояль, – сказал я новенькой. – Кого это, интересно, она ищет? – спросил я.
– Думаю, меня, – улыбнулась новенькая.
– Тебя? – удивился я. – Зачем?
Но новенькая не успела мне объяснить, потому что Женя молниеносно откликнулся на приказ Три Погибели и утащил меня за шиворот выкатывать рояль из-за кулис.
Мы с Женей выкатили рояль на середину сцены и пока катили, по пути приложились им с разгона к кафедре, и от удара кафедра глухо бухнула, а рояль зажужжал своими струнами, будто бы где-то у него во внутрях есть огромный улей разноголосых пчел, а мы с Женей его потревожили.
– Синие Шнурки! – заорала Три Погибели. – Если ты разломаешь мой рояль, я тотчас умру от горя, потому что радости никакой в этом мире для меня тогда не останется.
– Простите, – прокричал я в ответ, потому что когда на тебя кричат, пусть и не со зла, а от древности голосовых связок и старческой тугоухости, то невольно начинаешь кричать в ответ.
– Надеюсь она не станет рассказывать, как безрадостно зальет тут все своей кровью, пока будет умирать, – сказал я уже шепотом и Жене.
– Не бойся, не буду, – заверила меня, расслышавшая каким-то чудом мои слова, столетняя концертмейстерша. – Так где она? – проорала Три Погибели и тогда стало совершенно ясно, что новенькая права и Три Погибели понадобилась именно она, других ведь женщин во всей Новой Армии Спасения с роду не водилось, не считая саму Три Погибели, но кто же ее, Три Погибели, считать станет?!
– Я здесь, – ласково сказала новенькая.
– Садись! – проскрипела Три Погибели и указала своим портновским метром на стул, а когда новенькая на него села, села рядом и сама.
– Играй! – приказала тогда Три Погибели.
Новенькая открыла крышку и, долго не раздумывая, опустила свои белые с розовыми костяшками пальцы на клавиши.
Играла она что-то бесконечно жалостливое и раздумчивое. Трехударная мелодия бродила печально вокруг одной и той же ноты, как коза привязанная к колышку, никуда далеко от нее не отходила и всегда к ней возвращалась. Такая грусть-тоска, что сердце, кажется, сейчас порвется. Но сердце не порвалось – коза, наконец, сумела отвязаться от колышка и теперь понеслась вскачь все также, впрочем, печально.
Три Погибели слушала, кивала головой и постукивала в такт мелодии по полу обитым в железо кончиком портновского метра.
Женя забрался на рояль и улегся на его крышку, положил подбородок себе на пясти, слушает, как играет новенькая, а и не слушает, глазами своими бесстыжими ее облапывает. Фенек стоит рядом со мной, тихонечко покачивается и смотрит раздумчиво и далеко, за рояль, за темную кулису, куда-то дальше даже стен моего кинотеатра – куда интересно он смотрит?! У меня же холодно сжималось где-то промеж лопаток каждый раз, когда новенькая снова и снова начинала свою грустную мелодию.
– Тебе нравится? – спросил я Фенька.
Мне захотелось отвлечь его, потому что мне не нравится, когда Фенек так смотрит, но он, занятый своими мыслями, не ответил и мне пришлось слегка его подтолкнуть.
Фенек покачнулся и ухнул.
– Ух! – сказал Фенек.
– Тебе нравится? – снова спросил я его.
– Не-а, – ответил он. – Грустно!
– Но ведь все равно красиво? – сказал я.
Фенек удивленно посмотрел на меня:
– Как может быть красиво, если грустно?
– Не знаю, – честно признался я.
Наконец бесконечная мелодия кончилась.
– Молодец! – похвалила новенькую Три Погибели, когда та запечатлела финальный аккорд. – Но если будешь ходить с голыми ногами, ты простудишься и умрешь!
– Как? – спросил я зачем-то, потому, наверное, что против обычного, Три Погибели снова опустила подробности.
– Мучительно! – пообещала Три Погибели.
Тут даже я не стал бы спорить, потому что Три Погибели уж точно знала все о всех возможных и мучительных смертях.
– Слушай! – приказала она, обращаясь к новенькой. – Присоединишься, когда я скажу! – и она занесла свои тоненькие и пергаментные, как у какой-нибудь мумии, ручки, возложила их на клавиатуру и принялась выбивать скрюченными пальцами полновесные аккорды.
Сильные аккорды, глубокие аккорды. Аккорды слетали с клавиатуры рояля из-поз пальцев Три Погибели и падали к ее ногам, отскакивали от носков ее тупорылых туфель, рассыпаясь на отдельные нотки тысячами брызг, разлетались по всему кинозалу.
Удивительно дело музыка. Льется, звучит, а о чем она придумана и не скажешь. Вот новенькая играла, про козу. Но ведь это я только так подумал, что играла она про козу. А что представилось Жене, например. Жене, например, ничего не представилось, он не музыку слушал, а новенькую разглядывал, это мы уже знаем. А если бы слушал, то что? Про что-нибудь другое, про что-нибудь свое, наверно. Или если согласиться, что новенькая играла про козу. Почему это было так печально?! Как звуки музыки могут зародить где-то у тебя во внутрях сопереживание себе, это же даже не слова? Эти звуки умеют что-то такое с человеком делать, что как бы сама душа у него начинает им подпевать.
А вот Три Погибели играет совсем другую музыку, совсем не про грустную козу. У Три Погибели так выходит: идет с глазами сумасшедшими и обессмысленными, шагает большой как памятник по улицам полным людей и все ему по щиколотку, а в руках у него что-то навроде хоругви длинной-придлиной, скажем, такой же как и наши хоругви краснобархатной. И он несет эту свою хоругвь, зажав ее за палку крепкими руками, а она извивается, все небо почти собою загородила, извивается, как огромный летучий змей, как кровавый дракон.
А вопрос вот в чем: откуда все это из музыки рождается?!
– И-и-и-раз! – приказала Три Погибели и новенькая тут же присоединилась к ней.
Мелодия, больше похожая на ритмический шум, чем на мелодию, заполнила собою весь кинозал. Новенькая и Три Погибели размашисто громоздили аккорды на аккорды и вся эта какофония звучала просто отвратительно. И вдруг, будто бы какофонии ей показалось мало, Три Погибели завопила. Женя аж подпрыгнул на крышке рояля и поспешил с нее эвакуироваться, Фенек присел чуточку, а я несколько шажочков назад отшагал.
Вопила Три Погибели громогласную свою песню, отбивая в такт ей аккорды, просто-таки самозабвенно. Эта торжественная песня заставляла каких-то сильно голодных то ли встать, то ли подпрыгнуть – я не очень понял. Она утверждала, что нет над этими несчастными голодными никакой управы, нет над ними никакого закона. Потом – что-то про всеобщее благо и землю для людей, про чьи-то права и чьи-то обязанности и всякая прочая дичь. Зато закончилась она весьма положительно словами о том, что солнце будет сиять вечно.
Ле солей брилья тужур! – вот это хорошо, а все остальное – просто дичь какая-то.
Три Погибели и новенькая одновременно впечатали в рояль по последнему аккорду да так и закаменели, а клавиши, зажатые их пальцами, белыми с розовыми суставами пальцами новенькой и крючковатыми, морщинистыми пальцами Три Погибели, звучали где-то во внутрях у рояля еще с минуту.
И вдруг Фенек:
– Давайте лучше все вместе споем! – раздался звонкий голос Фенька.
– Как споем? – закудахтала Три Погибели. – Что споем?
– Про артишоки! – конечно же предложил Фенек, что еще он мог бы предложить?!
– Это упражнение, его нельзя петь! – заорала Три Погибели.
– Как нельзя? – удивился Фенек.
Фенек замер, втянув шею в приподнятые плечи. Мне показалось, что даже уши его сползли и поникли. Как он мог знать, что песню, которую он пел с таким удовольствием, песней и не является и петь ее нельзя. Конечно Три Погибели эффекта, который произвели на Фенька ее слова, увидеть не могла, а потому нещадно продолжала скрипеть:
– Упражнения созданы для того, чтоб упражняться!
– Хорошо! – вдруг ожил Фенек. – Давайте тогда упражняться! – такой поворот его вполне устраивал, не хотелось Феньку вдаваться во все эти певческие тонкости. – Пожалуйста! – протянул Фенек и прижал сложенные ладоши к своей груди.
Даже Три Погибели, каким бы древним не было ее древнее сердце, не смогла бы ответить отказом Феньку на это его пожалуйста и сложенные лапки, обладающее каким-то просто волшебным действием и она, кончено же, не отказала.
– Раз-и! – заорала Три Погибели. – Два-и! Три-и! Нача-ли!
И на весь зал грянула песня про артишоки, которая не была песней на самом деле. Пели все, пели даже те, кому петь не дозволялось. Я пел, пел и Женя. Пел Витя. Открывая свой рот широко, так широко, что туда могла бы залететь целая ворона да еще и для воробья, а то и для двух места осталось бы, пел Фенек. Подыгрывая Три Погибели пела и новенькая, раскачиваясь, то отклоняясь от черного рояля, то снова приближаясь к нему, то вытягивая руки, то снова сгибая их в локтях. Никого не прерывала и пела с нами сама Три Погибели, орала истошно в своеобычной манере не попадая ни в одну из нот и этот ее ор мне даже показался живым и радостным, будто в замученную засухой пустыню кто-то принес немного воды и увлажнил почти уже умершую землю, а та, будто бы только и ждала этого, тут же, едва живительная влага коснулась ее, исторгла из своих недр и произвела на свет молодой, зеленый и полный жизни росток. Вот и думайте сами, песня ли эта песня про артишоки или простое упражнение, если она способна на такие чудеса.
Не знаю, как долго мы пели, но мы пропели песенку про артишоки миллион, наверное, раз и никак не меньше. Я, конечно, не считал, но я столько раз открыл и закрыл свой рот, что скулы начало сводить, а горло пересохло и я, и так никогда не отличавшийся особой музыкальностью и умением петь, должно быть пел теперь не лучше самой Три Погибели. Не знаю, чем бы это все закончилось, не прерви нас капеллан – у меня скорей всего отвалилась бы челюсть или голосовая связка лопнула бы – но капеллан прервал наше пение и тем спас меня от верной гибели: не могу, конечно, утверждать это наверно, но тогда мне взаправду казалось, что можно умереть перепев.
– Отставить! – закричал капеллан в наши спины. – Певчие! – заорал он еще громче, ведь не так-то просто перекричать мальчишеский хор, имеющий в подкреплении оглушающий скрип Три Погибели. – Разобрать гимны! – и капеллан принялся бегать и всовывать в руки тем, кому положено петь листочки с новым гимном. – Остальные – разобрать хоругви! – суетился капеллан. – Во славу Осмосу! – выкрикнул вдруг он и все закаменели, перестали петь даже те, кто оглох от собственного пения, а потому и не обращал на крики и приказы капеллана ровным счетом никакого внимания, закаменела от этого неожиданного заявления даже Три Погибели и закаменела она в нелепой позе и с занесенной над клавишами своего инструмента рукой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/artem-ryaschev/dumki-apokalipsicheskaya-poema-tom-vtoroy-70959268/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
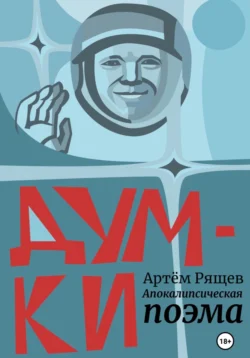
Артём Рящев
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 08.08.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Том второй. В мире бушует эпидемия вируса забывчивости. Заражены все, но симптомы у всех разной степени тяжести. Главные герои взрослые пытаются как-то переварить изменения, происходящие в мире, сквозь призму своего устаревшего опыта. Главные герои дети живут свою жизнь, осознавая ее как объективную реальность. Все что было привычного исчезает, перестает работать, улицы заносит серой пылью, откуда-то появляются катуны, люди превращаются в думок. Даже звезды в небе теперь не на своих местах. Но подростки остаются подростками, они находят велосипеды и отправляются на них в путешествие. Героев ждет много странных, а иногда и страшных, приключений.