Думки. Апокалипсическая поэма. Том первый
Артём Рящев
Эта книга – увлекательное приключение длиною в детство.Думки – это как бы бывшие люди, так их называют. «Так удивительно, как это с ними случается: ни с чего вроде бы, вдруг и как-то само собою. Вот – человек, и не важно, кто человек этот, пять ему или сто пять, мальчик, девочка или взрослый, живет и живет как жил, и ничего, кажется, с ним не происходит, ну, рассеянность, может, какая появилась. То то? забудет, то это – у всякого бывает и вдруг раз! – как зовут не помнит, сколько лет не знает, а спросишь – мычит. Да только и замычит-то не в ответ, а как бы сам с собою или если и для чего-то замычит, то для чего именно совершенно не понятно. Вот эта-та забывчивость и есть первый признак, а мычат они не сразу, это только потом они мычать начинают.» Некоторые думают, что такое с людьми происходит из-за эпидемии нового вируса – инфлюэнцы, но есть и другие мнения.
Артём Рящев
Думки. Апокалипсическая поэма. Том первый
Я тоже ангел, я был им
В. Маяковский, «Облако в штанах»
Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть.
Ф. Достоевский «Братья Карамазовы»
Вопрос состоит в том, является ли человек обезьяной или ангелом? Видит Бог, я – на стороне ангелов.
Бенджамин Дизраели
I. Три Погибели
Никого наша Новая Армия Спасения и не думала спасать – это только название такое. Так зачем же тогда «спасения»? Даже сам капеллан ничего определенного по этому поводу сказать не мог – я спрашивал у него и спрашивал не раз. А он задирал бровь, закатывал глаза под веки, мямлил что-то невразумительное, пускался в туманные рассуждения о том, что такое душа и как о ней надлежит заботиться, обязательно прибавлял к душе про зубы, что зубы чистить надо не забывать, расходился, начинал махать конечностями все амплитудистей, его тирада разгоралась, становилась пы?льче, жарче и вот он уже тычет своей фальшивой рукой в небо, почти кричит, горячая мысль бьет из его рта, как лава из хайла вулкана, и шум, и гром, и молнии хлещут, а все равно ничего не понятно. С каждым разом он сбивал меня с толку своими объяснениями все сильней и сильней, так что в конце концов я понял, что от капеллана решительно ничего не добиться и перестал мучать вопросом кого же должна спасать наша Новая Армия Спасения и его, и себя.
Чем же мы занимались в нашей Новой Армии Спасения, раз никого не спасали? В основном мы пели. Да, пели мы часто и помногу. Пели, пели и пели. Вот только петь из нас никто толком и не умел – мальчики в большинстве своем народ не очень-то музыкальный. Поэтому капеллану пришлось найти кого-то, кто научил бы нас. Не хорошо петь научил бы, конечно, и даже не сколько-нибудь сносно, а петь хотя бы как-нибудь.
Так кого же нашел капеллан, чтоб научить нас противному почти любому мальчику искусству? О, это была совершеннейшая старушонка – наша концертмейстерша. Но что это была за старушонка! Встретишь такое в музее – может, в музее и не удивишься. Не среди посетителей, конечно, среди экспонатов – не удивишься, такая она у нас достопримечательность. Даже сама мысль о том, что это крохотное существо может принадлежать обычному миру, а не застекленному мирку музейных витрин, кажется дичью!
Носит она всегда и исключительно черный пиджак, похожий, впрочем, больше на халат школьного учителя труда, разве только не такой он у нее длинный. Из пиджака торчит черная же, чуть ниже колена юбка, а из юбки – страшные, тощие чулки, которые впадают в тупорылые туфли на низком каблуке. А на голове! а на голове! а прямо на ее химически-огненных кудрях всегда валяется плоский красный берет с оттопыренным черенком.
И с того самого дня, когда капеллан появился на пороге кинозала вместе с этим чудны?м существом, нашей концертмейстершей, уроки пения проходили у нас три раза в неделю: в первый, третий и пятый день. Но так бывало обычно. Иногда первое занятие сдвигалось на второй день недели, а второе и третье – на четвертый и седьмой. Впрочем, случалось и так, что первое занятие происходило в третий день, а остальные два переносились тогда на следующую неделю и разобраться во всей этой чехарде дней, предназначенных и не предназначенных для уроков пения, оказывалось совсем уж невозможным.
Обращаться к капеллану за разъяснениями и здесь совершенно бесполезно:
– Главное соблюдать интервальность! – только и отвечал он на мои расспросы.
Перед каждым уроком нам надлежало выкатывать из-за кулис тяжелый черный рояль, который концертмейстерша называла не иначе как «мой инструмент», и дожидаться саму концертмейстершу.
Предсказать когда именно она появится для урока было невозможно. Концертмейстерша могла прийти раньше на час и начать кричать своим скрипучим голосом, что ничего не готово и ее инструмент все еще стоит за кулисами, и это может ее убить прямо здесь и прямо сейчас, и окончательно, и бесповоротно, и тогда мы никогда не научимся петь да еще будем до конца своих жалких жизней страдать совестью за ее безвременную кончину; а могла прийти на час позже назначенного срока и не сказать ни слова в свое оправдание. Но, конечно, сердится на нее было бы очень глупо, ведь нашей концертмейстерше миллион, наверное, лет и никак не меньше.
«Она стара, но старость благодетельна и такой удел уготован не каждому, особенно в сложившихся обстоятельствах – поэтому вашей благодетелю должны стать любовь к ней и уважение», – предупредил нас капеллан и мы по возможности старались относиться с пониманием к его словам в «сложившихся обстоятельствах» и не доводить концертмейстершу до «безвременной кончины», хотя, конечно, в ее возрасте ни о какой безвременной кончине говорить уже не приходилось.
На первом же занятии она, представившись, рассказала нам, что проработала всю жизнь педагогом в какой-то то ли консерватории, то ли оратории, то ли в чем-то там еще, носившей имя одного распрекрасного композитора, фамилия которого у меня, разумеется, тут же вылетела из головы. Помню только, что была она у него двойной через дефис и весьма скучной, и непонятной, а также длинной, должно быть такой же длинной, как и вся жизнь нашей концертмейстерши.
Ходила она согнувшись в три погибели, и это не просто какая-то там фигура речи, чтоб создать особое впечатление, она действительно так и ходила: согнутые в коленях ноги никогда не распрямлялись, поясница каким-то чудом держала корпус ее чуть ли не параллельно полу, а шея, немогущая более удерживать голову, склонилась в бессилии, так что взгляд ее всегда был устремлен вниз, а на том месте, где должно было бы быть лицо, неизменно краснел блин ее берета. Внимание, вопрос! Как он там держится, ее берет, и не падает – гвоздем разве прибит?
А какие у нее руки! – пальцы сплошь кривые, будто в узлы завязанные витые веревки. Как только она в своих пальцах, в веревках этих, не путается, пересчитывая ими белые и черные клавиши своего инструмента?!
В определенном смысле все эти «три погибели» не доставляли ей особого неудобства, ведь куда ей еще смотреть: вниз под ноги и вниз на клавиатуру черного рояля, нашего орудия пыток. А так как разогнуться и увидеть наши лица древняя концертмейстерша не могла, то и различала она нас только по нашим ботинкам, цвету носков и брюк.
– Эй ты, Расстегнутая Ширинка, – кричала она, – У меня сердце по?том обливается, когда я слышу как ты поешь! Это ре, Расстегнутая Ширинка, а не ре-и-еще-чуть-чуть, ре, Ширинка, а не ми-но-почти-ре! Закрепи свою диафрагму и выдай мне настоящее ре, да такое ре, чтоб мне умереть после этой ре было не страшно!
Или вот так:
– Синие Шнурки, так отставать ото всех могут только Синие Шнурки! Мне и видеть тебя не надо, чтоб понять, что это ты! Я черным по белому прошу тебя, Синие Шнурки, двигай языком, если не хочешь, чтоб я повесилась от отчаяния на твоих треклятых синих шнурках!
О, как чудно? у нее это выходило – «синие шнурки»! По причине какого-то речевого дефекта или от привычки от какой она выговаривала так: «синие снурки» да еще и с присвистом на каждом сэ. Я просто не мог не улыбаться, когда слышал, как она выговаривает этот звук: «Хватит мне тут улыбками улыбаться, Синие Снурки! Мне от твоих улыбок плохо делается, я – старая старушка и со мной так нельзя! А ведь я знала, я сразу почувствовала, когда впервые с тобой познакомилась, Синие Снурки, что ты надо мной улыбаться будешь! Твои улыбки меня в могилу сгонят, а я ведь и так уже одним глазом в гроб гляжу! Смертью умру, вот и посмотрим тогда, как ты улыбаться будешь, Синие Снурки!» – а у меня улыбка от этого только шире расползается.
А еще концертмейстерша все время чем-то щелкала. Уж не знаю чем именно, да только щелкала она через каждые два-три слова и так щелкала, что у меня сердце икало от этих щелчков.
В самый неожиданный момент, где-нибудь в разгаре урока, в середине самого заковыристого и непонятного упражнения, она могла прервать занятие выкриком: «Покурим!» – впрочем, приглашением это «покурим!» не являлось. На наши голоса курение могло оказать пагубное воздействие, поэтому курить нам строжайше воспрещалось капелланом, но голосу нашей концертмейстерши уже ничто не могло бы навредить и поэтому она курила много и с удовольствием, обрывая свои уроки и по десять, и по двенадцать раз, а нам лишь оставалось сидеть вокруг нее и ловить носами синий дым ее папирос. Да, курила она папиросы, именно папиросы и только папиросы.
Уж не знаю, от старости или от папирос, но голос нашей концертмейстерши и голосом-то назвать трудно. О, как скрипела и хрипела она, показывая нам, как надо петь, как надо брать ту или иную ноту! Щелкала, свистела и кашляла! И еще: дым, дым, дым от ее папирос кругом да вокруг. Словом, производила звуку и дыму она словно паровоз под пара?ми, хоть сама вся от квадратных каблуков до черенка берета – размером с не самую крупную собаку.
А в перерывах между ее папиросами мы пели, узнавали свои новые клички и выслушивали ее гневливые тирады, в каждой из которых, следуя неизменной традиции, она обещала испустить дух, повеситься на моих «синих снурках», или на худой конец просто помереть. И именно за это, а не за ее высушенное и согнутое тысячелетиями прожитой жизни тщедушное тельце, она и получила от нас прозвище Три Погибели.
– Ми-ми-ми-ми… – уткнувшись носом в клавиатуру своего инструмента скрежетала она. – Вот так надо!
– Ми-ми-ми-ми… – повторяли мы за ней, пока она ковырялась своими скрюченными пальцами среди белых и черных клавиш.
– Ла-ла-ла-ла… – казалось ее искуренные легкие сейчас выпадут через рот прямо на клавиши, так истошно орала Три Погибели.
– Ла-ла-ла-ла… – повторяли мы под мелодию, которую, могу поклясться что видел это сам, она наигрывала в том числе и собственным носом, как птица клевала по тем клавишам, которые были прямо под ее головой.
В те моменты, когда мы оказывались особенно невосприимчивы к ее смертельным угрозам, она выхватывала у себя из под ног деревянный метр с железными оконечниками, каким обычно отмеряют из рулонов ткань в магазине, и начинала колотить им по своему инструменту, объясняя в очередной раз нам какую-нибудь особенную тонкость певческого мастерства, как будто именно инструмент виноват в том, что мы так глухи к этому искусству. Ни разу никого она не тронула этим метром, хотя, несомненно, ей хватило бы и силы и прыти, да и дотянуться она могла бы до любого из нас даже не вставая со своего нелепого колесчатого то ли стула без спинки, то ли табуреточки с ручками по бокам, так близко мы к ней стояли во время занятий, но за наши ошибки расплачивался исключительно черный рояль.
Как-то после очередного перекура концертмейстерша заставила нас спеть чудну?ю песенку:
Артишоки, артишоки
И миндаль, и миндаль
Не растут на башне
Не растут на башне
Очень жаль!
Очень жаль!
– Я по рассеянности оставила сегодня свои уши дома, а теперь понимаю, что это к лучшему! Мои уши не вынесли бы вашего пения! Они отвалились бы и мне пришлось бы умереть от потери крови! – заявила Три Погибели уткнувшись носом в клавиши, будто обращалась к ним, а не к нам.
– А что такое артишоки? – спросил кто-то.
– А что такое миндаль? – спросил кто-то другой.
– Еда! – скрипнула концертмейстерша Три Погибели, но подробностей предоставить не посчитала нужным. – А теперь еще раз!
Мы спели еще раз.
– Ротом пойте, ротом! Чем вы поете?! – гневилась она. – А надо ротом! Еще раз!
И нам пришлось пропеть эту песенку миллион, наверное, раз и никак не меньше, пока она вроде бы не удовлетворилась результатом, а когда она вроде бы удовлетворилась, то с размаху захлопнула крышку клавиатуры, отчего где-то во внутрях ее инструмента монотонно загудели струны, оттолкнулась руками, проехала на колесчатом стуле-табуреточке спиной вперед, кинула одну скрюченную ногу на другую, молниеносно выхватила из глубин пиджака спичку, чиркнула ею об квадратный каблук своей тупорылой туфли, закурила и обдала всех нас синим папиросным дымом.
– Когда яица волосеют, мальчики совсем разучаются петь! – философским тоном заявила Три Погибели. – Когда яица волосеют, ангелы в мальчиках умирают! – добавила она уже грустно. – Я больше не хочу видеть на своих занятиях никого, у кого яица уже покрылись волосами! – совсем уж как-то хмуро проскрипела концертмейстерша, соскочила с табуреточки, затушила папиросу, воткнув ее куда-то под рояль, и уковыляла восвояси.
Вот так в один прекрасный день Три Погибели поделила нас на певчих мальчиков и мальчиков не способных к пению. И с тех пор улучшать свои вокальные данные под ее скрипучим руководством осталось всего несколько детей, уроки пения для остальных ограничивались выполнением черновой работы: мальчики с волосатыми яйцами годились только на то, чтоб выдвигать рояль из-за кулис перед и задвигать его обратно после урока. Когда в мальчиках умирают ангелы, мальчики совсем разучаются петь.
Очень жаль!
Очень жаль!
Так как, уж простите за подробности, петь мне больше не дозволялось, сегодня я помог остальным таким же бедолагам выкатить рояль на сцену и отправился к Лежеку, оставив детей, ангел внутри которых еще не умер, дожидаться урока, а всех других прочих – шляться в подростковом безделье в поисках каких-нибудь интересных занятий.
От весны в этом году – одно название. Но как я знаю, что уже весна? Разве вынырнули уже зеленые травинки из проталинок? – нет. Да и самих проталинок еще не видно. Разве березы развесились уже сережками? – тоже нет. Разве сам воздух изменился и появилось в нем что-то, что говорит о весне?
Снег так, но все больше – сугробами; и лед, где ему только возможно; ранние сумерки и долгие ночи; звезды острые и холодные; солнце еще ленится; а мороз такой, что сопли в носу стынут – все признаки зимы на месте. Все говорит о зиме – но все врет! Я знаю, потому что весной раньше всегда были каникулы, а ждать весну ради каникул – это также выучено сердцем, как зарублено в уме считать дни недели, представляя разворот школьного дневника. Так что весну я чую. Кого другого поди обдури – не меня!
Теперь снег не убирают и некому его утоптать, поэтому приходится скакать по огромным сугробам. С каждым шагом я проваливаюсь по колено, а вынуть ногу из рыхлого месива сложно. Да еще всё норовит стянуть с ноги ботиночку. Я ползу как черепаха! И хоть до дома Лежека совсем недалеко, а очень даже близко, времени дорога заняла у меня немало.
Надо витаминизироваться, чтоб шибче шагалось. Я люблю витаминки, они самое вкусное, что теперь осталось. Да еще и легко достать: иди в любую аптеку и бери сколько душе угодно – никто денег не спросит, некому денег спросить.
Достал из кармана стеклянный пузырек, зазяблыми пальцами открутил крышку, вытянул из горлышка ватку и вытряхнул на ладонь два ярко-оранжевых катышка; подумал, передумал и вытряхнул еще один – теперь в самый раз. Я загнал три витаминки под язык – так дольше вкусно. Если бы можно было человеку иметь кроме своего еще одно имя, то мое другое было бы Ревит – вот как я витаминки эти люблю.
Когда снег – одно хорошо: меньше серой пыли. Откуда ее столько вдруг взялось я никогда не мог понять, да и никто, наверное, этого не знает. Только теперь все покрыто ей. Лежит толстым слоем там, где ее никто не беспокоит, или покатится с ветром, сбиваясь комками, если пнешь ее, но всегда, покружась, уляжется на прежнее место. Снег ее прибивает, кончено, но эта пыль умудряется и сугробы покрыть, так что и они становятся серыми. И нет от нее спасения ни в домах, ни на улице.
Где-где на деревьях остались листики, всё черные и скрученные. Почему-то они не пожелали отвалиться вместе с остальными прошлой осенью и теперь ветер шуршит ими мелко-мелко, а у меня – душу рвет. Лучше уж голые деревья. Что они мизинчиком, эти листики, за ветку цепляются, будто в тайной надежде, что если додержатся до весны, так оживут? Ну, словом, отпали и отпали, нечего тут шуршать, к лету снова вырастут! – а как нет?
Шагаю, шагаю, как иголка швейной машины стежки в сугробах прокладываю один за другим, а в голове – пустота; и все пустота из головы, из черепухи, собою вытеснила.
В голове пустота и только: шиворот – как? Навыворот. Крестики – что? Нолики. Салтыков – кто?
Когда думать не о чем, я скребу память, перебираю все, что знаю. Так я понимаю, что еще не все забыл. Глупость в сущности, но уж такую привычку я себе сделал.
Вверху – Арктика, внизу – Антарктика. Так? Так. Тут медведи, а пингвины – там. А вот посложнее: сверху вниз: арктический, умеренный, суб и тропический, суб и экваториальный, а затем наоборот, только последний – какой? Арк.. нет, последний – антарктический, и у него нет суб, как и у умеренного – вот!
У Лукоморья дуб, жи-ши пиши, и кудри черные до плеч, а ча-ща с а, и все, что пред собой он видел, и зависеть, и вертеть, в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, и обидеть, и терпеть, вы запомните, друзья, цыган на цыпочках сказал цыпленку, я пригласил вас с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие.
Триста семьдесят три? – да, триста семьдесят три.
Корабли лавировали, лавировали, на дворе трава, лавировали, лавировали, на траве – дрова, лавировали, лавировали…
Кстати о кораблях: фок-, гросс-, бизань-мачта; от палубы к небу: мачта, стеньга, брам-стеньга.
Так, кто там первый, Венера или Меркурий? Меркурий, Венера за ним. Потом Земля и Марс, Юпитер, Уран, Сатурн. Уран ли сначала или Сатурн? Вроде Уран – или тот, с кольцами? Есть еще? Есть, Нептун. А кто плутает за Нептуном? Плутон. Дальше – дальние дали и ничего больше: хорошо!
…хорошо, да не вылавировали!
Мимо меня пролетел катун. Катуны – тоже новость, как и серая пыль. Катунов у нас никогда не было. Такой сухой мертвый спутыш, а скачет с задором футбольного мяча. Бум! бум! бам! – выбивая из-под себя серую пыль, пролетел катун, стукнул в стеночку, отпрыгнул, пару раз скаканул на одном месте, да и – за угол. Кажется, не любит серая пыль катуны – сбитая катуном пыль покружилась в воздухе и улеглась, где лежала.
Раздалась трещетка. И завела – трещит и трещит с настойчивостью насекомого. На пустой улице в морозном воздухе одинокое и нескончаемое тр-тр-тр резво отскакивает от стен домов, разносится на несколько кварталов, отдается эхом. Не люблю я этого. Вот кажется, что и привык уже, а все равно каждый раз не по себе от этого звука. Раньше этих трещоточников было много, ходили по городу, крутили трещотками, трещали так, что уши закладывало. Впрочем, и одной трещетки достаточно, чтоб нагнать тоски, так что очень даже хорошо, что теперь такое не часто бывает. И вот зачем им трещать? Что толку от этого тр-тр-тр? Инфлюэнцу разгоняют? Кажется, Витя раньше ходил и трещал, надо у него как-нибудь будет спросить. Но пока вы Витю не знаете, так что об этом потом и при случае.
Вот и дом Лежека. У дома весь бок исписан: Леха ушол на фронт, а Маша – шалава. Есть и более актуальное, написанное размашисто, красной краской: Будь, будь, не забудь! и два раза подчеркнуто каждое слово, чтоб убедительней. Уж куда убедительней! – можно и не подчеркивать! – я и так как могу стараюсь! Стараюсь, стараюсь, а ничего только не получается, все из головы прыг-скок и – вон!
Я обогнул «будь, будь» – какой знакомый двор! Раньше я жил где-то недалеко близко, а теперь забыл где именно. А где живет Лежек, почему-то, помню.
Живет, конечно – сильно сказано в «сложившихся обстоятельствах». Так, сидит у стеночки, как и все они, пырит в дальние дали, не ест и не пьет. Лежеку на полгода больше чем мене, но теперь я выгляжу старше него. Руки-ноги у него вперед моих отрасли и сделались длинными макаронинами, голос у него сначала все сип и грубел, а потом вдруг сильно понизился и как бы растрескался, и множество других известных признаков взросления, которыми обычно не размахивают при посторонних, случилось у него раньше моих. Да вот только ничего из этого дальше не пошло у Лежека и на том и остановилось. У меня же макаронная стадия уже закончилась, голос укрепился и зароговел, все тело как бы отвердело, а плечи расширочели. А кадык, а кадык – такой позор теперь у меня кадык! Будто я целое яблоко проглотил, а оно у меня в горле застряло – вот какой у меня кадык! У Лежека же шея почти гладкая. Еще у Лежека так и остались волосёнки над губёнкой, например, а у меня уже целых два чингисхановских уса отросло бы, если б я их не соскабливал – я теперь на его дядю похож, а не на друга.
Дом у Лежека как дом, девять этажей, сколько-то там подъездов, и над каждым дикий узор из красных кирпичей по белым кирпичам выложен; с одной стороны длиннющий, как и сам дом, магазин занимает весь первый этаж, с другой, дворовой – равномерно расположенные по всей длине здания лестницы, ведущие в жилые этажи, также равномерно перемежающиеся с лесенками пониже – это входы в потусторонний магазин, но входы не для людей, а чтоб всякое в него, в магазин, завозить – все, что там и продается. Раньше к этим лесенкам подъезжали большие машины и грузчики разгружали на них ящики с молочными бутылками, мешки с овощами и разное другое всякое. По утрам, обычно, привозили хлеб, выкатывали из квадратных фургонов высокие колесчатые шкафы наполненные белыми батонами, черным хлебом, серыми кирпичиками, всевозможными заплетенными булками и булками-ромашками. И тогда запах стоял на весь двор, а в животе начинало урчать даже если ты только что позавтракал и этот внезапный зов голода заставлял нас с Лежеком огибать дом, заходить в магазин через вход для людей и ждать, когда, наконец, разложат эти хлеба по полкам. Повинуясь традиции следовало взять привязанный к полкам с хлебом обувной рожок и потыкать им в понравившуюся булку или батон. Но это лишь традиция, и смысла никакого в ней нет, потому как весь магазин наполнялся теплым запахом свежепривезенного хлеба и без всякого рожка понятно, что хлеб не только мягкий, но и еще горячий. Каким же наслаждением оказывалось отломить горбушку и съесть ее прямо на улице! И какое счастье, что вселенная наша устроена таким образом, что у каждого батона существует две горбушки, а то – ей-богу! – нам с Лежеком приходилось бы каждый раз драться или устраивать целую дуэль за горбушку.
Серединка же пусть и самого свежего и ароматного хлеба особо не ценилась нами, поэтому употреблялась в корм голубям или на ловушки для них. Ящик от молочных бутылок на палочку ставишь дном вверх, к палочке – веревочка, а под ящик – остатки батона. Который-нибудь голубь обязательно зайдет под ящик, чтоб батон поклевать, только подождать чуть-чуть надо, а ты – за ниточку и голубь – в ящике. Правда не понятно, что потом с ним, с голубем, делать. Разве изжарить? – так он же живой! Может почту устроить голубиную? – как ему объяснишь куда лететь? Бесполезные, словом, птицы – голуби, пусть и ловятся легче легкого.
А иногда мы шли к реке, к красным башням, к зубчатым стенам и кормили чаек. Но это больше нравилось Лежеку, а не мне. Я птиц не люблю, ни голубей, ни чаек. Голуби трещат, почти как теперешние трещоточники, раздуваются и кружатся бессмысленно вокруг себя и это раздражает, а чайки пищат, наглющие, и вообще, от них всегда много грязи на набережной. Но если совсем уж честно, то чаек кормить все-таки веселее, потому что они ловят кусочки хлеба на лету и как ни кинь которая-нибудь точно его поймает. Тут даже игра была и счет в ней велся по количеству все-таки упавших в воду кусочков хлеба, но играть в такие игры с чайками – гиблое дело и обычно ни мне, ни Лежеку не удавалось даже размочить счет.
Было, конечно, еще много чего. Весь этот двор наполнен воспоминаниями о странноватых, если вдуматься, мальчишеских забавах. Итак, мне нужен второй подъезд, а это значит что ковылять по сугробам мне придется через весь двор.
Какой-то зимой снега было также много, как и сейчас и все лесенки служебных подъездов магазина превратились в горки. Ну как в горки. Спуститься на заднице по ним было можно, но ступеньки кое-где все-таки проступали из под снега, а это значило только одно: чем больше ступенек, тем веселее подпрыгивать на них и тем больше штанов будет изодрано. Вся задница в дырьях – красота! Только обычно на следующий день все сидели по домам, а через день, амнистированные, выходили с надратыми ушами.
Как-то и почему-то я однажды спустился с такой горки на четвереньках и осколок молочной бутылки или чего-то такого, вмерзший в лед, разрезал мне штанину и, конечно же, саму коленку. Крови было много, а бранных слов – еще больше, потому как маленькие мальчики в этих словах разбираются куда лучше даже магазинных грузчиков, тех самых грузчиков, что разгружали машины с продуктами на этих же лесенках. У меня до сих пор есть этот шрам на коленке и он, хоть теперь совсем зарос и побелел, впечатление все-равно производит что надо.
Вот бы, конечно, такой шрам заполучить на видном месте, на руке где-нибудь, на предплечье или через всю пясть, или – еще лучше! – на лицо: со лба на щеку да через глаз – во! Но чего не случилось, того не случилось – селяви! На ноге у меня только шрам, на-под коленкой, поэтому перед тем, как начать свой рассказ о нем, я засучаю штанину, оголяю лысую коленку и показываю свою гордость – и все на корточки, а кто даже и на четвереньки, и аж носом тыкаются, чтоб поближе и во всех подробностях. А рассмотреть есть что: идет с коленки на голень, косой, с ладонь длинною, а шириною с мизинец и еще как бы отростки в разные стороны от него – не шрам, а шрамище, шрамамамамище – шик-блеск-красота! Теперь главное вытерпеть, – а терпежу-то никакого и нет! – пока все отохают да отахают и дождаться, пока который-нибудь из моих зрителей, а таковой найдется всегда, спросит с придыханием и растягивая в восхищении слога: «Как это ты?» Ну тут уж дело за малым, зритель пленен – руки вверх и белый флаг! Теперь зритель поверит всему, что ни залей ему в уши. Хочешь лей-заливай, что это на тебя клычистый кабан на охоте напал – так, царапиной под коленом отделался! Или будто это крокодил в зоопарке – как достал-то он до тебя? – а я в вольер свалился! – а у нас в зоопарке разве водятся крокодилы? Или тигр – а где ты тигра видел? – там и видел, где Маугли по лесам бегает! Или стрела мимо пролетала, пропорола – чья стрела? – ясно индейская! Тут надо, чтоб слово к слову подходило, а там уж ври-завирайся!
Только вот не очень-то у меня это получается – ври-завирайся. Поэтому рассказываю я не про индейцев с их шальными стрелами и не про диких зверей с острыми клыками и когтистыми лапами из зоопарков или Индийских лесов, а про то, как мы с Лежеком грабанули магазин, тот самый, потусторонний, а когда мы грохнули витрину, осколок стекла вспорол мне ногу. Потусторонний магазин, конечно, с каждым разом заменяется каким-нибудь другим и новым, да и подробности того, как мы с Лежеком ходили на дело тоже всегда разные – это для интересности. Правда от повторения сама эта история как-то обесцветила и выветрилась. Надо бы придумать что-нибудь поинтереснее, но, говорю, рассказчик я так себе, поэтому, скорей всего, я так и буду рассказывать всем о своем уголовном малолетстве, демонстрируя бутылочный шрам, до самой смерти.
Вот кто умеет истории рассказывать – Лежек! С шрамом мне, конечно, очень повезло, но еще больше повезло тогда Лежеку с ногой! Он ее сломал. Вот уж у него историй было! И одна красочнее другой, и в каждой новой еще больше крови, чем в предыдущей. И стада-то лесных неандертальцев на него охотились, а когда поймали, пытались отломить от него ногу, чтоб сварить ее в котле – да ничего у них не вышло, вот она – на две части – оба-на! И целые армады летающих тарелок за ним – он на космолете от них! Одну сбил – пиу-пиу! – в другую врезался и вот – нога, сломлена, но надежда еще теплится! Б5 – ранен; Б6 – мимо! Мы с папой и мамой на прошлых выходных ездили покорять Джан-ман-ланг-му. Кого? Джо-мон-лун… Эльбрус, короче. Я свалился в пещеру, триста метров летел, а как прилетел, так нога – хрясь! Что значит не завирайся? Гипс-нога – смотри-на! Ты что думаешь, я тут с костылем стимулирую? Это все Лежек – историй целый вагон, а я себе ногу сломать боялся, да и все равно не сочинить мне таких же историй пусть даже и со сломанной ногой.
Доковылял наконец. В доме у Лежека девять этажей, а его квартира на восьмом. Восемь этажей – не очень-то и много, да лифт не работает. И свет не работает ни на этажах, ни в квартирах – это везде уже так, давно. Придется подниматься по лестнице. У Лежека такой подъезд, без окон на первых двух лестницах, потому что весь первый этаж занимает магазин, вот там-то и самая темень – на других этажах хотя бы маленькие тусклые окошки и уже не так страшно. Я не темноты боюсь, я боюсь напороться на кого-нибудь в темноте. Ну, понимаете, это Лежек у себя дома засел, а обычно они рассаживаются где-кому понадобится в самых неожиданных местах.
Я открыл дверь подъезда, пружина скрипнула – темно: свет через открытую дверь не идет вовнутрь, не хочет. Подпер дверь коленом, достал спички, чиркнул пару раз одной – пшикнула и сломалась; другой – загорелась. Ярко горит, пламя на спичке дрожит, прыгает, да не светит – только саму спичку и видно. Опасливо переступил порог. Дверь за мной закрылась, хлопнула мне в спину, спичка загасла. Ах, не любит темнота, когда ей спичками под ребра тыкают! Тихо. Ни звука. Темнота еще темнее стала: так и хочется заорать, у темноты спросить: «Есть здесь кто-нибудь?» А как темнота: «Есть!» ответит, то что тогда? Вот я зубы и сжал, стараюсь из темноты что-нибудь выслушать.
Зажигать еще одну спичку смысла нет и я наугад рванул вперед, в самую темень подъезда. Мне на пути никто не попался. Я преодолел две лестницы одним прыжком и стал на лестничной клетке у первого же окна. Оно маленькое, квадратное, почти у пола, так, подслеповатая бойница, а не окно, но все-таки из него хиленько светит. Прислушался. Будто прислушавшись можно понять, есть ли они или их нет: они ведь и не дышат даже, только так, совсем легонечко. Оставшиеся семь этажей я прошел медленно, оглядываясь и заглядывая во все углы, но никого-ничего не встретил. Ну и отлично: корабли лавировали, лавировали – и разве на этот раз вылавировали?! Нервов на это лавирование ушло о-го-го! Миллион, наверное, нервных клеток сгорело и никак не меньше, а ведь они не восстанавливаются. Или уже восстанавливаются? Слушайте: раньше вот и капустные кочерыжки были полезными, и самые витамины – в них, а потом вдруг вредными стали: все меняется. Словом, это не важно. Важно то, что я никого не встретил – хорошо!
Я нажал звонок Лежкиной квартиры, забыл, что не сработает, не позвонит звонок; постучал в дверь – глазок на двери тут же моргнул – кто-то в него посмотрел. Будто бы ждали! Но как могли меня ждать, если я никогда не сообщаю о себе заранее. И я это не потому что некультурный такой. Просто сообщить о себе заранее никак нельзя – телефоны не работают. Ни лифты, ни телефоны, ни звонки. Сейчас вообще ничего не работает, а не только лифты, телефоны и дверные звонки. Весь белый свет в пух и прах – камня на камне – ничего, что было, не стало.
Дверь щелкнула и открылась, меня встретили родители Лежека. Его отец держится одной рукой за дверную ручку, а другой рукой вцепился в косяк. Мать Лежека стоит за ним, и будто бы прячется за его спиной.
– Здравствуйте, – сказал я. – Я – к Олегу.
А к кому же еще? – а я все равно так сказал, что-то да надо же сказать.
Мать Лежека вздрогнула, когда я назвал имя ее сына, отец же наоборот, ни черточкой не шевельнул, только может быть чуть-чуть усами качнул.
Сердце рвет смотреть на них! Разве эти посеревшие, истонченные будто, почти прозрачные люди и есть те самые родители Лежека, родители-энтузиасты, родители, которым на каждый выходной день раньше обязательно надо было осуществить какой-нибудь проект?
Сколько выходных я провел вместе с ними! Мы ездили на реку рыбачить и отец Лежека учил нас налаживать маленькую короткую удочку с пружинкой на конце и насаживать на крючок червяка – вот уж дичь! Червяк от такого вертится в пальцах, тут съежится колбаской, тут ниточкой вытянется, и машет обоими своими концами, как безумный – конечно, кому понравится, когда крюком в живое?! Я одного попробовал, порвал, выкинул и с того раза Лежек насаживал для меня червяков на крючок, сам я только плевал на уже готового, чтоб удача – это тоже отец Лежека нас научил. Свинцовые грузила мы закидывали в реку, а удочки втыкали в землю так, чтоб натягивалась та самая пружинка на конце. И если она задергается, значит рыбина попалась – тут главное схватиться половчее за леску и резко ее дернуть, чтоб подсечь рыбину, ну, то есть чтоб крючок ей губу проткнул и она теперь уж наверно не сорвалась. Потом аккуратно тянуть, чтоб леска не порвалась и заматывать ее за специальные ушки на удочке – чтоб не спуталась. Рыбину следовало доставать из реки сачком, а прибивать – камнем по башке. Но это только по задумке так! Рыбины все попадались одна другой мельче, поэтому опасаться за леску смысла не имело, как и не имело смысла помогать рыбе сачком. А уж камнем по башке такую никому бы и в голову не пришло. Отец Лежека зажимал в кулаке рыбину, снимал ее с крючка и закидывал обратно в реку, а за ней следом в реку отправлялось и грузило с крючком и новым свежеобплеванным червяком на нем. И мы садились на берег ждать, пока не клюнет новая рыбина, затем только, чтоб полюбоваться ею, поохать над ней, что-де маленькие рыбины теперь стали попадаться, и, вынув очередной крючок из очередной пасти, вернуть рыбину реке.
А на обратном пути с рыбалки, родители Лежека покупали рыбу у настоящих рыбаков. Она была тоже маленькая, еще меньше даже чем та, которую мы отпускали, но она была специально маленькая. Такую на донную удочку не поймаешь, такую ловят сетями-телевизорами и желательно с моста, но можно и с берега – тогда нужен шест. Кажется, вот зачем они такие маленькие? А мама Лежека их пожарит, съешь две-три и больше так не думаешь.
Но не одной рыбалке отец Лежека учил нас. С ним мы научились собирать березовый сок и нам даже достало терпения насобирать на мизинец в трехлитровую банку. Кажется, что это страшная дичь – сок из дерева, а на самом деле вкусно и сладко, только вот долго. Чтоб насобирать нормально, надо миллион, наверное, лет цедить этот сок из березы и никак не меньше.
Еще мы ходили в бассейн все вместе, плавали и прыгали с вышек в воду. Ну, это отец Лежека прыгал с вышки, а мы, проводив его чапаевские усы под воду восхищенными глазами, прыгали с бортика. С Лежеком мы соревновались кто дольше задержит дыхание под водой. Именно под водой, потому что играть на воздухе в такую игру – сущая глупость: кто-нибудь обязательно в конце концов начнет поднагонять себе кислороду через малюсенькую дырочку меж губами: тут держи-не-держи соперника за нос, затыкай-не-затыкай ему рот ладонью – найдет способ, задницей дышать научится ради победы. А еще в стенке бассейна, у самого дна, была какая-то квадратная дырка и можно было нырнуть и, ухватясь за нее пальцами, прижаться ко дну – на такой глубине делалось больно в ушах. Зато и продержаться у самого дна хотя бы самую маленькую четвертьминуточку – целый подвиг.
После бассейна родители Лежека обычно звали меня к себе в гости восстанавливать силы фруктовым желе. Я выскребал его из железной кюветки до последнего кусочка, так оно мне нравилось, таким вкусным-превкусным оно мне казалось – да еще каждый раз разного цвета! А Лежек его, почему-то, не любил и всегда ковырялся в нем задумчиво, брезгливо обнюхивал каждый кусочек, но не съедал, отодвигал в сторону и отделял новый, хлопал желе ложкой и смотрел как оно дрожит, и всегда оставлял больше половины и никакими уговорами его не заставить доесть.
Катались на снежных мотоциклах – я всю дорогу прокатался уткнувшись носом в ватник Лежкиного отца, такой страх! – мотор ревет и задницей по всем кочкам. Собирали грибы, заблудились – если медведь, ты его по носу, у него там самое чувствительное, а на дерево от медведя бесполезно, вот если волк, тогда на дерево, а в нос не надо, смотри не перепутай! А потом разблудились, нашли дорогу и ни волк, ни медведь уже не страшны. Сгорели на водохранилище – сидели потом в сметане, а мы с Лежеком друг дружке кожу еще со спины обдирали. А слабо сожрать? Со сметанкой хорошо пойдет!
Это всё выходные с родителями Лежека, но и в будни с ними не заскучаешь: я часто оставался у Лежека на ночевку и мы все вместе играли в лото и я выучил название всех-всех бочоночков от «кола», он же «копейка», он же «рупь» до «снеговиков», «дедушкиного соседа» и самого «деда»; «дед» – это девяносто, потому что старый. Мы играли в «дураков» и часто именно мне приходилось залезать под стол и кукарекать оттуда – такая позорная традиция за проигрыш. Вешали на стену простыню, наводили фильмоскоп и читали впеременку про динозавров, которые прятались от всего мира в каком-то диком лесу – были разные, но этот был моим любимым и Лежек его тоже очень любил. Или просто смотрели до глубокой ночи какой-нибудь фильм по телевизору – тоже интересно, фильмы-то по ночам показывают для взрослых! Не понятно, конечно, зачем мужику с усами как у отца Лежека режут ножом торт в форме его же головы – но днем-то такой дичи не покажут! Значит надо досмотреть, пусть и приходится спички в глаза втыкать.
Оставшуюся от непонятного фильма половину ночи мы спали с Лежеком в одной узенькой кровати под одним одеялом и обычно вовсе и не спали, а щипались и пихали друг дружку локтями и коленками. А еще разговоры самым тихим шепотом с самом важном и самом волнующем, о бородатых гномьих женщинах, например, и о всяком другом разном, хихикая и краснея так, что краску и под одеялом было видать.
А на утро пили гадкий и горький кофе с лимоном из термоса – этот кофе всегда готовила мама Лежека с вечера. Но кофе почему-то не помогал, бодрости у нас с Лежеком – ровным счетом ноль бодрости после бессонной ночи.
Теперь же и не поверить, что эти люди, родители Лежека, били когда-то такой энергией.
– Здравствуй, – отвечает мама Лежека, выглядывая из-за плеча его отца.
– Здравствуй, – отвечает его отец.
– Здравствуй, – зачем-то повторяет мама Лежека.
Мама Лежека отступила чуть-чуть, как бы приглашая меня войти, а я бы и вошел, да не могу: отец Лежека стоит в проходе, не двигается, как будто уснул с открытыми фарами. Я сделал шаг, фальшиво кашлянул в кулак, а он качнул усами и вроде как очнулся, подвинулся, отнял руку от косяка и, наконец, позволил мне войти.
Кажется, у них в квартире тепло. Я вытянул руки из рукавов – когда на улице холодно, я всегда так хожу, руки в рукавах. Я бы мог носить варежки, да где столько варежек найдешь?! – не живут у меня варежки. Дай мне миллион варежек, я их в три дня растеряю, варежки, а то и быстрей, может, справлюсь. Хоть резинками их ко мне пришей, хоть цепями прикуй, вместе с резинками, вместе с цепями и потеряю. Вот так, а почему – не знаю.
Можно остаться в куртке или это некультурно? Лучше, наверное, снять. Расстегнул куртку, снял, хотел было повесить на крюк, но отец Лежека протянул руки и мне пришлось отдать куртку ему.
– Спасибо, – поблагодарил я его.
– Не за что, – качнул он усами.
– Не за что, – сказала и мать Лежека.
– Не за что, – повторил за ней его отец.
А сам стоит, будто снова заснул, мою куртку в руках держит, на крюк не вешает.
Я сложил ладони и дыхнул в них, потер одну об другую, как когда моешь руки. Потер с другой стороны, пястью об пясть, мол, холодно изображаю. Раньше родители Лежека обязательно напоили бы меня чаем, мне бы и изображать ничего не пришлось. И даже просить не надо было, это как-то само собой подразумевалось: если с холода, значит чай. И вареньем бы накормили с чаем, да еще и спросили бы какого именно варенья я желаю. А теперь – сам спросить я почему-то стесняюсь, а они не предлагают, а, может, и не помнят уже что такое чай и с чем его едят.
Но вот что точно, так это то, что они не предлагают мне чаю не потому, что им не нравится, что я пришел. Они любят, когда я к ним прихожу, хоть и выразить теперь этого не умеют. Они смотрят на меня тихо и молчаливо, но я знаю, что они рады меня видеть. Я знаю это, потому что каждый раз, когда я ухожу от них, мама Лежека зовет меня приходить еще, а его отец пусть и не говорит ничего, но согласно кивает своими усами. Еще и у двери ждут, а то как бы моргал глазок их двери так сразу? Может быть, мои визиты напоминают им о старых временах, когда мы с Лежеком постоянно вертелись у них под ногами, или заперевшись в его комнате, играли или выдумывали все новые и новые детские шалости и, должно быть, воспоминания эти также приятны для них, как и для меня.
Я прошел по коридору к комнате Лежека. Его дверь закрыта, а соседняя дверь родительской комнаты – нет, и в просвете между дверью и косяком я увидел большой, сам серебряный и катушки у него серебряные, магнитофон. Только это я так помню, что и магнитофон и катушки серебряные, теперь они зачехлены серой пылью и оттого потеряли свой серебряный цвет.
С этим магнитофоном связано много историй. Родители Лежека даже и не догадывались, например, что магнитофон этот, совсем даже и не магнитофон. На нем конечно можно было слушать и музыку, но гораздо интересней оказывалось тайком, когда никого кроме нас с Лежеком в квартире нет, снять его с полки, уложить на пол, и магнитофон превращался в самый настоящий пульт управления космическим кораблем. У магнитофона были две великолепные вращающиеся катушки – межгалактический телетайп, куча кнопок и тумблеров и даже какой-то индикатор со стрелочкой, относительно функции которого мы с Лежеком всегда спорили. По моей, более оправданной версии, стрелка показывала скорость нашего корабля и это было так очевидно, ведь когда наш звездолет выходил на сверхсветовую, стрелка всегда задиралась до красной зоны индикатора, а когда мы шли на крейсерской, всего лишь подергивалась легонечко где-то по серединке. Я в рацию-кулак: проверить приборы – как слышно, прием! Лежек и тоже в кулак: держу семьсот, и: как слышно, прием! А мой голос из его рации-кулака: первая космическая – как слышно? Разве не хорошо? Хорошо, да Лежек все норовил попортить. Ему почему-то казалось, что это высотомер, хотя мне так и не удалось допытаться, какую именно и от чего отмеряет этот прибор высоту и вообще какая такая высота существует в межзвездном пространстве. Но Лежек был на удивление крепок в своем глупом решении считать спидометр звездолета высотомером и поэтому этот несчастный прибор был то тем, то тем попеременно по нашему обоюдному договору. Хорошо? – хорошо! Да только договор этот часто подписывался кровью из разбитого носа.
Сколько было таких вещей, которые тогда казались интересными, а теперь перестали работать, оказались ненужными и не оттого ли они покрылись серой пылью?!
На дверном косяке комнаты Лежека – зарубки карандашом: возраст-рост: зарубки, зарубки, зарубки, вот и последняя – все, больше не будет.
Я зачем-то постучался в дверь комнаты Лежека, будто кто-то мог бы оттуда мне открыть или пригласил бы войти. Я подождал немного, как если бы все-таки сомневался что, может, и ответят на мой стук, и сам открыл дверь. В комнате мало света и пылинки кружат в мутном солнечном лучике, пробравшимся сюда через щель между шторами. На столе у Лежека кирпич – книга по которой мы с ним научились писать рунами, теперь вся под пылью. Писать секретными буквами было особенно нечего, не было у нас секретов, стоящих секретов, чтоб их шифровать, поэтому приходилось выдумывать что-то, будто бы были. Рядом с кирпичом – подзорная труба позорная. Лежек ее соорудил из двух линз, куска альбомной бумаги и целого мотка синей липкой ленты и страшно ею гордился – ведь сам! А почему позорная? Позорная, потому что там, у нее меж стекол, завелась как-то сама собою физика и все попортила своими глупыми законами – изображение выходило вверх тормашками и ничего она особо не приближала. Лежек вертел стекла и так, и так, менял их местами, переворачивал, а физика все равно не сдавалась, как ни колдуй против нее. Под серой пылью теперь и труба. На стене на двух гвоздях висит игрушечный меч, об игрушечности которого мы с Лежеком в детстве и не подозревали и поэтому устраивали с его помощью бои, не хуже тех бессмертных горцев в клетчатых юбках с косматыми головами и с серьгами в ушах. Из-за этого меча у меня до сих пор шрам на большом пальце правой руки, а нос чуть-чуть искривлен прямо посередине. Помню, что было больно и опять много крови и даже больше чем когда я порезал себе коленку, но все равно – весело. Или шрам на пальце от чего-то другого? – теперь все путается. У меня и так-то память – я как меня зовут сплошь и рядом забываю – а тут еще и это! То одно из головы вылетит, то другое, а и не хватишься: забыл да и забыл, что забыл – напасть такая!
Лежек сидит на полу, спиной стену подпирает. Коленки к подбородку подтянул и руки на них сложил. Они все так сидят, а почему – не понятно. И не спросишь их, зачем они так сидят: есть какая-то причина или просто? То есть спросить-то можно, нет такого закона, что разговаривать с ними нельзя, да только не ответят они, даже взгляд свой не оторвут и на тебя не посмотрят. Они вообще ни на что внимания не обращают, хоть на голове перед ними стой, хоть на ушах пляши, только пырят куда-то в горизонт, а взгляд у них такой тихий, нездешний, как бы и не мертвый еще, да уж точно не живой. Не люблю я этого взгляда, у меня от него пятки всегда холодеют! Вот и понятно вроде, что не глазами медузы какой-нибудь там Горгоны они глядят, а своими собственными, уж не закаменею я от их взгляда, а все равно не люблю попадаться им на глаза. Я вот так себе придумал: как только я у Лежека в комнате, стульчик для себя я сразу же перетаскиваю в уголок, подальше от его глаз. А сажусь всегда на самый краешек, чтоб в случае чего долго не мешкать.
А чего я боюсь? – а ничего я не боюсь! Не выношу только, когда они мычат. Так с ними еще можно, но если мычать начнут, тут уж не только пятки захолодеют. Я когда слышу это их мычание, утробное, почти животное даже, как у коровы, только без интонации, ровное, мне совсем уж невозможно рядом с ними делается, убежать сразу хочется: ну вот говорил-говорил человек, а теперь мычит только! И что мычит, и зачем мычит, и почему начнет, а когда кончит – тоже непонятно.
– Ты только не мычи, друг, – тихо говорю я.
А Лежек и не мычит.
Зачем я к Лежеку прихожу, я и сам не знаю. Прихожу, чтоб вспоминать, наверное. Вспоминать и рассказывать, что еще помню. Глупость в сущности, он меня и не слышит даже, а я вот все равно.
А о чем я вспоминаю? Что вспомнится, о том и вспоминаю – выбора-то у меня не разбежишься! О наших с Лежеком играх вспоминаю, походах, шалашах, пятаках, подложенных под колеса паровоза, и прочих детских забавах. Иногда вспоминаю о чем-нибудь, о чем при родителях обычно не расскажешь, несмотря на то, что знаю, что они, родители Лежека, всегда стоят у дверей и слушают мои рассказы, которые частично-то уж точно не предназначены для их ушей. Например, про первую сигарету, выкуренную под мостом, одну на двоих, купленную у старшеклассников на честно заработанные деньги. Ух и плевались и кашляли мы тогда с Лежеком, но сигарету, все-таки, докурили. Ладно, вру. Выкинули мы ее, сделав по затяжке, а потом весь день синие ходили. Зато заделались среди нашей оравы заправскими курильщиками. Но теперь все это не важно. Кто теперь будет за это ругать?
Но так обычно. Сегодня мне ничего не вспоминается. Все мысли из головы выпрыгнули и в чеперухе пусто; аж звенит – так пусто. Уже сижу я с четверть часа рядом с Лежеком, а и слова еще не сказал, пык-мык да и только: а помнишь?.. а знаешь?.. – а дальше и не идет, не вяжутся слова друг за дружку.
Я ткнул пальцем себе в шею, в красный треугольный платок:
– В сложившихся обстоятельствах мне показалось… – начал я, но опять не договорил.
Не договорил, потому что так нельзя. Нельзя рассказывать Лежеку о том, что это за красный треугольный платок у меня на шее. Тогда придется и про капеллана, и про его Новую Армию Спасения рассказывать, про Три Погибели и всех, всех, всех. Лежек, может, и не услышит меня, даже точно не услышит, я так думаю, а вот каково будет его родителям от моих рассказов о том, что где-то еще теплится хоть какая да жизнь и что где-то еще есть живые люди, живые мальчики, и что не все еще превратились в думок.
Вот слово – думки! Кто как их называет: и шизиками, и, еще лучше, нежитью; а я – думками. Я не сам придумал, услышал где-то. Само это слово мне не очень-то и нравится, но оно лучше всего к ним подходит: будто задумались они однажды о чем-то да так и сидят, думают. О чем думают не понятно, но понятно что не просто так они – видно по ним это как-то.
Так удивительно, как это с ними случается: ни с чего вроде бы, вдруг и как-то само собою. Вот – человек и не важно кто человек этот, пять ему или сто пять, мальчик, девочка или взрослый, живет и живет как жил, и ничего, кажется, с ним и не происходит, ну, рассеянность, может какая появилась. То то? забудет, то это – у всякого бывает и вдруг раз! – как зовут не помнит, сколько лет не знает, а спросишь – мычит. Да только и замычит-то не в ответ, а как бы сам с собою или если и для чего-то замычит, то для чего именно совершенно не понятно. Вот эта-та забывчивость и есть первый признак, а мычат они не сразу, это только потом они мычать начинают.
А вот как это началось у Лежека: обычно мы играли так: в почтамтской мусорке, недалеко близко от дома Лежека, иногда можно было раздобыть длинные цилиндрические лампы, ну такие, которые в кино обычно зловеще мигают, чтоб тому, кто фильм смотрит, совсем уж невозможно сделалось, как будто обгорелка в полосатом свитере и в перчатке с ножами мало для страху. Эти лампы светили на почтамтских потолках, а когда они начинали зловеще мигать их выкидывали на помойку, а не оставляли нагонять страху, как в кино. Так вот. Мы оббивали им аккуратненько один конец, втыкали эти лампы в сугроб так, чтоб их внутря наполнялись снегом, а потом становились друг против друга и резким движением из-за плеча опорожняли их: кто в кого попадет. Называлось – световые мечи. Ну, как в фильме. И вот Лежек однажды оббил свою лампу, воткнул ее в сугроб, вынул и стоит, закинув ее себе за плечо, а что делать дальше как будто и не знает. А ведь сам же эту игру и придумал. Я в него пульнул и попал даже, а он все стоит, только шарами лупает. А потом – все молчит; а потом – и скажет если что-нибудь, так невпопад. И глаза у него как бы обостолопили, нездешними стали. Ходит-слоняется все где-то рядом: позовешь – посмотрит, а не откликнется, будто с тобой, а и не здесь.
А потом – второй признак, заключительная стадия – занавес – финиталякомедия! Это когда они место начинают себе подыскивать, гнездятся как бы. Вот Лежек долго не искал, содрал с себя трусы и майку, забился в свой уголок, коленки – к подбородку и – поминай, как звали – задумался. А некоторые другие так ходят и ходят, высматривают где бы им пристроится, а выберут – хоть поперек улицы сядут лишь бы было к чему спину приложить – и не пройти, не проехать из-за них! Вот еще какие бывают: сядет где-нибудь в лифте, пока лифты еще катались – совсем страх! – и сидит. Или в телефонной будке – тут уж без разницы работает телефон или нет – они не сами будки, а телефоны почему-то любят: сидят даже там, где будки нет, а есть только квадратный навес – вот под навесом и сидят. Не одной свободной телефонной будки или просто телефона, кажется, не осталось, в каждой будке по думке, под каждым телефоном обязательно кто-нибудь сидит – не то что бы я собирался звонить куда-нибудь, не работают же, просто интересно что им эти телефоны дались!
А еще интересно, как им все в одежде не сидится. Как один все голые задумываются. И не прикрыть их никак. И в простыни их пытались увернуть, и в колючие солдатские одеяла, когда холодно стало. Они посидят-посидят, да сдернут покрывало и – дальше снова голые.
Когда это начало происходить, от новостей от таких у всех, конечно, давление подскочило. Все переполошились, чего только не говорили: это – и распыляют с самолетов; это – и в воду водопроводную подмешивают; это – и телевизионные вышки излучают, а то и со спутников.
Словом, кто-что, а мы-то с Лежеком знали: инопланетяне. Конечно, инопланетяне, кто же еще? Инопланетяне – самая-самая разгадка. Другие причины мы тоже рассматривали, даже самые фантастические, но ни одна из них не выглядела такой же убедительной и правдоподобной, как про инопланетян.
Телевизор же говорил что-то про какую-то новую инфлюэнцу, но говорил все как-то неопределенно да и не долго говорил: сложно, наверное, с такой-то забывчивостью телевидение снимать.
Он первым перестал работать – телевизор. Так по крайней мере я заметил. То есть работать-то он работал, но кроме снега ничего не показывал. Одна какая-то программа держалась дольше двух других, но показывали там очень уж увлекательную телепередачу – настроченную таблицу. Мы с Лежеком и так ее выровняли по горизонтали, и так – по вертикали, и чтоб круг был круглый и чтоб цвета правильные, но смотреть-то, смотреть ведь нечего. Мы с ней и так, и эдак, и в конце концов и эта программа переключилась на показ снега. А потом телевизор и включаться перестал: тут и свет отключили, и лифты, и эскалаторы, и телефоны и все-все, что от света работает, работать перестало.
Света нет, ничего не понятно, кого спросишь, никто не объяснит, а школу никто не отменял. Ну я и ходил в школу, дело привычное.
Уроки, уроки – а однажды заболел учитель труда, наш, мальчишеский. Такой учитель, я бы даже и не запомнил о нем ничего, а теперь уж и точно бы все о нем позабыл, если б не одна его черточка: с ним всегда был его стакан, простой, граненый. Если рядом с трудовиком оказывалось что-нибудь, обладающее плоскими поверхностями, будь-то стол, верстак или токарный станок, он тут же ставил туда свой стакан, а если такой поверхности не было, стакан помещался в нагрудный карман его халата. А что самое удивительное в этой истории со стаканом, так это то, что я никогда не видел чтоб он использовал его как-нибудь: он не пил из него или, например, не складывал в этот стакан деревянные карандаши, числа которых в кабинете труда не счесть. Но ведь для чего-то же он с ним таскался?!
Так вот, не знаю, инфлюэнца с ним случилась или причиной его болезни был тот самый граненый стакан, да только уроки труда нам не отменили, а объединили наши с девчачьими. Тогда-то я и научился шить квадратные прихватки. Ну такие, чтоб руку не обжечь, когда чайник с плиты снимаешь; и еще такие, чтоб хватило что-нибудь из духовки достать, побольше, но тоже обязательно квадратные. Мне, правда, совсем не удавались закругленные их углы, они всегда выходили у меня замечательно кривыми, но как уж есть: шить прихватки с прямыми углами нам строжайше воспрещалось, будто такой закон есть, что прихватки только с закругленными углами бывают.
И хоть о таком говорить не принято, и каждому мальчику полагается нос воротить от ниток и иголок, скажу честно и врать не буду – мне нравилось. В душе рождается какое-то особенное чувство, когда твои руки превращают простой кусок ткани в какой-нибудь предмет со смыслом, пусть даже и смысла в предмете этом – прихватка да и только. А еще – швейные машинки. Они даже похожи чем-то на станки, на токарный или на тот, что со сверлом. Но сколько в швейной машинке изящества! Черные, с золотыми цветами на боках, с тонкими талиями. И даже катушка с глупым названием «шпулька» швейную машинку не портит! А перематывать с готовой катушки на эту самую шпульку! А как они шьют! Ты крутишь ручку, как шарманщик какой, ткань сама проезжает под лапкой, иголка опускается, иголка протыкает ткань, выходит, тянет нитку за собой и вот – новый стежок! Вот – еще один. А что твориться в лючке под лапкой – это уж совсем волшебство! Как там, в недрах машинки за этим лючком нитка связывается с ниткой, как рождается стежок – загадка и загадка. А как успокаивающее звучат движущиеся детали швейной машинки – особенно если смазать из масленки! И миллион, наверное, километров проехал бы, стежок за стежком, на этом мерно постукивающем поезде да еще просил бы, чтоб в обратную дорогу с собой взяли!
Наши машинки стучали и стучали, шили и шили эти прихватки, и девочки шили, и мальчики. Стопки с прихватками росли и росли и вдруг задание сменилось – теперь надо учиться шить маски. Как зачем? Каждый должен это уметь! Как почему? Потому что средства индивидуальной защиты дыхательных путей, изготавливаемые из сложенной в несколько слоев марлевой ткани – лучшая защита от инфлюэнцы! В зонах с повышенной концентрацией заразившихся имеет смысл производить набивку изделий ватой. На лице располагать так, чтоб оба отверстия, участвующие в осуществлении дыхательного процесса, оказались закрытыми, независимо от того, посредством какого именно отверстия дыхательный процесс осуществляется в настоящий момент. Шейте и носите маски!
Маски мы начали шить с таким же остервенением, с каким до этого шили прихватки. Ну тут все намного проще, никаких скругленных углов, теперь скругленные углы оказались под запретом.
Я сшил миллион, наверное, масок и никак не меньше. Сначала мы шили только на уроках труда, потом стали шить и на литературе, потому что учительница литературы заболела, а урок нам отменять никто не спешил. Потом и на математике. На географии. Физике. Что там еще? Кончилось все тем, что других занятий в школе для нас и не осталось, знай себе, крути ручку, веди строчку – мы стали шить маски вообще на всех уроках. А потом – потом и не для кого стало их шить. Да и учительница труда, странная треугольная женщина с фиолетовой головой и нечеловечески большими сережками, которые оттягивали ей мочки до плечей, однажды не пришла на урок, должно быть тоже подхватила инфлюэнцу – а как же «шейте и носите маски»?
– Я больше не ношу маску, – сообщил я зачем-то Лежеку. – И никто не носит. Все говорят, что это не помогает. И мне так кажется.
И зачем я о масках? – очень всем интересно о масках!
Я порылся в черепухе, вдруг что найду:
– Помнишь «Космос»? – спросил я Лежека.
«Космос» – это кинотеатр. Мы с Лежеком полжизни в нем провели! Не так много разных фильмов там показывали, зато каждый мы посмотрели по миллиону, наверное, раз и никак не меньше.
– Помнишь фильм, где инопланетянин родил? Я тут ходил в «Космос», нашел от него афишу – страх!
Что это был за фильм! Разве такое забудешь даже в «сложившихся обстоятельствах»! Там один наш, человек, и один не наш, инопланетянин, свалились на какую-то пустую Землю. Они так сильно друг друга ненавидели, что к концу фильма подружились – ничего удивительного, так часто бывает. А как только они подружились, не нашему, инопланетянину, приспичило срочно родить – ну, то есть он уже был беременным до всего до этого, а теперь рожать надо. И что делать? – нашему пришлось принимать ненашенские роды, а там и слизь, и инопланетная слякоть, и куча крови – фу! Все это может показаться смешным, а на самом деле жуть как страшно! У меня пятки холодели весь фильм. И у Лежека холодели, пусть он и не подавал вида или пытался не подавать вида и натужно шутил весь фильм и сам же над своими шутками глупо хихикал. Например, предложил с ним зарубиться, что если одному из нас рожать, то другой уж подсобит – вот такие глупые шутки. И тоненько так в ладошу: хих-хих-хик.
– Помнишь космонавта? – спросил я.
На одной из стен вестибюля кинотеатра «Космос» – гипсовое панно. По нему на фоне бесцветных звезд и полошащих дальних далей параллельно полу летит куда-то, задорно улыбаясь сквозь открытое забрало своего космонавтского шлема, космонавт. Слушайте: там космос и звезды – а у него шлем откупорен. Одной руки у него не видно, за спиной он ее держит, может, а другой, единственной, он так горячо телеграфирует, что всегда, невольно даже, хочется взять да помахать космонавту в ответ. Только я никогда не махал ему в ответ, хоть и хотелось, а то подумают, что я того-этого, а может и еще хуже.
В голове мне казалось, что панно это с космонавтом от пола до потолка места занимает, от стены до стены – так в черепухе засело. А на деле неба этого гипсового там на пол стенки и даже меньше, чем на пол стенки, с мой рост и вытянутую руку может быть, а дальше и под потолок – обычная побелка: вот и все-то небо, вот и только-то дальних далей. Но космонавт на тесноту внимания не обращает. Знай себе не унывает, бороздит космические просторы с улыбкой на лице и машет каждому, кто на него ни посмотрит. Такой он, знаете, бодрый; а улыбка у него – не у каждого настоящего человека такая улыбка – волшебная, глаз магнитит – не оторвать.
Теперь он, правда, не такой веселый, как тогда. Кто-то расцарапал дальние дали у него за спиной гвоздем или, может, ножичком; кто-то вырезал короткие, но гадкие слова на небе над ним; кто-то выковырял ему глаза и теперь на месте глаз у него две глубокие воронки – не больно-то весело, а он все равно заразно улыбается!
В кинотеатре «Космос» много что поменялось: теперь тут фильмы не показывают, теперь тут совсем другие порядки, теперь тут распоряжается капеллан.
Досталось не только космонавту. Торжественные белые занавески пропали со всех этажей лестничных окон и стоят эти окна теперь во весь рост голые от пола и до потолка. В вестибюле всегда было много горшков с разными цветами. Те, что побольше стояли прямо на полу, средненькие – на каких-то табуреточках и тумбочках, а самые маленькие висели в кольцах металлической решетки, разгораживающей вестибюль на две неравные части. Теперь все горшки в одном углу, некоторые – один в другом стоят, а цветы свисают у них по бокам коричневыми тряпочками, будто остались от прежних цветов только тени, а сами цветы куда-то пропали.
Кинозал – натуральный бардак и сплошной беспорядок. Краснобархатных пузатых кресел больше нет – зал без них пустой и покинутый. Кресел нет, зато появилось несколько стульев обитых растрескавшейся клееночкой неубедительно-коричневого цвета. Голый пол ленивой лесенкой поднимается почти к самым бойницам будки киномеханика. Раньше, кажется, на нем что-то лежало, а теперь – просто половицы и ходить по ним страшно громко, скрипят они, как снег под подошвами в морозный день. На сцене зачем-то черная кафедра, деревянный такой куб за который встают, когда выступают с речами, со стеклянным стаканчиком – никогда тут не было ни кафедры, ни стаканчика. От занавеса в цвет кресел – одни обкро?мски висят, а под ними, под обкро?мсками – белый экран покрылся толстым слоем серой пыли, хоть пальцем по нему пиши. Только, конечно, написать ничего не выйдет, не получится, серая пыль тут же на свое место вернется, только сдвинь ее – это она везде такая.
И маты, маты, везде по кинозалу, но все больше по стеночкам – спортивные маты. Коричневые, бордовые, синие и грязно-горчичного цвета. Потолще маты и маты совсем прохудившиеся. Если два раза все пальцы пересчитать на руках и ногах – вот примерно сколько в кинозале спортивных матов. Мы их сами сюда приволокли из соседней школы. Сами, но под чутким руководством капеллана, конечно. Миллион, наверное, раз туда-сюда, и никак не меньше из кинотеатра «Космос» в школу и обратно – потому что на один мат нужно четверо, а если совсем маленьких, то и шесть. Теперь мы на них спим, каждый на своем – столько мальчишек, сколько всех пальцев на руках и ногах и еще примерно столько же.
Но это если по пальцам у нормального человека считать. Считать по пальцам капеллана то еще дело! Заметили, что у него пальцев на четверть меньше, чем полагается, что у него одна рука – фальшивая? А я не сразу заметил, так умело он прячет ее! А если не прячет, так та?к ею трясет, что и не разглядишь: ни руку, ни что она фальшивая. Но я как-то все-таки разглядел.
Как этот черт прищемил себе правую руку никто не знает – была же она у него когда-то настоящая? Была, наверное, а теперь ее нет, зато есть вместо нее деревянная, кривая и косая и совсем на настоящую непохожая. Где он ее такую раздобыл, тоже неизвестно.
Рука эта у него и не рука – пальца на ней всего три, сросшиеся, сложены в слоящую щепотку. Только капеллан, конечно, не солит ею ничего, в этой щепотке есть дырка, а в дырку он вставляет перо, натурально перо от птицы, и сочиняет пером этим гимны, обмакивая иногда его в свою бронзовую чернильницу, те самые гимны, которые нам приходится петь – ну, кому можно петь. И ни на что-то рука эта у него не годится больше: только тыкать в небо, сотрясать воздух и писать гимны. Вот этой-то фальшивой рукой капеллан и направляет всю нашу Новую Армию Спасения, а куда он ее направляет и не понятно.
Вот мы те маты из школы перетащили – это ясно, чтоб спать не на полу. То есть не прямо на полу – уже хорошо! А зачем коня? С двумя ручками, четырьмя копытами, гимнастического коня – зачем? А какой он тяжелый! Как настоящий тяжелый! Стоит теперь посреди кинозала и ни для чего не используется.
А знаете, что самое тяжелое в школе – тяжелее всего, что в ней есть? Коня даже гимнастического? Доска! А сколько она весит? Миллион тонн, наверное, и никак не меньше она весит! А как я знаю? А вот как – я тащил эту доску от школы и до самого кинотеатра «Космос» – вот как я знаю! Не один, конечно, я ее тащил – пришлось всем кто были тащить. Хорошо хоть школа недалеко близко от кинотеатра. Но ведь что это такое – недалеко близко?! Это когда улицу шагами меряешь запросто так из любопытства – недалеко. Ради удовольствия если – близко. А когда с доской на плечах, то далеко и совсем даже не близко.
Черная, с двумя створками школьная доска. Все вместе тащили да за день не управились, пришлось утром возвращаться, чтоб дотащить. А как мы ее на стену в кинозале вешали! Конечно, не получилось у нас ничего, но мы вешали эту доску дня четыре. Иссверлили всю стену ручной дрелью, миллион дырок, наверное, в стене сделали и никак не меньше, столько же обпиленных карандашей в эти дырки забили и закрутили туда столько же шурупов, а так и не смогли две дырки просверлить, чтоб они совпали с двумя ушками на доске. Вот и стоит доска прислоненная к стене, под бойницами киномеханика, а все для чего столько возни? Чтоб капеллан написал на ней: «Крепите работу звеньев!» Крепите – это как? Что за звенья? Капеллан даже на табуреточку залез, чтоб написать повыше, а что это значит, объяснить так и не смог.
– Крепите – крепите и значит!
– А звенья?
– Ну звенья! – только и отвечал капеллан.
Ниже, под звеньями, капеллан писал обычно текст очередного своего гимна для того, чтоб мы могли его петь прямо с доски – вот можно подумать в чем польза да не тут-то было! Писать на бумаге пером капеллан мог с помощью своей фальшивой руки хоть как-то, а вот на доске мелом – нет. Поэтому гимны на доске он записывал своей левой, настоящей. А пишет она у него, настоящая, еще хуже фальшивой – ничего не понятно, что он там понаписал – и пользы никакой от этого нет! Одни буквы совсем не давались его настоящей руке, другие выходили симпатичными, но совсем не похожими на всем известные буквы и составить из этих инвалидов слово оказывалось решительно невозможным. Я, когда еще пел, то обычно из-за этого только рот открывал, а не пел, потому что непонятно как можно пропеть эти закорюки.
Или вот хоругви? Хоругви обычно сложены как раз перед доской. Это капеллан выдумал, хоругви, чтоб тем, кто петь больше не может, скучно не было. Хорунжие мальчики, разжалованные из певчих, теперь трясут в такт мелодии этими хоругвями за спинами у хора – и я вместе с ними. Еще можно, но только, конечно, по особому указанию капеллана, хоругвями этими ударять в пол. Получается громко и убедительно, а полотнища хоругвей при этом красиво встряхиваются. Сами они краснобархатные, вытянуто-треугольные, с золотым бахромчатым обоем, а палки у них заканчиваются железным наконечником на котором скрестились зачем-то молоток с рогатой луной, а над ними – звезда. Я всегда думал, что эта звезда – ужасная Бетельгейзе, а объяснить не мог как так.
Изготавливаем хоругви мы сами – капеллан изрезал на них почти весь краснобархатный занавес кинотеатра «Космос», – а вот обшивать их золотым обоем – обязанность Три Погибели, которой она, впрочем, и не тяготилась. Часто вечерами сидит она где-нибудь в кинозале, натягивает нитку, и скрипит что-то, что походило бы на колыбельную песенку, если бы не ее ужасающе кашляющий голос со сломанной ручкой громкости. Она орет себе под нос и одновременно на весь кинозал что-то про мягкие лапки ночи и о том, как они идут; она скрипит что-то про то, как дышит медведь; про мальчика и маму; мама создана для одного, а мальчик – для другого, это так у нее выходит; она надрывается, свистит, щелкает, прерывается на папироску, дымит, снова обшивает, а громогласная колыбельная становится с каждым куплетом все грустней и грустней. А мне все равно нравится сидеть где-нибудь не гораздо близко, чтоб расстоянием приглушить голос Три Погибели, и слушать эту ее странную песню.
Вот так вот все переменилось в моем кинотеатре «Космос»! – вот так все переменилось в нашем с Лежеком кинотеатре «Космос».
Да! – главное: теперь кинотеатр «Космос» называется Храмом Новой Армии Спасения и даже его ступенчатое крыльцо теперь ни что иное, как паперть – вот как!
А ничего этого Лежеку и не рассказать! И зачем я тогда пришел? Зачем я вообще сюда прихожу?
И вдруг я понял, что должно произойти. По ним, по думкам, всегда понятно, что сейчас замычит; как понятно – не понятно, вроде признаков никаких, а все равно понятно. Я подскочил на пятках, но поздно:
– Эммммммммммм!
Я вылетел из комнаты и дверь прихватил – из-за закрытой двери не так слышно, как Лежек мычит, – а в коридоре так и стоят его родители. Мама Лежека все также прячется за спиной у его отца, а у отца Лежека в руках все также моя куртка. Я схватил куртку, а он только усами качнул и все, даже рук пустых не опустил.
– Простите, – сказал я обращаясь не к каждому из них, а как бы к обоим вместе.
– Ничего, – отозвался отец Лежека.
– Ничего, – сказала мама Лежека.
– Ничего, – снова повторил его отец.
– До свидания! – сказал я и переступил порог.
– Ты приходи, – услышал я спиной женский голос.
За ним, мужским голосом качнули усы.
– Приходи, – и снова женский.
Я побежал по лестнице. Нет, не приду! И это я понял только что: что нечего мне больше ходить к Лежеку, нечего больше его родителей тормошить, нечего каждый раз выжимать из себя какие-то глупые истории из старого детства – для чего? У меня и истории-то все закончились, а новых нет, а если и есть, то не про ваши уши.
Я проскакал восемь этажей вниз и даже и не помню как их проскакал. Первый этаж, совсем темный, дверь – ногой. Дверь скрипнула, хлопнула и вот я на улице. Еще светло, но скоро стемнеет – надо двигать обратно в кинотеатр «Космос». А еще надо узелок завязать, пока не позабыл. Я порылся в кармане своей курточки и выудил оттуда квадратный и клетчатый носовой платочек – никогда я не переступаю порог кинотеатра «Космос» без своего платочка, куда бы я ни направлялся.
Пальцы раскраснелись от мороза – двигать ими сложно: голова-то команду пальцам отдает да вот только не слушаются пальцы голову. Я покрутил платочек туда-суда, пощипал его, еще покрутил – с первого раза не вышло. Соорудил петельку, засунул кое-как уголок платочка в нее и затянул зубами – должно держаться.
Узелки на платочке я завязываю, чтоб не забыть. Этот, например, который я только что завязал – чтоб не забыть, что я ходил сегодня к Лежеку и больше мне к нему ходить не надо. И много у меня таких узелков. А вот этот – как я познакомился с капелланом и всеми-всеми. Кажется только, что такое не забыть, вижу-то я их всех каждый день и не по разу за день, а на самом деле – легко, и не такое забудешь. Я вот даже не помню, где раньше жил, а ведь жил же я где-нибудь наверно?!
Так вот, как я всех их встретил – это та еще история. И об этом, этот вот узелок.
Как-то я приплелся в кинотеатр «Космос», приплелся без всякой цели, давно не был – вот и приплелся. Зашел в вестибюль, поприветствовал космонавта.
– Здорово! – сказал я.
Глупо, в сущности, с гипсовым космонавтом здороваться, но такую уж привычку я себе сделал. Телеграфировать ему рукой я не решаюсь, а вот в голове у себя с ним поздороваться – никто же не заметит.
Поздоровался я с космонавтом, стою-смотрю и раздумываю, не задувает ли ему там, в открытом космосе, сквозь распахнутое забрало. Да так крепко нелепица эта мне в голову засела, что я и не заметил, как перед стеклянными витринами кинотеатра «Космос» образовалась целая толпа.
Я – на толпу, а она – на меня через витрину. И все глазенками хлопают, а некоторые – еще и носами на витринное стекло и стоят поросёнки поросёнками.
Вдруг стеклянная дверь кинотеатра «Космос» распахнулась, а толпа как-то сжалась, как-то стиснулась, и, вперемежку шаркая подошвами по гладкому полу, влилась в вестибюль.
Опять стоят, смотрят, а я – на них.
И что это за толпа за такая?! – кого-кого тут только нет! Они не однолетки, совсем даже наоборот: некоторые из толпы совсем еще дети, много начинающих только мальчиков и несколько мальчиков уже вполне состоявшихся. Один даже торчит из всех по грудь – натуральный акселерат. И у каждого на шее красный платок.
А у каждого ли? Среди мальчиков есть один совсем уже не мальчик, хоть и росточком он из них никак не выделяется – вот у него-то и нет на шее платка. Такой человечек – сразу и не разглядишь среди других прочих, зато как разглядишь, тут же выделишь и уже никогда его с остальными не смешаешь. Он выглядит как маленький взрослый; не годами маленький, а ростом и всем своим сложением – вот так: на лилипута похож. Личико у него все какое-то разнородное и чубарое. Три тонкие, четкие морщины лежат поперек его высокого, округло-трапециевидного лба, от носа и вниз за уголки рта – еще по одной морщине с каждой стороны таких же глубоких, как и на лбу. А еще почему-то кажется, что на таком лице обязательно должна быть бородавка: ее нет, но ее очень не достает: в складке между ноздрей и щекой или на лбу с краешку почти на виске – где не важно, лишь бы была. Такая самая обычная, гладенькая, кругленькая – бородавка. А глаза! Как две лодочки глаза у него и веко дугой высокой над глазом стоит – глаза-колокола.
Голова у него такая, как и не с его плечей голова: раза в два больше, чем полагалось бы: вот, честное слово, в два раза, если не больше, чем в два! И держится его огроменная голова на шее до того тонюсенькой, что никак нельзя представить, как такая шея умудряется выдерживать столько веса.
А на носу, а на самом кончике его тонюсенького носа – разве это муха сидит там? И почему она не улетает? И почему он ее не сгонит?
Лилипут шаркнул подошвой своего сапога и выделился из толпы. Стоит, закаменел, только глазами своими, колоколами бьет туда-сюда и не на меня, а все где-то все рядом со мной ими шарит. А муха черная у него на носу, на самом кончике, круги нарезает: и не улетит, и не успокоится.
Вдруг глаза его отзвонились, остановились и уперлись в меня.
– Значит уже при деле! – выпалил лилипутик хотя никаким делом, конечно, я не занимался.
– Молодец! – похвалил он меня.
Развернулся и уже к мальчикам:
– Видите? Брать пример!
Мальчики зароптали.
– Отставить смеяться!
Мальчики затихли.
– Труд вот что с обезьяной из человека сделал! – и лилипутик ткнул в меня пальцем.
Я себя в таком разврезе никогда еще не рассматривал, призадумался; и мальчики призадумались.
– Всем примкнуть! – приказал лилипутик. – Ввечеру состоится гимнопение!
Мальчики начали тухнуть, плечи у всех поползли вниз.
– Будем петь гимн номер два-шесть-четыре! Подготовиться: разработать челюсти, продуть легкие и прочитать гимн два-шесть-четыре три раза для памяти!
Мальчики от таких приказов совсем стухли, плечи ниже коленок.
– Выполнять! – рявкнул лилипутик, развернулся на каблуках своих сапог и ушагал куда-то, заложив за спину одну руку.
Мальчики сразу приободрились.
– Это капеллан, – представил мне только что ушедшего лилипутика маленький рыженький шкетёнок.
Он вышел из толпы, встал передо мной, протянул руку и уморно-серьезно сказал:
– Фенёк.
– Что? – не понял я.
– Фенек, – повторил мальчик. – Ну, потому что я рыжий. Видишь? – сказал он, ткнул пальчиком себе в кудри и снова протянул руку мне.
– Ага, – сказал я и пожал его крапчатую лапку.
Вторым ко мне подошел тот акселерат. Вот уж кто каши-то много кушал да еще, наверное, добавки просил.
– Женя, – сказал он и протянул мне руку.
Я испугался, думал, что он сейчас своей лапищей всю руку мне изломает, но он пожал ее удивительно мягко и очень даже дружелюбно.
После акселерата, мальчики потекли ко мне ручейком, один за другим, и я каждому пожимал руку, и каждому – очень приятно, и мне тоже. И вот, наконец, последний: в моей руке оказалась потненькая, пухленькая ладоша – и вы тоже знакомьтесь:
– Витя.
Его рука в моей руке как бы встрепенулась и тут же безжизненно размякла – такое вот рукопожатие.
Тут самое время рассказать про Витю.
О, Витя! Витя являет собой пример природы очень редкой! Слушайте: у каждого найдется какая-нибудь особенная черта или даже просто черточка: у одних таких черт больше, у других – меньше. Но нет ни одного, чтоб вовсе без них. Например, я знал мальчика, который всегда нашептывал себе под нос какую-то дичь, когда что-нибудь искал: носок, ключи от квартиры или оборвок, на котором он записал что-то важное, чтоб не забыть. Выглядело это жутко смешно: ходит по комнате туда-сюда, туда-сюда носом тыкается, и все под нос же и шепчет: «ниф-ниф-ниф, няф-няф-няф», и как начнет это свое «ниф-няф», так и не кончит, пока не найдет что ищет. А в остальном это самый обычный мальчик. Есть еще целая куча примеров: один коленкой все зачем-то дрыгает, и стоит – дрыгает, и сядет – дрыгает, а скажешь, чтоб не дрыгал, перестанет на время, зато потом еще шибче дрыгать начнет; другой весь букварь так перевирает, что ни одной буквы у него не понять: и шипит, и свистит, и мэ у него как бэ, и рэ раскатистая – вертолет на посадку. Все это жуть как бесит, а и понятно: у каждого своя особенность развития. У Вити же не так, Витя сам и есть эта особенность, а черт и черточек у него столько, что кажется, будто он только из них и состоит целиком и полностью.
Глазки у него, у Вити, прикрыты всегда так, будто бы он чихнуть хочет да все никак не может собраться с чихом. От этого он, наверное, и ноздри вечно задирает. А может это он от роста так: многие неудавшиеся ростом люди живут задрав ноздри небесам на показ. А как он ноздрями к небу, так и видно, что одна ноздря у него намного больше другой – я уж и свои ноздри рассматривал в ложечку, которая у меня заместо зеркальца, и в ноздри всех наших мальчишек пересмотрел: ни у кого таких ноздрей нет, у Вити только так! И это бы еще ладно! Витя всё ноздри раздувает, чихнуть собираясь, а та, что поменьше становится тогда как вторая – большой, а которая большая, та так уж совсем до невозможности разрастается. И из этой-то большой до невозможности вдруг как – раз! и пузырь выскочит – дичь такая! И вот стоит он, Витя, ноздрями туда-сюда, а вместе с ними и пузырь то больше, то меньше. А Витя с таким видом, будто мыльные пузыри он, Витя, выдувает тут всем на радость – гордится он, что ли, позорным этим своим умением?!
Если вдруг Вите прийдет в голову высморкаться, то сделает он это непременно ужасающе шумно, раскатисто и противно, а после платок свой целый час разглядывать будет – что там, в платке, кроме его Витиных соплей может быть?!
А как Витя смотрит! На кого бы он ни смотрел, выражение его полуприкрытых глаз всегда одинаковое: смотрит так подленько, будто знает что-то про тебя, что-то такое, за что стыдно тебе быть должно. И от этого его взгляда всегда смущаешься, будто и самом деле тебе есть что скрывать, что-то настолько гадкое, что и друзьям о таком не расскажешь.
Передвигается Витя всегда с какой-то характерной ужимкой, как бы подволакивая одну ногу. А если стоит, то всегда стоит косо, будто одна нога у него другой короче, так что между ногами у него образовывается безобразный треугольник.
Все движения его с ленцой, каждое – с неохотцей, совсем без желания и как бы даже против его собственной воли. Смотришь на Витю и сам засыпаешь.
Ходит Витя в своих прорезиненных кедиках всегда совершенно бесшумно, как кошка и все норовит оказаться у тебя за плечом, на самом краешке твоего зрения.
Вот ладоши у него всегда влажные, потненькие. Щечки жиром будто намазаны. Неопрятный – вечно из-под пятницы неделя. Штаны и куртка сплошь в дырьях. А если образовывается у Вити откуда-нибудь что-нибудь новое, то сразу же дырявится как будто само собой. Вот как можно жить таким к себе неряшливым?!
Или вот простой предмет – рубашка, а рубашкой Витя решительно не умеет пользоваться. Кажется что ни разу у него еще не получилось пропустить все пуговицы в предназначенные именно для них петли и от этого у Вити то воротник косой, одна сторона другой длинней и выше, то на пузе пузырь вздувается. Как он так – и не мешается это ему?! Я часто хлоп! его легонечко по пузырю по этому, «Ну, Витя!» – говорю, а он каждый раз как отскочит, руки в карманы запихнет и пыхтит своим ноздрями на меня, а рубашечку все равно не перезастегивает.
Словом, не мальчик, а самый натуральный Еху.
Еще привычка у него одна есть: в самый неожиданный момент он вдруг заявляет, обращаясь как бы ко всем сразу: «Ну, я пошел!» И если никто не спрашивает его, куда он пошел, то Витя, выдержав несколько времени, также громко и также к каждому и ни к кому именно повторяет: «Ну, я пошел!» И тогда уж приходится его спрашивать, куда же он пошел, потому что если не спросить, то, кажется, и до вечности это свое «ну, я пошел» повторять он будет. Словом, или я, или который-нибудь из мальчиков, но обыкновенно все-таки я, спрашиваю Витю:
– Куда ты, Витя, намылился?
Или:
– Куда ты, Витя, собрался?
Или просто:
– Куда?
А Витя закатывает свои глаза и важно так:
– В одно местечко! – разворачивается, хлопает себя по боками и неспешно ушагивает в то самое «одно местечко».
Ну вот кто так делает? – никто так не делает кроме Вити! У него, у Вити, что, запор чтоли случится, если он не сообщит всем и каждому куда именно он пошел?!
А еще Витя любит портить воздух вокруг себя и делает это часто, и громко, и поэтому его всегда хочется ударить.
И от этого всего, и от многого другого и в том же роде, Витю как-то по-особенному жалко, а вместе с тем и как-то по-особенному стыдно за него. И за Витю стыдно, и за себя тоже стыдно, что за Витю стыдно. Совершенно невозможный мальчик!
Но пока о Вите – тоже ладно, еще успею и другие прочие подробности о нем порассказать, не забуду если.
Ближе к вечеру того же дня, когда я встретил всех, обо мне вспомнил тот лилипутик, капеллан.
Капеллан появился на пороге кинозала да там и закаменел сапогами в землю упершись. А в руках, а под боком – что это у него? Разве таз, обычный алюминиевый таз?
Он постоял так целую минуту, весь закаменевший и только глазами своими, колоколами своими набат бьет: из стороны в сторону глаза у него, колокола, ходят, с мальчика на мальчика, с предмета на предмет, сползают на сцену по обкромскам краснобархотного занавеса да по сцене бьют из кулисы в кулису; и ни на что эти глаза, колокола эти не могут посмотреть вдруг и сразу, все им надо, глазам его, колоколам его пораскачаться сначала, пораззвониться. И вдруг стихло – его взгляд остановился и остановился он опять на мне, остановился и засверлил, натурально как сверлом засверлил.
Капеллан ступил внутрь через порог, поставил аллюминевый тазик на косенькую табуреточку, подошел и встал ко мне вплотную, задрал одну только бровь да как тыкнет мне пальцем прямо под мое недопроглоченное яблоко, под шею, туда, где две косточки срастаются и получается ямочка:
– Где галстук? – спросил он, а бровью еще сильней.
– Какой галстук? – не понял я.
– Он еще не вступал, – услышал я спиной тоненький голос того рыженького шкетёнка, Фенька.
– Отставить не вступал! – рявкнул капеллан и на лицо мне посыпались его слюни.
Я подумал, что это, наверное, некультурно будет стереть рукавом его слюни прямо сейчас, прямо перед ним, поэтому и стою обплеванный, ничего не понимаю и на всякий случай молчу.
– Ну что, оглашенный? – поинтересовался капеллан. – Вступать будем?
Я ничего не понял, ни про оглашенного, ни про вступать.
– Какой? – спросил я. – Куда вступать?
Первый вопрос капеллан проигнорировал.
– В ряды! – снова рявкнул капеллан и снова целая россыпь его слюней мне на лицо.
– Можно, – согласился я просто для того, чтоб не уточнять насчет «рядов» и не получить новую порцию его слюней.
А капеллан на это мое «можно» как надует грудь, я подумал что он меня теперь уж точно всего обплюет, а он развернулся на каблуках и заорал на мальчиков:
– Строй-ся!
Мальчики тут же зашевелились, забегали. Кажется всё сумятица какая-то и куча-мала, но не прошло и минуты, а мальчики выстроились в ровный треугольник носом на капеллана – значит выучено это у них так: всего лишь пару раз кто-то налетел на кого-то и разок кто-то с кем-то звонко стукнулся лбами.
Капеллан сходил к табуреточке и вернулся с алюминиевым тазиком в руках. А там, а в тазике – картофельные клубни, целый тазик этих картофельных клубней, еще с паром, черные, обгорелые как из костра клубни – пахнут! Я подумал вдруг это мне, или всем нам, но это не мне и не всем нам. Капеллан отставил тазик на пол, стал между мной и мальчиками. Все сделалось вдруг каким-то торжественным, даже света будто стало меньше, будто кто керосиновые лампы прикрутил.
– Я торжественно клянусь! – выстрелил капеллан прямо мне в лицо и стоит, на меня уставился, бровь задирает.
Я ему в ответ тоже бровью телеграфирую – что тут скажешь?
– Я торжественно клянусь! – повторил капеллан чуть-чуть растягивая слова и тут я вдруг понял, что он хочет, чтоб я повторял за ним, но только я начал, как он перебил меня.
– Я… – начал я.
– Яторжественноклянусь! – перебил меня капеллан скороговоркой.
– …торжественно клянусь, – докончил я.
Капеллану такая заминка не понравилась, бровь его сдвинулась еще на этаж выше. Пришлось повторить. Медленно, будто он обращается к самому распоследнему на всем белом свете тупице, отделяя каждое, капеллан произнес три слова, а я, выдержав чуточку, повторил эти слова за ним. Вроде у нас получилось – капеллан легонечко кивнул нижней челюстью куда-то в сторону:
– Перед лицом своих товарищей! – все также медленно проговорил капеллан.
– Перед лицом своих товарищей, – как и он, выделяя слога и ставя как бы на каждом ударение, повторил я.
Капеллан опять кивнул нижней челюстью – дело пошло лаже.
– Раз: не курить! – в одно слово выпалил капеллан, я аж вздрогнул.
– Я не курю, – сообщил я капеллану.
– Все равно клянись! – рявкнул капеллан.
Я не стал возражать:
– Честное слово, – сказал я.
Капеллан кивнул челюстью.
– Два: клянусь не срамословить!
– Чего? – не понял я.
Капеллан собирался было снова кивнуть нижней челюстью, но не успел, челюсть у него отошла вниз да там и осталась.
– Два: не срамословить! – повторил капеллан вдруг как-то устало. – Клянись!
– Честное слово, – согласился я.
– И три: не колобродить!
Тут уж я и переспрашивать не стал:
– Чес-слово! – только и сказал я.
– Ура! – завопил капеллан.
– У-ра! У-ра! У-ра! – завопили мальчики за ним.
А когда отгремело всеобщее ура и все затихло, капеллан так засверлил меня взглядом, что и мне пришлось буркнуть себе под нос:
– Ура.
Капеллан засунул руку себе в карман, пошарил там, достал красную тряпку, тоже обрезок занавеса, тряхнул ею перед моим носом, как фокусник, покрыл этим обрезочком себе предплечье, да так и закаменел.
– Который-нибудь, – обратился капеллан к мальчикам спиной, – повязать!
От вершины треугольника отделился рыжий Фенек, подошел, снял красную тряпку с руки капеллана и расправил ее – платок, такой же, как и у каждого мальчика здесь. Мне пришлось наклониться, чтоб Фенек смог достать. Он ловко накинул платок мне на плечи и связал длинные его концы узлом. Пока Фенек старательно обвязывал платок вокруг моей шеи, я все пытался вытаращить свои глаза так, чтоб посмотреть, что за хитрый такой узел он сооружает под моим подбородком, но как я ни старался, ничего у меня не вышло разглядеть.
Наконец узел завязан, я выпрямился. Капеллан хлопнул меня по плечу:
– Как надел, береги! – напутствовал он меня.
– От чего? – не понял я.
– Не от чего, а береги! – сказал капеллан и хлопнул меня по плечу еще раз. Ну уж я не стал переспрашивать, а то он меня всего сейчас как ковер всего выхлопает.
Капеллан нагнулся к тазику с клубнями, выхватил один, обдул его старательно со всех сторон, занес да вдруг как припечатает мне этим клубнем! Я и сообразить ничего не успел, а он знай себе втирает клубень мне в лоб, в одну точку.
– А теперь ешь! – сказал капеллан, отнял клубень от моего лба и торжественно протянул его мне.
– Я… – начал я осматривая клубень.
– Отставить я! – не согласился со мной капеллан. – Нет такой буквы в алфавите! – заявил он.
– Я – последняя буква в алфавите, – неуверенно сказал я.
– Что?
– Так говорят, – объяснил я, – я – последняя буква в алфавите.
– Тем более! – внезапно согласился капеллан. – Ешь! – приказал он и поднес клубень поближе к моему рту.
Я наклонился и откусил кусочек.
Капеллан кивнул нижней челюстью:
– Вольно! – скомандовал он мальчикам и отдал мне надкушенный клубень.
Мальчики тут же распустились, но не кто-куда, а все в одну сторону – к тазику с клубнями.
– Еще вот что, – сказал мне капеллан, запустил руку под свою серую курточку с одним единственным трехлычковым погончиком и извлек откуда-то оттуда из ее внутрей зубную щетку, самую обычную зубную щетку: Зубы чистить тоже надо не забывать, – сказал он и протянул щетку мне.
– Спасибо, – я поблагодарил капеллана и взял щетку.
– Спасибо, – раздумчиво повторил капеллан, посмотрел на меня как-то грустно, развернулся на каблуках и пошагал на выход, заложив одну руку за спину.
Неделю, наверное, я проходил с золой и пеплом от картофельного клубня на лбу поверх ожога; еще одну потом – просто с ожогом, когда зола и пепел отвалились.
Вот так я вступил в ряды, вот такую клятву я дал капеллану перед лицом своих товарищей. Не курить, не срамословить и не колобродить, а что такое не срамословить и не колобродить что такое – не понятно у кого ни спроси. Вот и: честное слово, честное слово, чес-слово! И хор: Ура! Ура! Ура! А за ними и я.
Но это не все правила – три заповеди. Капеллан завел для нас целый перечень наставлений, напутствий, назиданий и поучений. Это не то чтобы список какой. В список, даже самый длинный это все не поместилось бы. Это выглядит так: когда ты делаешь что-то, чего по мнению капеллана делать не следует, он задирает одну бровь, тыкает пальцем тебе под шею в узел краснобархатного платка и на каждый тычёк выдает, например, такое: раз: не лги; два: послушествуй старшим; и три: носи добродетель в сердце. Ну кто так говорит?! Никто так не говорит! И что за слово за такое «послушествуй» – где он его взял или сам же его и выдумал?
Или вот это его «раз-два-три». Все-то у него, у капеллана, раз-два-три! Раз-два-три, взяли! Раз-два-три, положили! Раз-два-три, запевай! Это треугольное раз-два-три у него повсюду: треугольные платки на наших шеях и треугольные хоругви в наших руках, строимся мы в треугольник когда поем и когда слушаем его треугольные наставления, неизменно состоящие из трех пунктов. Как-то капеллан даже пытался из нас самих треугольную пирамиду соорудить, и соорудил даже, но ничего у него не вышло: когда Фенек кубарем рухнул с вершины пирамиды, а остальные просто рассыпались в разные стороны, Три Погибели строго-настрого запретила капеллану дальнейшую гимнастическую деятельность.
– Посмотрим, как вы будете на плечах друг у дружки прыгать, когда я умру преждевременной смертью! – пригрозила Три Погибели и три раза стукнула по своему инструменту деревянным с железными оконечниками портновским метром.
Но и о капеллане пока ладно, и о его диких повадках – ладно. И историй моих на сегодня хватит – узелков на платочке у меня много: когда-нибудь я их все развяжу один за другим и одну за другой расскажу все мои истории. А теперь мне надо дотопать до кинотеатра «Космос» пока не стемнело.
Если возвращаться, дорога всегда кажется короче, хотя все те же сугробы всё так же норовят сожрать то одну, то другую ботиночку. Как это так устроено? Почему туда всегда так долго, а обратно и трех страничек не занимает? Ноги несут, будто в сапоги-скороходы обуты – летишь и даже по сторонам не смотришь! Странный закон да только это всегда так.
А вот и мой кинотеатр. Мой кинотеатр «Космос» – Храм Новой Армии Спасения капеллана, Храм Армии, которая никого и не думала спасать. Впрочем, и армией-то мы тоже никакой не были.
Семь ступенек и я в вестибюле:
– Здорово, космонавт, Юрий Алексеич!
II. Желтое поле
– Эй! – позвал меня Женька, а я на него ровным счетом ноль внимания. Знай себе стою, палкой трясу.
Утро, глаза еще полны липкого сна, а мы уже поем. Гимн номер два-один-один.
О, знамя, что реяло над головами в день нашей победы…
Что за дичь! Ни с кем мы не дрались, чтоб побеждать, а из флагов у нас одни только хоругви и ничего они не реют, так, висят только хиленько на палках.
– Эй! – громогласным шепотом снова позвал меня Женя, а я снова – ничего, стою на своем месте, рот даже иногда за певчими открываю.
Свое место в треугольнике я научился находить не сразу. Капеллан командует: «Стройся!» – это значит мальчикам, и певчим, и хорунжим, надо соорудить из себя треугольник и у каждого свое место, а я от этого его «стройся!» – врассыпную. Со временем привык, ориентируюсь по Жене. Он над всеми стоит, будто остальные мальчики – лягушатник, а он – переросток-акселерат зачем-то в этот лягушатник залез. К Жене меня приставил капеллан.
А вот Фенёк – далеко от нас: Фенёк – певчий и он стоит всегда один, на самом кончике треугольника. Капеллан его туда определил, потому что Фенек лучше всех поет. Как он поет! Так поет, что трамвайные столбы с места снимутся и пойдут за ним, чтоб только дослушать его песню; так поет, что даже страшный скрип Три Погибели ему нипочем; так поет, что темнота кинозала перед его голосом расступается как бы, а если у кого какое-нибудь дело есть, тот всегда бросит чем занимался и закаменеет, слушая его голос.
Кажется, что голос Фенька – тоненькая золотая ниточка, которую кует маленьким молоточком где-то в его внутрях совершенно невозможное сказочное существо и ниточка эта тянется, тянется, через рот Фенька проходит и вышивает в воздухе ладно и узорчато.
Значит, с одной стороны у меня Женя, а с другой – Витя, а вместе все – по середине заднего ряда. И втроем мы такая картина, что нам в черно-белом фильме только самое и место, в таком фильме, где все дрыгают ручками-ножками, ходят малюсенькими шажочками, кидаются друг в дружку тортами и где вместо звука – пианино.
Вот мы стоим: Витя – известный пузырь; я – остов ходячий, худой и все хуже с каждым днем делаюсь; и Женя.
Женя – только за то время, что я его помню, он успел вымахать еще метра на два. Места этот акселерат занимает как Джан-ман-ланг… Джо-мон-лун… словом, как целая гора Эльбрус. Я бы постеснялся так, а он – вот; ничего ему, Жене, собою солнце всем загораживать не совестно! Как в кинозале он, так пол кинозала – Женя; как на улице – ни пройти ни проехать от него становится. То вдруг так расконцертничается, что совсем невозможно рядом с ним делается. Как есть акселерат. Вскормленный геркулесом, сам – целый Геркулес. Геркулес Бельведерский. Будто весь из бетона отлит и нет у него даже пятки, в которую его ранить можно.
Убить: льва – раз плюнуть! змеюку – в узел ее, змеюку! оленя – еще раз плюнуть! и кого еще? – кабана – кабана не моргнув даже! Вычистить: конюшню – можно! Снова убить: птицу – возможно! Зепленить: корову – и только? Нет, еще и лошадей – так даже веселей! Умыкнуть: пояс – легко! Еще раз корову – уже проходили! Опять стырить, но теперь яблоки – полные, аж по швам трещат, карманы кислых яблок! И, наконец, настучать по кукушке злой псине. Вот так дела, Геркулес! И все это – Женя.
– Эй! – на весь кинозал прошептал Женя, хотя я тут, рядом с ним стою.
А капеллан на нас бровью изгибается, но молчит.
Я это чтоб его, Женю, позлить делаю вид, что оглох и его, Женю, не слышу – слишком уж смешно он кипятится: чего-то сказать хочет, аж распирает его всего, вот и кричит на весь кинозал почем зря.
– Прикинь что! – шепчет мне Женя в самое ухо.
И тут уж я сжалился:
– Что? – отшептываюсь я.
– Я нашел!.. – говорит Женя.
– Что? – спрашиваю.
– Нашел!
– Ясно что нашел, – шепчу обратно. – Что нашел-то, Женя?
Тут Женькина очередь делать вид, будто он меня не слышит. Я его палкой как стукну по сапогу его по пластмассовому, по самому носочку, чтоб он так не делал.
– Эй! – заорал Женя наперерыв всему хору и тут же попробовал своей палкой меня по ботиночке в ответ стукнуть, но ничего у него не вышло: будто бы я не знал, что он так сделает! – успел ногу отдернуть: один-ноль в мою пользу, акселерат.
Капеллан на нас опять бровью; собрался было что-то сказать, даже рот приоткрыл да передумал видимо, а про рот позабыл – так он у него открытым и болтается.
Женьке удалось меня заинтриговать да еще и «один-ноль», так что я снова спрашиваю:
– Так что нашел?
– Там, за школой! – сообщил Женя и опять за хоругвь принялся, никогда так усердно палкой не тряс.
Ну и я стою, трясу своей хоругвью – мне-то что! Только все-таки что, интересно чего он там, за школой, нашел.
– Чего нашел-то?
– Прикинь! – говорит Женя и подмигивает радостно.
– Женя!
– Что? – само простодушие.
– Сам знаешь что! – теперь и я закипаю: и интересно, и еще разок хочется этому акселерату палкой, только теперь по лбу. Я даже успел обдумать: а дотянусь ли? а как лучше? а если по коленке? Но решил: что, скорей всего, нет, не дотянусь; что лучше с размаху и под прямым углом, но обязательно неожиданно; что по коленке тоже будет хорошо, по коленке может быть и получится.
– Велик! – сообщил, наконец, Женя.
Вот это новости!
– Зы?ко! – говорю. – Один?
– Нет, много! – отвечает.
– Женя! – говорю, а сам своей палкой в коленку ему метю. – Сколько много?
– Три! – говорит.
Я в голове сосчитал нас с Женей, пересчитал еще раз – вышло двое. Один велик остается свободным.
– Кого возьмем? – спрашиваю.
– Ясно, Фенька, – отвечает. – Как петь кончим, я первым пойду. А ты – Фенька и тоже тика?йте. Встретимся у школы – хорошо?
– Хорошо! – соглашаюсь я.
Трудно предугадать, как долго мы будем петь. Иногда капеллан отпоет пару гимнов и – свободны; а бывает нападет на него, хочется ему попеть и тогда – держитесь все! Гимн номер три-два-пять. Гимн номер четыре-восемь-один. Гимн номер… а сколько их всего, гимнов этих? Кто-нибудь когда-нибудь пел гимн номер один, гимн номер два, гимн номер три? Или порядковые номера гимнов вовсе не по порядку идут, а начинаются не с единицы?
Сегодня нам везет, у капеллана не особо певчее настроение: отпели всего три гимна.
«Ур-а-а-а!!!» – грянул хор финальным аккордом. «Ур-а-а!!!» – радостно завопил Женя со всеми, хоть петь ему не полагалось и даже последнее «ура!» не полагалось. Капеллан снова взглянул на нас, и снова нахмурил бровь, и снова – молчок. И в тишине, особенно звонкой от свершившегося только что торжества, раздалось наконец и мое одинокое и жалкое «ур-а-а». Тут уж капеллан не выдержал и буркнул что-то себе под нос.
Женька улизнул сразу, только его и видели. Вот палка с тряпкой Женина стоит еще, не знает, в какую сторону ей удобней будет свалиться, а самого его, Жени, уже и след простыл. Я сегодня дежурный, об этом сообщает краснобархатная повязка на рукаве моей рубашки, а поэтому мне сегодня надо все хоругви смотать и аккуратно сложить перед черной школьной доской.
Мотаю я, мотаю хоругви, а во внутрях у меня неспокойно. Это не от утрешних картофельных клубней, которыми накормил нас капеллан, это оттого, что запахло приключениями. Велики – весело, но велики и опасно. Как далеко мы на них поедем, то что тогда? А что там, где далеко? – тоже неизвестно. А без приключений же не обойдется: у Жени приключения как грибы вырастают под ногами куда бы он ни двинул. Конечно, можно было бы сделать вид, что велики меня не заинтересовали и остаться в кинотеатре, но, кажется, это не помогло бы. Если Женьке что-то взбрело в голову, то молись, чтоб он решил провернуть все это не с тобой за компанию, а с кем-нибудь другим, потому что если он наметит тебя своей жертвой, решит что именно ты должен участвовать в его игрищах, то он тебя на плечах дотуда, до игрищ, сам донесет хоть благим матом ори – не поможет; или завернет в спортивный мат, чтоб не рыпался, да так в мате и докатит: ввяжет тебя в приключения с собой на пару, хочешь не хочешь – не спросит.
Хоругви в три ряда лежат, смотаны аккуратно – хорошо! Я отправился на поиски Фенька.
Нашел его у выхода из кинозала. Стоит руки в карманы, лопатками о косяк чешется: то вниз-вверх, то из стороны в сторону, теперь – по кругу.
– Чешется! – пожаловался Фенек.
– Спина? – спрашиваю.
Фенек жалостливо кивает, мол, да, спина.
– Вверху? – спрашиваю.
Снова кивает.
– Это крылья растут, – говорю.
– Крылья? – испугался Фенек. – Как крылья? Зачем крылья?
– Покажь! – говорю.
А в голове, в черепухе уже все срослось: у меня в кармане – перо; не перо даже, а так – перышко; я это перышко как-то нашел и в карман положил зачем не знаю, а теперь вот пригодилось.
Фенек поворачивается, рубашку задирает, а лопатки у него и так все в рыжих пятнышках, а теперь еще и красные-распрекрасные – начесал.
Я вытащил перышко из кармана, пока Фенек не видит, да как ущипну его в лопатку.
– Ух! – запищал Фенек. – Ты чего?
– Смотри! – говорю, а перышко – ему под нос.
– Ух! – ухнул Фенек. – Что это?
– Говорю же, крылья растут. Первое, вот, перышко. А как вырастут у тебя крылья и станешь ты ангелом.
– Я стану ангелом? – удивился Фенек.
– Ага, – уверенно подтвердил я.
Фенек забрал у меня перышко, разрешения не спросил даже: его же это собственность, собственная. Что спрашивать? – у него из лопатки вылезло, не у меня. Стоит, рассматривает и:
– Зачем ты его выдрал! Вдруг теперь не вырастут?
– Вырастут, не бойся, – говорю.
– А как нет?
– Вырастут, – подтверждаю. – Даже хорошо первые перья пропалывать, чтоб остальные гуще росли.
– Честно? – уморно-серьезно спрашивает Фенек.
– Чес-слово! – пообещал я.
Ну что я за врун! Будто набит я весь скользкими лягушками под самое горлышко, а как только рот раскрою, так они изо рта да разом на все стороны.
– Хорошо, – говорит Фенек, но «хорошо» это у него как бы с угрозой, смотри, мол, у меня!
– Хорошо, – подтверждаю я, а мое «хорошо» хорошо и есть, без второго дна, потому что мне уже стыдно за свои враки да и что я делать буду, когда до Фенька дойдет?!
Когда дойдет, тогда и посмотрим.
– В школу пойдем, – говорю.
– Пойдем! – радостно соглашается Фенек, а о крыльях уже и забыл будто. – А зачем?
– Женя велики там нашел, – говорю.
– Ух! – ухает Фенек.
– По два колеса на каждого, – говорю.
– Ух! – снова ухает Фенек. – У меня будет свой велик?
Киваю: да, будет; а Фенек еще раз:
– Ух!
Жара такая, что утрешние картофельные клубни бродят в животе. Солнце еще до середины неба докатиться не успело, а уже и жить от жары не хочется – что будет дальше?
Зеленых листиков теперь почти и не было: только вылупились, только развернулись, а серая пыль тут как тут, на них – прыг! – и улеглась: и листики серыми сделались. С травкой та же история. Конский щавель вообще не вырос, так и стоит коричневый с коричневыми же метелками прошлогодний. Прочий подножий корм: клевер, заячья капуста, корешки лопухов, душистая пижма – только воспоминания. И птицы не прилетели: сначала совсем ранние трясогузки, а за ними и ласточки не прилетели; потом – почти неотличимые от ласточек стрижи и удивительно желтые иволги. Иволги часто опаздывают и я все ждал – вдруг? Иволги редкие птицы, может просто еще не попадались? Но нет, нет и иволог. А те птицы, что и не улетают никуда, тоже куда-то пропали, так, чайки только остались да и то мало.
Улицы пусты и как будто погорели, и теперь все в них – пепел. Только это не пепел и ничего не горело, это – серая пыль.
– Как думаешь, куда поедем? – спрашивает Фенек, пока мы идем к школе.
– Не знаю, – говорю. – Куда-нибудь недалеко.
– Как недалеко! – удивляется Фенек, а глазки хитрые и блестят. – А велики тогда зачем?
– Чтоб быстрей, – говорю.
– Не надо быстрей! – смеется Фенек. – Раз велики, то надо далеко-далеко!
– Далеко-далёко… – повторяю я вслед за Феньком, а он опять смеется.
Школа, у которой мы забились с Женькой встретиться, та самая школа откуда у нас и конь, и доска, и много-много чего другого. Школа как школа: три ступеньки, две двери, одной нет. Которой нет, та капеллану зачем-то понадобилась и он снял ее с петель и дотащил на наших плечах до кинотеатра, а зачем она ему понадобилась, а куда она потом делась – никто и не знает. У капеллана спросишь – молчок и только бровь одну он гнет-выгибает.
А дальше все как везде: вверху на углу – биология (какая-то дичь по стенам: всполошенная белка и круглый как глобус глухарь; рыбка-телескоп в аквариуме белым пузом к небесам), под биологией – девчачьи труды (чу?хают машинки); с другой стороны – наши, мальчишеские (чу?хают станки), а над трудами что? – разве география? Карты и круглый как глухарь глобус. Меридианы налетают на параллели; вот тут проплывал Крузенштерн, а Беринг – вот тут, а вот здесь съели Кука. По центру туда – спортивный зал (скрипят тапки о паркет, мяч бу?хает тяжело, тяжело вместе с мячом бу?хает и сердце, ритмично покачиваются турники и прогибаются брусья, изредка – свисток), а сюда и под лестницу – столовая. Ну как столовая: столики без стульчиков: котлета-булка-компот – вот! Тетя Наташа, где кофе наше? Не ваше, а наш! Ну, тёть-Наташ! Здесь – математика, химия и физика, – скука смертная и нудь страшная: за окном – ворон считать не пересчитать; на подоконнике – горькое алоэ в пластмассовом горшке; на стенах – иконостасы, а в них – высоколобые портреты: в парике, без парика, с бородой, без бороды, лысый, усатый, по пояс и ручкой так, другой – по плечи, а вот и голова только; там – а что там? – тоже кабинеты какие-то. Иксы и игреки во множестве валяются прямо на полу – они выскочили из голов сразу после урока; чуть в стороне лежит одинокий вектор – его потеряли старшеклассники; в углу – гора общественно бесполезной работы – непочатый край. А в истории страшно интересно и просто страшно: скачут по красным стрелочкам Добрыня Никитич и Микула Селянинович на конях своих, а им навстречу танки со страшными крестами по желтым стрелочкам катят: Калка, Цусима и Сталинград. Под окованными в панцири страшно трещит лед, мертвенная тишина берегов Угры-реки, горят высокие башни с островерхими шатрами, огонь рвется из-за высоких зубчатых стен – жди не дождешься ключа, колпак треугольный. А над всем – птица рахманная на сыром дубу вот уже тысячу лет сидит: от посвиста ее соловьиного, от покрика ее звериного муравушка гибнет, лазоревы цветочки осыпаются, тёмны лесушки гнут-преклоняются, а что ни есть людей – все в земле.
Семь пятниц и каждая как матрешки одна на другую похожие, а вот и самая маленькая – короткий день и – каникулы. Каникулы – в этих стенах их нет, все каникулы – снаружи. Каникулы пролетают, моргнуть не успеваешь и – опять двадцать пять: плоские растения в гербариях, предметное стекло, капелька йода на срезе лука. Я же велела принести репчатый, как мы будем учиться по зеленому?! А в библиотеке – кирпичи на полках, только такой раскроешь, а они – прыг со страниц и расхаживают по школьным коридорам, как у себя по дому, знай только увертывайся, чтоб лбами с ними не сшибиться. Один человек-чудак со шкафом разговаривает, другой – с дубом. Кому жить хорошо и что с этим делать? Перрон и паровоз. Обух топора. Тифозный мертвец и порезанный палец. Ну да и ладно!
Белоснежный халатик и Золушкины туфельки. Пахнет почти как в больнице. Если бы не плакаты для проверки зрения и не кипятящиеся в кастрюльке стеклянные шприцы, то ее можно было бы назвать красавицей. Под лопатку уколемся – это не больно! Не мочить и явиться через три дня – уж я!
Туалет – это пещера Ласко, а в ней живут кроманьонцы – все стены разрисовали от пола и до потолка: есть картины пикантного содержания – достойны всяческого подражания. Старшеклассник с сигаретой в туалете: тебе в туалете со своим стыдно, а ему с сигаретой – нет, поэтому лучше до дому – знакомо? А в женский однажды затащили, кинули и глазеют – до сих пор уши краснеют. Девочки кричат-визжат; а он лезет на стены, а на стенах ни одного рисунка – оказывается в женском туалете кроманьонцы не живут, это только у нас так.
На обколупленных партах, на столе у учителя, на полках и других поверхностях: склянки, банки, готовальни, реактивы, рубанки, пилы, пилки и лобзики, султан электростатический (пара), реостат и принцип его работы, амперы, катоды, аноды и прочие чудеса природы. Броуновское движение и сила трения – качения? А как насчет силы скольжения, где ей найти применение? А также: лакмусовые бумажки, тетрадки, промокашки, красные поля на четыре клетки, а на полях – красные же галки пасутся и – грачи прилетели. Боярыня на санях и двумя пальцами будто папироска у нее между ними, тянут-потянут по бережку – э-эй, ухнем!
В шкафчике заперта бертолетова соль – но это только в мечтах – трах-бабах! – у мальчишек в головах, а на самом деле обычный хлорид натрия – что может быть прозаичней? Разве только стихи. Вон – крестьянин торжествует; вон – роковое согласие и смертельный поцелуй: княжна Тамара в обрамлении двух черных, как канаты толстых кос; вон – всех впереди в венчике вышагивает – кто?
А в коридоре – часы с цифрами и, для подстраховки, часы со стрелками – какие идут правильно? Школьный звонок под потолком и палка, которой баб-Даша его включает. Палка эта всегда стоит в уголке под недрёмной баб-Дашиной охраной. Но и на старуху бывает проруха: как-то раз не уследила – ох, что было! На стенде расписание: смена первая, перемена, вторая смена. Плакаты: белыми на красном: миру – мир; учиться, учиться и еще раз; дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут. Лучшие ученики: такой-то и такая-то улыбками сверкают. Пожарная доска: топор и тоска, а также треугольное ведро; в случае чего разбить стекло. В конце коридора – окно. А выше – только крыша – тише, мыши! Вот и вся школа.
Школа окружена решеткой и в решетке этой есть и калитка, и ворота, но мы с Феньком привычно перешагиваем через выбитую секцию. Свернули за угол, а там – Женя.
Женя висит заподколенками на турнике, башкой вниз; волосами своими, кудрями своими пол метет. Майка у него задралась, на морду наползла – а шерстищи-то на Женьке! Вот уж в ком ангел умер, так это в Жене – красота! Ручеек светлых, еще не созревших, волосков струится по его груди, скатывается через солнечное сплетение и впадает в дремучий лес на Женином животе.
Я хлопнул Женьку по пузу, очень мне захотелось Женьку по пузу хлопнуть:
– Привет!
– Эй! – эйкнул Женя, дрыган?лся всем телом и попытался натянуть майку, но ничего у него не вышло.
Фенек тоже хлопнул:
– Привет!
– Привет-привет, – ворчит Женя. – Чего пристали?
– Сам ведь звал, – напомнил я Жене. – Что делаешь?
– Висю, – сказал Женя.
– Вишу, – поправил я его и снова – хлоп!
Не любит Женя, когда я его поправляю. Женя качнулся, подтянулся да как схватит меня за грудки. Я от него, а он не отпускает; я в другую сторону, он – только крепче. Рванул – и тут Женя разогнул заподколенки и рухнул на пол как висел, головой вниз, а меня – за собой.
– Эй! – прямо мне в ухо. – Слезай!
– Так отпусти меня, акселерат! Вцепился в меня, как в Машу и не отпускает!
За такие слова Женя собрался было еще потаскать меня за грудки, но вдруг раздумал и отпустил. Мы повозились еще чуть-чуть, пару раз даже я коленкой его умудрился, а потом пришлось все-таки с Женьки слезть.
Притягиваю ему руку будто великодушный победитель:
– Не сломал? – говорю, потому что Женя затылок себе трет.
Женя руку мою берет, тянет, хочет встать, а я поддаюсь и он обратно на задницу плюхается – подленький трюк если вдуматься, но на войне с Женей все средства хороши, пусть даже и подленькие.
– Чего не сломал? – спрашивает Женя и снова меня за руку.
А я снова поддаюсь.
– Значит не сломал, раз не знаешь что, – говорю.
Женя махнул на меня, отпустил руку и встал сам. Стоит, ладошами себя обхлопывает, пыль выколачивает.
– Чего вы долго? – спрашивает.
– У меня будут крылья! – сообщил Фенек. – Мы их пропалывали, чтоб лучше росли – вот! – и он протянул Жене перышко.
Женя покрутил перышко перед носом:
– Ясно, – говорит, не удивился даже, неужто поверил?
Отдал перышко обратно Феньку и за старое принялся, себя в порядок приводит.
И вдруг Фенек:
– А велики где?
– Точно, велики! – радостно воскликнул Женя и тут же потерял интерес ко всему, чем только что занимался, а именно: заправлял майка за пояс брюк, отряхивал с себя пыль, внимательно вертел головой прислушиваясь, не свернута ли шея. Итог: пол майки в штанах, остальное на свободе; где-где вытряхнулся, но в основном – нет; с шеей вроде бы все в порядке. И бежит через школьный двор к сарайке.
В школьном дворе: турники один другого выше, какая-то странная конструкция из труб – тоже что-то физкультурное, дорожки-стометровки, песочница чтоб в нее прыгать, еще снаряд – лестница на руках ходить, лабиринт, будка трансформатора, пустая голубятня и сарайка из нетёсанных досок внахлест. Непонятно что за сарайка – я никогда не видел, чтоб кто-нибудь ее отпирал, выносил оттуда что-нибудь или что-нибудь туда заносил и запирал обратно. Честно говоря, кажется, я и не думал о ней никогда и о том, зачем она на школьном дворе – тоже не думал. Стоит и стоит, так примелькалась, что и не замечаешь ее – да ведь зачем-то же она нужна?
Женя схватился за большой висячий замок, взвесил его в руке, вынул из кармана ключ с заковыристой бородкой, и воткнул его замку под язычок.
– Ого! Где ты ключ взял?
– Где лежал, там и взял, – проворчал Женя в ответ.
Ключ повернулся, замок ожил в Жениных руках, радостно щелкнул и выплюнул из себя ушко. Женя снял замок с петелек и убрал его себе в карман; ключ отправился туда же.
Женя отопнул свой брезентовый рюкзак и распахнул двери, а там – а ничего там интересного и нет: на полу лежат доски, на досках – еще доски, а на них – обпилки какие-то, на полках под потолком – железные банки, похоже что из под краски, на стене: несколько киянок, настоящий молоток, пила и целый выводок разноразмерных гаечных ключей выстроилось по росту; и серая пыль повсюду и везде, больше всего в сарайке – серой пыли.
Вытянулся весь Женя, выгнулся, грудь колесом, стоит будто фокусник, красоту сарайкиных внутрей нам демонстрирует. А на что тут любоваться? Где велики?
Поднял руку медленно через живот и в сторону отставил – ну точно фокусник. Только глаза блестят совсем не как у фокусника, фокусники свои фокусы делают с сосредоточено скучающим видом, а Женька, кажется, сейчас лопнет от счастья, а глаза у него из орбит – прыг. Женина рука указала на угол сарая, который нам с Феньком не виден. Я ступил через порог, Фенек за мной. В углу – большая выцветшая тряпка, выпуклостями своими не оставляет сомнений: под ней велики. Играть, так играть и мы с Феньком изобразили разочарованные физиономии, будто непонятно нам, что там под тряпкой.
– Ахалай-махалай! – торжественно пропел Женя, схватил тряпку и резким движением сдернул ее.
Тряпка хлопнула в воздухе, а за ней – серая пыль: кружится, вертится, ничего из-за нее не видно. Мы машем руками, а пыли хоть бы хны. Пока не накружится, не осядет.
Наконец чуточку разъяснилось.
– Велики! – радостно закричал Фенек, ну и у меня морда соответствует моменту, а Женя заскалился еще радостней: его ожидания оправдались, фокус удался – точно сейчас глазами пульнёт.
Мы стояли, смотрели на велики и никто и слова не мог выдумать – закаменели с открытыми ртами. Похвалить бы Женю, да обойдется. Похвалить бы велики, но это тоже самое, что Женю похвалить – снова обойдется.
А на что же мы смотрим каменея в восхищении? У стеночки, и Женя не соврал, и очертания тряпки тоже не соврали, стоят, обпершись друг об дружку, три велика. Все разные: один с баранками на руле, а баранки эти синей липкой лентой обмотаны, рама у него высокая, сам – тонкий-претонкий, и крылья блестят, как стальные, а на заднем крыле, на самом кончике – красный в белом окру?жке катафот; второй поменьше, потолще, коричневый, но с фонарем; а третий – совсем школьник.
Который ближе к нам, потревоженный тряпкой, подумал-передумал, да и свалился на бок, дзынькнув звоночком. Мой велик будет, наверное – такой же как я тормоз.
– Ух! – ухнул Фенек и как бы очнулся вдруг.
Фенек схватил коричневый, с фонарем, велик за руль, кое-как развернул его и выкатил из сарайки. По пути: врезался в меня; навернул с табуреточки банку из-под кофе с гвоздями; чуть не навернул саму табуреточку; запутался в выцветшей тряпке; выпутался из выцветшей тряпки; не попал в первого раза в двери; со второго – тоже не попал; наконец, чуть не свалился вместе с великом, но умудрился-таки вытолкать его на дорожку-стометровку.
Стоит, вцепился, аж костяшки побелели, ручками своими рыженькими в руль, а велик до того вели?к, что Феньку до него еще расти и расти: руль ему по плечи, рама по грудь – он даже залезть на него не сможет, не то что поехать!
Фенек перевесил голову через руль, смотрит на фонарь:
– Он зажигается? – спрашивает Фенек.
– Зажигается! – подтверждает Женя.
– А как включается?
– Включается, когда едешь, – объясняет Женя. – Там машинка на заднем колесе, от нее фонарь и горит.
– Ух!
– Только ее навести на колесо надо, чтоб крутилась, – напутствует Женя. – Без этого не загорит.
– Ух! – благоговейно ухает Фенек, а сам глаз от фонаря оторвать не может, даже на машинку от которой он работает не посмотрел.
– Нравится? – спрашивает Женя.
Фенек помолчал-помолчал да как посмотрит на Женю, а глаза у него – такими глазами не на героев смотрят, такими глазами на самых-самых из всех героев героев глядят. Море восторга в глазах у Фенька, а что еще хуже – и восхищения там на еще одно море. Ну вот как Черное море и Азовское – вместе. А мне – раскаленным прутом сердце прижгло. Самый-то ты хитрый, самый-то ты ловкий, самый-то ты из самых и сам себя даже лучше! Неколебимый Геркулес, несгибаемый Геркулес, необоримый Женя.
Засчитывай один:один, акселерат; это за то, что нашел велики.
– Он большой для тебя, слезай, – говорю, хоть Фенек и не залазил на велик, даже не пытался еще.
Фенек ничего не ответил и в сторону мою не посмотрел даже. Только костяшки еще белей. Он задрал ногу, попытался перекинуть ее через седло, но не смог – так и закаменел с ногой в воздухе.
– Там есть другой, – сказал Женя, – как раз для тебя. Школьник.
Фенек ровным счетом ноль внимания и на Женю. Только костяшками белеет. А ногу все-таки опустил.
Теперь он наклонил велик к себе и, наконец, смог перекинуть ногу через седло. Попрыгал, отталкиваясь ногой от пола, но дотянуться до педали не смог. Опять – ни звука. Снова закаменел. Костяшки – белей снега в ясный день.
– Посмотри хоть! – говорит Женя.
На Фенька и эти слова не подействовали. Он еще раз попытался подпрыгнуть, чтоб залезть на велосипед, но опять не смог. Еще – неудача. Он подпрыгнул в третий раз и на чуточку показалось даже, что у него наконец получилось, но велосипед, став прямо, тут же завалился в другую сторону и с грохотом рухнул, повалив за собой и Фенька. А Фенек так и не выпустил руль из рук. Белее белого его костяшки.
Мы с Женькой бросились поднимать Фенька.
– Нормально! – бормочет Фенек себе под нос. – Все нормально.
– Смотри, он разговаривает! – говорит Женя.
Фенек снова ровным счетом ноль внимания:
– Поставьте меня, – говорит.
Сложно поднять Фенька: мы его и так, и эдак, и за подмышки, а он вцепился в велик – не отдерешь.
– Отпусти велик-то.
– С великом поставьте, вам сложно, что ли?
Еле-еле и кое-как мы подняли Фенька вместе с великом. Я держу с одной стороны за руль, Женя – с другой и сзади за багажник еще придерживает, а Фенек елозит на седле, пытается дотянутся ногами до педалей. Одной ногой дотянулся, другая не достает, велик наклоняется в мою сторону. Другой ногой на педаль, первая тогда оказывается коротка, велик наклоняется в Женину сторону. Велик туда-сюда качается, а мы с Женей держим его, чтоб Фенек снова не свалился.
Фенек решается слезть с седла. Так ноги достают, но рама между ног – неудобно, больно и даже опасно.
– Держите? – спрашивает.
– Ага, – говорю.
– Ясно, держим, – подтверждает Женя.
И тут Фенек такой кульбит делает: одной ногой встал на одну педаль, а другую ногу вправил под раму и – на другую педаль. Прокрутил педали назад, велик приятно затрещал; налег на педали – велик рвется у нас из рук, а мы с Женей не отпускаем, что есть силы держим.
Фенек пыхтит, ухает, пристраивается к педалям, ногу то так под раму просунет, то эдак и вдруг как заорет, у меня аж в ушах зазвенело:
– Отпускай!
Ну мы с Женей и отпустили.
Фенек крутанул педаль и велик, опасно заваливаясь, поехал. Кое-как крутанул другую из-под рамы – велик завалился еще шибче, качнулся, но не упал – едет. Еще и еще, все кажется, что вот сейчас упадет, теперь-то уж точно упадет, а он – нет, все вперед. Да все быстрей, и быстрей, и вот – Фенек скрылся за углом школы.
Я моргнуть не успел, Фенек показался из-за противоположного угла.
– Эй! – крикнул ему Женя.
Фенек так и едет с ногой под рамой. Велосипед продолжает опасно крениться под ним, но каким-то чудом не падает. Радостный Фенек пронесся мимо нас и тут же скрылся за углом. И еще раз. И еще круг. На очередном круге Фенек кричит:
– Он светится? Он горит? Фонарь горит? Я не вижу!
Женя начинает заново свою лекцию о том, что там машинка и машинку эту надо навести, чтоб крутилась она от колеса и тогда будет ток, и тогда фонарь загорится, а если не опустить машинку, то и тока не будет, и фонарь не загорится, и все это загибая пальцы и кивая на каждый палец головой. Но кто ж все это слушать будет?! Только Фенек выныривает из-за одного угла школы, как тут же скрывается за другим, мигнув рыженьким пятнышком. Пять кругов сделал Фенек, пока Женя не кончил со своим велосипедно-фонарным занудством. А как кончил, я спрашиваю:
– А как машинка эта называется?
Женя покраснел аж! Стоит, лоб морщит, мысли напрягает, пальцы сгибает-разгибает, губами шевелит, а вспомнить никак не может. Смотрит на меня глазами прибитой собаки.
– Динамка, – говорю, – ты, друшлаг!
Женя себя по лбу хлопнул:
– Точно, динамка! – согласился Женя. – А почему друшлаг?
– Потому что голова у тебя дырявая!
– Ясно, – снова соглашается Женя.
А красным он после этого еще полдня ходил! Ну я и засчитал себе еще одно очко. Что там у нас? Разве два:один?!
Пока Женя маковым цветом алел, Фенек на велике всю дорожку-стометровку от серой пыли расчистил. Летит он, а серая пыль – у него из-под колес! Хочет обратно, а Фенек ее опять и не улечься ей на свое место – что за волшебство!
Фенек мимо нас с Женей, а мы изображаем радостных болельщиков, руки к небесам тянем, ртами хлопаем, будто орем что-то ободрительное, машем нашему спортсмену и все это медленно, как-будто бы в уторопленной съемке. Потом я изображаю судью и будто бы машу клетчатым флажком, а Женя стоит на полусогнутых у воображаемой финишной черты с воображаемым же секундомером в руке и когда Фенек пересекает черту, Женя засекает время и рубит рукой воздух – есть рекорд! И еще сценка, и другая – дурака валять, это вам не гимны петь; дурака валять – весело!
А Фенек смеется, а и не знает над чем: он такую скорость развил, что и не понятно ему должно быть, что мы с Женей изображаем, а все равно смеется. И мы смеемся, и Фенек, и все вместе, а серой пыли в «сложившихся обстоятельствах» совсем уж невозможно сделалось, ни разлечься, ни присесть, клубится над дорожкой, и хоть совсем не улетает, но будто реже стала.
Миллион кругов, наверное, и никак не меньше нарезал Фенек вокруг школы. На миллион первом круге Фенек вдруг притих. На миллион втором – кричит что-то, а и не понятно что. На миллион третьем – снова кричит, а до нас – только обрывок:
– Я не могу…
Миллион четвертый круг:
– …остановиться!
Миллион пятый:
– Я скорость сбавлю…
Миллион шестой:
– …а вы ловите!
Миллион седьмой:
– Готовы?
Миллион восьмой – последний. Фенек сбавил скорость, а мы с Женей поймали Фенька за руль и тормозим пятками об асфальт. А велик дальше едет, нас за собой тащит. Фенек перепугался, на педали давит, велик рвется, а мы уже – все одно: скрещение всего и со всем: рук, ног; рук с руками, рук с ногами; и колеса, и передние, и задние. Только пальцы в спицы не пихай! Педали оббивают лодыжки; шины икры жгут. И тут у меня нога об ногу запнулась – не знаю даже обо чью, может и об мою же: я – на бок и все благополучно за мной. Ну как благополучно. От пола к небу: я, на мне велосипед, на велосипеде Фенек, а сверху, накрывая нас тяжестью бетонной плиты, разлегся Женя. Вот так благополучно!
– Кажется этот велик слишком большой для меня, – сообщила прослойка между мной и Женей.
– Уверен? – поинтересовался я, а голосом не дрогнул даже. В сложившихся обстоятельствах сохранять серьезность голоса тяжелее даже, чем коня из школы до кинотеатра допереть, но я справился.
– Кажется да, – говорит Фенек. – Знаешь что?
– Что? – спрашиваю.
– Я его тебе отдам, но в прокат, а не навечно, – говорит Фенек, – и он все равно мой будет. Пожалуйста! – и лапками так вместе.
– А ездить на нем буду я? – спрашиваю.
– Да, – говорит.
– Хорошо, – соглашаюсь.
– Хорошо, – подтверждает Фенек.
– Договор? – говорит.
– Договор, – отвечаю.
– Железно? – спрашивает.
– Железно, – говорю.
– Будешь свидетелем? – это он уже не ко мне.
Бетонная плита сверху:
– Буду свидетелем!
– Так по рукам?
И когда я подтвердил, что да, по рукам, Фенек торжественно и уморно-серьезно плюнул в свою ладонь и протянул ее мне. Мне пришлось поступить также и мы скрепили наш железный договор крепким и слюнявым рукопожатием в присутствии бетонного свидетеля.
Мы кое-как распутались, заценили друг-дружкины раны от велосипедной кучи малы: у меня локоть и коленка, Фенек весь помят и взлохмачен, Женя как всегда нераним – чего бетонной плите будет-то?! Но вот локоть зализан, коленка подута и наглажена; Фенек расчесался пятерней, а Женя уже налаживает седло на школьнике.
А Фенек вдруг такой капризный сделался, как совсем маленький. Он пусть и маленький, но не совсем же, чтоб так капризить. Ему, наверное, свой велик, на котором я поеду, все-таки жалко, вот он и:
– Высоко! – слазит.
Женя возится, сопит, откручивает, грудью на седло навалился и заталкивает его в раму, закручивает обратно.
– Так низко! – снова слазит.
А Женя – ничего: молчит и сопит только. И все заново, только теперь заднее колесо меж коленок, а седло на себя – чуть-чуть вверх вытягивает.
Привередливо поерзав задницей на седле, Фенек наконец соглашается:
– Сойдет, – говорит разочарованно и протяжно.
Женя запер сарайку: замок ушком в петельки, шелчок, поворот ключа, язычек на место.
Женя достал из своего рюкзака моток веревки, отмерил ее сколько надо, натянул, эффектно откусил зубами, насадил ключ на веревку и повесил его себе на шею. Убрал оставшийся моток, а из рюкзака достал три прищепки, простых деревянных прищепки и роздал каждому по одной.
– Зачем? – не понял я.
– Штанину защепнуть, чтоб под цепь не попала, – объяснил прищепку Женя, а мне резко стало стыдно, я же и так это знаю, а вот как понадобилось, забыл.
Штанины прищеплены, все готово.
– По коням! – командует Женя и мы – по коням; и едем.
Середина лета. Дни мы давно не считаем, и месяцы не считаем – так как я знаю, что сейчас середина лета? Середину лета чувствуешь сердцем, середина лета – самое особенное время: это любой и каждый мальчик знает. Пол-лета уже за плечьми, пролетела, мигнуть не успел, и это заставляет с особой ответственностью относиться ко второй его половине. А как не успеешь всего, что к лету прилагается?!
А что прилагается к лету? – да что угодно. Даже самый осторожный, а можно сказать и проще – трусливый мальчик найдет чем заняться. На факелы жечь рогоз, ловить в болотце тритонов, истреблять ящериц или, на худой конец, просто отламывать им хвосты. На голову проржавое ведро надел и вот ты уже не ты, а человек в железной маске, ну, или крестоносец – это по обстоятельствам. Еще – забираться в самые глубокие уголки и строить там шалаши и жить в этих шалашах робинзонами.
В день вмещается целый год! Еще только утром твой корабль разбился и тебя, всего изодранного, вынесло на берег необитаемого острова. Дни тянутся за днями, а у тебя к полудню уже и шалаш выстроен и коза одомашнена, через час – одомашнен и Пятница. Чего только не происходит потом! Обходит Робинзон свои владения, пряча голову от тропического солнца под зонтиком, а зонтик-то складной и очень им удобно, если сложить, отражать атаки злых пиратов и прочих дикарей. На обед корешки и стебельки. Один раз отравился, в другой – пронесло. Собирает аптечку и учит Пятницу: это выручай-трава если колено расшибешь или локоть – лучшее средство; это пижма – в обморок свалишься, тогда понюхай; это ольха, а на ней – шишечки, от, очень кстати!, от отравлений: разжевать и запить из лужи. Зачем из лужи отравишься? Говорю же, от отравлений.
На острове можно и клад найти: два пятака, три копейки, куча разноцветных стеклышек и несколько жестяных букв Ш или Е, это как посмотреть, а также пиастры, пиастры!!! Как откуда клад? Мы на острове, а на островах всегда бывают клады – ты что, книжек не читал?! Ну и что, что клады из других книжек! Острова-то во всех книжках острова! Кстати о кладах; раз клады, то можно и злым пиратам еще раз зонтиком настучать, а если дикари, то и дикарям.
На песочке перед жилищем Робинзона написано зачем-то SOS. Что за закорюки? Стыдно не знать: спасите наши души. Чего спасите?! Хорошо бы и камнями еще выложить. Как зачем? Чтоб спасли! Кого? Да души-же! А кто? Кто-нибудь: ну, с самолета увидят и спасут! Только есть надежда, что все-таки не увидят и не спасут и можно будет переночевать в шалаше, а там, утром, начать новый год жизни на необитаемом острове.
Один день – целый год, спеши жить! Спеши, потому что потом начнется школа и будет целый год – один день.
Как удивительно устроено время. Лето пролетает быстро, зима тянется медленно. Учебный год: уроки, уроки и уроки: двойка, опять двойка, ну теперь совсем «кол» – вот и все разнообразие. Потому и кажется, что можно успеть на пенсию выйти, как закончится последняя четверть. А лето пролетает быстро-быстро, потому что летом интересно жить; столько игр находится летом, ты уж во все переиграл кажется, а вот еще столько же новых.
А с другой стороны если посмотреть на время, то получается совсем по-другому – с другой-то стороны. Лето – бесконечно долгая пора. Один день летом может быть и месяцем, и годом, и тысячелетием. Разнообразия дел летом выше крыши – кажется, что и во всю жизнь столько дел не переделаешь, а вот же как-то за лето справляешься – не такое оказывается лето и короткое. Однообразие же зимы, учебного года, скомкивает время. Только четверть началась, вот и другая к концу подходит. Эта кончилась, и эта – и вот уж лето: записал в дневнике на первый день «День знаний» и – вжих! – уже годовые двойки с тройками, удами и неудами тебе в тот же дневник проставляют.
А еще зимой – законы физики действуют и действуют они всего действенней в кабинете физике, потому что там их и изучают, но и во всей школе так. Везде и всё – только законы физики и ничего больше: падать, так непременно сверху вниз и с определенным до второго знака ускорением свободного падения – физика; камень в золото не обращается как против него ни колдуй – тоже физика; или вот, совсем уж дикость – что значит нельзя прорыть дыру через центр Земли?
Летом физика с ее глупыми законами отменяется, у физики летом каникулы. Как нельзя через центр Земли? Вот же чертежи! – очень даже можно. Вокруг света – за три дня, а если хорошенько поторопиться, то и за два успеем на одиннадцатом троллейбусе. Сила притяжения? Разве можно поверить, что выживешь, прыгнув вот отсюда. Под тобой пропасть, а ты все равно прыгаешь; прыгаешь и очень даже удачно приземляешься: тут ничего такого и нет, на Марсе совсем другая гравитация – вот тебе и законы физики!
А как ты на Марс-то попал? Да я уже весь Космос избороздил, что Марс-то?! Да как все-таки?
На Марс – очень просто. Если из большой деревянной катушки из-под кабеля, из ее основания, выдрать пару досок, то получается прекрасный звездолет. Ладно, отбросим скромность, в таком деле ей не место: это не просто прекрасный, а один из лучших в своем ряду звездолетов звездолет.
По местам! – как слышно, кабина пилота? Кабина пилота – основание катушки; ты – в нее через выдранные доски и знай только держись, а друзья тебя в этой катушке и до Марса докатят, и до Альдебарана даже.
Зачем до Альдебарана? – вчера летали! Ну, тогда на Кассиопею! – скучно на Кассиопею, сейчас туда никто и не летает! На Бетельгейзе тогда разве? Вот молодец и смельчак! – не всякий отважится на Бетельгейзе! Ужасна и загадочна звезда Бетельгейзе – любому и каждому мальчику это очень известно! Уверен, на Бетельгейзе? – уверен, на Бетельгейзе! В случае, если я не вернусь, передайте моей матери, и сестре передайте, и жена пусть слезы свои обо мне не льет. Начинаю обратный отсчет: пять – все системы работают стабильно; четыре – поджигай сопла; три – на старт; два – внимание; один – марш; ноль – он сказал поехали, он махнул рукой! И – покатили твою катушку по всем кочкам!
Десять секунд – полет нормальный, двадцать секунд – успешно отделились ступени; тридцать секунд – еле выбрался из катушки и весь завтрак на асфальт – а что это такое розовое? В звездолетах укачивает, но это ничего. Тот, кто умеет поставить себе цель, сможет ее и достичь: сорок секунд – снова полет нормальный. Ура! И вот, наконец, она – ужасная Бетельгейзе, перед которой трепещут даже самые опытные космонавты нашей оравы, и, несомненно, будут трепетать космонавты будущих и будущих мальчишек.
Я кручу педали и у меня даже получается особо не отставать, только сильно пить хочется. То-то с утра солнце было! – теперь еще пуще: солнце ярое, словно полымем плечи жжет, шиворот выжигает – а все равно хорошо! Лечу на велике, носом перед собой воздух режу и вот уж не так и жарко.
А куда мы? – а куда глядят Женины глаза. Он едет впереди, ведет нас, куда ему одному знаемо. Я тоже мог бы вперед всех и путь указывать, да только мне Женьку не обогнать.
Ох, колени мои скрипкие! Расскрипитесь, разойдитесь! Сгибайтесь-разгибайтесь, окаянные! Колени крутят, крутят, а Женю нагнать все равно не могут.
Педали кручу, а по сторонам мельтешня: дома за домами проносятся, перекресток и снова дома. Широченный мост с мачтами и изгибчивыми снастями на них: на него тяжко, с него – быстрей ветра и даже педали не надо. Ворота в парк, но нам не в них, а мимо. Мимо ограды – столбы отбрасывают толстые тени, между ними копья решетки – тени совсем тонюсенькие, но их так много и они так часто, что едешь, а в глазах стробоскопит и как пьяный делаешься.
Еду, еду, еду. Здравствуй, титановый ангел, первый человек тысяча девятьсот «Восток» на борту проникший гражданин республик. Еду, еду, еду. А потом – стоит на красном цилиндре посреди лета в пальто и пальто у него развевает, пусть и нет никакого ветра, а рука – в кармане: Что у меня в кармане? Но мы снова мимо и очень быстро. Потом – опять дома, только теперь они длинные-предлинные, а от перекрестка до перекрестка все дальше и дальше. Опять – мост, другой, без мачт и скучный, голый, но все равно: на него – тяжко, медленно, а с него – вжих! и встречным ветром сопли обратно в нос задувает. Потом – а там – я уж и следить перестал: вижу только перед собою брезентовый рюкзак на Жениных лопатках, а на нем застежки на солнышке поблескивают, за ним, за брезентовым рюкзаком, за застежками, и еду, не отставать стараюсь.
Дорога с каждым оборотом колеса все уже да хуже, с одной стороны пылится стройка-недостройка, с другой – ползут голые, грязные поля. Чьи это поля? Поля, поля. Маркиза, маркиза… Вдруг снова домики – теперь все меньше, вот уж и до смешного маленькие, не дома, а избушки. Я стал. Калитка, а в ней щель: для писем и газет; под щелью: осторожно, злая собака! Рядом – столб: не влезай, убьет! Калитку окружает квадратный забор, в дальнем углу – косенький домишко, совсем зарос, голые ребра под шиферной крышей и глаза выбиты: один клееночкой заклеен, другой – дырки и трещины. И вдруг сквозь трещины, сквозь дырки на меня зыркнули толстые очки, а я – на педали и поскорей Женин рюкзак догонять.
И вдруг под колеса каменка, булыжная дорога, вылезла из-под асфальтового одеяла. Голыми черепухами допотопных великанов будто вымощена. Предательское: тук-тук-тук – колесами по самым макушкам – извините за беспокойство, думаете мне нравится задницу об вас оббивать?! – и снова: тук-тук-тук – а вдруг спят, не умерли, не разбудить бы! Дальше – только по бровке и можно ехать, по стоптанному песочку.
Теперь и домики пропали, и избушки, только дорога лентою, снова асфальтовая, и лес с двух сторон узким коридором стоит. Как же далеко мы забрались? А как обратно ехать? А Женя помнит, как нас сюда завез? А вывести сможет?
Я хочу крикнуть, чтоб мы остановились и я все это у Жени смог бы выспросить, но как раз перед нами – мы стали в рядок как вкопанные, кричать не потребовалось, но и вопросы тут уже другие – туннель. Не туннель, а мост, но глубокий как туннель. А под мостом – темнота. Только темнота – конца не видно где белый свет за мостом снова начинается; как не заглядывай, не видно. Хоть глаза все истрать – темнота, да такая темнота, будто это темнота из-под всех мостов что ни есть в целом свете под этим одним собралась.
И солнце сразу поблекло, здесь, на нашей стороне, и жара тут же отошла; из-под моста, как из глубокого колодца, холод: и кожа гусиная, и сердце зябнет.
– Ух! – ухнул Фенек и разбил молчание.
– Может, обратно? – предложил я тогда.
– Как обратно? – вопросом на вопрос ответил Женя.
Я большим пальцем, остальные – в ладонь, за спину потыкал. Женя оглянулся, пожал плечьми:
– Это дорога туда, – сказал он и ткнул пальцем под мост.
– Тогда, может, найдем другую дорогу, чтоб обратно?
– Рано, – сказал Женя. – Нам пока туда, – и снова пальцем под мост.
– В объезд, может, – предложил я.
Ехать под мост решительно не хотелось. Мост кидает тень на асфальт и получается черта, которая отстоит от самого моста на несколько метров, всего на пять-шесть. И от черты этой, будто и нет ничего – такая темень.
Да только ведь не может такого быть, чтоб там ничего не было! Где тьма, там рождаются чудовища, сама тьма и порождает их – редких страшилищ порождает она. Разве не лежит-притаился там Горыныч? Все три огненных его хайла разверсты и только и ждут, как в которое-нибудь из них ровнехонько на велике въеду я и даже и не важно в какое именно: головы-то, хайла-то три, а желудок у Змея – один единственный. Разве не сидит под мостом черт? Да не такой, который луну из озорства к себе в карман крадет и на котором можно за красными ботиночками по небесам скататься, а сам. Такому, гиене, и глотать тебя не надо, засалит и того хватит. А если что и пострашней?!
Я посмотрел на Фенька, а он в темноту под мостом не отрываясь смотрит-вглядывается. Костяшки снова белые, а на лице все веснушки его, все рыжинки его потухли вдруг.
– Да где тут объезд? – беспечно отвечает Женя и снова вопросом.
– Я не знаю, где тут объезд, не я нас сюда завез, – огрызнулся я. – И как нам туда лезть?
– У меня есть фонарь, – сказал Фенек и робко пальчиком в фонарь на моем велике. Ну, то есть велик-то не мой, велик-то Фенька, а я на нем только еду, вот Фенек и говорит поэтому, что фонарь его.
– Поехать или идти? – сам себя спросил Женя. – Всем вместе или по одному?
И стоит, бороду натирает двумя пальцами, большим и указательным.
– Там темно, а фонарь только один и только у меня… – я осекся, но тут же поправил себя, – …то есть у Фенька. Если поедем, а там что-то есть, мы можем на это что-то напороться. И если это что-то большое или хуже того острое, то будет плохо.
– А если пешком, – сказал Женя, – света совсем не будет.
– А мой фонарь? – напомнил Фенек.
– Гореть будет, но мало, – сказал Женя. – Чтоб горел хорошо, надо быстро ехать, такая машинка.
– Понятно, – протянул Фенек, разочарованный своим фонарем.
– Давайте так! – воскликнул вдруг Женя. – Верхом, но по одному!
– Без фонаря и по одному? – переспросил я.
– Тебе-то что, у тебя-то есть фонарь!
– А в чем смысл? – мне Женина идея не понравилась.
– Мост коротенький, под ним узко, вот в чем смысл! – сказал Женя. – Если там что-то есть, машина или что-то еще, то скорей всего оно находится где-то у края. А по одному мы проедем по центру, прямо по разделительной. На ней, ясно, свободно.
Что-то еще! – там что-то еще сидит на пару с чем-то еще похуже.
Женино объяснение мне тоже не понравилось.
– Но… – начал я.
– Но! – передразнил меня Женя.
– А если… – но Женя и тут не дал мне закончить:
– А если! – мне так сильно захотелось ему впечатать, но я не стал, потому что если все-таки впечатаю, то Женя сразу мне в ответ, а потом и мне придется, а драка в «сложившихся обстоятельствах» нам тут совсем ни к чему.
– Давайте цугом под мост махнем? – выговорил я одним словом, чтоб Женя не успел.
– Чем махнем? – не понял Женя.
Пришлось объяснять акселерату что значит «цугом».
Говорю, говорю, да кто ж будет слушать что я говорю?! – никто не будет слушать что я говорю. Передразнить – пожалуйста! Оборжать – запросто! А слушать – нет. Я им: «Не ешьте быков!» А они уже и скатерти разложили, и тарелочки расставили, салфеточки за воротнички заправили и ножи об вилки точат-натачивают – неразумные!
– …гуськом, один за другим и все вместе, – тараторю я, чтоб успеть на одном выдохе все, что надо сказать. – Я буду светить, а вы – за мной…
У меня уже челюсть болит говорить, а я все говорю, разные другие аргументы придумываю, а Женя слушает меня удивительно внимательно и все подбородком кивает.
Я кончил и уставился на Женю.
Женя почесал репу, почесал бороду, почесал пузо и вдруг согласился со мной. Вот так: я уже приготовился с ним заспорить, рот даже успел открыть, воздуху в себя сколько смог нагнал, а он взял и согласился. Я от удивления рот забыл обратно захлопнуть, а слова, оказавшиеся теперь без надобности, какие в горле у меня застряли, какие к языку прилипли.
– Разумно, молодец! – сказал он, я аж на секундочку весь расплавился от того, что Женя меня отметил.
Но, чес-слово, прямо через секундочку я эту блажь с себя согнал:
– По коням! – командую.
– Эй! – кричит Женя и кругалём меня объезжает, чтоб за мной пристроиться. – Только все равно по разделительной! – это он мне в спину уже.
– Ух! – ухнул Фенек и потопал становиться за Женей, а велик, свой школьник, между ног тянет.
Я стою, а они – за мной; и стою все, стою, двинуться не могу, закаменел весь; а меня и не торопит никто. Если бы Женя мне сейчас в спину ножом всадил свое вечное «эй!» и то лучше было бы: рвану и пропадай все пропадом, и поминай как звали. Одной ногой я на педали, и если бы еще чуточку усилия, самую капельку, вторая нога оторвалась бы от асфальта, велик бы выпрямился, найдя равновесие, и покатился бы я прямо смерти в пасть – вот эту-то самую чуточку усилия я и не решаюсь приложить, врос одной ногой в асфальт, другой – в педаль и – ни туда, ни сюда.
От страху совсем невозможно сделалось, кровь киселем стала, загустела, сердце сжалось, всю кровь выпустило, а новой наполниться не может, только жалко вхолостую похлюпывает. Страшно, да не лучше ли сгинуть в желудке у Горыныча или оттого, что черт засалит пропасть, чем вот так от сердца! От икнувшего сердца смерть – совсем позор смерть от икнувшего сердца!
Я оглянулся:
– Что носы развесили! – кричу. – Выше ноздри! – да как ударю по педалям и – под мост, покатился Горынычу в самые зубы.
От смелости от такой, я сам собою богатырем сделался. А подо мной, не велик, а конь редкий, красный, с крыльями, не скачет, а летит. А надо мной радуга блещет, а за мной не Женя с Феньком, а войско целое и Женя с Феньком. Трубы ревут, знамена плещут, трепещут. В руках у меня копье тонкое, жало длинное; я копьем своим любому беззаконию, что под мостом поселилось, по башке настучу. Я до целого Гулливера из богатыря разросся, рвет-надрывается подо мной конь – вывезет меня? Я – до Гулливера, а тьма передо мной все равно меня больше. Я – во тьму, как в мешок, а она – на меня и уже завязочки за мной завязывает; и вот уж: все – она, а я – в ней.
Бездонная пропасть темноты заглотила меня и не улькнула даже.
Споткнуться, упасть. Попасть в пропасть – пропасть. Встать. Идти не сгибаясь тьме в пасть. За шагом шаг, не торопясь. Или лучше ахнуть, разом жахнуть? И ищи-свищи, попал как кур в ощип. Поминай как звали – знали иль не знали? Шепчу: спаси; шепчу: сохрани; – а не у кого и просить. Был ли, не был – никому не ведомо. Заведомо.
Тьма, тьма, тьма!
А потом?
Тьма, тьма, тьма!
По делам твоим – поделом тебе. Горькой мерою все отмерится. И хотел бы я, да не по силам мне, чтобы верилось, а все не верится.
А тьма – ать! А тьма хвать!
Каждому – свой час, поджидает нас. Я сгорю на раз – вот и весь рассказ.
А тьма?
Тьма сжала свои жвалы на моем запястье. Ручкой – тем, кто выжил; остальные – здрасьте!
Черта пройдена, а за чертой – темнота и ничего не видно. А где же фонарь?
Фонарь-то тут, да я его не включил – забыл, машинку на заднее колесо не навел. И что мне теперь, сердце из груди выдрать, чтоб светило оно нам вместо фонаря?! Я аж педали позабыл крутить. Обычно я не всегда такой отсталый, это только сегодня так получилось.
Ничего не видно – куда руль крутить? Женя говорил, что по разделительной полосе надо ехать – да где она, разделительная эта полоса? Я вспомнил про педали и —наугад.
Что это так трещит? – разве это с треском рвутся швы моего сердца? – вроде не то. Всполошенное эхо бьется из стороны в сторону, выписывая ломанные острые углы; как летучая мышь под мостом носится тр-тр-тр. Разве это велик – мой или Женин? Или это школьник, на котором едет за нами Фенек? Трескотня, скрипы, постанывания и прочий шум – велик из них и состоит, но ни один велик в целом свете не способен издавать таких гадких звуков. Любой звук от велика, пусть даже резиной по асфальту, пусть даже раскатистый треск звездочки, пусть даже жалостливый скрип тормоза или брюзжание чего-то там в руле – музыка для мальчишеского уха. А это что?
Я педали верчу, потому что если не вертеть, то совсем погибель; а треск все ближе, все оглушительней. Из темноты вдруг что-то выскочило, огромный неразличимый силуэт и – ко мне. И тут я узнал звук – это трещетка. Силуэт протянул ко мне растопыренную руку и попытался схватить меня. А я сразу из Гулливера обратно в самого себя обычного превратился.
Будто рука великана вынырнула откуда-то из-за облаков и шаркает по Земле в поисках моего шиворота, чтоб схватиться за него, поднять меня туда, к себе, за облака и – разве съесть? Поймал. Я ногами-руками машу, пока он меня до своих вершин возносит, я хочу закричать, а воздуху-то на такой высоте и нет, и не могу закричать, и вот он меня двумя пальчиками за шкирку и прямо перед своим носом. Я хочу его по носу, а не дотянуться; я ногой, а тоже не дотянуться. Огромная пасть, полная чернючих зубов открывается и я залетаю внутрь.
Лечу вниз по вонючему туннелю пищевода страшного великана, где сплошь пахнет протухшей капустой, весь разобранный – вот рука, а где вторая? вот нога и голова, что там еще у меня было? – а сам почему-то вижу две лоснящиеся губы, пухлые и капризные, изогнулись, собрались, чуть вытянулись, будто бы их владелец свистеть собрался.
Чьи это поля? – Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!
И под этими чуть вытянутыми губами, медленно сходятся и расходятся гигантские челюсти, а по сторонам желваки пляшут вверх-вниз, а губы все в свистке, но не свистят, а по передним зубам елозят по кругу в такт жевкам. А самое мерзкое: я вижу щетину, местами уже седую, местами совсем еще черную вокруг этих губ. И каждая щетинка из ямочки растет, и этих ямочек, как щетинок, видимо ни видимо, меж них – красные капилляры, как карта из автомобильного атласа; и все эти щетинки, ямочки, капилляры находятся в беспрерывном сообщающемся движении, одни ямочки глубже становятся, и щетинка в таких опускается, другие вспучиваются и из центра этих пупков гордо выпирает во всю длину обрубленный волос: тут черный, тут – седой; некоторые сближаются, некоторые наоборот, а потом те, что сближаются – наоборот и теперь сближаются те, другие. Но вот губы куда-то исчезают и я вижу, как безразмерный кадык страшного Карабаса ныркает ему под ворот с омерзительным звуком ульк! и выкатывается по шее обратно. А я снова – вниз по его пищеводу, и снова – протухшая капуста, и снова – весь на части разобранный.
Рука растопыренная шарит и шарит; я руль в другую сторону от этой руки, а рука хвать меня и – не поймала. А трещетка все трещит, надрывается, громче, еще громче, громко до невозможности; в уши залазит и протрещать их силится. Крутится трещетка прямо перед моим носом и вдруг как вдарит деревяшиной мне по лбу – я чуть с велика не свалился. Но не свалился, а еще пуще на педали и – вперед. Я даже боли не почувствовал от трещетки. Мне хоть ноги сейчас отрежь, как педали крутил бы не знаю, а боли точно бы не почувствовал, столько мне в организм адреналину вбрызнуло.
Наконец черта. С этой стороны она, наоборот, под мост залазит на те же пять-шесть метров, что выпирает с другой. А за чертой – белый свет. Кручу педали, чтоб быстрей, налегаю, чтоб подальше и вдруг:
– Стой, – слышу спиной Женин голос. – Стой!
Я послушался и стал; Женя – ко мне; радостный, будто в цирк сходил.
– Там трещеточник! – сообщил Женя, а пальцем под мост.
– Я заметил, – сказал я.
– Круто, да? – а сам изнутри весь светится, как если бы лампочку проглотил.
– Круто, – повторил я гробовым голосом. – Я со страху чуть…
– Но ведь нет же! – перебивает меня Женя и носом так.
– …не умер, – заканчиваю я и тоже носом так на всякий случай.
Врезать бы ему! Все-то ему нипочем и все – круто! Я с жизнью успел распрощаться, пока под мостом ехал, меня там, под мостом, Карабас съел, да и теперь я еле на ногах стою, а сердце под рубашкой у меня ревёт-разрывается, того гляди надорвется, а он – ничего; Женя – вжих! – проскочил и ни одною векою не моргнул даже.
Я огляделся – на этой стороне все по-другому, здесь свет другой и солнце другое, воздух – вкусный; и вдруг опять все смеркло, а воздух прокис – Фенек-то еще там, под мостом, и опасность там же, с ним.
Я велик на бок кинул и к мосту, а ноги не идут, подошвами ботиночек к асфальту намертво приклеились.
– Фенек… – говорю Жене, а другие слова и позабыл.
Но Жене другие слова и не понадобились, он меня и так понял. Только я ему про Фенька, а он как подскочит и к мосту, но не успел и двух шагов, как из темноты —снова трещетка, а потом – велосипедный звоночек, дрязг падающего велика, и трещетка затыкается, а из-за черты выбегает Фенек и – к нам.
– Я убил его! – кричит он своим звонким голоском. – Я убил!
– Как убил? – не понял я.
– Насмерть убил! Окончательно! – гордо произнес Фенек разделяя слова на слога. – Я еду, слышу – трещотка. Потом смотрю, стоит такой и меня хочет этой трещеткой огреть, целится и крутит. Ну, я и тарахнул его!
– Чего ты его? – переспросил Женя.
– Врезался? – догадался я.
– Врезался! – выдохнул радостно Фенек.
– Не ушибся? – спросил я.
– Круто! – с восхищением сказал Женя.
– Круто, – повторил я за Женей.
Женька подцепил Фенька за подмышки, прижал к себе, поднял и принялся его кружить.
– Сразил врага одним ударом! – кричит Женя и все кружит и кружит Фенька, а тот смеется звонко, как ручеек прозрачный по камушкам и даже я повеселел от этого кружения. Сандалики Фенька проносятся у меня перед носом: Эй! Снова проносятся сандалики: Ух! Еще раз: Одним ударом! И еще: Окончательно! И последний раз: Круто!
Из-под моста опять затрещало. Женя поставил Фенька на пол и тот сделал несколько неуверенных шажков, подбирая равновесие.
– Ну вот, не до конца убил, – расстроился Фенек, – прибил только немножечко.
Из-под моста, из-за черты выступил какой-то весь облезлый в длинном плаще непонятного цвета и с голыми, волосики торчком, ногами. Росточком он Жене до коленки, и как он мне таким Карабасом там, под мостом, показался?! Шагал он на полусогнутых, и сам полусогнут; сделает шаг, и постоит, а трещеткой перед собой крутит, а свободную руку за спиной топырит, пальцы гнет-выгибает. Далеко от черты не идет, теперь все бочком вдоль вышагивает и трещеткой в нас все тыкает. А лицо его перекособоченное, злое. Злое, как цепная собака, как три цепных собаки злое.
– Поехали отсюда, – говорит Женя и ногу заносит, чтоб сесть.
– А я как поеду? – это Фенек. – У меня там велик!
Женя так и закаменел с ногой. Потеряли мы один велик – как его теперь достать обратно?
– А я говорил, что все так и выйдет, – говорю. – Надо было объезд искать.
– Нет, не говорил, – говорит Женя.
– Не говорил, – подтверждает Фенек.
– Да? – удивляюсь. – Значит я чувствовал это с самого начала.
– А что не сказал? – это Женя.
– Я думал, что сказал, – говорю.
– Ты не сказал, – это теперь Фенек.
– Я забыл! – говорю.
– Забыл сказать? – Женя.
– Забыл сказать, – это я. – Но все равно чувствовал.
– Это не считается, – говорит Женя.
– Как не считается? – удивляюсь я.
– Если не сказал, значит не считается! – Женя.
– Даже если чувствовал не считается? – я.
– Даже если чувствовал, – заключает Фенек, а Женя согласно кивает.
– Ну и пусть! – не соглашаюсь, а Фенек руками разводит, как бы говоря, мол, правила есть правила, сам знаешь.
Замолчали; стоим, думаем, а думать от трещетки и не думается, трещетка все мысли из головы – вон.
Вдруг Женя как затараторит:
– Мы его вызволим. Я трещетку отвлеку, буду прыгать, буду бегать, кричать буду, руками махать, пусть он на меня! А вы! А вы велик – раз! – и тикаем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/artem-ryaschev/dumki-apokalipsicheskaya-poema-70954927/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
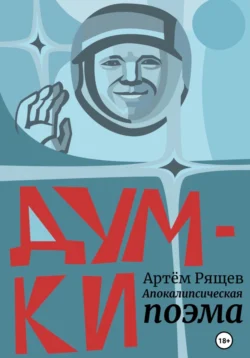
Артём Рящев
Тип: электронная книга
Жанр: Социальная фантастика
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 07.08.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В мире бушует эпидемия вируса забывчивости. Заражены все, но симптомы у всех разной степени тяжести. Главные герои взрослые пытаются как-то переварить изменения, происходящие в мире, сквозь призму своего устаревшего опыта. Главные герои дети живут свою жизнь, осознавая ее как объективную реальность. Все что было привычного исчезает, улицы заносит серой пылью, откуда-то появляются катуны, люди превращаются в думок. Даже звезды в небе теперь не на своих местах. Но подростки остаются подростками, они находят велосипеды и отправляются на них в путешествие, конец которого – конец их детства.