Лабиринт Агасфера. Фантастика, ужасы, былое и думы
Лабиринт Агасфера. Фантастика, ужасы, былое и думы
Александр Леонидович Леонидов (Филиппов)
Настоящий ужас всегда скрытен и психологичен. Это экзистенциальный ужас, который и напугать-то может только думающего, развитого человека. Ужас не в реках крови и не в прилюдных расчленениях тел, а в том иррационализме, который стоит за всем этим. Исходный ужас – интеллектуален. Это – ужас безвыходного софизма, ловушки для разума – вот тот ужас, которому посвящает произведение Александр Леонидов в 2007 году. Книга содержит нецензурную брань.
Лабиринт Агасфера
Фантастика, ужасы, былое и думы
Александр Леонидович Леонидов (Филиппов)
© Александр Леонидович Леонидов (Филиппов), 2024
ISBN 978-5-0062-9012-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Руслан Исхаков (Хоккинс)
БЕЗДНЫ ЛЕОНИДОВА
Перед Вами – «Лабиринт Агасфера», произведение Александра Леонидова, которым он попрощался с художественной литературой, произведение, которое – если и не самое сильное авторское открытие, то по крайней мере, несущее на себе отпечаток зловещего эпитита: «последнее».
Говорят, что когда Данте Алигьери выходил на улицу, то мальчишки в ужасе разбегались от него, восклицая: «Он побывал в аду! Он побывал в аду!». Наверное, то же самое можно сказать о Леонидове – тематика и стилистика его такова, что он, как Данте, кажется, спускался в преисподнюю свидетелем…
Традиционный жанр, который обычно приписывают леонидовскому «Агасферу» – хоррор, ужасы – не совсем точен и совсем не верен. С этой точки зрения Леонидов совсем не страшен, и, следовательно, был бы слабым писателем, если бы стремился кого-то напугать. «Агасфер» беден спецэффектами, да и привычного к жанру ужасов читателя разочарует их скупая лаконичность у Леонидова. Но цель – не та…
Настоящий ужас всегда скрытен и психологичен. Это экзистенциальный ужас, который и напугать-то может только думающего, развитого человека. Ужас не в реках крови и не в прилюдных расчленениях тел, а в том иррационализме, который стоит за всем этим. Исходный ужас – интеллектуален. Это – ужас безвыходного софизма, ловушки для разума – вот тот ужас, которому посвящает произведение – последнее свое перед уходом из литературы произведение – Александр Леонидов.
Наверное, кто то скажет, что прощатся «ужастником» – дурной тон. Но что взять с человека, при жизни спускавшегося в ад? В каком ином стиле мог он составить своё литературное завещание? «Агасфер» не вызвал не разговоров, ни споров, как прошлые произведения Леонидова. Его не поняли и не приняли. Элитарный читатель как бы оскорбился, посчитав прощание Леонидова шагом к безвкусице масскультуры, а человек массы «ниасилил» Агасфера, потому что тот показался слишком заумным и не слишком, строго-то говоря, пугающим…
Казалось бы, окончательным приговором «Агасферу» стало мнение высказанное А.А.Стрельцом: произведение составлено из «очистков» от прошлой литературной кулинарии Леонидова, в него на скорую руку адаптированы этюды разных лет или просто автономные рассказы известного автора. Однако мнение Стрельца, вообще всегда довольно спорное и одиозное, и в данном случае не должно стать «последним словом».
Хотя исходным материалом, возможно, действительно послужили отрывки и новеллы более ранних периодов творчества Леонидова, сама суть и душа «Агасфера» вовсе не в них, конечно, а в переходах. Лучшим опровержением литературоведческого заблуждения А. Стрельца может служить тот факт, что из конечного текста «Агасфера» Леонидов изъял новеллу о Баннике, пугающую историю о «банном домовом», грозящем заживо ободрать кожу с беспечных купальщиков. При этом Леонидов считал новеллу о Баннике достаточно сильным эпизодом, однако не входящим в строй и композицию «Агасфера». Следовательно, Леонидов не просто «сварил все очистки в одном котле», а выстраивал стратегию произведения, его внутреннюю логику.
Если расчленить новеллы «Агасфера» в простой сборник рассказов, то они много потеряют. Это доказывает, что единство произведения – не просто волюнтаризм уходящего автора, (действительно страдавшего склонностью к крупным формам), а необходимый компонент художественной логики.
При этом бедность философскими отступлениями (относительно прежних работ Леонидова) в «Агасфере» – скорее кажущаяся, чем реальная. В этом отношении очень важно отметить мнение выдающегося писателя и мыслителя начала века, Эдуарда Байкова, который, со всей присущей ему проницательностью, отмечал: «Агасфер», возможно, самое философское произведение Леонидова, однако автор в нем «хитрит», вуалирует философию бытовыми обстоятельствами и поворотами сюжета.
Что ж, великим виднее… Нам же «Агасфер» кажется, напротив, очень человечным и близким личностному опусом. Что и доказывает его неоднозначность, требующую собственного прочтения…
ЛАБИРИНТ АГАСФЕРА
(Однажды проснуться)
…Я просыпаюсь в ледяном поту, весь растерзанный ужасом, и лихорадочно шарю вокруг себя руками…
Я должен, наконец, понять, что тут к чему. Когда я сплю, а когда нет. Потому что записка на трюмо. Я точно помню, что написал её в надежде разобраться, наконец, написал в обоих мирах и положил в «точку схождения», в то место, которое регулярно проявляется в обеих реальностях.
Это место – дурацкое старое трюмо. Его привез в качестве трофея мой дед из Германии – если у меня был дед, если мы воевали с Германией, и если вообще есть на свете какая-то Германия…
«Бурная эпоха «оранжевых революций», агрессий, осуществляемых формально демократическими странами (В Югославии, Ираке и др.) заставляют российское учительство всерьез задуматься над кардинальными изменениями базовой части теории демократии и методологии её привития ученикам.
С 1985—91 годов, то есть с момента становления в Российской Федерации демократического строя, гласности и плюрализма, ж…»
Да, мне именно эта самая «ж…». Это – текст моей записки, записки, которую погибающий человек, размазанный между двумя мирами, написал самому себе. Неужели нормальный человек – в здравом уме и твердой памяти – мог бы написать себе такое в момент колебаний в вопросах собственно Бытия?!
Почему, Господи? Почему со мной? Почему мне звонят люди с того света, и я выполняю задания, которых не получал, на работе, на которую никогда не устраивался? Почему я помню то, чего никогда не было и в помине, и забываю то, что случилось со мной пару секунд назад?
Если я в сумасшедшем доме, то ведь должен же я хоть иногда приходить в себя и просыпаться в больничной палате! Я согласен уже и на это, лишь бы точно зафиксировать своё местопребывания в реальной Вселенной. Или таковой более не существует? Её упразднили? Может быть, это и называется концом света?
«Бурная эпоха «оранжевых революций», агрессий, осуществляемых формально демократическими странами (В Югославии, Ираке и др.) заставляют российское учительство всерьез задуматься над кардинальными изменениями базовой части теории демократии и методологии её привития ученикам.
С 1985—91 годов, то есть с момента становления в Российской Федерации демократического строя, гласности и плюрализма, ж…»
Тут есть какой-то смысл, какой-то код. Ведь это точно писал я, и отложил на дедовское трофейное трюмо, в надежде, что проснувшись, либо не найду бумажку вовсе, либо найду и сумею её расшифровать.
Но ведь это какой-то отвлеченный бред! Революции почему-то названы «оранжевыми»… К этому невозможно привыкнуть. Просыпаешься в холодном поту, на мокрой и скользкой подушке – и осознаёшь, что Гитлер, оказывается, победил в 1941 году, что вся твоя память о деде с трофеями – странный, фантасмагорический сон, сублимация славянского комплекса неполноценности перед победителем.
НСДАП пережила фюрера, и затем повернула к демократии: осудила культ личности Гитлера, даровала автономию оккупированным территориям, ввела в России трехцветный флаг и двуглавого орла, переименовала гауляйтера в Президента. Возникли рассуждения про избыточность государства в экономике, пошли кооперативы, затем из конституции выбросили статью о руководящей и направляющей роли НСДАП и теперь в глобализирующемся мире «великого нового порядка» третьего райха введено многопартийное управление. Гласность и плюрализм, новое арийское расовое мышление и теории коэволюционности заполнили собой пространство и…
Я был нормальным советским парнишкой. Я родился и вырос в обычной устойчивой жизни, в которой, казалось, всё было предопределено и не сулило на будущее приключений. Мир исчерпал к ХХ веку свой лимит неопределенности…
Но однажды я уснул – и проснулся где-то здесь. Говорю «где-то» – потому что детали меняются с каждого сна, оставляя кое-что устойчивым (как это облезлое трюмо деда), но координируясь и сменяясь с каждым разом в чудовищном порядке хаотической неопределенности.
– Ну ты идёшь, или нет? – слышу я голос с кухни, голос своего двоюродного брата Никиты, худого, небритого, странного человека, которого никогда не понимал.
– Иду, иду…
– А то скажи где… Я сам сварю…
– Чего?
– Ты спишь на ходу, что ли? (хороший вопрос, браво, Никита!) Ты же меня пельменями угостить обещал…
– Никита, возьми в холодильнике, там, в морозилке… Кастрюли в шкафчике над раковиной…
– Где?! – по тональности вопроса я понимаю, что мой брат Никита не видит никакого шкафчика над раковиной. Более того, тональность вопроса предполагает, что мой брат Никита никогда в обозримых пределах на моей кухне шкафчика над раковиной не встречал…
– Извини, брат… Мне, что-то, не по себе…
– Я заметил.
– Посмотри сам. Кастрюля не иголка, в ж..пе не спрячешь…
– Ладно…
Брат Никита гремит кастрюлями, отыскивая среди них подходящую для пельменей, которых, естественно, может не оказаться в холодильнике, так же, как не оказалось и посуды со шкафчиком над кухонной раковиной.
У нас с ним матери – родные сестры. Матери – и те очень разные, хоть и родная кровь. Отцы же вообще бесконечно далеки друг от друга. Мы с ним тоже получились очень разные.
Я – безобразно толст. Он – наоборот, болезненно, безобразно худой. С головой у нас у обоих неполадки – но я тихо-шизоидный, а он гулко-параноидный типаж. Он получает 700 дойчмарок, и всё время жалуется мне на то, как это мало. Я же все время мечтательно подумываю о том, как было бы много получать 300 дойчмарок. У него из-за 700-ста дойчмарок ушла жена. Я, наоборот, обретя доходик марок в 150, счел возможным подумать о женитьбе.
Дело не в марках, конечно; они просто лежат на поверхности и как-то зримо, арифметически отражают разницу миров, в которых мы с братом живем, рожденные когда-то от одного родового корня.
У него – какие-то свои представления о большом и маленьком, о «хорошо» и «плохо», о верхе и низе, о черном и белом. По крайней мере, мы не понимаем друг друга, когда говорим одними и теми же словами об одних и тех же вещах.
У него не только свои запросы и покупки (что было бы понятно!) но и цены какие-то свои. Например, на еду он почему-то тратит в десять раз больше меня, хотя это я в семье толстый, а он питается одними диетическими кашами. Костюма дешевле 300 DM он никогда в этой жизни не находил, хотя все мои костюмы дешевле 100 DM, и при этом куда качественнее и приличнее выглядят, чем его, что он и сам признает при редких встречах.
Относительно его планов и прожектов на жизнь я могу сказать только одно: мне они кажутся верхом идиотизма, и я точно знаю, что вздумай я провернуть нечто такое – давно бы оказался банкротом на бобах. Но у него его прожекты почему-то выгорают, что лишний раз доказывает всю разницу наших миров…
…Тревожный зуммер телефона. У меня радиотрубка, она в кармане домашних трико. Это моя тётка, Аврора Револиевна, педагог со стажем и душа-человек.
– Алло! Лувер?! А почему ты дома? Все твои уже у нас… Ты чего же родню обижаешь?
В некоторых версиях мироздания моя семья дружна, а в некоторых – не очень. Поскольку я иду по пронизывающей поперечной, в моей странной жизни это оборачивается странными полосами трогательной заботы и ледяного равнодушия со стороны «фамилии». Впрочем, Аврора Револиевна во всех версиях держится молодцом, общается со мной педагогично и всё время сует леденцов, как маленькому, каким я, при её возрасте, видимо, и кажусь…
– Лувер, ты всегда такой! Сам больше всех орал – «поминки, поминки» – а сам забыл к вечеру, что нужно прийти… Это все твоя несобранность и рассеянность, сколько раз я говорила…
Я начинаю что-то припоминать. Я действительно должен был в похожей версии мира пойти вечером на поминки… по кому же? По какому-то близкому родственнику, которого при жизни никогда не понимал, и потому заглаживал эту свою вину перед покойным усиленными поминовениями…
Впрочем, число родственников у меня тоже варьируется в зависимости от качества версии мира, и не исключено, что в этой того просто не предусмотрено… Хотя… Как же тогда Аврора Револиевна с приглашением – и «все уже собрались»?
Брат Никита вышел из кухни, стоит в дверном проеме и как-то недобро смотрит на меня. В одной его руке пустая кастрюля, в другой – нож.
– Лувер, я так и не нашел там никаких пельменей… Только вареники с картошкой… А я хочу пельмени… С МЯСОМ!
Я машу ему рукой – мол не отвлекай, а тётка щебечет, что мне нужно ехать на поминки немедленно.
– Аврора Револиевна – спрашиваю я, пытаясь вывернуться из неловкого положения перед братом – А у Вас пельмени будут? С МЯСОМ?
– Будут, будут! – уверяет тётка – Обязательно будут…
– Тогда я Никиту с собой захвачу, Вы не возражаете?
По кому же всё-таки эти тёткины поминки? Кого же из родни я не понимал и считал себя виноватым?
– Никиточку обязательно возьми – соглашается тётка – у тебя портрет-то его получше, чем мой… Ой, касатик наш… (она громко всхлипывает в трубку, сдерживая рыдания) Как рано, как рано… Ты возьми портрет, который в рамке, у меня чёрная ленточка есть, перевяжем…
– Так у неё есть пельмени С МЯСОМ? – спрашивает Никитик, приближаясь ко мне на шаг…
«Бурная эпоха „оранжевых революций“, агрессий, осуществляемых формально демократическими странами… в Российской Федерации демократического строя, гласности и плюрализма, ж…» – пролетает в мой голове сокращённый текст записки самому себе. Я не думаю, что в ней есть какой-то смысл. Вообще ни в чём нигде нет никакого смысла – вот что я думаю.
Почему-то у моего брата Никиты землистый цвет лица и какая-то нездоровая бугристость кожи. А в глазах – гнев, гнев на недостойного родственника, который даже жалкими пельменями угостить не смог, хоть и обещался неоднократно и самым убедительным образом…
Да, всё-таки я никогда не понимал своего брата. И, наверное, уже никогда не пойму – если разучился видеть смысл в записках самому себе.
Чьи же там поминки? Неудобно ведь спросить так напрямую у Авроры Револиевны – ещё в дурдом упечет за подобную неадекватность.
– Так я приеду с Никитой? – переспрашиваю я, чувствуя какую-то внутреннюю тревогу – словно бы мы говорим на двух разных языках.
– Привози, привози! – соглашается тётка, хотя прекрасно знает, что у меня нет машины, и «привезти» я его не могу – не в сумку же его положить! Мелочь, но мелочь, которая заставляет меня напрягаться, потому что тётка – педагог, и была – по крайней мере, во всех предыдущих версиях – очень точна со словом.
Я поднимаю глаза на Никиту – он уже совсем близко и зеленые глаза горят каким-то огнём. Вечно он устраивает эти шуточки и фокусы, с детства меня подкалывает и разыгрывает…
– Представляешь – говорю я ему, закрывая ладонью трубку – Там чьи-то поминки, а я забыл, чьи…
Никита широко и клыкасто улыбается – за счёт худобы лица у него всегда зубы казались крупнее обычного – и вдруг закидывает голову, начинает дико и истошно выть – по волчьи или по собачьи…
*** ***
…И от этого воя я просыпаюсь. Этой ночью, в развалинах, когда нестерпимо выли одичавшие псы-людоеды, и снилась чёрт знает какая дребедень из далекого, невозвратимо минувшего прошлого, мне вспомнился доктор Эдвард Копаньский. В отличии от многих, ненавидящих покойного доктора, даже от тех, кто выкопал его из могилы и станцевал там джигу, я знал Копаньского лично, и оттого не так сильно его ненавидел.
Эдвард был человеком только условно. Для него пришлось делать инвалидное кресло по специальному заказу, потому что в стандартное он не вмещался. Некая путаница костей, где плечи, где спина – понять невозможно, но голову он держал прямо, и глаза смотрели вполне разумно.
Эдвард был «существом». Он существовал – но не жил. Как-то распрямить то, что он из себя представлял хотя бы для ровной посадки в кресле, хотя бы для того, чтобы голова торчала не над спиной, а над ключицами, не могла наша «передовая нано-медицина», которая, по правде сказать, вопреки рекламе, вообще мало что могла…
Копаньский происходил из богатого польского рода, когда-то шляхетского, затем масонского, жил (если это можно назвать жизнью) в Париже и был парижанином в третьем поколении. Его дед, гроссмейстер важной регулярной ложи, умер в возрасте 120 лет, да и то потому, что был застрелен при конфликте с якудзами. Его отец умер в возрасте 116 лет, ещё вполне моложавым человеком, потому что погиб в автокатастрофе…
Причина проста: вампиризм, модные тогда «стволовые клетки», вытяжки из нерожденных младенцев, превращающие лицо человека в жуткую бугристо-землистую маску, но тянущие и тянущие его земное бытие, как резину…
Эдвард родился таким, каким должен был родиться при этой «селекции». Он родился «головой на подставке». Не знаю, прилагалась ли к голове живая душа, но мыслила голова необыкновенно эффективно. Однобоко, но продуктивно мыслила! Копаньский с детства жил в компьютере, потому что по-другому жить и не мог. Мир компьютерного программирования стал для Эдварда главным, а может, даже и единственным миром…
Когда (ещё в той, минувшей жизни) я работал консультантом во дворце Наций в Женеве, я предупреждал, что Эдварда ни в коем случае нельзя привлекать к работам по конструированию «Дип Рэд». Я говорил о физической неполноценности доктора, как о возможной причине его затаенной враждебности к миру.
На меня тут же вылили ушат грязи, обвинив в «диффармации, сегрегации», и по моему, даже в «расизме». Шеф кричал, что и среди калек бывают святые люди, и среди здоровых – маньяки, и формально был прав. Я же не спорю – бывают… Но речь шла о «Дип Рэд», об «абсолютном разуме», который я предпочитал называть «Абсолютной энциклопедией», не слишком веря в возможность создать искусственный разум…
…Моему московскому покровителю, олигарху Баруху Коноплецу, поставившему меня на это место, было наплевать, да и не мог он ничего изменить, если бы даже захотел. Не его, заправляющего водочными потоками в спивающейся стране, было это дело – кадровые чистки во Дворце Наций Женевы…
…Хотя устроить туда пороху у него хватило. Писатель Максимов как-то высказался, что «осознать мир, как заговор —значит, потерять надежду». Я осознал, пройдя по кругам ада этой «уровневой мафии» альянсов, сговоров и разменов. Но почему – «потерять»? Может быть, наоборот? Обрести? Найти сатану – и доказать тем самым существование Бога. Понять, что наш мир так ужасен, не потому что таким создан, а потому что искажен огромным заговором…
…Мой покровитель был плотью от плоти звериного оскала «заговора взаимных гарантий». Наглый и распущенный с теми, кто слабее, он становился раболепным в любом кабинете Администрации президента. Тупой, малообразованный, узко-ограниченный человек, он страдал традиционной болезнью богачей – «синдромом всезнайки». Точнее, страдал не Барух, а окружающие. О чём не зашла бы речь в его присутствии – о микробиологии или религии, об восточных единоборствах или высшей математике – всюду последнее слово Коноплец оставлял за собой. Его прозвали «Барвинком» – за семитскую кучерявость и лучистый детский взгляд – взгляд у него и вправду был детским, от природы, но это был злой ребенок…
…И всё-таки жизнь сложнее правил. Однажды я при десятках свидетелей дал Баруху в морду. И этот вздорный тиран, стиравший в порошок подчиненных за неловкий оборот речи, не только не засудил меня, но и пробил мне повышение.
На одном из светских раутов в особняке «Барвинка» в центре столицы, я замешкался, паркуя автомобиль. Стояла лютая зима – деревья трескались. Я шёл с паркинга, зябко поёживаясь в дублёнке – и вдруг меня за руку ухватило некое кукольное существо – полуобмороженная старуха, в каких-то обмотках, в пуховом платке, с сизыми губами, беззубо-шамкающая:
– Что тебе, бабуся?
– Сынок… Не пускают… Я к Коноплецу… пенсионный фонд… Вся пенсия… Жить-то на что?! Сынок, проводил бы ты, а? Жить-то то как?! Дети спились, пенсию забрали, а? Замоливи словечко…
Она так и сказала – не «замолви», а «замоливи». Мне стало нестерпимо жаль это существо, одетое, будто немец в Сталинграде, в какие-то бахилы на ногах, в какие-то латаные варежки. Я всё понял, конечно – дела Баруха я знал неплохо: он создал негосударственный пенсионный фонд, украл оттуда все деньги, цинично «кинув» десятки тысяч беспомощных стариков… или, если точнее, даже не «цинично кинув», а просто о них не думая, не подозревая, кажется, о каком-то их существовании вне виртуального пространства банковских счетов. Дети старухи, которые «спились», пили не что-нибудь, а водку «Барвинка» – не могли бы они пройти мимо той алкогольной продукции, которая заполняла более половины российского рынка спиртного.
Мой Барух раздавил старушке всю её жизнь – без какой-то злобы или презрения, а ещё страшнее: раздавил, как муравья, не глядя и не заметив «потери бойца». «Бойца» – потому что у старушки была медаль «Ветеран труда»…
Я что-то спутано пообещал старухе, и прошёл на праздник жизни. Провести её я не мог – у меня был пропуск только на одно лицо. Но я рассчитывал немедленно вывести Баруха на крыльцо. Однако внутри атмосфера иллюминации, бьющей по ушам музыки и конфетти как-то закрутила меня. Признаюсь, я немного потерял счёт времени. Пока я выискивал среди разряженных гостей Коноплеца; Пока уговаривал его выйти; Пока он отпирался, фотографируясь то с известной фотомоделью, то со специально подготовленными детдомовскими детьми; пока он пил коктейль, педерастически обнимаясь с мэром; пока отмахивался от меня, выступая перед тележурналистами с какой-то глянцевой речью о необходимости платить налоги и о социальной ответственности бизнеса…
Словом, пока он (да и я с ним) безумствовали – прошло не менее сорока минут. Наконец он, уступая моей настойчивости, с досадой на горбоносой морде, пошел в фойе, одел шубу, вышел на улицу…
Старуха стояла, где и была, не шелохнувшись. В её неподвижной терпеливости было что-то неестественное и страшное. Я, помнится, подумал, что вся Россия стоит вот так, у залитого светом особняка олигарха и ждёт какой-то милостыни…
Мы подошли. Старуха была уже мертва. Она превратилась в ледяной столб. На ресницах наросла бахрома инея, струйка слюны замерзла на подбородке, глаза пялились двумя кристаллами и даже больше стали, вываливались из глазниц – от расширения…
– Ах, незадача! – упер руки в боки Барух. В его детском взгляде просматривалось неподдельное сочувствие. Смерть, которую он нёс миллионам, была для него только компьютерной игрой, некоей абстракцией. Думаю, он впервые любовался делом рук своих вблизи и в натуральную величину. Ведь в банковских отчётах смерть какой-то обворованной старухи была в общих числах микроскопически незаметной… Масштаб не тот, как у домика на карте страны…
– Померла, надо же! – горевал Коноплец, и кажется, был обескуражен. – А чё она хотела-то?
Я, через губу, едва сдерживаясь, рассказал о судьбе покойницы. Барух смотрел на меня оловянными глазами, а потом поплёл что-то про общественную приёмную депутата, про урочные часы, и что там у него отопление в передней, и надо было туда, тогда бы заявление было бы рассмотрено по форме…
Тут-то я не сдержался, и при охране, при любопытствующих лизоблюдах на крыльце – вломил ему в его наглое маслянистое лицо ленивого, обожравшегося кота. Он упал, зажав ладонью рассечённую губу. Меня тут же скрутили архаровцы из его ЧОПа, но Коноплец дал им знак отпустить меня.
Встал, отряхиваясь от снега, вытирая жидкую – как и всё у него – юшку со рта. И тут… За ролью я неожиданно для себя почувствовал личность… За актёром, который «всю жизнь на подмостках» и ловит каждый жест режиссера, произносит чужие реплики, я вдруг разглядел человека…
– Так и надо… – мрачно сцедил Барух, затаив незримую, явно не для «пиара» мыслишку. – Всем бы так… Всем бы вы так, а то ни слова в простоте… Холуи…
И тут вся моя «священная ненависть» к олигарху Коноплецу, ненависть патриота к хищному инородцу, распинающему мою Отчизну, куда-то испарилась. Поверьте, не потому что он помиловал меня после невыразимого «для холуя» проступка. Я вдруг осознал, что дело вовсе не в Коноплеце, что театра нет без зрителей, и что люди сами, своим внутренним злом и подлостью, творят своих тиранов. Да что творят! Лепят, как из пластилина, мягких, податливых воле толпы деспотов. Барух Коноплец, бывший когда-то директором комсомольского Дома Творчества, при всём внешнем ужасе, исходящем от него, чудовища – всего лишь приёмная антенна, настроенная на волю и настроение людей страны. Он – таков, каким его хотят видеть.
Я осознал, что старуха, понесшая все сбережения в негосударственный пенсионный фонд к жулику – не менее виновата в своей беде, чем Барух. И государство, которое разрешило Баруху открыть такой фонд – тоже должно принять часть вины. И общество, допускающее и формирующее такое государство – тоже должно отвечать перед законами справедливости.
Много ли вины после такой делёжки остаётся собственно на Барухе? Не только сон разума, но и сон общественной совести рождает чудовищ…
Ведь человек – любой человек! – как муравей. Без своего муравейника он ничто, слабое, лишённое даже клыков и когтей животное. Не дубиной же, не силушкой богатырской заставил Барух Коноплец одних служить себе, других пресмыкаться перед собой, а третьих умирать ради него. Он просто оседлал грех, поразивший наш «муравейник», словно чума, использовал этот грех, не им сотворённый и не им управляемый…
…Так я оказался в Женеве – по воле олигарха, лоббировавшего кандидатуру нашего представителя в правительстве. Можете судить из того, насколько «прекрасен» был мир до экспериментов доктора Копаньского, тоже не слишком мир облагородивших…
…Конечно, потом, когда никелированные «сороконожки» стали потрошить людей, Эдварда Копаньского обвинили во всем, и свалили катастрофу на его «злой гений». Но я то, изгнанный из Женевы обратно в свой уютный кремлевский кабинет-келью, всегда подозревал, что за доктором стояла целая армада сатанистов, неизвестно зачем (просто по причине психопатологии) веками стремившаяся разрушить мир.
Ведь и «Рэд» – «красный» – это цвет революции. Почему женевская шушера утвердила именно это, отнюдь не Копаньским предложенное имя для мирового суперкомпьютера?!
Все это глупо. Все это было очень давно.
Ни к чему вспоминать.
Я увидел во сне Копаньского, потому что он точно так же, как эти голодные псы мертвого города, выл в камере, когда у него отобрали компьютерный шлемофон и краги. Может, он и был гением, совместимым со злодейством, но сумасшедшим-то он точно был…
От старого мира ничего не осталось. Ничего, кроме «Дип Рэда», который торчит плазменным стволом в подземной шахте, надежно укрытый от всех «террористов» на секретном объекте «К-2Z», под охраной бойцовых роботов и призраков мертвого контингента солдат ООН, разбросанных по окрестным холмам.
Считается, что «Дип Рэд» думает. Считается, что это интеллект, на порядок превосходящий человеческий, который захватил власть на планете.
Но я то знаю, что это не так. Потому что Копаньский, когда его арестовывали, и потом вели на казнь, предупреждал: без меня, без моей головы в шлемофоне, «Дип Рэд» не умнее пылесоса.
Фантасты прошлого, скажем, Азимов из 70-х годов ХХ века – думали, что машина, производя алгоритмические действия, по мере их накопления станет обретать способность думать и чувствовать, получит то, «что мы называем душой». Они полагали, что накопление суммы знаний и умений рано или поздно приведет к самоосознанию машины, к появлению у машины личности.
Нет. Они ошибались. Ни у какой из мировых библиотек не появилось личности, сколько бы знаний не напихивали в её стены. Никакой компьютер, включая и «Дип Рэд», так и не сумел осознать самое себя, понять, что он делает и понять, зачем он это делает.
«Дип Рэд», который правит миром по программе Копаньского, всего лишь выполняет заложенные в него когда-то команды, запаянные в повторяющийся цикл. Это как старинная плёнка на автореверсе: промотало её – и по новой, то же самое, и до бесконечности, до порчи практически автономного блока питания на «К-2Z»…
Так работает часовой механизм: шестеренки крутятся, анкер сдерживает, пружина тянет – но не шестерёнки, ни анкер, ни пружина не производят движения по собственной воле. У них таковой нет. Они мертвые исполнители, повинующиеся законам природы и разуму своего создателя.
Мне приходилось общаться с «Дип Рэд» в «он-лайновом» режиме, и, должен признаться, вначале он пугающе-самостоятельно мыслит. Ты можешь очень долго говорить с ним, ощущая себя собеседником Сократа, Конфуция, Эйнштейна – прежде чем поймешь, что он просто старательно зазубрил всего Сократа, Конфуция, Эйнштейна и при беседе с тобой по заранее заданному лгоритму подбирает «варианты ответов».
Вариантов очень много. Отбор идет с немыслимой для человека, молнеиносной быстротой. Нюансы тончайшие. И все-таки достаточно умный человек может запросто поймать «Дип Рэд», элементарно подведя его к краю алгоритмирования. Здесь «Дип Рэд» забуксует. Перестанет отвечать. У него есть контур предела, которого у живой и мыслящей души нет.
В свое время Азимов полагал, что робот не сможет превратить кусок холста в шедевр. Что он не сможет написать симфонию. Это все заблуждение – «Дип Рэд» творил и шедевры и симфонии, и все, что угодно. Просто компилировал заложенный в него колоссальный объем информации, брал чёрточку от Рафаэля, черточку от Микеланджело, черточку от Врубеля, и творил такое, отчего все искусствоведы ахали.
Они ведь дураки, искусствоведы. Не все, но большинство. Они думают, что человек совершенен совершенством. На самом деле человек совершенен несовершенством, свой способностью делать «ошибки в программе», своей способностью не выполнять заложенные в команду приказы.
А «Дип Рэд», творец шедевров и тонкий психоаналитик, казалось бы, знающий о человеческой душе всё возможное – не может ничего изменить, кроме того, что меняется в рамках заложенной программы. Он будет исполнять команду до тех пор, пока кто-то не нажмет клавишу «отмена», или не перепрограммирует его.
Прошло 22 года после «техноапокалипсиса». 22 года я, бывший чиновник средней руки, являюсь бродягой мертвого света в «прекрасном новом мире». Здесь люди, оставшиеся в живых, очень сильно изменились. В худшую сторону, но изменились.
А роботы – нет. 22 года автореверс всеми покинутого «Дип Рэда» прокручивает одну и ту же, отнюдь не хитовую, песенку…
*** ***
Почти четыре года отняли у меня племенные дела арбутеров. Судя по самоназванию это были бывшие немцы, поклоняющиеся работе («арбайт»), но о прошлом они мало что помнили. Боль и страдания включают, оказывается, в человеке некое стирание памяти. То, что человек не в силах понять и принять – элементарно забывается…
Арбутеров я застал уже не поклоняющимися никакому «арбайту», совершенно дегенерировавшими и опустившимися охотниками и собирателями на склонах гор, названия которых не знаю, потому что много лет брожу без карты.
Удивительно, как быстро человек деградирует! Прошло 22 года, ещё и не думало умирать первое поколение опустившихся в варварство людей, но даже память о былой цивилизации стерлась у них окончательно. Что касается детей и молодежи, родившихся у арбутеров после техно-апокалипсиса, то тут и говорить нечего, эти были просто звери, рычащие и не владеющие членораздельной речью.
Я пришел как раз вовремя: к моменту моего подхода к охотничьим угодьям арбутеров их уже окружили роботы-охотники из числа дистанционеров «Дип Рэда». Маленькое племя должно было принять в себя либо «сороконожек», либо энергопули, и пополнить число дистанционеров в любом случае, ибо «сороконожки» заселяются даже в обессмысленных «человекоовощей», хотя предпочитают, естественно, живых.
«Дип Рэд» делал свое дело без начала, без конца и без смысла. Автореверс Копаньского включал в программу два основных алгоритма: каждая «сороконожка» должна была заселится в человеческое тело через рот или даже анальное отверстие. Заселившись в человеческое тело, «сороконожка» располагалась в виде некоего станового хребта и переключала на себя управление всей моторикой тела.
Теперь вступал в действие второй алгоритм – получив в наличии мозг и руки, сороконожка, обтянутая трупом, стремилась произвести себе подобную из никелированных деталей, и затем пристроить её в новое тело.
Поскольку подвижные компьютеры-сороконожки не могли размножаться сами, Копаньский включил этот этап: сборка новых компьютеров руками зомби. В его безумном плане зомби делали все больше сороконожек, а сороконожки – все больше новых зомби – до полного исчерпания человеческого ресурса.
Так Копаньский отплатил миру за свое увечье. В первые годы в городах царили фобос и деймос, словами не описать. Но затем, по мере исчезновения человеческого вида, толпы зомби с гибким стержнем искусственного интеллекта внутри теряли смысл жизни, сидели на площадях отрешенно, как буддийские монахи, полузакрыв глаза. На некоторых от неподвижности даже заводилась какая-то грибково-плесневая культура, потому что Копаньский дальше апокалипсиса ничего в алгоритм не заложил. О «новой земле и новом небе» он явно не подумал.
Но тем роботам повезло: они обнаружили арбутеров!
«Сороконожка» весьма шустра, но безумна, как и все подобные «приспособления малой механизации». Передвигается она стремительно, извиваясь всем длинным гофрированным шлангом «тела», а спереди у неё два мониторчика.
Многие думают, что «сороконожка» видит, но это не так. Вводя в программу «Дип Рэд» её схему-чертёж, Эдвард исходил из того, что глаза «сороконожка» получит «бесплатно» от своего зомби. Мониторчики – построены на чистой химии: они улавливают страх, адреналиновые волны от жертвы. Благодаря этому обонянию «сороконожка» отличает живого от зомби – иначе все бы они полезли в одно и то же тело.
Задача зомби – донести им же изготовленную новую «сороконожку» до жертвы, а там она вёртко настигнет источник адреналиновых волн, не спутав человека ни с зомби, ни с равнодушным к этой технике животным.
«Сороконожки», которые ни что иное, как материнская плата будущего человека – биокомпьютера, слепы.
Именно поэтому я мог – и любил – их давить.
От меня не исходило адреналиновых волн.
Целевым и направленным ударом тока я сжег проводку своей нервной системы, и теперь не боялся, не гневался, не чувствовал ни боли, ни наслаждения. На вкус я не отличил бы мармелада от дерьма – настолько атрофировались мои вкусовые рецепторы.
«Сороконожки» принимали меня за робота.
Может быть, отчасти, они и были правы.
Но не совсем.
Потому что, хоть я ничего и не чувствовал, но я ПОМНИЛ о чувствах. Хоть я и не имел эмоций, но, подобно коту, кастрированному в зрелом возрасте, я мог ещё весной помяукать, призывая кошку, хоть и не знал бы, что с ней потом делать. Я был ЧЕЛОВЕКОМ.
Не потому что я мог превратить кусок холста в шедевр или состряпать оперу с балетом. А потому, что я имел свободу воли и выбора, которых у «сороконожек» вместе с их застоявшимся от безделья «Дип Рэдом» не было и в помине.
…Пока арбутеры в панике разбегались по этой живописной альпийской лужайке, я отлавливал «сороконожек», прижимая их сапогом к земле, как змеелов, и резким рывком ломал механические сочленения их «хребта». Роботы-охотники остекленело смотрели на деяния рук моих, ничего не соображая – да и что может сообразить машина?!
Переломав всех «сороконожек» я приблизился к их остолбенелой группе и выразительно постучал костяшками пальцев по лбу впереди стоявшего.
Думаю, когда-то он был банковским клерком. На его шее ещё болтались лохмотья полосатого галстука, а пиджак, если хорошенько отстирать и вычистить – ещё мог бы послужить дворнику на утренней смене.
Роботы смотрели на меня, и видимо, «перезагружались». Потом банковский клерк нагнулся, как будто хотел поцеловать мою руку, и… укусил меня!
Это было что-то новенькое. Я извлек энергопистоль и размазал импульсами-молниями этих тварей, раскидавших кишки и разноцветные провода по всей лужайке. Заряда оставалось мало, индикатор показывал красный огонёк – но я же должен был узнать о «новостях» в мире компьютерного «киберпанка».
Четырьмя зарядами я отрезал клерку в галстуке руки и ноги, чтобы обезопасить себя от следующих покусов, и в то же время не повредить операционную систему.
Оставшийся «самовар» елозил по траве пузом, всё ещё пытаясь подобраться ко мне. Вроде бы даже стал грызть плотную кирзу сапога, но вместо ущерба мне – растерял только свои гнилые зубы.
– Ты, сволочь, почему кусаться стал? – добродушно спросил я, отпиннув «самовар» его тела на некоторое расстояние. Я спрашивал у «Дип Рэда» – думал за весь этот легион все равно он один. Поговорить с «Дип Рэдом» я мог с любого «монитора», замкнутого на базу «К-2Z».
– Ты – вирус. – прошипел в ответ самовар, старательно имитируя ненависть, которой у него, конечно, ни на грамм не было. Ненависть была Копаньского, пережившая своего носителя.
– Я- вирус?
– Да, ты вирус. Ты будешь уничтожен.
– На себя посмотри…
Я понял, наконец, в чем дело. У «Дип Рэда» был так называемый «эвристический анализатор» – то есть набор схем и алгоритмов аналогового подбора. Поскольку возможности подбора аналогов все равно были замкнуты контуром полученной при программировании информации, «Дип Рэд» не смог понять мой случай, но вывел интересный вывод: перед ним робот, в локальной системе которого произошел информационный сбой. Так сказать, «программа допустила недопустимую ошибку. Если такие случаи будут повторяться, обратитесь к разработчику».
Помните? Эх, где вы, дни златые, мониторы и дисплеи, выдававшие эту заученную фразу? Давно уже на мертвой Земле нет для вас ни условий, ни питания…
Кубинским «мачэте» я распотрошил мой «самовар» и вытащил на свет божий заляпанную в крови и лимфе «сороконожку». Это и был единственный тип оставшихся на земле компьютеров. Отрубив кое-какие детали, «сороконожку» можно было сделать вполне безобидной, и через неё скачивать базу данных «Дип Рэда». Правда, в компьютерную игру на ней не сыграть, это жаль…
Я заказал «Дип Рэду» прочитать мне «Опыты» Монтеня с 23 по 56 страницу. «Сороконожка», подобно сентиментальному убийце, крякнула в маленький раструб горлового динамика и начала вещать дословно, с середины предложения, потому что неведомая мне 23 страница разорвала мысль старого брюзги напополам.
Так, под механическое скрежещущее бормотание я и оказался среди арбутеров. Они пугливо вышли на лужайку из-за деревьев, озирая меня, как бога, и нестройными рядами приблизились ко мне.
Я не обращал на них внимания, усевшись в позе будды и внимая Монтеню. Нашел приличной толщины палку, достал из походной котомки синюю изоленту – остатки былой роскоши – и стал приматывать болтливый процессор к дереву.
Арбутеры не смели мне мешать, полагая в моих занятиях нечто сакральное. На самом деле я всего лишь собирался пустить «Дип Рэда» по ложному следу, бросив палку с активированным процессором в любой поток, и направив «охотников» в сторону, противоположную нашему движению.
Пусть река несет бормочущую «сороконожку» на юг, а мы пойдем на север. Идти обязательно надо: в место пребывания «вируса» «Дип Рэд» направит целые толпы бездельничающих «зомби»…
…Палка почти утонула – но все же поплыла. Я замкнул чтение Монтеня в цикл, и теперь 23—56 страницы «Опытов» будут звучать в мертвенной тишине нежилых берегов невообразимый для человека срок износа нержавеющего, ударопрочного металла. Я представил себе, как палку затянет в омут, или прибьёт к мысу, обволочит тиной и ряской. Как будут приходить на водопой пугливые олени, как станут строить плотнины работяги-бобры – а процессор снова и снова станет зачитывать одни и те же слова, непостижимые ничему живому вокруг него…
Я эти вещи знаю не понаслышке. Я часто находил такие информационные «клады» в самых запущенных и мрачных местах одичавшей планеты. Помню, один процессор был воткнут безвестным героем в кучу камней перед пещерой и предупреждал об опасности:
– Беги! Беги! В пещере – медведь-людоед! Беги! Беги! В пещере…
Я не знаю, сколько лет он так бормотал, но в пещере я нашел только медвежьи кости, обглоданные мелкими зверьками. Людоед давно был сам пожран червием и крысами, а процессор не доломался, пыхтел над нехитрой предупредительной функцией…
А вот с Монтенем мне «звуковые посылки» встречать не приходилось – это я первый придумал. Правда, однажды один безвестный чудак оставил мне лекцию по философии Гегеля, но, по правде сказать, задумка с медведем мне больше понравилась.
…Так я и стал невольным Моисеем для арбутеров. В начале нашего пути они были сущими чудовищами. За ужином дрались и отбирали друг у друга куски, стариков и женщин, а так же младенцев вообще оттирали от трапезы, гукали, визжали, как обезьяны. Погибшего на охоте соплеменника могли за здорово живешь и скушать. Сильные до полусмерти избивали слабых, женщин по любому поводу таскали за волосы и давали друг другу для утех в обмен на сущие безделицы.
Мне пришлось первым делом строжайше запретить каннибализм. Я рассказывал арбутерам об адских вечных мучениях, и делал вывод: чем так страдать, лучше на земле помереть от голода. Поэтому помирай – а товарища не глотай! Потом я запретил насилие и велел арбутерам уважать друг друга, ввел ритуал приёма пищи, ставший чем-то вроде религиозного причащения. Я научил арбутеров молится Богу-заступнику, как мог, пересказал им в простейших словах Евангелие. После этого арбутеры стали несколько менее раздражительны и безумны. Старикам – чтобы защитить их от изгнания из-за общего «стола» – я велел заучить религиозные тексты, которые, по грехам своим и незнанию подлинных, сам же и сочинил. Молодые, сильные арбутеры после этого боялись отнимать у стариков пищу, чтобы не прогневить Бога-заступника.
Я обучил их простейшим приёмам защиты от «сороконожек», показал, как нужно их ловить и где сподручнее переламывать им хребет. Потом я научил арбутеров земледелию и скотоводству, нашел им приличную пещеру и посчитал, наконец, возможным, уйти.
За четыре года арбутеры мне смертельно надоели. Фактически – мои ровесники, они были пустоголовы, как дети, и так же, как дети, жестоки. Выросшие в Германии, с тостерами и кофеварками, с телевизорами и самолётами, старшие арбутеры настолько помешались, потеряв всё это, что далее духовного развития крысы двинутся были не в состоянии. Юноши, не помнившие растленной атмосферы ХХ века, подавали кое-какие надежды, потому что дикая жизнь первобытных кочевников была для них не наказанием, а единственно-мыслимой и возможной формой существования.
Я ушел от арбутеров, наверное, и доселе кощунственно ждущих моего «второго пришествия». Я преподал им некую вульгарную версию Мирного Духа и Благодати, некие начальные сведения о спасении и Спасителе (боюсь, они отождествили его со мной), в надежде, что по мере духовного роста они вместят в себя большее, когда способны будут вместить.
В темноте и злобе арбутеров я, наконец, сумел понять, объяснить и принять некоторые кажущиеся уродливыми, а на деле необходимые формы раннего христианства «тёмных веков», вообще особенности первобытной религии, как методологии строительства «вмещающего сосуда», без наличия коего вмещать – всё одно, что расплёскивать.
Но дело сделано: я был свободен!
Я ушел на рассвете, провожаемый стонами и стенаниями всего племени, нелепый полуграмотный вероучитель. Впрочем, в свое оправдание скажу – каково племя, таковы и учителя…
*** ***
«БЭМИ» – бомбы электромагнитного импульса… Я никогда прежде не видел их в таком количестве. На этом складе их было заготовлено на целую третью мировую войну, на десяток «Дип Рэдов» – но человечество пало быстро и само не успело понять, с кем воюет…
«Дип Рэд» – а точнее «голова на подставке» в инвалидном кресле – обманули человечество. Они засунули процессор-кишку в человеческое тело, а потому сперва казалось, что это не компьютер, а какие-то люди, террористы или ещё кто – атакуют мировые державы.
«БЭМИ» не пошли в ход. Остатки армий дрались огнем и сталью, с себе подобными – но в танках, в боевых самолетах, на ракетных установках сидели уже не просто агенты «Дип Рэда» – там сидел «Дип Рэд» собственной персоной.
Потом, когда мировая схватка уже затихала – а это случилось дней через десять интенсивных боев – кое-кто кое в чем начал разбираться, и даже «БЭМИ» обрушились на колонны врага – с большим успехом – но силы были уже трагически не равны.
Из документов, собранных мной между делом, следовало, что доктор Копаньский, могильщик человечества – клепал первые «сороконожки» отнюдь не в семейном гараже под покровом ночи. «Сороконожки» – а точнее «дистанционная система моторики «Дип Рэда» – утверждались штабными чинами НАТО как новый, перспективный вид оружия, пригодный к ограниченному употреблению и производились на военных заводах атлантического альянса.
Заговор Эдварда Копаньского, человека, который и задницу без посторонней помощи подтереть не мог, прошел через высшую бюрократию в Брюсселе. Она разрешала – Копаньский перепрограммировал «сороконожек» – «сороконожки» захватывали тела высшей бюрократии – так она оказывалась под контролем «Дип Рэда», а сам «Дип Рэд» – под контролем доктора Эдварда.
Через некоторое время, в тайне ото всех, Копаньский сумел получить полный контроль над телами, речами и движениями тех, кто утверждал его программы и сметы финансирования. Он стал начальником над своими начальниками, уже мертвыми трупами, которые волей «Дип Рэда» ещё двигались, имитировали жизнь и отдавали указания – кому что в альянсе следует делать.
Теперь Копаньский мог поставить производство «сороконожек» на поток, что и не замедлил осуществить. Атака на ведущие столичные центры мира была осуществлена 14 апреля 20** года. «Дип Рэд» помог хозяину оптимизировать и синхронизировать схему удара.
14 апреля на всей планете разом отключилось электричество. Вместе с ним разом парализовало все линии связи, и произведена была через компьютерные сети блокировка нефтеналивных терминалов. По воле одного-единственного сумасшедшего человечество оказалось абсолютно беспомощным перед кибер-чудовищами, размножавшимися по мере захвата человеческих тел.
Кроме того, «Дип Рэд» произвел взрывы магистральных трубопроводов, поджег все нефтяные скважины, разрегулировал все автоматические системы, включая даже управление дорожным движением и светофоры.
Армии стран мира в отчаиньи начали наносить удары друг по другу, все подозревали всех, хаос сделался всеобщим. На планете накопилось слишком много взрывоопасного материала – и в прямом, и в переносном смысле – хватило одной спички…
Копаньский был казнен 26 апреля того же года по решению ГКО – «глобального комитета обороны». Самому ГКО оставалось существовать всего два дня. 28 апреля работающие на батарейках транзисторы перестали ловить его сигналы, приказы и распоряжения. Правда, мои знакомые уверяли, что дробь морзянкой шла в эфире ещё и 29, и даже 30 апреля, но кто же в наш «просвещённый век» умеет разобрать морзянку?!
Впрочем, думаю, это неважно. Что, кроме жалких молений о помощи могли отправлять эти чокнутые бюрократы, некогда задумавшие построить шахту для «Дип Рэда»? «Сороконожки» настигали их одного за другим – и они тут же становились элементами страшной компьютерной игры…
Мне случалось – уже через много лет – проходить полями апрельских сражений, через мертвые и ржавые армады танковых армий. Они высились, словно жернова, перемалывавшие все живое, и в итоге перемоловшие самое себя. Эти танки вышли невесть против кого, сражались с собственной тенью – а по мере проникновения юрких «сороконожек» – разворачивали пушки против собственной колонны.
Я шел и шел – километры пустой земли были покрыты мертвыми черепахами танков, частично сожженных, частично механически поврежденных, а иногда и совершенно целых. Некоторые выглядели так, что, казалось – сядь в них сейчас, заведи мотор – и поедешь. Но в баках давно уже было испито все горючее до последней капли, да и куда бы я поехал в этой бронированной тарахтелке?
Многие говорили, что человечество «дорого продало свою жизнь». Мне трудно понять, кто в таком случае выступил покупателем – покойный Копаньский или безмозглый «Дип Рэд»? Человечество дорого продавало жизнь самому себе – беспощадно уничтожая полезные людям предметы из всех видов оружия, устраняя даже тень возможности для последующих поколений как-то организовать быт на новой земле.
Может быть, это и входило в замысел доктора Эдварда? Освободить землю от человека? По крайней мере, природа, которую «Дип Рэд» не трогал, расцвела на руинах человечества буйным пустоцветом…
*** ***
Так вот, четыре года я убил на арбутеров. От их инфантильных и дикошарых представлений, нормальному человеку напоминающих погружение в бред и горячку, я выныривал не сразу, постепенно, с трудом.
Нужен был нормальный человек для общения, чтобы совсем не сойти с ума в тоске одиночества. Бог мне его и послал – со скидкой, конечно, по части «нормальности», потому что это был Ким Чжуанович, но зато почти сразу.
…С Кимом Чжуановичем Иром я познакомился года за три перед техно-апокалипсисом. Он тогда как раз – то ли спьяну, то ли с какого перепугу, взялся закрывать Евразийскую Академию, которую возглавлял, и везде торжественно объявлял об этом.
А в Евразийской Академии состояло много средних правительственных чинов Российской Федерации – из числа тех, кто для настоящей Академии рылом не вышел, но именоваться академиком очень хотел. Поэтому меня извлекли из моего кабинета, похожего на келью, и послали улаживать евразийские дела.
В тот раз у меня не слишком получилось утрясти дело, Ким Чжуанович был упрямый кореец и Академию всё-таки закрыл. Но, как ни странно, это не отразилось на наших отношениях. Мы бывали на общих пикниках, общались, делали некоторые общие дела, которые возникали у чиновников в ту смутную пору. Последняя наша встреча состоялась за день до техно-апокалипсиса – мы как раз договаривались ехать к нему в загородный дом на шашлыки.
Мы, помнится, преподробно обсудили, что с собой взять, во сколько встречаться, какой трассой добираться – то есть всё, кроме судьбы, решающей за нас. А на следующий день с утра отрубили электричество во всём мире – ну, дальше вы знаете…
…Теперь Ким Чжуанович был, конечно, не тот, что прежде – странно, что он вообще БЫЛ. Из прежнего лощёного представителя инородческой элиты компрадорской России он превратился в обычного потрёпанного старого китайца, в каком-то смысле даже хрестоматийного «кули».
Он собирал хворост, складывал его в большую вязанку за спиной, и сперва не узнал меня. Принял за трупа, бросил связку, и попытался бежать, но куда ему: он был немолод даже в пору нашего знакомства, уж не то, что нынче…
Я в два прыжка настиг его и представился, улыбаясь как можно шире и дружелюбнее. Он смотрел узкими косыми глазами подозрительно, но уже без прежнего дикого ужаса. Мои отличия от зомби во внешности и в интеллекте были столь разительны, что Ким Чжуанович вынужден был их в итоге признать, и отвести меня в свой подземный «чайна-таун».
– Вы, ребята, даже из бомбоубежища Шанхай сделаете… – покачал я головой, входя внутрь.
– Вы, европейцы, всегда будете на нас косо смотреть! – сетует в ответ Ким Чжуанович, ставший от старости и горя расистом.
В подземном городе кое-как восстановили электрическое освещение, мигавшее и тусклое – видимо, на автономном генераторе. Тут царила какая-то затхлая толчея, столпотворение, жёлтая раса что-то по муравьиному перетаскивала, покупала, продавала, меняла, тут же жарила и парила, тут же, на ходу жевала. Вывески-иероглифы на картонках, тряпках, досках свешивались отовсюду к самой голове – человек среднеевропейского роста постоянно рисковал разбить тут лоб.
Ким Чжуанович что-то щебетал мне под ухо, но моё внимание привлёк торговец, «строгавший» на корейский манер морепродукты и отвешивавший порции полученной океанской слизистой смеси направо и налево, гомонливым соплеменникам.
Ко всяким креветкам и «морским капустам» я равнодушен. Но торгаш имел под рукой целую стопку бумаги – старые газеты, обрывки журналов, письма частных лиц, студенческие конспекты – словом, целый архив прошлой жизни. Боже, сколько бумаги нагородило прежнее человечество – двадцать лет, а этой массе всё сносу нет!
На самой вершине стопки оберток лежал белый лист бумаги… исписанный моим подчерком. Содрогнувшись от внутреннего страха, иглой пронзившего всё моё существо, я протянул было руку, чтобы прочитать собственный текст – но бойкий китаец уже схватил листок, завернул в него каких-то жирных, пачкающихся мидий и вручил покупателю.
Я вынужден был вмешаться, отобрал кулёк у приобретателя, и посмотрел текст. Так и есть! В мутных разводах рыбьей слизи, протекающий сквозь буквы, моей рукой было начертано уже знакомое по предыдущему сну «предупреждение ни о чём»:
«…демократического строя, гласности и плюрализма, ж…»
Господи, да что же это такое? Где я опять? Что же тогда сон, а что явь?
Пока я читал, подняв сверток над головой – к свету – вокруг меня назревал правовой скандал. Ким Чжуанович на своём щебечущем птичьем наречии пытался что-то объяснить «добросовестному приобретателю», тот не соглашался, видимо, требовал вернуть деньги или пищу, и был, в общем-то прав. Мне совершенно не нужны были его мидии или что там ему завернули? Но как отдашь эту склизь без кулька?
Я попытался выйти из положения, взяв с шаткого самодельного прилавка другую бумагу и задумав переложить морепродукты из своей записки туда, но взбунтовался уже продавец, что-то визжал и тянул бумагу назад…
Ким Чжуанович совсем потерялся в этой ситуации и даже отошел в сторону – чтобы не получить по шее вместе со мной.
Реальность казалась слишком устойчивой и последовательной, чтобы быть сном – тем не менее, «переходящая записка» свидетельствовала о другом. Разрываемый думами об этом тяжком парадоксе, я и не заметил, как оказался у их «японского городового».
«Японский городовой» выслушал обе спорящие, по канареечному щебечущие стороны – мою представлял следовавший поодаль, с очень виноватым лицом Ким Чжуанович, а потом обратился ко мне на ломаном русском языке:
– Зачем ты нарушил законы гостеприимства и обокрал этих уважаемых людей?
– Видите ли, ваша честь, не я обокрал их, а… как бы это сказать… они меня…
– Что?!
– Эта бумага принадлежит мне. Она написана моей рукой, и она мне очень важна… Доказать это легко – я могу дописать к тексту пару строк, и вы убедитесь, что это мой почерк…
– Речь идет не о бумаге, пришелец, а о порции «сунь мей». Ты хотел похитить чужой труд и съесть незаслуженный обед.
– Я не хотел. Вот, Ким Чжуанович подтвердит, я тут же взял другую бумагу, чтобы переложить «сунь мей», но (я вспомнил корявый язык юристов до катастрофы) – третье лицо, ваша честь, воспрепятствовало мне в осуществлении действий…
– Сложное дело! – схватился за бритую голову с косицей «японский городовой». – Надо идти к вождю!
– Может быть, нам просто разделить морепродукты и бумагу, да и разойтись восвояси? – предлагаю я, внутренне ощущая, что говорю нечто нелепое.
– Правосудие, пришелец, вершится отныне независимо от Ваших сделок с пострадавшей стороной! – чопорно отвечает мне «городовой».
В ближайшие пару часов мне предстоит выяснить, в чём заключается их «вывихнутое» правосудие: в самом диком и примитивном средневековом обряде «ордалий», когда решение спорного вопроса в поединке доверяется решению «суда Небес».
«Тиен ши» – как говорил Конфуций – «поклоняйтесь Небу»…
*** ***
Мы выходим в круг для спаринга. Это место стилизовано под восточные ринги единоборств в стиле кунг-фу или каратэ. Я снова прошу вождя уступить: я охотно отдам ему это записку, если он объяснит мне, в чём заключается её ценность?! Для меня этот клочок бумаги содержит смутную надежду выбраться из лабиринта сонных кошмаров, но для вождя-то что?
Соплеменники моего врага, разбившись в ряды по периферии зала, гомоном и улюлюканьем приветствуют яркое зрелище в своей серой жизни. Я снова начинаю думать, что это японцы, а не китайцы. Для китайцев у них чересчур густые брови – хоть, впрочем, я не антрополог. Вариантов много: это могут быть корейцы или манчжуры, мяо-яо или тайцы, кхмеры или алеуты – кто угодно с узким разрезом глаз. Всё смешалось в нашем мире…
Вождь сбрасывает свой халат и остается с голым мускулистым торсом. Он явно моложе меня, выше ростом, физически сильнее и убежден, что лучшим образом владеет техникой спаринга. Очень может быть, что это и так. Техникой я владею слабо, так, пару раз прочитал репринтную книжку про кунг-фу, про удары и болевые точки…
– Х-ха! – дико орёт-выдыхает вождь, и, со свистом разрубив воздух замком ладоней, бросается на меня, как бешенный комок яростной плоти…
…Тут я и выхожу в «серебряный туман»…
Серебряный туман – особое состояние духовного развития человека, когда он может включить своё сознание на «ускоренный прогон». Нормальное, среднее для человека течение времени останавливается, замедляется, разум фиксирует всё происходящее так, как это сделала бы кинокамера при «замедленной съёмке»…
Я двигаюсь и всё делаю так, как в обычной жизни – а вокруг меня еле-еле шевелящиеся бегуны или чуть дышащие драчуны – их секунда становится моей минутой.
Если сказать по совести, в серебряном тумане нет никакой мистики – без учета мистичности всего сущего, мистичности самой жизни. Каждый человек, достигая навыка в своём деле, совершает определенную операцию или комплекс операций в десятки раз быстрее, чем человек без навыка. Это и есть серебряный туман, доступный мастерам – ведь пальцев у них не добавилось, да и ума порой не прибыло. Теоретически – хорошенько подумав – их дело может сделать любой, только пока он будет приноравливаться, уйдет слишком много времени.
Особенно хорошо серебряный туман виден в движениях опытных шофёров: их моментальная реакция на дорожные ситуации – следствие как раз их «выхода» к более медленному времени. Невелика наука – рычаг скоростей переключать! Но только новичку не успеть его переключить ни разу за то время, когда мастер переключит трижды – и всегда «по теме».
«Серебряный туман» – это особая тренировка мозга, тренировка психики, следствие своего рода умственной заурядной «гимнастики», заряженной на реакцию…
…В моём случае гимнастика ума использовалась во зло, для боя и увечья. Ряды зрителей колебались, словно сонные сомнабулы, или даже ещё медленнее. Вождь надвигался на меня красиво, технично – но «по кадру в секунду» – как будто прорываясь сквозь вязкое и липкое желе. Я чуть отклонился в сторону от его могучего татуированного кулака, с ласковой медлительностью проплывшего мимо моего уха и выставил ему ногу.
Вождь споткнулся, и со всей энергией своего яростного броска растянулся на циновках тотама, потеряв, возможно, пару-тройку зубов при падении…
В «реальном», то есть среднепсихологическом времени восприятия скорость моих передвижений представлялось почти что невидимой, очерченной лишь смутно – наподобие бешено вращающейся лопасти самолёта. Я стараюсь не злоупотреблять движением, чтобы показаться просто умелым бойцом, а не каким-то магом и волшебником. Только лавров шарлатана мне не хватало!
Вождь медленно, очень медленно встаёт. Сперва он встаёт на четвереньки – и я успеваю всадить ему «пендль» под рёбра. Но он чертовски здоровый, этот китаец; он не опрокинулся, как я ожидал, а только медленно скорчил гримасу от боли.
Пока он продолжает вставать, я успеваю поразить ещё две его болевых точки, но всё-таки он оказывается в вертикальном положении. Руки его медленно-медленно описывают чёткие траектории ударов, которыми он хочет поразить моё лицо, но я всякий раз чуть-чуть уклоняюсь, (чуть-чуть – чтобы не укреплять в нём комплекса неполноценности) и наношу ему серию отрывистых резких ударов в нос, подбородок, по ушам.
Затем в пародирующем техничность обороте (я довольно неуклюж от природы) выхожу ему за спину и наношу удары по болевым точкам поясницы и позвоночника.
Силы у меня невелики. Я почти старик, к тому же никогда всерьёз не занимавшийся боевыми искусствами или просто спортом. Мне трудно свалить такого бугая, как Вождь «манчжуров» – даже почти обездвиженного.
Он всё ещё в бою. Лицо его полно изумления, глаза стали даже несколько шире, присматриваясь к смутным мельканиям моего контура. Он молотит воздух руками, рассекает его могучими ногами с невероятной, наверное, для обывателя скоростью. Но в моем восприятии это что-то вроде крыльев мельницы в ленивый и солнечный, безветренный день.
Я понимаю, что мне придётся бить его по глазам. Я не люблю этот приём – он очень жесток, но иначе я даже и не знаю, как свалить эту накаченную тренажерами тушу богатыря, моими кулаками – горошинами я могу его тыкать ещё часа с три без особого эффекта…
Одним пальцем я последовательно поражаю оба его глаза – не слишком сильно, чтобы не оставить за собой слепца, но и без лишней жалости. Затем снова делаю ему подножку и заваливаю на татами.
Спаринг окончен.
Я выхожу из серебряного тумана в обыденное время, и начинаю понимать, каким образом библейские Мафусаилы умудрялись жить по 900 и 1000 лет. Если замерять скорость движений в серебряном тумане, как обычную – выйдет на круг жизни и побольше…
Трибуны неистовствуют и ревут. Китайцы (или всё таки манчжуры) посходили с ума, вопят, прыгают друг другу на спины, чтобы лучше видеть, беснуются, свистят, размахивают руками, как тряпичные паяцы. Лица и рты искажены.
Я направляюсь к старику, чтобы забрать у него честно отвоеванную записку и протягиваю за ней руку, но…
Старик-японец в инвалидном кресле убирает свиток почти в невидимом режиме, перекладывая его из правой руки в левую. Я тянусь к левой руке – но свиток уже перекинут в правую и я снова не успел заметить – когда.
Я ныряю в серебряный туман, чтобы уловить его шкодливую старческую ручонку… Но Боже! И в серебряном тумане он продолжает двигать руками со скоростью, невидимой глазу! Я подныриваю до самых глубин торможения времени (на самом деле, конечно, ускорения реакции), до самой бездны, которой могу достичь. Муха рядом со мной почти перестает махать крылышками в воздухе, они у неё становятся подобны ленивым-ленивым вёслам…
Но, хоть я весь в поту и на грани апоплексии от напряжения, старик перекладывает мою записку по прежнему со скоростью, невидимой глазу…
– Теперь ты понимаешь – улыбается старик-инвалид, что за далью всегда даль…
– Зачем ты это делаешь? – спрашиваю я, поднимаясь к слоям более медленного реагирования и вздыхая, как после утопления.
– Я проверил тебя. Ты тот, кого я ждал.
– Зачем?
– Чтобы остановить машину, созданную такими, как ты, белыми безумцами, решившими поставить себя на место Бога. Ты владеешь техникой «Ян Ву» – «Туманные облака»… Ты не слишком хорошо ей овладел, а дерешься совсем скверно, но для машины белого человека этого достаточно…
– Старик… Отдай мне записку, мне нужно определиться с мирами и как-то выпрыгнуть из «кошмара-матрёшки», когда за каждым пробуждением начинается новый кошмар… Я не хочу думать ни про машину, ни про вашу Землю – вас ведь всё равно не существует, как бы вы там не пыжились…
– Но мы можем помочь друг другу.
– Чем? Если ты плод моего воображения, то зачем мне спрашивать что-то у самого себя? Отдай записку, и я уйду!
– Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, которая уснула. И проснувшись, он долго не мог понять, есть ли он Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он бабочка, или бабочка, которой приснилось, что она Чжуан Чжоу…
– Так вы китайцы?
– В прошлом сне мы принадлежали к народам мяо… Но ты же сам сказал, что это неважно. Однако, странник, запомни: спросить у самого себя никогда не лишне. Если ученик сформулировал вопрос учителю, то спрашивает уже у себя, потому что вопрос сам по себе содержит общий контур ответа. Если человек не умеет сформулировать вопроса – то и ответ для него прозвучит как пустой и сухой тыквенный барабан…
– Это спорный тезис… – смутился я.
– Если спорный, то попробуй научить собаку говорить! – улыбнулся лукавый мяо.
– Хорошо. Пусть будет по твоему. Что ты хочешь получить за мой клочок бумаги, который я сам же и написал? Надеюсь, не мою душу?!
– Душу машины белых людей.
– Ты обращаешься не по адресу. Отдай записку.
– Ты можешь её отобрать у меня. Ничего, кроме рук, мне уже не служит. Но подумай, странник, что она такое? Набор иероглифов, не больше. Ты должен разгадать не записку, а себя. Помоги мне убить машину, а я помогу тебе проснуться…
– Послушай, Мяо Ван (я льстил старику, называя его княжеским титулом), разве разумно просить у человека то, чего у него не было и нет?
– А разве у человека когда-то что-то было или есть?
– Почему ты вообще думаешь, что машину можно убить?
– А почему ты думаешь, что можно вообще проснуться?
Старик ставил меня в тупик своими переспрашиваниями. Не спорю, он был довольно образован в своей культуре, но совершенно безграмотен в европейской. Он полагал, что машина «Дип Рэд» – это такой умелый ниндзя, которого можно подкараулить в серебряном тумане с катаной под мышкой. Наверное, старик даже припас сакэ, чтобы спрыснуть усекновение головы «Зверю».
– Мяо Ван – зашел я с другой стороны – Пойми же, машину нельзя убить, потому что она никогда и не жила. Она мертва от рождения, точнее, от сотворения. Мы с тобой умеем двигаться немного быстрее, чем обычные люди, но на сколько? Может быть, в пять, в семь раз… Больше я не смогу… Ты, наверное, сможешь и быстрее, хотя я подозреваю, что твой паралич – следствие твоих экспериментов в «туманных облаках»…
– Я слушаю тебя… – благосклонно сморгнул старик дряблыми веками, и белая ниточка его бороды чуть заметно дернулась.
– Так вот, мяо ван! Машина может двигаться не только в 12 или 15 раз быстрее – но и в тысячу, и в миллион! Она совершает гигаметрическое количество операций в секунду! И если ты думаешь, что шустрый ниндзя спрыгнет на голову «Дип Рэда», и тот растеряется – ты очень сильно заблуждаешься…
– То, что создано воображением, воображением может быть и разрушено.
– Ты прав. Но у меня нет конфликта с «Дип Рэдом». Пойми, это – не мой мир! Моё вмешательство может вызвать катастрофические последствия для всего вашего континуума…
– Значит, ты хочешь вырваться один? Без всех нас? – спрашивает старик и его лицо-луна с узкими хитрыми щёлками глаз суровеет.
– Я должен вырваться вместе с живыми. Если ты живой, мяо ван, то помоги мне…
– Даже если для этого придётся тебя подтолкнуть к пропасти?
– Даже и если.
– Тогда проснись, Лувер. Открой глаза. Я приказываю тебе – открой глаза, и будь живым…
*** ***
– Вставай, милок! Хватит дрыхнуть! Хватятся тебя – трудодень не закроють… – будит меня старуха кержацких кровей. Я поднимаю голову с ситцевой подушки «в цветочек», и думаю, что, наконец, проснулся. Вокруг – грубая, потемневшая от времени изба, часы-ходики на стене, коврик с лебедями, фронтовые фотокарточки в простых рамочках…
Я, самое главное, всё прекрасно помню. Да, я здесь. Я и хотел быть здесь. Поехал в горы. Вчера заночевал у этой кержачки, мыкающей старческую вдовью долю, а она так обрадовалась гостю, что напоила меня самогончиком «на кедраче». Вот в голову-то и ударило – я же был в институте членом комсомольского агитационного кружка «За трезвость!» Надо меньше пить! А то от кошмаров этих сердце накроется или от пьянки печень лопнет…
Нечего к их нравам привыкать. Кержаки – они ведь отсталые. Тем более дикие горы вокруг…
«Лучше гор могут быть только горы»… Целинные горы – я здесь по комсомольской путёвке, в пору героического освоения целины, когда страна взялась и за горы, примыкавшие к непаханной казахстанской степи.
Я быстро собираю своё шматьё и отправляюсь в дорогу. Старуха крестит меня украдкой в спину и причитает насчёт начальства и трудодней, а я ухожу всё дальше – последний, самый глухой перегон моей жизненной трассы…
…Я ожидал увидеть здесь кого угодно: уголовников, «бичей», недобитое басмачество, неразоблачённых вредителей из бывшего «абвера» или американских шпионов, торопливо зарывающих парашюты. Но я никак не ожидал, что увижу тут… неандертальца.
А между тем я его увидел. В самый неподходящий момент, когда отошел с серпантинной дороге в кусты, по малой нужде, бросив у обочины рюкзак вместе со своей гладкостволкой…
Теперь неандерталец – голый, косматый, страшный – рылся в моих вещах по звериному, разбрасывая и обнюхивая разбросанное.
Когда я вышел из кустов, застегивая широкий кавказский наборный ремень, обезьяночеловек поднял на меня неровную, бугристую косматую морду и долго, зловеще маленькими глубоко посаженными кабаньими глазками изучал меня.
У меня не было с собой никакого оружия. Я мигом взмок от этого зловещего взгляда, но понимал: бежать сейчас —всё равно что застрелиться. Поэтому я стоял, стараясь волей своего взгляда перебороть обезьянью ярость, и не шевелился.
Говорят, гориллам нельзя смотреть в глаза – от этого они приходят в пущее бешенство. Но я сразу понял, что передо мной не горилла. Здесь гориллы не водятся, и зоопарки в эти целинные края ещё не заезжали.
Неандерталец отбросил мой распотрошённый рюкзак, поднялся на кривые низкие задние лапы и ударил могучим кулаком в грудь. Зарычал, ощеривая совершенно хищные жёлтые клыки. Мы были с ним вдвоём в целом мире – посланцы разных миров и разных эпох, в горах и тайге, где прежде, наверное, и не ступала нога человека…
Говорят, на медведя надо заорать – тогда он испугается и убежит. Но ведь это и не медведь… Да и голоса – чтобы орать – у меня не осталось, всё пересохло, как в пустынном колодце.
Я сунул руку в карман, где лежал трофейный дедовский портсигар. Время было тревожное, послевоенное, по рукам ходило целое море неучтённых «стволов», и люди всегда с уважением относились к этому жесту: рука в кармане потёртых «галифэ»…
Видимо, и этот обезьяночеловек что-то слыхал об огнестрельном оружии, потому что отступил от меня на шаг… Я щёлкнул в кармане портсигаром, как будто бы курок взвёл. Неандерталец отступил ещё на шаг – потом отвернулся и затрусил куда-то в лес – только шорох орешника по округе и пошёл…
Я осмотрел свои вещи. Гладкостволка, заряженная и в лучшие-то времена утиной дробухой, теперь совсем ни на что не годилась: обезьянин согнул её так, словно стремился узлом завязать, да силёнок малость не хватило.
Из другого барахла мало что осталось пригодным после столь сурового «таможенного контроля» хозяина тайги.
Я решил больше судьбы не испытывать и поспешил в правление овцеводческого колхоза со своим направлением. Вскоре меня подобрала попутная «полуторка» и шофер заметно побледнел при моём сбивчивом рассказе о дорожном происшествии.
– Это йети! – процедил он, сплевывая в окно зловонную самосадскую цигарку и поправляя широкую замасленную кепку. – Местные так зовут… Лесной человек, ни снега не боится, ни хрена…
…Председатель Колхоза, Егор Ильич Круглик (о чём свидетельствовала бумажная табличка на дощаной двери правления) принял меня невесело. Я рассказал, что остался без ружья, а в здешних краях это чревато…
– Вот гад! – ругался Егор Ильич. Он был невысокий, лысоватый, с пузцом, обтянутым рубашкой-распашонкой с вышитыми на ней «петухами». – Ты извини, товарищ учитель, что неласково встречаем, сам повидал нашу обстановку… Он ведь у нас прямо возле школы двух девчонок украл, семиклассниц, мы уже в райцентр послали, за воинской командой…
– Он что, людоед?! – похолодел я.
– А кто его знает? Его тут все бояться, а никто ничего про него не знает…
– Слушайте, Егор Ильич, до райцентра чуть не сутки пути… Если девочек можно спасти, то мы должны сделать это сами… У Вас есть оружие?
– Двустволка!
– Я про настоящее оружие спрашиваю, а не про охотничьи пукалки… Многозарядное, нарезное… В правлении обязательно должно храниться…
– Дык… храниться… вот, в сейфе, как положено… А как иначе…
– Доставайте!
Круглик открыл старый сейф со скрипом – в нём хранились только початая бутылка водки и пыльный стакан. Достал резную деревянную плоскую коробку – «зеки» в таких, ручной работы, ларях хранят «нарды», выставил на стол.
– От оно…
Я откинул два миниатюрных крючка (и правда, как шахматная коробка!) поднял покоробившуюся от старости и сухости крышку. Внутри под промасленной ветошью лежал в мягком гнезде буквально захлёбывающийся в тёмном низкосортном масле револьвер и двумя грядками торчали патроны к нему.
То, что патроны были – очень хорошо. Если бы их не было – думаю, к ТАКОМУ револьверу их было бы не подобрать ни в райцентре, ни даже в области.
– Егор Ильич! – смутился я – Скоро спутник в космос полетит, а у вас тут что?! «Смит и вессон», что-ли?
– Почему? – обиделся Круглик – Никакого ни виссона, ни крепдышина… Тульский револьвер, надежный… Я, правда, сам не пробовал, но предшественник рассказывал…
– Слушайте, да его за древностью даже в музей революции не примут! С такими тявками наши прадеды Шипку обороняли и Плевну штурмовали…
– Вовсе нет! – покачал Круглик головой, и продемонстрировал неожиданную для целинных гор эрудицию— Вот, товарищ учитель, клеймо: 1895 год. Уже не только Шипку, но и Геок-тепе взяли…
Я, сколько мог, оттёр скатертью револьвер, пачкая руки, разобрал его. Пистолет был простейшего устройства, даром, что здоровый, как «маузер», но малокалиберный. Подумав, как прискорбно будет, если его разорвет у меня в руке, я тяжело вздохнул и стал заряжать барабан.
– Чего вы стоите, Егор Ильич?! Берите свою двустволку, снаряжайте припас…
– А кто пойдет?
– Вам виднее…
– С нами на йети из местных никто не пойдет… Боятся… суеверные все… даже которые комсомольцы… Хороших комсомольцев в степь отправили, а нам сюда – чё туда не влезло…
– Всё равно искать их некогда! Пойдем вдвоём, на одну обезьяну это более чем… – я пощёлкал в воздухе пальцами, подбирая сравнение. – В конце концов речь идет о детях… Собака след возьмёт?
– Боятся его собаки…
– Егор Ильич, у вас тут явно культ личности недоразоблачили! К тому же обезьяний… Что же у Вас всё бояться да бояться… Ладно, некогда рассусоливать, берите свой «газик» и поедем к месту нашей последней встречи с этой нечистью…
– В лес, что ли? – голос председателя заметно дрогнул.
– Да. Он, свинья, ходит – сучья ломает, шерсть на кустах оставляет, да и вонючий он… Найдем, Бог даст…
– У-хх… Найти-то найдем…
– Вы коммунист, Егор Ильич?
– Да ладно, понятно всё! Ружьё заряжено, выезжаем…
Мы понеслись в раздолбанном, грохочущем на ухабах всей стальной плотью своей «ГАЗ»е навстречу своей судьбе. Бросили машину там, где уже проехать не представлялось возможности и пошли по следу «йети». Видимо, он шёл навстречу или блуждал кругами – мы наткнулись на него почти сразу.
Чудовище лакомилось с малинного куста. Заметив нас, зарычало и угрожающе бросилось вперед, помогая передними лапами задним. Я выставил древний револьвер перед собой, оттянув руку на всю длину и отвернув голову, инстинктивно защищаясь от возможного взрыва – и нажал на курок.
– Пук!
Жалкий щелчок был единственным следствием моих действий. Баёк пробил капсюль патрона, но от долгого хранения порох, видимо, выдохся. Я снова попытался выстрелить – и снова осечка…
Йети настиг меня – но возиться не стал: сзади поднимал две маслины чёрных дул председатель Круглик. Мощным ударом отшвырнув меня на хвою метров за пять, неандерталец прянул на Егора Кузьмича.
Со страху – или наоборот – из особой доблести – толстяк спустил оба курка одновременно. Йети получил по полной программе – его тушу развернуло в воздухе и вышвырнуло на каменистый склон, по которому он стремительно сползал вниз, к берегам горного ручейка.
Преодолевая слащавый привкус крови в груди, головокружение и слабость в ногах, я поднялся с пряной хвои и пошел, шатаясь, как с похмелья, к своему компаньону.
А его дела были тоже не блестящи: разряженную двустволку он выронил из рук, сел на землю, крепко прижимая рукой сердце: прихватило. Бывает. Возраст…
– Егор Ильич! Вы как? Таблетки с собой…
– С собой… В ягдаше… Достань, браток…
Еле-еле я отпоил его валидолом.
– Что же ты не стрелял?! – рассердился Круглик, почувствовав себя лучше. – Я ему, как порядочному, ещё и револьвер отдал…
– Сами стреляйте из своего револьвера! – хмыкнул я, передавая старику «грозное оружие». – Тут не патроны, а говно в гильзах… Вы бы ещё аркебузу в красном уголке держали…
– А-а… Вишь ведь как быват… Ну, не сердись, парень, я тебе в отцы гожусь… Подбил я его?
– Не без этого, товарищ Круглик. Там, на осыпи валяется, обезьяна драная…
– Пошли смотреть?
– Вы сперва лучше ружьишко перезарядите… На всякий такой пожарный…
Пока Егор Кузьмич возился с шомполом, пыжами и дробью, я сделал несколько шагов к осыпи, придерживая в руке бестолковый, но пригодный хотя бы для удара по мордасам «револьвер правления».
Мне послышался детский плач в кустах. Точно! Плачут две девочки! Сместившись вбок на два шага, я их даже увидел – две спины, перекрещенные белыми лямками школьного фартучка, плачут и обнимаются…
– Егор Кузьмич! – позвал я.
– Слышу, слышу…
– Осторожнее!
Но Круглик, добрая душа, и думать забыл об осторожности. Он проорал «Катя, Варя!», словно клич боевой и бросился обнимать девчат.
– Нашлись, милые мои! Не сожрал Вас Йети! Ну всё, всё, не плачьте, самое страшное позади… Мы сейчас повезем Вас в колхоз, а там…
Но девочки не были девочками. Это был – как позже мне приходилось читать – «оптический обман зрения». То, что казалось мне и Круглику обнявшимися девичьими фигурками, было тушей проклятого раненого обезьяночеловека, умевшего, словно леший, напустить туману и щебетать, как попугай, на разные тоны и голоса…
Егор Кузьмич понял это слишком поздно. Йети, возникший из зыбкого морока плачущих школьниц, схватил его лапой за грудную клетку – прямо сквозь кожу – и резким рывком вырвал её из тела. Круглик и охнуть не успел, как был уже расчленен, а Йети вырвал их его холодеющих рук ружьё и с чисто человеческой ненавистью стал ломать её об землю, гнуть и топтать. По крайней мере – подумал я – боль-то он чувствует…
Я стоял, ни жив ни мёртв – в нескольких шагах от безобразной сцены и только тискал в потной ладони деревянную, рубчатую, всю в насечках рукоять большого мёртвого револьвера.
Покончив с ружьём, отшвырнув могучим порывом тело покойного председателя, Йети снова посмотрел на меня. У него был гипнотический взгляд. Если это другая ветвь человеческой эволюции – думал я (в 50-е годы все были помешаны на теории эволюции!), то она, видимо, развивалась не через развитие механики и техники, как мы, а через развитие гипнотических и внушающих способностей. Действительно, зверя можно убить стрелой, дротиком, заманить в яму на кол – как мои пращуры – а можно и простым взглядом заворожить, заставить стоять на месте (как удав кролика), и потом жрать живьём, даже убить не удосужившись…
И если в древности, где-то на неандертальской стадии, человечество пошло «двумя рукавами», то и встреча, вроде нашей, становится исторической неизбежностью и даже «войной миров».
Йети смотрел на меня и тихонько рычал. Вся его морда и грудь были в крови – то ли от ран, то ли от живодёрства, разобрать я не мог. Зелёные огоньки безумных зрачков не мигали – и словно в детском калейдоскопе, передо мной сбивчиво мелькали смутные картинки: какой-то мужик в кепке, с лукошком грибов… Покойный Круглик… Баба с коромыслом… Сохатый с ветвистыми рогами… Медведь… Кабан…
Передо мной был гипнотический, психический хамелеон, пытавшийся затаиться на местности и принять какую-то безопасную для себя видимость. Но я слишком хорошо запомнил его место, и сбрасывал морок раз за разом усилием воли и самовнушением. Интересно отметить, что Йети это чувствовал…
Я не понимал, зачем он дурачиться, вместо того, чтобы просто растерзать меня: силы-то были явно не в мою пользу. Но потом догадался, что Йети очень не нравится одна чёрная дырочка, пляшущая между ним и мной. Именно чёрной дырочкой выглядит направленное на кого-то стволовое отверстие огнестрельного оружия…
Я снова нажал на спусковой крючок. Снова металлический лязг старого бойка – и прокрутка тульского, ручной выточки, барабана – опять незадача.
Хоть это и были пятидесятые годы, хоть я и был комсомольцем-целинником, хоть я и пытался всё объяснять «эволюцией» – на этом этапе я стал молиться давно забытому Богу. Мы все слишком отчетливо понимаем существование Бога в минуты, когда силы наши уже исчерпаны, а какие-то возможности и вероятности ещё остаются. Человек молиться тем искреннее, чем отчётливее понимает, что свои силы не безграничны…
Можете считать это совпадением, но молитва мне помогла. Следующий выстрел (четвёртый из семи возможных) револьвер совершил вроде бы нехотя, через силу, как старый-старый специалист, давно на пенсии, которого заставили слезать с печи и вспоминать навыки «по диплому».
Пуля ударила Йети, наверное, в пол-силы – большего от слежавшегося пороха и требовать невозможно, но ему этого хватило. Планы атаковать он оставил, и, подобно всем животным, легко переходящим от агрессии к бегству, предпочёл спрыгнуть с осыпи в орешники и унестись вниз, к ручью, промывать и зализывать раны.
Его низкий, утробный, обиженный на жгучую осу боли вой стлался над гористой тайгой бредовым наваждением.
Я всё же отделял себя от животных – по крайней мере, тогда. Перейти от атаки к бегству по мере целесообразности, без всяких угрызений совести и ущемлённого гонора я не мог. Я ведь «царь зверей»! Распаляемый фанаберией, я побежал вслед за Йети (откуда только прыть взялась!), вопя и улюлюкая не столько для него, сколько для самого себя: мне хотелось казаться больше и страшнее, чем я был на самом деле…
Путь Йети я легко определял по тёмно-вишнёвым, неестественным на вид каплям его крови. Возле каменного грота, заросшего космами моха и завешенного корнями верхних кустарников, я настиг Йети…
…Правда, не совсем Йети. Передо мной стоял молодой солдатик в порыжелой на солнце советской гимнастерке, с малиновыми погонами «СА». Пилотка на голове, голубой честный взгляд, открытое лицо… Я не мог застрелить его вот так, запросто, ничего не сказав и не перепроверить. Я видел, что капли венозно-густой кровищи подходили прямо к кирзовым сапогам солдатика, я помнил, что Йети уже побывал сегодня девочками, председателем и местной фауной, но всё-таки, всё-таки…
– Товарищ! – предупредил меня солдатик нормальным человеческим голосом – Стой на месте! Вдруг ты хамелеон?!
Я остановился, утирая отовсюду струящийся пот, но револьвер держал наготове.
– Ты кто такой? – спросил я, напуская начальственность в голос.
– Я? Из райцентра взвод прислали… На прочёсывание леса…
– Знаю про такое дело… – говорил я с предательским астматическим хрипом. Грудь гуляла на «развал-схождение», дрожь в руках и ногах никак не унималась.
– Сам откуда?
– Из Уфы…
Точно Йети! – подумал я про солдатика. Наверное, мысли мои читает – я сам уфимский, и он маскируется под уфимского, в земляка, мол, палить труднее будет.
– Как фамилия?!
И тут он называет мою собственную фамилию! Какова наглость «мага и волшебника» из дикого леса – взять и назваться мной!
Я всё понял. И всё-таки – очень уж хорошее было у солдатика лицо, чтобы стрелять в него. Я придумал очень суровую проверку, но постарайтесь меня понять и не осуждать за жестокость…
– Парень, домой, в Уфу, в отпуск хочешь?
– Естественно, не откажусь…
– Тогда подними левую руку вверх!
– Левую – завсегда! Правой я тебя на мушке держу, товарищ, а левую – изволь-пожалуй…
Он поднял ладонь, и я выстрелил в неё, как в мишень. Я уже знал, что в момент острой боли Йети не может удержать фальшивое обличье и показывается в своей подлинной шкуре…
Я был почти уверен, что красивый солдатик сейчас обернётся монстром тайги. Но солдатик очень по человечески загнулся, застонал, прижимая к животу пораненную руку. А вот за его спиной, в темноте грота, возникла искомая образина, как зловещий мираж – клыкастая, когтистая, широкогрудая. Я не сомневался, что Йети сейчас растерзает солдатика, как незадолго до сего порвал Круглика. Но Йети был без глаза…
…Да, без своего поганого, маленького глаза, вместо которого красовалось на волосистой морде кровавое месиво. Йети зашатался, как нетрезвый, покачнулся, пару раз взмахнул лапами – и повалился в хрустальные струи ручья. Вода обтекала его, уже мёртвую тушу, и уносила вдаль кровяные ниточки его подтёков…
Йети прятался в гроте – может, там было и его логово. Перед моим выстрелом – вот ведь совпадение – он решил напасть на солдата со спины. Моя усталая пуля 1895 года выпуска (может быть, чуть-чуть позже) прошила тонкую мальчишескую ладонь солдатика и по новому невероятному совпадению ударила прямо в глаз лесному чудищу. Это было для меня Доказательством Бытия Божия. Если бы малокалиберный и выдохшийся в коробке патрон попал бы в лоб или в скулу Йети, он бы его только разозлил. Войти внутрь ненавистного покатого черепа неандертальца пуля могла только при одном условии: если не встретиться с костью. То есть через два глаза, и может быть, через два уха. Вероятность такого попадания в существо, которое я даже не видел, равнозначна попаданию в бешенно скачущую белку слепым стрелком на расстоянии не менее 100 метров.
С тех пор я больше не верю в случайности. Я не выходил из комсомола, и не сжигал прилюдно членского билета (это войдет в моду много позже), но как то сразу отошёл от всех комсомольских дел… Может быть, и зря – неплохая в целом была организация.
С нас взяли подписку о неразглашении государственной тайны. И только тут я вспомнил, что мой отец имел шрам на руке, и на все мои детски вопросы отвечал: «понимаешь, сынок, я давал подписку никому про этот случай не рассказывать»…
Я постепенно просыпаюсь… Морок спадает, но постепенно… Да, ведь я мальчишка 70-х… Что и каким образом я мог делать в целинных горах 50-х годов, до своего рождения? Но если всё это сон и выдумка, если этого никогда не было – то откуда на ладони отца оказался этот «подписной» рваный шрам?!
*** ***
– …Проснись! Да хватит меня пугать! Давай, открывай свои дерьмовые глаза, а то «скорую помощь» вызывать буду!!!
Друг юности, Лёша Леднёв толкает меня в плечо. Я просыпаюсь из тенёт мутного и липкого сна-кошмара и оказываюсь в очередной версии мира, претендующей на то, чтобы я принял её за настоящую. Я начинаю вспоминать, что именно Лёха в своё время рассказывал мне о «кошмарах-матрёшках», в которых много раз фиктивно просыпаешься, но ужас играет с тобой, как кошка с мышкой, не выпускает, снова и снова заставляет понять, что ты проснулся не по настоящему.
Существование вполне жизнеподобного автора теории многослойных снов рядом убеждало в том, что это – наконец, пробуждение.
– Ты чего? Беленой отравился, что ли? – интересуется Лёха.
– А что?
– Спишь, как утопленник! Толкаю, толкаю… Ты чего-то плохо выглядишь…
– Да? Я так…
– Приехали.
Мы приехали со Леднёвым к нему в подземный гараж на окраине города, с выпивкой и закуской, как и положено «гаражным синякам». Приехали на его «Рено-Мегане», капот которого Лёха собирается превратить в стол. Пока он паркует машину, я пользуюсь случаем побродить туда-сюда. Пока мне тут кажется надежным: кирпич, как кирпич, врата как врата, стальные, с номерами. Посреди проезда – большой сливной колодец канализации, прикрытый неряшливо сваренной самодельной решеткой…
Под бетонными сводами гаражного кооператива – тускловатые люминесцентные лампы «дневного света», протянуты провода и узкие трубы. По одной из них деловито бежит по своей надобности жирная крыса…
Неприятно, но реально. Неужели дома?
На вратах одного из гаражей надпись мелом. Сама по себе надпись обыденная: «Срочно продам гараж». Таких – сотни и тысячи по стране, самодельных рекламок, и я не обратил бы на неё внимания, если бы не странная приписка:
«Срочно продам гараж. Задолбали эти зомби!»
Я обращаю внимание Лёхи на странную надпись. Он отмахивается – дескать, не обращай внимание, прикалываются. Однако, похоже, что и он озадачен.
– Давай, глотнём по малой, оно и проясниться…
Мы стоим над капотом «рено-мегана», пьём охлаждённый «Абсолют-цитрон» из «вспотевшей» в духоте подземелья бутылки матового стекла, закусываем резаным копчёным «чечилом», ломтиками ананаса и полупрозрачными ломтиками лососины, сочными грушами в самом соку. Наливаем себе ещё немного, чтобы «войти в норму».
– Ну чё? – скалится Лёха – малость въехал в тему?
– Какую? С зомби, что ли?
– Ты точно парами бензина траванулся…
– Лёха… Скажи честно, сколько я спал?
– Сколько? Да всю дорогу! Как убитый! Там на въезде в гаражи авария была, мужика насмерть сбило, я тебя толкал, показать, так ты и там не очнулся…
– Слушай, ты не представляешь, что мне снилось! Кошмар на кошмаре и кошмаром погоняет…
– Бывает! – посочувствовал мне Леднёв – Ты не рассусоливай, пей, давай, тару не задерживай…
Рюмка у нас одна – в виде хрустального сапожка – и гуляет в гараже навроде братины – по кругу. Я допиваю ароматную цитрусовую водку и тяну зубами гуттаперчевую массу солёного сыра-«чечила».
Лёха рассказывает мне о своих хозяйственных планах: заложить тут, в гараже, вонючий погреб, доставшийся ещё от родителей. Погреб постоянно заливает грунтовыми водами, и, чтобы достать оттуда банки, Лёхин отец приспособил насос. Нужно сперва откачать воду, а затем лезть по сомнительной лестнице в осклизлую мрачную дыру за «фруктом». Некоторые банки «домашних заготовок» лопнули, их содержимое загнило и воняет. Из – за этого в гараже бывает сыро и зловонно.
Если заложить погреб намертво, то проблема будет исчерпана сама собой. Лёха хочет верить в то, что кроме воняющих солёностей и варений в мире нет других проблем.
Истошный женский крик откуда-то издалека, из-за ворот подземного кооператива показывает нам, что это не так. Мы – два пьяных дурака – смотрим друг на друга, и, не сговариваясь, спешим совершать рыцарские подвиги.
Он хватает из машины бейсбольную биту, а я нащупываю в кармане рубленую рукоять газового пистолета.
Когда мы выбежали под небо с круглой, жёлтой, неестественно крупной Луной – женский крик уже оборвался. Мы стояли под звёздами, как говорят в народе, «охреневшие от собственной крутости», и искали неприятностей.
Места тут, в гаражной местности, смутные. Мне никогда не нравилось в этом краю – какие-то промышленные ангары, автозаправка, сбоку примыкает совершенно чёрный по ночам еловый массив. «Индастривал пейзаж», хаос бетона, металла и обломков техносферы – самый привычный антураж для всякого рода хулиганья, наркоманов и панков.
Но Лёха, человек весьма состоятельный, мне кажется, не случайно цепляется за это далёкое от дома место; Он человек рисковый, с авантюрной жилкой, и явно не из тех, кто думает об избежании «всяких эксцессов».
– Ночка, мать ити! – ёжится он под свежестью напористого ветра. – Как в негра в заднице…
Тут он не прав. Ночка, в общем-то светлая. Просто в этих местах слишком много глухих теней от ангаров и глухих стен, куда не то что Луне – Солнцу-то трудно пробиться.
Мы идём во тьму, идём на звуки какой-то глухой возни и рычания, смахивающего на собачье. Я выпускаю газовый патрон по направлению чавкающих звуков: если это псы, то они разбегутся от вони горчичного газа. Но никакой перемены, поскуливания или повизгивания в направлении выстрела не происходит.
Лёха (как будто специально экипированный для таких приключений – это в его характере) включает фонарик. Жёлтое лезвие света вспарывает черный бархат ночи, с заметным, кажется, скрежетом.
– А может, стоит всё-таки отвести грунтовые воды? – спрашиваю я у Леднёва, возвращаясь к волнительной теме «родового наследного погреба».
– Знаешь, это обойдется дороже всех солений и варений, которые я смогу разместить в погребе в промежутке лет на триста…
Мы нашли источник возни. Некто склонился над упавшей девушкой и что-то делает… В прорези фонарного света он отчетлив и контрастен со спины – замызганные тертые джинсы, клетчатая фланелевая рубашка.
– Ё-моё! – бледнеет Леха – Лувер, это же тот чувак, которого на разъезде машиной сбило…
– На каком разъезде?
– Да я тебе говорил, ты дрых тогда…
«Чувак», наконец, почувствовал пристальное внимание к своей персоне и обернулся. Не реагировать далее было бы просто невежливо с его стороны.
Жуткая перекошенная и абсолютно-бледная, какая бывает только у покойников морда его была вымазана багровыми подтёками. Шея казалось начисто свёрнутой, глаза глядели совершенно безумно, как у кальмара или спрута. Он оскалился на нас и зарычал по звериному, при этом мне пригрезилось, что пасть его раскрывается много шире обычного человеческого челюстного раствора.
– Мама миа! – выдал Лёха почему-то по итальянски.– Тебя же, парень, патологоанатом простыней закрыл…
То, во что чудовище превратило свою жертву, лучше и не пытаться представить. Вся верхняя часть туловища девушки превратилась в какое-то кровавое, словно бомбой развороченное месиво.
– Ах, ты урод! – рассвирепел Лёха, поднимая свою биту и делая шаг к чудовищу. Не лучшие чувства у монстра вызывал и сам Лёха. Он подпрыгнул, как на пружинах, и побежал к Леднёву с рычанием леопарда и искрами, пляшущими в глазах головоногого…
Два моих газовых выстрела не произвели на трупа никакого впечатления.
– Да не перди ты! – одёрнул меня Лёха, морщась и размахиваясь. Точный удар в голову сместил траекторию чрезмерно активного покойника много в сторону. Дубина со свинцовым набалдашником могла бы убить и медведя, но чудовище, сбитое кем-то на разъезде у гаражей, даже не выпало в обморок.
Оно лишь взмотнуло головой в колючем кустарнике, куда отлетело и снова рванулось в атаку. Его скорости мог бы позавидовать и хищник. Если бы не колючий шиповник, десятками игл вцепившийся в одежду трупа, не задержал бы его на доли секунды, то Лёха точно не успел бы перегруппироваться для нового удара.
Уверенные движения дубинщика на этот раз привели к выпадению глаза – к счастью, не у самого дубинщика, а у агрессора. Мёртвый глаз повис на длинной белой нити, подобно моноклю на цепочке.
Лёха воспользовался лёгким замешательством монстра, и долбанул второй раз, уже целенаправленно, окончательно лишая «циклопа» зрения. Тот не стал менее свиреп – но явно потерялся в пространстве, как и любой слепой – стал кружить, выставив руки перед собой, хватать, что попало, пробовать на зуб и выбрасывать.
Леднёв расстегнул свою кожанку и я увидел длинный нож-мачете в великолепном, на бухарский манер расшитом чехле. «Да, Лёша!» – подумал я – «Это явно твой звёздный час!»
Лёха поймал трупа за волосы и чёткими, подрубающими движениями, с двух сторон, отчленил голову, выбросил её, как мяч, подальше в кусты. Тело не умерло, нелепо расшатываясь, побрело куда-то в сторону, взмахивая конечностями, словно крыльями. Подобную жуть я видал только однажды, в детстве, в доме отдыха «Сосновый бор», где наш сторож отрубил петуху голову, а тот вырвался, и ещё пару минут носился по двору, как зачумелый, роняя на изумруд травы рубиновые капельки крови…
– Ты видел?! – торжествующе спросил Леднёв.
– Угу!
– Однако…
Мы побежали в сторону залитой светом бензозаправки, одержимые порывом звонить в милицию и в епархию РПЦ – трудно сказать, в чьей компетенции была эта чертовщина.
Но на бензозаправке мы не застали ничего живого. Из раскрытой кабины грузовика свешивалось изуродованное тело водителя: ноги в кабине, а голова уже на асфальте. Фонари всюду горели ровно и трезвяще, отгоняя призраки и грёзы, но за окошечком диспетчера розлива было пусто и всё заляпано какими-то пятнами и разводами.
– Может, у них тут и нет никакого телефона? – предположил Леднёв, и я с великим облегчением согласился с ним. Действительно, с чего бы тут быть телефону? Навряд ли его сюда тянули… Предупреждать об опасности больше некого. А в гараже нас ждёт «рено-меган», в котором лежат наши сотовые телефоны, способные связать по роумингу с целым миром. Да, это дороговато – долгие объяснения по сотовому – но мне казалось, что обстановка не располагает думать об экономии.
– Дуем в гараж! – решил Леднёв.
Мы понеслись, как говориться, «быстрее лани». Куда только девались наши одышка и одутловатость телесной «полноты» – мы оба были по фигуре отнюдь не «балеро»…
…В боксе нас всё застало таким, каким было оставлено: и водка в хрустальном «сапожке», и закуска ломтиками, и банки с протухшими соленьями, которые Леднёв извлек из погреба в прошлый свой приезд.
Первым делом Леднёв связался с женой – велел ей сидеть дома безвылазно, и никому, кроме него не открывать бронированной двери. Я видал их квартиру на пятом этаже – там можно пересидеть даже оккупацию.
От дела спасения близких мы перешли к спасению мира в целом.
Пока Лёха набирал милицейский номер, я решил хряпнуть ещё разок «Абсолюта» – неизвестно, в каком мире я окажусь в следующий раз, это учит ценить комфорт.
– Слушай, это маразм какой-то! – возмутился Лёха и протянул мне свою «трубу» «мобилы». На экранчике набора значился милицейский номер – «02».
– Извините, абонент временно недоступен… Извините, абонент временно…
– Что за хрень такая! – ругался Лёха, доставая из багажника зачехленный карабин. – Ты хоть что-нибудь понимаешь? Как это «02» может быть «временно недоступен»?! Бред какой-то… Ты как считаешь?
– Раз, два, три, четыре… – пересчитывал я патроны в его патронташе. – Что бы там ни было, тебе, Лёха, лучше зарядить полную обойму, и не забыть вставить восьмой добавочный прямо в ствол…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/chitat-onlayn/?art=70708408?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Александр Леонидович Леонидов (Филиппов)
Настоящий ужас всегда скрытен и психологичен. Это экзистенциальный ужас, который и напугать-то может только думающего, развитого человека. Ужас не в реках крови и не в прилюдных расчленениях тел, а в том иррационализме, который стоит за всем этим. Исходный ужас – интеллектуален. Это – ужас безвыходного софизма, ловушки для разума – вот тот ужас, которому посвящает произведение Александр Леонидов в 2007 году. Книга содержит нецензурную брань.
Лабиринт Агасфера
Фантастика, ужасы, былое и думы
Александр Леонидович Леонидов (Филиппов)
© Александр Леонидович Леонидов (Филиппов), 2024
ISBN 978-5-0062-9012-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Руслан Исхаков (Хоккинс)
БЕЗДНЫ ЛЕОНИДОВА
Перед Вами – «Лабиринт Агасфера», произведение Александра Леонидова, которым он попрощался с художественной литературой, произведение, которое – если и не самое сильное авторское открытие, то по крайней мере, несущее на себе отпечаток зловещего эпитита: «последнее».
Говорят, что когда Данте Алигьери выходил на улицу, то мальчишки в ужасе разбегались от него, восклицая: «Он побывал в аду! Он побывал в аду!». Наверное, то же самое можно сказать о Леонидове – тематика и стилистика его такова, что он, как Данте, кажется, спускался в преисподнюю свидетелем…
Традиционный жанр, который обычно приписывают леонидовскому «Агасферу» – хоррор, ужасы – не совсем точен и совсем не верен. С этой точки зрения Леонидов совсем не страшен, и, следовательно, был бы слабым писателем, если бы стремился кого-то напугать. «Агасфер» беден спецэффектами, да и привычного к жанру ужасов читателя разочарует их скупая лаконичность у Леонидова. Но цель – не та…
Настоящий ужас всегда скрытен и психологичен. Это экзистенциальный ужас, который и напугать-то может только думающего, развитого человека. Ужас не в реках крови и не в прилюдных расчленениях тел, а в том иррационализме, который стоит за всем этим. Исходный ужас – интеллектуален. Это – ужас безвыходного софизма, ловушки для разума – вот тот ужас, которому посвящает произведение – последнее свое перед уходом из литературы произведение – Александр Леонидов.
Наверное, кто то скажет, что прощатся «ужастником» – дурной тон. Но что взять с человека, при жизни спускавшегося в ад? В каком ином стиле мог он составить своё литературное завещание? «Агасфер» не вызвал не разговоров, ни споров, как прошлые произведения Леонидова. Его не поняли и не приняли. Элитарный читатель как бы оскорбился, посчитав прощание Леонидова шагом к безвкусице масскультуры, а человек массы «ниасилил» Агасфера, потому что тот показался слишком заумным и не слишком, строго-то говоря, пугающим…
Казалось бы, окончательным приговором «Агасферу» стало мнение высказанное А.А.Стрельцом: произведение составлено из «очистков» от прошлой литературной кулинарии Леонидова, в него на скорую руку адаптированы этюды разных лет или просто автономные рассказы известного автора. Однако мнение Стрельца, вообще всегда довольно спорное и одиозное, и в данном случае не должно стать «последним словом».
Хотя исходным материалом, возможно, действительно послужили отрывки и новеллы более ранних периодов творчества Леонидова, сама суть и душа «Агасфера» вовсе не в них, конечно, а в переходах. Лучшим опровержением литературоведческого заблуждения А. Стрельца может служить тот факт, что из конечного текста «Агасфера» Леонидов изъял новеллу о Баннике, пугающую историю о «банном домовом», грозящем заживо ободрать кожу с беспечных купальщиков. При этом Леонидов считал новеллу о Баннике достаточно сильным эпизодом, однако не входящим в строй и композицию «Агасфера». Следовательно, Леонидов не просто «сварил все очистки в одном котле», а выстраивал стратегию произведения, его внутреннюю логику.
Если расчленить новеллы «Агасфера» в простой сборник рассказов, то они много потеряют. Это доказывает, что единство произведения – не просто волюнтаризм уходящего автора, (действительно страдавшего склонностью к крупным формам), а необходимый компонент художественной логики.
При этом бедность философскими отступлениями (относительно прежних работ Леонидова) в «Агасфере» – скорее кажущаяся, чем реальная. В этом отношении очень важно отметить мнение выдающегося писателя и мыслителя начала века, Эдуарда Байкова, который, со всей присущей ему проницательностью, отмечал: «Агасфер», возможно, самое философское произведение Леонидова, однако автор в нем «хитрит», вуалирует философию бытовыми обстоятельствами и поворотами сюжета.
Что ж, великим виднее… Нам же «Агасфер» кажется, напротив, очень человечным и близким личностному опусом. Что и доказывает его неоднозначность, требующую собственного прочтения…
ЛАБИРИНТ АГАСФЕРА
(Однажды проснуться)
…Я просыпаюсь в ледяном поту, весь растерзанный ужасом, и лихорадочно шарю вокруг себя руками…
Я должен, наконец, понять, что тут к чему. Когда я сплю, а когда нет. Потому что записка на трюмо. Я точно помню, что написал её в надежде разобраться, наконец, написал в обоих мирах и положил в «точку схождения», в то место, которое регулярно проявляется в обеих реальностях.
Это место – дурацкое старое трюмо. Его привез в качестве трофея мой дед из Германии – если у меня был дед, если мы воевали с Германией, и если вообще есть на свете какая-то Германия…
«Бурная эпоха «оранжевых революций», агрессий, осуществляемых формально демократическими странами (В Югославии, Ираке и др.) заставляют российское учительство всерьез задуматься над кардинальными изменениями базовой части теории демократии и методологии её привития ученикам.
С 1985—91 годов, то есть с момента становления в Российской Федерации демократического строя, гласности и плюрализма, ж…»
Да, мне именно эта самая «ж…». Это – текст моей записки, записки, которую погибающий человек, размазанный между двумя мирами, написал самому себе. Неужели нормальный человек – в здравом уме и твердой памяти – мог бы написать себе такое в момент колебаний в вопросах собственно Бытия?!
Почему, Господи? Почему со мной? Почему мне звонят люди с того света, и я выполняю задания, которых не получал, на работе, на которую никогда не устраивался? Почему я помню то, чего никогда не было и в помине, и забываю то, что случилось со мной пару секунд назад?
Если я в сумасшедшем доме, то ведь должен же я хоть иногда приходить в себя и просыпаться в больничной палате! Я согласен уже и на это, лишь бы точно зафиксировать своё местопребывания в реальной Вселенной. Или таковой более не существует? Её упразднили? Может быть, это и называется концом света?
«Бурная эпоха «оранжевых революций», агрессий, осуществляемых формально демократическими странами (В Югославии, Ираке и др.) заставляют российское учительство всерьез задуматься над кардинальными изменениями базовой части теории демократии и методологии её привития ученикам.
С 1985—91 годов, то есть с момента становления в Российской Федерации демократического строя, гласности и плюрализма, ж…»
Тут есть какой-то смысл, какой-то код. Ведь это точно писал я, и отложил на дедовское трофейное трюмо, в надежде, что проснувшись, либо не найду бумажку вовсе, либо найду и сумею её расшифровать.
Но ведь это какой-то отвлеченный бред! Революции почему-то названы «оранжевыми»… К этому невозможно привыкнуть. Просыпаешься в холодном поту, на мокрой и скользкой подушке – и осознаёшь, что Гитлер, оказывается, победил в 1941 году, что вся твоя память о деде с трофеями – странный, фантасмагорический сон, сублимация славянского комплекса неполноценности перед победителем.
НСДАП пережила фюрера, и затем повернула к демократии: осудила культ личности Гитлера, даровала автономию оккупированным территориям, ввела в России трехцветный флаг и двуглавого орла, переименовала гауляйтера в Президента. Возникли рассуждения про избыточность государства в экономике, пошли кооперативы, затем из конституции выбросили статью о руководящей и направляющей роли НСДАП и теперь в глобализирующемся мире «великого нового порядка» третьего райха введено многопартийное управление. Гласность и плюрализм, новое арийское расовое мышление и теории коэволюционности заполнили собой пространство и…
Я был нормальным советским парнишкой. Я родился и вырос в обычной устойчивой жизни, в которой, казалось, всё было предопределено и не сулило на будущее приключений. Мир исчерпал к ХХ веку свой лимит неопределенности…
Но однажды я уснул – и проснулся где-то здесь. Говорю «где-то» – потому что детали меняются с каждого сна, оставляя кое-что устойчивым (как это облезлое трюмо деда), но координируясь и сменяясь с каждым разом в чудовищном порядке хаотической неопределенности.
– Ну ты идёшь, или нет? – слышу я голос с кухни, голос своего двоюродного брата Никиты, худого, небритого, странного человека, которого никогда не понимал.
– Иду, иду…
– А то скажи где… Я сам сварю…
– Чего?
– Ты спишь на ходу, что ли? (хороший вопрос, браво, Никита!) Ты же меня пельменями угостить обещал…
– Никита, возьми в холодильнике, там, в морозилке… Кастрюли в шкафчике над раковиной…
– Где?! – по тональности вопроса я понимаю, что мой брат Никита не видит никакого шкафчика над раковиной. Более того, тональность вопроса предполагает, что мой брат Никита никогда в обозримых пределах на моей кухне шкафчика над раковиной не встречал…
– Извини, брат… Мне, что-то, не по себе…
– Я заметил.
– Посмотри сам. Кастрюля не иголка, в ж..пе не спрячешь…
– Ладно…
Брат Никита гремит кастрюлями, отыскивая среди них подходящую для пельменей, которых, естественно, может не оказаться в холодильнике, так же, как не оказалось и посуды со шкафчиком над кухонной раковиной.
У нас с ним матери – родные сестры. Матери – и те очень разные, хоть и родная кровь. Отцы же вообще бесконечно далеки друг от друга. Мы с ним тоже получились очень разные.
Я – безобразно толст. Он – наоборот, болезненно, безобразно худой. С головой у нас у обоих неполадки – но я тихо-шизоидный, а он гулко-параноидный типаж. Он получает 700 дойчмарок, и всё время жалуется мне на то, как это мало. Я же все время мечтательно подумываю о том, как было бы много получать 300 дойчмарок. У него из-за 700-ста дойчмарок ушла жена. Я, наоборот, обретя доходик марок в 150, счел возможным подумать о женитьбе.
Дело не в марках, конечно; они просто лежат на поверхности и как-то зримо, арифметически отражают разницу миров, в которых мы с братом живем, рожденные когда-то от одного родового корня.
У него – какие-то свои представления о большом и маленьком, о «хорошо» и «плохо», о верхе и низе, о черном и белом. По крайней мере, мы не понимаем друг друга, когда говорим одними и теми же словами об одних и тех же вещах.
У него не только свои запросы и покупки (что было бы понятно!) но и цены какие-то свои. Например, на еду он почему-то тратит в десять раз больше меня, хотя это я в семье толстый, а он питается одними диетическими кашами. Костюма дешевле 300 DM он никогда в этой жизни не находил, хотя все мои костюмы дешевле 100 DM, и при этом куда качественнее и приличнее выглядят, чем его, что он и сам признает при редких встречах.
Относительно его планов и прожектов на жизнь я могу сказать только одно: мне они кажутся верхом идиотизма, и я точно знаю, что вздумай я провернуть нечто такое – давно бы оказался банкротом на бобах. Но у него его прожекты почему-то выгорают, что лишний раз доказывает всю разницу наших миров…
…Тревожный зуммер телефона. У меня радиотрубка, она в кармане домашних трико. Это моя тётка, Аврора Револиевна, педагог со стажем и душа-человек.
– Алло! Лувер?! А почему ты дома? Все твои уже у нас… Ты чего же родню обижаешь?
В некоторых версиях мироздания моя семья дружна, а в некоторых – не очень. Поскольку я иду по пронизывающей поперечной, в моей странной жизни это оборачивается странными полосами трогательной заботы и ледяного равнодушия со стороны «фамилии». Впрочем, Аврора Револиевна во всех версиях держится молодцом, общается со мной педагогично и всё время сует леденцов, как маленькому, каким я, при её возрасте, видимо, и кажусь…
– Лувер, ты всегда такой! Сам больше всех орал – «поминки, поминки» – а сам забыл к вечеру, что нужно прийти… Это все твоя несобранность и рассеянность, сколько раз я говорила…
Я начинаю что-то припоминать. Я действительно должен был в похожей версии мира пойти вечером на поминки… по кому же? По какому-то близкому родственнику, которого при жизни никогда не понимал, и потому заглаживал эту свою вину перед покойным усиленными поминовениями…
Впрочем, число родственников у меня тоже варьируется в зависимости от качества версии мира, и не исключено, что в этой того просто не предусмотрено… Хотя… Как же тогда Аврора Револиевна с приглашением – и «все уже собрались»?
Брат Никита вышел из кухни, стоит в дверном проеме и как-то недобро смотрит на меня. В одной его руке пустая кастрюля, в другой – нож.
– Лувер, я так и не нашел там никаких пельменей… Только вареники с картошкой… А я хочу пельмени… С МЯСОМ!
Я машу ему рукой – мол не отвлекай, а тётка щебечет, что мне нужно ехать на поминки немедленно.
– Аврора Револиевна – спрашиваю я, пытаясь вывернуться из неловкого положения перед братом – А у Вас пельмени будут? С МЯСОМ?
– Будут, будут! – уверяет тётка – Обязательно будут…
– Тогда я Никиту с собой захвачу, Вы не возражаете?
По кому же всё-таки эти тёткины поминки? Кого же из родни я не понимал и считал себя виноватым?
– Никиточку обязательно возьми – соглашается тётка – у тебя портрет-то его получше, чем мой… Ой, касатик наш… (она громко всхлипывает в трубку, сдерживая рыдания) Как рано, как рано… Ты возьми портрет, который в рамке, у меня чёрная ленточка есть, перевяжем…
– Так у неё есть пельмени С МЯСОМ? – спрашивает Никитик, приближаясь ко мне на шаг…
«Бурная эпоха „оранжевых революций“, агрессий, осуществляемых формально демократическими странами… в Российской Федерации демократического строя, гласности и плюрализма, ж…» – пролетает в мой голове сокращённый текст записки самому себе. Я не думаю, что в ней есть какой-то смысл. Вообще ни в чём нигде нет никакого смысла – вот что я думаю.
Почему-то у моего брата Никиты землистый цвет лица и какая-то нездоровая бугристость кожи. А в глазах – гнев, гнев на недостойного родственника, который даже жалкими пельменями угостить не смог, хоть и обещался неоднократно и самым убедительным образом…
Да, всё-таки я никогда не понимал своего брата. И, наверное, уже никогда не пойму – если разучился видеть смысл в записках самому себе.
Чьи же там поминки? Неудобно ведь спросить так напрямую у Авроры Револиевны – ещё в дурдом упечет за подобную неадекватность.
– Так я приеду с Никитой? – переспрашиваю я, чувствуя какую-то внутреннюю тревогу – словно бы мы говорим на двух разных языках.
– Привози, привози! – соглашается тётка, хотя прекрасно знает, что у меня нет машины, и «привезти» я его не могу – не в сумку же его положить! Мелочь, но мелочь, которая заставляет меня напрягаться, потому что тётка – педагог, и была – по крайней мере, во всех предыдущих версиях – очень точна со словом.
Я поднимаю глаза на Никиту – он уже совсем близко и зеленые глаза горят каким-то огнём. Вечно он устраивает эти шуточки и фокусы, с детства меня подкалывает и разыгрывает…
– Представляешь – говорю я ему, закрывая ладонью трубку – Там чьи-то поминки, а я забыл, чьи…
Никита широко и клыкасто улыбается – за счёт худобы лица у него всегда зубы казались крупнее обычного – и вдруг закидывает голову, начинает дико и истошно выть – по волчьи или по собачьи…
*** ***
…И от этого воя я просыпаюсь. Этой ночью, в развалинах, когда нестерпимо выли одичавшие псы-людоеды, и снилась чёрт знает какая дребедень из далекого, невозвратимо минувшего прошлого, мне вспомнился доктор Эдвард Копаньский. В отличии от многих, ненавидящих покойного доктора, даже от тех, кто выкопал его из могилы и станцевал там джигу, я знал Копаньского лично, и оттого не так сильно его ненавидел.
Эдвард был человеком только условно. Для него пришлось делать инвалидное кресло по специальному заказу, потому что в стандартное он не вмещался. Некая путаница костей, где плечи, где спина – понять невозможно, но голову он держал прямо, и глаза смотрели вполне разумно.
Эдвард был «существом». Он существовал – но не жил. Как-то распрямить то, что он из себя представлял хотя бы для ровной посадки в кресле, хотя бы для того, чтобы голова торчала не над спиной, а над ключицами, не могла наша «передовая нано-медицина», которая, по правде сказать, вопреки рекламе, вообще мало что могла…
Копаньский происходил из богатого польского рода, когда-то шляхетского, затем масонского, жил (если это можно назвать жизнью) в Париже и был парижанином в третьем поколении. Его дед, гроссмейстер важной регулярной ложи, умер в возрасте 120 лет, да и то потому, что был застрелен при конфликте с якудзами. Его отец умер в возрасте 116 лет, ещё вполне моложавым человеком, потому что погиб в автокатастрофе…
Причина проста: вампиризм, модные тогда «стволовые клетки», вытяжки из нерожденных младенцев, превращающие лицо человека в жуткую бугристо-землистую маску, но тянущие и тянущие его земное бытие, как резину…
Эдвард родился таким, каким должен был родиться при этой «селекции». Он родился «головой на подставке». Не знаю, прилагалась ли к голове живая душа, но мыслила голова необыкновенно эффективно. Однобоко, но продуктивно мыслила! Копаньский с детства жил в компьютере, потому что по-другому жить и не мог. Мир компьютерного программирования стал для Эдварда главным, а может, даже и единственным миром…
Когда (ещё в той, минувшей жизни) я работал консультантом во дворце Наций в Женеве, я предупреждал, что Эдварда ни в коем случае нельзя привлекать к работам по конструированию «Дип Рэд». Я говорил о физической неполноценности доктора, как о возможной причине его затаенной враждебности к миру.
На меня тут же вылили ушат грязи, обвинив в «диффармации, сегрегации», и по моему, даже в «расизме». Шеф кричал, что и среди калек бывают святые люди, и среди здоровых – маньяки, и формально был прав. Я же не спорю – бывают… Но речь шла о «Дип Рэд», об «абсолютном разуме», который я предпочитал называть «Абсолютной энциклопедией», не слишком веря в возможность создать искусственный разум…
…Моему московскому покровителю, олигарху Баруху Коноплецу, поставившему меня на это место, было наплевать, да и не мог он ничего изменить, если бы даже захотел. Не его, заправляющего водочными потоками в спивающейся стране, было это дело – кадровые чистки во Дворце Наций Женевы…
…Хотя устроить туда пороху у него хватило. Писатель Максимов как-то высказался, что «осознать мир, как заговор —значит, потерять надежду». Я осознал, пройдя по кругам ада этой «уровневой мафии» альянсов, сговоров и разменов. Но почему – «потерять»? Может быть, наоборот? Обрести? Найти сатану – и доказать тем самым существование Бога. Понять, что наш мир так ужасен, не потому что таким создан, а потому что искажен огромным заговором…
…Мой покровитель был плотью от плоти звериного оскала «заговора взаимных гарантий». Наглый и распущенный с теми, кто слабее, он становился раболепным в любом кабинете Администрации президента. Тупой, малообразованный, узко-ограниченный человек, он страдал традиционной болезнью богачей – «синдромом всезнайки». Точнее, страдал не Барух, а окружающие. О чём не зашла бы речь в его присутствии – о микробиологии или религии, об восточных единоборствах или высшей математике – всюду последнее слово Коноплец оставлял за собой. Его прозвали «Барвинком» – за семитскую кучерявость и лучистый детский взгляд – взгляд у него и вправду был детским, от природы, но это был злой ребенок…
…И всё-таки жизнь сложнее правил. Однажды я при десятках свидетелей дал Баруху в морду. И этот вздорный тиран, стиравший в порошок подчиненных за неловкий оборот речи, не только не засудил меня, но и пробил мне повышение.
На одном из светских раутов в особняке «Барвинка» в центре столицы, я замешкался, паркуя автомобиль. Стояла лютая зима – деревья трескались. Я шёл с паркинга, зябко поёживаясь в дублёнке – и вдруг меня за руку ухватило некое кукольное существо – полуобмороженная старуха, в каких-то обмотках, в пуховом платке, с сизыми губами, беззубо-шамкающая:
– Что тебе, бабуся?
– Сынок… Не пускают… Я к Коноплецу… пенсионный фонд… Вся пенсия… Жить-то на что?! Сынок, проводил бы ты, а? Жить-то то как?! Дети спились, пенсию забрали, а? Замоливи словечко…
Она так и сказала – не «замолви», а «замоливи». Мне стало нестерпимо жаль это существо, одетое, будто немец в Сталинграде, в какие-то бахилы на ногах, в какие-то латаные варежки. Я всё понял, конечно – дела Баруха я знал неплохо: он создал негосударственный пенсионный фонд, украл оттуда все деньги, цинично «кинув» десятки тысяч беспомощных стариков… или, если точнее, даже не «цинично кинув», а просто о них не думая, не подозревая, кажется, о каком-то их существовании вне виртуального пространства банковских счетов. Дети старухи, которые «спились», пили не что-нибудь, а водку «Барвинка» – не могли бы они пройти мимо той алкогольной продукции, которая заполняла более половины российского рынка спиртного.
Мой Барух раздавил старушке всю её жизнь – без какой-то злобы или презрения, а ещё страшнее: раздавил, как муравья, не глядя и не заметив «потери бойца». «Бойца» – потому что у старушки была медаль «Ветеран труда»…
Я что-то спутано пообещал старухе, и прошёл на праздник жизни. Провести её я не мог – у меня был пропуск только на одно лицо. Но я рассчитывал немедленно вывести Баруха на крыльцо. Однако внутри атмосфера иллюминации, бьющей по ушам музыки и конфетти как-то закрутила меня. Признаюсь, я немного потерял счёт времени. Пока я выискивал среди разряженных гостей Коноплеца; Пока уговаривал его выйти; Пока он отпирался, фотографируясь то с известной фотомоделью, то со специально подготовленными детдомовскими детьми; пока он пил коктейль, педерастически обнимаясь с мэром; пока отмахивался от меня, выступая перед тележурналистами с какой-то глянцевой речью о необходимости платить налоги и о социальной ответственности бизнеса…
Словом, пока он (да и я с ним) безумствовали – прошло не менее сорока минут. Наконец он, уступая моей настойчивости, с досадой на горбоносой морде, пошел в фойе, одел шубу, вышел на улицу…
Старуха стояла, где и была, не шелохнувшись. В её неподвижной терпеливости было что-то неестественное и страшное. Я, помнится, подумал, что вся Россия стоит вот так, у залитого светом особняка олигарха и ждёт какой-то милостыни…
Мы подошли. Старуха была уже мертва. Она превратилась в ледяной столб. На ресницах наросла бахрома инея, струйка слюны замерзла на подбородке, глаза пялились двумя кристаллами и даже больше стали, вываливались из глазниц – от расширения…
– Ах, незадача! – упер руки в боки Барух. В его детском взгляде просматривалось неподдельное сочувствие. Смерть, которую он нёс миллионам, была для него только компьютерной игрой, некоей абстракцией. Думаю, он впервые любовался делом рук своих вблизи и в натуральную величину. Ведь в банковских отчётах смерть какой-то обворованной старухи была в общих числах микроскопически незаметной… Масштаб не тот, как у домика на карте страны…
– Померла, надо же! – горевал Коноплец, и кажется, был обескуражен. – А чё она хотела-то?
Я, через губу, едва сдерживаясь, рассказал о судьбе покойницы. Барух смотрел на меня оловянными глазами, а потом поплёл что-то про общественную приёмную депутата, про урочные часы, и что там у него отопление в передней, и надо было туда, тогда бы заявление было бы рассмотрено по форме…
Тут-то я не сдержался, и при охране, при любопытствующих лизоблюдах на крыльце – вломил ему в его наглое маслянистое лицо ленивого, обожравшегося кота. Он упал, зажав ладонью рассечённую губу. Меня тут же скрутили архаровцы из его ЧОПа, но Коноплец дал им знак отпустить меня.
Встал, отряхиваясь от снега, вытирая жидкую – как и всё у него – юшку со рта. И тут… За ролью я неожиданно для себя почувствовал личность… За актёром, который «всю жизнь на подмостках» и ловит каждый жест режиссера, произносит чужие реплики, я вдруг разглядел человека…
– Так и надо… – мрачно сцедил Барух, затаив незримую, явно не для «пиара» мыслишку. – Всем бы так… Всем бы вы так, а то ни слова в простоте… Холуи…
И тут вся моя «священная ненависть» к олигарху Коноплецу, ненависть патриота к хищному инородцу, распинающему мою Отчизну, куда-то испарилась. Поверьте, не потому что он помиловал меня после невыразимого «для холуя» проступка. Я вдруг осознал, что дело вовсе не в Коноплеце, что театра нет без зрителей, и что люди сами, своим внутренним злом и подлостью, творят своих тиранов. Да что творят! Лепят, как из пластилина, мягких, податливых воле толпы деспотов. Барух Коноплец, бывший когда-то директором комсомольского Дома Творчества, при всём внешнем ужасе, исходящем от него, чудовища – всего лишь приёмная антенна, настроенная на волю и настроение людей страны. Он – таков, каким его хотят видеть.
Я осознал, что старуха, понесшая все сбережения в негосударственный пенсионный фонд к жулику – не менее виновата в своей беде, чем Барух. И государство, которое разрешило Баруху открыть такой фонд – тоже должно принять часть вины. И общество, допускающее и формирующее такое государство – тоже должно отвечать перед законами справедливости.
Много ли вины после такой делёжки остаётся собственно на Барухе? Не только сон разума, но и сон общественной совести рождает чудовищ…
Ведь человек – любой человек! – как муравей. Без своего муравейника он ничто, слабое, лишённое даже клыков и когтей животное. Не дубиной же, не силушкой богатырской заставил Барух Коноплец одних служить себе, других пресмыкаться перед собой, а третьих умирать ради него. Он просто оседлал грех, поразивший наш «муравейник», словно чума, использовал этот грех, не им сотворённый и не им управляемый…
…Так я оказался в Женеве – по воле олигарха, лоббировавшего кандидатуру нашего представителя в правительстве. Можете судить из того, насколько «прекрасен» был мир до экспериментов доктора Копаньского, тоже не слишком мир облагородивших…
…Конечно, потом, когда никелированные «сороконожки» стали потрошить людей, Эдварда Копаньского обвинили во всем, и свалили катастрофу на его «злой гений». Но я то, изгнанный из Женевы обратно в свой уютный кремлевский кабинет-келью, всегда подозревал, что за доктором стояла целая армада сатанистов, неизвестно зачем (просто по причине психопатологии) веками стремившаяся разрушить мир.
Ведь и «Рэд» – «красный» – это цвет революции. Почему женевская шушера утвердила именно это, отнюдь не Копаньским предложенное имя для мирового суперкомпьютера?!
Все это глупо. Все это было очень давно.
Ни к чему вспоминать.
Я увидел во сне Копаньского, потому что он точно так же, как эти голодные псы мертвого города, выл в камере, когда у него отобрали компьютерный шлемофон и краги. Может, он и был гением, совместимым со злодейством, но сумасшедшим-то он точно был…
От старого мира ничего не осталось. Ничего, кроме «Дип Рэда», который торчит плазменным стволом в подземной шахте, надежно укрытый от всех «террористов» на секретном объекте «К-2Z», под охраной бойцовых роботов и призраков мертвого контингента солдат ООН, разбросанных по окрестным холмам.
Считается, что «Дип Рэд» думает. Считается, что это интеллект, на порядок превосходящий человеческий, который захватил власть на планете.
Но я то знаю, что это не так. Потому что Копаньский, когда его арестовывали, и потом вели на казнь, предупреждал: без меня, без моей головы в шлемофоне, «Дип Рэд» не умнее пылесоса.
Фантасты прошлого, скажем, Азимов из 70-х годов ХХ века – думали, что машина, производя алгоритмические действия, по мере их накопления станет обретать способность думать и чувствовать, получит то, «что мы называем душой». Они полагали, что накопление суммы знаний и умений рано или поздно приведет к самоосознанию машины, к появлению у машины личности.
Нет. Они ошибались. Ни у какой из мировых библиотек не появилось личности, сколько бы знаний не напихивали в её стены. Никакой компьютер, включая и «Дип Рэд», так и не сумел осознать самое себя, понять, что он делает и понять, зачем он это делает.
«Дип Рэд», который правит миром по программе Копаньского, всего лишь выполняет заложенные в него когда-то команды, запаянные в повторяющийся цикл. Это как старинная плёнка на автореверсе: промотало её – и по новой, то же самое, и до бесконечности, до порчи практически автономного блока питания на «К-2Z»…
Так работает часовой механизм: шестеренки крутятся, анкер сдерживает, пружина тянет – но не шестерёнки, ни анкер, ни пружина не производят движения по собственной воле. У них таковой нет. Они мертвые исполнители, повинующиеся законам природы и разуму своего создателя.
Мне приходилось общаться с «Дип Рэд» в «он-лайновом» режиме, и, должен признаться, вначале он пугающе-самостоятельно мыслит. Ты можешь очень долго говорить с ним, ощущая себя собеседником Сократа, Конфуция, Эйнштейна – прежде чем поймешь, что он просто старательно зазубрил всего Сократа, Конфуция, Эйнштейна и при беседе с тобой по заранее заданному лгоритму подбирает «варианты ответов».
Вариантов очень много. Отбор идет с немыслимой для человека, молнеиносной быстротой. Нюансы тончайшие. И все-таки достаточно умный человек может запросто поймать «Дип Рэд», элементарно подведя его к краю алгоритмирования. Здесь «Дип Рэд» забуксует. Перестанет отвечать. У него есть контур предела, которого у живой и мыслящей души нет.
В свое время Азимов полагал, что робот не сможет превратить кусок холста в шедевр. Что он не сможет написать симфонию. Это все заблуждение – «Дип Рэд» творил и шедевры и симфонии, и все, что угодно. Просто компилировал заложенный в него колоссальный объем информации, брал чёрточку от Рафаэля, черточку от Микеланджело, черточку от Врубеля, и творил такое, отчего все искусствоведы ахали.
Они ведь дураки, искусствоведы. Не все, но большинство. Они думают, что человек совершенен совершенством. На самом деле человек совершенен несовершенством, свой способностью делать «ошибки в программе», своей способностью не выполнять заложенные в команду приказы.
А «Дип Рэд», творец шедевров и тонкий психоаналитик, казалось бы, знающий о человеческой душе всё возможное – не может ничего изменить, кроме того, что меняется в рамках заложенной программы. Он будет исполнять команду до тех пор, пока кто-то не нажмет клавишу «отмена», или не перепрограммирует его.
Прошло 22 года после «техноапокалипсиса». 22 года я, бывший чиновник средней руки, являюсь бродягой мертвого света в «прекрасном новом мире». Здесь люди, оставшиеся в живых, очень сильно изменились. В худшую сторону, но изменились.
А роботы – нет. 22 года автореверс всеми покинутого «Дип Рэда» прокручивает одну и ту же, отнюдь не хитовую, песенку…
*** ***
Почти четыре года отняли у меня племенные дела арбутеров. Судя по самоназванию это были бывшие немцы, поклоняющиеся работе («арбайт»), но о прошлом они мало что помнили. Боль и страдания включают, оказывается, в человеке некое стирание памяти. То, что человек не в силах понять и принять – элементарно забывается…
Арбутеров я застал уже не поклоняющимися никакому «арбайту», совершенно дегенерировавшими и опустившимися охотниками и собирателями на склонах гор, названия которых не знаю, потому что много лет брожу без карты.
Удивительно, как быстро человек деградирует! Прошло 22 года, ещё и не думало умирать первое поколение опустившихся в варварство людей, но даже память о былой цивилизации стерлась у них окончательно. Что касается детей и молодежи, родившихся у арбутеров после техно-апокалипсиса, то тут и говорить нечего, эти были просто звери, рычащие и не владеющие членораздельной речью.
Я пришел как раз вовремя: к моменту моего подхода к охотничьим угодьям арбутеров их уже окружили роботы-охотники из числа дистанционеров «Дип Рэда». Маленькое племя должно было принять в себя либо «сороконожек», либо энергопули, и пополнить число дистанционеров в любом случае, ибо «сороконожки» заселяются даже в обессмысленных «человекоовощей», хотя предпочитают, естественно, живых.
«Дип Рэд» делал свое дело без начала, без конца и без смысла. Автореверс Копаньского включал в программу два основных алгоритма: каждая «сороконожка» должна была заселится в человеческое тело через рот или даже анальное отверстие. Заселившись в человеческое тело, «сороконожка» располагалась в виде некоего станового хребта и переключала на себя управление всей моторикой тела.
Теперь вступал в действие второй алгоритм – получив в наличии мозг и руки, сороконожка, обтянутая трупом, стремилась произвести себе подобную из никелированных деталей, и затем пристроить её в новое тело.
Поскольку подвижные компьютеры-сороконожки не могли размножаться сами, Копаньский включил этот этап: сборка новых компьютеров руками зомби. В его безумном плане зомби делали все больше сороконожек, а сороконожки – все больше новых зомби – до полного исчерпания человеческого ресурса.
Так Копаньский отплатил миру за свое увечье. В первые годы в городах царили фобос и деймос, словами не описать. Но затем, по мере исчезновения человеческого вида, толпы зомби с гибким стержнем искусственного интеллекта внутри теряли смысл жизни, сидели на площадях отрешенно, как буддийские монахи, полузакрыв глаза. На некоторых от неподвижности даже заводилась какая-то грибково-плесневая культура, потому что Копаньский дальше апокалипсиса ничего в алгоритм не заложил. О «новой земле и новом небе» он явно не подумал.
Но тем роботам повезло: они обнаружили арбутеров!
«Сороконожка» весьма шустра, но безумна, как и все подобные «приспособления малой механизации». Передвигается она стремительно, извиваясь всем длинным гофрированным шлангом «тела», а спереди у неё два мониторчика.
Многие думают, что «сороконожка» видит, но это не так. Вводя в программу «Дип Рэд» её схему-чертёж, Эдвард исходил из того, что глаза «сороконожка» получит «бесплатно» от своего зомби. Мониторчики – построены на чистой химии: они улавливают страх, адреналиновые волны от жертвы. Благодаря этому обонянию «сороконожка» отличает живого от зомби – иначе все бы они полезли в одно и то же тело.
Задача зомби – донести им же изготовленную новую «сороконожку» до жертвы, а там она вёртко настигнет источник адреналиновых волн, не спутав человека ни с зомби, ни с равнодушным к этой технике животным.
«Сороконожки», которые ни что иное, как материнская плата будущего человека – биокомпьютера, слепы.
Именно поэтому я мог – и любил – их давить.
От меня не исходило адреналиновых волн.
Целевым и направленным ударом тока я сжег проводку своей нервной системы, и теперь не боялся, не гневался, не чувствовал ни боли, ни наслаждения. На вкус я не отличил бы мармелада от дерьма – настолько атрофировались мои вкусовые рецепторы.
«Сороконожки» принимали меня за робота.
Может быть, отчасти, они и были правы.
Но не совсем.
Потому что, хоть я ничего и не чувствовал, но я ПОМНИЛ о чувствах. Хоть я и не имел эмоций, но, подобно коту, кастрированному в зрелом возрасте, я мог ещё весной помяукать, призывая кошку, хоть и не знал бы, что с ней потом делать. Я был ЧЕЛОВЕКОМ.
Не потому что я мог превратить кусок холста в шедевр или состряпать оперу с балетом. А потому, что я имел свободу воли и выбора, которых у «сороконожек» вместе с их застоявшимся от безделья «Дип Рэдом» не было и в помине.
…Пока арбутеры в панике разбегались по этой живописной альпийской лужайке, я отлавливал «сороконожек», прижимая их сапогом к земле, как змеелов, и резким рывком ломал механические сочленения их «хребта». Роботы-охотники остекленело смотрели на деяния рук моих, ничего не соображая – да и что может сообразить машина?!
Переломав всех «сороконожек» я приблизился к их остолбенелой группе и выразительно постучал костяшками пальцев по лбу впереди стоявшего.
Думаю, когда-то он был банковским клерком. На его шее ещё болтались лохмотья полосатого галстука, а пиджак, если хорошенько отстирать и вычистить – ещё мог бы послужить дворнику на утренней смене.
Роботы смотрели на меня, и видимо, «перезагружались». Потом банковский клерк нагнулся, как будто хотел поцеловать мою руку, и… укусил меня!
Это было что-то новенькое. Я извлек энергопистоль и размазал импульсами-молниями этих тварей, раскидавших кишки и разноцветные провода по всей лужайке. Заряда оставалось мало, индикатор показывал красный огонёк – но я же должен был узнать о «новостях» в мире компьютерного «киберпанка».
Четырьмя зарядами я отрезал клерку в галстуке руки и ноги, чтобы обезопасить себя от следующих покусов, и в то же время не повредить операционную систему.
Оставшийся «самовар» елозил по траве пузом, всё ещё пытаясь подобраться ко мне. Вроде бы даже стал грызть плотную кирзу сапога, но вместо ущерба мне – растерял только свои гнилые зубы.
– Ты, сволочь, почему кусаться стал? – добродушно спросил я, отпиннув «самовар» его тела на некоторое расстояние. Я спрашивал у «Дип Рэда» – думал за весь этот легион все равно он один. Поговорить с «Дип Рэдом» я мог с любого «монитора», замкнутого на базу «К-2Z».
– Ты – вирус. – прошипел в ответ самовар, старательно имитируя ненависть, которой у него, конечно, ни на грамм не было. Ненависть была Копаньского, пережившая своего носителя.
– Я- вирус?
– Да, ты вирус. Ты будешь уничтожен.
– На себя посмотри…
Я понял, наконец, в чем дело. У «Дип Рэда» был так называемый «эвристический анализатор» – то есть набор схем и алгоритмов аналогового подбора. Поскольку возможности подбора аналогов все равно были замкнуты контуром полученной при программировании информации, «Дип Рэд» не смог понять мой случай, но вывел интересный вывод: перед ним робот, в локальной системе которого произошел информационный сбой. Так сказать, «программа допустила недопустимую ошибку. Если такие случаи будут повторяться, обратитесь к разработчику».
Помните? Эх, где вы, дни златые, мониторы и дисплеи, выдававшие эту заученную фразу? Давно уже на мертвой Земле нет для вас ни условий, ни питания…
Кубинским «мачэте» я распотрошил мой «самовар» и вытащил на свет божий заляпанную в крови и лимфе «сороконожку». Это и был единственный тип оставшихся на земле компьютеров. Отрубив кое-какие детали, «сороконожку» можно было сделать вполне безобидной, и через неё скачивать базу данных «Дип Рэда». Правда, в компьютерную игру на ней не сыграть, это жаль…
Я заказал «Дип Рэду» прочитать мне «Опыты» Монтеня с 23 по 56 страницу. «Сороконожка», подобно сентиментальному убийце, крякнула в маленький раструб горлового динамика и начала вещать дословно, с середины предложения, потому что неведомая мне 23 страница разорвала мысль старого брюзги напополам.
Так, под механическое скрежещущее бормотание я и оказался среди арбутеров. Они пугливо вышли на лужайку из-за деревьев, озирая меня, как бога, и нестройными рядами приблизились ко мне.
Я не обращал на них внимания, усевшись в позе будды и внимая Монтеню. Нашел приличной толщины палку, достал из походной котомки синюю изоленту – остатки былой роскоши – и стал приматывать болтливый процессор к дереву.
Арбутеры не смели мне мешать, полагая в моих занятиях нечто сакральное. На самом деле я всего лишь собирался пустить «Дип Рэда» по ложному следу, бросив палку с активированным процессором в любой поток, и направив «охотников» в сторону, противоположную нашему движению.
Пусть река несет бормочущую «сороконожку» на юг, а мы пойдем на север. Идти обязательно надо: в место пребывания «вируса» «Дип Рэд» направит целые толпы бездельничающих «зомби»…
…Палка почти утонула – но все же поплыла. Я замкнул чтение Монтеня в цикл, и теперь 23—56 страницы «Опытов» будут звучать в мертвенной тишине нежилых берегов невообразимый для человека срок износа нержавеющего, ударопрочного металла. Я представил себе, как палку затянет в омут, или прибьёт к мысу, обволочит тиной и ряской. Как будут приходить на водопой пугливые олени, как станут строить плотнины работяги-бобры – а процессор снова и снова станет зачитывать одни и те же слова, непостижимые ничему живому вокруг него…
Я эти вещи знаю не понаслышке. Я часто находил такие информационные «клады» в самых запущенных и мрачных местах одичавшей планеты. Помню, один процессор был воткнут безвестным героем в кучу камней перед пещерой и предупреждал об опасности:
– Беги! Беги! В пещере – медведь-людоед! Беги! Беги! В пещере…
Я не знаю, сколько лет он так бормотал, но в пещере я нашел только медвежьи кости, обглоданные мелкими зверьками. Людоед давно был сам пожран червием и крысами, а процессор не доломался, пыхтел над нехитрой предупредительной функцией…
А вот с Монтенем мне «звуковые посылки» встречать не приходилось – это я первый придумал. Правда, однажды один безвестный чудак оставил мне лекцию по философии Гегеля, но, по правде сказать, задумка с медведем мне больше понравилась.
…Так я и стал невольным Моисеем для арбутеров. В начале нашего пути они были сущими чудовищами. За ужином дрались и отбирали друг у друга куски, стариков и женщин, а так же младенцев вообще оттирали от трапезы, гукали, визжали, как обезьяны. Погибшего на охоте соплеменника могли за здорово живешь и скушать. Сильные до полусмерти избивали слабых, женщин по любому поводу таскали за волосы и давали друг другу для утех в обмен на сущие безделицы.
Мне пришлось первым делом строжайше запретить каннибализм. Я рассказывал арбутерам об адских вечных мучениях, и делал вывод: чем так страдать, лучше на земле помереть от голода. Поэтому помирай – а товарища не глотай! Потом я запретил насилие и велел арбутерам уважать друг друга, ввел ритуал приёма пищи, ставший чем-то вроде религиозного причащения. Я научил арбутеров молится Богу-заступнику, как мог, пересказал им в простейших словах Евангелие. После этого арбутеры стали несколько менее раздражительны и безумны. Старикам – чтобы защитить их от изгнания из-за общего «стола» – я велел заучить религиозные тексты, которые, по грехам своим и незнанию подлинных, сам же и сочинил. Молодые, сильные арбутеры после этого боялись отнимать у стариков пищу, чтобы не прогневить Бога-заступника.
Я обучил их простейшим приёмам защиты от «сороконожек», показал, как нужно их ловить и где сподручнее переламывать им хребет. Потом я научил арбутеров земледелию и скотоводству, нашел им приличную пещеру и посчитал, наконец, возможным, уйти.
За четыре года арбутеры мне смертельно надоели. Фактически – мои ровесники, они были пустоголовы, как дети, и так же, как дети, жестоки. Выросшие в Германии, с тостерами и кофеварками, с телевизорами и самолётами, старшие арбутеры настолько помешались, потеряв всё это, что далее духовного развития крысы двинутся были не в состоянии. Юноши, не помнившие растленной атмосферы ХХ века, подавали кое-какие надежды, потому что дикая жизнь первобытных кочевников была для них не наказанием, а единственно-мыслимой и возможной формой существования.
Я ушел от арбутеров, наверное, и доселе кощунственно ждущих моего «второго пришествия». Я преподал им некую вульгарную версию Мирного Духа и Благодати, некие начальные сведения о спасении и Спасителе (боюсь, они отождествили его со мной), в надежде, что по мере духовного роста они вместят в себя большее, когда способны будут вместить.
В темноте и злобе арбутеров я, наконец, сумел понять, объяснить и принять некоторые кажущиеся уродливыми, а на деле необходимые формы раннего христианства «тёмных веков», вообще особенности первобытной религии, как методологии строительства «вмещающего сосуда», без наличия коего вмещать – всё одно, что расплёскивать.
Но дело сделано: я был свободен!
Я ушел на рассвете, провожаемый стонами и стенаниями всего племени, нелепый полуграмотный вероучитель. Впрочем, в свое оправдание скажу – каково племя, таковы и учителя…
*** ***
«БЭМИ» – бомбы электромагнитного импульса… Я никогда прежде не видел их в таком количестве. На этом складе их было заготовлено на целую третью мировую войну, на десяток «Дип Рэдов» – но человечество пало быстро и само не успело понять, с кем воюет…
«Дип Рэд» – а точнее «голова на подставке» в инвалидном кресле – обманули человечество. Они засунули процессор-кишку в человеческое тело, а потому сперва казалось, что это не компьютер, а какие-то люди, террористы или ещё кто – атакуют мировые державы.
«БЭМИ» не пошли в ход. Остатки армий дрались огнем и сталью, с себе подобными – но в танках, в боевых самолетах, на ракетных установках сидели уже не просто агенты «Дип Рэда» – там сидел «Дип Рэд» собственной персоной.
Потом, когда мировая схватка уже затихала – а это случилось дней через десять интенсивных боев – кое-кто кое в чем начал разбираться, и даже «БЭМИ» обрушились на колонны врага – с большим успехом – но силы были уже трагически не равны.
Из документов, собранных мной между делом, следовало, что доктор Копаньский, могильщик человечества – клепал первые «сороконожки» отнюдь не в семейном гараже под покровом ночи. «Сороконожки» – а точнее «дистанционная система моторики «Дип Рэда» – утверждались штабными чинами НАТО как новый, перспективный вид оружия, пригодный к ограниченному употреблению и производились на военных заводах атлантического альянса.
Заговор Эдварда Копаньского, человека, который и задницу без посторонней помощи подтереть не мог, прошел через высшую бюрократию в Брюсселе. Она разрешала – Копаньский перепрограммировал «сороконожек» – «сороконожки» захватывали тела высшей бюрократии – так она оказывалась под контролем «Дип Рэда», а сам «Дип Рэд» – под контролем доктора Эдварда.
Через некоторое время, в тайне ото всех, Копаньский сумел получить полный контроль над телами, речами и движениями тех, кто утверждал его программы и сметы финансирования. Он стал начальником над своими начальниками, уже мертвыми трупами, которые волей «Дип Рэда» ещё двигались, имитировали жизнь и отдавали указания – кому что в альянсе следует делать.
Теперь Копаньский мог поставить производство «сороконожек» на поток, что и не замедлил осуществить. Атака на ведущие столичные центры мира была осуществлена 14 апреля 20** года. «Дип Рэд» помог хозяину оптимизировать и синхронизировать схему удара.
14 апреля на всей планете разом отключилось электричество. Вместе с ним разом парализовало все линии связи, и произведена была через компьютерные сети блокировка нефтеналивных терминалов. По воле одного-единственного сумасшедшего человечество оказалось абсолютно беспомощным перед кибер-чудовищами, размножавшимися по мере захвата человеческих тел.
Кроме того, «Дип Рэд» произвел взрывы магистральных трубопроводов, поджег все нефтяные скважины, разрегулировал все автоматические системы, включая даже управление дорожным движением и светофоры.
Армии стран мира в отчаиньи начали наносить удары друг по другу, все подозревали всех, хаос сделался всеобщим. На планете накопилось слишком много взрывоопасного материала – и в прямом, и в переносном смысле – хватило одной спички…
Копаньский был казнен 26 апреля того же года по решению ГКО – «глобального комитета обороны». Самому ГКО оставалось существовать всего два дня. 28 апреля работающие на батарейках транзисторы перестали ловить его сигналы, приказы и распоряжения. Правда, мои знакомые уверяли, что дробь морзянкой шла в эфире ещё и 29, и даже 30 апреля, но кто же в наш «просвещённый век» умеет разобрать морзянку?!
Впрочем, думаю, это неважно. Что, кроме жалких молений о помощи могли отправлять эти чокнутые бюрократы, некогда задумавшие построить шахту для «Дип Рэда»? «Сороконожки» настигали их одного за другим – и они тут же становились элементами страшной компьютерной игры…
Мне случалось – уже через много лет – проходить полями апрельских сражений, через мертвые и ржавые армады танковых армий. Они высились, словно жернова, перемалывавшие все живое, и в итоге перемоловшие самое себя. Эти танки вышли невесть против кого, сражались с собственной тенью – а по мере проникновения юрких «сороконожек» – разворачивали пушки против собственной колонны.
Я шел и шел – километры пустой земли были покрыты мертвыми черепахами танков, частично сожженных, частично механически поврежденных, а иногда и совершенно целых. Некоторые выглядели так, что, казалось – сядь в них сейчас, заведи мотор – и поедешь. Но в баках давно уже было испито все горючее до последней капли, да и куда бы я поехал в этой бронированной тарахтелке?
Многие говорили, что человечество «дорого продало свою жизнь». Мне трудно понять, кто в таком случае выступил покупателем – покойный Копаньский или безмозглый «Дип Рэд»? Человечество дорого продавало жизнь самому себе – беспощадно уничтожая полезные людям предметы из всех видов оружия, устраняя даже тень возможности для последующих поколений как-то организовать быт на новой земле.
Может быть, это и входило в замысел доктора Эдварда? Освободить землю от человека? По крайней мере, природа, которую «Дип Рэд» не трогал, расцвела на руинах человечества буйным пустоцветом…
*** ***
Так вот, четыре года я убил на арбутеров. От их инфантильных и дикошарых представлений, нормальному человеку напоминающих погружение в бред и горячку, я выныривал не сразу, постепенно, с трудом.
Нужен был нормальный человек для общения, чтобы совсем не сойти с ума в тоске одиночества. Бог мне его и послал – со скидкой, конечно, по части «нормальности», потому что это был Ким Чжуанович, но зато почти сразу.
…С Кимом Чжуановичем Иром я познакомился года за три перед техно-апокалипсисом. Он тогда как раз – то ли спьяну, то ли с какого перепугу, взялся закрывать Евразийскую Академию, которую возглавлял, и везде торжественно объявлял об этом.
А в Евразийской Академии состояло много средних правительственных чинов Российской Федерации – из числа тех, кто для настоящей Академии рылом не вышел, но именоваться академиком очень хотел. Поэтому меня извлекли из моего кабинета, похожего на келью, и послали улаживать евразийские дела.
В тот раз у меня не слишком получилось утрясти дело, Ким Чжуанович был упрямый кореец и Академию всё-таки закрыл. Но, как ни странно, это не отразилось на наших отношениях. Мы бывали на общих пикниках, общались, делали некоторые общие дела, которые возникали у чиновников в ту смутную пору. Последняя наша встреча состоялась за день до техно-апокалипсиса – мы как раз договаривались ехать к нему в загородный дом на шашлыки.
Мы, помнится, преподробно обсудили, что с собой взять, во сколько встречаться, какой трассой добираться – то есть всё, кроме судьбы, решающей за нас. А на следующий день с утра отрубили электричество во всём мире – ну, дальше вы знаете…
…Теперь Ким Чжуанович был, конечно, не тот, что прежде – странно, что он вообще БЫЛ. Из прежнего лощёного представителя инородческой элиты компрадорской России он превратился в обычного потрёпанного старого китайца, в каком-то смысле даже хрестоматийного «кули».
Он собирал хворост, складывал его в большую вязанку за спиной, и сперва не узнал меня. Принял за трупа, бросил связку, и попытался бежать, но куда ему: он был немолод даже в пору нашего знакомства, уж не то, что нынче…
Я в два прыжка настиг его и представился, улыбаясь как можно шире и дружелюбнее. Он смотрел узкими косыми глазами подозрительно, но уже без прежнего дикого ужаса. Мои отличия от зомби во внешности и в интеллекте были столь разительны, что Ким Чжуанович вынужден был их в итоге признать, и отвести меня в свой подземный «чайна-таун».
– Вы, ребята, даже из бомбоубежища Шанхай сделаете… – покачал я головой, входя внутрь.
– Вы, европейцы, всегда будете на нас косо смотреть! – сетует в ответ Ким Чжуанович, ставший от старости и горя расистом.
В подземном городе кое-как восстановили электрическое освещение, мигавшее и тусклое – видимо, на автономном генераторе. Тут царила какая-то затхлая толчея, столпотворение, жёлтая раса что-то по муравьиному перетаскивала, покупала, продавала, меняла, тут же жарила и парила, тут же, на ходу жевала. Вывески-иероглифы на картонках, тряпках, досках свешивались отовсюду к самой голове – человек среднеевропейского роста постоянно рисковал разбить тут лоб.
Ким Чжуанович что-то щебетал мне под ухо, но моё внимание привлёк торговец, «строгавший» на корейский манер морепродукты и отвешивавший порции полученной океанской слизистой смеси направо и налево, гомонливым соплеменникам.
Ко всяким креветкам и «морским капустам» я равнодушен. Но торгаш имел под рукой целую стопку бумаги – старые газеты, обрывки журналов, письма частных лиц, студенческие конспекты – словом, целый архив прошлой жизни. Боже, сколько бумаги нагородило прежнее человечество – двадцать лет, а этой массе всё сносу нет!
На самой вершине стопки оберток лежал белый лист бумаги… исписанный моим подчерком. Содрогнувшись от внутреннего страха, иглой пронзившего всё моё существо, я протянул было руку, чтобы прочитать собственный текст – но бойкий китаец уже схватил листок, завернул в него каких-то жирных, пачкающихся мидий и вручил покупателю.
Я вынужден был вмешаться, отобрал кулёк у приобретателя, и посмотрел текст. Так и есть! В мутных разводах рыбьей слизи, протекающий сквозь буквы, моей рукой было начертано уже знакомое по предыдущему сну «предупреждение ни о чём»:
«…демократического строя, гласности и плюрализма, ж…»
Господи, да что же это такое? Где я опять? Что же тогда сон, а что явь?
Пока я читал, подняв сверток над головой – к свету – вокруг меня назревал правовой скандал. Ким Чжуанович на своём щебечущем птичьем наречии пытался что-то объяснить «добросовестному приобретателю», тот не соглашался, видимо, требовал вернуть деньги или пищу, и был, в общем-то прав. Мне совершенно не нужны были его мидии или что там ему завернули? Но как отдашь эту склизь без кулька?
Я попытался выйти из положения, взяв с шаткого самодельного прилавка другую бумагу и задумав переложить морепродукты из своей записки туда, но взбунтовался уже продавец, что-то визжал и тянул бумагу назад…
Ким Чжуанович совсем потерялся в этой ситуации и даже отошел в сторону – чтобы не получить по шее вместе со мной.
Реальность казалась слишком устойчивой и последовательной, чтобы быть сном – тем не менее, «переходящая записка» свидетельствовала о другом. Разрываемый думами об этом тяжком парадоксе, я и не заметил, как оказался у их «японского городового».
«Японский городовой» выслушал обе спорящие, по канареечному щебечущие стороны – мою представлял следовавший поодаль, с очень виноватым лицом Ким Чжуанович, а потом обратился ко мне на ломаном русском языке:
– Зачем ты нарушил законы гостеприимства и обокрал этих уважаемых людей?
– Видите ли, ваша честь, не я обокрал их, а… как бы это сказать… они меня…
– Что?!
– Эта бумага принадлежит мне. Она написана моей рукой, и она мне очень важна… Доказать это легко – я могу дописать к тексту пару строк, и вы убедитесь, что это мой почерк…
– Речь идет не о бумаге, пришелец, а о порции «сунь мей». Ты хотел похитить чужой труд и съесть незаслуженный обед.
– Я не хотел. Вот, Ким Чжуанович подтвердит, я тут же взял другую бумагу, чтобы переложить «сунь мей», но (я вспомнил корявый язык юристов до катастрофы) – третье лицо, ваша честь, воспрепятствовало мне в осуществлении действий…
– Сложное дело! – схватился за бритую голову с косицей «японский городовой». – Надо идти к вождю!
– Может быть, нам просто разделить морепродукты и бумагу, да и разойтись восвояси? – предлагаю я, внутренне ощущая, что говорю нечто нелепое.
– Правосудие, пришелец, вершится отныне независимо от Ваших сделок с пострадавшей стороной! – чопорно отвечает мне «городовой».
В ближайшие пару часов мне предстоит выяснить, в чём заключается их «вывихнутое» правосудие: в самом диком и примитивном средневековом обряде «ордалий», когда решение спорного вопроса в поединке доверяется решению «суда Небес».
«Тиен ши» – как говорил Конфуций – «поклоняйтесь Небу»…
*** ***
Мы выходим в круг для спаринга. Это место стилизовано под восточные ринги единоборств в стиле кунг-фу или каратэ. Я снова прошу вождя уступить: я охотно отдам ему это записку, если он объяснит мне, в чём заключается её ценность?! Для меня этот клочок бумаги содержит смутную надежду выбраться из лабиринта сонных кошмаров, но для вождя-то что?
Соплеменники моего врага, разбившись в ряды по периферии зала, гомоном и улюлюканьем приветствуют яркое зрелище в своей серой жизни. Я снова начинаю думать, что это японцы, а не китайцы. Для китайцев у них чересчур густые брови – хоть, впрочем, я не антрополог. Вариантов много: это могут быть корейцы или манчжуры, мяо-яо или тайцы, кхмеры или алеуты – кто угодно с узким разрезом глаз. Всё смешалось в нашем мире…
Вождь сбрасывает свой халат и остается с голым мускулистым торсом. Он явно моложе меня, выше ростом, физически сильнее и убежден, что лучшим образом владеет техникой спаринга. Очень может быть, что это и так. Техникой я владею слабо, так, пару раз прочитал репринтную книжку про кунг-фу, про удары и болевые точки…
– Х-ха! – дико орёт-выдыхает вождь, и, со свистом разрубив воздух замком ладоней, бросается на меня, как бешенный комок яростной плоти…
…Тут я и выхожу в «серебряный туман»…
Серебряный туман – особое состояние духовного развития человека, когда он может включить своё сознание на «ускоренный прогон». Нормальное, среднее для человека течение времени останавливается, замедляется, разум фиксирует всё происходящее так, как это сделала бы кинокамера при «замедленной съёмке»…
Я двигаюсь и всё делаю так, как в обычной жизни – а вокруг меня еле-еле шевелящиеся бегуны или чуть дышащие драчуны – их секунда становится моей минутой.
Если сказать по совести, в серебряном тумане нет никакой мистики – без учета мистичности всего сущего, мистичности самой жизни. Каждый человек, достигая навыка в своём деле, совершает определенную операцию или комплекс операций в десятки раз быстрее, чем человек без навыка. Это и есть серебряный туман, доступный мастерам – ведь пальцев у них не добавилось, да и ума порой не прибыло. Теоретически – хорошенько подумав – их дело может сделать любой, только пока он будет приноравливаться, уйдет слишком много времени.
Особенно хорошо серебряный туман виден в движениях опытных шофёров: их моментальная реакция на дорожные ситуации – следствие как раз их «выхода» к более медленному времени. Невелика наука – рычаг скоростей переключать! Но только новичку не успеть его переключить ни разу за то время, когда мастер переключит трижды – и всегда «по теме».
«Серебряный туман» – это особая тренировка мозга, тренировка психики, следствие своего рода умственной заурядной «гимнастики», заряженной на реакцию…
…В моём случае гимнастика ума использовалась во зло, для боя и увечья. Ряды зрителей колебались, словно сонные сомнабулы, или даже ещё медленнее. Вождь надвигался на меня красиво, технично – но «по кадру в секунду» – как будто прорываясь сквозь вязкое и липкое желе. Я чуть отклонился в сторону от его могучего татуированного кулака, с ласковой медлительностью проплывшего мимо моего уха и выставил ему ногу.
Вождь споткнулся, и со всей энергией своего яростного броска растянулся на циновках тотама, потеряв, возможно, пару-тройку зубов при падении…
В «реальном», то есть среднепсихологическом времени восприятия скорость моих передвижений представлялось почти что невидимой, очерченной лишь смутно – наподобие бешено вращающейся лопасти самолёта. Я стараюсь не злоупотреблять движением, чтобы показаться просто умелым бойцом, а не каким-то магом и волшебником. Только лавров шарлатана мне не хватало!
Вождь медленно, очень медленно встаёт. Сперва он встаёт на четвереньки – и я успеваю всадить ему «пендль» под рёбра. Но он чертовски здоровый, этот китаец; он не опрокинулся, как я ожидал, а только медленно скорчил гримасу от боли.
Пока он продолжает вставать, я успеваю поразить ещё две его болевых точки, но всё-таки он оказывается в вертикальном положении. Руки его медленно-медленно описывают чёткие траектории ударов, которыми он хочет поразить моё лицо, но я всякий раз чуть-чуть уклоняюсь, (чуть-чуть – чтобы не укреплять в нём комплекса неполноценности) и наношу ему серию отрывистых резких ударов в нос, подбородок, по ушам.
Затем в пародирующем техничность обороте (я довольно неуклюж от природы) выхожу ему за спину и наношу удары по болевым точкам поясницы и позвоночника.
Силы у меня невелики. Я почти старик, к тому же никогда всерьёз не занимавшийся боевыми искусствами или просто спортом. Мне трудно свалить такого бугая, как Вождь «манчжуров» – даже почти обездвиженного.
Он всё ещё в бою. Лицо его полно изумления, глаза стали даже несколько шире, присматриваясь к смутным мельканиям моего контура. Он молотит воздух руками, рассекает его могучими ногами с невероятной, наверное, для обывателя скоростью. Но в моем восприятии это что-то вроде крыльев мельницы в ленивый и солнечный, безветренный день.
Я понимаю, что мне придётся бить его по глазам. Я не люблю этот приём – он очень жесток, но иначе я даже и не знаю, как свалить эту накаченную тренажерами тушу богатыря, моими кулаками – горошинами я могу его тыкать ещё часа с три без особого эффекта…
Одним пальцем я последовательно поражаю оба его глаза – не слишком сильно, чтобы не оставить за собой слепца, но и без лишней жалости. Затем снова делаю ему подножку и заваливаю на татами.
Спаринг окончен.
Я выхожу из серебряного тумана в обыденное время, и начинаю понимать, каким образом библейские Мафусаилы умудрялись жить по 900 и 1000 лет. Если замерять скорость движений в серебряном тумане, как обычную – выйдет на круг жизни и побольше…
Трибуны неистовствуют и ревут. Китайцы (или всё таки манчжуры) посходили с ума, вопят, прыгают друг другу на спины, чтобы лучше видеть, беснуются, свистят, размахивают руками, как тряпичные паяцы. Лица и рты искажены.
Я направляюсь к старику, чтобы забрать у него честно отвоеванную записку и протягиваю за ней руку, но…
Старик-японец в инвалидном кресле убирает свиток почти в невидимом режиме, перекладывая его из правой руки в левую. Я тянусь к левой руке – но свиток уже перекинут в правую и я снова не успел заметить – когда.
Я ныряю в серебряный туман, чтобы уловить его шкодливую старческую ручонку… Но Боже! И в серебряном тумане он продолжает двигать руками со скоростью, невидимой глазу! Я подныриваю до самых глубин торможения времени (на самом деле, конечно, ускорения реакции), до самой бездны, которой могу достичь. Муха рядом со мной почти перестает махать крылышками в воздухе, они у неё становятся подобны ленивым-ленивым вёслам…
Но, хоть я весь в поту и на грани апоплексии от напряжения, старик перекладывает мою записку по прежнему со скоростью, невидимой глазу…
– Теперь ты понимаешь – улыбается старик-инвалид, что за далью всегда даль…
– Зачем ты это делаешь? – спрашиваю я, поднимаясь к слоям более медленного реагирования и вздыхая, как после утопления.
– Я проверил тебя. Ты тот, кого я ждал.
– Зачем?
– Чтобы остановить машину, созданную такими, как ты, белыми безумцами, решившими поставить себя на место Бога. Ты владеешь техникой «Ян Ву» – «Туманные облака»… Ты не слишком хорошо ей овладел, а дерешься совсем скверно, но для машины белого человека этого достаточно…
– Старик… Отдай мне записку, мне нужно определиться с мирами и как-то выпрыгнуть из «кошмара-матрёшки», когда за каждым пробуждением начинается новый кошмар… Я не хочу думать ни про машину, ни про вашу Землю – вас ведь всё равно не существует, как бы вы там не пыжились…
– Но мы можем помочь друг другу.
– Чем? Если ты плод моего воображения, то зачем мне спрашивать что-то у самого себя? Отдай записку, и я уйду!
– Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, которая уснула. И проснувшись, он долго не мог понять, есть ли он Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он бабочка, или бабочка, которой приснилось, что она Чжуан Чжоу…
– Так вы китайцы?
– В прошлом сне мы принадлежали к народам мяо… Но ты же сам сказал, что это неважно. Однако, странник, запомни: спросить у самого себя никогда не лишне. Если ученик сформулировал вопрос учителю, то спрашивает уже у себя, потому что вопрос сам по себе содержит общий контур ответа. Если человек не умеет сформулировать вопроса – то и ответ для него прозвучит как пустой и сухой тыквенный барабан…
– Это спорный тезис… – смутился я.
– Если спорный, то попробуй научить собаку говорить! – улыбнулся лукавый мяо.
– Хорошо. Пусть будет по твоему. Что ты хочешь получить за мой клочок бумаги, который я сам же и написал? Надеюсь, не мою душу?!
– Душу машины белых людей.
– Ты обращаешься не по адресу. Отдай записку.
– Ты можешь её отобрать у меня. Ничего, кроме рук, мне уже не служит. Но подумай, странник, что она такое? Набор иероглифов, не больше. Ты должен разгадать не записку, а себя. Помоги мне убить машину, а я помогу тебе проснуться…
– Послушай, Мяо Ван (я льстил старику, называя его княжеским титулом), разве разумно просить у человека то, чего у него не было и нет?
– А разве у человека когда-то что-то было или есть?
– Почему ты вообще думаешь, что машину можно убить?
– А почему ты думаешь, что можно вообще проснуться?
Старик ставил меня в тупик своими переспрашиваниями. Не спорю, он был довольно образован в своей культуре, но совершенно безграмотен в европейской. Он полагал, что машина «Дип Рэд» – это такой умелый ниндзя, которого можно подкараулить в серебряном тумане с катаной под мышкой. Наверное, старик даже припас сакэ, чтобы спрыснуть усекновение головы «Зверю».
– Мяо Ван – зашел я с другой стороны – Пойми же, машину нельзя убить, потому что она никогда и не жила. Она мертва от рождения, точнее, от сотворения. Мы с тобой умеем двигаться немного быстрее, чем обычные люди, но на сколько? Может быть, в пять, в семь раз… Больше я не смогу… Ты, наверное, сможешь и быстрее, хотя я подозреваю, что твой паралич – следствие твоих экспериментов в «туманных облаках»…
– Я слушаю тебя… – благосклонно сморгнул старик дряблыми веками, и белая ниточка его бороды чуть заметно дернулась.
– Так вот, мяо ван! Машина может двигаться не только в 12 или 15 раз быстрее – но и в тысячу, и в миллион! Она совершает гигаметрическое количество операций в секунду! И если ты думаешь, что шустрый ниндзя спрыгнет на голову «Дип Рэда», и тот растеряется – ты очень сильно заблуждаешься…
– То, что создано воображением, воображением может быть и разрушено.
– Ты прав. Но у меня нет конфликта с «Дип Рэдом». Пойми, это – не мой мир! Моё вмешательство может вызвать катастрофические последствия для всего вашего континуума…
– Значит, ты хочешь вырваться один? Без всех нас? – спрашивает старик и его лицо-луна с узкими хитрыми щёлками глаз суровеет.
– Я должен вырваться вместе с живыми. Если ты живой, мяо ван, то помоги мне…
– Даже если для этого придётся тебя подтолкнуть к пропасти?
– Даже и если.
– Тогда проснись, Лувер. Открой глаза. Я приказываю тебе – открой глаза, и будь живым…
*** ***
– Вставай, милок! Хватит дрыхнуть! Хватятся тебя – трудодень не закроють… – будит меня старуха кержацких кровей. Я поднимаю голову с ситцевой подушки «в цветочек», и думаю, что, наконец, проснулся. Вокруг – грубая, потемневшая от времени изба, часы-ходики на стене, коврик с лебедями, фронтовые фотокарточки в простых рамочках…
Я, самое главное, всё прекрасно помню. Да, я здесь. Я и хотел быть здесь. Поехал в горы. Вчера заночевал у этой кержачки, мыкающей старческую вдовью долю, а она так обрадовалась гостю, что напоила меня самогончиком «на кедраче». Вот в голову-то и ударило – я же был в институте членом комсомольского агитационного кружка «За трезвость!» Надо меньше пить! А то от кошмаров этих сердце накроется или от пьянки печень лопнет…
Нечего к их нравам привыкать. Кержаки – они ведь отсталые. Тем более дикие горы вокруг…
«Лучше гор могут быть только горы»… Целинные горы – я здесь по комсомольской путёвке, в пору героического освоения целины, когда страна взялась и за горы, примыкавшие к непаханной казахстанской степи.
Я быстро собираю своё шматьё и отправляюсь в дорогу. Старуха крестит меня украдкой в спину и причитает насчёт начальства и трудодней, а я ухожу всё дальше – последний, самый глухой перегон моей жизненной трассы…
…Я ожидал увидеть здесь кого угодно: уголовников, «бичей», недобитое басмачество, неразоблачённых вредителей из бывшего «абвера» или американских шпионов, торопливо зарывающих парашюты. Но я никак не ожидал, что увижу тут… неандертальца.
А между тем я его увидел. В самый неподходящий момент, когда отошел с серпантинной дороге в кусты, по малой нужде, бросив у обочины рюкзак вместе со своей гладкостволкой…
Теперь неандерталец – голый, косматый, страшный – рылся в моих вещах по звериному, разбрасывая и обнюхивая разбросанное.
Когда я вышел из кустов, застегивая широкий кавказский наборный ремень, обезьяночеловек поднял на меня неровную, бугристую косматую морду и долго, зловеще маленькими глубоко посаженными кабаньими глазками изучал меня.
У меня не было с собой никакого оружия. Я мигом взмок от этого зловещего взгляда, но понимал: бежать сейчас —всё равно что застрелиться. Поэтому я стоял, стараясь волей своего взгляда перебороть обезьянью ярость, и не шевелился.
Говорят, гориллам нельзя смотреть в глаза – от этого они приходят в пущее бешенство. Но я сразу понял, что передо мной не горилла. Здесь гориллы не водятся, и зоопарки в эти целинные края ещё не заезжали.
Неандерталец отбросил мой распотрошённый рюкзак, поднялся на кривые низкие задние лапы и ударил могучим кулаком в грудь. Зарычал, ощеривая совершенно хищные жёлтые клыки. Мы были с ним вдвоём в целом мире – посланцы разных миров и разных эпох, в горах и тайге, где прежде, наверное, и не ступала нога человека…
Говорят, на медведя надо заорать – тогда он испугается и убежит. Но ведь это и не медведь… Да и голоса – чтобы орать – у меня не осталось, всё пересохло, как в пустынном колодце.
Я сунул руку в карман, где лежал трофейный дедовский портсигар. Время было тревожное, послевоенное, по рукам ходило целое море неучтённых «стволов», и люди всегда с уважением относились к этому жесту: рука в кармане потёртых «галифэ»…
Видимо, и этот обезьяночеловек что-то слыхал об огнестрельном оружии, потому что отступил от меня на шаг… Я щёлкнул в кармане портсигаром, как будто бы курок взвёл. Неандерталец отступил ещё на шаг – потом отвернулся и затрусил куда-то в лес – только шорох орешника по округе и пошёл…
Я осмотрел свои вещи. Гладкостволка, заряженная и в лучшие-то времена утиной дробухой, теперь совсем ни на что не годилась: обезьянин согнул её так, словно стремился узлом завязать, да силёнок малость не хватило.
Из другого барахла мало что осталось пригодным после столь сурового «таможенного контроля» хозяина тайги.
Я решил больше судьбы не испытывать и поспешил в правление овцеводческого колхоза со своим направлением. Вскоре меня подобрала попутная «полуторка» и шофер заметно побледнел при моём сбивчивом рассказе о дорожном происшествии.
– Это йети! – процедил он, сплевывая в окно зловонную самосадскую цигарку и поправляя широкую замасленную кепку. – Местные так зовут… Лесной человек, ни снега не боится, ни хрена…
…Председатель Колхоза, Егор Ильич Круглик (о чём свидетельствовала бумажная табличка на дощаной двери правления) принял меня невесело. Я рассказал, что остался без ружья, а в здешних краях это чревато…
– Вот гад! – ругался Егор Ильич. Он был невысокий, лысоватый, с пузцом, обтянутым рубашкой-распашонкой с вышитыми на ней «петухами». – Ты извини, товарищ учитель, что неласково встречаем, сам повидал нашу обстановку… Он ведь у нас прямо возле школы двух девчонок украл, семиклассниц, мы уже в райцентр послали, за воинской командой…
– Он что, людоед?! – похолодел я.
– А кто его знает? Его тут все бояться, а никто ничего про него не знает…
– Слушайте, Егор Ильич, до райцентра чуть не сутки пути… Если девочек можно спасти, то мы должны сделать это сами… У Вас есть оружие?
– Двустволка!
– Я про настоящее оружие спрашиваю, а не про охотничьи пукалки… Многозарядное, нарезное… В правлении обязательно должно храниться…
– Дык… храниться… вот, в сейфе, как положено… А как иначе…
– Доставайте!
Круглик открыл старый сейф со скрипом – в нём хранились только початая бутылка водки и пыльный стакан. Достал резную деревянную плоскую коробку – «зеки» в таких, ручной работы, ларях хранят «нарды», выставил на стол.
– От оно…
Я откинул два миниатюрных крючка (и правда, как шахматная коробка!) поднял покоробившуюся от старости и сухости крышку. Внутри под промасленной ветошью лежал в мягком гнезде буквально захлёбывающийся в тёмном низкосортном масле револьвер и двумя грядками торчали патроны к нему.
То, что патроны были – очень хорошо. Если бы их не было – думаю, к ТАКОМУ револьверу их было бы не подобрать ни в райцентре, ни даже в области.
– Егор Ильич! – смутился я – Скоро спутник в космос полетит, а у вас тут что?! «Смит и вессон», что-ли?
– Почему? – обиделся Круглик – Никакого ни виссона, ни крепдышина… Тульский револьвер, надежный… Я, правда, сам не пробовал, но предшественник рассказывал…
– Слушайте, да его за древностью даже в музей революции не примут! С такими тявками наши прадеды Шипку обороняли и Плевну штурмовали…
– Вовсе нет! – покачал Круглик головой, и продемонстрировал неожиданную для целинных гор эрудицию— Вот, товарищ учитель, клеймо: 1895 год. Уже не только Шипку, но и Геок-тепе взяли…
Я, сколько мог, оттёр скатертью револьвер, пачкая руки, разобрал его. Пистолет был простейшего устройства, даром, что здоровый, как «маузер», но малокалиберный. Подумав, как прискорбно будет, если его разорвет у меня в руке, я тяжело вздохнул и стал заряжать барабан.
– Чего вы стоите, Егор Ильич?! Берите свою двустволку, снаряжайте припас…
– А кто пойдет?
– Вам виднее…
– С нами на йети из местных никто не пойдет… Боятся… суеверные все… даже которые комсомольцы… Хороших комсомольцев в степь отправили, а нам сюда – чё туда не влезло…
– Всё равно искать их некогда! Пойдем вдвоём, на одну обезьяну это более чем… – я пощёлкал в воздухе пальцами, подбирая сравнение. – В конце концов речь идет о детях… Собака след возьмёт?
– Боятся его собаки…
– Егор Ильич, у вас тут явно культ личности недоразоблачили! К тому же обезьяний… Что же у Вас всё бояться да бояться… Ладно, некогда рассусоливать, берите свой «газик» и поедем к месту нашей последней встречи с этой нечистью…
– В лес, что ли? – голос председателя заметно дрогнул.
– Да. Он, свинья, ходит – сучья ломает, шерсть на кустах оставляет, да и вонючий он… Найдем, Бог даст…
– У-хх… Найти-то найдем…
– Вы коммунист, Егор Ильич?
– Да ладно, понятно всё! Ружьё заряжено, выезжаем…
Мы понеслись в раздолбанном, грохочущем на ухабах всей стальной плотью своей «ГАЗ»е навстречу своей судьбе. Бросили машину там, где уже проехать не представлялось возможности и пошли по следу «йети». Видимо, он шёл навстречу или блуждал кругами – мы наткнулись на него почти сразу.
Чудовище лакомилось с малинного куста. Заметив нас, зарычало и угрожающе бросилось вперед, помогая передними лапами задним. Я выставил древний револьвер перед собой, оттянув руку на всю длину и отвернув голову, инстинктивно защищаясь от возможного взрыва – и нажал на курок.
– Пук!
Жалкий щелчок был единственным следствием моих действий. Баёк пробил капсюль патрона, но от долгого хранения порох, видимо, выдохся. Я снова попытался выстрелить – и снова осечка…
Йети настиг меня – но возиться не стал: сзади поднимал две маслины чёрных дул председатель Круглик. Мощным ударом отшвырнув меня на хвою метров за пять, неандерталец прянул на Егора Кузьмича.
Со страху – или наоборот – из особой доблести – толстяк спустил оба курка одновременно. Йети получил по полной программе – его тушу развернуло в воздухе и вышвырнуло на каменистый склон, по которому он стремительно сползал вниз, к берегам горного ручейка.
Преодолевая слащавый привкус крови в груди, головокружение и слабость в ногах, я поднялся с пряной хвои и пошел, шатаясь, как с похмелья, к своему компаньону.
А его дела были тоже не блестящи: разряженную двустволку он выронил из рук, сел на землю, крепко прижимая рукой сердце: прихватило. Бывает. Возраст…
– Егор Ильич! Вы как? Таблетки с собой…
– С собой… В ягдаше… Достань, браток…
Еле-еле я отпоил его валидолом.
– Что же ты не стрелял?! – рассердился Круглик, почувствовав себя лучше. – Я ему, как порядочному, ещё и револьвер отдал…
– Сами стреляйте из своего револьвера! – хмыкнул я, передавая старику «грозное оружие». – Тут не патроны, а говно в гильзах… Вы бы ещё аркебузу в красном уголке держали…
– А-а… Вишь ведь как быват… Ну, не сердись, парень, я тебе в отцы гожусь… Подбил я его?
– Не без этого, товарищ Круглик. Там, на осыпи валяется, обезьяна драная…
– Пошли смотреть?
– Вы сперва лучше ружьишко перезарядите… На всякий такой пожарный…
Пока Егор Кузьмич возился с шомполом, пыжами и дробью, я сделал несколько шагов к осыпи, придерживая в руке бестолковый, но пригодный хотя бы для удара по мордасам «револьвер правления».
Мне послышался детский плач в кустах. Точно! Плачут две девочки! Сместившись вбок на два шага, я их даже увидел – две спины, перекрещенные белыми лямками школьного фартучка, плачут и обнимаются…
– Егор Кузьмич! – позвал я.
– Слышу, слышу…
– Осторожнее!
Но Круглик, добрая душа, и думать забыл об осторожности. Он проорал «Катя, Варя!», словно клич боевой и бросился обнимать девчат.
– Нашлись, милые мои! Не сожрал Вас Йети! Ну всё, всё, не плачьте, самое страшное позади… Мы сейчас повезем Вас в колхоз, а там…
Но девочки не были девочками. Это был – как позже мне приходилось читать – «оптический обман зрения». То, что казалось мне и Круглику обнявшимися девичьими фигурками, было тушей проклятого раненого обезьяночеловека, умевшего, словно леший, напустить туману и щебетать, как попугай, на разные тоны и голоса…
Егор Кузьмич понял это слишком поздно. Йети, возникший из зыбкого морока плачущих школьниц, схватил его лапой за грудную клетку – прямо сквозь кожу – и резким рывком вырвал её из тела. Круглик и охнуть не успел, как был уже расчленен, а Йети вырвал их его холодеющих рук ружьё и с чисто человеческой ненавистью стал ломать её об землю, гнуть и топтать. По крайней мере – подумал я – боль-то он чувствует…
Я стоял, ни жив ни мёртв – в нескольких шагах от безобразной сцены и только тискал в потной ладони деревянную, рубчатую, всю в насечках рукоять большого мёртвого револьвера.
Покончив с ружьём, отшвырнув могучим порывом тело покойного председателя, Йети снова посмотрел на меня. У него был гипнотический взгляд. Если это другая ветвь человеческой эволюции – думал я (в 50-е годы все были помешаны на теории эволюции!), то она, видимо, развивалась не через развитие механики и техники, как мы, а через развитие гипнотических и внушающих способностей. Действительно, зверя можно убить стрелой, дротиком, заманить в яму на кол – как мои пращуры – а можно и простым взглядом заворожить, заставить стоять на месте (как удав кролика), и потом жрать живьём, даже убить не удосужившись…
И если в древности, где-то на неандертальской стадии, человечество пошло «двумя рукавами», то и встреча, вроде нашей, становится исторической неизбежностью и даже «войной миров».
Йети смотрел на меня и тихонько рычал. Вся его морда и грудь были в крови – то ли от ран, то ли от живодёрства, разобрать я не мог. Зелёные огоньки безумных зрачков не мигали – и словно в детском калейдоскопе, передо мной сбивчиво мелькали смутные картинки: какой-то мужик в кепке, с лукошком грибов… Покойный Круглик… Баба с коромыслом… Сохатый с ветвистыми рогами… Медведь… Кабан…
Передо мной был гипнотический, психический хамелеон, пытавшийся затаиться на местности и принять какую-то безопасную для себя видимость. Но я слишком хорошо запомнил его место, и сбрасывал морок раз за разом усилием воли и самовнушением. Интересно отметить, что Йети это чувствовал…
Я не понимал, зачем он дурачиться, вместо того, чтобы просто растерзать меня: силы-то были явно не в мою пользу. Но потом догадался, что Йети очень не нравится одна чёрная дырочка, пляшущая между ним и мной. Именно чёрной дырочкой выглядит направленное на кого-то стволовое отверстие огнестрельного оружия…
Я снова нажал на спусковой крючок. Снова металлический лязг старого бойка – и прокрутка тульского, ручной выточки, барабана – опять незадача.
Хоть это и были пятидесятые годы, хоть я и был комсомольцем-целинником, хоть я и пытался всё объяснять «эволюцией» – на этом этапе я стал молиться давно забытому Богу. Мы все слишком отчетливо понимаем существование Бога в минуты, когда силы наши уже исчерпаны, а какие-то возможности и вероятности ещё остаются. Человек молиться тем искреннее, чем отчётливее понимает, что свои силы не безграничны…
Можете считать это совпадением, но молитва мне помогла. Следующий выстрел (четвёртый из семи возможных) револьвер совершил вроде бы нехотя, через силу, как старый-старый специалист, давно на пенсии, которого заставили слезать с печи и вспоминать навыки «по диплому».
Пуля ударила Йети, наверное, в пол-силы – большего от слежавшегося пороха и требовать невозможно, но ему этого хватило. Планы атаковать он оставил, и, подобно всем животным, легко переходящим от агрессии к бегству, предпочёл спрыгнуть с осыпи в орешники и унестись вниз, к ручью, промывать и зализывать раны.
Его низкий, утробный, обиженный на жгучую осу боли вой стлался над гористой тайгой бредовым наваждением.
Я всё же отделял себя от животных – по крайней мере, тогда. Перейти от атаки к бегству по мере целесообразности, без всяких угрызений совести и ущемлённого гонора я не мог. Я ведь «царь зверей»! Распаляемый фанаберией, я побежал вслед за Йети (откуда только прыть взялась!), вопя и улюлюкая не столько для него, сколько для самого себя: мне хотелось казаться больше и страшнее, чем я был на самом деле…
Путь Йети я легко определял по тёмно-вишнёвым, неестественным на вид каплям его крови. Возле каменного грота, заросшего космами моха и завешенного корнями верхних кустарников, я настиг Йети…
…Правда, не совсем Йети. Передо мной стоял молодой солдатик в порыжелой на солнце советской гимнастерке, с малиновыми погонами «СА». Пилотка на голове, голубой честный взгляд, открытое лицо… Я не мог застрелить его вот так, запросто, ничего не сказав и не перепроверить. Я видел, что капли венозно-густой кровищи подходили прямо к кирзовым сапогам солдатика, я помнил, что Йети уже побывал сегодня девочками, председателем и местной фауной, но всё-таки, всё-таки…
– Товарищ! – предупредил меня солдатик нормальным человеческим голосом – Стой на месте! Вдруг ты хамелеон?!
Я остановился, утирая отовсюду струящийся пот, но револьвер держал наготове.
– Ты кто такой? – спросил я, напуская начальственность в голос.
– Я? Из райцентра взвод прислали… На прочёсывание леса…
– Знаю про такое дело… – говорил я с предательским астматическим хрипом. Грудь гуляла на «развал-схождение», дрожь в руках и ногах никак не унималась.
– Сам откуда?
– Из Уфы…
Точно Йети! – подумал я про солдатика. Наверное, мысли мои читает – я сам уфимский, и он маскируется под уфимского, в земляка, мол, палить труднее будет.
– Как фамилия?!
И тут он называет мою собственную фамилию! Какова наглость «мага и волшебника» из дикого леса – взять и назваться мной!
Я всё понял. И всё-таки – очень уж хорошее было у солдатика лицо, чтобы стрелять в него. Я придумал очень суровую проверку, но постарайтесь меня понять и не осуждать за жестокость…
– Парень, домой, в Уфу, в отпуск хочешь?
– Естественно, не откажусь…
– Тогда подними левую руку вверх!
– Левую – завсегда! Правой я тебя на мушке держу, товарищ, а левую – изволь-пожалуй…
Он поднял ладонь, и я выстрелил в неё, как в мишень. Я уже знал, что в момент острой боли Йети не может удержать фальшивое обличье и показывается в своей подлинной шкуре…
Я был почти уверен, что красивый солдатик сейчас обернётся монстром тайги. Но солдатик очень по человечески загнулся, застонал, прижимая к животу пораненную руку. А вот за его спиной, в темноте грота, возникла искомая образина, как зловещий мираж – клыкастая, когтистая, широкогрудая. Я не сомневался, что Йети сейчас растерзает солдатика, как незадолго до сего порвал Круглика. Но Йети был без глаза…
…Да, без своего поганого, маленького глаза, вместо которого красовалось на волосистой морде кровавое месиво. Йети зашатался, как нетрезвый, покачнулся, пару раз взмахнул лапами – и повалился в хрустальные струи ручья. Вода обтекала его, уже мёртвую тушу, и уносила вдаль кровяные ниточки его подтёков…
Йети прятался в гроте – может, там было и его логово. Перед моим выстрелом – вот ведь совпадение – он решил напасть на солдата со спины. Моя усталая пуля 1895 года выпуска (может быть, чуть-чуть позже) прошила тонкую мальчишескую ладонь солдатика и по новому невероятному совпадению ударила прямо в глаз лесному чудищу. Это было для меня Доказательством Бытия Божия. Если бы малокалиберный и выдохшийся в коробке патрон попал бы в лоб или в скулу Йети, он бы его только разозлил. Войти внутрь ненавистного покатого черепа неандертальца пуля могла только при одном условии: если не встретиться с костью. То есть через два глаза, и может быть, через два уха. Вероятность такого попадания в существо, которое я даже не видел, равнозначна попаданию в бешенно скачущую белку слепым стрелком на расстоянии не менее 100 метров.
С тех пор я больше не верю в случайности. Я не выходил из комсомола, и не сжигал прилюдно членского билета (это войдет в моду много позже), но как то сразу отошёл от всех комсомольских дел… Может быть, и зря – неплохая в целом была организация.
С нас взяли подписку о неразглашении государственной тайны. И только тут я вспомнил, что мой отец имел шрам на руке, и на все мои детски вопросы отвечал: «понимаешь, сынок, я давал подписку никому про этот случай не рассказывать»…
Я постепенно просыпаюсь… Морок спадает, но постепенно… Да, ведь я мальчишка 70-х… Что и каким образом я мог делать в целинных горах 50-х годов, до своего рождения? Но если всё это сон и выдумка, если этого никогда не было – то откуда на ладони отца оказался этот «подписной» рваный шрам?!
*** ***
– …Проснись! Да хватит меня пугать! Давай, открывай свои дерьмовые глаза, а то «скорую помощь» вызывать буду!!!
Друг юности, Лёша Леднёв толкает меня в плечо. Я просыпаюсь из тенёт мутного и липкого сна-кошмара и оказываюсь в очередной версии мира, претендующей на то, чтобы я принял её за настоящую. Я начинаю вспоминать, что именно Лёха в своё время рассказывал мне о «кошмарах-матрёшках», в которых много раз фиктивно просыпаешься, но ужас играет с тобой, как кошка с мышкой, не выпускает, снова и снова заставляет понять, что ты проснулся не по настоящему.
Существование вполне жизнеподобного автора теории многослойных снов рядом убеждало в том, что это – наконец, пробуждение.
– Ты чего? Беленой отравился, что ли? – интересуется Лёха.
– А что?
– Спишь, как утопленник! Толкаю, толкаю… Ты чего-то плохо выглядишь…
– Да? Я так…
– Приехали.
Мы приехали со Леднёвым к нему в подземный гараж на окраине города, с выпивкой и закуской, как и положено «гаражным синякам». Приехали на его «Рено-Мегане», капот которого Лёха собирается превратить в стол. Пока он паркует машину, я пользуюсь случаем побродить туда-сюда. Пока мне тут кажется надежным: кирпич, как кирпич, врата как врата, стальные, с номерами. Посреди проезда – большой сливной колодец канализации, прикрытый неряшливо сваренной самодельной решеткой…
Под бетонными сводами гаражного кооператива – тускловатые люминесцентные лампы «дневного света», протянуты провода и узкие трубы. По одной из них деловито бежит по своей надобности жирная крыса…
Неприятно, но реально. Неужели дома?
На вратах одного из гаражей надпись мелом. Сама по себе надпись обыденная: «Срочно продам гараж». Таких – сотни и тысячи по стране, самодельных рекламок, и я не обратил бы на неё внимания, если бы не странная приписка:
«Срочно продам гараж. Задолбали эти зомби!»
Я обращаю внимание Лёхи на странную надпись. Он отмахивается – дескать, не обращай внимание, прикалываются. Однако, похоже, что и он озадачен.
– Давай, глотнём по малой, оно и проясниться…
Мы стоим над капотом «рено-мегана», пьём охлаждённый «Абсолют-цитрон» из «вспотевшей» в духоте подземелья бутылки матового стекла, закусываем резаным копчёным «чечилом», ломтиками ананаса и полупрозрачными ломтиками лососины, сочными грушами в самом соку. Наливаем себе ещё немного, чтобы «войти в норму».
– Ну чё? – скалится Лёха – малость въехал в тему?
– Какую? С зомби, что ли?
– Ты точно парами бензина траванулся…
– Лёха… Скажи честно, сколько я спал?
– Сколько? Да всю дорогу! Как убитый! Там на въезде в гаражи авария была, мужика насмерть сбило, я тебя толкал, показать, так ты и там не очнулся…
– Слушай, ты не представляешь, что мне снилось! Кошмар на кошмаре и кошмаром погоняет…
– Бывает! – посочувствовал мне Леднёв – Ты не рассусоливай, пей, давай, тару не задерживай…
Рюмка у нас одна – в виде хрустального сапожка – и гуляет в гараже навроде братины – по кругу. Я допиваю ароматную цитрусовую водку и тяну зубами гуттаперчевую массу солёного сыра-«чечила».
Лёха рассказывает мне о своих хозяйственных планах: заложить тут, в гараже, вонючий погреб, доставшийся ещё от родителей. Погреб постоянно заливает грунтовыми водами, и, чтобы достать оттуда банки, Лёхин отец приспособил насос. Нужно сперва откачать воду, а затем лезть по сомнительной лестнице в осклизлую мрачную дыру за «фруктом». Некоторые банки «домашних заготовок» лопнули, их содержимое загнило и воняет. Из – за этого в гараже бывает сыро и зловонно.
Если заложить погреб намертво, то проблема будет исчерпана сама собой. Лёха хочет верить в то, что кроме воняющих солёностей и варений в мире нет других проблем.
Истошный женский крик откуда-то издалека, из-за ворот подземного кооператива показывает нам, что это не так. Мы – два пьяных дурака – смотрим друг на друга, и, не сговариваясь, спешим совершать рыцарские подвиги.
Он хватает из машины бейсбольную биту, а я нащупываю в кармане рубленую рукоять газового пистолета.
Когда мы выбежали под небо с круглой, жёлтой, неестественно крупной Луной – женский крик уже оборвался. Мы стояли под звёздами, как говорят в народе, «охреневшие от собственной крутости», и искали неприятностей.
Места тут, в гаражной местности, смутные. Мне никогда не нравилось в этом краю – какие-то промышленные ангары, автозаправка, сбоку примыкает совершенно чёрный по ночам еловый массив. «Индастривал пейзаж», хаос бетона, металла и обломков техносферы – самый привычный антураж для всякого рода хулиганья, наркоманов и панков.
Но Лёха, человек весьма состоятельный, мне кажется, не случайно цепляется за это далёкое от дома место; Он человек рисковый, с авантюрной жилкой, и явно не из тех, кто думает об избежании «всяких эксцессов».
– Ночка, мать ити! – ёжится он под свежестью напористого ветра. – Как в негра в заднице…
Тут он не прав. Ночка, в общем-то светлая. Просто в этих местах слишком много глухих теней от ангаров и глухих стен, куда не то что Луне – Солнцу-то трудно пробиться.
Мы идём во тьму, идём на звуки какой-то глухой возни и рычания, смахивающего на собачье. Я выпускаю газовый патрон по направлению чавкающих звуков: если это псы, то они разбегутся от вони горчичного газа. Но никакой перемены, поскуливания или повизгивания в направлении выстрела не происходит.
Лёха (как будто специально экипированный для таких приключений – это в его характере) включает фонарик. Жёлтое лезвие света вспарывает черный бархат ночи, с заметным, кажется, скрежетом.
– А может, стоит всё-таки отвести грунтовые воды? – спрашиваю я у Леднёва, возвращаясь к волнительной теме «родового наследного погреба».
– Знаешь, это обойдется дороже всех солений и варений, которые я смогу разместить в погребе в промежутке лет на триста…
Мы нашли источник возни. Некто склонился над упавшей девушкой и что-то делает… В прорези фонарного света он отчетлив и контрастен со спины – замызганные тертые джинсы, клетчатая фланелевая рубашка.
– Ё-моё! – бледнеет Леха – Лувер, это же тот чувак, которого на разъезде машиной сбило…
– На каком разъезде?
– Да я тебе говорил, ты дрых тогда…
«Чувак», наконец, почувствовал пристальное внимание к своей персоне и обернулся. Не реагировать далее было бы просто невежливо с его стороны.
Жуткая перекошенная и абсолютно-бледная, какая бывает только у покойников морда его была вымазана багровыми подтёками. Шея казалось начисто свёрнутой, глаза глядели совершенно безумно, как у кальмара или спрута. Он оскалился на нас и зарычал по звериному, при этом мне пригрезилось, что пасть его раскрывается много шире обычного человеческого челюстного раствора.
– Мама миа! – выдал Лёха почему-то по итальянски.– Тебя же, парень, патологоанатом простыней закрыл…
То, во что чудовище превратило свою жертву, лучше и не пытаться представить. Вся верхняя часть туловища девушки превратилась в какое-то кровавое, словно бомбой развороченное месиво.
– Ах, ты урод! – рассвирепел Лёха, поднимая свою биту и делая шаг к чудовищу. Не лучшие чувства у монстра вызывал и сам Лёха. Он подпрыгнул, как на пружинах, и побежал к Леднёву с рычанием леопарда и искрами, пляшущими в глазах головоногого…
Два моих газовых выстрела не произвели на трупа никакого впечатления.
– Да не перди ты! – одёрнул меня Лёха, морщась и размахиваясь. Точный удар в голову сместил траекторию чрезмерно активного покойника много в сторону. Дубина со свинцовым набалдашником могла бы убить и медведя, но чудовище, сбитое кем-то на разъезде у гаражей, даже не выпало в обморок.
Оно лишь взмотнуло головой в колючем кустарнике, куда отлетело и снова рванулось в атаку. Его скорости мог бы позавидовать и хищник. Если бы не колючий шиповник, десятками игл вцепившийся в одежду трупа, не задержал бы его на доли секунды, то Лёха точно не успел бы перегруппироваться для нового удара.
Уверенные движения дубинщика на этот раз привели к выпадению глаза – к счастью, не у самого дубинщика, а у агрессора. Мёртвый глаз повис на длинной белой нити, подобно моноклю на цепочке.
Лёха воспользовался лёгким замешательством монстра, и долбанул второй раз, уже целенаправленно, окончательно лишая «циклопа» зрения. Тот не стал менее свиреп – но явно потерялся в пространстве, как и любой слепой – стал кружить, выставив руки перед собой, хватать, что попало, пробовать на зуб и выбрасывать.
Леднёв расстегнул свою кожанку и я увидел длинный нож-мачете в великолепном, на бухарский манер расшитом чехле. «Да, Лёша!» – подумал я – «Это явно твой звёздный час!»
Лёха поймал трупа за волосы и чёткими, подрубающими движениями, с двух сторон, отчленил голову, выбросил её, как мяч, подальше в кусты. Тело не умерло, нелепо расшатываясь, побрело куда-то в сторону, взмахивая конечностями, словно крыльями. Подобную жуть я видал только однажды, в детстве, в доме отдыха «Сосновый бор», где наш сторож отрубил петуху голову, а тот вырвался, и ещё пару минут носился по двору, как зачумелый, роняя на изумруд травы рубиновые капельки крови…
– Ты видел?! – торжествующе спросил Леднёв.
– Угу!
– Однако…
Мы побежали в сторону залитой светом бензозаправки, одержимые порывом звонить в милицию и в епархию РПЦ – трудно сказать, в чьей компетенции была эта чертовщина.
Но на бензозаправке мы не застали ничего живого. Из раскрытой кабины грузовика свешивалось изуродованное тело водителя: ноги в кабине, а голова уже на асфальте. Фонари всюду горели ровно и трезвяще, отгоняя призраки и грёзы, но за окошечком диспетчера розлива было пусто и всё заляпано какими-то пятнами и разводами.
– Может, у них тут и нет никакого телефона? – предположил Леднёв, и я с великим облегчением согласился с ним. Действительно, с чего бы тут быть телефону? Навряд ли его сюда тянули… Предупреждать об опасности больше некого. А в гараже нас ждёт «рено-меган», в котором лежат наши сотовые телефоны, способные связать по роумингу с целым миром. Да, это дороговато – долгие объяснения по сотовому – но мне казалось, что обстановка не располагает думать об экономии.
– Дуем в гараж! – решил Леднёв.
Мы понеслись, как говориться, «быстрее лани». Куда только девались наши одышка и одутловатость телесной «полноты» – мы оба были по фигуре отнюдь не «балеро»…
…В боксе нас всё застало таким, каким было оставлено: и водка в хрустальном «сапожке», и закуска ломтиками, и банки с протухшими соленьями, которые Леднёв извлек из погреба в прошлый свой приезд.
Первым делом Леднёв связался с женой – велел ей сидеть дома безвылазно, и никому, кроме него не открывать бронированной двери. Я видал их квартиру на пятом этаже – там можно пересидеть даже оккупацию.
От дела спасения близких мы перешли к спасению мира в целом.
Пока Лёха набирал милицейский номер, я решил хряпнуть ещё разок «Абсолюта» – неизвестно, в каком мире я окажусь в следующий раз, это учит ценить комфорт.
– Слушай, это маразм какой-то! – возмутился Лёха и протянул мне свою «трубу» «мобилы». На экранчике набора значился милицейский номер – «02».
– Извините, абонент временно недоступен… Извините, абонент временно…
– Что за хрень такая! – ругался Лёха, доставая из багажника зачехленный карабин. – Ты хоть что-нибудь понимаешь? Как это «02» может быть «временно недоступен»?! Бред какой-то… Ты как считаешь?
– Раз, два, три, четыре… – пересчитывал я патроны в его патронташе. – Что бы там ни было, тебе, Лёха, лучше зарядить полную обойму, и не забыть вставить восьмой добавочный прямо в ствол…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/chitat-onlayn/?art=70708408?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
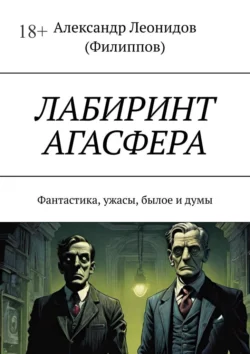
Александр Леонидов (Филиппов)
Тип: электронная книга
Жанр: Триллеры
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 22.05.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Настоящий ужас всегда скрытен и психологичен. Это экзистенциальный ужас, который и напугать-то может только думающего, развитого человека. Ужас не в реках крови и не в прилюдных расчленениях тел, а в том иррационализме, который стоит за всем этим. Исходный ужас – интеллектуален. Это – ужас безвыходного софизма, ловушки для разума – вот тот ужас, которому посвящает произведение Александр Леонидов в 2007 году. Книга содержит нецензурную брань.