Апокалипсис. Сейчас позже, чем мы думаем…
Апокалипсис. Сейчас позже, чем мы думаем…
Андрей Ткачев
Борис Вячеславович Корчевников
Борис Корчевников и телеканал Спас. Совместный книжный проект
Апокалипсис, или Откровения Святого Иоанна Богослова – одна из самых глубоких и таинственных книг Библии.
Священник Андрей Ткачев и известный телеведущий Борис Корчевников исследуют и открывают читателю главу за главой, снимая пелену с образов, слов и цифр, записанных две тысячи лет назад апостолом Иоанном.
Каждое поколение, читая Апокалипсис, находило в нем черты своего времени, все находят себя в этой книге, потому что мы живем в полноте времен.
Двадцать две коротких главы Апокалипсиса вобрали в себя всю грандиозную Библию и всю историю мира. Мы всмотримся в это Откровение, чтобы осмыслить свое место в этой истории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Борис Вячеславович Корчевников, Андрей Юрьевич Ткачев
Апокалипсис. Сейчас позже, чем мы думаем…
© Корчевников Б.В., текст, 2023
© Ткачев А.Ю., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Предисловие
Апостол Иоанн Богослов – один из самых глубоких и таинственных людей в истории мира. Рядом с ним можно поставить только до сих пор не видавших смерти Еноха с Ильей и Моисея. Иоанн – созерцатель. Его умному взгляду открыто то, чего другие не замечают. Под Крестом Искупителя он получает повеление опекать Матерь Божию. Иоанн доживает почти до глубочайшей старости, и вообще непонятно, умер ли он. Есть предания о том, что он жив и до сих пор на земле. Андрею Юродивому в Константинополе Иоанн являлся как защитник от бесов. И в той церкви, где Андрей видел это явление, бесы страшным голосом вопили: «Идет страшный старик, и будет бить нас!». Ангелы держали падших духов, а Иоанн, имея в руках цепь, наносил им удары. И эти удары были реальны, звук их слышал Андрей. Интересно, что апостол любви, старец, который по слабости к концу жизни говорил только: «Любите друг друга», оказывается столь страшен для бесов.
Это человек с открытыми духовными глазами. Его чуткое ухо слышит нечто дивное. Ему дано столько, что он мог бы написать несколько Библий в полном объеме. Но он очень мало говорит. Это поразительная черта. И в этом Иоанн – великий пример для подражания. Знать много, говорить меньше.
Его Апокалипсис – это торжественная книга. Это оратория. Там много оркестровых тем, очень много голосов и очень много инструментов. Сильно ошибались те, кто пытался объяснять Апокалипсис буквально и находить в нем историческую схему уже произошедшего! Это не «дорожная историческая карта». В ней нет графика исполнения событий. И все-таки это книга обо всем.
О том, как человек отвращается от Бога и обращается к Богу. Как он вразумляется казнями – и не вразумляется ими. Из нее мы узнаем о человеке много страшного и великого. Узнаем о том, каким он может быть – небожителем, живущим в содружестве святых и Ангелов – и каким может быть врагом Господним, кусающим себе язык от злости и упорно не желающим покориться Сидящему на престоле. Это Откровение не об одних лишь исторических судьбах, но и о действующем лице мировой истории – о человечестве целиком и об отдельном человеке.
Бог говорит Иоанну образами, словами и даже цифрами, которые сложно понять неподготовленным умом. «Двадцать четыре старца», «Жена, облеченная в солнце», «Агнец с семью очами», «красный дракон с семью головами», «первый зверь из моря», «второй зверь- лжепророк», «всадники на разноцветных конях», «семь труб», «семь чаш», «саранча», «семь Ангелов», «Вавилон, который одновременно и город и блудница»… Все эти числа, которыми наполнены главы Апокалипсиса: 144 тысячи, десятки, семерки, двенадцать, 24, три с половиной, 42 и, конечно же, 666… Впрочем, любую библейскую книгу невозможно понять с наскока. Некоторые книги благоразумные книжники скрывали от человека до полного совершеннолетия. Например, первые главы Бытия, Песнь песней Соломона, отдельные главы Иезекииля… Без толкования, без разъяснения непонятны даже такие «простые» тексты, как «Отче наш» или «Величит душа Моя Господа».
В силу особенной таинственности, несмотря на то что Апокалипсис – это итог, цель и смысл всей жизни, и нашей, и планеты, – это единственная книга Нового Завета, которую почти не читают на богослужении. Почти. Согласно Иерусалимскому уставу, он читается на богослужениях, на всенощном бдении, между концом вечерни и шестопсалмием – при переходе к шестопсалмию, когда служба уже переходит в утреню. За год он прочитывается два с лишним раза, если читать по одной главе за всенощную.
Двадцать две коротких главы Апокалипсиса вобрали в себя всю грандиозную Библию и всю историю мира. Мы всмотримся в это Откровение и попытаемся осмыслить, к чему была вся эта история и к чему мы сами такие?
Каждая эпоха, читая Апокалипсис, находила в нем черты своего времени – и наполеоновское нашествие, и средневековые потрясения, и война Реформации против Рима. Все находят себя в этой книге, потому что мы живем в полноте времен. А полнота эта пришла уже тогда, когда звезда воссияла над Вифлеемской пещерой и в мир пришел Христос.
Потрясения апокалипсиса – те же катаклизмы, войны, смуты, эпидемии и крушения общественного строя – называют «родовыми муками нового Мира». И природа страждет, потому что стихии, напрягаясь, ускоряются. И земля мучается, нося на себе грешников. Грехи эти известны давно. Гнусное кровосмесительство, мужеложество, скотоложество. Обжорство ненасытимое, когда люди будут съедать в четыре-пять раз больше, чем обычный человек, и не смогут наесться. Радость о зле. Ненависть к благодати. Непокорство, спесивость, гордость, невыносимая обидчивость, желание и умение мстить, злоречие, отсутствие авторитетов…
Человек сначала заражается изнутри, потом заживо гниет и мучает собою всю вселенную. И вселенная отказывается жить под властью такого господина. Назревает кризис, похожий одновременно и на смерть, и на роды. И мы надеемся, что через боль этого кризиса мы обретем выход к свету.
Глава 1
Чему надлежит быть вскоре…
Маленький Патмос иногда называют «Иерусалимом Эгейского моря». Но две тысячи лет назад это был край света, выжженный и малолюдный – место, куда ссылали преступников. Отправили сюда и любимого ученика Христа, апостола Иоанна Богослова.
Это произошло в конце I века. В Римской империи тогда шла очередная волна гонений на христиан – их винили не только в отказе поклоняться традиционным языческим богам, но и в отказе соблюдать главный культ, установившийся к тому времени по всему римскому миру: культ императора. Обожествление кесаря считалось главным свидетельством лояльности властям – правителя почитали как бога и строили в его честь храмы. Обожествленного кесаря не стыдились именовать «Кириос», то есть Господь, или «Де- ус», то есть Бог.
Церковь стремительно росла на крови мучеников, а апостол Иоанн оставался последним из тех учеников, что видели живого Христа. Все остальные погибли в разных частях света.
Впрочем, нельзя сказать, что апостол Иоанн, 95-летний старец, прибыл на Патмос узником. Он был почти свободным – да, он не мог покинуть остров, но в его пределах мог делать что угодно, и он без промедления начал проповедовать и крестить людей. Само его пребывание на острове было не ссылкой, а скорее миссией; так и рассеяние апостолов из Иерусалима, внешне имевшее облик гонений, по сути было распространением славы Божией. Иными словами, апостолов изгнали, чтобы они благовествовали. И Иоанна сослали для того, чтобы он разбогател учениками.
Языческий Патмос, усеянный капищами самых разных богов, к концу I века утопал в дичайших суевериях и извращенных культах. Это была территория культа Артемиды-Дианы. И людей тогда на Патмосе жило в 10 (!) раз больше, чем сегодня. Имели место человеческие жертвоприношения, а верховодили тут всесильные жрецы, творившие неслыханные «чудеса».
И за несколько лет, которые провел на острове святой Иоанн Зеведеев, на Патмосе не осталось почти ни одного некрещеного человека. На набережной Скалы, нынешней столицы острова, до сих пор сохранились остатки баптистерия – купели, в которой сосланный апостол крестил островитян. Со временем крестились все – и представители власти, и жрецы, решившие отречься от прежних суеверий.
Житие Иоанна сохранило память о том, как здесь, на Патмосе, немощного старца страшились бесы, как он исцелял и посрамлял «чудеса» местных магов-жрецов, как возвращал к жизни умерших и проповедовал Христа…
По преданию, когда срок ссылки уже подходил к концу и вера утвердилась почти на всем острове, Иоанн со своим учеником Прохором поднялся на лесистую гору в центре Патмоса, в безмолвную глушь, и остановился в небольшой пещере, где несколько недель строго постился и пребывал в молитве.
Бартоломео Монтанья. Иоанн Богослов пишет Апокалипсис на острове Патмос. Фреска. Рим. Часовня святого Иосифа
Эта пещера теперь известна под именем «Пещеры Апокалипсиса». К ней ведет старая каменистая тропа, по которой столетиями восходили паломники, и двадцать две ступени – ровно столько, сколько глав в Откровении, которое на этом месте получил Иоанн.
В этой пещере Бог открыл Иоанну хронику последних времен и цель всей истории мира: Апокалипсис, в переводе с древнегреческого – «откровение», раскрытие того, что было закрыто.
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа и что он видел (Откр. 1:1–2).
В этих словах запечатлено Откровение Божие прямая речь Отца Небесного, данная через Его сына Иисуса Христа. Он же и говорит, зачем Он дал этот Апокалипсис. «Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Уже почти две тысячи лет назад Он сказал: надлежит быть вскоре.
В больших числах не таится смущение, ведь эти тысячи лет – как один день, и один день – как тысяча лет. Все очень подвижно. Если нам удастся быть в Духе, то мы увидим, как на ладони, прожитую жизнь, и историю мира – как быстро прокрутившуюся киноленту. Поэтому с точки зрения Бога действительно вскоре все закончится. И мы одной ногой стоим уже в этих совершившихся событиях.
Иоанн – семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь (Откр. 1:4–6).
В книге сказано, что Иоанн был в духе в день воскресный… (Откр. 1:10). Значит, Воскресный день, день Господа, уже тогда был фундаментом церковной молитвы, новым днем молитвенного собрания. Иоанн молился здесь именно в Воскресный день, и явление Христа было в Воскресный день. Почитание Воскресного дня – прямой путь к тому, чтобы почаще с Богом разговаривать. То, что Ему бывает не с кем поговорить – это проблема человечества. Но Он желает говорить с нами. Например, Парфений Киевский часто просил Его: «Живи во мне, живи во мне, прошу Тебя, будь во мне и живи во мне»… На что услышал голос: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6:56). Воскресная Евхаристия новое сердце мира.
Апокалипсис – это самая литургическая книга Писания. Нам придется много раз напоминать себе о том, что эта книга больше других говорит о литургии. О живом богоявлении и живом общении людей с Иисусом Христом.
Словосочетание «был в духе» говорит о том, что человек – трехчастен. У человека есть тело, что очевидно. У человека есть душа, оживляющая тело, бессмертная, как нам говорят и как мы это чувствуем сами. И в человеке есть высшие способности, то, что мы называем духом. Это отличает человека от всех других одушевленных, у которых духа нет. Дух есть способность души воспарять к Богу, мыслить о горнем, забывать земное. И когда он «был в духе», это значит, что он был в Духе Святом. Подобное – к подобному. От Духа Святого дается духу человеческому выйти за пределы земного, вырваться, совершить то, что, например, телесно мы делаем при помощи ракет начиная с Гагарина. Человек совершает титанические усилия, чтобы оторваться телесно от Земли но, оказывается, можно, оторвавшись, остаться земным. А можно, никуда не отрываться, а духом видеть все, выше звезд быть. Вот Иоанн был. Дух Иоанна окрыленный. Иоанн символизируется орлом.
Похожее описывал и апостол Павел. Он был в раю и слышал неизреченные глаголы, а в теле он был или вне тела, он сам не знает (см.: 2 Кор. 12:4). Я думаю, что и Иоанн сам не знает, он был в теле или вне тела. Характерной особенностью его речи является разговор о себе в третьем лице: «тот ученик», «ученик, которого любил Иисус». На себя самого Иоанн смотрит со стороны и избегает «якать».
Голос Божий слышится внутренним человеком, а не плотским ухом. Человек есть внешний, а есть внутренний, сокровенный, как в матрешке. Вот эта тайная матрешечка, самая крохотная и самая важная, и слышит голос Божий.
Ученик Иоанна Прохор в это время мог и не видеть ничего, как не видел ученик Сергия Радонежского Михей, когда к святому Сергию приходила Богородица. Когда было Ее явление, Михей просто упал и ничего не видел. А Сергий разговаривал с Девой Марией. Присутствие не обеспечивает слышания, если внутренний человек не готов.
То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию (Откр. 1:11).
Аси?я, или Азия – это запад нынешней Турции. В те далекие времена, когда создавался Апокалипсис, это была римская провинция. Семь городов, к которым пишет Иоанн, сохранились и по сей день – теперь они либо стали частью турецких поселений, либо обратились в величественные развалины неподалеку от последних.
Эфес, ныне Сельчук – бывшая вторая восточная столица Римской империи, город, где жил, проповедовал и был погребен после смерти апостол Иоанн.
Смирна – современный Измир – крупный мегаполис, третья столица Турции (ей и в Апокалипсисе был обещан «венец жизни»).
Пергам – когда-то крупнейший и богатейший город с грандиозным храмом Зевса (только его алтарю теперь посвящен огромный Пергамский музей в Берлине). В наши дни от города остались лишь развалины на окраине турецкой Бергамы.
Фиатира, откуда родом была Лидия, первая известная христианка в Европе – тоже теперь лишь развалины вблизи турецкого Акхисара.
Сардис – когда-то богатейший город, столица огромного государства Лидия, занимавшего территорию в половину нынешней Турции. Сейчас от города сохранились только руины в 75 километрах от Измира, недалеко от городка Салихлы.
А рядом с Сардисом – небольшая Филадельфия; теперь это турецкий Алашехир.
Впечатляющими руинами осталась и Лаодикия – когда-то большой промышленный центр. Город, про чью церковь Господь скажет в Апокалипсисе: «Ты не холоден и не горяч» (Откр. 3:15–16).
Семь церквей Апокалипсиса – это и реальные церкви той поры, и сборный образ всех церквей мира во всех возможных их состояниях: от горячности и праведности до состояния упадка и утраты духовной памяти. Все амплитуды, все колебания церковной жизни представлены в этих семи церквях.
Есть также мнение, что семь церквей Апокалипсиса – это семь этапов жизни Церкви от ее основания до Второго Пришествия Христа.
По этой схеме Эфесская церковь – это время апостолов и борьбы с первыми ересями. Смирнская – эпоха гонения и преследования христиан за веру; века мучеников. Пергамская – период Вселенских Соборов и становления канона нашей веры. Фиатирская церковь, про которую Бог говорит, что «последние дела ее больше первых» (Откр. 2:19) – это эпоха распространения христианства по миру. Сардийская – это гуманизм и материализм XVI–XVIII веков, из них вышел дух бунта, который будет потом атаковать христианство по всему миру. Филадельфийская – это Церковь сегодня; пора относительного церковного благоденствия на фоне убывающей веры. А Лаодикийская – это страшный период перед концом света, когда люди будут равнодушны – «ни холодны, ни горячи».
Впрочем, эти попытки точно распределить жизнь Церкви по историческим этапам страдают натяжками. В Апокалипсисе трудно с периодизацией. Апокалипсис резко переходит из будущего в прошлое, из прошлого в настоящее. Флешбэки сменяются футурологией. Реальность ускользает от точной систематизации.
Но что совершенно точно, так это то, что в семи церквях Азии любой из нас, как в зеркале, видит сам себя. Это зеркало церковной жизни. Надо вглядываться в это зеркало, чтобы каждой общине найти себя там и покаяться, пока не поздно. А если нет, то «приду и сдвину светильник твой» (Откр. 2:5). Он же всем говорит: «Знаю твои дела». «Так говорит Держащий семь звезд в деснице своей, Ходящий посреди семи золотых светильников… знаю дела твои» (Откр. 2:1–2). Уже в первой главе Он сам поясняет, что это за семь звезд и семь светильников.
Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей (Откр. 1:20).
У Него же и ключи от ада и смерти. Он их Хозяин. В Его правой руке – церкви – хорошие и плохие, и горячие и холодные, и те, которые вроде бы живы, а они мертвы. Они все равно в деснице Воскресшего.
Жизнь теплится в любом случае. Помните, у пророка Исаии есть такие нежные слова о том, что Христос «и трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (Ис. 42:3). Он бережет до конца тлеющее и ничтожное, раненное и поломанное. Он не доламывает до конца. И слабые церкви в руке Господа, и сильные церкви в руке Господа. Все семь церквей, вся полнота церковного бытия, в руках Иисуса Христа, в деснице. А в левой у Него – ключи от ада и смерти, власть над теми, кого он победил.
Числом «семь» дышит весь Апокалипсис: после семи церквей будет книга за семью печатями, семь ангелов с трубами, семь ангелов с чашами казней, семь голов у зверя-дьявола, город-блудница на семи холмах… И Сам Господь, «имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих» (Откр. 5:6).
Число семь – оно, конечно, имеет значение полноты, и можно сказать, что через семь посланий Иисус обращается к полноте Церкви… И каждый человек может так или иначе себя узнать – свою Церковь или свою духовную жизнь в одном из этих посланий.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников (Откр. 1:12).
Семь светильников – семисвечник – теперь стоит у алтаря в каждом православном храме мира. Это знак присутствия Бога и Его даров. У нас есть семь таинств, у нас есть семь Вселенских Соборов, у нас есть семь дней Творения, у нас есть семь даров Святого Духа, по Книге пророка Исаии. И этот семисвечник олицетворяет собою весь священный символизм числа «семь».
Апокалипсис – это книга о Христе. Здесь же, в первой главе, Иоанн описывает Его таким, каким он Его увидел. И описание резко отличается от привычного евангельского.
Потому что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку – это повторение «как бы», «подобно» и так далее встречается в пророческих текстах – в том смысле, что выразить словами это достаточно сложно, поэтому и говорится о неких сходных аналогиях: как бы звук, как бы явление какого-то света или как бы что-то еще.
Протоиерей Олег Стеняев
И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний (Откр. 1:10).
Очень важный момент: Он называет себя алфавитом, включает Себя Самого в умное пространство между первой и последней буквой. В алфавит помещается вся мудрость мира. Все, что Он хочет нам открыть, мы записываем и фиксируем на письме. И еще:
Он в начале и Он в конце. То есть везде, куда бы ты ни пошел, ты встречаешь своего Господа. Он Бог первый и Бог последний, Бог начала и Бог окончания всех путей.
Лишь только один Сущий на Небесах, Он вечный, и с Него все начинается и Им на земле все заканчивается. Но есть и иной мир, к которому стремится каждый христианин, и это Царствие Небесное, где Бог пребывает вечно.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
И в первой главе, и дальше Господь открывает Себя определениями, не похожими на евангельские описания Христа.
…и увидел… посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая во?лна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей… И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь (Откр. 1:13–18).
Здесь удивительно все, каждая деталь. Христос седовлас, словно Ему не 33 года, а Он – Старец со светящейся белизной волос – и в древности и теперь это принималось за примету особой боговдохновенной мудрости и святости… На Нем подир – эту длинную белую одежду, чаще всего льняную (лен – символ чистоты), носили ветхозаветные священники и цари.
На эту же царственную славу указывает «золотой пояс».
Халколиван, которому подобны ноги Спасителя это неведомый теперь металл. Полагают, что это зеленая медь или бронза, а может, некий сплав из золота и серебра. Другие источники утверждают, что халколиван – это текущая расплавленная, раскаленная добела медь.
Привычный образ Христа евангельского исчезает. То есть того Христа, каким мы видели Его на евангельских страницах и в своем воображении, в описанном изображении уже мы не встречаем. Это уже воскресший Христос, и Он иной.
Когда Христос воскресший является ученикам, они не узнают Его. Лука и Клеопа не узнают Его до преломления хлеба (Лк. 24:35), Петр не узнает Его при ловле рыбы (Ин. 21:7). Они не понимают, кто это – то есть Христос по Воскресении является иным. Его внешний вид стал непривычным для учеников, и Он мог менять свой вид так, чтобы быть узнанным или неузнанным.
Христос Апокалипсиса – это вообще новый Человек для нас. Белые волосы – действительно как волны или снег. Меч, выходящий из уст – это слово Божие. Это слово у Слова, потому что Он Сам – Слово, и у Него еще слово.
Его ноги как халколиван, то есть как расплавленное железо. Представим себе: горячий цех, плавильня, течет горящий металл – и вот такие ноги у Христа! Что-то совершенно невообразимое. Мы не знали прежде Христа таким.
А сияющее, как Солнце, лицо Христа – это то, что сам Иоанн видел, будучи еще молодым человеком, на горе Фавор, где Спаситель преобразился перед ним и еще двумя учениками и засиял небесным светом. «И бысть» тогда «лице Его ино, и одеяние бело, яко снег».
Смирение кончилось, начинается слава. Ему незачем смиряться больше, незачем унижать себя. Он является таким, как хочет, таким, какой есть. Он является нам в славе, как глагол Божий, как Вечный Царь, как победитель, как воинствующий. В общем, есть чему испугаться и удивиться.
Но при этом Сам Христос говорит Иоанну, и вместе с ним нам: не бойся!
Эти слова Христа: «Не бойся!» – они наполняют надеждой наше сердце и сердца всех, кто верит в Иисуса как в источник нашего спасения. Христос – Он господин шаббата. В Новом Завете сказано, что Христос – господин субботы, а «шаббат» – это покой, и когда Христос говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28), во Христе мы уже в этой жизни, становясь христианами, обретаем этот покой.
Протоиерей Олег Стеняев
А еще он назван здесь «грядущим». Может показаться, что он только придет, а сейчас Его нет с нами.
На самом деле Его тайное присутствие постоянно и безусловно. Он «есть и был и грядет» (Откр. 1:8). Он собирает в себе вечность, все три состояния: прошлое, настоящее и будущее. И если ты вспоминаешь ту жизнь прошлую, вспомни о Нем, потому что Он там был. Если ты думаешь о сегодняшнем дне, то: «Господи помилуй! Ты здесь». А потом приходят мысли: «А что будет дальше?» – успокойся, Он там будет. Он был, есть и грядет.
Глава 2
Ты живешь там, где престол сатаны…
Когда мы слышим о гонениях на христиан во всем мире или видим хронику страшных событий, мы должны помнить, что обо всем этом Господь уже предупреждал в Евангелии – и в Апокалипсисе это предупреждение звучит совершенно ясно. С этой, второй главы последней книги Библии Господь обращается к семи церквям – ко всей Церкви на планете. Если говорить точно, то Иоанну Богослову, который записывал слова Бога, велено передать эти послания Ангелам (возможно, епископам) семи церквей. Все эти церкви находились на малоазийском полуострове, и Иоанн их знал – они расположены невдалеке друг от друга по неровному кругу.
Почему послания направлены к Ангелам? Ангелы предстоят Богу. Они сослужат людям в Литургии. Они любят быть с нами в храмах и алтарях. Ангелы не устают и не спят.
Есть и довольно устоявшееся мнение, что эти слова, повторю, обращены к епископам. То есть ангел церкви Фиатирской, ангел церкви Смирнской, ангел церкви Лаодикийской – это епископы, предстоятели церквей. Они – посредники между народом и Богом. Как Моисей. Моисей идет к Богу, потом приходит к народу и пересказывает им все. И если мы назовем епископа Ангелом церкви – ошибки мы не допустим. Самые достойные авторитетные источники говорят, что главные в христианских общинах – это епископы. И если в церкви что-нибудь не так, то не пономарю же об этом говорить, и не певчим на хоре, и не в просфорне это сообщать. Это нужно говорить тому, кто управляет жизнью общины, возглавляет евхаристическое собрание.
Послание семи церквям Апокалипсиса – может быть, самые понятные две главы этой сложной для скорого понимания книги. Здесь нет тяжелых или пугающих образов, нет картин будущего. Только описание Говорящего, суждения о состоянии церквей (редкая похвала и частые нарекания) и о тех вызовах, на которые эти церкви отвечают, призыв к покаянию или к изменению своей жизни, а еще угрозы (да-да, угрозы Христа) этим церквям – как Он поступит, если церкви не исправятся. Но после угроз всегда звучит вдохновляющее обещание Бога о том, что ждет тех, кто поступит по Его слову.
Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы… (Откр. 2:1–2).
Эфес, руины которого расположены невдалеке от сегодняшнего турецкого Сельчука – крупнейший из семи городов Апокалипсиса, а в пору, когда писалось это послание, еще и второй по величине город Римской империи. Здесь прожил два года апостол Павел (он основал тут эфесскую общину и написал сюда три послания: одно к Ефесянам, а два своему ученику Тимофею). Тимофей был и первым епископом города. Здесь жил и, как считается, скончался апостол Иоанн Богослов. Есть достоверное предание и о том, что под его опекой тут жила и Божия Матерь.
Этот город видел и самых горячих учеников Христа и, видимо, тех, кто себя за них выдавал…
Во второй главе мы читаем: «Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ну чему тут удивляться? Удивляться не приходится… Посмотрите, кем бы мы назвали Иуду Искариотского? Он, конечно, скрывался. Христос видел, Христос пытался сделать все возможное, даже давал ему те же силы чудотворений, которые давал и всем прочим апостолам, и даже чудеса творил, чтобы он опомнился… Ничего не помогло. Как только он представил себе звон монет – все, не выдержал и предал самого учителя. Так вот, это не случайно было, что Христос избрал и Иуду… Это избрание указывало нам и на будущее Церкви… Вот уже апостол Иоанн пишет: «Они не суть апостолы».
А. И. Осипов, доктор богословия
А когда-то город был домом для 250 тысяч жителей. Его театр вмещал 30 000 зрителей. Крупнейший порт на Эгейском море – все дороги с Востока в Европу и Рим шли через Эфес. Знаменитая на весь мир библиотека Цельса, акведуки, фонтаны, площади- агоры, огромный проспект, покрытый мрамором и обрамленный статуями… Эфес был и центром магических обрядов, и второй религиозной столицей языческой империи. Здесь стояли грандиозные храмы обожествленным императорам Рима и процветал культ богини Артемиды – именно Артемиде Эфесской был посвящен храм, вошедший в собрание Семи чудес света и сожженный ради мнимой славы Геростратом.
Может, поэтому Господь поначалу хвалит Эфесскую церковь, вынужденную расти и проповедовать в таких условиях, а потом порицает:
…ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою (Откр. 2:3–4).
Какую же любовь он оставил? Вектор христианской жизни может идти снизу вверх, когда говорится, что «последние твои дела лучше первых». А бывает сверху вниз. Это когда ты оставил первую любовь свою. Если ты был высоко и летел, ходил по водам, а потом пошел под наклон, тогда получается, что эти слова к тебе применимы. Тихон Задонский, к примеру, не раз с горечью говорит о духовенстве: к старости, говорит, нам пора бы уже и чудеса творить. А мы к старости становимся только хуже, теряем молодой запал, энергию, влюбленность в служение свое. И устаем просто от жизни, загружаемся попечениями, которые нужно отложить. «Всякое житейское отложить попечение». Болезни изнашивают человека. Просто жизнь его утомила. И он гаснет. «Забыл первую любовь…»
Первая любовь – как первая влюбленность. Во Христа, в церковь. Вот эта первая неофитская влюбленность – она по-своему неуклюжая. Но Бог ставит на вид тем, которые уже состоялись в традиции: «Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». То есть тот опыт, который он имел, только обращаясь впервые ко Христу. И как он его реализовывал – это как бы светлый маяк, который помогает, когда тебе тяжело, вспомнить: первую осознанную исповедь, первое осознанное причастие, первое прочтение Библии, от начала до конца.
Протоиерей Олег Стеняев
Благодать человека не оставляет. Он сам теряет ее. Некий юноша спросил старца: как мне быть настоящим монахом? Старец ответил: каждый день веди себя, как будто впервые ушел в монастырь. А вы помните, как мы заходим впервые в храм или в монастырь? Мы боимся что-нибудь не то взять, прикоснуться. Мы всех уважаем, всем кланяемся, всех приветствуем. Готовы встать в угол и «не отсвечивать». Мы готовы спрашивать и учиться. Потому что мы новички и ничего еще не понимаем. Он говорит: вот так вот смиренно, так со страхом, так и веди себя всю жизнь. Так и будь всю жизнь неофитом. На Кипре был святой Неофит, отшельник. Такое имя себе взял. И, очевидно, он каждый день жил как последний. Хранил эти дары, однажды полученные, и сумел их сохранить. Это величайший труд.
Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься (Откр. 2:5).
Слова «сдвину светильник твой» говорят о каком- то ущербе, который потерпит высота епископской кафедры. Возможно, о грядущем расколе – или иной опасности. Светильник Эфесской церкви оказался сдвинут сперва в другой город: уже на Шестом Вселенском Соборе – первосвятительскую кафедру перенесли отсюда в Константинополь. А следом светильник Эфеса сдвинулся еще и буквально: море, сделавшее этот город богатейшим в Малой Азии, отодвинулось на несколько километров, и гавань постепенно заполнялась илом из реки. Это ударило по торговле. Люди стали покидать Эфес, перебираясь на близлежащие холмы… Из камней опустевших храмов строились новые жилища… В 614 году опустение города довершило землетрясение. Тогда же начались и регулярные набеги арабов, приводившие Эфес во все больший упадок. К моменту завоевания турками- сельджуками в 1090 году от некогда грандиозной столицы Малой Азии осталась лишь небольшая деревня.
Христос обращается к семи церквам Апокалипсиса. Каждую из семи церквей Он критикует. Он находит проблемы каждой из семи церквей. Но, в то же время Он хвалит каждую из семи церквей, кроме Лаодикийской, последней. Но даже для нее Он дает некие советы. Светильник – это наше стояние перед Богом. Но иногда он приобретает вид светильника благополучия, стабильности. И люди начинают расслабляться. И тогда Господь сдвигает этот светильник благополучия. И происходит встряска всей церковной жизни. Встряска каждого христианина в отдельности.
Протоиерей Олег Стеняев
Хотя в первые века христианства этот город сиял святостью – той самой «первой любовью», которую он «оставил». Здесь проходили Вселенские Соборы, здесь прославились мученики и преподобные, здесь произошло одно из величайших чудес в истории: в пору гонений первых веков – семь эфесских юношей, приговоренных к смерти, уснули в заложенной наглухо пещере и проснулись спустя почти двести лет. Память о чуде семи эфесских отроков живет во всех христианских культурах и не только христианских: их упоминает Коран в суре «Пещера».
О горячей ревнивой вере Эфесской церкви говорит и Господь в Апокалипсисе:
Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу (Откр. 2:6).
Первый раз во всем Новом Завете точно, первый раз сейчас Христос произносит это слово – «ненавижу». Не хочу видеть, не терплю. Он отворачивает глаза Свои. Пророки говорили об этом: светлейшим глазам Бога, которые сильнее солнца тысячекратно, не свойственно смотреть на преступления. И есть дела, которые Он ненавидит. Поскольку Он любит, то Он же и ненавидит, ибо энергия ненависти – это энергия любви. Противоположное состояние – это безразличие, когда все равно.
А правильно говорить: вот это я люблю, а это я ненавижу. Христос здесь – воин с мечом, а воин совершает дело любви с необходимой долей ненависти. Это могучая энергия, направленная в нужное русло. Это священная война. Есть такое понятие – «священная война», его ввел еще блаженный Августин. Когда я воюю не за деньги, не за женщину, не за нефть, не за власть, но мое сердце закипело. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Ненависть кипит в душе, и направлена она на человека или группу людей, посягнувших на нечто святое. Это – нормально. А как это в себе отличить? Где во мне «ярость благородная», ненависть, рожденная энергией любви, а где какая-то греховная, грязная, не та ненависть? Если я за себя, то я неправ. То есть для того, чтобы я был прав, нужно, чтобы то, за что я, было вне меня. Чтобы это был не я. Это семья, Родина, церковь, Господь, храм.
Николаиты, которых ненавидят Христос и Эфесская церковь – это ересь, разившая христиан в первые века. По преданию, ей учил Николай Антиохиец – он был одним из семи человек, избранных апостолами для служения в Иерусалимской церкви, ответственными за раздачу пищи. Проще говоря, он был одним из первых дьяконов Церкви.
Николай был не иудеем, а из язычников и, скорее всего, в какой-то момент, приняв христианство, начал связывать его со знакомым ему по прошлой жизни языческим оккультизмом. Диакон отошел от Церкви, создал секту, где учил, что плотские грехи – тоже служба Богу. Все как во Втором послании апостола Петра: «Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении» (2 Пет. 2:18–19).
Есть те грехи, те заблуждения, которые чужды Богу и чужды человеку. Это касается сугубо тех людей, которые имеют еретическое понимание учения, которые сами становятся ересиархами и отводят людей от истины. Поэтому Господь ненавидит лжи, злобы и неправды.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Впрочем, от суда над делами человеческими следует воздерживаться, потому что можно перепутать. Перепутать могут даже ангелы. В известной притче о плевелах пшеницы ангелы говорят Господу: «Ты же сеял хорошую пшеницу, почему кругом плевелы?» Говорят: «Давай мы их вырвем». Господь говорит: «Нет, чтобы вы случайно не вырвали вместе с ними и пшеницу». Нужно иметь сострадание к кающемуся, борющемуся грешнику. Но когда дело касается учения, когда грех превращается в доктрину – тогда мы имеем дело с николаитством, и здесь с ним уже нужно вступать в борьбу.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия (Откр. 2:7).
Древо жизни! Адам и жена были отогнаны от него. Мы будем допущены к нему. Уже допущены. Прозрение о небесной пище, алкание ее пронизывает все человечество. Согрешившие через пищу, люди хотят исцелиться пищей же, хотят съесть Нечто, чтобы не умирать. Вкушение Божьей благодати – вот что нас ожидает. Сегодня, без сомнения, вместо потерянного дерева жизни в раю мы имеем Крест Господень, ставший для нас истинным Древом Жизни. Через него мы оживаем.
Вторая Церковь, к которой обращается Господь, церковь города Смирны:
И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)… (Откр. 2:8, 9).
Слова о нищете, при которой остаешься богатым, скорее всего, сказаны о тех, кто своей видимой нищетой бережет свое внутреннее богатство. Добровольная нищета – это состояние малопонятное и странное, когда человек хочет быть полностью свободным и боится отяготить себя каким-то имуществом или деньгами. Про Блаженную Ксению говорится, что она «нищету свою как сокровище хранила», боялась с нищетой своей расстаться. И церковь Смирны – она нищая, но благодаря этому у нее есть некая широта души, настоящее внутреннее богатство.
Хотя сама Смирна – в ту пору – это богатейший город Малой Азии. И один из старейших городов на планете – первые поселения в районе нынешнего турецкого Измира, частью которого Смирна стала теперь, датируют шестым тысячелетием до нашей эры. К поре римского владычества Смирна успела познать и расцвет, и упадок.
…и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское (Откр. 2:9).
Иоанн Богослов сам несколько лет жил в Смирне и назначил ее первым епископом своего ученика, св. Вукола. А после смерти Вукола епископом Смирны станет ревностный святой Поликарп, которого называют любимым учеником апостола Иоанна. Его называли «вождем всей Азии» в христианстве.
В 166 году Поликарп, отказавшийся отречься от Христа, был заживо сожжен – ему было тогда было 86 лет. Мученическая смерть Поликарпа Смирнского – это первое подробно описанное мученичество: житие Поликарпа и его свидетельство за Христа разошлось по всей Церкви. И это житие описывает, как казни святого радовались и эллины-язычники, и иудеи.
Здесь стоит вспомнить, что в I веке по Рождестве Христовом христианская Церковь вначале существовала в рамках иудейской традиции, но со второй половины I века иудеи уже проводят линию…
Апокалипсис Иоанна Богослова. 1368. Армения. Ереван. Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца (Матенадаран)
Римлянам они могли говорить – это не наши люди, и христиане оказывались беззащитны перед римским законом. Может быть, апостол и не обвиняет иудеев прямо в том, что они – «дети сатаны», но говорит о том, что иудеи клевещут, называя себя народом Божьим и говоря, что они – народ Божий, а христиане – нет.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Вместе с Поликарпом Смирнским Царствие Небесное все первые три века гонений полнится когортой мучеников. Но еще до всего этого Господь словно предупреждает и укрепляет Смирнскую церковь, а через нее – всех остальных, повторяя первые сказанные Им в Апокалипсисе слова «Не бойся»:
Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять (Откр. 2:10).
Не совсем ясно, что имеется в виду под «десятью днями». Некоторые пытались доказать, что речь идет о десяти больших гонениях, которые претерпела Церковь до императора Константина. Но это своего рода «прокрустово ложе», в которое хочется втиснуть услышанное слово. Вряд ли это указание на точное число – скорее, на некую очерченную норму (десять общепризнанное число полноты), на то, что Бог мерой определяет наше страдание. У страдания есть предел, и оно продлится недолго.
…Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2:10).
Господь, обращается к Смирне через понятные ей образы: верность и венок. Смирну называли в империи «Смирной фиделис» – то есть Смирной верной, потому что когда-то в прошлом Смирна поддержала Рим в борьбе с сирийскими правителями-Селевкидами. И Смирна славилась своими спортивными состязаниями – здесь были найдены монеты с изображением венка, символа спортивных побед. А мученики, которые решились на страдания и дошли до конца, допили свою чашу, слышали в словах о венце жизни обещание награды за свою победу. Христос сам увенчан. Он победил, и Он же победившему во имя Его тоже дает венец. Верные Богу до конца имеют обещание от Бога за эту верность до смерти получить венец вечной жизни. Это очень вдохновенные, ободряющие слова для того, кому приходится терпеть.
Господь не позволяет Своей Церкви долго находиться в тепличных условиях – всегда гонения, всегда притеснения, даже в благоприятное, казалось бы, время. Вспомним, как сказано в Библии, в грозном окончании Книги Второзакония, об Израиле: ты будешь есть, пить, насыщаться, отучнеешь, разжиреешь, ты, можно сказать, охамеешь, и ты отречешься от Меня. Грубо говоря, из-за обилия Мною подаренных благ ты превратишься в жирного и наглого негодяя – и Я тебя за это накажу.
Нам всегда полезно, чтобы была какая-то угроза, чтобы на горизонте боевой корабль вражеский стоял и направлял в нашу сторону пушки. Иначе мы расслабимся и станем нравственно-ничтожны.
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти (Откр. 2:11).
Смерть вторая. Непривычное словосочетание для бытового слуха. Это страшнее, чем полное исчезновение, которое могло бы для грешника стать настоящим подарком. Но Бог не дает нам вернуться в небытие. Он творит нас вечными существами, с прицелом на вечность. Если ты дурно распорядился временной жизнью, ты тоже воскреснешь в последний день. Но это воскресение для тебя не будет радостным. Оно принесет муку, и это смерть вторая.
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа (Откр. 2:12–13).
Антипа Пергамский был учеником апостола Иоанна. Поколение Иоанна, поколение Антипы – это люди, лично видевшие или Господа, или Его учеников. И сам Антипа назван верным свидетелем – тем, кто правильно и точно расказывает о том, что видел. Проповедуя в Пергаме, он был схвачен, отказался прекратить свою проповедь и принести жертвы языческим богам. За это в храме Артемиды его бросили в раскаленного медного вола. Такая чудовищная казнь, похоже, была в ходу в этом мрачном, увязшем в дьявольщине городе. Только про Пергам Господь говорит такие страшные слова: место, где живет сатана, и больше того – где престол сатаны.
Пергам был столицей региона. Здесь жил римский проконсул, стояла огромная библиотека, уступавшая по величине лишь Александрийской. В Пергаме был построен первый храм, посвященный императору Октавиану Августу и богине Роме. Есть версии, что это его Апокалипсис называет престолом сатаны. А может быть, речь о храме бога врачевания Асклепия в нем держали живого змея – или о грандиозном храме Зевса Олимпийского. И более того, престол сатаны вряд ли стоит всегда на одном месте. Сатана подражает Богу, и престол сатаны может двигаться по миру, как в свое время двигался переносной Храм – скиния. Этот жуткий престол может быть и в сердце человека – но тогда это должен быть непростой человек, некий «агент всемирного влияния». Для сатаны не так важно владеть душой отдельно взятого скромного человека, как важно владеть тем, через кого можно управлять максимальным числом людей.
Обоюдоострый меч, о котором говорит Господь это меч Слова Божьего. Слово в устах Слова. Здесь нам вновь стоит вспомнить о том, что Христос Апокалипсиса – это Христос прославленный; Не Христос в смирении, но Христос, уже вошедший в славу свою. Он уже с мечом и воинствует.
Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодейство- вали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу (Откр. 2:14–15).
Похоже, в Пергаме, как и в Эфесе, процветают ереси. Учение Валаама, о котором говорит Апокалипсис, описано в ветхозаветной Книге Чисел: прорицатель Валаам посоветовал врагам израильтян, которые никак не могли их победить, послать к ним, к евреям, блудниц: соблудив, те лишались защиты Бога, и враг побеждал их. И николаиты, и последователи Валаама – это блудники. Мистические, если можно так выразиться, блудники.
Блудники, исчисляемые миллионами, это, чаще всего, просто блудники. А николаиты и Пергамская церковь – это нынешние развратники, ранее познавшие истину. И соблазненные.
Блуд – это когда человек продолжает искать, хотя он уже нашел. И кто ищет что-то после нахождения истины – тот ищет лжи. И термин «блуд» гораздо шире по смыслу, чем половая распущенность.
В христианстве есть такое понятие, как «целомудрие веры». Следовательно, те, которые нарушают целомудрие веры, догматов православия, они оказываются в состоянии духовного блуда, и через лжепророков, лжепророчиц люди попадали под влияние ложных идей, ложных концепций… Никакого пророчества, кроме того, что мы имеем на страницах Священного Писания. Как апостолы пишут: «Мы имеем вернейшее пророческое слово» (2 Пет. 1:19), и как Иоанн пишет в окон чании Апокалипсиса, нельзя ничего прибавить к этому тексту.
Протоиерей Олег Стеняев
Покайся, если не так, то скоро приду к тебе, и сражусь с ними мечом уст Моих (Откр. 2:16).
Но даже несмотря на весь кошмар, который творится в Пергаме, Господь дает простой рецепт: «Покайся!». Вспомни твои прежние дела, вспомни, откуда ты ниспал, покайся! Слово Христа – это же меч. Оно поражает. Его нельзя не услышать. Призыв звучит все сильнее, сильнее, сильнее: «Покайся! Покайся! Покайся!» – и это дорастает до некоей точки, до высочайшей вершины, на которой ты начинаешь слышать: если я еще продолжу, еще шаг сделаю, еще два шага сделаю, то на меня может упасть все что хочешь, вплоть до самого Неба. Это уже крик Христов!
Меч Божий может явиться и в другом облике – например, как болезнь, отсекающая множество вещей, которые были бы, если бы человек был здоров. По сути, здоровый человек от больного отличается возможностями. И перспективой. У здорового человека есть масса иллюзий насчет будущего, а у больного есть только одно желание – вылечиться. Хочу вылечиться. Все остальные желания уходят. Либо он смиряется и готовится к будущему. Господь вырезает из нас, например, суету. Мы же дети неслыханно суетного века. Закручены и вращаемся в суете, как в центрифуге. А как ее остановить? Болезнь – это точка остановки. По сути больницы, или хосписы, или предоперационные отделения какие-нибудь, это точки остановки.
В общем, все места скорби на Земле – это точки остановки. Это те места, где люди перестают думать о тряпках-шмотках, славе, богатстве, успехе, зависти, отдыхе, наслаждениях… Человек смотрит на двери, за которые он сейчас зайдет, и ожидает, как Бог его душой и телом распорядится.
Но тут же, после угроз, Господь дает утешение:
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр. 2:17).
Белый камень – это Христос. Новое имя, которое будет дано побеждающему в Царствии Божием – это имя, которое отразит нашу истинную сущность. А сокровенная манна – это Тело Христово, это благодать причастия. Ведь что такое «манна»? Так звучал вопрос – «что это?». Люди видели нечто и спрашивали: «Манна, манна? – Что это? Что это?» Это таинственная еда, без которой мы нельзя было выжить в пустыне.
Богу еда не нужна. Человек же зависим, он должен принимать нечто, питающее его. И в Царстве Божием он тоже будет вкушать благодать. Пищу, не имеющую имени. Это, в широком смысле, манна. Мы и в раю будем причащаться. И литургия там будет. Там постоянно совершается литургия.
И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану (Откр. 2:18).
Фиатира в 60 километрах восточнее Пергама – теперь – только руины у турецкого городка Акхисар. А когда-то город стоял на перекрестке ключевых дорог и славился ремесленными мастерскими. В Деяниях святых апостолов упоминается Лидия из Фиатиры – она торговала багряницею и приняла крещение от апостолов. Скромной общине Фиатиры посвящено самое длинное послание из всех семи церквей Апокалипсиса.
…знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых (Откр. 2:19).
Это, может быть, лучшая похвала. Вопрос не в том, чем ты начал, вопрос – как ты закончил. Священник, например, начинает служение с огня. Он весь в огне. А к старости он скептик, циник, уставший старик. Древние греки говорили: до смерти никого не хвали. Как ты умрешь – непонятно. Что скажешь последним словом в день смерти – непонятно. Нужно дождаться смерти. Так на Афоне и сейчас говорят.
Но и в Фиатирской церкви тоже дает ростки ересь:
Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное (Откр. 2:20).
Иезавель – это женщина при власти. В будущем нам предстоит бояться женщин при власти. По крайней мере, некоторых. Женщинам сегодня внушаются странные идеи: они бредят превосходством или местью мужской цивилизации… Дьявол им придумывает столько ярких идей-фантазий, что мы устаем за ними следить. Иезавель Апокалипсиса – это женщина, облеченная властью, представительница «новой женщины будущего». Она ненавидит святых. Иезавель Ветхого Завета – это блудливая жена царя Ахава, которая убедила его построить храм богу Ваалу, ввела храмовую проституцию, а через нее общение с демонами. Она ненавидела пророка Илию и хотела убить его. И разгул крайнего феминизма намекаает нам, что мы живем с эпохой Иезавели рядом.
Но при этом Господь говорит: «Имею немного против тебя». Не так жестко Он ругает Фиатирскую церковь за эту Иезавель. Видимо, она настолько много взяла себе силы, что с ней невозможно бороться так просто. И Господь не гневается сильно. Вообще на каждого из нас у Бога есть «немножко». То есть Фиатира это как бы наше зеркало тоже.
Близ Фиатиры находилось языческое капище, посвященное богине Сивилле. Некоторые толкователи полагали, что Иезавелью в Апокалипсисе называется именно эта богиня и ее местный культ.
Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась (Откр. 2:21).
Насколько же добр Господь Иисус! Даже этой женщине, Иезавели, Он дал время покаяться. Он и в ее сердце стучался. Он всем нам дает время покаяться. Он бодрствует, и дает нам время.
Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; только то, что имеете, держите, пока приду (Откр. 2:22–25).
Слова «держите, что имеете» означают, что нам нельзя «уменьшаться в святости». Если мы на приходе решили служить, например, три литургии в неделю, ниже этого нельзя. Выше можно. Если я решил, например, читать каждый день Акафист Божьей Матери – до смерти, чтобы я спасся, например, чтобы быть в раю, и чтобы дети мои были в раю со мною, то я и читаю каждый день Акафист Божьей Матери. Ниже нельзя. А выше можно. Имеешь веру – ниже не опускайся. Тем, кто будет идти до конца, Господь дает невероятные обещания:
Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 2:26–29).
Звезда утренняя – это двойной образ. Под ним может подразумеваться и Господь, как еще во Втором послании Петра, где апостол говорит: «Доколе не взойдет звезда утренняя в сердцах ваших» (2 Пет. 1:19); а в отрицательном смысле – это лукавый, подражающий Господу, падший с неба Денница, сын зари. Это двойной символ.
А другое обещание Бога сейчас, через две тысячи лет, представляется совершенно понятным. Христос через христиан пас народы. И пока народы оставались верными Христу, христианам был вручен целый мир. Маленькая Португалия владела огромными территориями. Маленькая Англия владела половиной Вселенной. Эту власть они использовали частично для христианизации мира, а частично для личной выгоды. И вот эта смесь, вавилонская смесь исторического апостольства и личной выгоды, привела к сегодняшнему дню с его двусмысленностями.
Фундаментальная наука родилась в христианском мире. Всемирные географические открытия родились в христианском мире. Освоение космоса родилось в христианском мире. Вообще все, что есть великого, родилось в христианском мире. Другим попросту нельзя было открывать этого. Открывать великие тайны можно только тому, кто сердцем слышал о смирении. Тому, который сумеет не воспользоваться силой и тайной для зла. Но потом христиане перестали быть смиренными, и тайны подошли к концу, и наступило время утраты первенства. Словно продажа первородства. И как в древности – за чечевичную похлебку «всемогущего рынка» или «либеральных свобод». То есть сегодня христиане уже не владеют миром и сдают позиции. Вряд ли этот процесс обратим.
Эту фразу из Апокалипсиса: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным» (Откр. 2:26–27) скорее всего нужно отнести к тем миссионерским трудам, которые несла имперская Церковь до революции и то, что в некоторым смысле мы совершаем и в наше время – тот апостолат, который и сейчас тоже проявляется. Жезл железный – здесь это эвфемизм, который может указывать на Слово Божье и прежде всего на Божий Закон, потому что еврейский царь, когда он восходил на престол… он должен был переписать всю Тору. А в христианском прочтении это призыв к благодати, ко Христу и к Божьему прощению.
Протоиерей Олег Стеняев
Глава 3
Се, стою у двери и стучу…
В зеркале семи церквей Апокалипсиса – наше отражение. Бог уже упрекнул Эфесскую церковь в том, что она «оставила первую любовь свою»… Предупредил церковь Смирны о предстоящей скорби, что надо остаться верным и еще потерпеть. Похвалил Пергам- скую церковь, что она живет и терпит посреди настоящей дьявольщины – там, где «престол сатаны». Но упрекнул, что она мало борется с ересью блудников-николаитов, которую Он, Господь, ненавидит. А скромной церкви городка Фиатиры отправлено самое длинное и обнадеживающее послание, потому что «последние дела ее больше первых». В третьей главе Апокалипсиса Господь продолжит Свое обращение к церквам близких к апостолу Иоанну городов.
Свои церкви Господь в Апокалипсисе называет светильниками, а Эфесской – в случае неисполнения ею призыва «покаяться», – посылает угрозу: «Сдвину светильник твой». Есть ли какое-то правило, почему и в каком случае Господь одни светильники зажигает, а другие гасит? Почему одни церкви, митрополии, епархии появляются – а иные умирают? Почему потухают огромные жертвенники церковной жизни?
Например, исчезла Карфагенская церковь. Там был Блаженный Августин, там был Тертуллиан, там был Киприан. А она исчезла. Просто оскудел елей. Светильник вроде бы гаснет сам собой, а на самом деле Бог позволяет ему погаснуть, зажигая от него другой светильник. Здесь есть вина человеческая, и потом уже – смирение Господа перед свершившимся фактом: да, ты погас. Так случилось с Византией – она оставила великий след в истории, успела зажечь Русь, но сама погасла.
Получается, что Бог, который есть Любовь, может сказать и человеку, и народу: «Ты мне не нужен»? Скорее всего, слова эти звучали бы иначе: скажем, «ты отработал свое». Или: «ты был взвешен и найден легким». Или: «ты не оправдал Моего доверия». А в Апокалипсисе ангел Сардийской церкви слышит от Господа такие слова:
И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв (Откр. 3:1).
Эти слова касаются не только жителей Сардиса. Кто я? Каков я? Вроде бы неплохой человек – муж, отец, христианин. Инженер, учитель, офицер, священник. Неглупый, активный, опытный, что-то знающий. Вроде бы… Но моя совесть, слыша слово к Сардийской церкви, говорит мне, что у меня внутри хуже, чем снаружи. И внутренняя смерть, по необходимости, предшествует внешней.
Впрочем, тому, кто мертв по-настоящему, бесполезно говорить, что он мертв. Он этого не услышит. Если человеку говорят, что он мертв, в надежде, что он услышит, значит, он все-таки жив. Так и сегодня мертвые духом слышат голос Сына Божьего – и, услышав его, оживают. У Бориса Пастернака есть такие строки:
Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.
Это сказано о Боге – Бога как бы не было для него.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.
Воскрешение мертвых – это явление, которое мы еще не видели, с одной стороны, а с другой стороны, постоянно наблюдаем, когда Слово Божие входит в человека и пробуждает его дух к новой жизни.
Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим (Откр. 3:2).
Сардийская церковь еще жива. Но она в очень опасном состоянии. Она еще слышит, как живая, но она так живет, как жить нельзя. Ей нужно бодрствовать, нужно внимать себе и делам своим – иначе будет все плохо. Иначе наступит окончательная смерть. И это сказано в те дни, когда огромный Сардис казался «живее всех живых». Древние Сарды были полностью уничтожены только в 1402 году, во время нашествия Тамерлана. В наши дни от города остались только руины вблизи турецкого райцентра Салихлы. А в свое время он был столицей могущественного Лидийского царства, занимавшего половину нынешней Турции. Здесь чеканились первые в истории золотые и серебряные монеты. Здесь правил легендарный царь Крёз, который прославился на весь античный мир своим богатством. О Сардисе упоминали Геродот и Эсхил. В пору расцвета христианства город был столицей епархии, а одним из сардских митрополитов был священномученик Евфимий, пострадавший в период иконоборчества. Сам город считался неприступным, лишь дважды за всю историю в него проникал враг и оба раза ночью.
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя (Откр 3:3).
Здесь еще одна апокалиптическая странность: Бог сравнивает себя с вором. И это смущает – как смущает нас, скажем, притча Христа о неверном домоправителе в шестнадцатой главе Евангелия от Луки. Здесь берутся в пример искусность, тайность и внезапность. Потому что войско наступает – его издалека видно. А вор придет и уйдет так, что не почувствуешь. И Господь сравнивает себя с таким вот искусным ночным посетителем, которого не ждут. Поэтому Он же и говорит, как готовиться к Его приходу: нужно бодрствовать. Как говорит Павел Тимофею: «Поминай». То есть вспоминай Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, по благовестию моему. Литургия начинается в воспоминании Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И литургия, и кладбищенский крест, и колокольный звон, и церковный календарь – все призвано к тому, чтобы мы помнили, не забывали. Чтобы город спал безопасно, нужно, чтобы стражи не спали. Чтобы хотя бы один внимательный страж не спал. И вот, этот один неспящий отвечает за весь город.
Почему Господь скрыл от нас дату конца света? Именно для того, чтобы мы бодрствовали и то время, в котором мы живем, переживали как в некотором смысле последнее. Исторический Апокалипсис – он придет, он наступит, но мне интереснее личный Апокалипсис. Поэтому в моем понимании умрешь – вот и конец света: и солнце пропало, и звезды спали с неба, и ангелы и демоны появились, начались мытарства, начался суд…
Протоиерей Олег Стеняев
И всеобщий тяжкий сон – это общее состояние перед Судом, а бодрствование – это внутренняя память о Господе. Это жизнь. Это готовность на любое событие жизни отвечать молитвой. «Господи, слава Тебе! Господи, помоги! Господи, не оставь!». На литургии звучит возглас: «Вонмем!» – это словно команда: «Внимание!» Такую команду дают солдатам. И христианин – он воин, стоящий на страже. А воин дает еще и присягу, и часто ее нужно напоминать. Мы давали Богу обеты крещения. Очень хорошо прочитать их заново – узнать, а что же ты обещал Богу, когда крестился. Это напоминание о первой любви.
Если говорить о земной любви, то ее получали в дар все, за очень редкими исключениями. Но сохранили ее единицы. И подвиг как раз заключается в сохранении подаренного. Этому всему служит, кстати, чтение и пение Символа веры. Каждый раз, когда его поем, мы, по сути, напоминаем себе о первой любви.
Господь не только предупреждает Сардийскую церковь. Далее Он хвалит ее.
Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны (Откр. 3:4).
Уже который раз мы видим, как Апокалипсис суммирует Библию и, по сути, свободно пользуется всем сокровищем библейских смыслов. Здесь перед нами подобие Откровения о Лоте и о Содоме. Не осквернившийся Лот хранил Содом. Лот вышел – Содом сгорел. Пророк Илия получает от Господа извещение о семи тысячах не осквернившихся перед Ваалом. А у пророка Исаии появляется такой термин: священный остаток. Это некое относительно малое число праведников, ниже которого опуститься миру нельзя. В Сардисе были такие люди, которые не осквернили одежду души – и душу сохранили, и тело не осквернили, уклонились от всех соблазнов, которым поддались прочие. И ради них, очевидно, этот город и хранится. Это одна из важнейших тем бытия мира. Мало кто думал над тем, что государство живет, пока в нем есть святые люди. А именно до тех пор мы и живем, пока в этом зверинце они еще сохраняются. А когда последний человек покидает зверинец (Лот выходит из Содома), Богу незачем хранить это скопище злодеев. Он зажигает их, как промасленную паклю.
Побеждающий облечется в белые одежды… (Откр. 3:5).
Белые одежды – люди с чистой душой. Сейчас, в земной жизни, у нас тело поверх души, и душу не видно. А потом, образно говоря, тело будет покрыто душою. То есть внутреннее содержание будет снаружи. Внутреннее должно быть белым!
Далее Господь говорит еще об одной примете праведника:
…и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 3:5–6).
Книга жизни упоминается в Апокалипсисе первый раз. В этой книге, если можно так выразиться, проектная документация Небесного Иерусалима. И из нее могут вычеркнуть – так же, как исключают из школы за неуспеваемость или удаляют из списков части за дезертирство. Вносятся в нее и имена «отличников». Только на земле отличник должен всеми силами стараться, чтобы его заметили, и потом держать эту марку первенства. А здесь, в Небесном Иерусалиме, логика обратная: он не должен искать первых мест. Он должен знать, что последние будут первыми; любить тишину больше, чем шум, одиночество больше, чем многолюдство; разговор с Богом – больше, чем беседы с людьми. У отличника в этом классе сокровенная жизнь.
Речь идет о чрезвычайно важном и в то же время невыразимом явлении: в конечном счете все христиане, а может быть, и все люди в конце концов предназначены – для чего? Бог творил человека для чего? Для жизни, а не для смерти. Для блаженства, а не для страданий. Многие, а возможно, и все, достигшие глубокой духовной жизни – они все уже при жизни получали откровение о том, что они уже в книге жизни. Они уже сподобились ощутить это Царство Божие, это соприкосновение с Богом. Это как будто ты записан уже в книге жизни.
А. И. Осипов, доктор богословия
В 80 километрах от Сардиса – турецкий Алашехир. Это бывшая Филадельфия – шестой город, к которой обращает Свое послание Господь.
И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит (Откр. 3:7).
Ключ – это очень сложная вещь. Честертон в «Вечном человеке» обращает на это внимание. Ключ должен подходить к замку. Если он хорош, тверд, крепок, ладно выточен, но к замку не подходит – кому он нужен, этот ключ? А ключ Давидов – это ключ разумения, которым открываются двери во святилище. Христос, сын Давидов – это один из самых торжественных титулов Мессии. Значит, ключи Давидовы должны открывать самые сложные и важные двери, за которыми хранится сокровище.
Маленькая Филадельфия никогда не была большим центром – еще и из-за того, что город часто страдал от землетрясений. В отличие от других городов Апокалипсиса, Филадельфия была еще и очень молода – ей было немногим больше двухсот лет, когда писалось это послание. Может, поэтому Господь говорит о Филадельфии тихие, но такие вдохновляющие слова:
…знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего (Откр. 3:8).
Христос, говорящий через Иоанна, видит и достоинства, и недостатки, некий баланс. И вот две церкви, Смирнская и Филадельфийская, здесь может быть то, что «немного силы» – это отсылка к социальному статусу верующих той Церкви. Может быть, с земной точки зрения они были людьми скромными, но у них была вера, огонь духовный горел, и может быть, в какой-то сложной ситуации они выбрали остаться со Христом.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Но при этом в Филадельфии, как и в соседнем Сардисе (где до сих пор можно увидеть одну из древнейших синагог вне Израиля), как и в Смирне – другом городе, куда обращается Господь, – живет немало иудеев. Проповедь христианства среди них всегда была особенно трудной. И здесь Господь скажет о своем народе беспощадные слова. Он назовет иудеев «сатанинским сборищем». Это страшные слова. В эпоху патристики многие отцы могли их повторить: столь очевидной была слава Христа, данная новым людям, бывшим язычникам. Когда вера Авраама, Исаака и Иакова вдруг распространилась среди всех племен; когда дикий скиф вдруг запел псалмы; когда жители самых разных далеких стран вдруг познали Бога живого и появились дары пророчества, исцеления, говорения на языках… И в это время иудеи, продолжавшие сопротивляться, противились очевидности. Они все равно продолжали уперто следовать обрядовой стороне своей веры, и многие, как бы утомляясь от желания их обратить, говорили: это какая-то сатанинская упертость. Но здесь же звучит потрясающее обещание Бога, исполнения которого мы не увидели еще до сих пор:
Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя (Откр. 3:9).
Откройте Книгу пророка Малахии, последнюю главу, последние два стиха. Там сказано, что в последние времена перед концом света Бог пошлет Илию, и он обратит сердца детей к отцам. Отцы – это Авраам, Исаак, Иаков, то есть еврейский народ вернется к вере Авраама, Исаака и Иакова. А это была вера в то, что в их семени благословятся все народы земли. И когда говорится о семени, говорится об одном – о Христе. И этот народ станет Божьим народом вновь. И у пророка Захарии сказано, что Бог восстановит эту скинию, поверженную скинию Давидову. Он вернет этот народ к себе.
Протоиерей Олег Стеняев
Евреи – это единственный народ, который имеет твердое обетование не исчезнуть до самого конца мира. Все остальные народы могут исчезать, и ничего критично не изменится. Если исчезнут итальянцы конечно, извиняюсь перед итальянцами, пусть они живут долго и счастливо, – но если они вдруг исчезнут, глобально ничего не изменится. Придут другие люди на эту землю и будут продавать билеты в Колизей. Ну, и так далее, касательно всех остальных. Если исчезнем мы, это будет наша личная катастрофа, но ничего в мире может не измениться. Но евреи не исчезнут. Они точно останутся, и они должны в конце обратиться.
Они должны заплакать о распятом Иисусе как о единственном сыне. И, как пишет Захария и как говорит Иоанн Богослов возле креста, они увидят Его те, кто Его пронзил. Они же не изменились с тех пор совершенно. Если посмотреть на сегодняшнего грека, то это не тот человек, который жил во времена Пифагора или Платона. Жители Рима наших дней – это не те римляне, которые жил во времена, скажем, Домициана, или Калигулы, или Октавиана Августа. Но если спросить себя, а какими были евреи триста, семьсот, тысячу лет назад… то они те же. Когда у Бердяева спрашивали, почему нет чудес, он отвечал: как это нет? Посмотрите на евреев – они и есть это чудо. Многие исчезли, а они – нет. Вавилона нет, Ассирии нет, Карфагена нет, а они есть. Это чудо.
И нужно, чтобы библейские события исполнялись на них, чтобы они видели исполнение событий и сказали, что это правильно. Например, они антихриста увидят, и некоторые скажут: «О, наш машиах пришел», а другие скажут: «Нет, это не машиах!» А кто же машиах тогда? О… мы распяли машиаха! Это обманщик, он не настоящий. А где настоящий? Боже, скажут они, Боже, мы убили своего Господа и прожили богоубийцами две тысячи лет с лишним! Трудно вообразить что-то более грандиозное.
Далее Господь обещает Филадельфии покров и защиту.
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле (Откр. 3:10).
Господь умеет спасать. И человек, сегодня исполняющий заповеди, имеет надежду, что в тяжелое время Господь покроет его. Иначе никакой силы не хватит сопротивляться. Да, нам нужно исполнять заповеди сегодня – в надежде на будущий покров. Эти слова будто исполнились в судьбе Филадельфии. Маленький слабый город, но в котором, видимо, царила большая любовь (даже название Филадельфия – это в переводе с древнегреческого «братская любовь») – хранил себя и православие даже в кольце. И в XIV веке, когда турки стояли уже на всех окрестных землях, Филадельфия сохраняла статус независимого города: здесь продолжали чеканить свою монету. Долгие годы Филадельфия была последней византийской твердыней во внутренней Малой Азии, пока в 1390 году она все же не была взята войсками султана.
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего (Откр. 3:11).
Есть прекрасная мысль: в раю тебя спросят сначала, хорошо ли ты делал свою работу. Потому что, если ты был плохим плотником или, например, плохим водителем, машины ломал, людей калечил – как ты мог быть хорошим христианином? Держи, что имеешь это касается самых элементарных вещей. И веру нужно держать, безусловно. Держаться, как по Полярной звезде, по Кресту святому.
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон… (Откр. 3:12).
Царствие Небесное – это храм. И еще здесь, на земле, надо проверять: готов ли человек находиться в раю. Если ему литургия сладка и быстро пролетает, как ночь любви, как полчаса, вот уже и петухи запели, то, значит, он готов для Царства Небесного. Потому что в Царствии Небесном будет литургическое празднество. И ты должен полюбить литургию настолько, чтобы с удовольствием быть столпом в храме. Чтобы вообще не уходить никуда. Как Николай Чудотворец и другие святые, про которых говорят, что они раньше всех заходили в храм и позже всех выходили. И стоять на службе нужно как столп – с именем Бога на челе.
…и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 3:12–13).
То, что в вечности у нас будут новые имена, Господь открывал уже и Пергамской церкви, но в случае с Филадельфийской некоторые видят в этом обещании – дать новое имя – намек на историю самой Филадельфии: после разрушительного землетрясения в 17 году I века воссозданный город назвали Неокесарией.
Христиане пребывают гражданами Неба. Посреди испытаний, скорбей, искушений они связаны с Богом, и это через разные образы показывается. Или это колонна в храме, или новое имя Божие, которое на ней запечатлено, или имена, написанные в книге жизни – представьте себе, что на Небесах есть книга и Господь записывает каждое имя верующего человека. И Иисус Христос говорит: вы грешите, и может быть изглажено ваше имя, если вы не покаетесь, но Я не изглажу ваше имя.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
И совсем уже буквальными образами, понятиями и даже предметами из окружающей действительности города Лаодикии Господь обращается к Лаодикийской церкви.
И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (Откр. 3:14–16).
Это о современной толерантности. Иными словами, о безразличии. Холодными можно было бы назвать, к примеру, коммунистов. И коммунист мог обратиться к Богу и полностью поменяться. «Горячий», истинно верующий, страдал бы и терпел до конца. А толерантный – это никто, просто никто. Кстати, там, где в русском переводе стоит «извергну», в старославянском гораздо более яркое и точное: изблюю.
Достоевский писал, что атеизм проповедует ноль. Он не за минус и не за плюс – это ноль, всепоглощающий ноль. Безвкусно, как яичный белок без соли.
Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»… (Откр. 3:17).
Лаодикия была богатейшим городом провинции Фригия. Город лежал на перекрестке двух важнейших дорог римского мира – из Эфеса к Эгейскому морю и из Пергама к Средиземному морю. Лаодикия процветала, здесь шла бойкая торговля и росло производство. А после страшного землетрясения горожане восстановили разрушенный город за свои деньги. Лаодикия славилась банками (Цицерон рекомендовал именно здесь совершать обмен денег), шерстяной одеждой, школами для подготовки врачей и уровнем медицины. Здесь делали много лекарств и лечебных мазей. Самой известной из этих мазей была глазная. Именно на эти три главных столпа процветания города – финансы, одежда и глазная мазь – указывает Апокалипсис:
…а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть (Откр. 3:17–18).
Человек как бы может находиться в совершенном неведении о себе самом. Может не иметь о себе адекватного знания. Он себя не видит прокаженным, нагим, слепым. И Господь говорит: купи у Меня мазь глазную, чтобы видеть. И купи у Меня одежду, чтобы прикрыть срамоту, и купи у Меня золото, огнем очищенное. Эта мазь глазная – это слезы. В Лаодикии делали настоящие глазные мази, а нужно было поплакать, чтобы прозреть. И нужно было взять Христово смирение и одеться в Христову праведность. Потому что иначе ты никто. Это такое хорошее зеркало, в которое стоит взглянуть всем церквам.
Лаодикия – это церковь периода апостасии. Проблемы христиан периода апостасии – это проблема расцерковления, когда в мире будут сниматься все табу, все запреты, грех будет объявляться нормой. Сейчас это начинается на Западе. Людей подвергают тюремным заключениям, когда они выступают против преподавания детям сексуального просвещения… Или если пастырь выскажется против гомосексуальных отношений, к чему это приводит? На него подают в суд и храм обкладывают штрафом, а священника могут посадить.
Протоиерей Олег Стеняев
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3:19).
С точки зрения будущего, конечно, мы благословим все наши болезни и неудачи. Но «здесь и сейчас» нам хочется, чтобы все было по-нашему. Мы находимся в гордом самообольщении. А у гордого с Богом война, потому что гордый не хочет принять волю Божию и слова «да будет воля Твоя» – это распятие гордого сердца. Поэтому Бог и противится гордым, что гордый сам развязывает войну с Богом. И лучше бы нам обернуться назад и благословить весь путь прошедший и Бога, который хранил нас. Если Он что-то нам дает, чтобы мы стали лучше, то это не наказание – это лечение наше, а Бог – врач, но не палач. Какое же лечение Он предлагает церкви Лаодикии – единственной из семи церквей Апокалипсиса, о которой не сказано Богом ни одного хорошего слова?
Итак будь ревностен и покайся (Откр. 3:19).
Вняла ли Лаодикия этому совету Христа? Если судить по участи, которая ее постигла, то вряд ли. Богатейший город беднел и угасал постепенно, а когда Лаодикию в XIII веке заняли турки, остатки греков- христиан ждало жалкое существование: кто не стал рабом у турок, того унижали и душили налогами, обирая до нитки. А нынешняя Лаодикия – это лишь руины невдалеке от турецкого туристического города Денизли.
Уильям Холман Хант. Светоч мира. 1854. Оксфорд, Кейбл-колледж
А дальше звучит, наверное, самая цитируемая фраза Апокалипсиса:
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3:20).
Вот, все плохо, плохи дела в этой Церкви, а он стоит у двери и стучит. Но как посреди шума, посреди этого мира услышать этот тихий стук? Шума-то много. Мы привыкли и даже как-то боимся остаться без шума, в полной тишине. Если будет получасовое молчание, мы испугаемся. И мы не слышим Господний стук в дверь. Или так крепко спим, что нас из пушки не разбудишь, или шоу громкое смотрим, или погружены в еще что-либо малозначащее.
«А где Ты был? – спрошу я когда-то. – Я стучал. ответит Он. – А я не слышал. – Сам виноват».
И еще: у Бога есть все ключи от всех дверей, но Ему важно, чтобы мы сами открыли двери. На известной картине Уильяма Ханта изображен Христос, стучащий в дверь, у которой нет ручки. И художнику указывали: «Вы неправильно нарисовали. На дверях нет ручки», а он отвечал: «Я правильно нарисовал. У этих дверей ручка внутри, одна». То есть у дверей сердца ручка внутри.
Вечеря со Христом – это есть сегодня божественная литургия, потому что Господь призывает всех нас на Тайную Вечерю. Это таинство Евхаристии, это святая литургия, в которой участвуют верные.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Но именно Лаодикийской церкви – самой порочной и неживой из всех, Господь открывает самую невероятную награду для Побеждающего – то есть праведника:
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его (Откр. 3:21).
Кончается послание Лаодикийской церкви и этой главы фразой, которой Господь завершал каждое послание всем семи церквям:
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам (Откр 3:22).
Семь церквей Апокалипсиса: Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия – это не единственные города, где в ту пору, к концу I века, уже жили христианские общины. Почему именно в эти города – а не в соседние Колоссы, например, или Троаду и Милет, упомянутые в Деяниях апостолов, – пишет Иоанн Богослов?
Конечно, послания не адресуются исключительно той или иной общине, они универсальны, и можно сказать, что через семь посланий Иисус обращается к полноте Церкви, и каждый человек может так или иначе себя узнать – свою Церковь или свою духовную жизнь – в одном из этих посланий.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Итак, будто описав нас всех, тогдашних и нынешних, Господь уже со следующей главы начнет открывать нам Свой замысел о мире и через что Его миру надлежит пройти.
А самый общий призыв ко всем церквям Апокалипсиса – это три слова: покайся, будь верным, не бойся. Это может стать программой христианской жизни. Можно добавить еще и напоминание: «Знаю твои дела». И начать с этого. Бог знает мои дела. А потом Он говорит: покайся. А потом уже: будь верен Мне. А потом говорит: не бойся, Я сберегу тебя. Прекрасная четырехчастная доктрина, как четырехчастное Древо Креста.
Глава 4
И вот, дверь отверста на небе…
После первых трех глав начинается описание… самого Бога. Не ожидаемых ужасов Апокалипсиса, о которых больше всего говорят, а Царствия Небесного вечности, которую Бог нам приготовил. Когда Иоанн, телом пребывая в пещере на острове Патмос, был в духе, эта вечность вторгалась во время, в бытие – и он видел на огромные временные промежутки, видел перед собой всю вселенную, видел, как развивается будущее. Без объяснений. Просто видел, не двигаясь с места, картины без объяснений.
Четвертая глава – это богословское сердце всей книги Апокалипсиса, а может быть, и всей Библии. Это прямое откровение о Боге и Его Доме, в который и нам надлежит в конце всего пути зайти.
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего (Откр. 4:1).
Иоанн слышит как бы звук трубы. Конечно, в трубу никто не трубит. Это сравнение – попытка описать небесную реальность, найти в нашем языке слова, хоть немного способные передать ее суть. Евреям был прекрасно знаком звук трубы – шофара. И в шофар трубили только в великие праздники: в дни еврейского Нового года, в Йом-кипур – судный день… Звук шофара созывал людей в храм и возвещал о важных событиях. Это про звук шофара пишет царь Давид в Псалтири: «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях» (Пс. 150:3). Об этом же говорит и пророк Исаия: «…и будет в тот день: вострубят в великий шофар» (Ис. 27:13). Это звуки шофара обрушили стены Иерихонские. И, скорее всего, на звук шофара, как на понятную близкую действительность иудеев, указывает апостол Павел, говоря: «…не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» (1 Кор. 15:52–53). Звук трубы означает либо великий праздник, либо великое покаяние. Апостол Иоанн все это прекрасно знает. И он восхищен к созерцанию вещей, которые не видны глазу.
И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий (Откр. 4:2).
Представить Бога, сидящего на престоле, мы не можем при всем желании. Ум изнемогает при попытке это сделать. Иоанн Дамаскин говорит, что есть три рода идей. Первые – те, которые понятны и легко могут быть изложены языком. Вторые – это идеи, которые понимаются умом, но с большим трудом излагаются словом или вовсе не излагаются. А третьи – вещи духовного порядка, которые непостижимы уму и, конечно же, не излагаются языком. И вездеприсутствие святого Бога, Его промышление о всей твари, о каждом комаре, о каждом муравье, обо всем происходящем – это такие идеи, от которых ум приходит в смирение и говорит: «Я этого не понимаю. Слава Тебе, Господи!»
Бог, сидящий на престоле – это владыка мира. Это тот, кто свершит справедливый суд, кто знает истину. Не случайно Он назван так семь раз – это говорит о полноте владычества Божьего, и мы можем к нему прибегнуть, найти у Него покровительство и защиту…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Как говорил Иов: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя… и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5–6). И мы говорим: «Слава тебе Господи, насколько Ты велик, Господи! Помилуй! Слава Тебе!» Эти слова – слава Тебе, Господи, – похоже, главные слова и этой главы, и живущих там, на небе, перед лицом Бога. Сидящий на престоле открывается Иоанну во славе.
…и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду (Откр. 4:3).
Здесь о сиянии речь. Яспис, сардис – это камни, но камень сам по себе в темноте не сияет, а если луч солнца попадает на него, то он, если ограненный, начинает играть разной красотой… калейдоскопом красивых бликов. Господь предстает в сиянии. А с чем еще сравнить богослову сияние? Для него это будет камень драгоценный, на который падает солнечный луч. Есть трогательные толкования, трактующие красный цвет ясписа и зеленый цвет смарагда как сочетание милующей любви Божией и Его пламенной справедливости. Но это не более чем поэтичное предположение. Теперь никто в точности не скажет, какого цвета были камни, которые видел святой Иоанн. А радуга вокруг престола напоминает нам о спасении. Это знак радости, знак божьего благоволения и призыв: «Не бойся!»
Возможно, красота облачений священников на службе – это тоже отблеск этого престола, этого свечения, этого другого мира. В любом случае, это усилие людей прославить Господа. Святители, которые были крайне аскетичны в своей жизни, могли спать на кровати без матраса или на полу и есть очень скудную пищу, в богослужении старались брать лучшее. Лучшие ткани, лучшее вино для Евхаристии, чистейший хлеб для просфор, чистейший воск для свечей… Храм – это место лучшего. Можно никогда не иметь на руках золотых перстней, но позолотить, например, кадильницу или напрестольный крест. Это правильный подход.
Священники, которые совершают литургию, они действуют не в силу своего благочестия, а в силу того поручения, которое им дала Церковь, во славу Божью.
Протоиерей Олег Стеняев
И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы (Откр. 4:4).
Имен этих старцев никто не знает. Это могут быть лучшие люди земли, праведники Ветхого и Нового Завета. Они соединяют в себе веру, и мудрость, и опыт и достойны ближайшего прикосновения к Иисусу. Притом они не апостолы и не патриархи, что очень интересно. Апостолов мы еще увидим. Вот, например, Иов – он ведь не пророк и не патриарх, и жил еще до Моисея, и не знал писанного закона, и он не апостол, но он великий.
Вокруг престола именно старцы (не дети, не женщины, не юноши). И нам следует помнить, что почитание старика – это почитание Бога через старого человека. Седина старика требует от нас почета и страха Божьего, потому что в его седине отражается блеск Божьей славы.
А дальше идет просто описание Царствия Небесного, нашей Родины на небе. И все равно сложно подобрать слова. Но Царство Божие, если судить на основании Апокалипсиса, представляется как литургия. Там есть престол, там есть Сидящий, Неописуемый, есть поклоны земные, есть Евангелие, фимиам, молитвы святых. Там богослужение. И самое приближение к Царствию Небесному может пережить здесь, на земле, каждый из нас – на литургии.
Если тебе скучно на литургии, если она слишком тяжела, утомительна, то тебе будет скучно и в Царстве Божием. Оно не для тебя. Но если будешь радоваться литургии, праздновать литургию, жить ею – тогда ты на пути в Царство.
Если вы возьмете все сюжеты Апокалипсиса… вы увидите схему всенощного бдения, литургию и апофеоз литургии – это город, в котором вместо солнца сам Христос, своим присутствием Он освещает этот мир, а присутствие Христа в нашей земной жизни – это, конечно, святое причастие.
Протоиерей Олег Стеняев
Литургия – это скиния Бога с человеком. Это те слова, которыми описывается блаженство будущего века. А Апокалипсис – это введение в литургию. В нем будто описано торжественное богослужение в невероятно красивом тронном зале Дома Божия. И, возможно, поэтому следующие строки так напоминают описание алтаря любого православного храма.
И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих (Откр. 4:5).
Семь свечей – это образ, отсылающий нас к священной символике числа «семь». Воплощение символизма. Семь Вселенских Соборов, семь дней Творения, семь таинств есть у нас… Таинств, конечно, не семь, их больше. Таинство – это любое благодатное действие, которое меняет человека. Колокольный звон может пробудить совесть, это тоже таинство. Монашество может быть таинством. Оно, собственно, и есть таинство. Погребение когда-то справедливо считалось таинством. Великое водосвятие – таинство. Иоанн Златоуст говорит: «Сделай твою молитву таинством». Их больше, чем семь. Но сознание нужно структурировать. И для этого у Бога все сделано мерой и числом. У хаоса нет числа. А где есть число – там нет хаоса.
Не только Отец и Сын упоминаются, но и Дух Святой. Сидящий на престоле – это Бог Отец, потом мы увидим Иисуса Христа в образе агнца, или ягненка, а Дух Святой явлен в своих семи дарах.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Семь даров, о которых говорит Исаия – это «дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия и страха Божия». Но мы сузили бы Божество, если бы ограничили его только этим. Любое число это прежде всего структура, благодаря которой нам легче запоминать то, чему учит нас Бог. Скажем, три добродетели – вера, надежда, любовь. Один Бог, две природы во Христе, три лица в Троице, четыре Евангелия, пять ран Господа, шесть крыл у серафимов, семь таинств у Церкви, восемь – тайна восьмого века воскресения мертвых, девять чинов ангельских… Так и семь даров Святого Духа. Только искать нужно не отдельных даров, нужно искать самого Святого Духа. Как мы молимся: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».
Плод духовный есть: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона… Понимаете? Свободные совершенно от всяких своих непотребных желаний и стремлений… Вот, оказывается, плоды духа. Вот в чем они заключаются.
А. И. Осипов, доктор богословия
… и перед престолом – море стеклянное, подобное кристаллу (Откр. 4:6).
Море – оно живое, оно дышит, оно движется, и оно сильное. А море перед престолом – это тоже море, сильное, но спокойное. Оно не движется. Обычное море непостоянно, в нем бушуют шторма, оно внушает страх. А стеклянное море иное. Красивое, могучее, но бояться нечего.
С прозрачным, как это море, кристаллом, позже будет сравнивать апостол Иоанн и сам Небесный Иерусалим – столицу рая. Одни толкователи видели в этом спокойном море отсылку к первым строчкам Библии о том, как Бог создавал мир, отделяя воду, «которая под твердью, от воды, которая над твердью» (Быт. 1:7). Другие – отсылку к реалиям иерусалимского храма, которые хорошо знал апостол Иоанн: там, в храмовом дворе, рядом с жертвенником находилось «медное море» – огромная бронзовая чаша для ритуальных омовений священников.
Для евреев море – это что-то такое хаотическое: вода соленая, ее нельзя пить, и эта огромная толща воды внушала страх, потому что это непредсказуемая стихия. Но стеклянное море противоположно этому: оно прозрачно абсолютно, оно находится у Бога, и оно, как стекло, имеет свойство проницаемости, гладкости, чистоты… оно пропускает свет и отражает в себе Бога.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
…и посреди престола и вокруг престола – четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему (Откр. 4:6–7).
Животных Апокалипсиса мы видим теперь на иконах апостолов-евангелистов. Символ Матфея – как раз животное, которое «имело лицо, как человек», то есть Ангел, символ Марка – лев, символ Луки – телец, а орел – символ Иоанна Богослова. Трактовок было несколько, и устоявшаяся восходит к блаженному Августину, а впервые мы встречаемся с этими животными у пророка Иезекииля.
Иезекииль, один из четырех великих пророков Ветхого Завета, был 30-летним молодым человеком, когда Бог открыл Ему Себя, тайну Своего творения и тайну будущего мира. С видения Славы Божией и четырех животных под престолом Создателя открывается Книга пророка Иезекииля, написанная почти за семьсот лет до того, как это же или что-то похожее открылось Иоанну Богослову.
«…Видно было подобие четырех животных, – и таков был вид их: облик их был как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их… Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех» (Иез. 1:5–10).
Рафаэль. Видение пророка Иезекииля. 1518. Флоренция, Палаццо Питти
Четыре животных указывают на четыре стихии мира и на четыре Евангелия. Это число мы встречаем и при описании рая в Книге Бытия, где сказано, что рай омывался четырьмя реками. Это четыре Евангелия, которые омывают наши души, поддерживают их в райском блаженном состоянии. Число «четыре» чаще всего относится к четырем евангелистам.
Протоиерей Олег Стеняев
Уже при первом прочтении мы видим, что там есть лицо человеческое, есть птицы – орел, есть дикие животные – лев и одомашненные – телец. Эту символику уже в дальнейшем верно объяснили, сопоставили с тем, что телец – это животное-жертва. Лев – это животное с царским достоинством, царь зверей. Орел это гордая, высокая, благородная птица, которая летает выше всех и, не мигая, смотрит на светило. Сильная, опасная, но очень красивая. Это, конечно, Иоанн. И это как-то закрепилось уже в церковном сознании. Конечно, к евангелистам можно подобрать и другие символы. Допустим, Матфей – он весь погружен в ветхозаветные пророчества, к нему можно подобрать любое пророчество из Ветхого Завета, любой образ. Марк – римлянин, краткий, стремительный; к нему можно что-то из римской истории подобрать. Лука это историк, к нему можно что-нибудь из «Истории» Геродота, из каких-нибудь отцов истории взять. Ну Иоанн, конечно, неподражаемый, это орел, тут ничего не скажешь. И пусть даже эта символика сейчас уже закрепилась, она дышит внутри себя, потому что ни одного евангелиста нельзя описать одним словом, одним образом – они многоимениты, как Господь.
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей (Откр. 4:8).
Григорий Нисский пишет, что серафим, когда распростирает крылья, двумя летает, двумя закрывает лицо от страха, а двумя покрывает ноги – и образует собою крест. Такое положение крыл предсказывает крестную славу, потому что через крест придет слава людям и спасение миру. А по другим трактовкам у шести крыльев этих существ вот какая задача: двумя крылами они закрывают лица, чтобы не сгореть, глядя на Бога, двумя другими – ноги, потому что подчиняют свои движения Богу, а еще двумя – летают.
…и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет (Откр. 4:8).
Это выше всего. Это просто выше. Бескорыстная хвала выше всякой просьбы. Потому что просьба вынуждена, покаяние вынуждено – скажем, грехами; благодарность вынуждена исполненным прошением: я просил, мне дали, я благодарю. Это тоже все нужно, это очень нужно, но если идти снизу вверх с покаяния, с прошения, с благодарения, то потом доходишь до бескорыстной хвалы: «Слава тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Богу за все!» – как Златоуст говорил, умирая. Это выше всего – бескорыстная хвала.
Мы с вами знаем из первых дней творения, что вместе с Адамом и Евой весь животный мир воздавал Богу хвалу, служил и радовался общению с Богом. Мы, люди, приходим в храм, молимся, воздаем славословие. А я думаю, в животном мире каждый как-то в своей мере служит Богу. Вспомним даже Герасима Иорданского, который излечил льва – и после лев служил Герасиму и всей обители. Много есть таких примеров, и каждое творение предназначено для славы Божией.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Очень тяжело славить Бога, например, когда находишься на отпевании близкого. А их надо произносить все равно. Святой Игнатий (Брянчанинов) говорил, что вынуждать из себя эти слова, выжимать их из гордого сердца и через силу произносить это славословие в любой ситуации – это есть признак духовной мудрости и смирения перед Богом. Это тайная наука. А Силуан Афонский говорил: «Если я спущусь в темный тесный ад, я и там буду хвалить Твое имя, я и там буду молиться Тебе». То есть нет ада для рабов Божьих. Кто хвалит Бога, тот не будет в аду.
И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено (Откр. 4:9–11).
Старцы падают ниц перед престолом Божьим, выражая, что их власть исходит от Него. Они же являются царями, и они признают Бога владыкой над собой. Получается, что Бог царствует через них над миром. Этому противопоставлены далее образы тринадцатой главы Апокалипсиса, где зверь узурпирует власть над миром… и заставляет человечество поклоняться ему как Богу.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Мы привыкли, что мы за молитву что-то получаем. Даже «Господи, помилуй!» – это просьба о милости, мы ее получаем. «Господи, помоги!» – и Он помогает. А славословие Богу – это истинная радость бескорыстия. Слава Тебе, слава Тебе, Боже – и мне ничего не надо. А чего не хватает в мире? – Радости.
Мир печален и уныл, мир спешит, он измучен, и тут – слава Тебе, Боже! Это самое дорогое – бескорыстная радость. Это как созерцание прекрасной картины, к которой не добавить ничего. Я просто говорю: «Боже, как красиво все!» – и уже все совершилось.
Глава 5
Кто достоин раскрыть сию книгу?
Агнец – это центральная жертва ветхозаветной Пасхи. Апостол Павел пишет: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7). Он – Агнец Божий, который искупает грехи всего мира, начиная от первого человека до людей, живущих сейчас.
Протоиерей Олег Стеняев
Здесь, в пятой главе, Бог откроется одновременно и грозным львом, и кротким ягненком, а когда возникает новый тревожный предмет – книга за семью печатями и снятие каждой печати начинает обрушивать на мир страшные потрясения, на небе почему-то ликуют. Некоторые библеисты называют пятую главу одной из самых драматичных во всем Апокалипсисе. Здесь в руках Бога появляется свиток, в котором пока еще никому неизвестный сценарий будущей переплавки всего мира.
И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями (Откр. 5:1).
Печать – это восприимчивый мягкий материал, который принимает на себя царский оттиск. Это воск или сургуч, который потом показывает, взломали ее или нет, и показывает достоинства того, кто запечатлел ее. Книга Божия закрыта печатями, которые указывают на царское достоинство и на великое содержание, недоступное праздному уму.
Интересно, что печатей семь. Семь – это, конечно, усиливает идею, смысл, что это тайна… Мы говорим: «Тайна за семью печатями». И также эти печати позволяют Иоанну, может быть, структурировать свое повествование, потому что снимается с книги семь печатей, и после каждой печати следует некое видение.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Странные слова о книге, что она была исписана очень обильно изнутри и снаружи, указывают на то, что это не книга в нынешнем понимании, а скорее свиток. Книжный свиток был частью многих восточных церемоний воцарения. Он понимался как символ власти правителя. И важно, что Иоанн видит этот свиток в деснице Бога – то есть именно в Его правой руке.
Бог как владыка мира имеет этот символ и передает его Агнцу как символ владычества. Еще это можно сопоставить… с изображением императоров, имевших свитки – если император стоял в окружении фигур, то свиток помогал отличить императора от других подчиненных, потому что это символ власти, законотворчества и суда.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Нечто похожее – исписанный внутри и снаружи пророческий свиток – видел и пророк Иезекииль: «И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: “плач, и стон, и горе”» (Иез. 2:10).
Печатей на книге семь – это число священной полноты. Вот и теперь семь печатей – символ особой сохранности и полноты тайны.
Апокалипсис пронизан числами. Сто сорок четыре тысячи, тысяча, двенадцать, три, четыре, 666, три с половиной года, тысяча двести шестьдесят… Чисел очень много. И через числа, через цифры и даты с нами говорит Бог. Раньше единицу ребенку показывали и говорили: «Един есть Бог, другого нет». Про двойку – два естества во Христе, Бог и человек. Когда тройку показывали, говорили, что есть Троица: Отец, Сын и Дух Святой. Четверка – имена четырех евангелистов: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Пять шрамов у Христа на теле, шесть крыльев у серафимов. А семерка – она вездесущая: семь таинств у Церкви, семь дней творения, семь светильников, семь чаш гнева, семь труб Апокалипсиса…
Цифры – они отражают замысел Божий в общих чертах. Можно цифры соотносить между собой, но они не отражают точного количества, и мы не можем позволить цифрам увести нас в какую-то сектантскую психологию… Я вижу в числах богословское значение, которое коррелирует в первую очередь с другими образами, с другими богословскими смыслами.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Восьмерка – это воскресение, тайна восьмого дня; девятка – девять чинов ангельских; а десятка – десять заповедей Божиих. Так и проходили арифметику через закон Божий. А буква и цифра – это, по сути, одно и то же. Ведь не было раньше отдельных чисел, были буквы. Один – это альфа, значит, два – это вита. Раз книга написана буквами, то ее можно переписать и цифрами. Поэтому считать – это все равно что читать. Семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутках, двенадцать месяцев в году – это наши буквы, которые мы читаем, времена и сроки.
Так же, как гадал об этой книге в руках Бога апостол Иоанн, так и многие библеисты до сих пор упражняются в точном определении этого свитка: то «тайный Божий замысел о пришествии на землю Его Царствия», то «эсхатологический план Божий», то «Божий замысел о спасении искуплении человечества», то «спасительное обетование Бога». А святой Андрей Кесарийский писал, что «под книгой разумеем также и глубину Божественных судеб». Все эти формулировки схожи в главном: в этой книге некий план Бога, и этот план – тайный. И хорошо, что нас не пускают всюду, куда мы захотели бы пойти: если грешник пытается проникнуть в тайны, то он делает это на беду себе и окружающим. Как много мы узнали о человеке за последние столетия, пробрались уже до генома – но как это опасно! Люди, пробравшись в тайну, начинают клонировать овец, задумываются над клонированием человека, дерзают на самые гордые предприятия. Поэтому Бог правильно делает, что закрывает семью печатями важнейшую информацию и открывает ее только достойным.
Тогда становятся понятны следующие трагические слова Апокалипсиса:
И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее (Откр. 5:2–4).
Книгу, о которой идет речь, конечно, никто не мог открыть, как и спасти себя мы не можем. Человек не может спастись сам, как бы хорош он ни был. Не может ни создать, ни воссоздать себя сам. Как творение он находится полностью в воле Божией и руках Его, и как спасенное существо, и как житель Иерусалима он тоже полностью находится в руках Божиих.
И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее (Откр. 5:5).
Лев – это Христос. Это исполнение пророчества. Еще когда патриарх Иаков умирал, он пророчески уделил благословение всем своим двенадцати сыновьям, и Иуде досталось благословение, в котором он сравнивается со львом. Там еще виноградная лоза, и он моет в вине одежды свои; потом появится еще образ апокалиптический – омовение риз святых в крови Агнца. Благословение Иуды – оно целиком пророческое. И именно от колена Иуды воссиял Господь. Христос пришел к нам не от колена Симеона, не от Рувима, не от Левия – Он Лев от колена Иудина.
Мы только в самом начале книги, на пятой главе, а нам уже говорится: Он победил. Да, мы увидим страшное – но нам уже заранее говорится, что он победит. Он уже победил, Он на кресте еще сказал: «Совершилось!» – и Он потом повторит эти слова, они послужат еще Апокалипсису, но уже сделано все. А после этого откровения следует одно из самых потрясающих мест всей Библии.
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле (Откр. 5:6–7).
Вместо обещанного грозного льва мы видим… Агнца. Это один из парадоксов Евангелия. То есть мы говорим о Троице – и говорим об одном Боге. Мы говорим о Деве – и говорим одновременно о Матери. И здесь мы говорим о Льве, а потом видим Ягненка, Который растоптал драконов.
Если мы посмотрим на гербы стран, даже современных, мы там увидим орлов, медведей, барсов, львов, волков – хищных животных, с которыми древний человек всегда себя ассоциировал. Ягненка никогда никто не ставил ни на герб, ни на алтарь, ни на знамя, никуда. Потому что он слабый, беспомощный. Нежный, вызывающий жалость, но не более. С жалостью в мире не проживешь. Так считали. И вдруг ягненок топчет медведей. Ягненок избодает львов. Ягненок разрывает барсов. Это очередной парадокс, да, но он такой, Иисус, Господь.
Если бы Христос был обычным человеком, Он сам нуждался бы в искупительной жертве. Если бы Он был только человеком, но не был бы при этом и Богом, его жертва могла бы иметь значение только для современников. Но так как Он – Бог, а Бог не ограничен ни временем, ни пространством, то жертва, которая принесена на голгофском кресте, имеет вселенское значение.
Протоиерей Олег Стеняев
Агнцем Господь назван в Апокалипсисе целых 28 раз! Здесь, похоже, опять тайна библейских цифр. 28 – это семь, умноженное на четыре: число полноты умножается на число всей земли.
Исаия в мессианском видении говорит: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Ис. 65:25). Тоже парадокс. «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Ис. 11:8). Бессильный, беспомощный вдруг приобретает храбрость, силу, и зло теряет ядовитость в Его присутствии. Такой Господь.
Он многократно у нас называется Агнцем. Это главное Его имя. С этим именем Его узнал Предтеча. Он же показал на Него, и говорит: «Вот Агнец Божий». В сложнейшей ветхозаветной символике Агнец – это тот, кто берет на себя грехи мира. И непорочный – не хромой, без бельма, без какой-то там плеши. Чистый, единолетный, совершенный, непорочный. Он должен быть заклан за грехи мира добровольно, потому что ягнят как раз режут без их согласия. А Христос приходит добровольно заклаться. Это высший из агнцев. И Он говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Вся власть у Него. Он, Ягненок, купил себе кровью своей такое право.
Кровь Агнца – очень понятный образ не только для христиан, но и для иудеев. Кровью пасхального Агнца израильтяне когда-то помазали косяки дверей своих домов, и десятая египетская казнь не коснулась их. Этот эпизод библейской Книги Исход превратил кровь ягненка в символ спасения.
Закон Божий устанавливает, что за грех – смерть, и не бывает прощения грехов без пролития крови. Поэтому Христос истекает кровью, Он умирает на кресте, и, повиснув на древе – а сказано: «Проклят висящий на древе», – Он берет на себя проклятье всех наших грехов. А так как Он не только человек, но и Бог, Божество сообщает этой жертве непреходящее значение.
Протоиерей Олег Стеняев
В этих строчках Иоанн Богослов и описывает Агнца, Которого увидел: во-первых, Он как бы закланный…
Здесь речь идет, конечно, о Христе. Но Он действительно был заклан. «Как бы» – потому что… одно дело, когда это характеризовалось земной жизнью, когда Он был распят – другое дело теперь, когда видит Иоанн Богослов чуть ли не через сто лет… «как бы закланный». Это слово свидетельствует, во- первых, о прошедшем, о том, что было; во-вторых, о том, что и доныне мы закалаем – как бы, и тут сказано «как бы» закалаем Его – своими грехами.
А. И. Осипов, доктор богословия
Во-вторых, у Агнца семь рогов…
По истолкованию христианских экзегетов, это раны Христа, это те страдания, которые он претерпел, то есть Агнец понес на себе как бы полноту наказания, потому что число семь указывает на некую полноту, возможно, в этой жизни. Например, в человеческом измерении мир делится на седмицы – одна неделя, другая… То есть Он вкусил всю полноту, и число «семь» на это может указать.
Протоиерей Олег Стеняев
А в-третьих, у него семь очей. Про семь глаз Бога писал и пророк Захария – почти за шестьсот лет до Иоанна Богослова он видел что-то похожее.
У пророка Захарии много таинственных образов, действительно апокалиптических картин, видений, которые не до конца раскрыты, не до конца понятны… Иоанн использует образ очей и наделяет Агнца этим атрибутом… И сказано, что эти очи – не просто глаза, а семь духов Божиих, посланных во всю землю. Представьте себе, что это некое всевидение, которым наделен Агнец…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Семь очей – это око недремлющее, символ везде- присутствия Божьего. У пророков написано: «Светлейшие глаза Твои тысячекратно яснейшие Солнца». То есть так говорят: глазам Твоим, тысячекратно светлейшим Солнца, не свойственно смотреть на преступления. Бог не хочет смотреть на зло. Однако Он вынужден делать это, потому что зла, к сожалению, хватает.
И потому Агнец делает то, чего никто из нас, людей – живущих теперь, живших прежде, и тех, кто будет жить после нас – сделать не мог: он берет книгу, чтобы открыть ее.
И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых (Откр. 5:7–8).
И в Апокалипсисе, и вообще в Церкви фимиам, ладан – это символ молитвы. И в Библии мы читаем, что та или иная жертва – благоухание для Господа. Господь обонял первую жертву Каина и Авеля. И жертва Авеля ему была приятна, по состоянию сердца Авеля. А жертва Каина была неприятна. Он или принимает ту или иную жертву, или не принимает. И если принимает, она приятна Ему, как человеку приятен ароматный запах. Демонская сила приносит с собой смрад. Вонь, грязь – это по сути такое дьявольское явление. А чистота и благоухание – это Божие. Эта символика очень прозрачна.
Поднятие кадильного дыма вверх – это, в общем- то, и есть образ поднятия души к Небу. И в Откровении в кадильницу, данную ангелом, возлагается фимиам с молитвами всех святых. Это именно молитвы святых – людей, которые доверили себя Богу, и Он обитает в них, и это действительно жертва благоприятная.
Образ престола Божия действительно можно назвать ключевым образом Апокалипсиса. Он красной нитью проходит через все повествование. Бог на престоле – это образ владыки мира, и, конечно, образ престола связан с идеей суда над миром, то есть, опять же, именно Господь определяет, что есть истина, что есть ложь, что есть свет, что есть тьма – и к Нему восходят эти нравственные критерии добра и зла…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
…и поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени (Откр. 5:9).
Это песнь спасенных. Церковь – она поет. Влюбленным свойственно петь, как говорил блаженный Августин. И в Царстве Небесном поют. Пение – это единственное искусство, которое можно забрать с собой с Земли. И святые поют новую песнь. Они еще не знают, что будет дальше. Книга, которую держит в руках Сидящий на престоле, запечатана изнутри и снаружи, семью печатями, и никто не может не только прочитать ее, но даже взять ее и посмотреть в нее. Они не знают ничего. И когда уже появляется ягненок – лев от колена Иуды, который победил, умер и ожил, и Он берет ее – для них это тоже откровение. И Царство Божие, как следует из этих слов – это не погружение в законченную реальность, а некое движение, анфилады таинственных комнат, с постоянным увеличением откровения.
И как литургичен этот текст: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати» (Откр. 5:9). Все мы помним молитву Богородице: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу». Или: «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу». И здесь мы слышим литургический гимн: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена», – это новая литургическая песнь. Так Апокалипсис понимается через божественную службу.
Новая песнь, в понимании отцов Церкви – это новозаветный гимн, прославляющий Бога. В отличие от ветхозаветных времен, он воспевает благодать, потому что если взять песнопения Ветхого Завета, они воспевали даже закон… Например, Давид говорил: слово Твое, заповеди Твои слаще меда и капель сота. А в Евангелии сказано: закон произошел через Моисея, благодать и истина – через Иисуса Христа. Новая песнь – это упование не на дела закона, а на дела благодати и божественной милости.
Протоиерей Олег Стеняев
А само понятие «новая песнь» будто напоминает о той песне, которую пели израильтяне, славя Бога, который спас их от фараона после перехода через Чермное море.
Выражение «новая песнь» ориентирует нас на другую библейскую Книгу – это Книга Исход, пятнадцатая глава. Только что осуществилось чудесное избавление израильтян, они перешли Чермное море, войска фараона были потоплены, воды сомкнулись, и Мариам воспевает новую песнь, где прославляет Бога как спасителя и искупителя, который явил свою славу, восторжествовал над врагами, и все языческие идолы повержены. Это песнь очень торжественная, и в этом духе и гимн Апокалипсиса: только искупленные Христом, только верные Ему знают слова этой песни… она еще как бы не всем доступна, это как новое имя, нечто сокровенное, что Бог в отношениях с человеком дает ему узнать…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
…и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле (Откр. 5:10).
Это продолжение той же песни. Есть три служения священных: царь, пророк и священник. Но пророки уже не нужны. Не нужно никого возвращать к Богу, уже все с Богом. Не нужно рушить идолов – их нет, и не нужно говорить о будущем, ибо будущее никого не пугает. Оно прозрачно. Оно таинственно, но оно прозрачно. Остались цари и священники. Царь – это владыка. Царь-христианин – это владыка себя самого. Если человек победил гнев, усмирил похоть, задавил в себе нелюбовь к кому-то, ненависть какую-то, простил обидчика, заставил себя выполнить заповедь – он царь.
Христианская вера аскетична и через победный аскетизм – царственна. В ней целый ряд занятий, упражнений, ограничений. И иногда ограничиваются самые простые, не греховные вещи – просто для того, чтобы человек бодрствовал, был на страже. Учитесь властвовать собою! Эта пушкинская строчка в христианском прочтении – приказ Бога всем людям. Это самый главный жизненный навык. А когда мы воспитываем детей, то дал бы Бог это всем понимать, и дал бы Бог это всем исполнить. Чтобы мы научили их именно воздерживать руку от прикосновения к чужому, язык от разговоров о ненужном, глаза от жадного взирания на запретное. Это и есть царствование.
Все крещеные миропомазанные люди принадлежат ко всеобщему царственному священству. По благодати они цари и священники одновременно. Но в Церкви нашей кроме всеобщего царственного священства есть сугубые цари и сугубые священники. Сугубые цари – это те, которые помазуются на царство, а сугубое священство – это трехчинное священство: деканат, пресвитериат и епископат.
Протоиерей Олег Стеняев
А дело священников – жертва. Бескровная жертва приносится на литургии. Но есть ли иные жертвы Богу, и что они представляют собой? В псалме покаянном мы читаем: «Жертва Богу дух сокрушен; сердца сокрушенного и смиренного Бог не уничижит». И в тех же псалмах: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа» (Пс. 4:6). Любое праведное дело, посвященное Иисусу Христу – это жертва Богу. Хвала Богу это тоже жертва. В псалме 49 мы слышим: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие» (Пс. 49:23). Уста, сердце, разум, дела, деньги, вещи – все это может превратиться в жертву: обещано, что стакан воды не забудется, если подан во имя ученика. А если дается большее, то и награда будет больше.
Так что все мы – священники, приносящие Богу время своей жизни, помыслы своего сердца, начатки своих трудов и сил. Когда человек молится – он священник. Если мать молится за дитя, она в это время – священник. Если кто-то возделывает с молитвой свой кусок земли и при каждом ударе кайла или лопаты говорит: «Иисусе, слава Тебе! Господи, помогай нам!» – он совершает священный труд.
Что такое священство? Это свободный доступ к Богу, обращение к Нему, когда Господь тебя слышит, когда ты можешь Его замыслы осуществлять и через тебя Господь может действовать. И это теперь распространяется на всех благодаря воскресению Христа и Его победе над смертью и злом.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Царь и священник – это, в принципе, призвание всех христиан. И власть, которую нам Бог дал над миром, уже проявлена с большой силой. Мы уже в изрядной степени царствуем. Мы летим по небу, опускаемся под воду, преодолеваем расстояния разговором, не сдвигаясь с места. По сути, это проявление великой власти, которая возникла в христианском мире. Христианский мир являет человечеству вот эту особенную власть над Вселенной. Когда соль станет несоленой и христианство ослабеет до края, то эта власть человека над миром станет злодейской. Она будет во вред человеку и всякой твари. Собственно, что мы и наблюдаем.
Царствование со Христом – оно уже начинается здесь, на земле, потому что Христос сказал: «Царство внутри вас». Я думаю, что и там тоже какие-то есть дела – это мы видим из Апокалипсиса, как старцы славословят Бога, как они поклоняются, и в житиях святых сказано: «Стоим на земле, мним стоять в Царстве Небесном», то есть здесь, на земле, мы присутствуем на молитве и в то же время предстоим перед Богом.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Познакомившись с четвертой и пятой главами, мы будто всмотрелись в весь Апокалипсис, в эту книгу не о бедах и катастрофах, но больше – о Царствии Небесном, пережить прикосновение к которому можно уже здесь, на земле, и острее всего в храме, на литургии. Храм и сам похож на постепенность Откровения: притвор, внутреннее пространство, некая стена, преграда, иконостас – и оттуда, из Святого святых, выносится к тебе самое дорогое.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков (Откр. 5:13–14).
«Аминь» – это печать. Царская печать после молитвы или после слова. И самое поразительное, что это «аминь» будет звучать и дальше, когда Господь начнет снимать печати со Своей книги и каждая снятая печать будет нести на землю катастрофы, войны и потрясения. За каждой из семи печатей окажется гибель и смерть. Но и на это Небо будет говорить Богу: «Аминь». Поэтому старцы кланяются до земли и говорят: «Точно, правильно, истинно все, что сделал Ты, Господи, то, что Ты делаешь. Аминь». И мы должны научиться этому слову и имени.
Глава 6
Иди и смотри
Один из самых сильных фильмов о войне, «Иди и смотри» Элема Климова, получил свое название по строке из Апокалипсиса. В шестой главе эта фраза повторится много раз. Эта книга начиналась с обращения к человеку через семь церквей Апокалипсиса, потом была потрясающая картина Дома Божьего, где у престола ангелы и вместе с ними существа, которых апостол Иоанн Богослов назвал животными, пели песнь Богу и видели в Его руке свиток с семью печатями. А теперь Господь начнет эти печати снимать, и всякий раз, при снятии каждой печати, будет звучать это леденящее кровь: «Иди и смотри».
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри (Откр. 6:1).
Приходит время, когда человек воочию увидит то, о чем прежде только слышал. В псалмах есть подобные строки: «Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего» (Пс. 47:9). Страшно, когда тебе пророчествуют о чем-то, говорят: будет так, будет так, будет так. Ты говоришь: не знаю, наверное, будет. А потом исполняется то, что было сказано. И наступает момент, когда Господь говорит: «Иди и смотри».
И что же видит апостол, когда снимается первая печать?
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить (Откр. 6:2).
Из четырех всадников Апокалипсиса именно об этом, первом всаднике спорят больше всего. Дальше пойдут всадники кровожадные, страшные, несущие с собой смерть, казни. А вот белый… Кто это? Победоносный, на белом коне – это точно не враг. Это не кто-то страшный. И возможно, что это Господь. Мы ведь именно Его увидим еще на белом коне в Апокалипсисе: Он будет воинствовать – и здесь Он на белом коне вышел, чтобы победить, потому что окончательная победа – за Христом.
По истолкованию Андрея Кесарийского, белый конь – это символ победы над язычеством, потому что язычество – это мрак и тьма.
Протоиерей Олег Стеняев
Подобное видение Господа на колеснице было и у пророка Аввакума примерно за восемьсот лет до Иоанна Богослова: «Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные. Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю… Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы… Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод» (Авв. 3:8–15). Поэтому эти слова и образ всадника на белом коне часто понимают как предсказание о всей Церкви и ее миссии на земле. Хотя, скорее всего, это все же сам Господь. У Церкви много имен: жилище славы, невеста Агнца – но не сам сидящий на коне. Церковь, сидящую на коне и метающую стрелы, мы нигде не видим. Мы видим ее грозной, видим – в Песне песней – в образе полков со знаменами, видим возлюбленной, невестой, матерью. Но именно сидящий на коне и стреляющий из лука, как воин, попадающий в цель – это воинское дело все-таки больше подобает Господу.
Всадник понимался на протяжении истории христианской Церкви и как сам Иисус Христос, который поддерживает верующих среди испытаний, и как, наоборот, образ антихриста, который соблазняет верующих, казалось бы, светоносным обликом, как апостол Павел говорил, что сатана может принять вид ангела света.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Еще одна трактовка белого всадника – что это победоносная война сильного врага. В пору, когда писался Апокалипсис, речь могла идти о войне между римлянами и парфянами. Но в таком случае первый белый всадник мало чем отличен от второго, который тоже принесет с собой войны, да и белый, такой положительный цвет коня в таком случае смущает.
Цвет в Апокалипсисе очень значим. Основное противостояние происходит между белым цветом, который ассоциируется с небом, с божественной чистотой, с Престолом Божьим, с искуплением Агнца, и цветом красным, который свойствен дракону – это, можно сказать, добро и зло, где красный цвет связан с рыжим всадником, с кровопролитием, и не только цвет коня характеризует всадника, но и кто ему сопутствует, какие атрибуты он несет и какое слово с неба говорится ему…
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Очень популярная и вдохновляющая версия о белом всаднике, что это – время победоносного шествия евангельской проповеди по планете. А лук, по толкованию отцов – это апостолы, ученики Господни. Христос натягивает лук и пускает стрелы во весь мир. Это даже в наших сказках отразилось – когда царь пускает стрелы и рассылает сыновей по движению полетевшей стрелы. Безусловно, это некий знак, указывающий на Христа и на проповедь Евангелия. Вот когда она закончится, когда евангельскую весть услышат во всем мире, Церковь сделает свое дело и сможет уйти, затаиться, уступив место другим всадникам. Возможно, что все именно так. Здесь широко открыта дверь для толкований.
Это благая весть, обращенная к язычникам, когда народы, сидящие во тьме и тени смертной, обретают свет и выходят как бы на белый свет… Это первая весть о Христе, которая прозвучала в языческом мире и нашла как бы согласие в сердцах людей.
Протоиерей Олег Стеняев
Проповедь Евангелия во всем мире – это непременное условие всего остального. Только после того, как слово Божие узнано и принято – или узнано и отвергнуто, – совершаются все остальные события жизни. И когда белый всадник сделал свою работу, и если его работу не приняли как должное, вступают другие всадники – и с другой целью.
И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч (Откр. 6:3–4).
Похоже, нас ждет “bellum omnium contra omnes” – война всех против каждого. В конце «Преступления и наказания», ближе к эпилогу, есть страшный сон Раскольникова, где он видит, как в людей заселяются живые какие-то трихины (бесы), и люди вдруг начинают жарко спорить. Автор говорит, что люди никогда еще не были так убеждены в собственной правоте и никогда еще так не ненавидели другого за противоположное мнение. Они не могли договориться, и убивали друг друга, и мир окутался смертным пожарищем. Когда хочешь убить противника – не переубедить его, а именно стереть с лица земли – это может привести к войне всех против каждого. Тогда разделится дом на дом, царство на царство, семья на семью и люди будут видеть друг в друге врагов.
Рыжий конь, по истолкованию Андрея Кесарийского, – это чин мучеников, потому что цвет этого коня указывает на кровь. И в понимании отцов Церкви сама Церковь проповедует не только словом (конь – это символ вестника), но и мученичеством; также рыжий конь указывает не только на кровь мучеников, но и на кровопролитные войны, которые будут происходить.
Протоиерей Олег Стеняев
О рыжем цвете можно сказать еще то, что рыжая телица, «пара адама» – это одна из самых главных и таинственных жертв иудейского богослужения, которое сейчас не совершается из-за отсутствия Храма. Пепел рыжей телицы очищает всякую скверну и всякий грех. Эта жертва приносилась всего лишь несколько раз за историю еврейского народа. И важно, что рыжий конь – «огненно-красный» по-еврейски – приносит войну, а жертва рыжей телицы – очищает грехи.
Этот всадник пока еще не пришел – современные войны по милости Божией локализованы. Но уже были две мировые войны, и не в шутку ожидается третья. А мировая война ведется на всех стихиях – в воздухе, на воде, на суше, под водой, а тепере еще и в космосе… Ею охвачены все страны и континенты, и нет ни одной страны, которая не была бы затронута войной прямо или косвенно! Вот когда можно говорить, что рыжий конь скачет по просторам земли.
И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай (Откр. 6:5–6).
Топот этого коня разрушает экономику. Возможно, глобально. Апокалипсис – глобальная книга. И пусть она обращается к семи церквям, но мы видим здесь гораздо больше. Мы сегодня уже научены разными кризисами, дефолтами, смотрим на все с осторожностью, и в этих ценниках апокалиптических – сколько за хиникс пшеницы, сколько за хиникс ячменя, – мы видим какие-то изменения структуры экономического общества.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/protoierey-andrey-tkachev/apokalipsis-seychas-pozzhe-chem-my-dumaem-69690844/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Андрей Ткачев
Борис Вячеславович Корчевников
Борис Корчевников и телеканал Спас. Совместный книжный проект
Апокалипсис, или Откровения Святого Иоанна Богослова – одна из самых глубоких и таинственных книг Библии.
Священник Андрей Ткачев и известный телеведущий Борис Корчевников исследуют и открывают читателю главу за главой, снимая пелену с образов, слов и цифр, записанных две тысячи лет назад апостолом Иоанном.
Каждое поколение, читая Апокалипсис, находило в нем черты своего времени, все находят себя в этой книге, потому что мы живем в полноте времен.
Двадцать две коротких главы Апокалипсиса вобрали в себя всю грандиозную Библию и всю историю мира. Мы всмотримся в это Откровение, чтобы осмыслить свое место в этой истории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Борис Вячеславович Корчевников, Андрей Юрьевич Ткачев
Апокалипсис. Сейчас позже, чем мы думаем…
© Корчевников Б.В., текст, 2023
© Ткачев А.Ю., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Предисловие
Апостол Иоанн Богослов – один из самых глубоких и таинственных людей в истории мира. Рядом с ним можно поставить только до сих пор не видавших смерти Еноха с Ильей и Моисея. Иоанн – созерцатель. Его умному взгляду открыто то, чего другие не замечают. Под Крестом Искупителя он получает повеление опекать Матерь Божию. Иоанн доживает почти до глубочайшей старости, и вообще непонятно, умер ли он. Есть предания о том, что он жив и до сих пор на земле. Андрею Юродивому в Константинополе Иоанн являлся как защитник от бесов. И в той церкви, где Андрей видел это явление, бесы страшным голосом вопили: «Идет страшный старик, и будет бить нас!». Ангелы держали падших духов, а Иоанн, имея в руках цепь, наносил им удары. И эти удары были реальны, звук их слышал Андрей. Интересно, что апостол любви, старец, который по слабости к концу жизни говорил только: «Любите друг друга», оказывается столь страшен для бесов.
Это человек с открытыми духовными глазами. Его чуткое ухо слышит нечто дивное. Ему дано столько, что он мог бы написать несколько Библий в полном объеме. Но он очень мало говорит. Это поразительная черта. И в этом Иоанн – великий пример для подражания. Знать много, говорить меньше.
Его Апокалипсис – это торжественная книга. Это оратория. Там много оркестровых тем, очень много голосов и очень много инструментов. Сильно ошибались те, кто пытался объяснять Апокалипсис буквально и находить в нем историческую схему уже произошедшего! Это не «дорожная историческая карта». В ней нет графика исполнения событий. И все-таки это книга обо всем.
О том, как человек отвращается от Бога и обращается к Богу. Как он вразумляется казнями – и не вразумляется ими. Из нее мы узнаем о человеке много страшного и великого. Узнаем о том, каким он может быть – небожителем, живущим в содружестве святых и Ангелов – и каким может быть врагом Господним, кусающим себе язык от злости и упорно не желающим покориться Сидящему на престоле. Это Откровение не об одних лишь исторических судьбах, но и о действующем лице мировой истории – о человечестве целиком и об отдельном человеке.
Бог говорит Иоанну образами, словами и даже цифрами, которые сложно понять неподготовленным умом. «Двадцать четыре старца», «Жена, облеченная в солнце», «Агнец с семью очами», «красный дракон с семью головами», «первый зверь из моря», «второй зверь- лжепророк», «всадники на разноцветных конях», «семь труб», «семь чаш», «саранча», «семь Ангелов», «Вавилон, который одновременно и город и блудница»… Все эти числа, которыми наполнены главы Апокалипсиса: 144 тысячи, десятки, семерки, двенадцать, 24, три с половиной, 42 и, конечно же, 666… Впрочем, любую библейскую книгу невозможно понять с наскока. Некоторые книги благоразумные книжники скрывали от человека до полного совершеннолетия. Например, первые главы Бытия, Песнь песней Соломона, отдельные главы Иезекииля… Без толкования, без разъяснения непонятны даже такие «простые» тексты, как «Отче наш» или «Величит душа Моя Господа».
В силу особенной таинственности, несмотря на то что Апокалипсис – это итог, цель и смысл всей жизни, и нашей, и планеты, – это единственная книга Нового Завета, которую почти не читают на богослужении. Почти. Согласно Иерусалимскому уставу, он читается на богослужениях, на всенощном бдении, между концом вечерни и шестопсалмием – при переходе к шестопсалмию, когда служба уже переходит в утреню. За год он прочитывается два с лишним раза, если читать по одной главе за всенощную.
Двадцать две коротких главы Апокалипсиса вобрали в себя всю грандиозную Библию и всю историю мира. Мы всмотримся в это Откровение и попытаемся осмыслить, к чему была вся эта история и к чему мы сами такие?
Каждая эпоха, читая Апокалипсис, находила в нем черты своего времени – и наполеоновское нашествие, и средневековые потрясения, и война Реформации против Рима. Все находят себя в этой книге, потому что мы живем в полноте времен. А полнота эта пришла уже тогда, когда звезда воссияла над Вифлеемской пещерой и в мир пришел Христос.
Потрясения апокалипсиса – те же катаклизмы, войны, смуты, эпидемии и крушения общественного строя – называют «родовыми муками нового Мира». И природа страждет, потому что стихии, напрягаясь, ускоряются. И земля мучается, нося на себе грешников. Грехи эти известны давно. Гнусное кровосмесительство, мужеложество, скотоложество. Обжорство ненасытимое, когда люди будут съедать в четыре-пять раз больше, чем обычный человек, и не смогут наесться. Радость о зле. Ненависть к благодати. Непокорство, спесивость, гордость, невыносимая обидчивость, желание и умение мстить, злоречие, отсутствие авторитетов…
Человек сначала заражается изнутри, потом заживо гниет и мучает собою всю вселенную. И вселенная отказывается жить под властью такого господина. Назревает кризис, похожий одновременно и на смерть, и на роды. И мы надеемся, что через боль этого кризиса мы обретем выход к свету.
Глава 1
Чему надлежит быть вскоре…
Маленький Патмос иногда называют «Иерусалимом Эгейского моря». Но две тысячи лет назад это был край света, выжженный и малолюдный – место, куда ссылали преступников. Отправили сюда и любимого ученика Христа, апостола Иоанна Богослова.
Это произошло в конце I века. В Римской империи тогда шла очередная волна гонений на христиан – их винили не только в отказе поклоняться традиционным языческим богам, но и в отказе соблюдать главный культ, установившийся к тому времени по всему римскому миру: культ императора. Обожествление кесаря считалось главным свидетельством лояльности властям – правителя почитали как бога и строили в его честь храмы. Обожествленного кесаря не стыдились именовать «Кириос», то есть Господь, или «Де- ус», то есть Бог.
Церковь стремительно росла на крови мучеников, а апостол Иоанн оставался последним из тех учеников, что видели живого Христа. Все остальные погибли в разных частях света.
Впрочем, нельзя сказать, что апостол Иоанн, 95-летний старец, прибыл на Патмос узником. Он был почти свободным – да, он не мог покинуть остров, но в его пределах мог делать что угодно, и он без промедления начал проповедовать и крестить людей. Само его пребывание на острове было не ссылкой, а скорее миссией; так и рассеяние апостолов из Иерусалима, внешне имевшее облик гонений, по сути было распространением славы Божией. Иными словами, апостолов изгнали, чтобы они благовествовали. И Иоанна сослали для того, чтобы он разбогател учениками.
Языческий Патмос, усеянный капищами самых разных богов, к концу I века утопал в дичайших суевериях и извращенных культах. Это была территория культа Артемиды-Дианы. И людей тогда на Патмосе жило в 10 (!) раз больше, чем сегодня. Имели место человеческие жертвоприношения, а верховодили тут всесильные жрецы, творившие неслыханные «чудеса».
И за несколько лет, которые провел на острове святой Иоанн Зеведеев, на Патмосе не осталось почти ни одного некрещеного человека. На набережной Скалы, нынешней столицы острова, до сих пор сохранились остатки баптистерия – купели, в которой сосланный апостол крестил островитян. Со временем крестились все – и представители власти, и жрецы, решившие отречься от прежних суеверий.
Житие Иоанна сохранило память о том, как здесь, на Патмосе, немощного старца страшились бесы, как он исцелял и посрамлял «чудеса» местных магов-жрецов, как возвращал к жизни умерших и проповедовал Христа…
По преданию, когда срок ссылки уже подходил к концу и вера утвердилась почти на всем острове, Иоанн со своим учеником Прохором поднялся на лесистую гору в центре Патмоса, в безмолвную глушь, и остановился в небольшой пещере, где несколько недель строго постился и пребывал в молитве.
Бартоломео Монтанья. Иоанн Богослов пишет Апокалипсис на острове Патмос. Фреска. Рим. Часовня святого Иосифа
Эта пещера теперь известна под именем «Пещеры Апокалипсиса». К ней ведет старая каменистая тропа, по которой столетиями восходили паломники, и двадцать две ступени – ровно столько, сколько глав в Откровении, которое на этом месте получил Иоанн.
В этой пещере Бог открыл Иоанну хронику последних времен и цель всей истории мира: Апокалипсис, в переводе с древнегреческого – «откровение», раскрытие того, что было закрыто.
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа и что он видел (Откр. 1:1–2).
В этих словах запечатлено Откровение Божие прямая речь Отца Небесного, данная через Его сына Иисуса Христа. Он же и говорит, зачем Он дал этот Апокалипсис. «Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Уже почти две тысячи лет назад Он сказал: надлежит быть вскоре.
В больших числах не таится смущение, ведь эти тысячи лет – как один день, и один день – как тысяча лет. Все очень подвижно. Если нам удастся быть в Духе, то мы увидим, как на ладони, прожитую жизнь, и историю мира – как быстро прокрутившуюся киноленту. Поэтому с точки зрения Бога действительно вскоре все закончится. И мы одной ногой стоим уже в этих совершившихся событиях.
Иоанн – семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь (Откр. 1:4–6).
В книге сказано, что Иоанн был в духе в день воскресный… (Откр. 1:10). Значит, Воскресный день, день Господа, уже тогда был фундаментом церковной молитвы, новым днем молитвенного собрания. Иоанн молился здесь именно в Воскресный день, и явление Христа было в Воскресный день. Почитание Воскресного дня – прямой путь к тому, чтобы почаще с Богом разговаривать. То, что Ему бывает не с кем поговорить – это проблема человечества. Но Он желает говорить с нами. Например, Парфений Киевский часто просил Его: «Живи во мне, живи во мне, прошу Тебя, будь во мне и живи во мне»… На что услышал голос: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6:56). Воскресная Евхаристия новое сердце мира.
Апокалипсис – это самая литургическая книга Писания. Нам придется много раз напоминать себе о том, что эта книга больше других говорит о литургии. О живом богоявлении и живом общении людей с Иисусом Христом.
Словосочетание «был в духе» говорит о том, что человек – трехчастен. У человека есть тело, что очевидно. У человека есть душа, оживляющая тело, бессмертная, как нам говорят и как мы это чувствуем сами. И в человеке есть высшие способности, то, что мы называем духом. Это отличает человека от всех других одушевленных, у которых духа нет. Дух есть способность души воспарять к Богу, мыслить о горнем, забывать земное. И когда он «был в духе», это значит, что он был в Духе Святом. Подобное – к подобному. От Духа Святого дается духу человеческому выйти за пределы земного, вырваться, совершить то, что, например, телесно мы делаем при помощи ракет начиная с Гагарина. Человек совершает титанические усилия, чтобы оторваться телесно от Земли но, оказывается, можно, оторвавшись, остаться земным. А можно, никуда не отрываться, а духом видеть все, выше звезд быть. Вот Иоанн был. Дух Иоанна окрыленный. Иоанн символизируется орлом.
Похожее описывал и апостол Павел. Он был в раю и слышал неизреченные глаголы, а в теле он был или вне тела, он сам не знает (см.: 2 Кор. 12:4). Я думаю, что и Иоанн сам не знает, он был в теле или вне тела. Характерной особенностью его речи является разговор о себе в третьем лице: «тот ученик», «ученик, которого любил Иисус». На себя самого Иоанн смотрит со стороны и избегает «якать».
Голос Божий слышится внутренним человеком, а не плотским ухом. Человек есть внешний, а есть внутренний, сокровенный, как в матрешке. Вот эта тайная матрешечка, самая крохотная и самая важная, и слышит голос Божий.
Ученик Иоанна Прохор в это время мог и не видеть ничего, как не видел ученик Сергия Радонежского Михей, когда к святому Сергию приходила Богородица. Когда было Ее явление, Михей просто упал и ничего не видел. А Сергий разговаривал с Девой Марией. Присутствие не обеспечивает слышания, если внутренний человек не готов.
То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию (Откр. 1:11).
Аси?я, или Азия – это запад нынешней Турции. В те далекие времена, когда создавался Апокалипсис, это была римская провинция. Семь городов, к которым пишет Иоанн, сохранились и по сей день – теперь они либо стали частью турецких поселений, либо обратились в величественные развалины неподалеку от последних.
Эфес, ныне Сельчук – бывшая вторая восточная столица Римской империи, город, где жил, проповедовал и был погребен после смерти апостол Иоанн.
Смирна – современный Измир – крупный мегаполис, третья столица Турции (ей и в Апокалипсисе был обещан «венец жизни»).
Пергам – когда-то крупнейший и богатейший город с грандиозным храмом Зевса (только его алтарю теперь посвящен огромный Пергамский музей в Берлине). В наши дни от города остались лишь развалины на окраине турецкой Бергамы.
Фиатира, откуда родом была Лидия, первая известная христианка в Европе – тоже теперь лишь развалины вблизи турецкого Акхисара.
Сардис – когда-то богатейший город, столица огромного государства Лидия, занимавшего территорию в половину нынешней Турции. Сейчас от города сохранились только руины в 75 километрах от Измира, недалеко от городка Салихлы.
А рядом с Сардисом – небольшая Филадельфия; теперь это турецкий Алашехир.
Впечатляющими руинами осталась и Лаодикия – когда-то большой промышленный центр. Город, про чью церковь Господь скажет в Апокалипсисе: «Ты не холоден и не горяч» (Откр. 3:15–16).
Семь церквей Апокалипсиса – это и реальные церкви той поры, и сборный образ всех церквей мира во всех возможных их состояниях: от горячности и праведности до состояния упадка и утраты духовной памяти. Все амплитуды, все колебания церковной жизни представлены в этих семи церквях.
Есть также мнение, что семь церквей Апокалипсиса – это семь этапов жизни Церкви от ее основания до Второго Пришествия Христа.
По этой схеме Эфесская церковь – это время апостолов и борьбы с первыми ересями. Смирнская – эпоха гонения и преследования христиан за веру; века мучеников. Пергамская – период Вселенских Соборов и становления канона нашей веры. Фиатирская церковь, про которую Бог говорит, что «последние дела ее больше первых» (Откр. 2:19) – это эпоха распространения христианства по миру. Сардийская – это гуманизм и материализм XVI–XVIII веков, из них вышел дух бунта, который будет потом атаковать христианство по всему миру. Филадельфийская – это Церковь сегодня; пора относительного церковного благоденствия на фоне убывающей веры. А Лаодикийская – это страшный период перед концом света, когда люди будут равнодушны – «ни холодны, ни горячи».
Впрочем, эти попытки точно распределить жизнь Церкви по историческим этапам страдают натяжками. В Апокалипсисе трудно с периодизацией. Апокалипсис резко переходит из будущего в прошлое, из прошлого в настоящее. Флешбэки сменяются футурологией. Реальность ускользает от точной систематизации.
Но что совершенно точно, так это то, что в семи церквях Азии любой из нас, как в зеркале, видит сам себя. Это зеркало церковной жизни. Надо вглядываться в это зеркало, чтобы каждой общине найти себя там и покаяться, пока не поздно. А если нет, то «приду и сдвину светильник твой» (Откр. 2:5). Он же всем говорит: «Знаю твои дела». «Так говорит Держащий семь звезд в деснице своей, Ходящий посреди семи золотых светильников… знаю дела твои» (Откр. 2:1–2). Уже в первой главе Он сам поясняет, что это за семь звезд и семь светильников.
Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей (Откр. 1:20).
У Него же и ключи от ада и смерти. Он их Хозяин. В Его правой руке – церкви – хорошие и плохие, и горячие и холодные, и те, которые вроде бы живы, а они мертвы. Они все равно в деснице Воскресшего.
Жизнь теплится в любом случае. Помните, у пророка Исаии есть такие нежные слова о том, что Христос «и трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (Ис. 42:3). Он бережет до конца тлеющее и ничтожное, раненное и поломанное. Он не доламывает до конца. И слабые церкви в руке Господа, и сильные церкви в руке Господа. Все семь церквей, вся полнота церковного бытия, в руках Иисуса Христа, в деснице. А в левой у Него – ключи от ада и смерти, власть над теми, кого он победил.
Числом «семь» дышит весь Апокалипсис: после семи церквей будет книга за семью печатями, семь ангелов с трубами, семь ангелов с чашами казней, семь голов у зверя-дьявола, город-блудница на семи холмах… И Сам Господь, «имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих» (Откр. 5:6).
Число семь – оно, конечно, имеет значение полноты, и можно сказать, что через семь посланий Иисус обращается к полноте Церкви… И каждый человек может так или иначе себя узнать – свою Церковь или свою духовную жизнь в одном из этих посланий.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников (Откр. 1:12).
Семь светильников – семисвечник – теперь стоит у алтаря в каждом православном храме мира. Это знак присутствия Бога и Его даров. У нас есть семь таинств, у нас есть семь Вселенских Соборов, у нас есть семь дней Творения, у нас есть семь даров Святого Духа, по Книге пророка Исаии. И этот семисвечник олицетворяет собою весь священный символизм числа «семь».
Апокалипсис – это книга о Христе. Здесь же, в первой главе, Иоанн описывает Его таким, каким он Его увидел. И описание резко отличается от привычного евангельского.
Потому что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку – это повторение «как бы», «подобно» и так далее встречается в пророческих текстах – в том смысле, что выразить словами это достаточно сложно, поэтому и говорится о неких сходных аналогиях: как бы звук, как бы явление какого-то света или как бы что-то еще.
Протоиерей Олег Стеняев
И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний (Откр. 1:10).
Очень важный момент: Он называет себя алфавитом, включает Себя Самого в умное пространство между первой и последней буквой. В алфавит помещается вся мудрость мира. Все, что Он хочет нам открыть, мы записываем и фиксируем на письме. И еще:
Он в начале и Он в конце. То есть везде, куда бы ты ни пошел, ты встречаешь своего Господа. Он Бог первый и Бог последний, Бог начала и Бог окончания всех путей.
Лишь только один Сущий на Небесах, Он вечный, и с Него все начинается и Им на земле все заканчивается. Но есть и иной мир, к которому стремится каждый христианин, и это Царствие Небесное, где Бог пребывает вечно.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
И в первой главе, и дальше Господь открывает Себя определениями, не похожими на евангельские описания Христа.
…и увидел… посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая во?лна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей… И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь (Откр. 1:13–18).
Здесь удивительно все, каждая деталь. Христос седовлас, словно Ему не 33 года, а Он – Старец со светящейся белизной волос – и в древности и теперь это принималось за примету особой боговдохновенной мудрости и святости… На Нем подир – эту длинную белую одежду, чаще всего льняную (лен – символ чистоты), носили ветхозаветные священники и цари.
На эту же царственную славу указывает «золотой пояс».
Халколиван, которому подобны ноги Спасителя это неведомый теперь металл. Полагают, что это зеленая медь или бронза, а может, некий сплав из золота и серебра. Другие источники утверждают, что халколиван – это текущая расплавленная, раскаленная добела медь.
Привычный образ Христа евангельского исчезает. То есть того Христа, каким мы видели Его на евангельских страницах и в своем воображении, в описанном изображении уже мы не встречаем. Это уже воскресший Христос, и Он иной.
Когда Христос воскресший является ученикам, они не узнают Его. Лука и Клеопа не узнают Его до преломления хлеба (Лк. 24:35), Петр не узнает Его при ловле рыбы (Ин. 21:7). Они не понимают, кто это – то есть Христос по Воскресении является иным. Его внешний вид стал непривычным для учеников, и Он мог менять свой вид так, чтобы быть узнанным или неузнанным.
Христос Апокалипсиса – это вообще новый Человек для нас. Белые волосы – действительно как волны или снег. Меч, выходящий из уст – это слово Божие. Это слово у Слова, потому что Он Сам – Слово, и у Него еще слово.
Его ноги как халколиван, то есть как расплавленное железо. Представим себе: горячий цех, плавильня, течет горящий металл – и вот такие ноги у Христа! Что-то совершенно невообразимое. Мы не знали прежде Христа таким.
А сияющее, как Солнце, лицо Христа – это то, что сам Иоанн видел, будучи еще молодым человеком, на горе Фавор, где Спаситель преобразился перед ним и еще двумя учениками и засиял небесным светом. «И бысть» тогда «лице Его ино, и одеяние бело, яко снег».
Смирение кончилось, начинается слава. Ему незачем смиряться больше, незачем унижать себя. Он является таким, как хочет, таким, какой есть. Он является нам в славе, как глагол Божий, как Вечный Царь, как победитель, как воинствующий. В общем, есть чему испугаться и удивиться.
Но при этом Сам Христос говорит Иоанну, и вместе с ним нам: не бойся!
Эти слова Христа: «Не бойся!» – они наполняют надеждой наше сердце и сердца всех, кто верит в Иисуса как в источник нашего спасения. Христос – Он господин шаббата. В Новом Завете сказано, что Христос – господин субботы, а «шаббат» – это покой, и когда Христос говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28), во Христе мы уже в этой жизни, становясь христианами, обретаем этот покой.
Протоиерей Олег Стеняев
А еще он назван здесь «грядущим». Может показаться, что он только придет, а сейчас Его нет с нами.
На самом деле Его тайное присутствие постоянно и безусловно. Он «есть и был и грядет» (Откр. 1:8). Он собирает в себе вечность, все три состояния: прошлое, настоящее и будущее. И если ты вспоминаешь ту жизнь прошлую, вспомни о Нем, потому что Он там был. Если ты думаешь о сегодняшнем дне, то: «Господи помилуй! Ты здесь». А потом приходят мысли: «А что будет дальше?» – успокойся, Он там будет. Он был, есть и грядет.
Глава 2
Ты живешь там, где престол сатаны…
Когда мы слышим о гонениях на христиан во всем мире или видим хронику страшных событий, мы должны помнить, что обо всем этом Господь уже предупреждал в Евангелии – и в Апокалипсисе это предупреждение звучит совершенно ясно. С этой, второй главы последней книги Библии Господь обращается к семи церквям – ко всей Церкви на планете. Если говорить точно, то Иоанну Богослову, который записывал слова Бога, велено передать эти послания Ангелам (возможно, епископам) семи церквей. Все эти церкви находились на малоазийском полуострове, и Иоанн их знал – они расположены невдалеке друг от друга по неровному кругу.
Почему послания направлены к Ангелам? Ангелы предстоят Богу. Они сослужат людям в Литургии. Они любят быть с нами в храмах и алтарях. Ангелы не устают и не спят.
Есть и довольно устоявшееся мнение, что эти слова, повторю, обращены к епископам. То есть ангел церкви Фиатирской, ангел церкви Смирнской, ангел церкви Лаодикийской – это епископы, предстоятели церквей. Они – посредники между народом и Богом. Как Моисей. Моисей идет к Богу, потом приходит к народу и пересказывает им все. И если мы назовем епископа Ангелом церкви – ошибки мы не допустим. Самые достойные авторитетные источники говорят, что главные в христианских общинах – это епископы. И если в церкви что-нибудь не так, то не пономарю же об этом говорить, и не певчим на хоре, и не в просфорне это сообщать. Это нужно говорить тому, кто управляет жизнью общины, возглавляет евхаристическое собрание.
Послание семи церквям Апокалипсиса – может быть, самые понятные две главы этой сложной для скорого понимания книги. Здесь нет тяжелых или пугающих образов, нет картин будущего. Только описание Говорящего, суждения о состоянии церквей (редкая похвала и частые нарекания) и о тех вызовах, на которые эти церкви отвечают, призыв к покаянию или к изменению своей жизни, а еще угрозы (да-да, угрозы Христа) этим церквям – как Он поступит, если церкви не исправятся. Но после угроз всегда звучит вдохновляющее обещание Бога о том, что ждет тех, кто поступит по Его слову.
Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы… (Откр. 2:1–2).
Эфес, руины которого расположены невдалеке от сегодняшнего турецкого Сельчука – крупнейший из семи городов Апокалипсиса, а в пору, когда писалось это послание, еще и второй по величине город Римской империи. Здесь прожил два года апостол Павел (он основал тут эфесскую общину и написал сюда три послания: одно к Ефесянам, а два своему ученику Тимофею). Тимофей был и первым епископом города. Здесь жил и, как считается, скончался апостол Иоанн Богослов. Есть достоверное предание и о том, что под его опекой тут жила и Божия Матерь.
Этот город видел и самых горячих учеников Христа и, видимо, тех, кто себя за них выдавал…
Во второй главе мы читаем: «Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ну чему тут удивляться? Удивляться не приходится… Посмотрите, кем бы мы назвали Иуду Искариотского? Он, конечно, скрывался. Христос видел, Христос пытался сделать все возможное, даже давал ему те же силы чудотворений, которые давал и всем прочим апостолам, и даже чудеса творил, чтобы он опомнился… Ничего не помогло. Как только он представил себе звон монет – все, не выдержал и предал самого учителя. Так вот, это не случайно было, что Христос избрал и Иуду… Это избрание указывало нам и на будущее Церкви… Вот уже апостол Иоанн пишет: «Они не суть апостолы».
А. И. Осипов, доктор богословия
А когда-то город был домом для 250 тысяч жителей. Его театр вмещал 30 000 зрителей. Крупнейший порт на Эгейском море – все дороги с Востока в Европу и Рим шли через Эфес. Знаменитая на весь мир библиотека Цельса, акведуки, фонтаны, площади- агоры, огромный проспект, покрытый мрамором и обрамленный статуями… Эфес был и центром магических обрядов, и второй религиозной столицей языческой империи. Здесь стояли грандиозные храмы обожествленным императорам Рима и процветал культ богини Артемиды – именно Артемиде Эфесской был посвящен храм, вошедший в собрание Семи чудес света и сожженный ради мнимой славы Геростратом.
Может, поэтому Господь поначалу хвалит Эфесскую церковь, вынужденную расти и проповедовать в таких условиях, а потом порицает:
…ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою (Откр. 2:3–4).
Какую же любовь он оставил? Вектор христианской жизни может идти снизу вверх, когда говорится, что «последние твои дела лучше первых». А бывает сверху вниз. Это когда ты оставил первую любовь свою. Если ты был высоко и летел, ходил по водам, а потом пошел под наклон, тогда получается, что эти слова к тебе применимы. Тихон Задонский, к примеру, не раз с горечью говорит о духовенстве: к старости, говорит, нам пора бы уже и чудеса творить. А мы к старости становимся только хуже, теряем молодой запал, энергию, влюбленность в служение свое. И устаем просто от жизни, загружаемся попечениями, которые нужно отложить. «Всякое житейское отложить попечение». Болезни изнашивают человека. Просто жизнь его утомила. И он гаснет. «Забыл первую любовь…»
Первая любовь – как первая влюбленность. Во Христа, в церковь. Вот эта первая неофитская влюбленность – она по-своему неуклюжая. Но Бог ставит на вид тем, которые уже состоялись в традиции: «Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». То есть тот опыт, который он имел, только обращаясь впервые ко Христу. И как он его реализовывал – это как бы светлый маяк, который помогает, когда тебе тяжело, вспомнить: первую осознанную исповедь, первое осознанное причастие, первое прочтение Библии, от начала до конца.
Протоиерей Олег Стеняев
Благодать человека не оставляет. Он сам теряет ее. Некий юноша спросил старца: как мне быть настоящим монахом? Старец ответил: каждый день веди себя, как будто впервые ушел в монастырь. А вы помните, как мы заходим впервые в храм или в монастырь? Мы боимся что-нибудь не то взять, прикоснуться. Мы всех уважаем, всем кланяемся, всех приветствуем. Готовы встать в угол и «не отсвечивать». Мы готовы спрашивать и учиться. Потому что мы новички и ничего еще не понимаем. Он говорит: вот так вот смиренно, так со страхом, так и веди себя всю жизнь. Так и будь всю жизнь неофитом. На Кипре был святой Неофит, отшельник. Такое имя себе взял. И, очевидно, он каждый день жил как последний. Хранил эти дары, однажды полученные, и сумел их сохранить. Это величайший труд.
Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься (Откр. 2:5).
Слова «сдвину светильник твой» говорят о каком- то ущербе, который потерпит высота епископской кафедры. Возможно, о грядущем расколе – или иной опасности. Светильник Эфесской церкви оказался сдвинут сперва в другой город: уже на Шестом Вселенском Соборе – первосвятительскую кафедру перенесли отсюда в Константинополь. А следом светильник Эфеса сдвинулся еще и буквально: море, сделавшее этот город богатейшим в Малой Азии, отодвинулось на несколько километров, и гавань постепенно заполнялась илом из реки. Это ударило по торговле. Люди стали покидать Эфес, перебираясь на близлежащие холмы… Из камней опустевших храмов строились новые жилища… В 614 году опустение города довершило землетрясение. Тогда же начались и регулярные набеги арабов, приводившие Эфес во все больший упадок. К моменту завоевания турками- сельджуками в 1090 году от некогда грандиозной столицы Малой Азии осталась лишь небольшая деревня.
Христос обращается к семи церквам Апокалипсиса. Каждую из семи церквей Он критикует. Он находит проблемы каждой из семи церквей. Но, в то же время Он хвалит каждую из семи церквей, кроме Лаодикийской, последней. Но даже для нее Он дает некие советы. Светильник – это наше стояние перед Богом. Но иногда он приобретает вид светильника благополучия, стабильности. И люди начинают расслабляться. И тогда Господь сдвигает этот светильник благополучия. И происходит встряска всей церковной жизни. Встряска каждого христианина в отдельности.
Протоиерей Олег Стеняев
Хотя в первые века христианства этот город сиял святостью – той самой «первой любовью», которую он «оставил». Здесь проходили Вселенские Соборы, здесь прославились мученики и преподобные, здесь произошло одно из величайших чудес в истории: в пору гонений первых веков – семь эфесских юношей, приговоренных к смерти, уснули в заложенной наглухо пещере и проснулись спустя почти двести лет. Память о чуде семи эфесских отроков живет во всех христианских культурах и не только христианских: их упоминает Коран в суре «Пещера».
О горячей ревнивой вере Эфесской церкви говорит и Господь в Апокалипсисе:
Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу (Откр. 2:6).
Первый раз во всем Новом Завете точно, первый раз сейчас Христос произносит это слово – «ненавижу». Не хочу видеть, не терплю. Он отворачивает глаза Свои. Пророки говорили об этом: светлейшим глазам Бога, которые сильнее солнца тысячекратно, не свойственно смотреть на преступления. И есть дела, которые Он ненавидит. Поскольку Он любит, то Он же и ненавидит, ибо энергия ненависти – это энергия любви. Противоположное состояние – это безразличие, когда все равно.
А правильно говорить: вот это я люблю, а это я ненавижу. Христос здесь – воин с мечом, а воин совершает дело любви с необходимой долей ненависти. Это могучая энергия, направленная в нужное русло. Это священная война. Есть такое понятие – «священная война», его ввел еще блаженный Августин. Когда я воюю не за деньги, не за женщину, не за нефть, не за власть, но мое сердце закипело. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Ненависть кипит в душе, и направлена она на человека или группу людей, посягнувших на нечто святое. Это – нормально. А как это в себе отличить? Где во мне «ярость благородная», ненависть, рожденная энергией любви, а где какая-то греховная, грязная, не та ненависть? Если я за себя, то я неправ. То есть для того, чтобы я был прав, нужно, чтобы то, за что я, было вне меня. Чтобы это был не я. Это семья, Родина, церковь, Господь, храм.
Николаиты, которых ненавидят Христос и Эфесская церковь – это ересь, разившая христиан в первые века. По преданию, ей учил Николай Антиохиец – он был одним из семи человек, избранных апостолами для служения в Иерусалимской церкви, ответственными за раздачу пищи. Проще говоря, он был одним из первых дьяконов Церкви.
Николай был не иудеем, а из язычников и, скорее всего, в какой-то момент, приняв христианство, начал связывать его со знакомым ему по прошлой жизни языческим оккультизмом. Диакон отошел от Церкви, создал секту, где учил, что плотские грехи – тоже служба Богу. Все как во Втором послании апостола Петра: «Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении» (2 Пет. 2:18–19).
Есть те грехи, те заблуждения, которые чужды Богу и чужды человеку. Это касается сугубо тех людей, которые имеют еретическое понимание учения, которые сами становятся ересиархами и отводят людей от истины. Поэтому Господь ненавидит лжи, злобы и неправды.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Впрочем, от суда над делами человеческими следует воздерживаться, потому что можно перепутать. Перепутать могут даже ангелы. В известной притче о плевелах пшеницы ангелы говорят Господу: «Ты же сеял хорошую пшеницу, почему кругом плевелы?» Говорят: «Давай мы их вырвем». Господь говорит: «Нет, чтобы вы случайно не вырвали вместе с ними и пшеницу». Нужно иметь сострадание к кающемуся, борющемуся грешнику. Но когда дело касается учения, когда грех превращается в доктрину – тогда мы имеем дело с николаитством, и здесь с ним уже нужно вступать в борьбу.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия (Откр. 2:7).
Древо жизни! Адам и жена были отогнаны от него. Мы будем допущены к нему. Уже допущены. Прозрение о небесной пище, алкание ее пронизывает все человечество. Согрешившие через пищу, люди хотят исцелиться пищей же, хотят съесть Нечто, чтобы не умирать. Вкушение Божьей благодати – вот что нас ожидает. Сегодня, без сомнения, вместо потерянного дерева жизни в раю мы имеем Крест Господень, ставший для нас истинным Древом Жизни. Через него мы оживаем.
Вторая Церковь, к которой обращается Господь, церковь города Смирны:
И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)… (Откр. 2:8, 9).
Слова о нищете, при которой остаешься богатым, скорее всего, сказаны о тех, кто своей видимой нищетой бережет свое внутреннее богатство. Добровольная нищета – это состояние малопонятное и странное, когда человек хочет быть полностью свободным и боится отяготить себя каким-то имуществом или деньгами. Про Блаженную Ксению говорится, что она «нищету свою как сокровище хранила», боялась с нищетой своей расстаться. И церковь Смирны – она нищая, но благодаря этому у нее есть некая широта души, настоящее внутреннее богатство.
Хотя сама Смирна – в ту пору – это богатейший город Малой Азии. И один из старейших городов на планете – первые поселения в районе нынешнего турецкого Измира, частью которого Смирна стала теперь, датируют шестым тысячелетием до нашей эры. К поре римского владычества Смирна успела познать и расцвет, и упадок.
…и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское (Откр. 2:9).
Иоанн Богослов сам несколько лет жил в Смирне и назначил ее первым епископом своего ученика, св. Вукола. А после смерти Вукола епископом Смирны станет ревностный святой Поликарп, которого называют любимым учеником апостола Иоанна. Его называли «вождем всей Азии» в христианстве.
В 166 году Поликарп, отказавшийся отречься от Христа, был заживо сожжен – ему было тогда было 86 лет. Мученическая смерть Поликарпа Смирнского – это первое подробно описанное мученичество: житие Поликарпа и его свидетельство за Христа разошлось по всей Церкви. И это житие описывает, как казни святого радовались и эллины-язычники, и иудеи.
Здесь стоит вспомнить, что в I веке по Рождестве Христовом христианская Церковь вначале существовала в рамках иудейской традиции, но со второй половины I века иудеи уже проводят линию…
Апокалипсис Иоанна Богослова. 1368. Армения. Ереван. Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца (Матенадаран)
Римлянам они могли говорить – это не наши люди, и христиане оказывались беззащитны перед римским законом. Может быть, апостол и не обвиняет иудеев прямо в том, что они – «дети сатаны», но говорит о том, что иудеи клевещут, называя себя народом Божьим и говоря, что они – народ Божий, а христиане – нет.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Вместе с Поликарпом Смирнским Царствие Небесное все первые три века гонений полнится когортой мучеников. Но еще до всего этого Господь словно предупреждает и укрепляет Смирнскую церковь, а через нее – всех остальных, повторяя первые сказанные Им в Апокалипсисе слова «Не бойся»:
Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять (Откр. 2:10).
Не совсем ясно, что имеется в виду под «десятью днями». Некоторые пытались доказать, что речь идет о десяти больших гонениях, которые претерпела Церковь до императора Константина. Но это своего рода «прокрустово ложе», в которое хочется втиснуть услышанное слово. Вряд ли это указание на точное число – скорее, на некую очерченную норму (десять общепризнанное число полноты), на то, что Бог мерой определяет наше страдание. У страдания есть предел, и оно продлится недолго.
…Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2:10).
Господь, обращается к Смирне через понятные ей образы: верность и венок. Смирну называли в империи «Смирной фиделис» – то есть Смирной верной, потому что когда-то в прошлом Смирна поддержала Рим в борьбе с сирийскими правителями-Селевкидами. И Смирна славилась своими спортивными состязаниями – здесь были найдены монеты с изображением венка, символа спортивных побед. А мученики, которые решились на страдания и дошли до конца, допили свою чашу, слышали в словах о венце жизни обещание награды за свою победу. Христос сам увенчан. Он победил, и Он же победившему во имя Его тоже дает венец. Верные Богу до конца имеют обещание от Бога за эту верность до смерти получить венец вечной жизни. Это очень вдохновенные, ободряющие слова для того, кому приходится терпеть.
Господь не позволяет Своей Церкви долго находиться в тепличных условиях – всегда гонения, всегда притеснения, даже в благоприятное, казалось бы, время. Вспомним, как сказано в Библии, в грозном окончании Книги Второзакония, об Израиле: ты будешь есть, пить, насыщаться, отучнеешь, разжиреешь, ты, можно сказать, охамеешь, и ты отречешься от Меня. Грубо говоря, из-за обилия Мною подаренных благ ты превратишься в жирного и наглого негодяя – и Я тебя за это накажу.
Нам всегда полезно, чтобы была какая-то угроза, чтобы на горизонте боевой корабль вражеский стоял и направлял в нашу сторону пушки. Иначе мы расслабимся и станем нравственно-ничтожны.
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти (Откр. 2:11).
Смерть вторая. Непривычное словосочетание для бытового слуха. Это страшнее, чем полное исчезновение, которое могло бы для грешника стать настоящим подарком. Но Бог не дает нам вернуться в небытие. Он творит нас вечными существами, с прицелом на вечность. Если ты дурно распорядился временной жизнью, ты тоже воскреснешь в последний день. Но это воскресение для тебя не будет радостным. Оно принесет муку, и это смерть вторая.
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа (Откр. 2:12–13).
Антипа Пергамский был учеником апостола Иоанна. Поколение Иоанна, поколение Антипы – это люди, лично видевшие или Господа, или Его учеников. И сам Антипа назван верным свидетелем – тем, кто правильно и точно расказывает о том, что видел. Проповедуя в Пергаме, он был схвачен, отказался прекратить свою проповедь и принести жертвы языческим богам. За это в храме Артемиды его бросили в раскаленного медного вола. Такая чудовищная казнь, похоже, была в ходу в этом мрачном, увязшем в дьявольщине городе. Только про Пергам Господь говорит такие страшные слова: место, где живет сатана, и больше того – где престол сатаны.
Пергам был столицей региона. Здесь жил римский проконсул, стояла огромная библиотека, уступавшая по величине лишь Александрийской. В Пергаме был построен первый храм, посвященный императору Октавиану Августу и богине Роме. Есть версии, что это его Апокалипсис называет престолом сатаны. А может быть, речь о храме бога врачевания Асклепия в нем держали живого змея – или о грандиозном храме Зевса Олимпийского. И более того, престол сатаны вряд ли стоит всегда на одном месте. Сатана подражает Богу, и престол сатаны может двигаться по миру, как в свое время двигался переносной Храм – скиния. Этот жуткий престол может быть и в сердце человека – но тогда это должен быть непростой человек, некий «агент всемирного влияния». Для сатаны не так важно владеть душой отдельно взятого скромного человека, как важно владеть тем, через кого можно управлять максимальным числом людей.
Обоюдоострый меч, о котором говорит Господь это меч Слова Божьего. Слово в устах Слова. Здесь нам вновь стоит вспомнить о том, что Христос Апокалипсиса – это Христос прославленный; Не Христос в смирении, но Христос, уже вошедший в славу свою. Он уже с мечом и воинствует.
Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодейство- вали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу (Откр. 2:14–15).
Похоже, в Пергаме, как и в Эфесе, процветают ереси. Учение Валаама, о котором говорит Апокалипсис, описано в ветхозаветной Книге Чисел: прорицатель Валаам посоветовал врагам израильтян, которые никак не могли их победить, послать к ним, к евреям, блудниц: соблудив, те лишались защиты Бога, и враг побеждал их. И николаиты, и последователи Валаама – это блудники. Мистические, если можно так выразиться, блудники.
Блудники, исчисляемые миллионами, это, чаще всего, просто блудники. А николаиты и Пергамская церковь – это нынешние развратники, ранее познавшие истину. И соблазненные.
Блуд – это когда человек продолжает искать, хотя он уже нашел. И кто ищет что-то после нахождения истины – тот ищет лжи. И термин «блуд» гораздо шире по смыслу, чем половая распущенность.
В христианстве есть такое понятие, как «целомудрие веры». Следовательно, те, которые нарушают целомудрие веры, догматов православия, они оказываются в состоянии духовного блуда, и через лжепророков, лжепророчиц люди попадали под влияние ложных идей, ложных концепций… Никакого пророчества, кроме того, что мы имеем на страницах Священного Писания. Как апостолы пишут: «Мы имеем вернейшее пророческое слово» (2 Пет. 1:19), и как Иоанн пишет в окон чании Апокалипсиса, нельзя ничего прибавить к этому тексту.
Протоиерей Олег Стеняев
Покайся, если не так, то скоро приду к тебе, и сражусь с ними мечом уст Моих (Откр. 2:16).
Но даже несмотря на весь кошмар, который творится в Пергаме, Господь дает простой рецепт: «Покайся!». Вспомни твои прежние дела, вспомни, откуда ты ниспал, покайся! Слово Христа – это же меч. Оно поражает. Его нельзя не услышать. Призыв звучит все сильнее, сильнее, сильнее: «Покайся! Покайся! Покайся!» – и это дорастает до некоей точки, до высочайшей вершины, на которой ты начинаешь слышать: если я еще продолжу, еще шаг сделаю, еще два шага сделаю, то на меня может упасть все что хочешь, вплоть до самого Неба. Это уже крик Христов!
Меч Божий может явиться и в другом облике – например, как болезнь, отсекающая множество вещей, которые были бы, если бы человек был здоров. По сути, здоровый человек от больного отличается возможностями. И перспективой. У здорового человека есть масса иллюзий насчет будущего, а у больного есть только одно желание – вылечиться. Хочу вылечиться. Все остальные желания уходят. Либо он смиряется и готовится к будущему. Господь вырезает из нас, например, суету. Мы же дети неслыханно суетного века. Закручены и вращаемся в суете, как в центрифуге. А как ее остановить? Болезнь – это точка остановки. По сути больницы, или хосписы, или предоперационные отделения какие-нибудь, это точки остановки.
В общем, все места скорби на Земле – это точки остановки. Это те места, где люди перестают думать о тряпках-шмотках, славе, богатстве, успехе, зависти, отдыхе, наслаждениях… Человек смотрит на двери, за которые он сейчас зайдет, и ожидает, как Бог его душой и телом распорядится.
Но тут же, после угроз, Господь дает утешение:
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр. 2:17).
Белый камень – это Христос. Новое имя, которое будет дано побеждающему в Царствии Божием – это имя, которое отразит нашу истинную сущность. А сокровенная манна – это Тело Христово, это благодать причастия. Ведь что такое «манна»? Так звучал вопрос – «что это?». Люди видели нечто и спрашивали: «Манна, манна? – Что это? Что это?» Это таинственная еда, без которой мы нельзя было выжить в пустыне.
Богу еда не нужна. Человек же зависим, он должен принимать нечто, питающее его. И в Царстве Божием он тоже будет вкушать благодать. Пищу, не имеющую имени. Это, в широком смысле, манна. Мы и в раю будем причащаться. И литургия там будет. Там постоянно совершается литургия.
И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану (Откр. 2:18).
Фиатира в 60 километрах восточнее Пергама – теперь – только руины у турецкого городка Акхисар. А когда-то город стоял на перекрестке ключевых дорог и славился ремесленными мастерскими. В Деяниях святых апостолов упоминается Лидия из Фиатиры – она торговала багряницею и приняла крещение от апостолов. Скромной общине Фиатиры посвящено самое длинное послание из всех семи церквей Апокалипсиса.
…знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых (Откр. 2:19).
Это, может быть, лучшая похвала. Вопрос не в том, чем ты начал, вопрос – как ты закончил. Священник, например, начинает служение с огня. Он весь в огне. А к старости он скептик, циник, уставший старик. Древние греки говорили: до смерти никого не хвали. Как ты умрешь – непонятно. Что скажешь последним словом в день смерти – непонятно. Нужно дождаться смерти. Так на Афоне и сейчас говорят.
Но и в Фиатирской церкви тоже дает ростки ересь:
Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное (Откр. 2:20).
Иезавель – это женщина при власти. В будущем нам предстоит бояться женщин при власти. По крайней мере, некоторых. Женщинам сегодня внушаются странные идеи: они бредят превосходством или местью мужской цивилизации… Дьявол им придумывает столько ярких идей-фантазий, что мы устаем за ними следить. Иезавель Апокалипсиса – это женщина, облеченная властью, представительница «новой женщины будущего». Она ненавидит святых. Иезавель Ветхого Завета – это блудливая жена царя Ахава, которая убедила его построить храм богу Ваалу, ввела храмовую проституцию, а через нее общение с демонами. Она ненавидела пророка Илию и хотела убить его. И разгул крайнего феминизма намекаает нам, что мы живем с эпохой Иезавели рядом.
Но при этом Господь говорит: «Имею немного против тебя». Не так жестко Он ругает Фиатирскую церковь за эту Иезавель. Видимо, она настолько много взяла себе силы, что с ней невозможно бороться так просто. И Господь не гневается сильно. Вообще на каждого из нас у Бога есть «немножко». То есть Фиатира это как бы наше зеркало тоже.
Близ Фиатиры находилось языческое капище, посвященное богине Сивилле. Некоторые толкователи полагали, что Иезавелью в Апокалипсисе называется именно эта богиня и ее местный культ.
Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась (Откр. 2:21).
Насколько же добр Господь Иисус! Даже этой женщине, Иезавели, Он дал время покаяться. Он и в ее сердце стучался. Он всем нам дает время покаяться. Он бодрствует, и дает нам время.
Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; только то, что имеете, держите, пока приду (Откр. 2:22–25).
Слова «держите, что имеете» означают, что нам нельзя «уменьшаться в святости». Если мы на приходе решили служить, например, три литургии в неделю, ниже этого нельзя. Выше можно. Если я решил, например, читать каждый день Акафист Божьей Матери – до смерти, чтобы я спасся, например, чтобы быть в раю, и чтобы дети мои были в раю со мною, то я и читаю каждый день Акафист Божьей Матери. Ниже нельзя. А выше можно. Имеешь веру – ниже не опускайся. Тем, кто будет идти до конца, Господь дает невероятные обещания:
Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 2:26–29).
Звезда утренняя – это двойной образ. Под ним может подразумеваться и Господь, как еще во Втором послании Петра, где апостол говорит: «Доколе не взойдет звезда утренняя в сердцах ваших» (2 Пет. 1:19); а в отрицательном смысле – это лукавый, подражающий Господу, падший с неба Денница, сын зари. Это двойной символ.
А другое обещание Бога сейчас, через две тысячи лет, представляется совершенно понятным. Христос через христиан пас народы. И пока народы оставались верными Христу, христианам был вручен целый мир. Маленькая Португалия владела огромными территориями. Маленькая Англия владела половиной Вселенной. Эту власть они использовали частично для христианизации мира, а частично для личной выгоды. И вот эта смесь, вавилонская смесь исторического апостольства и личной выгоды, привела к сегодняшнему дню с его двусмысленностями.
Фундаментальная наука родилась в христианском мире. Всемирные географические открытия родились в христианском мире. Освоение космоса родилось в христианском мире. Вообще все, что есть великого, родилось в христианском мире. Другим попросту нельзя было открывать этого. Открывать великие тайны можно только тому, кто сердцем слышал о смирении. Тому, который сумеет не воспользоваться силой и тайной для зла. Но потом христиане перестали быть смиренными, и тайны подошли к концу, и наступило время утраты первенства. Словно продажа первородства. И как в древности – за чечевичную похлебку «всемогущего рынка» или «либеральных свобод». То есть сегодня христиане уже не владеют миром и сдают позиции. Вряд ли этот процесс обратим.
Эту фразу из Апокалипсиса: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным» (Откр. 2:26–27) скорее всего нужно отнести к тем миссионерским трудам, которые несла имперская Церковь до революции и то, что в некоторым смысле мы совершаем и в наше время – тот апостолат, который и сейчас тоже проявляется. Жезл железный – здесь это эвфемизм, который может указывать на Слово Божье и прежде всего на Божий Закон, потому что еврейский царь, когда он восходил на престол… он должен был переписать всю Тору. А в христианском прочтении это призыв к благодати, ко Христу и к Божьему прощению.
Протоиерей Олег Стеняев
Глава 3
Се, стою у двери и стучу…
В зеркале семи церквей Апокалипсиса – наше отражение. Бог уже упрекнул Эфесскую церковь в том, что она «оставила первую любовь свою»… Предупредил церковь Смирны о предстоящей скорби, что надо остаться верным и еще потерпеть. Похвалил Пергам- скую церковь, что она живет и терпит посреди настоящей дьявольщины – там, где «престол сатаны». Но упрекнул, что она мало борется с ересью блудников-николаитов, которую Он, Господь, ненавидит. А скромной церкви городка Фиатиры отправлено самое длинное и обнадеживающее послание, потому что «последние дела ее больше первых». В третьей главе Апокалипсиса Господь продолжит Свое обращение к церквам близких к апостолу Иоанну городов.
Свои церкви Господь в Апокалипсисе называет светильниками, а Эфесской – в случае неисполнения ею призыва «покаяться», – посылает угрозу: «Сдвину светильник твой». Есть ли какое-то правило, почему и в каком случае Господь одни светильники зажигает, а другие гасит? Почему одни церкви, митрополии, епархии появляются – а иные умирают? Почему потухают огромные жертвенники церковной жизни?
Например, исчезла Карфагенская церковь. Там был Блаженный Августин, там был Тертуллиан, там был Киприан. А она исчезла. Просто оскудел елей. Светильник вроде бы гаснет сам собой, а на самом деле Бог позволяет ему погаснуть, зажигая от него другой светильник. Здесь есть вина человеческая, и потом уже – смирение Господа перед свершившимся фактом: да, ты погас. Так случилось с Византией – она оставила великий след в истории, успела зажечь Русь, но сама погасла.
Получается, что Бог, который есть Любовь, может сказать и человеку, и народу: «Ты мне не нужен»? Скорее всего, слова эти звучали бы иначе: скажем, «ты отработал свое». Или: «ты был взвешен и найден легким». Или: «ты не оправдал Моего доверия». А в Апокалипсисе ангел Сардийской церкви слышит от Господа такие слова:
И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв (Откр. 3:1).
Эти слова касаются не только жителей Сардиса. Кто я? Каков я? Вроде бы неплохой человек – муж, отец, христианин. Инженер, учитель, офицер, священник. Неглупый, активный, опытный, что-то знающий. Вроде бы… Но моя совесть, слыша слово к Сардийской церкви, говорит мне, что у меня внутри хуже, чем снаружи. И внутренняя смерть, по необходимости, предшествует внешней.
Впрочем, тому, кто мертв по-настоящему, бесполезно говорить, что он мертв. Он этого не услышит. Если человеку говорят, что он мертв, в надежде, что он услышит, значит, он все-таки жив. Так и сегодня мертвые духом слышат голос Сына Божьего – и, услышав его, оживают. У Бориса Пастернака есть такие строки:
Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.
Это сказано о Боге – Бога как бы не было для него.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.
Воскрешение мертвых – это явление, которое мы еще не видели, с одной стороны, а с другой стороны, постоянно наблюдаем, когда Слово Божие входит в человека и пробуждает его дух к новой жизни.
Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим (Откр. 3:2).
Сардийская церковь еще жива. Но она в очень опасном состоянии. Она еще слышит, как живая, но она так живет, как жить нельзя. Ей нужно бодрствовать, нужно внимать себе и делам своим – иначе будет все плохо. Иначе наступит окончательная смерть. И это сказано в те дни, когда огромный Сардис казался «живее всех живых». Древние Сарды были полностью уничтожены только в 1402 году, во время нашествия Тамерлана. В наши дни от города остались только руины вблизи турецкого райцентра Салихлы. А в свое время он был столицей могущественного Лидийского царства, занимавшего половину нынешней Турции. Здесь чеканились первые в истории золотые и серебряные монеты. Здесь правил легендарный царь Крёз, который прославился на весь античный мир своим богатством. О Сардисе упоминали Геродот и Эсхил. В пору расцвета христианства город был столицей епархии, а одним из сардских митрополитов был священномученик Евфимий, пострадавший в период иконоборчества. Сам город считался неприступным, лишь дважды за всю историю в него проникал враг и оба раза ночью.
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя (Откр 3:3).
Здесь еще одна апокалиптическая странность: Бог сравнивает себя с вором. И это смущает – как смущает нас, скажем, притча Христа о неверном домоправителе в шестнадцатой главе Евангелия от Луки. Здесь берутся в пример искусность, тайность и внезапность. Потому что войско наступает – его издалека видно. А вор придет и уйдет так, что не почувствуешь. И Господь сравнивает себя с таким вот искусным ночным посетителем, которого не ждут. Поэтому Он же и говорит, как готовиться к Его приходу: нужно бодрствовать. Как говорит Павел Тимофею: «Поминай». То есть вспоминай Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, по благовестию моему. Литургия начинается в воспоминании Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И литургия, и кладбищенский крест, и колокольный звон, и церковный календарь – все призвано к тому, чтобы мы помнили, не забывали. Чтобы город спал безопасно, нужно, чтобы стражи не спали. Чтобы хотя бы один внимательный страж не спал. И вот, этот один неспящий отвечает за весь город.
Почему Господь скрыл от нас дату конца света? Именно для того, чтобы мы бодрствовали и то время, в котором мы живем, переживали как в некотором смысле последнее. Исторический Апокалипсис – он придет, он наступит, но мне интереснее личный Апокалипсис. Поэтому в моем понимании умрешь – вот и конец света: и солнце пропало, и звезды спали с неба, и ангелы и демоны появились, начались мытарства, начался суд…
Протоиерей Олег Стеняев
И всеобщий тяжкий сон – это общее состояние перед Судом, а бодрствование – это внутренняя память о Господе. Это жизнь. Это готовность на любое событие жизни отвечать молитвой. «Господи, слава Тебе! Господи, помоги! Господи, не оставь!». На литургии звучит возглас: «Вонмем!» – это словно команда: «Внимание!» Такую команду дают солдатам. И христианин – он воин, стоящий на страже. А воин дает еще и присягу, и часто ее нужно напоминать. Мы давали Богу обеты крещения. Очень хорошо прочитать их заново – узнать, а что же ты обещал Богу, когда крестился. Это напоминание о первой любви.
Если говорить о земной любви, то ее получали в дар все, за очень редкими исключениями. Но сохранили ее единицы. И подвиг как раз заключается в сохранении подаренного. Этому всему служит, кстати, чтение и пение Символа веры. Каждый раз, когда его поем, мы, по сути, напоминаем себе о первой любви.
Господь не только предупреждает Сардийскую церковь. Далее Он хвалит ее.
Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны (Откр. 3:4).
Уже который раз мы видим, как Апокалипсис суммирует Библию и, по сути, свободно пользуется всем сокровищем библейских смыслов. Здесь перед нами подобие Откровения о Лоте и о Содоме. Не осквернившийся Лот хранил Содом. Лот вышел – Содом сгорел. Пророк Илия получает от Господа извещение о семи тысячах не осквернившихся перед Ваалом. А у пророка Исаии появляется такой термин: священный остаток. Это некое относительно малое число праведников, ниже которого опуститься миру нельзя. В Сардисе были такие люди, которые не осквернили одежду души – и душу сохранили, и тело не осквернили, уклонились от всех соблазнов, которым поддались прочие. И ради них, очевидно, этот город и хранится. Это одна из важнейших тем бытия мира. Мало кто думал над тем, что государство живет, пока в нем есть святые люди. А именно до тех пор мы и живем, пока в этом зверинце они еще сохраняются. А когда последний человек покидает зверинец (Лот выходит из Содома), Богу незачем хранить это скопище злодеев. Он зажигает их, как промасленную паклю.
Побеждающий облечется в белые одежды… (Откр. 3:5).
Белые одежды – люди с чистой душой. Сейчас, в земной жизни, у нас тело поверх души, и душу не видно. А потом, образно говоря, тело будет покрыто душою. То есть внутреннее содержание будет снаружи. Внутреннее должно быть белым!
Далее Господь говорит еще об одной примете праведника:
…и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 3:5–6).
Книга жизни упоминается в Апокалипсисе первый раз. В этой книге, если можно так выразиться, проектная документация Небесного Иерусалима. И из нее могут вычеркнуть – так же, как исключают из школы за неуспеваемость или удаляют из списков части за дезертирство. Вносятся в нее и имена «отличников». Только на земле отличник должен всеми силами стараться, чтобы его заметили, и потом держать эту марку первенства. А здесь, в Небесном Иерусалиме, логика обратная: он не должен искать первых мест. Он должен знать, что последние будут первыми; любить тишину больше, чем шум, одиночество больше, чем многолюдство; разговор с Богом – больше, чем беседы с людьми. У отличника в этом классе сокровенная жизнь.
Речь идет о чрезвычайно важном и в то же время невыразимом явлении: в конечном счете все христиане, а может быть, и все люди в конце концов предназначены – для чего? Бог творил человека для чего? Для жизни, а не для смерти. Для блаженства, а не для страданий. Многие, а возможно, и все, достигшие глубокой духовной жизни – они все уже при жизни получали откровение о том, что они уже в книге жизни. Они уже сподобились ощутить это Царство Божие, это соприкосновение с Богом. Это как будто ты записан уже в книге жизни.
А. И. Осипов, доктор богословия
В 80 километрах от Сардиса – турецкий Алашехир. Это бывшая Филадельфия – шестой город, к которой обращает Свое послание Господь.
И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит (Откр. 3:7).
Ключ – это очень сложная вещь. Честертон в «Вечном человеке» обращает на это внимание. Ключ должен подходить к замку. Если он хорош, тверд, крепок, ладно выточен, но к замку не подходит – кому он нужен, этот ключ? А ключ Давидов – это ключ разумения, которым открываются двери во святилище. Христос, сын Давидов – это один из самых торжественных титулов Мессии. Значит, ключи Давидовы должны открывать самые сложные и важные двери, за которыми хранится сокровище.
Маленькая Филадельфия никогда не была большим центром – еще и из-за того, что город часто страдал от землетрясений. В отличие от других городов Апокалипсиса, Филадельфия была еще и очень молода – ей было немногим больше двухсот лет, когда писалось это послание. Может, поэтому Господь говорит о Филадельфии тихие, но такие вдохновляющие слова:
…знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего (Откр. 3:8).
Христос, говорящий через Иоанна, видит и достоинства, и недостатки, некий баланс. И вот две церкви, Смирнская и Филадельфийская, здесь может быть то, что «немного силы» – это отсылка к социальному статусу верующих той Церкви. Может быть, с земной точки зрения они были людьми скромными, но у них была вера, огонь духовный горел, и может быть, в какой-то сложной ситуации они выбрали остаться со Христом.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Но при этом в Филадельфии, как и в соседнем Сардисе (где до сих пор можно увидеть одну из древнейших синагог вне Израиля), как и в Смирне – другом городе, куда обращается Господь, – живет немало иудеев. Проповедь христианства среди них всегда была особенно трудной. И здесь Господь скажет о своем народе беспощадные слова. Он назовет иудеев «сатанинским сборищем». Это страшные слова. В эпоху патристики многие отцы могли их повторить: столь очевидной была слава Христа, данная новым людям, бывшим язычникам. Когда вера Авраама, Исаака и Иакова вдруг распространилась среди всех племен; когда дикий скиф вдруг запел псалмы; когда жители самых разных далеких стран вдруг познали Бога живого и появились дары пророчества, исцеления, говорения на языках… И в это время иудеи, продолжавшие сопротивляться, противились очевидности. Они все равно продолжали уперто следовать обрядовой стороне своей веры, и многие, как бы утомляясь от желания их обратить, говорили: это какая-то сатанинская упертость. Но здесь же звучит потрясающее обещание Бога, исполнения которого мы не увидели еще до сих пор:
Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя (Откр. 3:9).
Откройте Книгу пророка Малахии, последнюю главу, последние два стиха. Там сказано, что в последние времена перед концом света Бог пошлет Илию, и он обратит сердца детей к отцам. Отцы – это Авраам, Исаак, Иаков, то есть еврейский народ вернется к вере Авраама, Исаака и Иакова. А это была вера в то, что в их семени благословятся все народы земли. И когда говорится о семени, говорится об одном – о Христе. И этот народ станет Божьим народом вновь. И у пророка Захарии сказано, что Бог восстановит эту скинию, поверженную скинию Давидову. Он вернет этот народ к себе.
Протоиерей Олег Стеняев
Евреи – это единственный народ, который имеет твердое обетование не исчезнуть до самого конца мира. Все остальные народы могут исчезать, и ничего критично не изменится. Если исчезнут итальянцы конечно, извиняюсь перед итальянцами, пусть они живут долго и счастливо, – но если они вдруг исчезнут, глобально ничего не изменится. Придут другие люди на эту землю и будут продавать билеты в Колизей. Ну, и так далее, касательно всех остальных. Если исчезнем мы, это будет наша личная катастрофа, но ничего в мире может не измениться. Но евреи не исчезнут. Они точно останутся, и они должны в конце обратиться.
Они должны заплакать о распятом Иисусе как о единственном сыне. И, как пишет Захария и как говорит Иоанн Богослов возле креста, они увидят Его те, кто Его пронзил. Они же не изменились с тех пор совершенно. Если посмотреть на сегодняшнего грека, то это не тот человек, который жил во времена Пифагора или Платона. Жители Рима наших дней – это не те римляне, которые жил во времена, скажем, Домициана, или Калигулы, или Октавиана Августа. Но если спросить себя, а какими были евреи триста, семьсот, тысячу лет назад… то они те же. Когда у Бердяева спрашивали, почему нет чудес, он отвечал: как это нет? Посмотрите на евреев – они и есть это чудо. Многие исчезли, а они – нет. Вавилона нет, Ассирии нет, Карфагена нет, а они есть. Это чудо.
И нужно, чтобы библейские события исполнялись на них, чтобы они видели исполнение событий и сказали, что это правильно. Например, они антихриста увидят, и некоторые скажут: «О, наш машиах пришел», а другие скажут: «Нет, это не машиах!» А кто же машиах тогда? О… мы распяли машиаха! Это обманщик, он не настоящий. А где настоящий? Боже, скажут они, Боже, мы убили своего Господа и прожили богоубийцами две тысячи лет с лишним! Трудно вообразить что-то более грандиозное.
Далее Господь обещает Филадельфии покров и защиту.
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле (Откр. 3:10).
Господь умеет спасать. И человек, сегодня исполняющий заповеди, имеет надежду, что в тяжелое время Господь покроет его. Иначе никакой силы не хватит сопротивляться. Да, нам нужно исполнять заповеди сегодня – в надежде на будущий покров. Эти слова будто исполнились в судьбе Филадельфии. Маленький слабый город, но в котором, видимо, царила большая любовь (даже название Филадельфия – это в переводе с древнегреческого «братская любовь») – хранил себя и православие даже в кольце. И в XIV веке, когда турки стояли уже на всех окрестных землях, Филадельфия сохраняла статус независимого города: здесь продолжали чеканить свою монету. Долгие годы Филадельфия была последней византийской твердыней во внутренней Малой Азии, пока в 1390 году она все же не была взята войсками султана.
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего (Откр. 3:11).
Есть прекрасная мысль: в раю тебя спросят сначала, хорошо ли ты делал свою работу. Потому что, если ты был плохим плотником или, например, плохим водителем, машины ломал, людей калечил – как ты мог быть хорошим христианином? Держи, что имеешь это касается самых элементарных вещей. И веру нужно держать, безусловно. Держаться, как по Полярной звезде, по Кресту святому.
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон… (Откр. 3:12).
Царствие Небесное – это храм. И еще здесь, на земле, надо проверять: готов ли человек находиться в раю. Если ему литургия сладка и быстро пролетает, как ночь любви, как полчаса, вот уже и петухи запели, то, значит, он готов для Царства Небесного. Потому что в Царствии Небесном будет литургическое празднество. И ты должен полюбить литургию настолько, чтобы с удовольствием быть столпом в храме. Чтобы вообще не уходить никуда. Как Николай Чудотворец и другие святые, про которых говорят, что они раньше всех заходили в храм и позже всех выходили. И стоять на службе нужно как столп – с именем Бога на челе.
…и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 3:12–13).
То, что в вечности у нас будут новые имена, Господь открывал уже и Пергамской церкви, но в случае с Филадельфийской некоторые видят в этом обещании – дать новое имя – намек на историю самой Филадельфии: после разрушительного землетрясения в 17 году I века воссозданный город назвали Неокесарией.
Христиане пребывают гражданами Неба. Посреди испытаний, скорбей, искушений они связаны с Богом, и это через разные образы показывается. Или это колонна в храме, или новое имя Божие, которое на ней запечатлено, или имена, написанные в книге жизни – представьте себе, что на Небесах есть книга и Господь записывает каждое имя верующего человека. И Иисус Христос говорит: вы грешите, и может быть изглажено ваше имя, если вы не покаетесь, но Я не изглажу ваше имя.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
И совсем уже буквальными образами, понятиями и даже предметами из окружающей действительности города Лаодикии Господь обращается к Лаодикийской церкви.
И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (Откр. 3:14–16).
Это о современной толерантности. Иными словами, о безразличии. Холодными можно было бы назвать, к примеру, коммунистов. И коммунист мог обратиться к Богу и полностью поменяться. «Горячий», истинно верующий, страдал бы и терпел до конца. А толерантный – это никто, просто никто. Кстати, там, где в русском переводе стоит «извергну», в старославянском гораздо более яркое и точное: изблюю.
Достоевский писал, что атеизм проповедует ноль. Он не за минус и не за плюс – это ноль, всепоглощающий ноль. Безвкусно, как яичный белок без соли.
Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»… (Откр. 3:17).
Лаодикия была богатейшим городом провинции Фригия. Город лежал на перекрестке двух важнейших дорог римского мира – из Эфеса к Эгейскому морю и из Пергама к Средиземному морю. Лаодикия процветала, здесь шла бойкая торговля и росло производство. А после страшного землетрясения горожане восстановили разрушенный город за свои деньги. Лаодикия славилась банками (Цицерон рекомендовал именно здесь совершать обмен денег), шерстяной одеждой, школами для подготовки врачей и уровнем медицины. Здесь делали много лекарств и лечебных мазей. Самой известной из этих мазей была глазная. Именно на эти три главных столпа процветания города – финансы, одежда и глазная мазь – указывает Апокалипсис:
…а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть (Откр. 3:17–18).
Человек как бы может находиться в совершенном неведении о себе самом. Может не иметь о себе адекватного знания. Он себя не видит прокаженным, нагим, слепым. И Господь говорит: купи у Меня мазь глазную, чтобы видеть. И купи у Меня одежду, чтобы прикрыть срамоту, и купи у Меня золото, огнем очищенное. Эта мазь глазная – это слезы. В Лаодикии делали настоящие глазные мази, а нужно было поплакать, чтобы прозреть. И нужно было взять Христово смирение и одеться в Христову праведность. Потому что иначе ты никто. Это такое хорошее зеркало, в которое стоит взглянуть всем церквам.
Лаодикия – это церковь периода апостасии. Проблемы христиан периода апостасии – это проблема расцерковления, когда в мире будут сниматься все табу, все запреты, грех будет объявляться нормой. Сейчас это начинается на Западе. Людей подвергают тюремным заключениям, когда они выступают против преподавания детям сексуального просвещения… Или если пастырь выскажется против гомосексуальных отношений, к чему это приводит? На него подают в суд и храм обкладывают штрафом, а священника могут посадить.
Протоиерей Олег Стеняев
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3:19).
С точки зрения будущего, конечно, мы благословим все наши болезни и неудачи. Но «здесь и сейчас» нам хочется, чтобы все было по-нашему. Мы находимся в гордом самообольщении. А у гордого с Богом война, потому что гордый не хочет принять волю Божию и слова «да будет воля Твоя» – это распятие гордого сердца. Поэтому Бог и противится гордым, что гордый сам развязывает войну с Богом. И лучше бы нам обернуться назад и благословить весь путь прошедший и Бога, который хранил нас. Если Он что-то нам дает, чтобы мы стали лучше, то это не наказание – это лечение наше, а Бог – врач, но не палач. Какое же лечение Он предлагает церкви Лаодикии – единственной из семи церквей Апокалипсиса, о которой не сказано Богом ни одного хорошего слова?
Итак будь ревностен и покайся (Откр. 3:19).
Вняла ли Лаодикия этому совету Христа? Если судить по участи, которая ее постигла, то вряд ли. Богатейший город беднел и угасал постепенно, а когда Лаодикию в XIII веке заняли турки, остатки греков- христиан ждало жалкое существование: кто не стал рабом у турок, того унижали и душили налогами, обирая до нитки. А нынешняя Лаодикия – это лишь руины невдалеке от турецкого туристического города Денизли.
Уильям Холман Хант. Светоч мира. 1854. Оксфорд, Кейбл-колледж
А дальше звучит, наверное, самая цитируемая фраза Апокалипсиса:
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3:20).
Вот, все плохо, плохи дела в этой Церкви, а он стоит у двери и стучит. Но как посреди шума, посреди этого мира услышать этот тихий стук? Шума-то много. Мы привыкли и даже как-то боимся остаться без шума, в полной тишине. Если будет получасовое молчание, мы испугаемся. И мы не слышим Господний стук в дверь. Или так крепко спим, что нас из пушки не разбудишь, или шоу громкое смотрим, или погружены в еще что-либо малозначащее.
«А где Ты был? – спрошу я когда-то. – Я стучал. ответит Он. – А я не слышал. – Сам виноват».
И еще: у Бога есть все ключи от всех дверей, но Ему важно, чтобы мы сами открыли двери. На известной картине Уильяма Ханта изображен Христос, стучащий в дверь, у которой нет ручки. И художнику указывали: «Вы неправильно нарисовали. На дверях нет ручки», а он отвечал: «Я правильно нарисовал. У этих дверей ручка внутри, одна». То есть у дверей сердца ручка внутри.
Вечеря со Христом – это есть сегодня божественная литургия, потому что Господь призывает всех нас на Тайную Вечерю. Это таинство Евхаристии, это святая литургия, в которой участвуют верные.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Но именно Лаодикийской церкви – самой порочной и неживой из всех, Господь открывает самую невероятную награду для Побеждающего – то есть праведника:
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его (Откр. 3:21).
Кончается послание Лаодикийской церкви и этой главы фразой, которой Господь завершал каждое послание всем семи церквям:
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам (Откр 3:22).
Семь церквей Апокалипсиса: Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия – это не единственные города, где в ту пору, к концу I века, уже жили христианские общины. Почему именно в эти города – а не в соседние Колоссы, например, или Троаду и Милет, упомянутые в Деяниях апостолов, – пишет Иоанн Богослов?
Конечно, послания не адресуются исключительно той или иной общине, они универсальны, и можно сказать, что через семь посланий Иисус обращается к полноте Церкви, и каждый человек может так или иначе себя узнать – свою Церковь или свою духовную жизнь – в одном из этих посланий.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Итак, будто описав нас всех, тогдашних и нынешних, Господь уже со следующей главы начнет открывать нам Свой замысел о мире и через что Его миру надлежит пройти.
А самый общий призыв ко всем церквям Апокалипсиса – это три слова: покайся, будь верным, не бойся. Это может стать программой христианской жизни. Можно добавить еще и напоминание: «Знаю твои дела». И начать с этого. Бог знает мои дела. А потом Он говорит: покайся. А потом уже: будь верен Мне. А потом говорит: не бойся, Я сберегу тебя. Прекрасная четырехчастная доктрина, как четырехчастное Древо Креста.
Глава 4
И вот, дверь отверста на небе…
После первых трех глав начинается описание… самого Бога. Не ожидаемых ужасов Апокалипсиса, о которых больше всего говорят, а Царствия Небесного вечности, которую Бог нам приготовил. Когда Иоанн, телом пребывая в пещере на острове Патмос, был в духе, эта вечность вторгалась во время, в бытие – и он видел на огромные временные промежутки, видел перед собой всю вселенную, видел, как развивается будущее. Без объяснений. Просто видел, не двигаясь с места, картины без объяснений.
Четвертая глава – это богословское сердце всей книги Апокалипсиса, а может быть, и всей Библии. Это прямое откровение о Боге и Его Доме, в который и нам надлежит в конце всего пути зайти.
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего (Откр. 4:1).
Иоанн слышит как бы звук трубы. Конечно, в трубу никто не трубит. Это сравнение – попытка описать небесную реальность, найти в нашем языке слова, хоть немного способные передать ее суть. Евреям был прекрасно знаком звук трубы – шофара. И в шофар трубили только в великие праздники: в дни еврейского Нового года, в Йом-кипур – судный день… Звук шофара созывал людей в храм и возвещал о важных событиях. Это про звук шофара пишет царь Давид в Псалтири: «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях» (Пс. 150:3). Об этом же говорит и пророк Исаия: «…и будет в тот день: вострубят в великий шофар» (Ис. 27:13). Это звуки шофара обрушили стены Иерихонские. И, скорее всего, на звук шофара, как на понятную близкую действительность иудеев, указывает апостол Павел, говоря: «…не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» (1 Кор. 15:52–53). Звук трубы означает либо великий праздник, либо великое покаяние. Апостол Иоанн все это прекрасно знает. И он восхищен к созерцанию вещей, которые не видны глазу.
И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий (Откр. 4:2).
Представить Бога, сидящего на престоле, мы не можем при всем желании. Ум изнемогает при попытке это сделать. Иоанн Дамаскин говорит, что есть три рода идей. Первые – те, которые понятны и легко могут быть изложены языком. Вторые – это идеи, которые понимаются умом, но с большим трудом излагаются словом или вовсе не излагаются. А третьи – вещи духовного порядка, которые непостижимы уму и, конечно же, не излагаются языком. И вездеприсутствие святого Бога, Его промышление о всей твари, о каждом комаре, о каждом муравье, обо всем происходящем – это такие идеи, от которых ум приходит в смирение и говорит: «Я этого не понимаю. Слава Тебе, Господи!»
Бог, сидящий на престоле – это владыка мира. Это тот, кто свершит справедливый суд, кто знает истину. Не случайно Он назван так семь раз – это говорит о полноте владычества Божьего, и мы можем к нему прибегнуть, найти у Него покровительство и защиту…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Как говорил Иов: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя… и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5–6). И мы говорим: «Слава тебе Господи, насколько Ты велик, Господи! Помилуй! Слава Тебе!» Эти слова – слава Тебе, Господи, – похоже, главные слова и этой главы, и живущих там, на небе, перед лицом Бога. Сидящий на престоле открывается Иоанну во славе.
…и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду (Откр. 4:3).
Здесь о сиянии речь. Яспис, сардис – это камни, но камень сам по себе в темноте не сияет, а если луч солнца попадает на него, то он, если ограненный, начинает играть разной красотой… калейдоскопом красивых бликов. Господь предстает в сиянии. А с чем еще сравнить богослову сияние? Для него это будет камень драгоценный, на который падает солнечный луч. Есть трогательные толкования, трактующие красный цвет ясписа и зеленый цвет смарагда как сочетание милующей любви Божией и Его пламенной справедливости. Но это не более чем поэтичное предположение. Теперь никто в точности не скажет, какого цвета были камни, которые видел святой Иоанн. А радуга вокруг престола напоминает нам о спасении. Это знак радости, знак божьего благоволения и призыв: «Не бойся!»
Возможно, красота облачений священников на службе – это тоже отблеск этого престола, этого свечения, этого другого мира. В любом случае, это усилие людей прославить Господа. Святители, которые были крайне аскетичны в своей жизни, могли спать на кровати без матраса или на полу и есть очень скудную пищу, в богослужении старались брать лучшее. Лучшие ткани, лучшее вино для Евхаристии, чистейший хлеб для просфор, чистейший воск для свечей… Храм – это место лучшего. Можно никогда не иметь на руках золотых перстней, но позолотить, например, кадильницу или напрестольный крест. Это правильный подход.
Священники, которые совершают литургию, они действуют не в силу своего благочестия, а в силу того поручения, которое им дала Церковь, во славу Божью.
Протоиерей Олег Стеняев
И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы (Откр. 4:4).
Имен этих старцев никто не знает. Это могут быть лучшие люди земли, праведники Ветхого и Нового Завета. Они соединяют в себе веру, и мудрость, и опыт и достойны ближайшего прикосновения к Иисусу. Притом они не апостолы и не патриархи, что очень интересно. Апостолов мы еще увидим. Вот, например, Иов – он ведь не пророк и не патриарх, и жил еще до Моисея, и не знал писанного закона, и он не апостол, но он великий.
Вокруг престола именно старцы (не дети, не женщины, не юноши). И нам следует помнить, что почитание старика – это почитание Бога через старого человека. Седина старика требует от нас почета и страха Божьего, потому что в его седине отражается блеск Божьей славы.
А дальше идет просто описание Царствия Небесного, нашей Родины на небе. И все равно сложно подобрать слова. Но Царство Божие, если судить на основании Апокалипсиса, представляется как литургия. Там есть престол, там есть Сидящий, Неописуемый, есть поклоны земные, есть Евангелие, фимиам, молитвы святых. Там богослужение. И самое приближение к Царствию Небесному может пережить здесь, на земле, каждый из нас – на литургии.
Если тебе скучно на литургии, если она слишком тяжела, утомительна, то тебе будет скучно и в Царстве Божием. Оно не для тебя. Но если будешь радоваться литургии, праздновать литургию, жить ею – тогда ты на пути в Царство.
Если вы возьмете все сюжеты Апокалипсиса… вы увидите схему всенощного бдения, литургию и апофеоз литургии – это город, в котором вместо солнца сам Христос, своим присутствием Он освещает этот мир, а присутствие Христа в нашей земной жизни – это, конечно, святое причастие.
Протоиерей Олег Стеняев
Литургия – это скиния Бога с человеком. Это те слова, которыми описывается блаженство будущего века. А Апокалипсис – это введение в литургию. В нем будто описано торжественное богослужение в невероятно красивом тронном зале Дома Божия. И, возможно, поэтому следующие строки так напоминают описание алтаря любого православного храма.
И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих (Откр. 4:5).
Семь свечей – это образ, отсылающий нас к священной символике числа «семь». Воплощение символизма. Семь Вселенских Соборов, семь дней Творения, семь таинств есть у нас… Таинств, конечно, не семь, их больше. Таинство – это любое благодатное действие, которое меняет человека. Колокольный звон может пробудить совесть, это тоже таинство. Монашество может быть таинством. Оно, собственно, и есть таинство. Погребение когда-то справедливо считалось таинством. Великое водосвятие – таинство. Иоанн Златоуст говорит: «Сделай твою молитву таинством». Их больше, чем семь. Но сознание нужно структурировать. И для этого у Бога все сделано мерой и числом. У хаоса нет числа. А где есть число – там нет хаоса.
Не только Отец и Сын упоминаются, но и Дух Святой. Сидящий на престоле – это Бог Отец, потом мы увидим Иисуса Христа в образе агнца, или ягненка, а Дух Святой явлен в своих семи дарах.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Семь даров, о которых говорит Исаия – это «дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия и страха Божия». Но мы сузили бы Божество, если бы ограничили его только этим. Любое число это прежде всего структура, благодаря которой нам легче запоминать то, чему учит нас Бог. Скажем, три добродетели – вера, надежда, любовь. Один Бог, две природы во Христе, три лица в Троице, четыре Евангелия, пять ран Господа, шесть крыл у серафимов, семь таинств у Церкви, восемь – тайна восьмого века воскресения мертвых, девять чинов ангельских… Так и семь даров Святого Духа. Только искать нужно не отдельных даров, нужно искать самого Святого Духа. Как мы молимся: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».
Плод духовный есть: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона… Понимаете? Свободные совершенно от всяких своих непотребных желаний и стремлений… Вот, оказывается, плоды духа. Вот в чем они заключаются.
А. И. Осипов, доктор богословия
… и перед престолом – море стеклянное, подобное кристаллу (Откр. 4:6).
Море – оно живое, оно дышит, оно движется, и оно сильное. А море перед престолом – это тоже море, сильное, но спокойное. Оно не движется. Обычное море непостоянно, в нем бушуют шторма, оно внушает страх. А стеклянное море иное. Красивое, могучее, но бояться нечего.
С прозрачным, как это море, кристаллом, позже будет сравнивать апостол Иоанн и сам Небесный Иерусалим – столицу рая. Одни толкователи видели в этом спокойном море отсылку к первым строчкам Библии о том, как Бог создавал мир, отделяя воду, «которая под твердью, от воды, которая над твердью» (Быт. 1:7). Другие – отсылку к реалиям иерусалимского храма, которые хорошо знал апостол Иоанн: там, в храмовом дворе, рядом с жертвенником находилось «медное море» – огромная бронзовая чаша для ритуальных омовений священников.
Для евреев море – это что-то такое хаотическое: вода соленая, ее нельзя пить, и эта огромная толща воды внушала страх, потому что это непредсказуемая стихия. Но стеклянное море противоположно этому: оно прозрачно абсолютно, оно находится у Бога, и оно, как стекло, имеет свойство проницаемости, гладкости, чистоты… оно пропускает свет и отражает в себе Бога.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
…и посреди престола и вокруг престола – четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему (Откр. 4:6–7).
Животных Апокалипсиса мы видим теперь на иконах апостолов-евангелистов. Символ Матфея – как раз животное, которое «имело лицо, как человек», то есть Ангел, символ Марка – лев, символ Луки – телец, а орел – символ Иоанна Богослова. Трактовок было несколько, и устоявшаяся восходит к блаженному Августину, а впервые мы встречаемся с этими животными у пророка Иезекииля.
Иезекииль, один из четырех великих пророков Ветхого Завета, был 30-летним молодым человеком, когда Бог открыл Ему Себя, тайну Своего творения и тайну будущего мира. С видения Славы Божией и четырех животных под престолом Создателя открывается Книга пророка Иезекииля, написанная почти за семьсот лет до того, как это же или что-то похожее открылось Иоанну Богослову.
«…Видно было подобие четырех животных, – и таков был вид их: облик их был как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их… Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех» (Иез. 1:5–10).
Рафаэль. Видение пророка Иезекииля. 1518. Флоренция, Палаццо Питти
Четыре животных указывают на четыре стихии мира и на четыре Евангелия. Это число мы встречаем и при описании рая в Книге Бытия, где сказано, что рай омывался четырьмя реками. Это четыре Евангелия, которые омывают наши души, поддерживают их в райском блаженном состоянии. Число «четыре» чаще всего относится к четырем евангелистам.
Протоиерей Олег Стеняев
Уже при первом прочтении мы видим, что там есть лицо человеческое, есть птицы – орел, есть дикие животные – лев и одомашненные – телец. Эту символику уже в дальнейшем верно объяснили, сопоставили с тем, что телец – это животное-жертва. Лев – это животное с царским достоинством, царь зверей. Орел это гордая, высокая, благородная птица, которая летает выше всех и, не мигая, смотрит на светило. Сильная, опасная, но очень красивая. Это, конечно, Иоанн. И это как-то закрепилось уже в церковном сознании. Конечно, к евангелистам можно подобрать и другие символы. Допустим, Матфей – он весь погружен в ветхозаветные пророчества, к нему можно подобрать любое пророчество из Ветхого Завета, любой образ. Марк – римлянин, краткий, стремительный; к нему можно что-то из римской истории подобрать. Лука это историк, к нему можно что-нибудь из «Истории» Геродота, из каких-нибудь отцов истории взять. Ну Иоанн, конечно, неподражаемый, это орел, тут ничего не скажешь. И пусть даже эта символика сейчас уже закрепилась, она дышит внутри себя, потому что ни одного евангелиста нельзя описать одним словом, одним образом – они многоимениты, как Господь.
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей (Откр. 4:8).
Григорий Нисский пишет, что серафим, когда распростирает крылья, двумя летает, двумя закрывает лицо от страха, а двумя покрывает ноги – и образует собою крест. Такое положение крыл предсказывает крестную славу, потому что через крест придет слава людям и спасение миру. А по другим трактовкам у шести крыльев этих существ вот какая задача: двумя крылами они закрывают лица, чтобы не сгореть, глядя на Бога, двумя другими – ноги, потому что подчиняют свои движения Богу, а еще двумя – летают.
…и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет (Откр. 4:8).
Это выше всего. Это просто выше. Бескорыстная хвала выше всякой просьбы. Потому что просьба вынуждена, покаяние вынуждено – скажем, грехами; благодарность вынуждена исполненным прошением: я просил, мне дали, я благодарю. Это тоже все нужно, это очень нужно, но если идти снизу вверх с покаяния, с прошения, с благодарения, то потом доходишь до бескорыстной хвалы: «Слава тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Богу за все!» – как Златоуст говорил, умирая. Это выше всего – бескорыстная хвала.
Мы с вами знаем из первых дней творения, что вместе с Адамом и Евой весь животный мир воздавал Богу хвалу, служил и радовался общению с Богом. Мы, люди, приходим в храм, молимся, воздаем славословие. А я думаю, в животном мире каждый как-то в своей мере служит Богу. Вспомним даже Герасима Иорданского, который излечил льва – и после лев служил Герасиму и всей обители. Много есть таких примеров, и каждое творение предназначено для славы Божией.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Очень тяжело славить Бога, например, когда находишься на отпевании близкого. А их надо произносить все равно. Святой Игнатий (Брянчанинов) говорил, что вынуждать из себя эти слова, выжимать их из гордого сердца и через силу произносить это славословие в любой ситуации – это есть признак духовной мудрости и смирения перед Богом. Это тайная наука. А Силуан Афонский говорил: «Если я спущусь в темный тесный ад, я и там буду хвалить Твое имя, я и там буду молиться Тебе». То есть нет ада для рабов Божьих. Кто хвалит Бога, тот не будет в аду.
И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено (Откр. 4:9–11).
Старцы падают ниц перед престолом Божьим, выражая, что их власть исходит от Него. Они же являются царями, и они признают Бога владыкой над собой. Получается, что Бог царствует через них над миром. Этому противопоставлены далее образы тринадцатой главы Апокалипсиса, где зверь узурпирует власть над миром… и заставляет человечество поклоняться ему как Богу.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Мы привыкли, что мы за молитву что-то получаем. Даже «Господи, помилуй!» – это просьба о милости, мы ее получаем. «Господи, помоги!» – и Он помогает. А славословие Богу – это истинная радость бескорыстия. Слава Тебе, слава Тебе, Боже – и мне ничего не надо. А чего не хватает в мире? – Радости.
Мир печален и уныл, мир спешит, он измучен, и тут – слава Тебе, Боже! Это самое дорогое – бескорыстная радость. Это как созерцание прекрасной картины, к которой не добавить ничего. Я просто говорю: «Боже, как красиво все!» – и уже все совершилось.
Глава 5
Кто достоин раскрыть сию книгу?
Агнец – это центральная жертва ветхозаветной Пасхи. Апостол Павел пишет: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7). Он – Агнец Божий, который искупает грехи всего мира, начиная от первого человека до людей, живущих сейчас.
Протоиерей Олег Стеняев
Здесь, в пятой главе, Бог откроется одновременно и грозным львом, и кротким ягненком, а когда возникает новый тревожный предмет – книга за семью печатями и снятие каждой печати начинает обрушивать на мир страшные потрясения, на небе почему-то ликуют. Некоторые библеисты называют пятую главу одной из самых драматичных во всем Апокалипсисе. Здесь в руках Бога появляется свиток, в котором пока еще никому неизвестный сценарий будущей переплавки всего мира.
И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями (Откр. 5:1).
Печать – это восприимчивый мягкий материал, который принимает на себя царский оттиск. Это воск или сургуч, который потом показывает, взломали ее или нет, и показывает достоинства того, кто запечатлел ее. Книга Божия закрыта печатями, которые указывают на царское достоинство и на великое содержание, недоступное праздному уму.
Интересно, что печатей семь. Семь – это, конечно, усиливает идею, смысл, что это тайна… Мы говорим: «Тайна за семью печатями». И также эти печати позволяют Иоанну, может быть, структурировать свое повествование, потому что снимается с книги семь печатей, и после каждой печати следует некое видение.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Странные слова о книге, что она была исписана очень обильно изнутри и снаружи, указывают на то, что это не книга в нынешнем понимании, а скорее свиток. Книжный свиток был частью многих восточных церемоний воцарения. Он понимался как символ власти правителя. И важно, что Иоанн видит этот свиток в деснице Бога – то есть именно в Его правой руке.
Бог как владыка мира имеет этот символ и передает его Агнцу как символ владычества. Еще это можно сопоставить… с изображением императоров, имевших свитки – если император стоял в окружении фигур, то свиток помогал отличить императора от других подчиненных, потому что это символ власти, законотворчества и суда.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Нечто похожее – исписанный внутри и снаружи пророческий свиток – видел и пророк Иезекииль: «И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: “плач, и стон, и горе”» (Иез. 2:10).
Печатей на книге семь – это число священной полноты. Вот и теперь семь печатей – символ особой сохранности и полноты тайны.
Апокалипсис пронизан числами. Сто сорок четыре тысячи, тысяча, двенадцать, три, четыре, 666, три с половиной года, тысяча двести шестьдесят… Чисел очень много. И через числа, через цифры и даты с нами говорит Бог. Раньше единицу ребенку показывали и говорили: «Един есть Бог, другого нет». Про двойку – два естества во Христе, Бог и человек. Когда тройку показывали, говорили, что есть Троица: Отец, Сын и Дух Святой. Четверка – имена четырех евангелистов: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Пять шрамов у Христа на теле, шесть крыльев у серафимов. А семерка – она вездесущая: семь таинств у Церкви, семь дней творения, семь светильников, семь чаш гнева, семь труб Апокалипсиса…
Цифры – они отражают замысел Божий в общих чертах. Можно цифры соотносить между собой, но они не отражают точного количества, и мы не можем позволить цифрам увести нас в какую-то сектантскую психологию… Я вижу в числах богословское значение, которое коррелирует в первую очередь с другими образами, с другими богословскими смыслами.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Восьмерка – это воскресение, тайна восьмого дня; девятка – девять чинов ангельских; а десятка – десять заповедей Божиих. Так и проходили арифметику через закон Божий. А буква и цифра – это, по сути, одно и то же. Ведь не было раньше отдельных чисел, были буквы. Один – это альфа, значит, два – это вита. Раз книга написана буквами, то ее можно переписать и цифрами. Поэтому считать – это все равно что читать. Семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутках, двенадцать месяцев в году – это наши буквы, которые мы читаем, времена и сроки.
Так же, как гадал об этой книге в руках Бога апостол Иоанн, так и многие библеисты до сих пор упражняются в точном определении этого свитка: то «тайный Божий замысел о пришествии на землю Его Царствия», то «эсхатологический план Божий», то «Божий замысел о спасении искуплении человечества», то «спасительное обетование Бога». А святой Андрей Кесарийский писал, что «под книгой разумеем также и глубину Божественных судеб». Все эти формулировки схожи в главном: в этой книге некий план Бога, и этот план – тайный. И хорошо, что нас не пускают всюду, куда мы захотели бы пойти: если грешник пытается проникнуть в тайны, то он делает это на беду себе и окружающим. Как много мы узнали о человеке за последние столетия, пробрались уже до генома – но как это опасно! Люди, пробравшись в тайну, начинают клонировать овец, задумываются над клонированием человека, дерзают на самые гордые предприятия. Поэтому Бог правильно делает, что закрывает семью печатями важнейшую информацию и открывает ее только достойным.
Тогда становятся понятны следующие трагические слова Апокалипсиса:
И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее (Откр. 5:2–4).
Книгу, о которой идет речь, конечно, никто не мог открыть, как и спасти себя мы не можем. Человек не может спастись сам, как бы хорош он ни был. Не может ни создать, ни воссоздать себя сам. Как творение он находится полностью в воле Божией и руках Его, и как спасенное существо, и как житель Иерусалима он тоже полностью находится в руках Божиих.
И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее (Откр. 5:5).
Лев – это Христос. Это исполнение пророчества. Еще когда патриарх Иаков умирал, он пророчески уделил благословение всем своим двенадцати сыновьям, и Иуде досталось благословение, в котором он сравнивается со львом. Там еще виноградная лоза, и он моет в вине одежды свои; потом появится еще образ апокалиптический – омовение риз святых в крови Агнца. Благословение Иуды – оно целиком пророческое. И именно от колена Иуды воссиял Господь. Христос пришел к нам не от колена Симеона, не от Рувима, не от Левия – Он Лев от колена Иудина.
Мы только в самом начале книги, на пятой главе, а нам уже говорится: Он победил. Да, мы увидим страшное – но нам уже заранее говорится, что он победит. Он уже победил, Он на кресте еще сказал: «Совершилось!» – и Он потом повторит эти слова, они послужат еще Апокалипсису, но уже сделано все. А после этого откровения следует одно из самых потрясающих мест всей Библии.
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле (Откр. 5:6–7).
Вместо обещанного грозного льва мы видим… Агнца. Это один из парадоксов Евангелия. То есть мы говорим о Троице – и говорим об одном Боге. Мы говорим о Деве – и говорим одновременно о Матери. И здесь мы говорим о Льве, а потом видим Ягненка, Который растоптал драконов.
Если мы посмотрим на гербы стран, даже современных, мы там увидим орлов, медведей, барсов, львов, волков – хищных животных, с которыми древний человек всегда себя ассоциировал. Ягненка никогда никто не ставил ни на герб, ни на алтарь, ни на знамя, никуда. Потому что он слабый, беспомощный. Нежный, вызывающий жалость, но не более. С жалостью в мире не проживешь. Так считали. И вдруг ягненок топчет медведей. Ягненок избодает львов. Ягненок разрывает барсов. Это очередной парадокс, да, но он такой, Иисус, Господь.
Если бы Христос был обычным человеком, Он сам нуждался бы в искупительной жертве. Если бы Он был только человеком, но не был бы при этом и Богом, его жертва могла бы иметь значение только для современников. Но так как Он – Бог, а Бог не ограничен ни временем, ни пространством, то жертва, которая принесена на голгофском кресте, имеет вселенское значение.
Протоиерей Олег Стеняев
Агнцем Господь назван в Апокалипсисе целых 28 раз! Здесь, похоже, опять тайна библейских цифр. 28 – это семь, умноженное на четыре: число полноты умножается на число всей земли.
Исаия в мессианском видении говорит: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Ис. 65:25). Тоже парадокс. «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Ис. 11:8). Бессильный, беспомощный вдруг приобретает храбрость, силу, и зло теряет ядовитость в Его присутствии. Такой Господь.
Он многократно у нас называется Агнцем. Это главное Его имя. С этим именем Его узнал Предтеча. Он же показал на Него, и говорит: «Вот Агнец Божий». В сложнейшей ветхозаветной символике Агнец – это тот, кто берет на себя грехи мира. И непорочный – не хромой, без бельма, без какой-то там плеши. Чистый, единолетный, совершенный, непорочный. Он должен быть заклан за грехи мира добровольно, потому что ягнят как раз режут без их согласия. А Христос приходит добровольно заклаться. Это высший из агнцев. И Он говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Вся власть у Него. Он, Ягненок, купил себе кровью своей такое право.
Кровь Агнца – очень понятный образ не только для христиан, но и для иудеев. Кровью пасхального Агнца израильтяне когда-то помазали косяки дверей своих домов, и десятая египетская казнь не коснулась их. Этот эпизод библейской Книги Исход превратил кровь ягненка в символ спасения.
Закон Божий устанавливает, что за грех – смерть, и не бывает прощения грехов без пролития крови. Поэтому Христос истекает кровью, Он умирает на кресте, и, повиснув на древе – а сказано: «Проклят висящий на древе», – Он берет на себя проклятье всех наших грехов. А так как Он не только человек, но и Бог, Божество сообщает этой жертве непреходящее значение.
Протоиерей Олег Стеняев
В этих строчках Иоанн Богослов и описывает Агнца, Которого увидел: во-первых, Он как бы закланный…
Здесь речь идет, конечно, о Христе. Но Он действительно был заклан. «Как бы» – потому что… одно дело, когда это характеризовалось земной жизнью, когда Он был распят – другое дело теперь, когда видит Иоанн Богослов чуть ли не через сто лет… «как бы закланный». Это слово свидетельствует, во- первых, о прошедшем, о том, что было; во-вторых, о том, что и доныне мы закалаем – как бы, и тут сказано «как бы» закалаем Его – своими грехами.
А. И. Осипов, доктор богословия
Во-вторых, у Агнца семь рогов…
По истолкованию христианских экзегетов, это раны Христа, это те страдания, которые он претерпел, то есть Агнец понес на себе как бы полноту наказания, потому что число семь указывает на некую полноту, возможно, в этой жизни. Например, в человеческом измерении мир делится на седмицы – одна неделя, другая… То есть Он вкусил всю полноту, и число «семь» на это может указать.
Протоиерей Олег Стеняев
А в-третьих, у него семь очей. Про семь глаз Бога писал и пророк Захария – почти за шестьсот лет до Иоанна Богослова он видел что-то похожее.
У пророка Захарии много таинственных образов, действительно апокалиптических картин, видений, которые не до конца раскрыты, не до конца понятны… Иоанн использует образ очей и наделяет Агнца этим атрибутом… И сказано, что эти очи – не просто глаза, а семь духов Божиих, посланных во всю землю. Представьте себе, что это некое всевидение, которым наделен Агнец…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Семь очей – это око недремлющее, символ везде- присутствия Божьего. У пророков написано: «Светлейшие глаза Твои тысячекратно яснейшие Солнца». То есть так говорят: глазам Твоим, тысячекратно светлейшим Солнца, не свойственно смотреть на преступления. Бог не хочет смотреть на зло. Однако Он вынужден делать это, потому что зла, к сожалению, хватает.
И потому Агнец делает то, чего никто из нас, людей – живущих теперь, живших прежде, и тех, кто будет жить после нас – сделать не мог: он берет книгу, чтобы открыть ее.
И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых (Откр. 5:7–8).
И в Апокалипсисе, и вообще в Церкви фимиам, ладан – это символ молитвы. И в Библии мы читаем, что та или иная жертва – благоухание для Господа. Господь обонял первую жертву Каина и Авеля. И жертва Авеля ему была приятна, по состоянию сердца Авеля. А жертва Каина была неприятна. Он или принимает ту или иную жертву, или не принимает. И если принимает, она приятна Ему, как человеку приятен ароматный запах. Демонская сила приносит с собой смрад. Вонь, грязь – это по сути такое дьявольское явление. А чистота и благоухание – это Божие. Эта символика очень прозрачна.
Поднятие кадильного дыма вверх – это, в общем- то, и есть образ поднятия души к Небу. И в Откровении в кадильницу, данную ангелом, возлагается фимиам с молитвами всех святых. Это именно молитвы святых – людей, которые доверили себя Богу, и Он обитает в них, и это действительно жертва благоприятная.
Образ престола Божия действительно можно назвать ключевым образом Апокалипсиса. Он красной нитью проходит через все повествование. Бог на престоле – это образ владыки мира, и, конечно, образ престола связан с идеей суда над миром, то есть, опять же, именно Господь определяет, что есть истина, что есть ложь, что есть свет, что есть тьма – и к Нему восходят эти нравственные критерии добра и зла…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
…и поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени (Откр. 5:9).
Это песнь спасенных. Церковь – она поет. Влюбленным свойственно петь, как говорил блаженный Августин. И в Царстве Небесном поют. Пение – это единственное искусство, которое можно забрать с собой с Земли. И святые поют новую песнь. Они еще не знают, что будет дальше. Книга, которую держит в руках Сидящий на престоле, запечатана изнутри и снаружи, семью печатями, и никто не может не только прочитать ее, но даже взять ее и посмотреть в нее. Они не знают ничего. И когда уже появляется ягненок – лев от колена Иуды, который победил, умер и ожил, и Он берет ее – для них это тоже откровение. И Царство Божие, как следует из этих слов – это не погружение в законченную реальность, а некое движение, анфилады таинственных комнат, с постоянным увеличением откровения.
И как литургичен этот текст: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати» (Откр. 5:9). Все мы помним молитву Богородице: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу». Или: «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу». И здесь мы слышим литургический гимн: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена», – это новая литургическая песнь. Так Апокалипсис понимается через божественную службу.
Новая песнь, в понимании отцов Церкви – это новозаветный гимн, прославляющий Бога. В отличие от ветхозаветных времен, он воспевает благодать, потому что если взять песнопения Ветхого Завета, они воспевали даже закон… Например, Давид говорил: слово Твое, заповеди Твои слаще меда и капель сота. А в Евангелии сказано: закон произошел через Моисея, благодать и истина – через Иисуса Христа. Новая песнь – это упование не на дела закона, а на дела благодати и божественной милости.
Протоиерей Олег Стеняев
А само понятие «новая песнь» будто напоминает о той песне, которую пели израильтяне, славя Бога, который спас их от фараона после перехода через Чермное море.
Выражение «новая песнь» ориентирует нас на другую библейскую Книгу – это Книга Исход, пятнадцатая глава. Только что осуществилось чудесное избавление израильтян, они перешли Чермное море, войска фараона были потоплены, воды сомкнулись, и Мариам воспевает новую песнь, где прославляет Бога как спасителя и искупителя, который явил свою славу, восторжествовал над врагами, и все языческие идолы повержены. Это песнь очень торжественная, и в этом духе и гимн Апокалипсиса: только искупленные Христом, только верные Ему знают слова этой песни… она еще как бы не всем доступна, это как новое имя, нечто сокровенное, что Бог в отношениях с человеком дает ему узнать…
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
…и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле (Откр. 5:10).
Это продолжение той же песни. Есть три служения священных: царь, пророк и священник. Но пророки уже не нужны. Не нужно никого возвращать к Богу, уже все с Богом. Не нужно рушить идолов – их нет, и не нужно говорить о будущем, ибо будущее никого не пугает. Оно прозрачно. Оно таинственно, но оно прозрачно. Остались цари и священники. Царь – это владыка. Царь-христианин – это владыка себя самого. Если человек победил гнев, усмирил похоть, задавил в себе нелюбовь к кому-то, ненависть какую-то, простил обидчика, заставил себя выполнить заповедь – он царь.
Христианская вера аскетична и через победный аскетизм – царственна. В ней целый ряд занятий, упражнений, ограничений. И иногда ограничиваются самые простые, не греховные вещи – просто для того, чтобы человек бодрствовал, был на страже. Учитесь властвовать собою! Эта пушкинская строчка в христианском прочтении – приказ Бога всем людям. Это самый главный жизненный навык. А когда мы воспитываем детей, то дал бы Бог это всем понимать, и дал бы Бог это всем исполнить. Чтобы мы научили их именно воздерживать руку от прикосновения к чужому, язык от разговоров о ненужном, глаза от жадного взирания на запретное. Это и есть царствование.
Все крещеные миропомазанные люди принадлежат ко всеобщему царственному священству. По благодати они цари и священники одновременно. Но в Церкви нашей кроме всеобщего царственного священства есть сугубые цари и сугубые священники. Сугубые цари – это те, которые помазуются на царство, а сугубое священство – это трехчинное священство: деканат, пресвитериат и епископат.
Протоиерей Олег Стеняев
А дело священников – жертва. Бескровная жертва приносится на литургии. Но есть ли иные жертвы Богу, и что они представляют собой? В псалме покаянном мы читаем: «Жертва Богу дух сокрушен; сердца сокрушенного и смиренного Бог не уничижит». И в тех же псалмах: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа» (Пс. 4:6). Любое праведное дело, посвященное Иисусу Христу – это жертва Богу. Хвала Богу это тоже жертва. В псалме 49 мы слышим: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие» (Пс. 49:23). Уста, сердце, разум, дела, деньги, вещи – все это может превратиться в жертву: обещано, что стакан воды не забудется, если подан во имя ученика. А если дается большее, то и награда будет больше.
Так что все мы – священники, приносящие Богу время своей жизни, помыслы своего сердца, начатки своих трудов и сил. Когда человек молится – он священник. Если мать молится за дитя, она в это время – священник. Если кто-то возделывает с молитвой свой кусок земли и при каждом ударе кайла или лопаты говорит: «Иисусе, слава Тебе! Господи, помогай нам!» – он совершает священный труд.
Что такое священство? Это свободный доступ к Богу, обращение к Нему, когда Господь тебя слышит, когда ты можешь Его замыслы осуществлять и через тебя Господь может действовать. И это теперь распространяется на всех благодаря воскресению Христа и Его победе над смертью и злом.
Вероника Андросова, библеист, кандидат богословия
Царь и священник – это, в принципе, призвание всех христиан. И власть, которую нам Бог дал над миром, уже проявлена с большой силой. Мы уже в изрядной степени царствуем. Мы летим по небу, опускаемся под воду, преодолеваем расстояния разговором, не сдвигаясь с места. По сути, это проявление великой власти, которая возникла в христианском мире. Христианский мир являет человечеству вот эту особенную власть над Вселенной. Когда соль станет несоленой и христианство ослабеет до края, то эта власть человека над миром станет злодейской. Она будет во вред человеку и всякой твари. Собственно, что мы и наблюдаем.
Царствование со Христом – оно уже начинается здесь, на земле, потому что Христос сказал: «Царство внутри вас». Я думаю, что и там тоже какие-то есть дела – это мы видим из Апокалипсиса, как старцы славословят Бога, как они поклоняются, и в житиях святых сказано: «Стоим на земле, мним стоять в Царстве Небесном», то есть здесь, на земле, мы присутствуем на молитве и в то же время предстоим перед Богом.
Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры
Познакомившись с четвертой и пятой главами, мы будто всмотрелись в весь Апокалипсис, в эту книгу не о бедах и катастрофах, но больше – о Царствии Небесном, пережить прикосновение к которому можно уже здесь, на земле, и острее всего в храме, на литургии. Храм и сам похож на постепенность Откровения: притвор, внутреннее пространство, некая стена, преграда, иконостас – и оттуда, из Святого святых, выносится к тебе самое дорогое.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков (Откр. 5:13–14).
«Аминь» – это печать. Царская печать после молитвы или после слова. И самое поразительное, что это «аминь» будет звучать и дальше, когда Господь начнет снимать печати со Своей книги и каждая снятая печать будет нести на землю катастрофы, войны и потрясения. За каждой из семи печатей окажется гибель и смерть. Но и на это Небо будет говорить Богу: «Аминь». Поэтому старцы кланяются до земли и говорят: «Точно, правильно, истинно все, что сделал Ты, Господи, то, что Ты делаешь. Аминь». И мы должны научиться этому слову и имени.
Глава 6
Иди и смотри
Один из самых сильных фильмов о войне, «Иди и смотри» Элема Климова, получил свое название по строке из Апокалипсиса. В шестой главе эта фраза повторится много раз. Эта книга начиналась с обращения к человеку через семь церквей Апокалипсиса, потом была потрясающая картина Дома Божьего, где у престола ангелы и вместе с ними существа, которых апостол Иоанн Богослов назвал животными, пели песнь Богу и видели в Его руке свиток с семью печатями. А теперь Господь начнет эти печати снимать, и всякий раз, при снятии каждой печати, будет звучать это леденящее кровь: «Иди и смотри».
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри (Откр. 6:1).
Приходит время, когда человек воочию увидит то, о чем прежде только слышал. В псалмах есть подобные строки: «Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего» (Пс. 47:9). Страшно, когда тебе пророчествуют о чем-то, говорят: будет так, будет так, будет так. Ты говоришь: не знаю, наверное, будет. А потом исполняется то, что было сказано. И наступает момент, когда Господь говорит: «Иди и смотри».
И что же видит апостол, когда снимается первая печать?
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить (Откр. 6:2).
Из четырех всадников Апокалипсиса именно об этом, первом всаднике спорят больше всего. Дальше пойдут всадники кровожадные, страшные, несущие с собой смерть, казни. А вот белый… Кто это? Победоносный, на белом коне – это точно не враг. Это не кто-то страшный. И возможно, что это Господь. Мы ведь именно Его увидим еще на белом коне в Апокалипсисе: Он будет воинствовать – и здесь Он на белом коне вышел, чтобы победить, потому что окончательная победа – за Христом.
По истолкованию Андрея Кесарийского, белый конь – это символ победы над язычеством, потому что язычество – это мрак и тьма.
Протоиерей Олег Стеняев
Подобное видение Господа на колеснице было и у пророка Аввакума примерно за восемьсот лет до Иоанна Богослова: «Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные. Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю… Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы… Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод» (Авв. 3:8–15). Поэтому эти слова и образ всадника на белом коне часто понимают как предсказание о всей Церкви и ее миссии на земле. Хотя, скорее всего, это все же сам Господь. У Церкви много имен: жилище славы, невеста Агнца – но не сам сидящий на коне. Церковь, сидящую на коне и метающую стрелы, мы нигде не видим. Мы видим ее грозной, видим – в Песне песней – в образе полков со знаменами, видим возлюбленной, невестой, матерью. Но именно сидящий на коне и стреляющий из лука, как воин, попадающий в цель – это воинское дело все-таки больше подобает Господу.
Всадник понимался на протяжении истории христианской Церкви и как сам Иисус Христос, который поддерживает верующих среди испытаний, и как, наоборот, образ антихриста, который соблазняет верующих, казалось бы, светоносным обликом, как апостол Павел говорил, что сатана может принять вид ангела света.
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Еще одна трактовка белого всадника – что это победоносная война сильного врага. В пору, когда писался Апокалипсис, речь могла идти о войне между римлянами и парфянами. Но в таком случае первый белый всадник мало чем отличен от второго, который тоже принесет с собой войны, да и белый, такой положительный цвет коня в таком случае смущает.
Цвет в Апокалипсисе очень значим. Основное противостояние происходит между белым цветом, который ассоциируется с небом, с божественной чистотой, с Престолом Божьим, с искуплением Агнца, и цветом красным, который свойствен дракону – это, можно сказать, добро и зло, где красный цвет связан с рыжим всадником, с кровопролитием, и не только цвет коня характеризует всадника, но и кто ему сопутствует, какие атрибуты он несет и какое слово с неба говорится ему…
Вероника Андросова, кандидат богословия, библеист
Очень популярная и вдохновляющая версия о белом всаднике, что это – время победоносного шествия евангельской проповеди по планете. А лук, по толкованию отцов – это апостолы, ученики Господни. Христос натягивает лук и пускает стрелы во весь мир. Это даже в наших сказках отразилось – когда царь пускает стрелы и рассылает сыновей по движению полетевшей стрелы. Безусловно, это некий знак, указывающий на Христа и на проповедь Евангелия. Вот когда она закончится, когда евангельскую весть услышат во всем мире, Церковь сделает свое дело и сможет уйти, затаиться, уступив место другим всадникам. Возможно, что все именно так. Здесь широко открыта дверь для толкований.
Это благая весть, обращенная к язычникам, когда народы, сидящие во тьме и тени смертной, обретают свет и выходят как бы на белый свет… Это первая весть о Христе, которая прозвучала в языческом мире и нашла как бы согласие в сердцах людей.
Протоиерей Олег Стеняев
Проповедь Евангелия во всем мире – это непременное условие всего остального. Только после того, как слово Божие узнано и принято – или узнано и отвергнуто, – совершаются все остальные события жизни. И когда белый всадник сделал свою работу, и если его работу не приняли как должное, вступают другие всадники – и с другой целью.
И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч (Откр. 6:3–4).
Похоже, нас ждет “bellum omnium contra omnes” – война всех против каждого. В конце «Преступления и наказания», ближе к эпилогу, есть страшный сон Раскольникова, где он видит, как в людей заселяются живые какие-то трихины (бесы), и люди вдруг начинают жарко спорить. Автор говорит, что люди никогда еще не были так убеждены в собственной правоте и никогда еще так не ненавидели другого за противоположное мнение. Они не могли договориться, и убивали друг друга, и мир окутался смертным пожарищем. Когда хочешь убить противника – не переубедить его, а именно стереть с лица земли – это может привести к войне всех против каждого. Тогда разделится дом на дом, царство на царство, семья на семью и люди будут видеть друг в друге врагов.
Рыжий конь, по истолкованию Андрея Кесарийского, – это чин мучеников, потому что цвет этого коня указывает на кровь. И в понимании отцов Церкви сама Церковь проповедует не только словом (конь – это символ вестника), но и мученичеством; также рыжий конь указывает не только на кровь мучеников, но и на кровопролитные войны, которые будут происходить.
Протоиерей Олег Стеняев
О рыжем цвете можно сказать еще то, что рыжая телица, «пара адама» – это одна из самых главных и таинственных жертв иудейского богослужения, которое сейчас не совершается из-за отсутствия Храма. Пепел рыжей телицы очищает всякую скверну и всякий грех. Эта жертва приносилась всего лишь несколько раз за историю еврейского народа. И важно, что рыжий конь – «огненно-красный» по-еврейски – приносит войну, а жертва рыжей телицы – очищает грехи.
Этот всадник пока еще не пришел – современные войны по милости Божией локализованы. Но уже были две мировые войны, и не в шутку ожидается третья. А мировая война ведется на всех стихиях – в воздухе, на воде, на суше, под водой, а тепере еще и в космосе… Ею охвачены все страны и континенты, и нет ни одной страны, которая не была бы затронута войной прямо или косвенно! Вот когда можно говорить, что рыжий конь скачет по просторам земли.
И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай (Откр. 6:5–6).
Топот этого коня разрушает экономику. Возможно, глобально. Апокалипсис – глобальная книга. И пусть она обращается к семи церквям, но мы видим здесь гораздо больше. Мы сегодня уже научены разными кризисами, дефолтами, смотрим на все с осторожностью, и в этих ценниках апокалиптических – сколько за хиникс пшеницы, сколько за хиникс ячменя, – мы видим какие-то изменения структуры экономического общества.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/protoierey-andrey-tkachev/apokalipsis-seychas-pozzhe-chem-my-dumaem-69690844/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
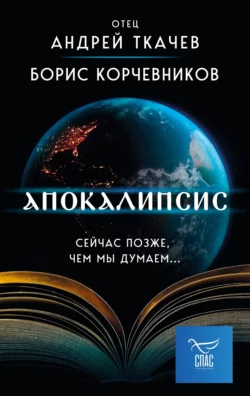
Андрей Ткачев и Борис Корчевников
Тип: электронная книга
Жанр: Христианство
Язык: на русском языке
Стоимость: 339.00 ₽
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 28.06.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Апокалипсис, или Откровения Святого Иоанна Богослова – одна из самых глубоких и таинственных книг Библии.