Утром пошел снег
Утром пошел снег
Андрей Николаевич Толкачев
Писатель. ВдохновениеПутешествия с романтикой #5
В этом сборнике собрано 39 историй о родителях и детях: о том, что может случиться в жизни и как выходить из запутанных, порой «дурацких», а порой тупиковых ситуаций и положений. Герои книги – люди самых разных стран, возрастов, профессий и сословий, на своем примере показывают, как можно быть несчастными и где найти счастье.
Автор ставит под сомнение многие способы воспитания, показывая, как на людей влияют разные события, происходящие в их жизни. Читаешь и понимаешь, что легче простить, чем идти напролом, что судьба бывает как милосердна, так и крайне жестока. Книга полезна в равной степени и родителям, и детям.
Андрей Толкачев
Утром пошел снег
Раздел первый
Рассказы о жизни родителей и детей
Огурцы
Часть первая. Встречать…
Нарезали огурцы, помидоры, поставили жареную картошку, прямо в сковородке, добавили перья зеленого лука. Сели – поели. Вышли – присели. На крыльце, потом в доме. Посмотрели в окно, отец и сын, молча, синхронно.
Сын приехал, – эт, значит, подъем до зари, и три километра по росе, на рыбалку.
Закурили. Сын – свои сигареты, отец – свои.
Вот он глубоко затянулся, выдохнул дым, отвел голову в сторону, будто искал подтверждения чего-то, и, наконец, сказал:
– Я все не пойму, как ты мог?
– А?! – отца будто с места сдернуло.
Знал вопрос, долго ждал.
– Как ты мог? – затушил окурок. – Как мог ее потерять?
– Сынок. Не надо так…
– Столько лет вместе… И так сразу все обрушить.
– Сынок…
– Не позвонить, не сообщить? Ты ничего не делал. Сидишь спокойно, – грызешь огурец.
Бросил огурец на стол. Помолчали.
– Вот так! – сын отшвырнул кружку, шагнул к дверям, на крыльцо, в калитку, к лесу.
Пошел широким шагом, не разбирая дороги.
Вернулся.
– Говоришь про урожай огурцов. Какой урожай, когда ты потерял жену?
– Сын, остановись. Прошу тебя.
– Сидишь тут. Молчишь. А что ты сделал, чтобы спасти ее?
– …
– Молчать только умеешь.
– ….
– Вот знаешь, хотел тебе высказать – не знал, как… Помню, мать говорила, что ты тюфяк…, а я обижался на нее. Думал, как же, отец же.
– Да, как-то так. Ну, она шутя.
– Как тебя отцом называть? Это не вопрос. Не отвечай.
– Да-да, конечно.
– Я не приеду.
– Работа…, конечно.
– Нет, ты не понял. Я никогда не приеду. Меня не ищи.
Садилась ночь.
Она убаюкала и дом, и сад, и калитку, что закрылась за сыном, и тропинку за домом, – ту, что по росе три километра до реки. Все притихло. Все заснуло.
Он не спал. Растерял где-то ответы, все ответы с того самого дня.
А что ответишь?
– Не звони о болезни, – ее голос.
– Хорошо, конечно, только не волнуйся, – мой голос.
– Не говори о больницах, химии и этом дерьме, мне так спокойнее, – ее голос.
– Ну, само собой, ничего не скажу.
Переживала, чтобы сын не увидел ее дома такой, хотя на последней стадии уже выписали, чтобы дома…
Он не спал, – пошел готовиться к рыбалке. Все подготовить на двоих, так спокойнее.
Достал сапоги, снял с них паутину, плащ достал, – сыновний попался, положил на лавку, полез за своим, с черными полосками от велосипедных скатов. Проверил удочки, – на одной крючок заржавел, надо сменить, – банка справа, на верхней полке. Пошел собаку приструнить, чтобы лаем не заливалась, хотя, нет, лучше отвязать, позвать с собой, на тропу, ту, что по росе три километра до реки.
Скоро утро.
Сын в детстве как-то спросил:
– Пап, как мне нарисовать восход солнца, когда я сплю?
– Тебя удручает отсутствие пейзажа днем? – спрашиваю своего юного художника. – Утром такое освещение. Значит, надо вставать, как на рыбалку. «Познай, где свет, – поймешь, где тьма». Вечером никаких фильмов, книжка и на «боковую». Ну в крайнем случае можно посидеть за телескопом, пока не увидишь звезд, и со спокойной совестью уходишь спать. Нет – нет! Ты не отворачивайся.
– Пап, я не это хотел спросить. Я никогда не научусь рисовать. У меня нет таланта, – зачем ты меня обманываешь.
– А знаешь, проведи эксперимент – убеди себя, что ты художник и сейчас напишешь картину, маслом, как когда – то, в XIX веке, Федотов, он нигде этому не учился. Ты накинул на плечо ремень этюдника и, ощущая его приятную тяжесть, что растекается теплом по спине, идешь на пленэр… Даже не идешь. Ноги сами несут – они знают куда. Ты ловишь новый облик деревьев, переливы играющего солнца, шорох теней – делаешь набросок – стираешь лишние линии. «Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен».
В парке или на опушке леса ты ищешь вдохновляющий образ, их множество вокруг, и в этот момент у тебя сотня глаз. Ну! Передавай привет мифическому Аргусу.
– Пап, ты все шутишь, а я серьезно.
…И вдруг зашелестело, закапало. Пошел дождь…
Бывают в жизни случаи, о которых уже написано на какой-нибудь картине. Прямо на берегу меня застал грибной дождь, который я до этого видел в работе Дмитрия Левина «Грибной дождь».
Ударил гром и хлынуло еще сильнее… Идти под дерево – не пошел. Решил идти домой, причем обходил лужи. Промок до нитки. И вот какое дело, капли огромные, каждая формой как боровичок.
«Чав-чав» — туфли посылают сигнал бедствия, набухли от воды, – старые, могли бы привыкнуть.
Говорят, в Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу. У нас не так. Может поэтому на работе во время дождя все ворчат и ропщут друг на друга.
Часть вторая. Искать…
В какой – то момент я пойму, скорее интуитивно, что сын вернулся на нашу тропинку, а может и не уходил, так погорячился тогда, когда хлопнул калиткой со двора, и всего лишь. Я каждый день слышу его слова о том, что я больше не отец, не уберег мать и все такое. Но вы наверняка догадаетесь, что я загадал. По этой же дорожке он вернется. Он прибудет из города «N», из страны «X», или из космоса (неважно, откуда и как), откроет калитку, беззвучно войдет и прислонится лбом к окну, как Кельвин в «Солярисе».
Потрясающий эпизод из фильма. Пересматривал, – в голову не приходило, что вскорости начну реагировать на каждый шорох за окном.
Остаешься один – трезвеешь: все было не так. Сколько с женой конструировали наше будущее, сколько переживаний, надежд – все до одного дня, когда равнодушным голосом врач назвала диагноз, так, приговор прочла между делом и все. Все сразу стало выпукло, как под увеличительным стеклом. Время будто остановилось и выдавливало ее из жизни, сколько мы не упирались. А когда ее не стало – сын не простил.
Вчера была семья, а теперь бобыль, и небо мрачное, и сон не приходит, и водка не лезет.
На неделе в саду заменил подгнивший столб – городьба завалилась, будто никто уже в доме не живет, в огороде похозяйничали соседские козы, – сосед отрицает, лесной хорь через подкоп пробрался в курятник – передушил кур, поймать хоря – тоже не признается, на токарном станке перегорел двигатель, – да и черт с ним, с лесного причала кто-то умыкнул лодку, – только не утоните. До смеха доходит, ей-богу. В народе говорят, одно к одному. Берешься за работу, да все валится из рук. Не тем занимаешься, обманываешь сам себя.
Сегодня проснулся как обычно, в 5 часов, охладился водой, дождался зари, дождался петушиных криков, дождался брызг первых лучей солнца на краю стола и на комоде с фотографией жены и сына, и тут меня прошибло до пота. Как я больше не увижу своего сына? Глянул в окно – белый иней покрыл землю. Скоро зима, ночью морозно. Я увидел обстановку нашего дома, вещи, – все в пыли. Дом превратился в чердак, на который годами не ступала нога человека. Может это прозрение: покроется пылью рассыплется прахом наш семейный очаг, если не верну сына. И она бы послала за ним, я знаю. Пора ехать.
Стою в тамбуре вагона. Сказал, что не простит за мать, с тем и ушел. А как мне с этим жить, – не сказал. Телефон его не отвечает. Телевизор он не смотрит, в программу «Жди меня» не обратишься. Но я должен его найти.
О том, что с нами случилось я читал много научных текстов. Английский психиатр Джон Боулби когда-то доказал теорию привязанности. По анализу Боулби, лишившись мамы, ребенок проходит три фазы реакций на разлуку: протест, отчаяние и отчуждение, и в каждой фазе ребенку свойственны тревожность, раздражение, психосоматические проявления и девиантное поведение.
Наверное, взрослый сын испытал такую же печаль, когда умерла его мать.
…В Питере я его не застал. Соседи по съемной квартире сказали, что мне искать его не надо, вроде он так просил. Но они переглянулись, значит, не все еще потеряно.
Дальнейший маршрут по Садовой, Гороховой, Адмиралтейской. Никуда, и ни к кому. Важен процесс.
Оказавшись на Мойке, перешел на Дворцовую площадь с ряжеными, зеваками и измученными лошадьми в каретах, – из реального Питер стал городом выставочных фотографий, почтовых открыток и магнитиков.
Под вечер той же субботы я еще раз набрал номер несговорчивых соседей – меня снова отшили. Зачем-то вернулся в отель «Фонтанка», с длинным полутемным коридором, устойчивым запахом старого лака и ковровых дорожек, где работающих лампочек раз-два и обчелся.
Когда-то, до своего отшельничества в деревне, я был городским жителем, преподавал в институте, ездил как сейчас, на трамвае, и теперь город мне подсказывал, что новости исчерпаны не все, и действительно, поздним вечером звонок девушки. Калеичи – старая часть Анталии, – место его нынешнего пребывания.
Везение с билетами турецкого авиаперевозчика Pegasus и из аэропорта мчусь на такси, но точного адреса отеля нет.
Вечер. Где остановиться? Аspen. Когда-то с женой и маленьким сыном – это было первое место наших путешествий. Нам хотелось большой отель, хороший вид в окно, завтрак на террасе и поближе к морю. Поднимаюсь по ступеням, будто все было вчера, а не 20 лет назад. Называю администратору имя сына – нет, такой не проживает. Ну хорошо, я сниму номер на сутки.
Смотрю в окно, на дождь, накатывает волнение, скорее, в одном из соседних отелей он тоже стоит и смотрит на дождь.
Прошел час-другой. Дождь зарядил на всю ночь. Видимо, я привез его из Питера. Под утро дождь исчез. Улицы разом высохли.
Через небольшой парк спешу на пристань, к лодкам, маяку.
А вдруг мы встретимся? Прямо сразу. Помню, он маленький в этом парке не мог оторваться от охоты кошки на летучую мышь, на одном из старых деревьев.
Маяк, рыбацкие лодки и безмятежность.
Обратно вышел к уличным ресторанам. Сын любит посидеть с компьютером пока не печет солнце.
– Да, стакан фреша, да, апельсин, да, тешеккюр эдерим.
Полез за лирами. Из портмоне выглянула фотография. Здесь он совсем стеснительный, юный, а более поздних у меня нет. Вот еще одна, на лыжах, в подмосковном Доме отдыха «Березовая роща». Ему 6–7. Мы оба счастливы, и оба знаем кто нас фотографирует. Далеко – далеко та зимушка – зима, все уходит от нас. Жаль, не повторится.
Когда он был в младшем классе, раздали анкеты, сказали, что родителям не скажут. В графе «Что Вам нравится в папе?» Сын написал: «Чувство юмора».
Как после этого сказать, ты мне не отец?
Так не пойдет. Мы остались одни, я и он. Должны держаться вместе.
Еще пара отелей – среди постояльцев его имя не значится. Отелей и апартаментов много. Нужен другой алгоритм. Тем более друзья ему сообщили обо мне.
Чистильщик обуви, мимо которого я вчера шествовал с чемоданом, сегодня предлагает: «Давай почищу тебе чемодан». Шутник, он о чем-то догадался, но на фото не реагирует.
Я сделал круг к морю, и начал путь с набережной, от углового кафе прямо наверх, не поворачивая налево, здесь меньше магазинов и больше кафешек. Стоп! Ну конечно, он свернул налево за Famous Steak Hause Gastro Bar. И прошёл к White garden. Дизайнер не мог не обратить на него внимание и не подойти, и не зайти. Бутик-отель выделяется среди других, аккуратный, компактный, ухоженный, – кусочек Прованса в Турции.
Держит его один пожилой турок. И здесь удача. Он узнал сына на фото, повел наверх по узкой деревянной черной лестнице. Здесь сын снял номер, но утром съехал. Номер оказался миниатюрным, с железной широкой кроватью, как раньше у бабушек в деревнях, и крохотным низким окошком во двор. Удивляешься, как дверь не упирается в спинку кровати, и как спинка кровати не закрывает все окошко, а только половинку по вертикали.
Наверняка ему запомнился коридор. Коридор отеля White garden.
– Вон там он сидел?
– Да. Откуда Вам известно?
– Он заказывал такси?
– Этого я не знаю.
– Он был один?
– Да, один жил здесь, но сегодня срочно уехал.
Владелец отеля спокойно извлекает конверт и исчезает на лестнице.
«Отец, я знаю, ты приехал за мной. Но встречи не будет. Встречаться – это вспоминать маму. Для меня это больно и невыносимо.
На самом деле мы сегодня встретились, я тебя видел, ты постарел, ссутулился. Можешь лететь в Россию. Есть один фильм, где сын спрашивает отца: «В начале было слово. Почему, папа?»
– Но в чем я виноват? В чем я виноват?! В чем виноват!!!
Стоишь, кричишь и плачешь. В номере, где был мой сын, в городе, где есть мой сын, в беспокойных ночах, где всегда будет мой сын.
…Мы возвращаемся с рыбалки. «Ну что, мои огурцы, наловили? – спрашивает жена.
Я пошел на причал. Походкой собаки, которой наплевать на дождь, которая бредет себе под дождем по причалу. Так легче пережить печаль, проще чувствовать свое одиночество. Оттуда я посмотрел наверх, он стоял там. Стало быть, встретились.
Часть третья. Вспомнить…
«Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно кружится желтый лист,
И день прозрачно свеж,
И воздух дивно чист…».
Помнишь, я читал тебе Блока, а ты бегал вокруг деревьев?
А осень была за дверью. За скрипящей дверью, которую сколько ни смазывай, она все равно скрипит. Она, осень, за дверью. Пришла, подкралась, причем, презирая лужи, которые не знают, куда им деваться в холода. И ты уже не угадал с одеждой. Прибежал домой, замерз, скорее чаю, скорее отмотать время к лету.
Летом гнал велосипед по лесной дороге, всматривался в каждое дерево, каждый лесной просвет, – запомнить на период холодов, до следующего лета. И возмутиться на себя.
А еще у нас с тобой была Ведьмина деревня, Дуб – шептун, Тайное дупло гномов, и яма, заросшая травой, над которой мы гадали, откуда она взялась.
Сколько пройдено в том дремучем лесу, какая же там была прохлада, а еще сенокос, грибы, костры и… лесные вечера до темноты, до черноты, когда все, уставшие от покосов, любят о чем – то поговорить. Помню, ты все допытывался, как звезды держатся на небе и о чем стрекочут сверчки.
В те звездные ночи мы с замиранием сердца смотрели на небо, мечтали. Наше теплое небо мы сравнивали с морем, которое где – то без нас шумит прибоем, – как далеки те берега!
Почему летом не вспоминается весна? Просто в голову не приходит весна, островки снега под солнцем неугомонной весны. Помнишь, сынок, как они торчали…, а чтоб добраться, воды в сапоги надо было набрать.
И вы, стайкой детей, прибегали домой, звенели крикливыми голосами – вытаскивали из сапог ноги, а потом переворачивали сапоги, а оттуда вода струей. Топали по полу, оставляя мокрый след. И получали запрет на следующую встречу с весной, пока не просохнут штаны и сапоги.
«Пи – пли – пли! Пи – пли – пли!» – капель решительно отстукивала срок течения весенних талых вод. Ты услышал тогда эти звуки и бегал, наговаривая себе под нос: «Пи – пли – пли! Пи – пли – пли!» Но тебя уже не выпускали.
Зима. Зимой мы не ждали весну, и тогда она незаметно подкрадывалась.
Зиму помню в подмосковном пансионате. Мы вернулись с лесной лыжни. Наши лица еще горят после мороза, но я уже рвусь туда, где стоит старый журнальный столик, – сейчас мы встретимся, – я, несущий идею фикс и столик, покрытый обшарпанными шахматными клетками. Тебе в светлой комнате библиотеки предстоит шахматное сражение с кем – то из толпящихся ребятишек.
Я волнуюсь за тебя, – играешь черными «сицилианку». Девочка, что сидит напротив, постарше тебя, потому твои уши краснеют, потому достаю пачку сигарет, в библиотеке это неуместно, оглядываюсь куда пойти подымить. Прячу сигареты. Как же ты волнуешься…, хотя уже увидел комбинацию и идешь к ней семимильными шагами.
Партию ты выиграл – девочка занервничала и ушла.
А ты не радовался, просто смотрел ей вслед.
Ты вернулся в осень. Бродишь, бродишь, бродишь по лесным дорожкам, уже не таинственным, а прозрачным после ушедшей листвы…Лес так медленно замирает, воздух наполняется сыроватым грибным запахом. По оставшимся листьям стучит беспокойный дождь. Чувство, что душа сыплет листьями. Не верю, что все ушло. Не верю, что ты не вспомнишь то лето. Не верю. Не верю».
Закончил писать, поднял листок, тут же положил, так, будто он прилип к пальцам. Потом схватил его и смял. Взял новый и написал: «Почему так?
Приглашение на рыбалку
Истории, которые с людьми еще не случились. Да возможно ли это увидеть заранее? Можно ли фотографировать будущее? День, который случится завтра, или в среду, или осенью? Как фотографировать время, которое еще не пришло, но которое наступает пока я пишу эти слова?
Познакомился с творчеством Александра Кульгина, и открыл для себя замечательного фотографа, который снимает не то, что видит в объективе, а то, что произойдет через несколько мгновений. У меня нет никаких доказательств. Просто чувствую так его снимки, и делюсь мыслями.
Эта история произошла совсем недавно, в 21-м году.
Больничный коридор. Идем с каким – то санитаром. Все палаты открыты. Глаза не спрятать. Боковым зрением вижу: на пути, по стенам торчат спиралевидные фигуры – это люди – спирали, от болезней люди превращаются в спирали.
– Нас потеснили. Ковидников много навезли.
Веет нечистотами.
– Сюда.
Вошли. Встали.
– Здрасьте.
– Здрасьте.
Его кровать. Налево в углу. Пустая. И чужая.
Не верится, – вчера здесь лежал отец. Еще вчера. Еще теплая после него кровать.
– Ночью санитары вынесли…, в морг, – голос, будто запись включили, могут включить вторично, если что – то непонятно. Если что – то непонятно…
Очки на тумбочке.
– Сняли, чтобы не разбились, когда выносили.
«Он объясняет почему с умершего человека сняли очки. Бред какой – то. Отец в них часто засыпал. В последний раз упал с велосипеда, а очки на носу так и остались, не разбились, и вот лежат, может ждут хозяина, когда он вернется».
– Звините (кто – то выговорил слово без «и»). Вы слышите?
– Веселый был.
– Что?
– Веселый был, – повторяю свою фразу.
И жду. Санитар оглядывается. А я с кроватью продолжаю беседу.
– Смешно как – то носил.
– Что?
– Очки смешно носил.
Очки на тумбочке начали меня приветствовать, будто они дальше читали книгу на которой лежали. Почему – то мифы Древней Греции он всегда брал с собой, взял и в последний раз.
Беру очки в руки. Левая душка сохранила свой изгиб, а правая убежала куда – то.
– Тут вещи на тумбочке, заберите. – И в сторону: —Лена! – И ко мне: —Мне пора идти. Вы тут сами.
Ушел санитар.
– Ну, давай обниму, сын, – его голос с того вечера, когда забирали на «скорой», вывозили с подъезда на коляске для сидячих больных. – Не обижайся на меня.
Сидел худой. Одуревший. Растерянный.
– Ну что ты, с кем не бывает. Так прощаешься, будто навсегда, – мои неуверенные слова, а точнее, мое вранье. Против диагноза не попрешь.
А сам думаю, а почему не соврать. Ведь батя, когда у меня открылся собственный антикварный магазин, сказал: «я в тебя верил» и это было таким бесстыжим враньем, после ругани и ремня в детстве. Ведь за десять лет до этого на одном из семейных сборищ отец опрокинул стопку и в сердцах сказал дядьке, тетке и друзьям, что сидели за столом, мол, у вас дети как дети, а у меня беда: сын – дебил, вместо уроков, или там спорта, по мусоркам лазит, по свалкам, собирает старье – сарай весь захламил. В башке ни одной извилины. Хоть бы до восьмого класса дотянуть и в ПТУ. Это за праздничным столом. На своем дне рождения.
…Молча бросаю полотенце, блокнот, книжку, ручку в свой рюкзак, сгребаю мелочь, почему – то рассыпанную на тумбочке.
Первый раз обращаю внимание на тех, кто в палате. На кровати у окна. У тумбочки – напротив. На кровати – рядом. Все прячут глаза, как от чего – то постыдного.
Все сгребаю – ничего не оставлять из того, к чему он прикасался – ведь это касается только нас: меня и его.
…Выскочил на улицу, через задний вход – помнил дверь, – глубоко вдохнул воздух, выдохнул.
О чем он думал? О чем он думал в последний момент? – полистал его блокнот, иначе, зачем он забирал его с собой всякий раз, в больницу. Листки замелькали, как вагоны электрички: трудно сосредоточиться и прочесть что-нибуль.
– А вот, нашел, – записи на несколько страниц, будто писал в темноте и не видел в этот момент свою запись.
– Читай.
– Не могу.
– Не переживай, что там?
– Говорит: простите, если чем обидел…
– И все?
– А вот еще… Так…
«…Как-то ты спросил меня, сын, почему я не беру тебя на рыбалку. Ты знаешь, у меня от радости микстуры, что принес с аптеки так и посыпались. Я долго ждал, когда ты скажешь про рыбалку и вдруг… А за окошком зима, а у тебя ангина и температура под сорок. Только поправишься – сразу идем тобой на рыбалку!
Я сейчас почему вспомнил, я знаю, отсюда уже не выйду, – вынесут. На рыбалку ты пойдешь без меня, и обязательно скажешь: "У меня такой карп сорвался, и крючок проглотил". Помни! Я тебе в этот момент подмигну.
Когда-нибудь ты узнаешь, что отсутствие горизонта – это не плохо, это значит, небо начинается на Земле, а может, земля заканчивается на небе, что тоже не плохо.
До встречи, мой сын».
Куда приводят Холмогоры (Заметки в дороге)
1. Дорога
– Сдавай билеты на поезд, – сказал я сыну. – Поедем на машине.
900 километров по Холмогорам до деревни Зарученье. Вверх-вниз, вверх-вниз, особенно на границе Вологодской по Архангельской.
С чего передумал, когда "против" больше, чем "за"?
Да, зрение упало, – сначала напомнил, – руль крутить одному, – еще напомнил, – куда такая для глаз нагрузка? – сначала сомневался. А потом махнул рукой, Северную Россию повидать, да еще со взрослым сыном, – решено.
Дорога-то как манила, – вот еще что.
Пытливый читатель уже обвел кружком цифру "900". А Холмогоры-то "подлиньше" будут, аж за тысячу километров. Верно. Только с Холмогор свернуть нам надо пораньше, до Архангельска, на Няндому. По приглашению наших замечательных няндомских сватов. Деревенька под городком Няндома с праздничным названием Зарученье. Две-три эсэмэски, и мы едем знакомиться, кстати, в таких случаях путь становится покороче.
Ты знаешь, – говорю себе, – всякий раз когда услышишь слово "Холмогоры", не забудь: кроме названия дороги, еще деревня так называется, в низовье Северной Двины, с допетровских времен. Зазорно будет не наведаться туда.
Но сначала надо пройти трассу М8, от Москвы, не доезжая Архангельска. Города там знатные: Переславль-Залесский, Сергиев-Посад, Ростов Великий, Ярославль, Кострома. Не хочешь – объедешь. Где-то след Ломоносова и рыбного обоза, с которым он шел.
И поехали мы, вернее думали, что поехали, – по Холмогорам не едут, так, спускаются-поднимаются. На холм – с холма. По полосе "шелковисто-гладкого асфальта", если воспользоваться набоковским описанием какой-то "american road". Движение мягкое, как по коврику с короткими ворсинками.
Водители грузовиков здесь учтивые. Мигают тебе правым "поворотником" – обгоняй, не стесняйся. Левым – не дергайся, по "встречке" что-то идет.
А в долинах стелются туманы, а поля красуются зарослями Иван-чая узколистного, а от сосновых лесов веет свежестью и запахом коры.
Кто думал, что я готовлю статью для Википедии, – не оправдаю ожидания. Я о том, что с тобой происходит на Холмогорах, и только.
И грянул дождь, да что там дождь, ливень зарядил на всю дорогу.
Радуюсь ему, но ехать, когда он хлещет по лобовому стеклу, никому не пожелаю. Перед бампером небесный художник будто стер все контуры умелой рукой. Исчезнувшая дорога и клубы пара. Эх, дорога. Едешь будто не по ней, а над ней. Приборы показывают "скольжение". И в какой-то момент я не в "легковушке", – так, в шхуне, попавшей в шторм, – привет Айвазовскому.
Что делать? По пути хотелось в старинные деревни Андричевскую и Пежму. А тут такое стихийное бедствие.
К чему веду рассказ? Дорога определяет настроение. Дорога определяет направление. Разговаривает с тобой, шепчется, нашептывает разные небылицы. И что бы там с тобой не стряслось – послушай ее, она приведет куда нужно. Мы держались на трассе, пока не свернули в один случайный поворот – переждать "разбушевавшуюся стихию".
Дорога усыпана гравием, ехать можно, Это не «Поворот не туда» и не «У холмов есть глаза». А вот ветер лютует на пару с дождем. Вдалеке показался чернел храм заброшенный. Ну что, подъедем?
2. Храм
К Храму оказался еще один поворот на дорогу, с большими ямами, залитыми водой. Машина не пройдет. Оставили машину. А тут и дождь прекратился.
Храм заброшенный, угрюмый, забытый лет на двести. Обошли. Небо раздвинулось, и даже закат развиднелся. Правда, "комарьем" начало щипать крепко.
Портал зарос бурьяном, завален досками и бревнами, человеку не пробраться, но есть ощущение, что в приоткрытые двери кто-то другой проходит, может бестелесный, так не для него храм строили, стало быть человеку через окно можно.
Влез в окно, слева на фото его видно. Спустился с окна на груду обломков. Перекрестился. В Храм нельзя попасть иначе, – можно через окно, похожее на арку, без рам и стекол.
В голове: сходишь в храм – поставишь свечу, легче станет.
Вошел – нет алтаря, престола, жертвенника, икон, фресок, вообще образов нет, и пола нет.
Но горнее место, бывшее за алтарем осталось, светло там, в полукруге между трех окон.
Евангелие, напрестольный крест, дарохранительница, – где-то в музее, как образцы рукоделия, хотя говорят они, что лишили их храма, и нового дома они не приобрели.
Икон и фресок нет. А стены намоленные, прикоснись ладонью – теплые.
Пола нет. Но я же там ходил.
Притвор в темноте, туда идти побоялся. Раньше кающиеся, временно отлученные от Причастия, там стояли.
Окна для людей и ангелов. Те и другие здесь бывают, но с разными, как я понимаю, целями. Свечу не поставил, но полегчало – молитва пришла.
В голове: помолись, храм разрушенный – все храм.
Молюсь, но веет холодком, наверное, это и называют «нет благодати».
Церковь обобрана, церковь обругана, церковь обижена, что ж ты хотел? Людям когда-то партия приказала «не верить», они и не верили, конечно, за редким исключением.
"Кому церковь не мать, тому и Бог не отец" – про таких людей сказывают. Ничего святого. Стоит посреди деревни обруганный храм и «ходют» люди мимо, на работу, на свадьбу, детей рожают, мимо с коляской гуляют, опять на работу, потом и на пенсию, да и покойника мимо несут, эх, весело, ничего не скажешь.
Раньше в праздники и в беду люди поприличнее одевались и шли сюда. Исповедовались, причащались, венчались, крестили детей, отпевали ушедших.
В голове: у тебя ж первое крещение было в избе, над тазиком, а как по-другому, если деревня без церкви и священника, а та, что с церковью, зимой не доехать.
Опять обошел вокруг, осторожно, крестов нет, а захоронения где-то остались.
За церковью было кладбище, теперь поляна, где пасутся буренки, а под стенами не пасутся, бурьян не весь скосили. Храму за три века уже, а возле храма ни одной могилы – все вычищено, кому-то кладбище помехой стало в его жизни.
Приведу комментарий одной читательницы под моим текстом про храм.
"На них захоранивали достойных, православных людей, чтобы молитвы и звон колоколов слышали даже усопшие. Те, кто был там похоронен, всегда присутствовали на каждой службе в церквях незримо, их поминали. А батюшки обходили прилежащее кладбище с определённой молитвой, обращаясь к Богу о прощении их грехов…"
Стало быть, память о тех людях не сохранилась.
От разрушения храма алтарь и место престола не перестают быть святыми – остается закладной камень, куда помещается частичка мощей святого, в чью честь строится храм. Храм строится так, что закладной камень оказывается в центре алтаря под престолом, на котором совершается евхаристия.
В голове стучит: Нет здесь закладного камня, – ни одного камня на месте престола не осталось. Пол весь содрали.
Храм, даже разрушенный, всегда остается храмом, святыней… Поэтому, входя под своды храма, в котором даже каркают вороны, нужно перекреститься. Потом храм можно обойти, постоять помолиться, – написал Священник Константин Пархоменко.
Храм удерживал меня. И я пытался найти малейшее доказательство оставшейся святости. Смотрю, закат в окнах, птицы под куполом щебечут, значит, прилетели к ангелу. По церковным поверьям, даже в разрушенном храме есть ангел, и молитвы где-то бродят по стенам.
Вот у древних греков была попытка все грехи передать богам, ну хотя бы в виде шалости. И Боги сполна оправдали доверие. Зевс "брюхатит" невинных девушек. Гермес думает кого обмануть. Артемида превращает людей в животных, не спрашивая разрешения.
А мы, русские богам ничего не передали, повторить ноу-хау греков не удалось, сложили потихоньку грехи свои в храмы (иначе чего туда не идут, чего их не восстанавливают).
Но грехи – существа беспокойные, неугомонные, все выглядывают из-за решеток в окошки.
Народ позаботился об утвари, вынес все, а решетки не смог или испугался, чтобы грехи не вылетели.
…Другими мы стали после храма. Другими стали холмы. Помните, у Констебла, "Вид на Хайгет с Хэмпстедских холмов", а здесь открывалась панорама, назовем ее "Вид на Холмогоры с Архангельских холмов".
Дождь, как прекратился, так начался с новой силой, когда снова были в пути. Все тот же небесный слесарь пощадил нас у храма, а теперь снова взялся за баловство свое с непогодой, открывал-закрывал кран…
…И в Зарученье мы юркнули ночью, как-то даже незаметно для себя.
А в гостях тепло. Деревня, стряпня хозяйки, ленивое потягивание перед простором, открывающимся за забором, лодка, палатка, ночь на Нименьгском озере, другая деревня Шутус, поляна, земляника, болото, морошка.
3. Альбом художника
В музее городка Няндома Архангельской области экскурсовод заводит нас в комнату с круглым столом посередине, – по стенам скромно, с минимальным количеством названий развешаны графические работы Юрия Шаблыкина из деревни Шожма.
Приметил некоторые пейзажи… Их пять передо мной, на стене.
1. Вот здесь речка убегает за поворот. Журчит по камням весело, празднично. И деревья танцуют, как на балу.
2. Здесь каждый куст – король на своем островке. Жизнь карликовых королевств и княжеств, как на ладони. Так что Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, вы проиграли конкуренцию.
3. А это остров-дворец. Бывают же такие, если не на рыбалку туда ехать, а наблюдать за жизнью пейзажа, и медленно-медленно, с паузами грести веслами.
4. Здесь дерево печалится, все ниже клонит ветки, и даже камни как-то хотят проявить сочувствие.
5. И не могу себя пересилить, но когда лодка, задерживаю взгляд, и отталкиваюсь.
Смотришь графику – будто читаешь тексты, Паустовского, Пришвина, Сладкова, Бианки. А он в это время наверняка создает этюд. И когда в октябре этого года ему исполнится 90, будьте уверены, юбилей встретит за созданием тонкого, чувственного, неповторимого этюда.
На круглом столе старенький альбом тетрадного формата. Листаю. Где-то в 60-е такие выпускали. Рисунки акварелью, пастелью, карандашами посвящены деревне Шожма, откуда художник родом. Загорелся поехать туда, и услышал: нет больше деревеньки Шожма. До последнего ездил он еще в дом свой, а деревня, в калошах и валенках уходила в прошлое.
Но вот какое дело, в альбоме я, как оказалось по бережку речки погулял, за столом посидел, по улице прошелся, и в снег провалился. Тогда и дошел до меня смысл названия выставки"…Услышать листика шуршанье…". Слова Бунина. Художник спрятал от всех невзгод, укрыл в альбоме свою деревню. Листаешь альбом, и будто наблюдаешь за процессом творчества замечательного самобытного художника. В альбоме видно, как бережно, кропотливо он это делал.
Есть история, происшедшая со знаменитым хирургом Пироговым…
– Спасибо тебе, дорогой, большое спасибо, – Пирогов готов был обнять соседушку-скульптора, но робел, взволнованно тряс ему руку, задирая бороду вверх: отчего его лысая голова казалась еще более приплюснутой.
До этого хирург присутствовал на сеансах работы скульптора над очередной статуей.
"За что он благодарит?", – никак не мог втемяшить себе в голову скульптор.
Оказалось, в этой гениальной приплюснутой голове роились идеи: которые перевернут отечественную хирургию, вот бы сегодня таких нам хирургов, сколько народу было бы спасено?
Наблюдая за тем, как скульптор гипсует холст, Пирогов придумал гипсовую повязку, которая стала незаменимым средством для лечения переломов.
Его альбом похож на дневник, такой же откровенный. Расскажет все, что на душе художника.
Припоминаю цели, с какими велись известные мне дневники.
Чтобы испытать себя. Дневник неутомимого экспериментатора Раймона Кено
Чтобы совершенствоваться. Дневник Льва Толстого
Чтобы разговаривать с самим собой. Дневник Федора Достоевского.
Чтобы разделить с кем-то свои переживания. Дневник Джорджа Оруэлла.
Чтобы выплеснуть все свои откровения и умереть в 25. Дневник Марии Башкирцевой.
Чтобы выжить. Блокадный дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой
К ним добавляется альбом деревенского художника Шаблыкина «Чтобы спасти деревню».
Так что жива деревенька Шожма, хоть и закрыли тюрьму, и расселили жителей, и не найдешь ее на карте. А если встретите ее в соцсетях, в видеоролике под названием "Заброшенное…", с количеством просмотров более 13 тысяч, то увидите, что люди эти ничего не знают об альбоме Юрия Шаблыкина, не знают, что жива деревенька, – поменяла только адрес, да переехала в альбом художника.
4. Изба
В Архангельской области тебе много расскажут былей и небылей о деревенской жизни. На обратном пути свернули мы с трассы в одну деревеньку, как выяснилось, за историей.
«Деревня Андричевская» – теперь так не скажешь. На бугре высоком улица, брошенные дома с заколоченными дверьми, – «может вернемся», думали люди.
Деревня не вымерла, есть домов шесть-семь с хозяевами. Дома – не просто избушки покосившиеся, а большие, добротные избы с более чем столетней историей. Поэтому, «старинная деревня Андричевская» станет фразой более точной.
Брошенные дома деревни реально крепкие, не эфемерные, из ядреной архангельской сосны, – как люди то ушли? Ведь было 30 дворов, в начале прошлого века.
Думаешь, наверное, что-то заставило, вот и покинули свои дома, а потом думаешь, может наоборот: дома покинули тех людей, избавились от нерадивых хозяев.
Как узнать правду? Я оставил машину на околице, пошел по деревне, – избы строили на века, думал ли хозяин, когда рубил сруб, что его праправнуки бросят такой дом?
Шел по улице – время переломилось пополам, как краюха хлеба на столе хозяина. Улица, по которой возили дрова, сено, ходили в гости, теперь дорожка со слабым следом колес от легковушки и травой, нетронутой, выросшей до колен, в ожидании гостей из города.
«Скрип телег все сильней, чем больше вокруг теней…», – писал поэт Бродский.
Один дом мне сразу бросился в глаза, как у Высоцкого: «Что за дом притих, Погружен во мрак…».
Дом мрачный, а окна высокие, с занавесками белыми на веревочках.
Зашел за угол дома, двери досками заколочены, и тишина, сразу чувствуется мертвая тишина, ни петушиного крика, ни блеянья козы у дороги, ни возни свиней, ни мычания бычка, что просится на волю, в стадо.
Другой дом, – девочка на качелях, как привидение из другого времени.
Вокруг девочки полянка, справа поленница, на ней ее сумочка, а дальше двери нараспах, таз на крыльце, и хозяйка белье развешивает, и молчит, не приветствует путника, лишь провожает взглядом, мол, иди, милок, своей дорогой.
Иду. Забор старый, посеревший, не крашенный, за ним дом, от него уже веет чем-то мертвым, отжившим. Отчего так? Занавески вроде похожи, дом целенький, трава перед домом скошена, а жизни нет. Вскоре понял причину. Окна изнутри паутиной затянуло. У какой хозяйки может быть такое? На двери не смотрю, – а что-то заставляет, и вижу заколочены двери и краска слезла, и замок заржавел. Но что-то не так, замок крохотный для такого дома, и висит мимо петель. Хозяин для вида вешать не будет.
Вошел в сенцы, – права не имел, но вошел. Пять ступенек по лестнице. Что увидел внутри, – печь русская, правда давно не беленная, лавки под окнами, – краска облупилась, тряпки разбросаны, видно, кто брал их, не знал зачем взял и бросал на пол. Потом влезли вандалы с хозяйственной жилкой, так скажем. Поснимали полы и, наверное, у них теперь есть основательный сарай и жизнь удалась.
Выхожу, стоит женщина, – мне стыдно, извините, говорю, – решил, здесь не живет никто, краем глаза хотел увидеть старинную избу изнутри. Она молчит, я молчу. Рядом вдруг вздрогнула трава, будто кошка прыгнула. Женщина говорит: «заяц».
– Как заяц? Сидел тут заяц? Кролик в смысле? А Вас не боится?
– Чего меня бояться?
Слово за слово. Женщина оказалась соседкой тех, кто жил в доме, куда я совершил свое вероломство.
– В дом лучше не заходить.
Оставалась старушка. Трое сыновей, один за одним уехали в город.
Старший спился. Мать навестить был не против, да сама Савельиха, так звали бабку, воспротивилась, мол, нечего дом перед людьими позорить. Нашли его однажды на улице, замерз на морозе, а может с сердцем что приключилось. Похоронили за деревней, рядом с отцом. Средний сын приезжать и не собирался, все мать обвинял, что старшего не уберегла. Чем занимался непонятно, жену с ребенком бросил. Мать внучка так и не увидела. Говорят, мотоциклом увлекался, на нем и в аварию попал. Похоронили за деревней, рядом с отцом. Старшим братом.
Больше всего жалела она Алешку. Младший все же. В деревне его все любили, приветливый, ласковый, а девки сохли, сколько слез пролито было. А ему все соседка нравилась, Оля. Но уехал к братьям, в город. Мать звала вернуться. Да и болезни стали одолевать. Ноги совсем никуда. Да, болела старуха, а сын все не приезжал.
«Плохо, когда одни сыновья», – говорили ей. «Да, хорошие были ребята в детстве, – отбивалась старушка, – вы разве не помните?»
Старуха и забор сама подбила, где штакетник отвалился, и двери в сарай починила, и до курей гусей прикупила, пасла перед домом, сидела на лавке и пасла. Прилечь в дом не уходила. Тут, на лужайке кинет себе старое покрывало и лежит рядом с гусями. Курам на смех.
Уже и гуси выросли, уже продала всех на мясо, Алешка не едет. Так не дождалась она его, померла. На одной лавке, под окном ее нашли, уже захолонула, а на другой лавке лежало ее похоронное одеяние, заранее приготовила.
А фотографию видел на стене, женщина стоит с тремя ребятами, еще малыми, Егором, Володькой и Алешкой, Алешка там еще на девочку похож, да он и был как девочка, приветливый, ласковый. Так вот она на фотографии в том самом белом сарафане с черной юбкой, в чем ее схоронили.
Положили ее рядом с Василием, мужем, по левую сторону, а по правую, рядом с двумя братьями, оставили место.
Люди ходили на кладбище и к дому ее, ну хотя бы траву выкосить, вдруг Алешка вернется?
Но дома-то столетние, чужаки стали наведываться, выносить по ночам весь скарб из избушек, вон, до полов добрались.
И вот, говорят, видели одного, приезжал пару раз, ночевал в избе, – люди подходили, звали, – он прятался. В заболь, Алешка, он тоскует, а перед людьми стыдно.
И снова Бродский приходит на ум.
«Вернись, душа, и перышко мне вынь! Пускай о славе радио споет нам. Скажи, душа, как выглядела жизнь, как выглядела с птичьего полета?»
А почему так решили, в доме подметено, прибрано, на лавке букет цветов полевых, узнал, стало быть, где мать мертвая лежала.
Обнаружили и главную улику.
В стене, на огороды проем большой, а даль там открывается… У-у-у-у-х! Нет слов. Так вот ночной гость сидел там, и место протертое штанами, и окурки затушил, и кое-чего из вещей в руки брал, там и оставил.
«Огонь, ты слышишь, начал угасать. А тени по углам – зашевелились», – звучат в голове стихи того же поэта.
– А мы с Алешкой с детства куда-нибудь залезем и сидим, мечтаем. Домечтались.
«Вместе они любили сидеть на склоне холма. Оттуда видны им были церковь, сады, тюрьма», – у Бродского, как выясняется есть и об этом.
– Домечтались! – сказала она, прищурившись куда0то вдаль и лицо ее стало намного моложе, или показалось мне.
Еще Прокопьич был жив, придумал записку Алешке написать, живи мол, куда ж такой дом бросать. Нам покажись, сходим за морошкой. Знаешь, как мать любила. Странное дело, нашли записку порванной в клочки мелкие, на том же месте. Видел там, на лавке? Братыню развалил, – у Савельихи самый вкусный квас был на всю деревню. И палку, что мать опиралась, изломал. Убирать не стали, может опомнится. Но Алешка больше не появился.
– А фотографии там в рамке нет, пустая рамка в углу стоит.
– Вот ее-то он тогда и забрал видно.
– Отчего ж он не пришел больше? Вспугнули?
«Северный край; укрой. И поглубже. В лесу. Как смолу под корой, спрячь под веком слезу». Снова нашел созвучные стихи Бродского.
– Кто за ягодами ездит, говорят, наверняка за морошкой он в августе пошел, да и остался в болотах, у нас, как на север идти, много болот".
– Нашли его вещи?"
– Да какой там? Но Алешку с детства баюнком звали. От слова "баять". Это сказочник, значит. Ему что скажешь – все на веру принимал, может про морошку, что мать любила он и втемяшил себе в голову. Еще потом узнали, не приезжал он к матери, потому что сидел, случайно, по мелкому делу. А чтоб она не узнала, пересылал письма кому-то, а те уже ей записки доставляли. Вот такое быванье".
– Да, история. Мать никого не дождалась".
Слышь ли, слышишь ли ты в роще детское пение… (И.Бродский)
– Говорят, дом их не принял, никого – в таких домах лучше не шастать, место не доброе, такое вот дело. Мы и священника приводили, освящали дом, да что толку. Лезут к него, будто медом смазанный".
Уходил я из деревни, женщина все стояла на том же месте. «Почему одна осталась?» – не спросил, зато спросил имя, Ольгой ее звали.
_______________________________________________________________________
Долго еще я думал о рассказе женщины. Много тут необъяснимого.
Но дорога отражает тебя и твои мысли. Вот один я остался, сын переехал в Питер. Вот встретился с ним на несколько дней и повез по Холмогорам, а там нас ждали храм и изба, брошенные, одинокие, унылые. Ждали, чтобы рассказать чего-то… Рассказали.
Уже в пути с лукошком земляники между сиденьями. Ночная дорога кажется мягче дневной. Вьется как змейка под дождем, и не везде ее разглядеть – глаза застили клубы пара на дороге.
А чего ж ты хотел? И случайно ли все произошло? Дожди, повороты, храмы.
Так-то оно так, но что-то главное дорога утаивает.
Случайно ли за 900 км едешь к людям, которых в глаза не видел, а они добрейшей души?
Может дорога расскажет, где побывал я на самом деле? Кого встретил? Кто водит нас по этим дорогам?
Ответишь, Бродский?
И Бродский отвечает:
«В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду».
Это я, папа!
Андрей Николаевич Комольцев вошел в лес. Давно собирался. Вот сподобился, наконец.
– Хорошо – то как! Грибами пахнет. Грибы где – то совсем рядом. Как хорошо, Господи! – старик вдохнул свежий насыщенный запах сырости, зашуршал нападавшими листьями.
– Ох, колюч! – это он решил поговорить с воздухом.
Тот, видимо, как – то ответил старику, и шаловливо обдал ветерком.
– Вот где хорошо! Здесь и приземлимся, – он разложил коробку от холодильника, влез в нее, как космонавт в люк космического «Союза», натянул до плеч шерстяной плед.
Только бы не видеть никого, особенно людей, бредущих с собаками. Подбежит псина, как начнет лаять, надрываться, хоть на дерево лезь. А хозяину – то сие интересно – стоит в сторонке, наблюдает.
Ну что тут можно наблюдать? А! Люди добрые? Все исхожено – истоптано вдоль и поперек.
Поспать в лесу – давно мечтал, когда еще работал – мечтал.
По молодости: в армии, в студотрядах, да студпоходах, где только не спали. А тут один – это другое дело.
Если ветер – то он под кустами спасен, ну а если дождь – пока коробка намокнет – можно будет перебраться в другое место. Главное, отдельно от всех. Никто не глазеет из прохожих, и не думает, что ты бомж. А перед глазами снова сын Вовка…
– Нет, лучше думать о грибах…, – попытался избавиться от ненужных мыслей Андрей Николаевич. Но, раз уж начал вспоминать – набрал разгон – не остановишься, даже не пытайся.
История с ним вышла такая.
Его лавку в Измайловском парке испортили – залили чем – то липким. Пивом, чем – же еще… А он на ней часто сиживал, угощал сигареткой других бомжей, чтобы отвалили, не мешали думки думать. Потом мог прилечь, на короткое время.
Паспорт и парочку фоток, что остались от прошлой жизни, он припрятал в надежном месте. Сюда шел охотно, здесь думалось ему легко и свободно. Лавка заменила кабинет.
А тут, во вторник, его потянуло в свой старый двор. Там, в квартире 25 подъезда 3 прожил он без малого сорок лет. Андрей Николаевич иногда захаживал во двор, в нем казалось ему теплее, а может и вправду было теплее – теплотрассы же проходят где – то. Посидел на детской площадке, пока детей не привели, да пошел к знакомой мусорке, куда сорок лет выносил мусор.
Его заинтересовала коробка от холодильника. Решительно старик начал спасательную операцию по извлечению коробки – ее уже успели изрядно завалить. Извлек, решил еще чего присмотреть, да тут рядом загудела машина – кто – то парковался, все выравнивал машину. Наконец, мотор затих… Из машины вышел водитель, и махнул рукой. Андрей Николаевич подумал, что жест адресован ему, и робко встал – руки по швам, как на месте преступления.
Но водитель старика пока не заметил – ходил вдоль своего внедорожника и подробно рассказывал по телефону о том, как он продал малолитражку и приобрел этого монстра.
Понятное дело, – подумал Андрей Николаевич, – парковаться теперь труднее.
– Дед ты там долго еще?
– Вот коробку заберу от пылесоса, и уйду.
– А! Лады.
В ближайшем подъезде № 3 отворилась дверь. В проеме стоял молодой мужчина с портфелем.
– Привет, Игорек!
– Здорово Вован! Вы когда прилетели?
– Да позавчера ночью.
– Загорел, не узнать. Как Эмираты?
– Да сойдет, – видно было, Вован уже устал отвечать на этот вопрос..
– А мы все не вырвемся, – продолжил разговор Игорек.
– Ну, Игорек, «джипяра» у тебя. Поздравляю. Обмоем?
– Не вопрос.
Закурили.
– О, мне пора. Ну вечерком звякнешь?
– А то!
– Ну заходи, дверь держу.
– Да брось. Мне надо мусор с машины выкинуть – вон бомжа жду.
– Какого бомжа?
– Да вон на мусорке возится.
Оба хорошо затянулись. Помолчали.
– Бомжей развелось, куда ни плюнь, – вдруг пробурчал Вован. – Сегодня выбросил коробку от Керхера! Уже мусорку разбомбили. Ладно, побегу – бабло рулит.
– Ну, давай – давай.
Игорек раздавил окурок, вернулся к машине, стал выгребать что – то в багажнике.
Старик деловито вынес извлеченные вещи, приноравливался, как ловчее все взять.
– Ну ладно, дед, отойди подальше, я тут выкину кое – чего, – Игорек двинулся к мусорке, и поднял голову: – Андрей Николаевич? Вы че тут?
– Да это…
– А мы же только с Вовкой Вашим стояли тут, разговаривали. Вовкой Вашим… Вы че тут?
– Да это…
– А Вовка что? Не узнал Вас, получается?
– Да ничего…
– Я думал, Вы еще в институте работаете.
– Да…
– Как Вы так? Нас же учили… с Вовкой… Куда Вы? Андрей Николаевич?
Старик быстро засеменил со двора к арке. Молодого человека он не узнал. А сына узнал по голосу, да отвернулся, чтоб не смущать.
Старик идет по улице, несет коробку от холодильника сына. Как он оказался на улице – вспоминать ни к чему, и никому об этом он не расскажет. У сына семья, маленький ребенок, а у старика никого – пусть живут.
Старик идет по улице, на душе хорошо, – в голове звуки музыка… – «Лунная соната»… – в солнечной комнате… лунная … в солнечной… – за роялем его Вовка… – учился сызмальства в музыкальной школе.
А после занятий, допоздна отец с сыном играют в приставку плейстейшн, а ночью ребенок долго не может уснуть, а отец тихо входит, поправляет одеяло. Маленький Комольцев вздрагивает, а большой Комольцев ему говорит:
– Это я – папа. Ты не узнал меня, сынок? – и также тихо уходит.
Я все равно бы от тебя ушла…
Распахнуто окно в деревянном доме. Дождь стучит по листьям берез. Дождь теплый, – когда на ладонях, а еще он навевает разные истории.
Ланцов только что стоял у окна, грел дождь в ладонях, а теперь у двери, зачем-то хотел на улицу. Протопал широким шагом, чуть дверь не выломал, еще бы, когда рост под два метра, и забыл, за чем собрался.
Будто что вспомнил?
"Да, вспомнил. Этот же вид из окна я увидел на картине Александра Герасимова "Полдень. Теплый дождь", 1939-го года. Совпадение точь-в-точь. Интересно, Герасимова тоже выперли откуда-нибудь?» – он задается вопросом, имея в виду свое недавнее увольнение с работы.
"Ланцов, тебе дочь правильно сказала, у тебя комплекс жертвы. Живи с ним сам. С меня хватит," – жена прочитала приговор, и он ушел из собственной квартиры. Все навалилось разом.
Ланцов уперся рукой в косяк двери, а там за окном дождь стеной. Вернулся к окну, назад, будто позвали, а он вернулся осторожно, чтобы непогоду не вспугнуть. Пол скрипит, а ведь сколочен из массивных широких досок. Еще в позапрошлом веке.
Он посмотрел в угол комнаты, где теперь освоилась старая швейная машинка мамы. Сломана, да и шить кто будет? Ланцов? А выбросить жалко, память.
"Увози на дачу, я все равно ее выброшу", – жена поставила ультиматум, он выбрал первое.
Друзья, знакомые давно при встрече с ним приняли ироничный вид.
«У тебя мужик чужой в квартире (с намеком на жену), гони их всех».
Жена, пусть бывшая, и дочь, настоящая, взрослая, – Ланцов не понимал, как свою семью можно выставить на улицу ли отправить к этому мужчине. Поживу на даче".
Смешно сказать, остался без денег после выплаты ипотеки, жена бросила, с работы уволили. Друзья канули в лету. А тут еще и спину не разогнуть. Ну все разом, как же иначе.
– И всё-таки… как они мне: «Не нужен! В утиль!». И ни один человек не позвонил.
"Ты – тряпка, Ланцов. А с тряпками никто связываться не хочет, " – голос жены слышится даже здесь.
У нас в стране профессия – это наказание, – ты от нее зависишь, ты за нее держишься, ты совершенствуешь мастерство, ты на все согласен, – этим пользуются другие и делают с тобой что хотят, – так он хотел ей ответить. Но она вряд ли бы с ним согласилась. Кандидат наук, – ну и что? Не закончил научные исследования, – ну какая разница?
Стало быть, до своего увольнения нес Ланцов наказание, был в плену у профессии. Начальство сжалилось, отпустило на волю, а он, чудак, хотел еще побатрачить.
Там, на должностях и сокурсники его и бывшие студенты, ну и конечно те, кого прислали из министерства. Они его начальство.
"От должности в свое врем отказался," – корит жена.
– Невежды, труд не умеют ценить, – не унимается Ланцов. – Им важно, где ты пристроился, а не что ты сделал».
"Вон бог, а вот порог! Уходи, я больше не могу," – это последнее, что он услышал от жены.
Теперь житель деревни Горка Пустошкинского района Псковской области.
Каждый человек в равной мере достоин как того, что у него есть, так и того, чего нет, – размышляет этот новоявленный житель, – Посоветоваться бы с Сократом, да книги все у них остались.
"У тебя ничего нет, Ланцов. Тебе сделали "зэпэ" в пол-оклада, надо идти к начальству, а не изучать геном сибирских летучих мышей. Что?! Дочери – машина, мне – квартира? Дурак ты Ланцов, нашел чем гордиться за двадцать лет. Ну ладно, не парься, я все равно бы от тебя ушла".
Уже полдень, – определяет Ланцов по звуку напольных часов, – а я так ничего и не успел, а этот дождь как зарядил с утра, так и сыпет, не переставая…
Бьют старые напольные часы с тремя гирями и маятником. Звонко, будто им только сейчас разрешили. А у них это каждодневно, но Ланцов не привыкнет никак. Да и к шкафам, столу и стульям не привыкнет, – неудобные какие-то, к запаху деревянного дома не привыкнет, – все принюхивается, да и к соседям, – все норовит им не попадаться на глаза. А часы бьют себе каждый день, и каждый день для него неожиданно.
На конкурс сказали не подавать, – мол, ректор зуб имеет. А чего он зуб стал иметь, если Ланцов его не видел уже два года, это ему было не понятно. Молодых брать надо, они пойдут в аспирантуру, докторантуру, – а тебе до пенсии еще шесть лет? – спросили. Потом успокоили: сторожем всегда возьмут. В 65 на пенсию. А почему не в 70? Это в Казахстане и Армении пенсионный возраст сохранили, хотя они вроде не так богаты, как мы. Видимо, они не такие выносливые.
Недавно дубовый корпус напольных часов он покрыл лаком, заодно и крышку швейной машинки, они теперь породнились.
– Давайте, повеселее там, – такое сделал пожелание старым вещам Ланцов, и они, судя по всему, его приняли.
Когда-нибудь две створки двери распахнутся и войдет мама с яблочным пирогом на подносе. Поднос деревянный, потрескался, но маме нравится. Шарлотка, ее любимая, вот на этой скатерти, где не все пятна ототрешь, сколько ни крути в машинке. Молодой Ланцов осторожно отодвинет свой зоологический альбом и опустит хрупкий лист, защищающий иллюстрацию. С подгоревшей корочкой, – значит, мама старалась успеть к ужину. Вкусный, – ну, а какой еще может быть от мамы?
Так вот в чем дело. С ним всегда было то, что ему близко, только руку протяни.
Нет Сократа, так есть книжка стихов Пушкина:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
И Ланцов глубоко вздохнул, наверное, впервые после всех своих дрязг. Потом вздохнул еще. Улыбнулся, наконец.
Из окна повеяло свежестью и ароматами дождя, коры дерев, травы, штакетника, дров, – не надышаться. А жимолость как пахла перед дождем, а как закрылись цветки фиалки, и он не понял что будет дождь, вот действительно, дурак.
– У – у-у-у-у-у-у-у-у – у! Вспомнил! Книги брошены на старой лавке. Бегу-бегу.
Подставил ведро под слив воды, влез в грязь и оставил там один тапок, замочил травой штанины до колен. Но книжки спас. Нырнул в махровое полотенце, обтерся до полного "сугрева", – вот это жизнь. Вспомнил свои семнадцать, сколько раз бегал под дождем. И снова набрал полные легкие воздуха. Елки-палки, он, оказывается неправильно дышал, и неправильно жил.
За окном раздались звуки гармошки и песнопения. Вот тебе на!
Высунулся из окна, – вода стеной, ничего не разглядеть в округе. Какая гармонь под проливным дождем?
– У – ли-ца!* У-ли-ца! – кричит Ланцов туда, откуда пришли звуки гуляний. Это слово он слышал давно, когда еще учился ездить на велике, его смысл был в том, что надо идти на прогулку, и вот оно пришло, вернулось, стоило только распахнуть в дождь окно.
– У-ли-ца! У-у-у-у-у-у-у-у – у! – снова кричит Ланцов.
*Улица – раньше в Псковской области этим термином назывались гуляния молодежи по деревне, с песнями, под гармошку.
Крики в лесу
Бывает стоит зима, а скучаешь по лету, да осени… Бывают встречи, случайные, мимолетные, а помнишь всю жизнь…
Где-то вдалеке слышатся крики. Нет-нет, не истошные, пронзительные, а предостерегающие и радостные.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/andrey-tolkachev/utrom-vypal-sneg-69601558/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Андрей Николаевич Толкачев
Писатель. ВдохновениеПутешествия с романтикой #5
В этом сборнике собрано 39 историй о родителях и детях: о том, что может случиться в жизни и как выходить из запутанных, порой «дурацких», а порой тупиковых ситуаций и положений. Герои книги – люди самых разных стран, возрастов, профессий и сословий, на своем примере показывают, как можно быть несчастными и где найти счастье.
Автор ставит под сомнение многие способы воспитания, показывая, как на людей влияют разные события, происходящие в их жизни. Читаешь и понимаешь, что легче простить, чем идти напролом, что судьба бывает как милосердна, так и крайне жестока. Книга полезна в равной степени и родителям, и детям.
Андрей Толкачев
Утром пошел снег
Раздел первый
Рассказы о жизни родителей и детей
Огурцы
Часть первая. Встречать…
Нарезали огурцы, помидоры, поставили жареную картошку, прямо в сковородке, добавили перья зеленого лука. Сели – поели. Вышли – присели. На крыльце, потом в доме. Посмотрели в окно, отец и сын, молча, синхронно.
Сын приехал, – эт, значит, подъем до зари, и три километра по росе, на рыбалку.
Закурили. Сын – свои сигареты, отец – свои.
Вот он глубоко затянулся, выдохнул дым, отвел голову в сторону, будто искал подтверждения чего-то, и, наконец, сказал:
– Я все не пойму, как ты мог?
– А?! – отца будто с места сдернуло.
Знал вопрос, долго ждал.
– Как ты мог? – затушил окурок. – Как мог ее потерять?
– Сынок. Не надо так…
– Столько лет вместе… И так сразу все обрушить.
– Сынок…
– Не позвонить, не сообщить? Ты ничего не делал. Сидишь спокойно, – грызешь огурец.
Бросил огурец на стол. Помолчали.
– Вот так! – сын отшвырнул кружку, шагнул к дверям, на крыльцо, в калитку, к лесу.
Пошел широким шагом, не разбирая дороги.
Вернулся.
– Говоришь про урожай огурцов. Какой урожай, когда ты потерял жену?
– Сын, остановись. Прошу тебя.
– Сидишь тут. Молчишь. А что ты сделал, чтобы спасти ее?
– …
– Молчать только умеешь.
– ….
– Вот знаешь, хотел тебе высказать – не знал, как… Помню, мать говорила, что ты тюфяк…, а я обижался на нее. Думал, как же, отец же.
– Да, как-то так. Ну, она шутя.
– Как тебя отцом называть? Это не вопрос. Не отвечай.
– Да-да, конечно.
– Я не приеду.
– Работа…, конечно.
– Нет, ты не понял. Я никогда не приеду. Меня не ищи.
Садилась ночь.
Она убаюкала и дом, и сад, и калитку, что закрылась за сыном, и тропинку за домом, – ту, что по росе три километра до реки. Все притихло. Все заснуло.
Он не спал. Растерял где-то ответы, все ответы с того самого дня.
А что ответишь?
– Не звони о болезни, – ее голос.
– Хорошо, конечно, только не волнуйся, – мой голос.
– Не говори о больницах, химии и этом дерьме, мне так спокойнее, – ее голос.
– Ну, само собой, ничего не скажу.
Переживала, чтобы сын не увидел ее дома такой, хотя на последней стадии уже выписали, чтобы дома…
Он не спал, – пошел готовиться к рыбалке. Все подготовить на двоих, так спокойнее.
Достал сапоги, снял с них паутину, плащ достал, – сыновний попался, положил на лавку, полез за своим, с черными полосками от велосипедных скатов. Проверил удочки, – на одной крючок заржавел, надо сменить, – банка справа, на верхней полке. Пошел собаку приструнить, чтобы лаем не заливалась, хотя, нет, лучше отвязать, позвать с собой, на тропу, ту, что по росе три километра до реки.
Скоро утро.
Сын в детстве как-то спросил:
– Пап, как мне нарисовать восход солнца, когда я сплю?
– Тебя удручает отсутствие пейзажа днем? – спрашиваю своего юного художника. – Утром такое освещение. Значит, надо вставать, как на рыбалку. «Познай, где свет, – поймешь, где тьма». Вечером никаких фильмов, книжка и на «боковую». Ну в крайнем случае можно посидеть за телескопом, пока не увидишь звезд, и со спокойной совестью уходишь спать. Нет – нет! Ты не отворачивайся.
– Пап, я не это хотел спросить. Я никогда не научусь рисовать. У меня нет таланта, – зачем ты меня обманываешь.
– А знаешь, проведи эксперимент – убеди себя, что ты художник и сейчас напишешь картину, маслом, как когда – то, в XIX веке, Федотов, он нигде этому не учился. Ты накинул на плечо ремень этюдника и, ощущая его приятную тяжесть, что растекается теплом по спине, идешь на пленэр… Даже не идешь. Ноги сами несут – они знают куда. Ты ловишь новый облик деревьев, переливы играющего солнца, шорох теней – делаешь набросок – стираешь лишние линии. «Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен».
В парке или на опушке леса ты ищешь вдохновляющий образ, их множество вокруг, и в этот момент у тебя сотня глаз. Ну! Передавай привет мифическому Аргусу.
– Пап, ты все шутишь, а я серьезно.
…И вдруг зашелестело, закапало. Пошел дождь…
Бывают в жизни случаи, о которых уже написано на какой-нибудь картине. Прямо на берегу меня застал грибной дождь, который я до этого видел в работе Дмитрия Левина «Грибной дождь».
Ударил гром и хлынуло еще сильнее… Идти под дерево – не пошел. Решил идти домой, причем обходил лужи. Промок до нитки. И вот какое дело, капли огромные, каждая формой как боровичок.
«Чав-чав» — туфли посылают сигнал бедствия, набухли от воды, – старые, могли бы привыкнуть.
Говорят, в Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу. У нас не так. Может поэтому на работе во время дождя все ворчат и ропщут друг на друга.
Часть вторая. Искать…
В какой – то момент я пойму, скорее интуитивно, что сын вернулся на нашу тропинку, а может и не уходил, так погорячился тогда, когда хлопнул калиткой со двора, и всего лишь. Я каждый день слышу его слова о том, что я больше не отец, не уберег мать и все такое. Но вы наверняка догадаетесь, что я загадал. По этой же дорожке он вернется. Он прибудет из города «N», из страны «X», или из космоса (неважно, откуда и как), откроет калитку, беззвучно войдет и прислонится лбом к окну, как Кельвин в «Солярисе».
Потрясающий эпизод из фильма. Пересматривал, – в голову не приходило, что вскорости начну реагировать на каждый шорох за окном.
Остаешься один – трезвеешь: все было не так. Сколько с женой конструировали наше будущее, сколько переживаний, надежд – все до одного дня, когда равнодушным голосом врач назвала диагноз, так, приговор прочла между делом и все. Все сразу стало выпукло, как под увеличительным стеклом. Время будто остановилось и выдавливало ее из жизни, сколько мы не упирались. А когда ее не стало – сын не простил.
Вчера была семья, а теперь бобыль, и небо мрачное, и сон не приходит, и водка не лезет.
На неделе в саду заменил подгнивший столб – городьба завалилась, будто никто уже в доме не живет, в огороде похозяйничали соседские козы, – сосед отрицает, лесной хорь через подкоп пробрался в курятник – передушил кур, поймать хоря – тоже не признается, на токарном станке перегорел двигатель, – да и черт с ним, с лесного причала кто-то умыкнул лодку, – только не утоните. До смеха доходит, ей-богу. В народе говорят, одно к одному. Берешься за работу, да все валится из рук. Не тем занимаешься, обманываешь сам себя.
Сегодня проснулся как обычно, в 5 часов, охладился водой, дождался зари, дождался петушиных криков, дождался брызг первых лучей солнца на краю стола и на комоде с фотографией жены и сына, и тут меня прошибло до пота. Как я больше не увижу своего сына? Глянул в окно – белый иней покрыл землю. Скоро зима, ночью морозно. Я увидел обстановку нашего дома, вещи, – все в пыли. Дом превратился в чердак, на который годами не ступала нога человека. Может это прозрение: покроется пылью рассыплется прахом наш семейный очаг, если не верну сына. И она бы послала за ним, я знаю. Пора ехать.
Стою в тамбуре вагона. Сказал, что не простит за мать, с тем и ушел. А как мне с этим жить, – не сказал. Телефон его не отвечает. Телевизор он не смотрит, в программу «Жди меня» не обратишься. Но я должен его найти.
О том, что с нами случилось я читал много научных текстов. Английский психиатр Джон Боулби когда-то доказал теорию привязанности. По анализу Боулби, лишившись мамы, ребенок проходит три фазы реакций на разлуку: протест, отчаяние и отчуждение, и в каждой фазе ребенку свойственны тревожность, раздражение, психосоматические проявления и девиантное поведение.
Наверное, взрослый сын испытал такую же печаль, когда умерла его мать.
…В Питере я его не застал. Соседи по съемной квартире сказали, что мне искать его не надо, вроде он так просил. Но они переглянулись, значит, не все еще потеряно.
Дальнейший маршрут по Садовой, Гороховой, Адмиралтейской. Никуда, и ни к кому. Важен процесс.
Оказавшись на Мойке, перешел на Дворцовую площадь с ряжеными, зеваками и измученными лошадьми в каретах, – из реального Питер стал городом выставочных фотографий, почтовых открыток и магнитиков.
Под вечер той же субботы я еще раз набрал номер несговорчивых соседей – меня снова отшили. Зачем-то вернулся в отель «Фонтанка», с длинным полутемным коридором, устойчивым запахом старого лака и ковровых дорожек, где работающих лампочек раз-два и обчелся.
Когда-то, до своего отшельничества в деревне, я был городским жителем, преподавал в институте, ездил как сейчас, на трамвае, и теперь город мне подсказывал, что новости исчерпаны не все, и действительно, поздним вечером звонок девушки. Калеичи – старая часть Анталии, – место его нынешнего пребывания.
Везение с билетами турецкого авиаперевозчика Pegasus и из аэропорта мчусь на такси, но точного адреса отеля нет.
Вечер. Где остановиться? Аspen. Когда-то с женой и маленьким сыном – это было первое место наших путешествий. Нам хотелось большой отель, хороший вид в окно, завтрак на террасе и поближе к морю. Поднимаюсь по ступеням, будто все было вчера, а не 20 лет назад. Называю администратору имя сына – нет, такой не проживает. Ну хорошо, я сниму номер на сутки.
Смотрю в окно, на дождь, накатывает волнение, скорее, в одном из соседних отелей он тоже стоит и смотрит на дождь.
Прошел час-другой. Дождь зарядил на всю ночь. Видимо, я привез его из Питера. Под утро дождь исчез. Улицы разом высохли.
Через небольшой парк спешу на пристань, к лодкам, маяку.
А вдруг мы встретимся? Прямо сразу. Помню, он маленький в этом парке не мог оторваться от охоты кошки на летучую мышь, на одном из старых деревьев.
Маяк, рыбацкие лодки и безмятежность.
Обратно вышел к уличным ресторанам. Сын любит посидеть с компьютером пока не печет солнце.
– Да, стакан фреша, да, апельсин, да, тешеккюр эдерим.
Полез за лирами. Из портмоне выглянула фотография. Здесь он совсем стеснительный, юный, а более поздних у меня нет. Вот еще одна, на лыжах, в подмосковном Доме отдыха «Березовая роща». Ему 6–7. Мы оба счастливы, и оба знаем кто нас фотографирует. Далеко – далеко та зимушка – зима, все уходит от нас. Жаль, не повторится.
Когда он был в младшем классе, раздали анкеты, сказали, что родителям не скажут. В графе «Что Вам нравится в папе?» Сын написал: «Чувство юмора».
Как после этого сказать, ты мне не отец?
Так не пойдет. Мы остались одни, я и он. Должны держаться вместе.
Еще пара отелей – среди постояльцев его имя не значится. Отелей и апартаментов много. Нужен другой алгоритм. Тем более друзья ему сообщили обо мне.
Чистильщик обуви, мимо которого я вчера шествовал с чемоданом, сегодня предлагает: «Давай почищу тебе чемодан». Шутник, он о чем-то догадался, но на фото не реагирует.
Я сделал круг к морю, и начал путь с набережной, от углового кафе прямо наверх, не поворачивая налево, здесь меньше магазинов и больше кафешек. Стоп! Ну конечно, он свернул налево за Famous Steak Hause Gastro Bar. И прошёл к White garden. Дизайнер не мог не обратить на него внимание и не подойти, и не зайти. Бутик-отель выделяется среди других, аккуратный, компактный, ухоженный, – кусочек Прованса в Турции.
Держит его один пожилой турок. И здесь удача. Он узнал сына на фото, повел наверх по узкой деревянной черной лестнице. Здесь сын снял номер, но утром съехал. Номер оказался миниатюрным, с железной широкой кроватью, как раньше у бабушек в деревнях, и крохотным низким окошком во двор. Удивляешься, как дверь не упирается в спинку кровати, и как спинка кровати не закрывает все окошко, а только половинку по вертикали.
Наверняка ему запомнился коридор. Коридор отеля White garden.
– Вон там он сидел?
– Да. Откуда Вам известно?
– Он заказывал такси?
– Этого я не знаю.
– Он был один?
– Да, один жил здесь, но сегодня срочно уехал.
Владелец отеля спокойно извлекает конверт и исчезает на лестнице.
«Отец, я знаю, ты приехал за мной. Но встречи не будет. Встречаться – это вспоминать маму. Для меня это больно и невыносимо.
На самом деле мы сегодня встретились, я тебя видел, ты постарел, ссутулился. Можешь лететь в Россию. Есть один фильм, где сын спрашивает отца: «В начале было слово. Почему, папа?»
– Но в чем я виноват? В чем я виноват?! В чем виноват!!!
Стоишь, кричишь и плачешь. В номере, где был мой сын, в городе, где есть мой сын, в беспокойных ночах, где всегда будет мой сын.
…Мы возвращаемся с рыбалки. «Ну что, мои огурцы, наловили? – спрашивает жена.
Я пошел на причал. Походкой собаки, которой наплевать на дождь, которая бредет себе под дождем по причалу. Так легче пережить печаль, проще чувствовать свое одиночество. Оттуда я посмотрел наверх, он стоял там. Стало быть, встретились.
Часть третья. Вспомнить…
«Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно кружится желтый лист,
И день прозрачно свеж,
И воздух дивно чист…».
Помнишь, я читал тебе Блока, а ты бегал вокруг деревьев?
А осень была за дверью. За скрипящей дверью, которую сколько ни смазывай, она все равно скрипит. Она, осень, за дверью. Пришла, подкралась, причем, презирая лужи, которые не знают, куда им деваться в холода. И ты уже не угадал с одеждой. Прибежал домой, замерз, скорее чаю, скорее отмотать время к лету.
Летом гнал велосипед по лесной дороге, всматривался в каждое дерево, каждый лесной просвет, – запомнить на период холодов, до следующего лета. И возмутиться на себя.
А еще у нас с тобой была Ведьмина деревня, Дуб – шептун, Тайное дупло гномов, и яма, заросшая травой, над которой мы гадали, откуда она взялась.
Сколько пройдено в том дремучем лесу, какая же там была прохлада, а еще сенокос, грибы, костры и… лесные вечера до темноты, до черноты, когда все, уставшие от покосов, любят о чем – то поговорить. Помню, ты все допытывался, как звезды держатся на небе и о чем стрекочут сверчки.
В те звездные ночи мы с замиранием сердца смотрели на небо, мечтали. Наше теплое небо мы сравнивали с морем, которое где – то без нас шумит прибоем, – как далеки те берега!
Почему летом не вспоминается весна? Просто в голову не приходит весна, островки снега под солнцем неугомонной весны. Помнишь, сынок, как они торчали…, а чтоб добраться, воды в сапоги надо было набрать.
И вы, стайкой детей, прибегали домой, звенели крикливыми голосами – вытаскивали из сапог ноги, а потом переворачивали сапоги, а оттуда вода струей. Топали по полу, оставляя мокрый след. И получали запрет на следующую встречу с весной, пока не просохнут штаны и сапоги.
«Пи – пли – пли! Пи – пли – пли!» – капель решительно отстукивала срок течения весенних талых вод. Ты услышал тогда эти звуки и бегал, наговаривая себе под нос: «Пи – пли – пли! Пи – пли – пли!» Но тебя уже не выпускали.
Зима. Зимой мы не ждали весну, и тогда она незаметно подкрадывалась.
Зиму помню в подмосковном пансионате. Мы вернулись с лесной лыжни. Наши лица еще горят после мороза, но я уже рвусь туда, где стоит старый журнальный столик, – сейчас мы встретимся, – я, несущий идею фикс и столик, покрытый обшарпанными шахматными клетками. Тебе в светлой комнате библиотеки предстоит шахматное сражение с кем – то из толпящихся ребятишек.
Я волнуюсь за тебя, – играешь черными «сицилианку». Девочка, что сидит напротив, постарше тебя, потому твои уши краснеют, потому достаю пачку сигарет, в библиотеке это неуместно, оглядываюсь куда пойти подымить. Прячу сигареты. Как же ты волнуешься…, хотя уже увидел комбинацию и идешь к ней семимильными шагами.
Партию ты выиграл – девочка занервничала и ушла.
А ты не радовался, просто смотрел ей вслед.
Ты вернулся в осень. Бродишь, бродишь, бродишь по лесным дорожкам, уже не таинственным, а прозрачным после ушедшей листвы…Лес так медленно замирает, воздух наполняется сыроватым грибным запахом. По оставшимся листьям стучит беспокойный дождь. Чувство, что душа сыплет листьями. Не верю, что все ушло. Не верю, что ты не вспомнишь то лето. Не верю. Не верю».
Закончил писать, поднял листок, тут же положил, так, будто он прилип к пальцам. Потом схватил его и смял. Взял новый и написал: «Почему так?
Приглашение на рыбалку
Истории, которые с людьми еще не случились. Да возможно ли это увидеть заранее? Можно ли фотографировать будущее? День, который случится завтра, или в среду, или осенью? Как фотографировать время, которое еще не пришло, но которое наступает пока я пишу эти слова?
Познакомился с творчеством Александра Кульгина, и открыл для себя замечательного фотографа, который снимает не то, что видит в объективе, а то, что произойдет через несколько мгновений. У меня нет никаких доказательств. Просто чувствую так его снимки, и делюсь мыслями.
Эта история произошла совсем недавно, в 21-м году.
Больничный коридор. Идем с каким – то санитаром. Все палаты открыты. Глаза не спрятать. Боковым зрением вижу: на пути, по стенам торчат спиралевидные фигуры – это люди – спирали, от болезней люди превращаются в спирали.
– Нас потеснили. Ковидников много навезли.
Веет нечистотами.
– Сюда.
Вошли. Встали.
– Здрасьте.
– Здрасьте.
Его кровать. Налево в углу. Пустая. И чужая.
Не верится, – вчера здесь лежал отец. Еще вчера. Еще теплая после него кровать.
– Ночью санитары вынесли…, в морг, – голос, будто запись включили, могут включить вторично, если что – то непонятно. Если что – то непонятно…
Очки на тумбочке.
– Сняли, чтобы не разбились, когда выносили.
«Он объясняет почему с умершего человека сняли очки. Бред какой – то. Отец в них часто засыпал. В последний раз упал с велосипеда, а очки на носу так и остались, не разбились, и вот лежат, может ждут хозяина, когда он вернется».
– Звините (кто – то выговорил слово без «и»). Вы слышите?
– Веселый был.
– Что?
– Веселый был, – повторяю свою фразу.
И жду. Санитар оглядывается. А я с кроватью продолжаю беседу.
– Смешно как – то носил.
– Что?
– Очки смешно носил.
Очки на тумбочке начали меня приветствовать, будто они дальше читали книгу на которой лежали. Почему – то мифы Древней Греции он всегда брал с собой, взял и в последний раз.
Беру очки в руки. Левая душка сохранила свой изгиб, а правая убежала куда – то.
– Тут вещи на тумбочке, заберите. – И в сторону: —Лена! – И ко мне: —Мне пора идти. Вы тут сами.
Ушел санитар.
– Ну, давай обниму, сын, – его голос с того вечера, когда забирали на «скорой», вывозили с подъезда на коляске для сидячих больных. – Не обижайся на меня.
Сидел худой. Одуревший. Растерянный.
– Ну что ты, с кем не бывает. Так прощаешься, будто навсегда, – мои неуверенные слова, а точнее, мое вранье. Против диагноза не попрешь.
А сам думаю, а почему не соврать. Ведь батя, когда у меня открылся собственный антикварный магазин, сказал: «я в тебя верил» и это было таким бесстыжим враньем, после ругани и ремня в детстве. Ведь за десять лет до этого на одном из семейных сборищ отец опрокинул стопку и в сердцах сказал дядьке, тетке и друзьям, что сидели за столом, мол, у вас дети как дети, а у меня беда: сын – дебил, вместо уроков, или там спорта, по мусоркам лазит, по свалкам, собирает старье – сарай весь захламил. В башке ни одной извилины. Хоть бы до восьмого класса дотянуть и в ПТУ. Это за праздничным столом. На своем дне рождения.
…Молча бросаю полотенце, блокнот, книжку, ручку в свой рюкзак, сгребаю мелочь, почему – то рассыпанную на тумбочке.
Первый раз обращаю внимание на тех, кто в палате. На кровати у окна. У тумбочки – напротив. На кровати – рядом. Все прячут глаза, как от чего – то постыдного.
Все сгребаю – ничего не оставлять из того, к чему он прикасался – ведь это касается только нас: меня и его.
…Выскочил на улицу, через задний вход – помнил дверь, – глубоко вдохнул воздух, выдохнул.
О чем он думал? О чем он думал в последний момент? – полистал его блокнот, иначе, зачем он забирал его с собой всякий раз, в больницу. Листки замелькали, как вагоны электрички: трудно сосредоточиться и прочесть что-нибуль.
– А вот, нашел, – записи на несколько страниц, будто писал в темноте и не видел в этот момент свою запись.
– Читай.
– Не могу.
– Не переживай, что там?
– Говорит: простите, если чем обидел…
– И все?
– А вот еще… Так…
«…Как-то ты спросил меня, сын, почему я не беру тебя на рыбалку. Ты знаешь, у меня от радости микстуры, что принес с аптеки так и посыпались. Я долго ждал, когда ты скажешь про рыбалку и вдруг… А за окошком зима, а у тебя ангина и температура под сорок. Только поправишься – сразу идем тобой на рыбалку!
Я сейчас почему вспомнил, я знаю, отсюда уже не выйду, – вынесут. На рыбалку ты пойдешь без меня, и обязательно скажешь: "У меня такой карп сорвался, и крючок проглотил". Помни! Я тебе в этот момент подмигну.
Когда-нибудь ты узнаешь, что отсутствие горизонта – это не плохо, это значит, небо начинается на Земле, а может, земля заканчивается на небе, что тоже не плохо.
До встречи, мой сын».
Куда приводят Холмогоры (Заметки в дороге)
1. Дорога
– Сдавай билеты на поезд, – сказал я сыну. – Поедем на машине.
900 километров по Холмогорам до деревни Зарученье. Вверх-вниз, вверх-вниз, особенно на границе Вологодской по Архангельской.
С чего передумал, когда "против" больше, чем "за"?
Да, зрение упало, – сначала напомнил, – руль крутить одному, – еще напомнил, – куда такая для глаз нагрузка? – сначала сомневался. А потом махнул рукой, Северную Россию повидать, да еще со взрослым сыном, – решено.
Дорога-то как манила, – вот еще что.
Пытливый читатель уже обвел кружком цифру "900". А Холмогоры-то "подлиньше" будут, аж за тысячу километров. Верно. Только с Холмогор свернуть нам надо пораньше, до Архангельска, на Няндому. По приглашению наших замечательных няндомских сватов. Деревенька под городком Няндома с праздничным названием Зарученье. Две-три эсэмэски, и мы едем знакомиться, кстати, в таких случаях путь становится покороче.
Ты знаешь, – говорю себе, – всякий раз когда услышишь слово "Холмогоры", не забудь: кроме названия дороги, еще деревня так называется, в низовье Северной Двины, с допетровских времен. Зазорно будет не наведаться туда.
Но сначала надо пройти трассу М8, от Москвы, не доезжая Архангельска. Города там знатные: Переславль-Залесский, Сергиев-Посад, Ростов Великий, Ярославль, Кострома. Не хочешь – объедешь. Где-то след Ломоносова и рыбного обоза, с которым он шел.
И поехали мы, вернее думали, что поехали, – по Холмогорам не едут, так, спускаются-поднимаются. На холм – с холма. По полосе "шелковисто-гладкого асфальта", если воспользоваться набоковским описанием какой-то "american road". Движение мягкое, как по коврику с короткими ворсинками.
Водители грузовиков здесь учтивые. Мигают тебе правым "поворотником" – обгоняй, не стесняйся. Левым – не дергайся, по "встречке" что-то идет.
А в долинах стелются туманы, а поля красуются зарослями Иван-чая узколистного, а от сосновых лесов веет свежестью и запахом коры.
Кто думал, что я готовлю статью для Википедии, – не оправдаю ожидания. Я о том, что с тобой происходит на Холмогорах, и только.
И грянул дождь, да что там дождь, ливень зарядил на всю дорогу.
Радуюсь ему, но ехать, когда он хлещет по лобовому стеклу, никому не пожелаю. Перед бампером небесный художник будто стер все контуры умелой рукой. Исчезнувшая дорога и клубы пара. Эх, дорога. Едешь будто не по ней, а над ней. Приборы показывают "скольжение". И в какой-то момент я не в "легковушке", – так, в шхуне, попавшей в шторм, – привет Айвазовскому.
Что делать? По пути хотелось в старинные деревни Андричевскую и Пежму. А тут такое стихийное бедствие.
К чему веду рассказ? Дорога определяет настроение. Дорога определяет направление. Разговаривает с тобой, шепчется, нашептывает разные небылицы. И что бы там с тобой не стряслось – послушай ее, она приведет куда нужно. Мы держались на трассе, пока не свернули в один случайный поворот – переждать "разбушевавшуюся стихию".
Дорога усыпана гравием, ехать можно, Это не «Поворот не туда» и не «У холмов есть глаза». А вот ветер лютует на пару с дождем. Вдалеке показался чернел храм заброшенный. Ну что, подъедем?
2. Храм
К Храму оказался еще один поворот на дорогу, с большими ямами, залитыми водой. Машина не пройдет. Оставили машину. А тут и дождь прекратился.
Храм заброшенный, угрюмый, забытый лет на двести. Обошли. Небо раздвинулось, и даже закат развиднелся. Правда, "комарьем" начало щипать крепко.
Портал зарос бурьяном, завален досками и бревнами, человеку не пробраться, но есть ощущение, что в приоткрытые двери кто-то другой проходит, может бестелесный, так не для него храм строили, стало быть человеку через окно можно.
Влез в окно, слева на фото его видно. Спустился с окна на груду обломков. Перекрестился. В Храм нельзя попасть иначе, – можно через окно, похожее на арку, без рам и стекол.
В голове: сходишь в храм – поставишь свечу, легче станет.
Вошел – нет алтаря, престола, жертвенника, икон, фресок, вообще образов нет, и пола нет.
Но горнее место, бывшее за алтарем осталось, светло там, в полукруге между трех окон.
Евангелие, напрестольный крест, дарохранительница, – где-то в музее, как образцы рукоделия, хотя говорят они, что лишили их храма, и нового дома они не приобрели.
Икон и фресок нет. А стены намоленные, прикоснись ладонью – теплые.
Пола нет. Но я же там ходил.
Притвор в темноте, туда идти побоялся. Раньше кающиеся, временно отлученные от Причастия, там стояли.
Окна для людей и ангелов. Те и другие здесь бывают, но с разными, как я понимаю, целями. Свечу не поставил, но полегчало – молитва пришла.
В голове: помолись, храм разрушенный – все храм.
Молюсь, но веет холодком, наверное, это и называют «нет благодати».
Церковь обобрана, церковь обругана, церковь обижена, что ж ты хотел? Людям когда-то партия приказала «не верить», они и не верили, конечно, за редким исключением.
"Кому церковь не мать, тому и Бог не отец" – про таких людей сказывают. Ничего святого. Стоит посреди деревни обруганный храм и «ходют» люди мимо, на работу, на свадьбу, детей рожают, мимо с коляской гуляют, опять на работу, потом и на пенсию, да и покойника мимо несут, эх, весело, ничего не скажешь.
Раньше в праздники и в беду люди поприличнее одевались и шли сюда. Исповедовались, причащались, венчались, крестили детей, отпевали ушедших.
В голове: у тебя ж первое крещение было в избе, над тазиком, а как по-другому, если деревня без церкви и священника, а та, что с церковью, зимой не доехать.
Опять обошел вокруг, осторожно, крестов нет, а захоронения где-то остались.
За церковью было кладбище, теперь поляна, где пасутся буренки, а под стенами не пасутся, бурьян не весь скосили. Храму за три века уже, а возле храма ни одной могилы – все вычищено, кому-то кладбище помехой стало в его жизни.
Приведу комментарий одной читательницы под моим текстом про храм.
"На них захоранивали достойных, православных людей, чтобы молитвы и звон колоколов слышали даже усопшие. Те, кто был там похоронен, всегда присутствовали на каждой службе в церквях незримо, их поминали. А батюшки обходили прилежащее кладбище с определённой молитвой, обращаясь к Богу о прощении их грехов…"
Стало быть, память о тех людях не сохранилась.
От разрушения храма алтарь и место престола не перестают быть святыми – остается закладной камень, куда помещается частичка мощей святого, в чью честь строится храм. Храм строится так, что закладной камень оказывается в центре алтаря под престолом, на котором совершается евхаристия.
В голове стучит: Нет здесь закладного камня, – ни одного камня на месте престола не осталось. Пол весь содрали.
Храм, даже разрушенный, всегда остается храмом, святыней… Поэтому, входя под своды храма, в котором даже каркают вороны, нужно перекреститься. Потом храм можно обойти, постоять помолиться, – написал Священник Константин Пархоменко.
Храм удерживал меня. И я пытался найти малейшее доказательство оставшейся святости. Смотрю, закат в окнах, птицы под куполом щебечут, значит, прилетели к ангелу. По церковным поверьям, даже в разрушенном храме есть ангел, и молитвы где-то бродят по стенам.
Вот у древних греков была попытка все грехи передать богам, ну хотя бы в виде шалости. И Боги сполна оправдали доверие. Зевс "брюхатит" невинных девушек. Гермес думает кого обмануть. Артемида превращает людей в животных, не спрашивая разрешения.
А мы, русские богам ничего не передали, повторить ноу-хау греков не удалось, сложили потихоньку грехи свои в храмы (иначе чего туда не идут, чего их не восстанавливают).
Но грехи – существа беспокойные, неугомонные, все выглядывают из-за решеток в окошки.
Народ позаботился об утвари, вынес все, а решетки не смог или испугался, чтобы грехи не вылетели.
…Другими мы стали после храма. Другими стали холмы. Помните, у Констебла, "Вид на Хайгет с Хэмпстедских холмов", а здесь открывалась панорама, назовем ее "Вид на Холмогоры с Архангельских холмов".
Дождь, как прекратился, так начался с новой силой, когда снова были в пути. Все тот же небесный слесарь пощадил нас у храма, а теперь снова взялся за баловство свое с непогодой, открывал-закрывал кран…
…И в Зарученье мы юркнули ночью, как-то даже незаметно для себя.
А в гостях тепло. Деревня, стряпня хозяйки, ленивое потягивание перед простором, открывающимся за забором, лодка, палатка, ночь на Нименьгском озере, другая деревня Шутус, поляна, земляника, болото, морошка.
3. Альбом художника
В музее городка Няндома Архангельской области экскурсовод заводит нас в комнату с круглым столом посередине, – по стенам скромно, с минимальным количеством названий развешаны графические работы Юрия Шаблыкина из деревни Шожма.
Приметил некоторые пейзажи… Их пять передо мной, на стене.
1. Вот здесь речка убегает за поворот. Журчит по камням весело, празднично. И деревья танцуют, как на балу.
2. Здесь каждый куст – король на своем островке. Жизнь карликовых королевств и княжеств, как на ладони. Так что Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, вы проиграли конкуренцию.
3. А это остров-дворец. Бывают же такие, если не на рыбалку туда ехать, а наблюдать за жизнью пейзажа, и медленно-медленно, с паузами грести веслами.
4. Здесь дерево печалится, все ниже клонит ветки, и даже камни как-то хотят проявить сочувствие.
5. И не могу себя пересилить, но когда лодка, задерживаю взгляд, и отталкиваюсь.
Смотришь графику – будто читаешь тексты, Паустовского, Пришвина, Сладкова, Бианки. А он в это время наверняка создает этюд. И когда в октябре этого года ему исполнится 90, будьте уверены, юбилей встретит за созданием тонкого, чувственного, неповторимого этюда.
На круглом столе старенький альбом тетрадного формата. Листаю. Где-то в 60-е такие выпускали. Рисунки акварелью, пастелью, карандашами посвящены деревне Шожма, откуда художник родом. Загорелся поехать туда, и услышал: нет больше деревеньки Шожма. До последнего ездил он еще в дом свой, а деревня, в калошах и валенках уходила в прошлое.
Но вот какое дело, в альбоме я, как оказалось по бережку речки погулял, за столом посидел, по улице прошелся, и в снег провалился. Тогда и дошел до меня смысл названия выставки"…Услышать листика шуршанье…". Слова Бунина. Художник спрятал от всех невзгод, укрыл в альбоме свою деревню. Листаешь альбом, и будто наблюдаешь за процессом творчества замечательного самобытного художника. В альбоме видно, как бережно, кропотливо он это делал.
Есть история, происшедшая со знаменитым хирургом Пироговым…
– Спасибо тебе, дорогой, большое спасибо, – Пирогов готов был обнять соседушку-скульптора, но робел, взволнованно тряс ему руку, задирая бороду вверх: отчего его лысая голова казалась еще более приплюснутой.
До этого хирург присутствовал на сеансах работы скульптора над очередной статуей.
"За что он благодарит?", – никак не мог втемяшить себе в голову скульптор.
Оказалось, в этой гениальной приплюснутой голове роились идеи: которые перевернут отечественную хирургию, вот бы сегодня таких нам хирургов, сколько народу было бы спасено?
Наблюдая за тем, как скульптор гипсует холст, Пирогов придумал гипсовую повязку, которая стала незаменимым средством для лечения переломов.
Его альбом похож на дневник, такой же откровенный. Расскажет все, что на душе художника.
Припоминаю цели, с какими велись известные мне дневники.
Чтобы испытать себя. Дневник неутомимого экспериментатора Раймона Кено
Чтобы совершенствоваться. Дневник Льва Толстого
Чтобы разговаривать с самим собой. Дневник Федора Достоевского.
Чтобы разделить с кем-то свои переживания. Дневник Джорджа Оруэлла.
Чтобы выплеснуть все свои откровения и умереть в 25. Дневник Марии Башкирцевой.
Чтобы выжить. Блокадный дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой
К ним добавляется альбом деревенского художника Шаблыкина «Чтобы спасти деревню».
Так что жива деревенька Шожма, хоть и закрыли тюрьму, и расселили жителей, и не найдешь ее на карте. А если встретите ее в соцсетях, в видеоролике под названием "Заброшенное…", с количеством просмотров более 13 тысяч, то увидите, что люди эти ничего не знают об альбоме Юрия Шаблыкина, не знают, что жива деревенька, – поменяла только адрес, да переехала в альбом художника.
4. Изба
В Архангельской области тебе много расскажут былей и небылей о деревенской жизни. На обратном пути свернули мы с трассы в одну деревеньку, как выяснилось, за историей.
«Деревня Андричевская» – теперь так не скажешь. На бугре высоком улица, брошенные дома с заколоченными дверьми, – «может вернемся», думали люди.
Деревня не вымерла, есть домов шесть-семь с хозяевами. Дома – не просто избушки покосившиеся, а большие, добротные избы с более чем столетней историей. Поэтому, «старинная деревня Андричевская» станет фразой более точной.
Брошенные дома деревни реально крепкие, не эфемерные, из ядреной архангельской сосны, – как люди то ушли? Ведь было 30 дворов, в начале прошлого века.
Думаешь, наверное, что-то заставило, вот и покинули свои дома, а потом думаешь, может наоборот: дома покинули тех людей, избавились от нерадивых хозяев.
Как узнать правду? Я оставил машину на околице, пошел по деревне, – избы строили на века, думал ли хозяин, когда рубил сруб, что его праправнуки бросят такой дом?
Шел по улице – время переломилось пополам, как краюха хлеба на столе хозяина. Улица, по которой возили дрова, сено, ходили в гости, теперь дорожка со слабым следом колес от легковушки и травой, нетронутой, выросшей до колен, в ожидании гостей из города.
«Скрип телег все сильней, чем больше вокруг теней…», – писал поэт Бродский.
Один дом мне сразу бросился в глаза, как у Высоцкого: «Что за дом притих, Погружен во мрак…».
Дом мрачный, а окна высокие, с занавесками белыми на веревочках.
Зашел за угол дома, двери досками заколочены, и тишина, сразу чувствуется мертвая тишина, ни петушиного крика, ни блеянья козы у дороги, ни возни свиней, ни мычания бычка, что просится на волю, в стадо.
Другой дом, – девочка на качелях, как привидение из другого времени.
Вокруг девочки полянка, справа поленница, на ней ее сумочка, а дальше двери нараспах, таз на крыльце, и хозяйка белье развешивает, и молчит, не приветствует путника, лишь провожает взглядом, мол, иди, милок, своей дорогой.
Иду. Забор старый, посеревший, не крашенный, за ним дом, от него уже веет чем-то мертвым, отжившим. Отчего так? Занавески вроде похожи, дом целенький, трава перед домом скошена, а жизни нет. Вскоре понял причину. Окна изнутри паутиной затянуло. У какой хозяйки может быть такое? На двери не смотрю, – а что-то заставляет, и вижу заколочены двери и краска слезла, и замок заржавел. Но что-то не так, замок крохотный для такого дома, и висит мимо петель. Хозяин для вида вешать не будет.
Вошел в сенцы, – права не имел, но вошел. Пять ступенек по лестнице. Что увидел внутри, – печь русская, правда давно не беленная, лавки под окнами, – краска облупилась, тряпки разбросаны, видно, кто брал их, не знал зачем взял и бросал на пол. Потом влезли вандалы с хозяйственной жилкой, так скажем. Поснимали полы и, наверное, у них теперь есть основательный сарай и жизнь удалась.
Выхожу, стоит женщина, – мне стыдно, извините, говорю, – решил, здесь не живет никто, краем глаза хотел увидеть старинную избу изнутри. Она молчит, я молчу. Рядом вдруг вздрогнула трава, будто кошка прыгнула. Женщина говорит: «заяц».
– Как заяц? Сидел тут заяц? Кролик в смысле? А Вас не боится?
– Чего меня бояться?
Слово за слово. Женщина оказалась соседкой тех, кто жил в доме, куда я совершил свое вероломство.
– В дом лучше не заходить.
Оставалась старушка. Трое сыновей, один за одним уехали в город.
Старший спился. Мать навестить был не против, да сама Савельиха, так звали бабку, воспротивилась, мол, нечего дом перед людьими позорить. Нашли его однажды на улице, замерз на морозе, а может с сердцем что приключилось. Похоронили за деревней, рядом с отцом. Средний сын приезжать и не собирался, все мать обвинял, что старшего не уберегла. Чем занимался непонятно, жену с ребенком бросил. Мать внучка так и не увидела. Говорят, мотоциклом увлекался, на нем и в аварию попал. Похоронили за деревней, рядом с отцом. Старшим братом.
Больше всего жалела она Алешку. Младший все же. В деревне его все любили, приветливый, ласковый, а девки сохли, сколько слез пролито было. А ему все соседка нравилась, Оля. Но уехал к братьям, в город. Мать звала вернуться. Да и болезни стали одолевать. Ноги совсем никуда. Да, болела старуха, а сын все не приезжал.
«Плохо, когда одни сыновья», – говорили ей. «Да, хорошие были ребята в детстве, – отбивалась старушка, – вы разве не помните?»
Старуха и забор сама подбила, где штакетник отвалился, и двери в сарай починила, и до курей гусей прикупила, пасла перед домом, сидела на лавке и пасла. Прилечь в дом не уходила. Тут, на лужайке кинет себе старое покрывало и лежит рядом с гусями. Курам на смех.
Уже и гуси выросли, уже продала всех на мясо, Алешка не едет. Так не дождалась она его, померла. На одной лавке, под окном ее нашли, уже захолонула, а на другой лавке лежало ее похоронное одеяние, заранее приготовила.
А фотографию видел на стене, женщина стоит с тремя ребятами, еще малыми, Егором, Володькой и Алешкой, Алешка там еще на девочку похож, да он и был как девочка, приветливый, ласковый. Так вот она на фотографии в том самом белом сарафане с черной юбкой, в чем ее схоронили.
Положили ее рядом с Василием, мужем, по левую сторону, а по правую, рядом с двумя братьями, оставили место.
Люди ходили на кладбище и к дому ее, ну хотя бы траву выкосить, вдруг Алешка вернется?
Но дома-то столетние, чужаки стали наведываться, выносить по ночам весь скарб из избушек, вон, до полов добрались.
И вот, говорят, видели одного, приезжал пару раз, ночевал в избе, – люди подходили, звали, – он прятался. В заболь, Алешка, он тоскует, а перед людьми стыдно.
И снова Бродский приходит на ум.
«Вернись, душа, и перышко мне вынь! Пускай о славе радио споет нам. Скажи, душа, как выглядела жизнь, как выглядела с птичьего полета?»
А почему так решили, в доме подметено, прибрано, на лавке букет цветов полевых, узнал, стало быть, где мать мертвая лежала.
Обнаружили и главную улику.
В стене, на огороды проем большой, а даль там открывается… У-у-у-у-х! Нет слов. Так вот ночной гость сидел там, и место протертое штанами, и окурки затушил, и кое-чего из вещей в руки брал, там и оставил.
«Огонь, ты слышишь, начал угасать. А тени по углам – зашевелились», – звучат в голове стихи того же поэта.
– А мы с Алешкой с детства куда-нибудь залезем и сидим, мечтаем. Домечтались.
«Вместе они любили сидеть на склоне холма. Оттуда видны им были церковь, сады, тюрьма», – у Бродского, как выясняется есть и об этом.
– Домечтались! – сказала она, прищурившись куда0то вдаль и лицо ее стало намного моложе, или показалось мне.
Еще Прокопьич был жив, придумал записку Алешке написать, живи мол, куда ж такой дом бросать. Нам покажись, сходим за морошкой. Знаешь, как мать любила. Странное дело, нашли записку порванной в клочки мелкие, на том же месте. Видел там, на лавке? Братыню развалил, – у Савельихи самый вкусный квас был на всю деревню. И палку, что мать опиралась, изломал. Убирать не стали, может опомнится. Но Алешка больше не появился.
– А фотографии там в рамке нет, пустая рамка в углу стоит.
– Вот ее-то он тогда и забрал видно.
– Отчего ж он не пришел больше? Вспугнули?
«Северный край; укрой. И поглубже. В лесу. Как смолу под корой, спрячь под веком слезу». Снова нашел созвучные стихи Бродского.
– Кто за ягодами ездит, говорят, наверняка за морошкой он в августе пошел, да и остался в болотах, у нас, как на север идти, много болот".
– Нашли его вещи?"
– Да какой там? Но Алешку с детства баюнком звали. От слова "баять". Это сказочник, значит. Ему что скажешь – все на веру принимал, может про морошку, что мать любила он и втемяшил себе в голову. Еще потом узнали, не приезжал он к матери, потому что сидел, случайно, по мелкому делу. А чтоб она не узнала, пересылал письма кому-то, а те уже ей записки доставляли. Вот такое быванье".
– Да, история. Мать никого не дождалась".
Слышь ли, слышишь ли ты в роще детское пение… (И.Бродский)
– Говорят, дом их не принял, никого – в таких домах лучше не шастать, место не доброе, такое вот дело. Мы и священника приводили, освящали дом, да что толку. Лезут к него, будто медом смазанный".
Уходил я из деревни, женщина все стояла на том же месте. «Почему одна осталась?» – не спросил, зато спросил имя, Ольгой ее звали.
_______________________________________________________________________
Долго еще я думал о рассказе женщины. Много тут необъяснимого.
Но дорога отражает тебя и твои мысли. Вот один я остался, сын переехал в Питер. Вот встретился с ним на несколько дней и повез по Холмогорам, а там нас ждали храм и изба, брошенные, одинокие, унылые. Ждали, чтобы рассказать чего-то… Рассказали.
Уже в пути с лукошком земляники между сиденьями. Ночная дорога кажется мягче дневной. Вьется как змейка под дождем, и не везде ее разглядеть – глаза застили клубы пара на дороге.
А чего ж ты хотел? И случайно ли все произошло? Дожди, повороты, храмы.
Так-то оно так, но что-то главное дорога утаивает.
Случайно ли за 900 км едешь к людям, которых в глаза не видел, а они добрейшей души?
Может дорога расскажет, где побывал я на самом деле? Кого встретил? Кто водит нас по этим дорогам?
Ответишь, Бродский?
И Бродский отвечает:
«В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду».
Это я, папа!
Андрей Николаевич Комольцев вошел в лес. Давно собирался. Вот сподобился, наконец.
– Хорошо – то как! Грибами пахнет. Грибы где – то совсем рядом. Как хорошо, Господи! – старик вдохнул свежий насыщенный запах сырости, зашуршал нападавшими листьями.
– Ох, колюч! – это он решил поговорить с воздухом.
Тот, видимо, как – то ответил старику, и шаловливо обдал ветерком.
– Вот где хорошо! Здесь и приземлимся, – он разложил коробку от холодильника, влез в нее, как космонавт в люк космического «Союза», натянул до плеч шерстяной плед.
Только бы не видеть никого, особенно людей, бредущих с собаками. Подбежит псина, как начнет лаять, надрываться, хоть на дерево лезь. А хозяину – то сие интересно – стоит в сторонке, наблюдает.
Ну что тут можно наблюдать? А! Люди добрые? Все исхожено – истоптано вдоль и поперек.
Поспать в лесу – давно мечтал, когда еще работал – мечтал.
По молодости: в армии, в студотрядах, да студпоходах, где только не спали. А тут один – это другое дело.
Если ветер – то он под кустами спасен, ну а если дождь – пока коробка намокнет – можно будет перебраться в другое место. Главное, отдельно от всех. Никто не глазеет из прохожих, и не думает, что ты бомж. А перед глазами снова сын Вовка…
– Нет, лучше думать о грибах…, – попытался избавиться от ненужных мыслей Андрей Николаевич. Но, раз уж начал вспоминать – набрал разгон – не остановишься, даже не пытайся.
История с ним вышла такая.
Его лавку в Измайловском парке испортили – залили чем – то липким. Пивом, чем – же еще… А он на ней часто сиживал, угощал сигареткой других бомжей, чтобы отвалили, не мешали думки думать. Потом мог прилечь, на короткое время.
Паспорт и парочку фоток, что остались от прошлой жизни, он припрятал в надежном месте. Сюда шел охотно, здесь думалось ему легко и свободно. Лавка заменила кабинет.
А тут, во вторник, его потянуло в свой старый двор. Там, в квартире 25 подъезда 3 прожил он без малого сорок лет. Андрей Николаевич иногда захаживал во двор, в нем казалось ему теплее, а может и вправду было теплее – теплотрассы же проходят где – то. Посидел на детской площадке, пока детей не привели, да пошел к знакомой мусорке, куда сорок лет выносил мусор.
Его заинтересовала коробка от холодильника. Решительно старик начал спасательную операцию по извлечению коробки – ее уже успели изрядно завалить. Извлек, решил еще чего присмотреть, да тут рядом загудела машина – кто – то парковался, все выравнивал машину. Наконец, мотор затих… Из машины вышел водитель, и махнул рукой. Андрей Николаевич подумал, что жест адресован ему, и робко встал – руки по швам, как на месте преступления.
Но водитель старика пока не заметил – ходил вдоль своего внедорожника и подробно рассказывал по телефону о том, как он продал малолитражку и приобрел этого монстра.
Понятное дело, – подумал Андрей Николаевич, – парковаться теперь труднее.
– Дед ты там долго еще?
– Вот коробку заберу от пылесоса, и уйду.
– А! Лады.
В ближайшем подъезде № 3 отворилась дверь. В проеме стоял молодой мужчина с портфелем.
– Привет, Игорек!
– Здорово Вован! Вы когда прилетели?
– Да позавчера ночью.
– Загорел, не узнать. Как Эмираты?
– Да сойдет, – видно было, Вован уже устал отвечать на этот вопрос..
– А мы все не вырвемся, – продолжил разговор Игорек.
– Ну, Игорек, «джипяра» у тебя. Поздравляю. Обмоем?
– Не вопрос.
Закурили.
– О, мне пора. Ну вечерком звякнешь?
– А то!
– Ну заходи, дверь держу.
– Да брось. Мне надо мусор с машины выкинуть – вон бомжа жду.
– Какого бомжа?
– Да вон на мусорке возится.
Оба хорошо затянулись. Помолчали.
– Бомжей развелось, куда ни плюнь, – вдруг пробурчал Вован. – Сегодня выбросил коробку от Керхера! Уже мусорку разбомбили. Ладно, побегу – бабло рулит.
– Ну, давай – давай.
Игорек раздавил окурок, вернулся к машине, стал выгребать что – то в багажнике.
Старик деловито вынес извлеченные вещи, приноравливался, как ловчее все взять.
– Ну ладно, дед, отойди подальше, я тут выкину кое – чего, – Игорек двинулся к мусорке, и поднял голову: – Андрей Николаевич? Вы че тут?
– Да это…
– А мы же только с Вовкой Вашим стояли тут, разговаривали. Вовкой Вашим… Вы че тут?
– Да это…
– А Вовка что? Не узнал Вас, получается?
– Да ничего…
– Я думал, Вы еще в институте работаете.
– Да…
– Как Вы так? Нас же учили… с Вовкой… Куда Вы? Андрей Николаевич?
Старик быстро засеменил со двора к арке. Молодого человека он не узнал. А сына узнал по голосу, да отвернулся, чтоб не смущать.
Старик идет по улице, несет коробку от холодильника сына. Как он оказался на улице – вспоминать ни к чему, и никому об этом он не расскажет. У сына семья, маленький ребенок, а у старика никого – пусть живут.
Старик идет по улице, на душе хорошо, – в голове звуки музыка… – «Лунная соната»… – в солнечной комнате… лунная … в солнечной… – за роялем его Вовка… – учился сызмальства в музыкальной школе.
А после занятий, допоздна отец с сыном играют в приставку плейстейшн, а ночью ребенок долго не может уснуть, а отец тихо входит, поправляет одеяло. Маленький Комольцев вздрагивает, а большой Комольцев ему говорит:
– Это я – папа. Ты не узнал меня, сынок? – и также тихо уходит.
Я все равно бы от тебя ушла…
Распахнуто окно в деревянном доме. Дождь стучит по листьям берез. Дождь теплый, – когда на ладонях, а еще он навевает разные истории.
Ланцов только что стоял у окна, грел дождь в ладонях, а теперь у двери, зачем-то хотел на улицу. Протопал широким шагом, чуть дверь не выломал, еще бы, когда рост под два метра, и забыл, за чем собрался.
Будто что вспомнил?
"Да, вспомнил. Этот же вид из окна я увидел на картине Александра Герасимова "Полдень. Теплый дождь", 1939-го года. Совпадение точь-в-точь. Интересно, Герасимова тоже выперли откуда-нибудь?» – он задается вопросом, имея в виду свое недавнее увольнение с работы.
"Ланцов, тебе дочь правильно сказала, у тебя комплекс жертвы. Живи с ним сам. С меня хватит," – жена прочитала приговор, и он ушел из собственной квартиры. Все навалилось разом.
Ланцов уперся рукой в косяк двери, а там за окном дождь стеной. Вернулся к окну, назад, будто позвали, а он вернулся осторожно, чтобы непогоду не вспугнуть. Пол скрипит, а ведь сколочен из массивных широких досок. Еще в позапрошлом веке.
Он посмотрел в угол комнаты, где теперь освоилась старая швейная машинка мамы. Сломана, да и шить кто будет? Ланцов? А выбросить жалко, память.
"Увози на дачу, я все равно ее выброшу", – жена поставила ультиматум, он выбрал первое.
Друзья, знакомые давно при встрече с ним приняли ироничный вид.
«У тебя мужик чужой в квартире (с намеком на жену), гони их всех».
Жена, пусть бывшая, и дочь, настоящая, взрослая, – Ланцов не понимал, как свою семью можно выставить на улицу ли отправить к этому мужчине. Поживу на даче".
Смешно сказать, остался без денег после выплаты ипотеки, жена бросила, с работы уволили. Друзья канули в лету. А тут еще и спину не разогнуть. Ну все разом, как же иначе.
– И всё-таки… как они мне: «Не нужен! В утиль!». И ни один человек не позвонил.
"Ты – тряпка, Ланцов. А с тряпками никто связываться не хочет, " – голос жены слышится даже здесь.
У нас в стране профессия – это наказание, – ты от нее зависишь, ты за нее держишься, ты совершенствуешь мастерство, ты на все согласен, – этим пользуются другие и делают с тобой что хотят, – так он хотел ей ответить. Но она вряд ли бы с ним согласилась. Кандидат наук, – ну и что? Не закончил научные исследования, – ну какая разница?
Стало быть, до своего увольнения нес Ланцов наказание, был в плену у профессии. Начальство сжалилось, отпустило на волю, а он, чудак, хотел еще побатрачить.
Там, на должностях и сокурсники его и бывшие студенты, ну и конечно те, кого прислали из министерства. Они его начальство.
"От должности в свое врем отказался," – корит жена.
– Невежды, труд не умеют ценить, – не унимается Ланцов. – Им важно, где ты пристроился, а не что ты сделал».
"Вон бог, а вот порог! Уходи, я больше не могу," – это последнее, что он услышал от жены.
Теперь житель деревни Горка Пустошкинского района Псковской области.
Каждый человек в равной мере достоин как того, что у него есть, так и того, чего нет, – размышляет этот новоявленный житель, – Посоветоваться бы с Сократом, да книги все у них остались.
"У тебя ничего нет, Ланцов. Тебе сделали "зэпэ" в пол-оклада, надо идти к начальству, а не изучать геном сибирских летучих мышей. Что?! Дочери – машина, мне – квартира? Дурак ты Ланцов, нашел чем гордиться за двадцать лет. Ну ладно, не парься, я все равно бы от тебя ушла".
Уже полдень, – определяет Ланцов по звуку напольных часов, – а я так ничего и не успел, а этот дождь как зарядил с утра, так и сыпет, не переставая…
Бьют старые напольные часы с тремя гирями и маятником. Звонко, будто им только сейчас разрешили. А у них это каждодневно, но Ланцов не привыкнет никак. Да и к шкафам, столу и стульям не привыкнет, – неудобные какие-то, к запаху деревянного дома не привыкнет, – все принюхивается, да и к соседям, – все норовит им не попадаться на глаза. А часы бьют себе каждый день, и каждый день для него неожиданно.
На конкурс сказали не подавать, – мол, ректор зуб имеет. А чего он зуб стал иметь, если Ланцов его не видел уже два года, это ему было не понятно. Молодых брать надо, они пойдут в аспирантуру, докторантуру, – а тебе до пенсии еще шесть лет? – спросили. Потом успокоили: сторожем всегда возьмут. В 65 на пенсию. А почему не в 70? Это в Казахстане и Армении пенсионный возраст сохранили, хотя они вроде не так богаты, как мы. Видимо, они не такие выносливые.
Недавно дубовый корпус напольных часов он покрыл лаком, заодно и крышку швейной машинки, они теперь породнились.
– Давайте, повеселее там, – такое сделал пожелание старым вещам Ланцов, и они, судя по всему, его приняли.
Когда-нибудь две створки двери распахнутся и войдет мама с яблочным пирогом на подносе. Поднос деревянный, потрескался, но маме нравится. Шарлотка, ее любимая, вот на этой скатерти, где не все пятна ототрешь, сколько ни крути в машинке. Молодой Ланцов осторожно отодвинет свой зоологический альбом и опустит хрупкий лист, защищающий иллюстрацию. С подгоревшей корочкой, – значит, мама старалась успеть к ужину. Вкусный, – ну, а какой еще может быть от мамы?
Так вот в чем дело. С ним всегда было то, что ему близко, только руку протяни.
Нет Сократа, так есть книжка стихов Пушкина:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
И Ланцов глубоко вздохнул, наверное, впервые после всех своих дрязг. Потом вздохнул еще. Улыбнулся, наконец.
Из окна повеяло свежестью и ароматами дождя, коры дерев, травы, штакетника, дров, – не надышаться. А жимолость как пахла перед дождем, а как закрылись цветки фиалки, и он не понял что будет дождь, вот действительно, дурак.
– У – у-у-у-у-у-у-у-у – у! Вспомнил! Книги брошены на старой лавке. Бегу-бегу.
Подставил ведро под слив воды, влез в грязь и оставил там один тапок, замочил травой штанины до колен. Но книжки спас. Нырнул в махровое полотенце, обтерся до полного "сугрева", – вот это жизнь. Вспомнил свои семнадцать, сколько раз бегал под дождем. И снова набрал полные легкие воздуха. Елки-палки, он, оказывается неправильно дышал, и неправильно жил.
За окном раздались звуки гармошки и песнопения. Вот тебе на!
Высунулся из окна, – вода стеной, ничего не разглядеть в округе. Какая гармонь под проливным дождем?
– У – ли-ца!* У-ли-ца! – кричит Ланцов туда, откуда пришли звуки гуляний. Это слово он слышал давно, когда еще учился ездить на велике, его смысл был в том, что надо идти на прогулку, и вот оно пришло, вернулось, стоило только распахнуть в дождь окно.
– У-ли-ца! У-у-у-у-у-у-у-у – у! – снова кричит Ланцов.
*Улица – раньше в Псковской области этим термином назывались гуляния молодежи по деревне, с песнями, под гармошку.
Крики в лесу
Бывает стоит зима, а скучаешь по лету, да осени… Бывают встречи, случайные, мимолетные, а помнишь всю жизнь…
Где-то вдалеке слышатся крики. Нет-нет, не истошные, пронзительные, а предостерегающие и радостные.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/andrey-tolkachev/utrom-vypal-sneg-69601558/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
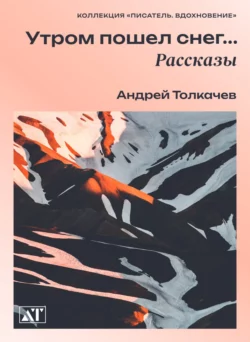
Андрей Толкачев
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 03.10.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В этом сборнике собрано 39 историй о родителях и детях: о том, что может случиться в жизни и как выходить из запутанных, порой «дурацких», а порой тупиковых ситуаций и положений. Герои книги – люди самых разных стран, возрастов, профессий и сословий, на своем примере показывают, как можно быть несчастными и где найти счастье.