Взаимодействие ментальностей. Христианские и мусульманские духовные ориентации в современной России
Елена Викторовна Крупская
Эта диссертация была утверждена к защите кафедрой философии Иркутского государственного университета, автореферат был утверждён ректором ИГУ, профессор-историк из Учёного Совета признал большой доказательный потенциал диссертации и предложил под его руководством написать диссертацию о советском периоде, профессор-социолог предложил под его руководством создать тему "Бытовые пристрастия верующих". Но, в целом, Учёный Совет запретил защиту диссертации лишь по одной причине. Я выступала за изучение мировых религий в школах и вузах для повышения нравственного и мировоззренческого уровня молодёжи. Часть Учёного Совета кричала: "Школа и церковь отделены!". И вот. Религии изучают, а вторая моя кандидатская диссертация также не прошла защиту, что никак не умоляет её значение. Диссертация предназначена для всех, кто интересуется догматическими взглядами на общество всех церквей и управления мусульман в России.
Елена Крупская
Взаимодействие ментальностей. Христианские и мусульманские духовные ориентации в современной России
Введение
Актуальность темы исследования. Особенностями существования современной цивилизации является ускорение темпов развития, неоднозначность перспектив, рискованность. В этих условиях особое значение приобретают такие качества социального субъекта, как интеллектуальная и психическая устойчивость, интегрированность, целостность. В обеспечении таких качеств сегодня далеко не последнюю роль играют религиозные представления и ориентации представителей социально-политически однородных и чаще всего этнически-разнородных обществ. В то же время философское осмысление духовных оснований взаимодействия социальных коллективов и личностей – носителей различных конфессий или ориентаций – продолжает оставаться на недостаточном уровне, чему немало содействовал характерный для России общий дух чистого негативизма по отношению к конфессиям. Менталитет, как особый духовный феномен, характеризующий личностное содержание субъекта, также пока еще далек от своего завершенного научного освоения.
Ярко выраженный синкретизм сегодняшнего мировоззрения человека не позволяет в научном исследовании абстрагироваться от того момента, что даже атеистически настроенный субъект (личность) воспитан в той общекультурной этнической среде, элементы которой обязательно соприкасаются с религией, а то и укоренены в ней (как, например, мифо-поэтический подход к миру). Данный момент должен быть учтен при концептуализации и научной аттестации понятия менталитета, а также в объяснении взаимодействия ментальностей. Вместе с тем и сам менталитет не есть, очевидно, величина абсолютно постоянная. Он усваивает элементы религиозно-культурного взаимодействия и не может не воспринимать прогрессивно-цивилизационных и, в том числе, научных изменений и новшеств. Линии и реальность подобных взаимодействий также пока еще социально-философски не изучаются должным образом.
Следует считать недостаточно теоретически освоенным и российский опыт взаимодействия ментальностей, особенно в связи со своеобразием переживаемых страной современных социально-политических преобразований. Наряду с тем, что принцип свободы совести обрел свою естественно-историческую реализацию, имеются неясности по вопросу меры и оправданности форм контактов конфессиональных и неконфессиональных ментальностей в широком образовательно-социокультурном процессе.
Наконец, отсутствуют квалификации негативных проявлений ментальности, которые априорно следует признать, так как известно из истории и современности, что религиозность обладает способностью в определенных условиях резко обособлять, выделять интересы отдельных и обобществленных социальных субъектов, противопоставляя их интересам других в виде неких абсолютов, либо солидаризироваться с консервативными или псевдо-инновационными социально-политическими ориентациями, способными принижать, разрушать человечность и принципы цивилизованности. А отсюда вытекает необходимость определения, хотя бы в первом приближении, оснований для положительных управляющих действий политических элит в области конфессиональности для нейтрализации экстремизма и терроризма на религиозной почве.
Степень разработанности проблемы. Уже с 20-х гг. XX в. термин “ментальность” получает распространение. На формирование понятия “ментальность” оказали воздействие труды Р. У. Эмерсона, Э. Дюркейма, Э. Кассирера, Э. Гуссерля, А. де Токвиля, Э. Фромма, К. Г. Юнга, школы “Анналов”, К. Леви-Строса, Л. Леви-Брюля. Понятие “ментальность” активно использовалось в мифологических исследованиях, когда главной особенностью его содержания считали своеобразие генетически ранней ступени мышления. Затем под ментальностью стали понимать то, что связует культурные традиции того или иного социального субъекта. В философии это понятие понимается также как исторический интеллектуально-эмоциональный код народа. В российской научной среде понятие “ментальность” использовали культурологи П. С. Гуревич и О. И. Шульман, Е. М. Скворцова, известный отечественный историк А. Я. Гуревич, этнопсихологи В. С. Кукушкин и Л. Д. Столяренко, философы Института философии РАН В. И. Толстых, И. К. Пантин, А. С. Панарин и создатели философских словарей. Все это учтено в нашем исследовании.
Также изучались пределы взаимодействия разнородных ментальностей в рамках социально-цивилизационных субъектов. Это труды Л. М. Демина, Л. Б. Алаева, В. М. Хачатуряна, Л. С. Васильева, Б. С. Ерасова, Я. Г. Шемякина, М. В. Поповича, А. Тойнби, М. Мелко, Д. Шайегана, С. Хантингтона, Г. Э. фон Грюнебаума, А. Меца, У. М. Уотта, Э. Гелнера. Так, Л. С. Васильев в своем исследовании приходит к выводу, что ментальность китайско-конфуцианской традиции-цивилизации ближе к ментальности современной западной цивилизации, чем ментальность арабо-исламской традиции-цивилизации. Б. С. Ерасов отмечает, что особый тип взаимодействия ментальностей существует между Западом и мусульманским Востоком – конфликтное взаимодействие. Показательно также то, что известный исследователь С. Хантингтон считает, что идеологические конфликты уходят в прошлое, заменяясь конфликтами религий и культур.
Ученые Института философии РАН исследовали особенности российской ментальности и пришли к выводу, что ментальность социально-государственного субъекта, России, имеет особые характеристики, отличающие ее и от восточной, и от западной ментальности. Эти исследования помогают понять, что конфликты религий, которые ожидает С. Хантингтон, не характерны для внутрироссийской социальной жизни.
В теоретическом плане сделано было многое. Однако: 1) весьма абстрактным остается само понимание ментальности, так что оно мало пригодно для выражения характеристик дифференцированного субъекта; 2) недостаточно четко выражен и выявлен функциональный, динамический аспект ментальности; 3) вследствие этого недостаточно конкретизированной остается картина (объясняющая модель) взаимодействия ментальностей.
Объект исследования: реальные ментальность и взаимодействие ментальностей, а также их исследовательская реконструкция, представленная в философии и других науках.
Предмет исследования: выработка модельного представления о характере, формах, типах и перспективах взаимодействия христианских и исламских ментальностей в российских реалиях.
Цель исследования: получить философско-теоретическое знание об основаниях позитивного взаимодействия ментальностей, а также реальностях общей картины такого взаимодействия.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Анализируется принципиальная структура ментальности как важнейшего достояния социального субъекта.
2. Вычленяются методологические принципы и подходы анализа феномена ментальности.
3. Дается критическая оценка имеющихся по теме материалов исследований.
4. Определяются направления реализации позитивного поддержания гармоничного взаимодействия ментальностей.
5. Решается задача возможного прогнозирования взаимодействия христианских и мусульманских ментальностей.
Теоретико-методологические основания работы. В работе проведен анализ результатов социологических опросов, представленных ведущими научными институтами социологических и политологических исследований и центрами общественного мнения. Использованы исследования в области социальной философии, философии религии, религиоведения, исламоведения, богословия, политологии, истории; архивные данные, данные периодической печати и телевидения; проанализированы отчеты большого числа конференций, в которых участвовали и церковные иерархи, в том числе чисто конфессиональные конференции и съезды; рассмотрены социальные концепции протестантов, католиков, Русской Православной Церкви и мусульманских общин России.
В качестве методологической основы в работе реализованы аксиологический подход и элементы структурно-функционального анализа, основные приемы сравнительного и исторического исследования, герменевтические представления. Применялись также общенаучные методы: методы моделирования и прогнозирования, индукции и дедукции, анализ и синтез.
Научная новизна работы состоит в том, что ментальность в качестве базисной духовной составляющей дифференцированного субъекта трактуется как единство структурных и функциональных аспектов. Согласно такому обоснованию ментальность есть своеобразный духовный комплекс, который, при наличии обязательных рациональных и чувственных компонентов, выступает некоторым вариативным духовным феноменом.
Положения, выносимые на защиту:
1. Соотношение рациональных и образно-эмоциональных компонентов конфессиональных ментальностей и ориентаций может и должно быть конкретизировано относительно своих носителей – социальных субъектов.
2. Результатом такой концептуализации является вывод о том, что, при необходимо соблюдающемся во всех случаях единстве рационального и чувственного в ментальности, последний компонент может быть представлен как преобладающий.
3. В этом случае имеет смысл ввести представление для конкретных субъектов о наличии у них примитивной ментальности (“тупикового” уровня ментальности), что и составляет духовную базу конфессионального экстремизма и фундаментализма.
4. Сбалансированная ментальность, развитая на базе общей широкой духовной подготовки и развитых межконфессионально-культурных представлений – основа плодотворного взаимодействия ментальностей.
5. Теоретическое обоснование гармоничного взаимодействия ментальностей должно разрабатываться на основе единства “понимающих” и “объясняющих” методов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в ходе исследования материалы могут быть использованы в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: при чтении спецкурсов по социальной философии, социологии, культурологии, востоковедению, истории религии, философии религии и религиоведению. Также материалы диссертационного исследования могут быть полезны для общественных организаций, федеральных и местных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, для городских и областных комитетов по связям с религиозными объединениями.
Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертации докладывались и обсуждались на научных конференциях кафедры философии ИГУ, большая часть из них отражена в статьях в сборниках научных трудов ИГУ “Методологическое обеспечение современных философских проблем” и в статьях Санкт-Петербургского журнала “Человек и Вселенная”. Также материалы диссертации имеют прямой выход в учебный процесс. Они были использованы для студентов Ангарского филиала Современного гуманитарного университета (г. Москва) при чтении лекций и проведении семинарских занятий по философии и религиоведению и для студентов Ангарского филиала Байкальского экономико-правового института (г. Улан-Удэ) при чтении лекций и проведении семинарских занятий по социологии и политологии.
Глава I. Ментальность как базовая составляющая духовности социального субъекта
§ 1. Традиции в трактовке содержания понятия ментальности. Элементы методологии анализа ментальности
Термин “ментальность” употребляется впервые американским философом Ралфом Уолдо Эмерсоном (1856 г.) в его концепции интуитивного постижения духовности, моральности и красоты мира, но распространяется этот термин с 20-х гг. XX в. – прежде всего во Франции.
На формирование понятия ментальности оказала влияние концепция Дюркгейма. Эмиль Дюркгейм (1858–1917) исследовал главным образом социальные факты духовного порядка (мораль, религия, право); он считал важными их социальные функции, подчеркивал их необычайную роль в жизни общества, нередко отождествлял с обществом, а позднее называл Богом. Так, в религии, согласно Дюркгейму, как в фокусе отразились те аспекты общества, которые люди почитают за священные. Дюркгейм стремился доказать, что социальные факты – это объективно существующая реальность, которую должна изучать социология. Влияние социальных фактов и их взаимосвязь в разные эпохи и в разных государствах дает картину социальной интеграции. Факты духовного порядка представляют собой формы коллективных представлений. Дюркгейм считал коллективными представлениями также законы и формы мышления.
Коллективные представления и стали предметом исследования французской гуманитаристики. Значительное внимание уделялось истории ментальностей. В центре рассмотрения оказались особые, коллективные типы мышления. Различия ментальностей древнего и современного общества стали предметом пристального изучения.
В 1922 г. вышла работа Леви-Брюля “Примитивная ментальность”. Люсьен Леви-Брюль (1857–1939) считал, что первобытное сознание было ориентировано по преимуществу на передаваемые от поколения к поколению коллективные представления и безрефлексивное следование традиции. Коллективным представлениям, подчеркивал Леви-Брюль, была свойственна нечувствительность к очевидным для современного взгляда противоречиям. В любом объекте для первобытного человека помимо очевидного значения, воспринимаемого им под влиянием индивидуального опыта или в процессе рациональной (хозяйственной и т. п.) деятельности, таился также мистический смысл, который ощущался первобытным сознанием как главный. “Мистическая” ориентация первобытного мышления, по Леви-Брюлю, делала его “пралогическим”: причинно-следственные связи, анализируемые рациональным мышлением, подменялись “партиципацией” – сопричастием, устанавливаемым между коллективом и значимым для него объектом: результаты практической деятельности считались зависимыми от соблюдения ритуалов (табу и т. п.) или от вмешательства сверхъестественной силы (колдовства). Такой подход открывал возможности для изучения своеобразного логического механизма в первобытном (“пралогическом”) мышлении. В дальнейшем Леви-Брюль развивал свои идеи, выделяя в первобытном мышлении “аффективную категорию сверхъестественного”: мыслительная деятельность первобытного человека, особенно в сфере отношений со сверхъестественным, в большей мере была подвержена эмоциям, чем рассудку.
Леви-Брюль никогда не абсолютизировал противоположность первобытного и современного типов мышления, подчеркивая их взаимопроницаемость; в заметках, опубликованных посмертно (1949 г.), он намеривался отказаться от термина “пралогическое мышление”. “Аффективная категория сверхъестественного”, введенная Леви-Брюлем, обозначала тональность, которая отличает особый тип опыта. Примитивный человек по-своему воспринимает контакт со сверхъестественным. Магия, сны, видения, игра, присутствие мертвых дают первобытному человеку мистический опыт, в котором он черпает сведения об окружающем мире.
По мнению неокантианца Эрнста Кассирера (1874–1945), примитивная ментальность отличается от нашей не какой-то особой логикой, а прежде всего своим восприятием природы, которое не является ни теоретическим, ни прагматическим, ни симпатическим. Примитивный человек не способен делать эмпирические различия между вещами, у него гораздо сильнее, чем у цивилизованного человека, развито чувство единства с природой, от которой он себя не отделяет.
Интересно мнение Эдмунда Гуссерля (1859–1938). Он считает, что единственным путем проникновения в сферу трансцендентального является анализ жизненного мира (Lebenswelt). Этот термин в феноменологии означает взаимосвязь дорефлексивных очевидностей и уверенностей. Жизненный мир – это единовременно источник и место всех предпосылок сознания. Например, мир древних греков – это не объективный мир в нашем смысле, это их “миропредставление”, т. е. их собственная субъективная оценка мира со всеми важными для них реальностями, включая богов, демонов и т. д. Античная ментальность показывает, что нашему европейскому человечеству присуща определенная специфика, которая пронизывает любые изменения облика Европы.
Идея коллективной ментальности прослеживается у А. де Токвиля в его книге “Демократия в Америке”. (1835 г.). Исследуя общественное сознание Америки, Токвиль пытается отыскать первопричины предрассудков, привычек и пристрастий, распространенных в данном обществе. Это и составляет, по его мнению, национальный характер. Токвиль утверждал, что все жители Соединенных Штатов имеют сходные принципы мышления и управляют своей умственной деятельностью в соответствии с одними и теми же правилами.
Восходящая к работам Токвиля исследовательская традиция привела позже к созданию психоистории. Эрих Фромм в работе “Бегство от свободы” (1941 г.) ввел понятие “социального характера”. По словам философа, оно является ключевым для понимания общественных процессов. Характер в аналитической психологии – это специфическая форма человеческой энергии, возникающая в процессе адаптации потребностей человека к конкретному образу жизни в определенном обществе. Предмет истории ментальности – реконструкция способов поведения, выражения и умолчания, которые передают общественное миропонимание и мирочувствование. Представления и образы, мифы и ценности, признаваемые отдельными группами или обществом в целом, поставляют материал коллективной психологии и образуют основные элементы такого рода исследований.
Карл Густав Юнг (1875–1961) – основатель аналитической психологии – считал, что, наряду с личностным бессознательным, существуют более глубокие слои “коллективного бессознательного”, где в виде изначальных психических структур (архетипов) хранится древнейший опыт человечества, обеспечивающий априорную готовность к восприятию и осмыслению мира. К. Г. Юнг полагал, что на архетипической основе покоятся все великие идеи – великие религии и философемы, “вечные” произведения искусства, великие изобретения и научные открытия. Как писал К. Г. Юнг, если бы все традиции в мире оказались разом прерванными, то со следующим поколением вся мифология и история религий начались бы сначала. Работы Юнга способствовали появлению исследований по сравнительной мифологии. Также К. Г. Юнг считал, что сознательное и бессознательное взаимодействуют и дополняют друг друга, этот синтез позже и рассматривали как ментальность.
Своеобразное понимание ментальности проявляется и в знаменитой школе “Анналов”. Школа “Анналов” – это направление во французской истории науки и историографии. Эта школа выдвинула новое эпистемологическое понимание позиции историка, созвучное тезисам неокантианства о противоположности “наук о культуре” “наукам о природе”, о роли оценочных суждений, о необходимости применения метода идеальных типов. В рамках школы осуществлялась трансформация проблемных полей исторической науки: от экономической и интеллектуальной истории к “геоистории”, исторической демографии и истории ментальностей, перешедшей в историческую антропологию.
Понятие “ментальность” (mentalite) эта школа относила к сфере автоматических форм сознания и поведения людей; по их мнению, история ментальностей должна дополняться историей идеологий, историей воображения, историей ценностей. Уяснение соответствующей системы понятий – выступало для школы “Анналов” не менее значимым, нежели анализ социально-экономических структур исследуемого общества. Затем эта школа все более приобретает облик своеобразной исторической антропологии и включает при этом совершенно новые области исследования. Начинается изучение социальной природы и функций тела, жеста, устного слова, ритуала, символики и т. п.
В конце этого обзора истоков рассмотрения понятия ментальности отметим, что Л. Леви-Брюль считал, что “коллективные представления” в форме религии, моральных понятий и обычаев существуют там, где в современном мире существует потребность в живом общении с окружающим миром, которое не может заменить современная наука. Действительно, сциентизм, который главной ценностью и образцом считает науку, не сумел остановить ужасы двух мировых войн, а даже подтолкнул их.
А, как известно, на войне нет неверующих. Поэтому во второй половине XX века особое внимание в исследованиях ментальностей стали обращать именно на религии, моральные понятия и обычаи, стабилизирующие общество. (См. также работы С. Хантингтона).
Теперь рассмотрим современные представления о ментальности. В современном французском философском словаре под авторством Дидье Жюлиа (2000 г.) мы находим лишь определение менталитета (это понятие часто указывается как синоним понятия “ментальность”). Вот это определение: “Менталитет: способность духа, совокупность основополагающих верований индивида или коллектива”. [Жюлиа, 2000. С. 242]. Далее приводится мысль этнолога – структуралиста Клода Леви-Строса: “У каждого общества – свой тип менталитета, но все они приемлемы и логичны: понятие “примитивного менталитета”, невосприимчивого к принципам разума – всего лишь фикция, предрассудок одного общества в отношении к другому, выражающий в действительности лишь этнологическое недопонимание. (Леви-Строс, “Мысль дикаря”, 1962)” [Жюлиа, 2000. С. 242]. Таким образом, критика ранних представлений Леви-Брюля актуальна сейчас, когда в каждом сообществе выясняется внутренняя его логика, что позволяет отойти от европоцентризма и признать различные традиции равноценными. (См. также материалы международных и российских философских симпозиумов и конференций). (Диалог цивилизаций, диалог культур).
В философском энциклопедическом словаре 1999 г. мы находим такое определение: “Ментальность (лат.) – образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы”. [Философский…, 1999. С. 263]. Можно отметить, что это несколько сокращенное определение из знаменитого немецкого философского словаря, основанного Г. Шмидтом.
Термин Mentalit?t в этом словаре переводят и как менталитет, и как ментальность. Вот определение из этого словаря: ”Ментальность (Mentalit?t; от лат.) – образ мышления, общая духовная настроенность и способ поведения человека, группы, которые большей частью связаны с определенными ценностными акцентами в отношениях к действительности”. [Философский…, 2003. С. 268–269].
Понятие ментальности еще недостаточно разработано в отечественных научных исследованиях. Ставится даже вопрос о правомерности его существования. Но, как отмечает Е. М. Скворцова в книге "Теория и история культуры" (1999 г.), понятие ментальности наиболее приемлемо при взгляде на культурное развитие человечества как процесс чередования цивилизаций. Она напоминает, что латинский термин «ментальность» означает: образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы людей; также это понятие употребляют как синоним общественного сознания.
Но вернемся к проблеме определения ментальности. В. С. Кукушкин и Л. Д. Столяренко, авторы пособия по этнопедагогике и этнопсихологии считают, что вышеозначенные науки должны сделать предметом своего рассмотрения именно ментальности – стабильные системы представлений этносов. “При определении этноса как группы, главной характеристикой которой является осознание людьми своей к ней принадлежности, именно ментальность должна стать основным предметом этнопсихологического и этносоциологического изучения”. [Кукушкин, 2000. С. 137]. Эти исследователи отмечают, что концепция ментальности Л. Леви-Брюля позволяет раскрыть различия между первобытным и современным мышлением, между ментальностью разных народов и культур. Этнопсихологи так суммируют представления Леви-Брюля, “Ментальность понимается как совокупность эмоционально окрашенных социальных представлений членов этнической группы о социальном мире, как умонастроение и склад ума, как система коллективных представлений, верований и чувств, общих для членов данного общества и не зависящая от бытия отдельной личности”. [Кукушкин, 2000. С. 129]. Причем коллективные представления передаются из поколения в поколение и становятся для личности уже не продуктом рассуждения, а предметом веры.
Таким образом, в определении Леви-Брюля основное внимание уделяется представлениям о социальном мире. Сами же В. С. Кукушкин и Л. Д. Столяренко дают более широкое определение: “Ментальность – это система образов, которые лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей, т. е. ментальность – это своеобразное миропонимание, присущее этнической общности в ту или иную эпоху”. [Кукушкин, 2000. С. 137]. В основе этого определения лежит понятие представлений о мире и человеке, т. е. оно сходно с определением мировоззрения. В то же время важно введение понятий поступков и поведения людей, но на мой взгляд не только система образов воздействует на поступки и поведение людей, но и система поведения воздействует на представления о мире и человеке, тем более, что, как отмечается у Леви-Брюля, коллективные представления чаще создаются и передаются не сознательно.
Несколько интересных определений ментальности приводит П. С. Гуревич в пособии по культурологи. “Ментальность (или менталитет) – это относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-нибудь общества”. [Гуревич, 2000. С. 238]. “Ментальность – это то общее, что рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о жизненном мире”. [Гуревич, 2000. С. 240]. Изучая ментальность, необходимо усмотреть “образ мыслей, душевный склад различных типов общностей”. [Гуревич, 2000. С. 241]. Также П. С. Гуревич отмечает, что Э. Фромм ввел понятие “социальный характер”, сходное с понятием ментальности.
Таким образом, в культурологии рассматриваемое нами понятие может характеризоваться как то, что скрепляет единство культурной традиции или единство какого-нибудь сообщества (народа, этноса, цивилизации). Также, как отмечает П. С. Гуревич, ментальность рождается из природных и социальных данных, но исследователь не отмечает, какие именно данные порождают столь сильное единство сообщества.
В материалах "круглого стола" по теме "Российская ментальность" в "Вопросах философии" мы находим более конкретное определение ментальности. И. К. Пантин рассматривает ментальность "как выражение на уровне культуры народа исторических судеб страны, как некое единство характера исторических задач и способов их решения, закрепившихся в народном сознании, в культурных стереотипах". [Российская…, 1994. С. 30].
Используя термин «менталитет» и понимая его как синоним «ментальности», И. К. Пантин дает еще одно интересное определение:
"Менталитет, как мне представляется, это – своеобразная память народа о прошлом, психологическая детерминанта поведения миллионов людей, верных своему исторически сложившемуся «коду» в любых обстоятельствах, не исключая катастрофические". [Российская…, 1994. С. 30].
Особая ментальность может быть присуща народу, этносу, цивилизации, т. е. определенному социальному субъекту. В книге Ахиезера “Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России)” мы находим интересное понимание понятия “социальный субъект”. А. С. Ахиезер считает, что это понятие представляет собой логическую конкретизацию общефилософской категории “субъект”. Категория эта обозначает – источник и носитель рефлексии и творчества. Понятие социального субъекта – результат освоения социальной реальности на общеметодологической основе этой категории. На этом уровне (социальной реальности) социальный субъект выступает как сообщество—субъект, который функционирует особым образом. Как пишет Ахиезер, “каждая социокультурная целостность, т. е. некоторое сообщество – субъект, функционирует как целое, способное быть носителем некоторой воспроизводственной деятельности, направленной на саму себя, на собственное воспроизводство против социокультурной энтропии, против угрожающей опасности”. [Ахиезер, 1998. С. 491]. Также автор добавляет, что сообщество-субъект обладает способностью принимать решения.
Это функциональное определение социального субъекта только подчеркивает, что ментальность направлена против социокультурной энтропии.
В социологическом энциклопедическом словаре (под редакцией Г. В. Осипова) само понятие субъект поясняется в двух смыслах. Один из смыслов такой: субъект – это индивид как носитель каких-либо свойств, личность. Смысл, вынесенный в первый пункт, следующий. Субъект – это “носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид или социальная группа); источник активности, направленный на объект”. [Социологический…, 1998. С. 351].
И действительно, и социальная группа может обладать практической и познавательной деятельностью выступая на этом уровне в роли субъекта. Чтобы выделить этот уровень функционирования социальной общности имеет смысл называть ее социальный субъект.
В толковом словаре общественных терминов мы находим такое определение: “Социальный субъект, социальный актор – та или иная личность, социальная группа, социально-историческая общность, народ, человечество, самостоятельно выступающие на социальной или политической арене”. [Ященко, 1999. С. 403].
Авторы этого словаря считают, что в классовой истории социальными субъектами являлись общественные классы, а с конца XX в. – все человечество превращается в единый и высший социальный субъект.
Автор пособия по социальной философии С. Э. Крапивенский также считает, что понятие социального субъекта правомерно. Он подчеркивает, что человек реализует свои функции как субъекта, как правило, не в одиночку, а будучи включенным в определенные социальные общности – в таких случаях эти общности выступают как совокупные “субъекты социального развития “. [Крапивенский, 1998. С. 335]. Такими социальными субъектами автор пособия называет народ, классы и нации.
Таким образом, социальный субъект – понятие собирательное. Можно выделить социально-государственный субъект – общее представительство деятельного населения в рамках определенной государственности. Можно выделить этно-национальный субъект, который не обязательно связан с одной государственностью или не охватывает ее полностью (например, народы Кавказа). Можно выделить субъект социально-стратификационный (групповой), выделить субъектность интеллигенции, например, духовенства, правящего класса, основной массы населения и отдельных страт: крестьян, рабочих, предпринимателей и т. д.
Общие черты социального субъекта может нести не только один народ, но и целые цивилизации, особенно, когда культурное развитие человечества воспринимают как процесс чередования цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Сорокин). Тогда мы получаем для изучения цивилизационный субъект.
Группируя отдельные цивилизационные сообщества в более крупные сообщества по признаку общей ментальности, мы можем получить конфессионально-цивилизационные субъекты, главное для которых преобладание одной религии.
Также можно выделить общецивилизационный субъект по признаку распространенности научно-технического прогресса и в свете этого развивающий демократизацию культуры.
Далее мы рассмотрим пределы взаимодействия ментальностей цивилизационных субъектов и сравним их с пределами их взаимодействия в России.
Итак, действия социального субъекта направлены против социокультурной энтропии, иначе социальный субъект распадается.
А, как отмечает И. К. Пантин в материалах “круглого стола” “Вопросов философии”, ментальность – это верность социального субъекта (народа в целом, например) исторически сложившемуся культурному коду.
Таким образом, понятие ментальности можно воспринимать как особый исторический код народа или цивилизации, выраженный в культуре.
В книге "Теория и история культуры" упоминается также подход психоаналитической философии к культуре (3. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм). Он заключается в том, что "культура символически кодирует реальность, создавая универсальные образы поведения и мышления, посредством которых осуществляется социализация человека". [Скворцова, 1999. С. 78]. То есть историческая судьба народа порождает соответствующий код культуры, который затем передается следующим поколениям.
Подводя итоги философского "круглого стола", А. П. Огурцов говорит и о трудностях анализа ментальности. Он подчеркивает, что даже в статьях известного отечественного историка А. Я. Гуревича приводятся различные определения ментальности. Это или противоречивая целостность картины мира, или дорефлексивный слой сознания, или социокультурные автоматизмы сознания индивидов и групп, или глобальный, всеобъемлющий «эфир» культуры, в который погружены все члены общества. [Российская…, 1994. С. 51].
В известном философском словаре (под ред. И. Т. Фролова, 2001 г.) понятие “ментальность” и “менталитет” также понимаются как синонимичные термины. Авторы статьи, посвященной этим понятиям, уже известный нам культуролог П. С. Гуревич и его коллега О. И. Шульман. Эти понятия несколько проясняются в этой статье. Определение здесь такое: “Ментальность, менталитет (от лат. mens – ум, мышление, образ мысли, душевный склад) – общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, духовных навыков, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или к.-н. сообщества”. [Философский…, 2001. С.320]. Авторы статьи отмечают, что ментальность характеризует работу коллективного сознания и в этом смысле она представляет собой специфический тип мышления. Но социальное поведение не складывается лишь из аналитической деятельности. На оценку того или иного явления конкретным индивидом влияют его прежний социальный опыт, здравый смысл, интересы, эмоциональная впечатлительность. Поэтому приводится еще одно определение ментальности. “Ментальность – то общее, что рождается в людях из их природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о жизненном мире”. [Философский…, 2001. С. 320]. С этим определением мы уже встречались.
Как отмечают далее авторы статьи, слово “ментальность” особенно продуктивно используется для анализа архаических структур, мифологического сознания. Но сегодня понятие “ментальность” приобрело расширенный смысл. С его помощью толкуют не только отдельные культурные трафареты, но и образ мысли, душевный склад различных типов общностей. В частности, проводят различие между европейской и американской культурами, между западной, восточной и африканской культурами, характеризуют этапы развития собственно европейской культуры (античная, средневековая ментальность, ментальность Нового времени). Говорят также о тоталитарной и бюрократической ментальности, о национальном и детском ментальном сознании. Понятие “ментальность” используется неокантианцами, феноменологами, психоаналитиками. [Философский…, 2001].
В философском словаре, изданном в Ростове-на-Дону в 2004 г., мы находим еще одно определение ментальности. “Ментальность (от лат. разум, мышление, способ мышления, душевное состояние) – полисемантическое понятие для обозначения глубинного уровня человеческого мышления, которое не ограничивается сферой осознанного, а проникает в подсознательное”. [Философский…, 2004. С. 337]. На мой взгляд, указания на многозначность разбираемого нами понятия недостаточно. Хотя подчеркивание того, что ментальность обозначает глубинный уровень человеческого мышления, несомненно, правильное указание. Ведь глубинный уровень мышления оценивается, например, этносом, как один из наиболее важных моментов смысложизненных компонентов общества.
В то же время, в этом словаре приводится и понятие “менталитет”. Отмечается, что изучение менталитета объясняется потребностью выделения в системе общечеловеческого того специфического, что отличает массовые действия одного этноса от другого; при этом наличие “глубинных” уровней у различных народов и есть то общее, что фиксируется понятием менталитета. Таким образом, в понятии ментальности авторы словаря выделяют глубинный уровень мышления, а в понятии менталитет – глубинный уровень поведения. Авторы словаря к менталитету относят привычки, традиции, интуитивное, несознательное, все то, что существует на уровне подсознтельных психических процессов. В то же время полное определение менталитета здесь такое. “Менталитет (от англ. mentality – способность мышления, состав ума, умонастроение) – сформированная система элементов духовной жизни и мировосприятие, которое предопределяет соответствующие стереотипы поведения, деятельности, образа жизни разнообразных социальных общностей (групп), индивидов, которое включает совокупность ценностных, символических, сознательных или подсознательных ощущений, представлений, настроений, взглядов, мировоззрений. Менталитет – это своеобразный “характер” людей”. [Философский…, 2004. С. 355].
Необходимо отметить, что сознательные или подсознательные ощущения, представления и настроения могут также влиять на глубинный уровень мышления и для раскрытия последнего необходимо анализировать и эти черты душевного склада человека или сообщества. Даже в определении Леви-Брюля наряду с системой коллективных представлений в понятие ментальности включены верования и чувства, т. е. общая духовная настроенность.
Что же касается “духовных навыков” в определении П. С. Гуревича и О. И. Шульмана, которые наряду с мыслями и верованиями создают картину мира, то под ними можно понимать привычки, традиции, т. е. особые способы поведения, существующие в обществе бессознательно (привычки) или с определенной степенью осознания, связанной с ценностными приоритетами (традиции). В определении И. К. Пантина ментальность выступает “как некое единство характера исторических задач и способов их решения, закрепившихся в народном сознании, в культурных стереотипах”. [Российская…, 1994. С. 30]. Но не все способы решения исторических задач покоятся на прорефликтированных схемах, поэтому, на мой взгляд, необходимо изучать, при анализе ментальности, и сами необъяснимые, с точки зрения другой культуры, способы поведения, чтобы осознать их истоки с помощью системы глубинных мыслительных и ценностных схем рассматриваемой культуры, реконструируя связи мыслительного и поведенческого.
Теперь рассмотрим методологические и практические требования к определению ментальности.
Рабочим определением понятия ментальности может стать следующее:
Ментальность – полисемантическое понятие для обозначения глубинного уровня человеческого сознания и психики, выражающегося в социальных нормах, ценностях и запретах.
То, что это мышление не ограничивается сферой осознанного, а проникает в подсознательное – недостаточное указание. Помимо понятия подсознательное в психоанализе существует понятие “сверхсознание”. В это понятие включаются социальные нормы, ценности и запреты, которые сдерживают подсознательные стремления человека. Предмет изучения ментальности – в большей степени эта сверхсознательная сфера, так как этносы и цивилизации отличаются именно социальными нормами, ценностями и запретами, а подсознательные стремления человека, в целом, одинаковы. Другой вопрос в том, что социальные нормы, ценности и запреты часто воспринимаются без доказательных схем, покоятся либо на понятии здравого смысла, либо на определенных верованиях.
Глубинный уровень сознания и психики может иметь эмоциональную окрашенность, бессознательные предпочтения, ощущение затрагивания вопросов смысла жизни. Реконструировать этот уровень – сложная задача. Часто ментальность реконструируется исследователем путем сопоставления с другой ментальностью. Это явление особой реконструкции подчеркивает важную методологическую функцию понятия ментальности.
На практике, выделяя глубинный уровень сознания и психики того или иного этноса или той или иной цивилизации, необходимо прояснить образ сознания этой группы в целом, ее духовную настроенность и образ жизни. Проясняемые явления базируются на глубинном уровне сознания и психики, реконструировать который возможно при глубоком знании культурных кодов одного, а чаще многих народов.
Поэтому лаконичное определение из немецкого словаря при определенных поправках можно принять во внимание. Тогда мы получим такое определение:
Ментальность – полисемантическое понятие для обозначения глубинного уровня сознания и психики, которые могут выражаться в общем образе мышления, общей духовной настроенности и способе поведения человека или группы, которые большей частью связаны с определенными ценностными аспектами в отношениях к действительности (с личными и социальными нормами, ценностями и запретами).
Выделение ценностного отношения не только сближает это определение с нашим, но и поясняет, какие именно аспекты интересуют исследователя в первую очередь. Эти аспекты говорят о социализации индивида или группы людей, они служат скрепляющими общество моментами.
В свете сказанного можно согласиться с некоторыми положениями, выводимыми П. С. Гуревичем и О. И. Шульманом. О том, что навыки осознания окружающего, мыслительные схемы, образные комплексы находят в ментальности свое культурное обнаружение, о том, что захватывая бессознательное, ментальность выражает жизненные и практические установки людей, устойчивые образы мира, эмоциональные предпочтения, свойственные данному сообществу и культурной традиции. О том, что ментальность как понятие позволяет соединить аналитическое мышление, развитые формы сознания с полуосознанными культурными шифрами. Заметим, что это также говорит о высоком методологическом и практическом значении понятия “ментальность”. Также исследователи отмечают, что внутри ментальности находят себя различные оппозиции – природное и культурное, эмоциональное и рассудочное, иррациональное и рациональное, индивидуальное и общественное.
Но невозможно согласиться с тем утверждением, что все ценности осознаваемы, что они “выражают жизненные установки, самостоятельный выбор святынь”. [Философский…, 2001. С. 320]. Во-первых, некоторые ценности не всегда доступны пониманию индивида или группы людей, осознаются они с помощью интуиции или просветления, особенно в буддизме. Во-вторых, некоторые ценности для человека неосознаваемы, он поступает так, потому, что это принято, особенно это касается автоматизмов поведения. И, наконец, нужно отметить, что оценочной деятельностью человек занимается на протяжении всей своей жизни, практически нет таких моментов, когда человек не оценивал бы, либо окружающее, либо свой внутренний мир, хотя это может быть не сразу заметно и проходить полуосознанно.
Также неверно утверждение П. С. Гуревича и О. И. Шульмана, что ментальность и идеология не пересекаются. Хотя идеология “как совокупность форм мышления и ценностных представлений” [Философский…, 2001. С. 321] более аналитична, а общественные представления переменчивы и зыбки в отличие от более устойчивой картины мира, но именно идеология входит в число тех проявлений, которые выражают глубинный уровень сознания. Другое дело, что идеология может отличаться от общественной картины мира в целом, но идеология не может быть независима от сознания социальной группы и этноса.
Итак, ментальность – это то, что скрепляет целостность субъекта, это базовая составляющая духовности субъекта. А наиболее удачным определением социального субъекта может быть такое: “Социальный субъект – это сообщество, которое функционирует как целое, способное быть носителем некоторой воспроизводственной деятельности, направленной на саму себя, на собственное воспроизводство против социокультурной энтропии, против угрожающей опасности”.
Таким образом, понятие “ментальность” может иметь для современной науки большое методологическое значение, играя роль своеобразного медиатора между конкретно-историческими по своей сущности компонентами сознания как общественного образования и инвариантными относительно потока исторических изменений образованиями духовной жизни людей, которые фиксируются в понятиях “коллективное бессознательное” (Э. Дюркгейм, К. Г. Юнг) и его “архетипы” (Юнг). Методологическое применение данного понятия должно помочь избегнуть монистически сориентированной односторонности исторического “центризма” любого пошиба – западного, наподобие европоцентризма, восточного, северного, оказать содействие переходу от упрощенного, линейно-прогрессивистского к нелинейному, плюралистическому осмыслению исторического процесса.
Плюралистический подход позволяет выявить внутренние особенности современных цивилизаций и проследить взаимодействие социально-цивилизационных субъектов. Разнородные ментальности таких социальных субъектов имеют особые пределы взаимодействия. Без исследования этих пределов невозможно составить картину религиозных взаимодействий в современном мире. Анализ взаимодействия ментальностей социально-цивилизационных субъектов также помогает прояснить методологическое значение понятия “ментальность”. И хотя в исследованиях чаще встречаются понятия “культура”, “традиция” и “идеология”, эти понятия можно воспринимать как часть той или иной ментальности.
Как отмечает Л. М. Демин во введении к пособию “Взаимодействие культур и проблема культурных влияний” (составлено на основе лекций, читавшихся на отделении журналистики филологического факультета РУДН), культура более высокая поглощает более низкую. При этом даже завоеватели с более слабой культурой перенимают материальную, политическую и экономическую культуру покоренного народа. В истории это случилось с монголами и маньчжурами в Китае. Татаро-монгольские завоеватели оставили меньший след в культуре русских по сравнению с влиянием княжеств Руси на жизнь этих завоевателей. [Демин, 1999. С. 4].
Также Л. М. Демин обращает внимание на то, что в развитии и обогащении культуры любого народа большую роль играют влияния культур других народов. Возможно, улучшаются и культурные коды, определяющие ментальности.
Еще более сильное утверждение мы встречаем в статье Л. Б. Алаева “Темп и ритм индийской цивилизации”: “Взаимодействие цивилизаций … – один из основных стимулов развития.” [Алаев, 1992. С. 113]. Отсюда он делает вывод о ценности каждой цивилизации. “Более того, признание индивидуальности каждого из путей [т. е. ментальностей, выраженных в действиях] и есть путь к осознанию подлинного единства человеческой истории”. [Алаев, 1992. С. 113].
В. М. Хачатурян в статье “Проблема цивилизации в “Исследовании истории” А. Тойнби в оценке западной историографии” отмечает сходное с мнением Л. М. Демина положение Тойнби о том, что цивилизации, достигшие полного расцвета, могут равномерно и последовательно распространять идеи и технические нововведения на окружающие культуры. [Хачатурян, 1992. С. 220]. Это положение частично принимается и западным исследователем М. Мелко в его статье “Взаимодействие цивилизаций. Очерк”, но он считает более важным другой момент: условия, при которых воспринимающая цивилизация может усвоить чужеродное влияние. Исследователь считает цивилизацию в целом весьма устойчивой структурой, разрушить которую, как правило, нелегко. Он отмечает, что для изменения цивилизации необходимо соответствие “инкорпорирующего материала” внутренним потребностями цивилизации и степени потребности в изменении структуры общества. Поэтому постоянно изменяющиеся цивилизации оказываются более восприимчивыми к влияниям извне. Фактором, препятствующим усвоению влияния, М. Мелко считает то состояние цивилизации, при котором все ее институты находятся в относительной гармонии. [Melko, 1969, Р. 566]. М. Мелко развивает также идею Тойнби о том, что цивилизация не может быть уничтожена извне, пока она не завершит предназначенный ей внутренний путь развития. На наш взгляд, это касается и самой замкнутой цивилизации современности – исламской цивилизации.
Особенностям развития ментальностей восточных цивилизаций посвящена статья Л. С. Васильева “Цивилизации Востока: специфика, тенденции, перспективы”. Он отмечает, что понятие “цивилизации Востока” – это хорошо фиксируемый историей социокультурный феномен, имеющий отношение не столько к географии или этнографии, сколько к религии и тесно связанной с ней, определяемой ею этико-культурной традиции. Автор статьи выделяет три традиции-цивилизации: арабо-исламскую, индо-буддийскую и китайско-конфуцианскую (конфуцианско-дальневосточную).
Л. С. Васильев отмечает, что эти традиции имеют свои особенности, определяющие перспективы их развития.
Арабо-исламская традиция-цивилизация характерна сильным акцентом на религиозно-детерминированное социальное поведение человека. Нормы религиозного (шариат) и обычного (адат) права регулируют не столько права индивида, сколько его социальные обязанности. Причем ни один человек внутри этой традиции не ощущает себя обычно ни приниженным, ни бесправным, хотя со стороны внешнего наблюдателя социальное устройство этой цивилизации выглядит крайне деспотичным.
Человек индо-буддийской традиции-цивилизации ждет освобождения от “пут” мира. Постулат о высшей справедливости кармы, воздающей каждому по заслугам, усиливает социальную пассивность индивида.
Китайско-конфуцианская (конфуцианско-дальневосточная) традиция-цивилизация основана на относительном безразличии к религии и характеризуется подчеркнутым вниманием к сфере социальной этики и политики. Как отмечает Л. С. Васильев, “патернализм в семье (культ предков) и обществе (культ старших), культура тяжелого повседневного труда, как физического, так и умственного, культ знаний и способностей способствовали воспитанию в человеке творческой энергии, инициативы и предприимчивости – тех самых качеств, которые столь нужны для достижения успеха в системе рыночно-частнособственнической европейского типа структуры”. [Васильев, 1995. С. 146]. В самом Китае при жестком социальном устройстве частнособственнические отношения были невозможны, но в других странах китайские меньшинства (хуацяо) достигали больших экономических успехов и процветания.
Для арабо-исламской и индо-буддийской цивилизации характерна ориентация на религиозную доктрину, на потусторонний мир, тогда как китайско-конфуцианская традиция обращена на успех в этом мире (в том числе, социальное продвижение в обществе). В связи с этим, считает Л. С. Васильев, наилучшие перспективы развития в современном мире у конфуцианской цивилизации. Автор статьи приходит к парадоксальному выводу: “Из всех трех великих цивилизаций Востока далее всего от европейской антично-христианской стоит наиболее близкая к ней по истокам, примыкающая к ней географически и сходная структурно (монотеизм) – исламская. Из двух других относительно ближе к европейской по ряду основных показателей находится дальневосточная, наиболее отдаленная и генетически ей чуждая”. [Васильев, 1995. С. 148].
Отметим, что в России ситуация несколько сложнее. Российская ментальность всегда отличалась высокой духовностью и толерантностью, поэтому христианская и исламская духовность редко входили в противоречие. Что же касается отношения к светской культуре и политике, то и тут действительно конфессиональные системы не всегда чувствовали созвучность с секуляризированными фрагментами общества.
Запад и Восток не всегда удачно взаимодействовали. Эти огромные социальные субъекты имели в истории те особенности менталитета, которые мешали диалогу.
Исследование типов взаимодействия ментальностей Востока и Запада разбирается в статье Б. С. Ерасова “Цивилизационные измерения модернизации. Концепции симбиоза, конфликта и синтеза культур Запада и Востока”. Как отмечает автор статьи, модернизационное воздействие Запада вызвало определенные общественные процессы на Востоке, отраженные в общественной мысли.
Первый тип взаимодействия – симбиоз – можно представить как минимальное взаимодействие, при котором поддерживается относительно независимое существование традиций и современности во взаимно изолированных сферах. Как отмечает Б. С. Ерасов, уже на протяжении более ста лет выдвигаются различные концепции сочетания западной и восточной культур через выделение наиболее существенных достижений. Такого рода концепции приобретали форму “соединить западную технику и восточную мораль”, “работу и молитву”, науку и человеческие ценности, рационализм и гуманизм и т. д. [Ерасов, 1998. С. 487]. Сосуществование этих достижений и принимает форму симбиоза.
Второй тип взаимодействия ментальностей Запада и Востока – конфликтное взаимодействие. Уже с начала XX в., как в выступлениях азиатских, африканских и латиноамериканских идеологов, так и в научных исследованиях развертывается радикальная критика воздействия Запада на социокультурную сферу освободившихся стран. Как отмечает Б. С. Ерасов, видным выразителем такого рода идей стал М. К. Ганди. “Подвергая тотальной критике Западную цивилизацию (воплощенную в британской культуре и политике) прежде всего за ее чрезмерную материалистическую ориентацию, забвение духовных ценностей и атомизацию общества, М. К. Ганди полагал, что общество может в значительной степени обойтись без индустриализации, приводящей к деградации человека, без культа потребления, без классовой эксплуатации”. [Ерасов, 1998. С. 488].
Как отмечает Б. С. Ерасов, критика незападных мыслителей долгое время носила преимущественно религиозный, философски-теологический и идеологический характер. И хотя религия по-прежнему остается важным средством цивилизационного самосознания, с 60-х гг. эта критика все более “онаучивается” и облекается не столько в понятие самобытной духовности, сколько в понятия социальной философии и цивилизационной теории. [Ерасов, 1998. С. 488]. На наш взгляд, это происходит в связи с тем, что незападные мыслители хотят сделать свою аргументацию доступной для западного типа мышления.
Пример цивилизационного подхода мы находим в рассуждении профессора Тегеранского университета Д. Шайегана (в его статье “Вызовы современности и культурная идентичность.”[Shayegan, 1977]). По его мнению, в прошлом имел место плодотворный диалог между цивилизациями, в результате которого происходило создание великих культур Запада и Востока. Однако “вызов Нового времени” принципиально отличается от взаимодействия культур в прошлом, так как речь идет о тотальном противостоянии исходных принципов организации социального и индивидуального бытия. Для Запада это принципы исторической эволюции, отделенности души, существующей независимо как от чувственного воспринимаемого, природного, так и от сверхчувственного мира, примат воли и сведение мироздания к количественным характеристикам. Утвердившаяся здесь секуляризация мира означает и его деспиритуализацию, крайнюю объективизацию природы, из чего исходит сциентистское и техницистское отношение к миру. Принципиально иными являются принципы восточных цивилизаций. История здесь имеет священный характер и непосредственно связана с эсхатологией. Человеческие инстинкты и воля не принимаются за основные движущие силы истории. Напротив, как в исламе, так и в индуизме, им отводится подчиненное место или же они воспринимаются как тяжкое бремя, от которого необходимо избавиться.
Д. Шайеган отмечает, что синтез культур невозможен в условиях засилья инородных для Востока ценностей, которые направлены не на гармонизацию отношений в обществе или отношений человека с природой, а на голый практицизм, ведут к безжалостной эксплуатации природы и подрыву условий человеческого существования. Происходит жестокое столкновение двух типов бытия, между которыми, по мнению профессора, невозможно установить согласие и равновесие.
Также Д. Шайеган отмечает упадок внутренних сил и динамики исламского общества, необходимых для того, чтобы дать конструктивный ответ на вызов Запада.
Давление Запада вызывает неоднозначную реакцию и в африканском обществе. Как пишет видный африканский ученый А. Мазруи в работе “Мировая федерация культур: африканская перспектива”. ([Mazrui, 1976]): “Господствующая культура вызывает одновременно восхищение и отвращение, стремление к подражанию и протест приобщившихся к ней.” [Ерасов, 1998. С. 491]. Чувство зависимости от Запада сочетается с постоянным раздражением по поводу его давления. Это создает экзистенциальную напряженность (характерную сейчас как для африканского общества, так и для мусульманских мыслителей), выливающуюся в резкое нарушение взаимодействия культур и во всесторонний отказ от модели модернизации в целом. На наш взгляд, истоки этой ситуации – в позиции Запада, выражающейся в преподнесении собственных принципов как единственно верных. Это отмечено и в работе С. Х. Насра “О столкновении принципов западной и исламской цивилизации”. [Наср, 1998].
Третий тип взаимодействия ментальностей Запада и Востока, рассматриваемый Б. С. Ерасовым, – синтез. Исследователь определяет синтез как взаимное приспосабливание идущей с Запада модернизации и самобытности, присущей каждой из развивающихся стран. С точки зрения Б. С. Ерасова, в этом процессе стирается противопоставление обоих начал и возникает некоторое новое состояние культуры в целом, означающее ее качественное преобразование при сохранении предшествующего достояния.
В теоретическом плане концепция синтеза может послужить альтернативой западному представлению об “идеальном типе” модернизации, полностью вытесняющей и заменяющей как прежние типы хозяйства, так и традиционные социальные связи и ценностно-смысловые компоненты культуры.
Как отмечает Б. С. Ерасов, в идеологическом плане проекты такого синтеза разрабатывались в различных концепциях “национального социализма”, зачастую связанных не столько с собственно национальными, сколько с цивилизационными принципами самобытности (“исламский”, “буддийский”, “индийский” социализм). С этим утверждением, к сожалению, невозможно согласиться. Идеологи “исламского” или “буддийского” социализма выводят основы такого социального устройства не из западных социалистических или демократических принципов, а из принципов религиозной солидарности и восточного коллективизма. “Исламский” социализм даже противопоставляется принципам западной демократии, идеологи такого социализма считают демократические принципы раннего ислама и принципы равенства людей исламской общины в покорности перед волей единого Бога гораздо более совершенными, чем безответственность и атомизированность личности в западной демократии или бездуховность и социальная пассивность личности в бывших коммунистических режимах Восточной Европы. И та, и другая крайность, с точки зрения мусульманских идеологов, в развитии западного мира (коммунизм и свободный рынок) вызваны, с их же точки зрения, именно модернизационными процессами “Нового” и “Новейшего” времени (исторические термины говорят сами за себя).
Исламские государства отторгли ценности западного нигилизма и коммунизма, в них же можно наблюдать и полное отторжение современных западных ценностей. Неоспоримый пример – идеологическая атмосфера “послереволюционных” современных Ирана и Ирака, несмотря на различия в понимании ислама и принципов социальной организации в этих странах. Наиболее ярко выражено такое отторжение в деятельности ваххабитских движений, которые стремятся довести до логического абсурда принципы “исламского социализма”. Наиболее отчетливо это проявилось в начале XXI века, что позволяет говорить о устаревании оптимистических прогнозов возможности взаимодействия – синтеза хотя бы в рамках мусульманского Востока. Даже такое, вполне модернизированное, с точки зрения Запада, государство, как Пакистан, строит “исламскую” экономику, исходя отнюдь не из принципа свободной конкуренции, а из норм шариата. Противопоставление западной модернизации и традиций здесь никогда не исчезало. В самых модернизированных, с точки зрения Запада, мусульманских странах – Турции и Египте, такое противопоставление всегда присутствует в идеологических течениях.
Возможно, несколько перспективнее для синтеза обстоит дело с буддийскими и индийскими теориями социальной справедливости, но на наш взгляд, дальше симбиоза на буддийском Востоке социальные и идеологические процессы не продвинутся. Ярким примером симбиоза мы считаем современное состояние Японии и стран Азиатско-тихоокеанского региона. Причем свою нишу в культурах этих стран занимают не западные ценности, а, в первую очередь, западные материальные достижения.
Что же касается синтеза, то его примеры можно найти в странах Латинской Америки (см. Шемякин Я. Г. Специфика латиноамериканской цивилизации, 1998). Причем, возможно, качественное преобразование латиноамериканской культуры в слишком сжатые сроки и привело в итоге к жесткому кризису в экономической и социальной сфере стран Латинской Америки.
Страны исламской цивилизации стремятся избегать таких кризисов, давление Запада не устраивает их политические элиты. При попытках модернизации западные ценности отторгаются, а идеологический вакуум заполняется фундаменталистскими течениями. Эти факторы способствуют развитию такого типа взаимодействия, как конфликт.
В России такая конфликтность возникает не между христианскими и мусульманскими объединениями, а между этими объединениями и светским управлением общества, скопированным с Запада (особенно, теория свободного рынка).
Говоря о конфликтах, невозможно не упомянуть и теорию известного исследователя С. Хантингтона.
В обзоре книги С. Хантингтона “Конфликт цивилизаций и повторное установление мирового порядка”. [Huntington, 1996] мы находим интересный анализ взаимоотношений Запада и Востока.
С точки зрения С. Хантингтона, до 1500 г. контакты между цивилизациями либо не существовали, либо имели ограниченный характер, лишь иногда прерываемый интенсивным общением. Содержание этих контактов хорошо выражается словом “встречи”, которое обычно употребляют историки. Цивилизации были разделены временем и пространством.
К 1500 г. спорадические и ограниченные “встречи” между цивилизациями сменились постоянным и широким воздействием Запада на все остальные цивилизации. К началу XX в. западное господство охватило большую часть мира.
Как отмечает С. Хантигтон, прямым источником западной экспансии было технологическое превосходство. “Запад покорил мир не благодаря превосходству его идей, ценностей или религии (в которую были обращены немногие члены других цивилизаций), а именно благодаря превосходству в применении организованного насилия. На Западе часто забывают об этом, в незападных цивилизациях это помнят постоянно”. [Хантингтон, 1998. С. 510].
Глобальные конфликты в мире претерпели определенную эволюцию. Как отмечает С. Хантингтон, после Вестфальского мира в западном ареале конфликты разворачивались главным образом между государями, после французской революции – между сформировавшимися нациями. Конец такой модели конфликтов положила первая мировая война. А затем, в результате революции 1917 г. в России и ответной реакции на нее, конфликт наций уступил конфликту идеологий. Сторонами такого конфликта были вначале коммунизм, нацизм и либеральная демократия, а затем – коммунизм и либеральная демократия. Во время “холодной войны” этот конфликт воплотился в борьбу двух сверхдержав, ни одна из которых не была нацией – государством в классическом европейском смысле. Их самоидентификация формулировалась в идеологических категориях. [Хантингтон, 1998. С. 511].
По окончании “холодной войны” конфликт идеологий уступает место более сложным конфликтам. “Деление человечества, вызванного “холодной войной”, более не существует, однако сохраняется и порождает новые конфликты деление народов по этническим, религиозным и цивилизационным признакам”. [Хантингтон, 1998. С. 514].
С. Хантингтон считает, что рост цивилизационного самосознания приведет к углублению понимания различий между цивилизациями и общности в рамках одной цивилизации. Отметим, что это уже происходит в современном мире. Страны группируются в цивилизационные блоки, усиливается экономический регионализм.
Особо ярким фактором консолидации внутри одной цивилизации в современном мире С. Хантингтон считает религию. “Религия еще в большей степени, чем национальность, привязывает человека к определенному культурному ареалу: можно быть наполовину французом и наполовину арабом, но невозможно быть наполовину католиком или наполовину мусульманином”. [Хантингтон, 1998. С. 516].
Автор отмечает, что у всех крупных политических идеологий XX в. (“либерализм, социализм, анархизм, консерватизм, национализм, фашизм, христианская демократия”) есть одно общее – они продукты западной цивилизации. С точки зрения С. Хантингтона, ни одна другая цивилизация не выработала крупной политической идеологии. Запад же не породил сколько-нибудь крупной религии. “Все великие мировые религии – плоды незападных цивилизаций и в большинстве своем появились раньше западной цивилизации. По мере того как мир выходит из своей западной фазы, идеологии, знаменовавшие собой позднюю пору западной цивилизации, приходят в упадок, а их место занимают религии и другие формы идентичности и убеждений, в основе которых лежит культура. Происшедшее после Вестфальского мира отделение религии от международной политики доживает свои дни, и религия во все большей степени вмешивается в международные отношения. Межцивилизационное столкновение культур и религий вытесняет рожденное Западом внутрицивилизационное столкновение политических идей…” [Хантингтон, 1998. С. 515].
Исследователь отмечает, что наряду с привычными формами религии возникают фундаменталистские религиозные движения, вызываемые разрушением незападных систем ценностей и уклада жизни, вызванных в свою очередь, с его точки зрения, экономической модернизацией и сопровождающими ее социальными изменениями. С. Хантигтон обращает внимание, что подобные движения сложились не только в исламе, но и в западном христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме.
Со вступлением в XXI век мы вступили в очень сложный мир, реагирующий неоднозначно и не всегда линейно. С. Хантингтон считает, что центральной осью мировой политики будущего, видимо, будет конфликт между Западом и остальным миром. С этим можно не согласиться, так как существуют также противоречия между восточными цивилизациями и внутри них самих, но несомненно то, что западные амбиции долгое время еще будут раздражающим фактором в отношениях Запада и Востока.
С. Хантингтон опасается за существование западной цивилизации. Он рекомендует своеобразный выход из сложившейся ситуации. “Выживание Запада зависит от способности американцев утвердить свою западную идентичность и способности Запада принять свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную, объединиться и обновить ее и противостоять вызовам со стороны незападных обществ. Возможность избежать глобальной войны цивилизаций зависит от того, насколько мировые лидеры способны принять этот вызов и пойти на сотрудничество для поддержания многоцивилизационного характера мировой политики…” [Хантингтон, 1998. С. 509].
Здесь важны два момента. Признание западной цивилизации не в статусе универсальной, а в статусе уникальной, и признание многоцивилизационного характера мировой политики.
В то же время теория Хантингтона имеет свои недостатки. Так период до 1500 г. характеризуется не редкими встречами цивилизаций, а большими культурными заимствованиями.
И молодой мусульманский мир почерпнул многое из Греции, Персии, Индии, и средневековая Европа многое взяла из культуры мусульман. Этой теме посвящены труды Г. Э. фон Грюнебаума и У. М. Уотта и других исследователей.
Вторая ошибка С. Хантингтона касается межцивилизационного столкновения культур и религий. В рамках России такие столкновения связаны только с конфликтностью ваххабизма и тоталитарных сект, в то же время традиционные конфессии все больше положительно взаимодействуют. Конфессиональная конфликтность истории России, несомненно, была мягче по сравнению с таковой на Западе. Это объяснялось и этноконфессиональной однородностью верующих (отсюда – отсутствие конкуренции). Если ты татарин, то мусульманин, если русский – православный, если немец – лютеранин и т. д.
Нельзя обойти вниманием и особенности российской ментальности. Журнал “Вопросы философии” в 1992 году провел “круглый стол” на тему “Россия и Запад: взаимодействие культур”. Интересные мысли были высказаны участниками обсуждения по поводу российской ментальности.
В. И. Толстых (доктор философских наук, Институт философии РАН) считает, что культурное основание российской ментальности – это сила нравственного потенциала России. К. М. Кантор (кандидат философских наук, Институт сравнительной политологии и проблем рабочего движения) говорит о том, что величайшее создание русской культуры – российская государственность. Л. В. Поляков (кандидат философских наук, Институт философии РАН) предлагает в поисках новой российской идентичности добавить к парадигме “странничества” (парадигме ухода, разбегания, вечного поиска в себе и во вне) парадигму “обустройства” (парадигму концентрирования в каком-то месте).
Г. Р. Иваницкий (член-корреспондент РАН) обращает внимание, что Россия находится между Востоком и Западом. “Если попытаться искать гены восточной культуры, то ее отличие, конечно, в том, что во главе стоял примат коллективизма. Это было наиболее характерное свойство старой восточной идеи. Если же посмотреть на западную культуру эпохи, скажем, Джека Лондона, то, конечно, там превалировала индивидуальность. Россия же находится в каком-то промежуточном варианте”. [Россия…, 1992. С. 19].
Ю. М. Бородай (кандидат философских наук, Институт философии РАН) ставит вопрос о том, необходимо ли правовая система по западному образцу избавляет от тоталитаризма. “Иван Грозный был чрезвычайно жесток. Но в его время на Руси была развитая многоступенчатая система самоуправления и даже суд присяжных – целовальники. Все это искоренял Петр…”[Россия…, 1992. С. 22]. Ю. М. Бородай считает признаком тоталитаризма всеобщую унификацию в обществе и находит ее именно в буржуазных отношениях.
Чтобы лучше понять особенности взаимодействия ментальностей в России необходимо выделить общие особенности ментальности самой России. Попытки сделать это уже предпринимались философами. Приведем обзор этих поисков, чтобы лучше знать и ментальность российского философского сообщества.
Э. Ю. Соловьев (доктор философских наук, Институт философии РАН) после выступления Ю. М. Бородая становится на защиту правовой идеи и говорит, что ее заимствование – спасение для России. Он напоминает, что призвание России подсказывается знаменитой пушкинской речью Ф. М. Достоевского, где самобытность русской культуры определяется как всеотзывчивость, т. е. предельная открытость к чужому историческому опыту.
Э. Ю. Соловьев считает, что правозащитное движение в России было решительным разрывом с парадигмальным антиюридизмом, о котором Ф. А. Степун еще в 1925 г. с горечью говорил: “Через всю историю русской мысли если не красной линией, то все же красным пунктиром проходит домысел, что право – могила правды, что лучше быть бьющим себя в перси грешником, чем просто порядочным существом…” [Россия…, 1992. С. 27].
Ю. М. Бородай обращает внимание на то, что правовая идея может оттеснить проблемы человека и этноса на задний план. “По поводу формулы: “Пусть погибнет мир, но торжествует справедливость”. Вопрос: какая справедливость? Пример: русское государство было, между прочим, все-таки не западным государством. В своде законов Русской империи учитывалась, например, такая вещь: общечеловеческой справедливости нет, поскольку справедливость у каждого из народов своя. Крепостничество было в центральных областях России, и на Кавказе тоже. Но ценностные ориентации у разных народов были различными. Поэтому было, скажем, оговорено для Кавказа специально, что если на честь жены простого крестьянина будет покушение со стороны помещика и крестьянин убьет последнего, то он не несет за это ответственности. Для кавказского человека убийство в такой ситуации – нравственный долг. Для русского это не так очевидно. Это в то же самое время, когда в Восточной Германии, вплоть до наполеоновских войн, еще было право первой ночи”. [Россия…, 1992. С. 28].
Таким образом, Ю. М. Бородай показывает, что Россия в своей истории с уважением относилась к ценностям малых народов, проживающих на ее территории. Заканчивает он свое выступление таким положением: “Ценность – не истина, это разные вещи. Ценность – это принцип соборной веры, это то, что я и народ мой считаем добром”. [Россия…, 1992. С. 28]. Ю. М. Бородай обращает внимание, что слепое перенимание западной правовой системы входит в противоречие с культурой России.
Вначале 1993 г. в редакции “Вопросов философии” также прошло заседание “круглого стола” на тему: “Российская ментальность”. Определения ментальности, данные там И. К. Пантиным, уже приводились в начале нашей работы. Интересно теперь проследить высказывания по поводу особых черт российской ментальности.
И. К. Пантин (доктор философских наук, зав. лабораторией Института философии РАН) пытается несколько необычно прочертить сквозные линии исторического прошлого нашей страны. Он считает, что двоякого рода задачи специфичны для истории России на протяжении нескольких столетий. Во-первых, это борьба за объединение Руси, за выживание страны перед лицом нашествия иноземных полчищ (татаро-монголы, поляки во времена Смуты, французы, немцы). Во-вторых, модернизация народного хозяйства, обновление общественного и экономического строя (“европеизация”). Характерно, что большинство этих задач россияне решали с помощью сильной власти. И. К. Пантин приводит несколько примеров, подтверждающих эти положения. “Ни Киевской Руси, ни Новгородской не удалось стать основой объединения Руси прежде всего потому, что феодально-торговую аристократию (а в Вильне – феодально-земельную) не поддержали народные низы. И, наоборот, поддержка со стороны этих низов Царя Московского, Православного обусловила политическое возвышение, а затем политическую гегемонию Москвы в деле собирания русских земель. Точно так же дело обстояло и по окончании Смуты, когда позиция “мизинных людей”, “тяглых мужичков” сыграла решающую роль в восстановлении монархии. (Не случайно И. Солоневич говорил о “народной монархии”)”. [Российская ментальность, 1994. С. 30].
И. К. Пантин обращает внимание, что монархическая традиция в сознании народных масс была преобладающей на протяжении веков – вплоть до начала XX в. “Неопределенная общность, бесформенная, мало структуированная, лишенная внутреннего строя, объединялась в критические моменты своего существования вокруг идеи сильной, неограниченной формальными установлениями монархии.” [Российская ментальность, 1994. С. 30].
Такого рода гипертрофия надежд на верховную власть объясняется, по Пантину, рядом причин, “среди них – огромность пространств России, отрезанность, вследствие плохих средств сообщения, сельского населения страны от городов и столицы, чересполосица культур и цивилизаций, необходимость подчинения отдельных интересов интересам целого, потребность поддержания политической традиции, которая бы сдерживала социальную и национальную конфронтацию и т. п. Однако главная причина, думается, заключалась “в недостатке скрепляющей силы” (Н. Эйдельман), роль которой на Западе играло “третье сословие”. Благодаря слабой структурированности народа, отсутствию “третьего сословия”, исторической инерции населения, интересы целого в России, как правило, представляла верховная власть…” [Российская ментальность … С. 32].
Таким образом, можно было бы сказать о “монархической доминанте” в российском менталитете, но, как отмечает Пантин, Октябрь, послеоктябрьская эпоха вытравили пиетет перед царской монархией в душах миллионов и миллионов людей. Сошли на нет, уничтожены дворянство и дооктябрьское крестьянство – основные носители монархической идеи в России. Также коренным образом изменились условия жизни населения. Смешались поколения, приобретен другой опыт и, как считает Пантин, идея монархии не является больше ответом на жизненные вопросы народа. Заканчивает эти рассуждения И. К. Пантин так: “И все же то в характере россиян, что породило когда-то монархию в России (а затем тоталитаризм), не ушло окончательно из менталитета народа, до сих пор живо в сознании и привычках россиян”. [Российская ментальность… С. 32].
А. С. Панарин (доктор философских наук, заведующий лабораторией Института философии РАН) обращает внимание на то, что мы живем в культуре, переживающей очередную фазу модернизации. При этом важное значение приобретает понятие менталитета, в особенности консервативного менталитета, включающего и неосознанные барьеры культуры.
Как отмечает А. С. Панарин, современные модернизаторы не могут игнорировать прозрения постмодернизма. Во-первых, это касается того, что новейшие социальные формы, которые они собираются заимствовать – рыночная экономика, парламентарная демократия, правовое государство и т. п. – не являются культурно-нейтральными. Эти структуры только на поверхности выступают как безразличные к менталитету социальные технологии. На самом деле, по мнению Панарина, эти структуры имеют глубинную социокультурную основу, которую модернизатору предстоит выявить, прежде чем принимать решения о переносе их на почву своей культуры. “Культура выступает, с одной стороны, как традиция, способная тормозить определенные новации, если они не соответствуют ее “архетипам”. С другой стороны, она выступает как “церковь” – инстанция, которой дано легитимировать те или иные начинания, давать им духовную санкцию, освящать или, напротив, “отлучать” их. И хотя культурная легитимация, в отличие, скажем от политико-правовой, носит неявный, неформальный характер, значение ее не следует преуменьшать.” [Российская ментальность… С. 34] В истории мы неоднократно наблюдаем, как преобразовательная воля иссякает, наталкиваясь на скрытые социокультурные барьеры.
Во-вторых, в постмодернизме речь идет об открытии известных “инвариантов” бытия, посягательство на которые угрожает опасными деформациями. “Об этих инвариантах сегодня свидетельствует экология и культурная антропология, противостоящие произволу “прометеевой воли”, направленной на переделку природы, культуры и истории”. [Российская ментальность… С. 34]
Как отмечает А. С. Панарин, понятие инварианта не следует натурализовать. “Наряду с природными инвариантами, выступающими на уровне биогеоценозов, существуют и инварианты культуры – долговременные структуры архетипического или ценностного порядка. К последним относятся, например, известные десять заповедей. Кроме того, есть инварианты национальной истории. В истории народов тоже имеются ключевые события этногенеза, влияющие на формирование стереотипов национального поведения и неосознанно воспроизводящиеся в каждом новом поколении”. [Российская ментальность… С. 34]
А. С. Панарин напоминает об этом в виду нетерпеливого желания “вестернизаторов” России поскорее переделать наш менталитет и в виду их сетования на консерватизм российского массового сознания, сопротивляющегося “благонамеренному реформаторству”. В этой связи, подчеркивает философ, следует поразмыслить о новой социокультурной роли консерватизма. “Современный консерватизм нередко выступает как реакция на угрозу тотальной дестабилизации, спусковым крючком которой могут стать непродуманные почины в любой сфере бытия”. [Российская ментальность… С. 34]
А. С. Панарин анализирует особенности модернизма и консерватизма таким образом. “Прежний модернизаторский пафос имел свои основания, онтологические и социологические. В онтологическом смысле вчерашний природный и социальный миры отличались значительным запасом устойчивости. Проблема состояла в том, как повысить пластичность мира, его отзывчивость по отношению к новым притязаниям человека. В социологическом отношении основой модернизации были многочисленные слои населения, которым, как пролетариям Маркса, было нечего терять. Их социальное недовольство и нетерпение питало нетерпение прометеевой воли новоевропейского человека, замыслившего преобразовать и рационализировать мир.
Сегодня оба эти основания модернизма существенно поколебимы. В онтологическом смысле мир природы и культуры стал слишком хрупок. Ослабление скрепок природы – биогеоценозов, с одной стороны, скрепок культуры – обычаев и норм, с другой стороны, привело к тому, что любое резкое вмешательство способно вызвать цепную реакцию непредсказуемых последствий. Простор для жестких промышленных или социальных технологий ныне ограничен. В социологическом смысле базу современного консерватизма составляет растущий слой людей, которым есть что терять. В этой связи теоретики неоконсерватизма отмечают, что социальный консерватизм имеет тенденцию к постоянному расширению и смещению вниз, от элит к массам. Он отражает реакцию массового сознания на риск тотальной дестабилизации”. [Российская ментальность… С. 34]
Как отмечает А. С. Панарин, все эти вопросы приобрели особую актуальность в России. “В отличие от других стран и регионов, стабильность которых поддерживается сразу на двух уровнях, национальном и цивилизационном, Россия прочных цивилизационных скрепок не имеет, у современных западных народов имеется двойная идентичность, национальная (“я – француз”, “я – немец” и т. п.) и цивилизационная (“я – европеец”). Импровизации национального духа здесь корректируется в соответствии с общими нормами западной цивилизации. У России нет этих метанациональных гарантий. Ее миропотрясательные почины не корректируются своевременно в соответствии с более общими цивилизационными нормами. Ее промежуточное положение между Востоком и Западом сообщает особую хрупкость ее цивилизационным синтезам. Российский реформатор, даже преследуя ограниченные социально-политические цели, всегда рискует задеть те цивилизационные скрепы, которые фиксируют положение страны на осях Север – Юг, Восток – Запад, и тем самым поколебать ее цивилизационную идентичность”. [Российская ментальность… С. 35]
В развитии России могут быть два пути: путь жесткой модернизации или мягкий путь, связанный с постмодернизмом, который призван сохранить самобытность народа. Как считает А. С. Панарин, «если постмодернизм – это всего лишь стилизация современной культуры, остающейся в своих основах модернистской и лишь кокетничающей с традицией в духе стиля “ретро”, то неевропейские менталитеты обречены на жесткую реконструкцию в виде модернизации и вестернизации. Если же постмодернизм – серьезное решение современной цивилизации, пришедшей к необходимости аскезы – потребительского и технологического самоограничения во имя сохранения природы, культуры и морали, то нас ждет реабилитация неевропейских культур, становящихся по-новому современными и престижными. Это не означает отказа от реформ и модернизаций; речь идет лишь о реабилитации культурного и цивилизованного разнообразия. Реформационная педагогика может выступать в двух формах: в мягкой, основанной на герменевтической традиции понимания, и жесткой, выражающей рационалистическую гордыню всеведающего объяснения. Здесь, как и в индивидуальной педагогике, возможны два исхода: облагородить сильный и самобытный характер, постепенно его шлифуя, или подавить и сломать, добиваясь полной “пластичности” и “адаптированности”». [Российская ментальность… С. 36].
Итак, Россия находится между Востоком и Западом. Характерные черты ее ментальности: сила нравственного потенциала, сильная государственность, открытость к чужому историческому опыту, уважение традиций малых народов и определенный консерватизм. Также Россия объединяет в своем социокультурном пространстве три мировые религии – христианство, ислам, буддизм. Опыт мирного сосуществования этих религий в России неоценим для взаимодействия мировых цивилизаций.
Что же касается вышеупомянутой герменевтической традиции, то ее, несомненно, нужно применять к изучению конфессиональных элементов ментальности.
Термин “герменевтика” имеет различные трактовки. Это и искусство интерпретации (толкования) текстов (В. Гумбольдт, В. Дильтей, Г. Г. Шпет). Это и теория понимания, постижения смысла (М. Хайдеггер), в том числе и “искусство постижения чужой индивидуальности” (Ф. Шлейермахер).
В нашей работе применялась интерпретация сложных текстов – социальных доктрин церквей, когда на основе понимания частей этих текстов складывалась общая картина мировоззрения, а на основе целого интерпретировались части, которые понимались также из современной жизни церквей. Сама же жизнь церквей объяснялась и из ценностных установок, отраженных в конфессиональных документах.
Мыслители такого направления, как “философия жизни”, воспринимали понимание как переживание и сопереживание. Такие аспекты понимания также проявились в нашей работе, особенно, при анализе сложностей существования церквей.
Постижение конфессиональной жизни предполагает и принятие широких конфессиональных установок, особенно, выработанных в диалоге ментальностей, как объективно существующих. Эти установки невозможно и не нужно отрицать, т. к., независимо от нас, они будут существовать. Мы можем их не поддерживать, но не можем их не воспринимать как данность.
Несомненно, что “понимающие” подходы при анализе конфессиональных элементов ментальности мы можем соединить с “объясняющими” подходами. Так, анализируя конфессиональную статистику в России, мы используем объяснение ее особенностей через подведение их к социально-политическим особенностям развития современной России и мира в целом.
В современной науке и объяснение, и понимание определяются как универсальные способы аргументации. Так, в самом широком смысле теоретическое объяснение – это рассуждение, посылки которого содержат информацию, достаточную для выведения из нее рассматриваемого факта или события. Наиболее развитая форма научного знания – объяснение на основе теоретических законов. Объяснить что-то – значит подвести под уже известный закон или теоретическое построение. Глубина объяснения определяется глубиной используемой теории. Это относится и к предсказанию. Предсказание факта – это, как объяснение, выведение его из уже известного закона или теоретического построения. Схема утверждения здесь та же самая: из общего утверждения выводится утверждение о факте. Предсказание, в сущности, отличается от объяснения только тем, что речь идет о неизвестном еще факте.
Понимание же тесным образом связано с усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. В целом современная наука воспринимает понимание как оценку на основе некоторого образца, стандарта или правила. Так, понимание природы определяется как оценка ее явлений с точки зрения того, что должно в ней происходить, т. е. с позиции устойчивых, опирающихся на прошлый опыт представлений о “нормальном” или “естественном” ходе вещей. Истолкование определяется как предшествующее пониманию и делающее понимание возможным, как процесс поиска стандарта оценки и обоснование его приложимости к рассматриваемому случаю. В нашем исследовании за стандарт оценки в понимании конфессиональных элементов ментальности принимаются ценности миролюбивых конфессий России, которые, как выявлено, совпадают с общечеловеческими ценностями, имеющими значение для жизни общества в целом и, как для конфессиональной, так и для светской ментальности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67266711) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
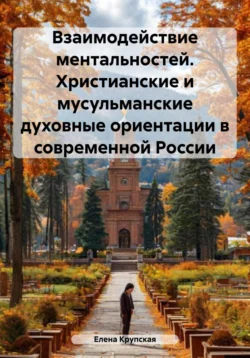
Елена Крупская
Тип: электронная книга
Жанр: Этика
Язык: на русском языке
Стоимость: 149.00 ₽
Издательство: Автор
Дата публикации: 05.01.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Эта диссертация была утверждена к защите кафедрой философии Иркутского государственного университета, автореферат был утверждён ректором ИГУ, профессор-историк из Учёного Совета признал большой доказательный потенциал диссертации и предложил под его руководством написать диссертацию о советском периоде, профессор-социолог предложил под его руководством создать тему "Бытовые пристрастия верующих". Но, в целом, Учёный Совет запретил защиту диссертации лишь по одной причине. Я выступала за изучение мировых религий в школах и вузах для повышения нравственного и мировоззренческого уровня молодёжи. Часть Учёного Совета кричала: "Школа и церковь отделены!". И вот. Религии изучают, а вторая моя кандидатская диссертация также не прошла защиту, что никак не умоляет её значение. Диссертация предназначена для всех, кто интересуется догматическими взглядами на общество всех церквей и управления мусульман в России.