Фронтовой дневник
Фронтовой дневник
Евгений Петрович Петров
«Фронтовой дневник» – сборник записей, созданных за период с 1941 по июль 1942. Эта уникальная книга издается впервые с послевоенного времени. Каждая запись в «дневнике» – это не просто хронология событий, это текст написанный под свист пуль и оглушающие звуки разрыва снарядов. Бесценные записи автобиографичны и пропитаны личными впечатлениями автора, они максимально реалистично иллюстрируют события той Великой войны.
Евгений Петров
Фронтовой дневник
Аэродром под Москвой
Здесь совершенно темно. Я не знаю, где запад и где восток. Видно только небо, покрытое легкими темными облачками. Я спрашиваю:
– Где Москва?
– Вы сейчас стоите к ней лицом, – отвечает голос, – скоро взойдет луна.
Я начинаю видеть кожаное пальто моего собеседника. Мы только что познакомились с ним и долго тыкали в воздух руками, прежде чем они соединились в рукопожатии. Рука у него теплая и твердая. Он майор, командир подразделения истребительной авиации.
– Выпейте пока чаю, – говорит майор.
– Успею ли я? Он может прилететь каждую минуту.
– Он прилетит позднее, когда взойдет луна. Ему сейчас невыгодно лететь.
Майор осторожно берет меня за плечи и ведет куда-то. По сторонам чудятся деревья. Я всматриваюсь. Это действительно деревья. Потом мы останавливаемся под навесом из ветвей, которые висят на веревках. Теперь видны не только куски неба, но становится виден горизонт.
– Садитесь здесь, – говорит майор.
Мои колени прикасаются к скамейке, а руки нащупывают стол. Я сажусь. Майор представляет меня.
– Маруся, дайте нам чаю, – говорит майор.
Я вижу белый фартук, а за ним очертания чего-то большого. Через минуту «оно» оказывается автобусом-столовой, а рядом со мной за столом сидят не менее десяти человек в кожаных пальто и пилотках набекрень. Нам подают чай, и мы беседуем.
Вчера летчик эскадрильи лейтенант Киселев протаранил «хейнкеля». Спускаясь на парашюте, он зацепился за дерево и немного поранил лицо. Сейчас он в госпитале. За столом говорят о его подвиге, о принципах применения тарана и о том, кто первый его применил.
– Первым протараненным самолетом в истории был австрийский самолет, – говорит майор, – и протаранил его русский летчик капитан Нестеров. Он протаранил его и сам погиб.
– Это было в тысяча девятьсот пятнадцатом году, – говорит кто-то.
– Нет, это было в тысяча девятьсот четырнадцатом году, – строго поправляет майор. – Нестеров протаранил австрийца и сам погиб. Он был великий летчик.
– Он первый сделал мертвую петлю, – говорит еще кто-то.
– Но штука в том, – перебивает майор, – чтобы протаранить немца и не погибнуть. И еще лучше – спасти самолет.
В голосе майора звучит педагогическая нотка.
Я спрашиваю, выгодно ли жертвовать самолетом и летчиком, чтобы сбить самолет противника.
– Да, это выгодно, – говорит майор, – но еще лучше, уничтожив противника, спастись самому и спасти самолет.
– Даже если погибнуть и погубить самолет, все равно это выгодно, – говорит чей-то голос. – Во-первых, с вами погибнут четыре врага или даже пять, если это «хейнкель». Во-вторых, бомбардировщик стоит гораздо дороже, чем истребитель. И там очень много дорогих навигационных приборов. Но самое главное, что он уже не сбросит бомбы над Москвой и можно спасти много людей.
– Это правильно, – подтверждает майор, – но нужно таранить так, чтобы спастись самому и спасти самолет. И таранить только тогда, когда уже нечем стрелять.
Киселев протаранил «хейнкеля» на высоте тысяча восьмьсот метров. Он отрубил ему пропеллером кусок крыла. Еще за несколько дней до этого летчик соседней эскадрильи Талалихин отрубил «юнкерсу» часть элерона.
Самое поразительное, что летчики говорят об этом сверхгероизме деловито, как об общепризнанном виде оружия. «Он протаранил самолет» говорится так же, как «он подстрелил самолет».
– На горизонте небольшой пожар, – говорю я.
– Нет, это восходит луна, – отвечает майор.
Ему что-то докладывают на ухо.
– Надо поднять людей, – говорит он, потом обращается ко мне: – Пойдемте на командный пункт. Они пролетели Вязьму и будут здесь минут через двадцать. Я подниму дежурных.
Мы подходим к землянке, где помещается командный пункт. Это небольшой холмик земли, насыпанный над бревенчатым входом. На холмике стол, стул и телефон. Майор поднимается на холмик, садится и берет трубку. Сначала он говорит непонятные мне цифры. Потом дает приказание: «Поднимайтесь!» И в ту же секунду, буквально в ту же секунду, я слышу в темноте рев мотора, мелькают огненные вспышки, рев усиливается, потом уменьшается. Над головой проносится буря. Первый истребитель уже в воздухе.
Под землей две очень чистые бревенчатые комнаты. Огромное количество телефонов, наушников, каких-то аппаратов, бумаг. Здесь царствует начальник штаба. Оказывается, пока германские самолеты летят над темной землей, за их передвижением следят тысячи людей. Оказывается, каждый истребитель, который ушел в воздух, опекают несколько человек. Они переговариваются с ним, указывают ему место посадки. Здесь, в этой бревенчатой комнате, точно известно, что делается на небе.
Я снова выхожу наверх. Сейчас все небо расчерчено голубыми геометрическими линиями прожекторов. Они перекрещиваются, зацепляя красную ущербную луну. Иногда один из них потухает, и тогда на его месте на секунду возникает черный столб. Он зажигается снова и медленно идет по небу. И по всему небу прыгают золотые звездочки разрывов. Слышится далекий гром зениток: это заградительный огонь. В промежутках слышно напряженное гуденье тяжело нагруженных германских бомбардировщиков. Снова громкий голос майора: «Поднимайтесь!» И в ту же секунду рев мотора – и новый истребитель проносится над головой. В перекрещенных лучах прожекторов, на очень большой высоте, становится виден беленький самолетик. Теперь из командного пункта выходят почти все. Начинается воздушный бой. Истребителя не видно. Видны только трассирующие пули. Бомбардировщик, который все время упорно шел по курсу, теперь разворачивается и уходит назад. Светящиеся пули летят к нему то с одной стороны, то с другой. Летчики, стоящие рядом со мной, начинают аплодировать. Они понимают то, чего сразу не понимаю я, – бомбардировщик сбит. Только на секунду я вижу где-то в стороне огненный след.
1941 г.
На Западном фронте в сентябре
Уже несколько дней я нахожусь на самом оживленном участке Западного фронта. Слово «фронт», которое в первый месяц войны употреблялось лишь условно, сейчас стало реальностью. Здесь многое напоминает Первую мировую войну – окопы, колючая проволока, известная стабильность. Но эта война неизмеримо страшнее, упорнее, кровопролитнее. Такой силы огня, какой ведется здесь уже третий месяц без отдыха, днем и ночью, в ту войну не было даже в самые напряженные дни.
Немцы стали строить здесь очень серьезные полевые укрепления примерно месяц назад, после занятия Смоленска, стоившего немцам громадных потерь. Затем начались непрерывные местные атаки частей Красной Армии. Я посетил участок протяжением в несколько десятков километров и глубиною до двенадцати километров, откуда немцы были выбиты в последние дни.
Произошло событие, которое войдет в историю этой, если можно так выразиться, сверхвойны. Впервые немцы были не только остановлены, но и отогнаны. Красная Армия продолжает оказывать сильнейшее давление на их позиции, прорывая все новые оборонительные линии, захватывая новые деревни и городки, орудия, пулеметы, пленных. Немцы, перешедшие к обороне, защищаются стойко и иногда переходят в контратаки. Вчера на том участке, где я нахожусь, они переходили в контратаки шесть раз, стремясь во что бы то ни стало вернуть потерянные территории, но были не только отбиты, но отброшены еще дальше. Их силы подорваны. Это несомненно.
Наш автомобиль медленно переваливает на пахнущий свежей стружкой бревенчатый мост, возведенный саперами позавчера. Под ним маленькая мутная речка, которая лениво течет среди невысоких поросших травой берегов. У нее есть имя. Но я не могу назвать его. О таких речках обычно пишут: «На реке N. продолжаются упорные бои». Но здесь ее простое русское название произносится с уважением.
– По этой речке проходил фронт несколько дней назад, – говорит мой спутник.
Он капитан, участник последних боев. Сейчас мы едем вместе на передовую линию, где идет бой.
На берегу реки почти совершенно разрушенная немцами деревня. Сохранились только ограждающие жилье заборы. Самого жилья уже нет. На его месте торчат кирпичные трубы и в квадратах золы можно рассмотреть глиняные почерневшие горшки да искривленные огнем железные кровати. На огородах осела пыль, поднятая тысячами танков, грузовиков и солдатских сапог. Совершенно непонятен здесь крохотный беленький цыпленок, который деловито роется в золе. Собак нет совершенно: они ушли с людьми, но зато попадаются кошки.
Дальше идет несжатое поле ржи. Она полегла и спуталась. Местами поле изрыто немецкими окопами и воронками снарядов. Оттуда несется сильнейший трупный запах. Валяются простреленные немецкие каски, вдавленная в рыжую землю проволока, трупы лошадей. Люди уже похоронены.
Мы едем дальше. Коричневые поля поспевающего льна (Смоленская область богата льном) сменяются лесами. В природе чувствуется наступление осени. Леса начинают ронять желтый лист. Но хвои здесь больше. Ели густо стоят вдоль дороги. Оттуда несет холодком и прелью. Людей и машин почти не видно – местность, по которой мы едем, простреливается немцами. Мы не видим людей и машин даже тогда, когда находимся совсем рядом с ними. И только подойдя почти вплотную к автомобилю или орудию, которые очень ловко замаскированы ветвями, начинаешь понимать, что собой представляет современный фронт.
Очень часто нас задерживают регуляторы движения. У них на руках повязки. Орудуют они красным и желтым флагами. Проверив документы, они вежливо берут под козырек и объясняют дальнейший путь.
Все чаще попадаются немецкие могилы – холмики земли, деревянный крест, на котором висит каска, и табличка с множеством фамилий, торопливо написанных химическим карандашом. И я вспоминаю слова пленного немецкого солдата, с которым разговаривал вчера о книге Гитлера «Моя борьба».
– Я всегда думал, – сказал солдат, – что, когда меня убьют, о моей борьбе никто не напишет. – И он добавил с бессмысленно радостной улыбкой человека, спасшегося от смерти, стереотипную фразу, которую повторяют почти все немецкие пленные: – Теперь для меня война кончилась.
Для этих, которые лежали в чужой земле, под чужим солнцем, рядом с чужими елями, война кончилась иначе.
1941 г.
В лесу
Этот лес обжит, как дом. Люди ходят друг к другу в гости, как в соседний подъезд. Низко согнувшись, они входят в палатку, прикрытую сверху еловыми ветвями, и, блеснув на секунду электрическим фонариком, садятся и закуривают. В лесу сыро. Накрапывает дождик. Здесь, недалеко от Смоленска, осень уже пришла. Слышится непрерывный шум, похожий на шум прибоя. Это шумят на ветру высокие вершины елей. С правильными промежутками в несколько минут раздается нарастающий визг, и тотчас же за ним громкий тупой звук разрыва. Это стреляет немецкая тяжелая артиллерия. С идиотической методичностью она бьет по пустому месту. На тошнотворный грохот разрывов никто не обращает внимания.
– Он будет бить до двух часов ночи, – говорит молоденький лейтенант, деловито поглядев на часы. – Снаряды падают отсюда метров за четыреста. Странные люди – немецкие артиллеристы! Уже несколько дней, как они вообразили себе какую-то цель, вероятно, несуществующую батарею, и теперь садят каждую ночь прямо в болото. Мы им не препятствуем. Пусть садят.
Ночью в лесу до такой степени темно, что мне кажется чудом, как это люди разыскивают нужные им палатки и блиндажи. Потом я замечаю под ногами множество маленьких и больших, светящихся холодным голубоватым светом крупинок. Как будто кто-то прошел впереди с мешком, из которого понемногу сыпался на землю этот волшебный, непотухающий огонь. И я не сразу могу сообразить, что это просто гнилушки, которые собрала в лесу заботливая интендантская рука и провела светящиеся дорожки между палатками. Здесь такие дорожки называют Млечным Путем. Это до такой степени похоже, что лучшего сравнения невозможно придумать. Я осторожно ступаю своими грубыми, непромокаемыми сапогами, стараясь не растоптать мироздание.
Мы приехали, когда было уже темно, и я заснул, не раздеваясь, укрывшись шинелью, в полном неведении того, что за мир меня окружает. Но заснул не сразу. Трудно было привыкнуть к немецким разрывам, от которых дрожала земля. Я насчитал их что-то шестьдесят. Потом наступила тишина. Я посмотрел на светящиеся часы. Было ровно два часа ночи.
Проснулся я поздно, часов в восемь. Из-под завешенного брезентом входа в палатку проникал солнечный свет. Погода за ночь изменилась. Слышались голоса проходящих людей и какой-то чрезвычайно знакомый непрерывный стук. «Вероятно, дятел», – подумал я. Но это оказался не дятел, а молоденькая хорошенькая машинистка, с аккуратно подвитыми кудряшками, в военной пилотке набекрень и вообще в полной военной форме, включая маленькие сапоги. Нагнувшись к своей машинке, она отстукивала нечто, состоящее главным образом из цифр. Над ее головой, на четырех вбитых в землю столбиках, была крыша, сделанная из ветвей. Немного дальше, перед входом в блиндаж, парикмахер, тоже в военном, брил клиента, любезно усадив его на ящик. Повсюду, в редких косых столбах солнца, проникавшего в торжественный темный лес, были разбиты замаскированные палатки и шатры из ветвей, стояли грузовики и лимузины, расхаживали военные с папками дел. По высокому стволу сосны пробежала жирная красная белка, на секунду замерла на обломанном сучке и посмотрела вниз своими черными стеклянными глазками. Это был штаб соединения генерала Конева, человека, о котором сейчас много говорят на фронте.
Он ведет с немцами непрерывные дневные и ночные бои и понемногу вытесняет их с нашей территории. За десять – двенадцать дней он прорвал несколько укрепленных немецких линий и взял большое количество трофеев и пленных. Сейчас бои продолжаются по всему фронту.
Я уже писал о том, что нынешний Западный фронт напоминает фронт Первой мировой войны, но со значительно большим огнем. Когда-то по знаменитой Верденской дороге в минуту проходили пять военных грузовиков. Сейчас по одной из дорог, ведущих к тому участку, где я нахожусь, проходит восемь грузовиков в минуту. А так как этот участок не является исключением (подобные бои идут по всему Западному фронту), читатель легко может судить о силе современного огня. Увеличенный почти вдвое Верден по всему фронту!
Здесь необходимо упомянуть о порядке, который существует на фронтовых дорогах. Нет не только дорожных пробок – ужасного бича современной войны, – но движение построено так, что оно почти не ощущается. Впечатление такое, что на фронтовых дорогах свободно. Искусство маскировки, необыкновенно обостренное современной воздушной войной, в Красной Армии достигло совершенства. Вы едете по фронту, но почти не замечаете его. А между тем он велик и предельно уплотнен.
Среди ветвей мелькает расшитая золотом генеральская фуражка.
– Встать! – командует дежурный.
Генерал принимает рапорт. Он в кожаном пальто. В руках у него палка, с которой он никогда не расстается. Генерал уже не молод, но очень крепок, сухощав и подвижен.
Он приглашает пройти на наблюдательный пункт, откуда будут хорошо видны результаты артиллерийской подготовки, которая должна начаться через двенадцать минут и предшествовать атаке.
По дороге генерал показывает чертежи германских окопов, захваченных накануне нашими частями. Современный немецкий окоп строится в виде ломаной линии с длинным ходом сообщения посредине. Командир роты сидит у этого хода сообщения, и ни один солдат не может уйти, не пройдя мимо своего командира.
– Это хитро придумано, – смеется генерал, – в последнее время дух немецких солдат значительно поколеблен.
Примечательно и то, что от индивидуальных окопчиков, принятых в современной войне, немцы снова переходят к общим окопам, как это было в Первую мировую войну.
Мы на наблюдательном пункте. Отсюда хорошо видно расположение немцев, невысокие холмы и лесочки.
Артиллерийская подготовка начинается точно по расписанию. Один за другим в расположении противника возникают разрывы, и скоро ими покрыт весь горизонт. Снаряды с визгом проносятся над нашими головами. В дыму можно разглядеть блеск пожаров.
Этот ад длится полчаса.
Подходит адъютант и в наступившей тишине тихо докладывает:
– Пошли.
– Ага, пошли. Отлично! – говорит генерал.
Он идет в блиндаж и просит соединить себя с командиром части, которая пошла в наступление.
1941 г.
Командир и комиссар
Когда наступила тишина и адъютант доложил генералу, что части пошли в наступление, мы уселись в свой автомобиль и поехали вперед. Снова была дорога, и снова лес, и снова овраги и небольшие подъемы. Лесные дороги, наскоро проложенные проходившими войсками, были грязны. Во многих местах их успели замостить тонкими стволами деревьев. Иначе невозможно было бы проехать. Автомобиль тарахтел по ним, как тарантас. В лесах была осень. Но на полевых дорогах еще стояла глубокая, летняя пыль.
Тишина продолжалась недолго. Снова стала бить артиллерия. О приближении линии фронта мы судили по характеру огня. Когда на наблюдательном пункте генерала мы наблюдали действие артиллерийской подготовки, тяжелые орудия стреляли позади нас. Тотчас же за выстрелом мы слышали над головами визг снаряда, и потом он долго еще летел туда, к немцам, и сначала мы видели разрывы, а уже после слышали их звук. Звук выстрела был сильнее, чем звук разрыва. Теперь визг пролетавшего снаряда слышался раньше всего. Потом долетал слабый выстрел, и мгновенно за ним сильный разрыв. Потом через головы стали летать снаряды легкой артиллерии, и время от времени очень громко били пулеметные очереди. Они били так громко, как будто стрельба происходила над самым ухом. Но до первой линии оставалось еще километра полтора.
Шофер въехал задним ходом в лес, остановился рядом с большим танком и накрыл машину ветвями. Дальше надо было идти пешком. В лесу сидели шоферы с танкистами и, прислонясь к танку, ели из алюминиевых котелков кашу с салом. Кроме того, у них было много сладкого чая. Наш шофер был тотчас же приглашен к столу. Шоферы совсем как масоны. Они мгновенно узнают друг друга и сходятся так, будто знакомы добрый десяток лет. Танкистов они охотно считают своими и любят их, но с несколько покровительственным оттенком. Так умудренный опытом, умный папа относится к своему отчаянно храброму сыну. Шоферы и танкисты ели кашу с очень серьезными лицами. По лицам людей всегда видно, в каком месте фронта ты находишься. Нет такой линии, которая отделяла бы тыл от фронта. Но она существует и может быть с полной точностью определена по лицам людей. Здесь люди делают серьезное мужское дело. Движения их неторопливы и очень четки. И что бы человек ни делал: вел коня на водопой, ел кашу, писал донесение, копался в моторе танка или даже улыбался чему-нибудь, у него совсем не то выражение, какое бывает у него же в двух-трех километрах ближе к тылу.
Мы пошли пешком прямо через поле спутанной, поникшей, погибающей ржи (ее уже никто не сможет убрать), и ее было жалко, как живое существо. Было жалко человеческого труда и баснословного урожая, какой бывает едва ли раз в десять лет. Мы поднялись на пригорок, и здесь надо было бежать метров четыреста до наблюдательного пункта командира части, так как местность была открытая и простреливалась противником. И мы побежали, унизительно пригибаясь и гремя амуницией. Командир части, громадный человек, с толстой шеей и добрым круглым лицом, сидел в блиндаже у телефонного аппарата и хрипло кричал что-то в трубку. Комиссар сидел снаружи, среди вороха ржи, свесив ноги в яму, в которой была вырезана лестница, и смотрел в бинокль. Иногда командир и комиссар переговаривались о чем-то, хорошо им знакомом, что происходило впереди. Иногда командир уговаривал комиссара спуститься вниз. «Ты мне всю маскировку портишь», – сердито говорил он. Но комиссар только посмеивался, показывая свои сверкающие зубы, особенно белые на темном, запыленном лице. «Когда ты сидел здесь, – отвечал он, – я тоже все время звал тебя вниз, и ты не хотел идти».
Для того чтобы понять, что такое комиссар на фронте, надо прежде всего запомнить одно: комиссар и командир – почти всегда друзья. Их содружество естественно и гармонично. Один замещает другого, если того убьют. Это высшая форма братства. Такая может родиться только на войне. Я посетил много частей и подразделений Красной Армии и всюду наблюдал эту крепкую, простую, мужскую дружбу.
Часть прошла уже две линии немецких полевых укреплений и окопалась под сильным минометным огнем. Этот бой будет продолжаться весь день, возобновится ночью и потом опять возобновится завтра утром.
Командир и комиссар знают, как тяжела и кровопролитна эта война. Они ведут ее с первого дня вместе. Вместе они переживали гнетущие дни отступления, хотя это отступление было правильным и единственным выходом в то время. Вместе они выходили из окружения и блестяще выполнили этот труднейший маневр, прорвав немецкую блокаду и выведя всю свою часть. Вместе они были в Смоленске, отстаивая каждый дом. Теперь вместе на крепком, установившемся фронте они крепко бьют немцев. Эти два месяца боев стоят двадцатилетней дружбы. Теперь оба, дополняя друг друга, они рассказывают мне о капитане, командире разведывательного батальона. Капитан совершил подвиг, о котором будут складываться песни через сотни лет. Он вел разведку всем батальоном и устроил свой наблюдательный пункт на колокольне церкви в маленьком покинутом жителями селе. Командир и комиссар попеременно разговаривали с ним по телефону. Он давал замечательные указания артиллерии. Его батальон вел бой по сторонам от села. Неожиданно в село прорвалась большая колонна немецких танков. Танки заполнили всю сельскую площадь. Капитану немцы предложили сдаться. Герой вместе со своим связистом ответил выстрелами. Капитан сразу понял, какая опасность угрожает не только его батальону, но всему стоящему позади соединению и, может быть, даже фронту. И он немедленно скомандовал в трубку:
– Огонь по мне!
Ориентир – церковная колокольня – был идеальный, площадь была забита немецкими танками.
– Прощайте, товарищи! – сказал он в трубку.
И на него обвалился шквал артиллерийского огня.
1941 г.
Москва за нами
Последние пять дней я провел на Можайском и Волоколамском направлениях. Здесь защищают грудь Москвы от прямого удара в сердце.
Мы выехали на шоссе, которое начинается еще в городе и представляет собою одну из лучших улиц новой Москвы. Здесь еще осталось несколько ветхих деревянных домишек былой, запущенной окраины. И они очень выразительно контрастируют с длиннейшей перспективой громадных новых домов, выстроенных за последний год. Некоторые из них еще не закончены. Здесь осуществлено то, о чем мечтал Ленин. Окраины больше нет. Нет убогих лачуг, где в былое время ютилась нищета. Дома новой улицы выстроены со вкусом и даже известным великолепием. Они выстроены из хороших материалов. Многие отделаны мрамором и гранитом. За последним домом с золоченой вывеской кондитерского магазина сразу начинается поле. Еще весной этого года по Можайскому шоссе мчались автомобили дачников. Сейчас оно перегорожено баррикадами и противотанковыми заграждениями.
Кажется, что с мирного времени прошло не пять месяцев, а триста лет; так это было давно.
Мы проехали холм, до половины срезанный широкой автострадой. Это – Поклонная гора, хорошо известная в истории русского государства. Отсюда в 1812 году Наполеон впервые увидел Москву. Здесь, сидя на барабане, он ждал, когда бургомистр принесет ему ключи от города. Но он не дождался. Русские не приносят ключей от своих городов.
Мы ехали часа полтора, обгоняя обозы военных грузовиков. Все меньше становилось мирных жителей и все больше военных.
Последние жители, которых мы видели, шли и ехали нам навстречу со своим имуществом. Некоторые тащили его на санках. Старики и женщины гнали коров по обочинам дороги. Все ближе становится гул артиллерии и минометов. Люди уходили с насиженных мест, боясь нашествия немцев.
Скоро уже невозможно было встретить штатского человека.
Это был фронт.
Западный фронт, который я помнил в августе и сентябре накануне великих и кровавых боев за столицу, крепкий, но все же беспечный фронт, уже не существовал. Но не потому, что был начисто уничтожен, как это с обычным своим нахальством утверждает немецкий генеральный штаб. Люди остались те же, если не считать погибших. Были те же дороги, и те же леса, и те же бревенчатые деревушки, и те же танки, и тот же одуряющий запах отработанного бензина, смешанный с запахом пожарища – запах современной войны, – и простреленные каски, и закоченевшие трупы с согнутыми коленями, и обгорелые машины на обочинах дорог.
Но все было не то.
Тогда начиналась осень. Сейчас была злая, колючая, небывало ранняя зима. Оголенные лиственные леса оледенели. Деревья казались дорогими и тонкими изделиями из серебра. Отчетливо была видна каждая веточка. Хвоя была покрыта крепким промерзшим инеем только с северной стороны. С юга она оставалась зеленой. Земля стала крепкой, как дерево. Погода – идеальная для действия крупных танковых соединений. В такую погоду танки могут пройти решительно в любом месте. И этой погодой воспользовались немцы, чтобы произвести новое решительное наступление на Москву.
Но изменилась не только природа. Танки, приспособляясь к ней, покрылись белой краской. На красноармейцах и командирах появились теплые меховые шапки из голубоватого меха, ватники и безрукавки, которые отлично греют под шинелями. Сейчас светает только к семи часам утра, а к пяти часам дня уже начинает темнеть. Боевой день стал страшно короток и поэтому особенно напряжен. И потому еще фронт стал совсем другим, что приблизилась Москва. Тогда, сражаясь за Москву, люди знали, что позади еще большая территория, что если немцы не будут отогнаны сегодня, они будут отогнаны завтра. Сейчас Москва за самой спиной, на некоторых участках всего лишь в шестидесяти километрах. И остановить немцев нужно именно сегодня. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что на фронте нет ни одного человека, который поверил бы, что Москва может пасть. Люди хорошо вооружены. У них есть танки (их, правда, не много), отличная артиллерия, пулеметы, автоматы, минометы. Но если придет такая минута, русские люди будут перегрызать фашистам горло зубами. Потому что за спиной самое дорогое, что есть у русского человека, – Москва.
Как полагают здесь, немцы убедились, что взять Москву фронтальным ударом, действуя по сходящимся к столице магистралям, чрезвычайно трудно и сопряжено с грандиозными потерями. Поэтому, судя по нынешнему сражению, немецкое командование делает новую и, очевидно, генеральную попытку обойти Москву с флангов.
Как всегда, немцы ищут стыков между крупными соединениями, ищут слабых мест. Как всегда, они отходят там, где натыкаются на сильное сопротивление, и предпринимают все новые и новые маневры.
Бои идут очень серьезные. Но на фронте, от переднего края до штабов, люди полны уверенности. Тогда на Западном фронте, в августе и сентябре, тоже была уверенность. Но то была уверенность гордой нации, сопряженная с известным добродушием. Звучит это несколько странно, но это именно так – с добродушием мирных людей, для которых убийство, даже на войне, даже самое справедливое из справедливых, – занятие малопривлекательное. Нужно знать характер русского человека. Это очень добрый человек. Он вспыльчив, но отходчив, и нужно много времени, чтобы он озлобился по-настоящему. Сейчас люди озлобились до такой степени, что не могут слышать слова «немец». Ненависть к захватчикам сделала каждого бойца крепким, как оледеневшая почва, на которой он стоит. Сейчас люди черпают уверенность в своей ненависти.
Вчера вступило в бой танковое соединение, состоящее из английских танков. И английские машины, и советские танкисты, управлявшие ими, шли в бой впервые. И те и другие экзамен выдержали. Танкисты отзываются о танках хорошо. Если бы машины могли говорить, они еще больше хвалили бы танкистов.
Идти в бой в первый раз в жизни – нелегкая штука. Сколько было случаев, когда люди, дрогнувшие в первом бою, оказывались потом героями. Танкисты нового соединения сразу повели себя героями. Потому что за спиной – Москва.
– Знаете, буквально приходится их удерживать, – сказал командир батальона.
И по той нежной и в то же время мужественной улыбке, с которой он сказал это, было видно, что удерживать своих бойцов – задача хотя и не легкая, но приятная.
Мы сидели в бревенчатой комнате, только вчера покинутой хозяевами. Танкисты помогли хозяевам эвакуироваться – дали им грузовик. Старуха-хозяйка не знала, как поблагодарить. И когда уже все было собрано и погружено, она отозвала начальника штаба и, значительно поджимая губы, зашептала:
– Тут я оставила в погребе бочонок с солеными огурцами. Все лето солила. Ешьте, милые, на здоровье. И оставляю вам еще гитару. Будет свободное время – играйте, веселитесь.
И уже трудно поверить, что еще только вчера шла в этом домике хорошо налаженная, привычная жизнь и чирикала в клетке канарейка, стояли на подоконниках горшки с геранью, за маленьким окном с резными наличниками играли снежинки, и только лай собак да пенье петухов нарушали деревенскую тишину.
Сейчас в комнате царили полевой телефон и карта. Пахло сапогами и овчиной. Невдалеке шел бой. Казалось, что за стеной, беспрерывно стуча сапогами, сбегают по деревянной лестнице какие-то люди. В деревне есть уже разрушенные дома, и явственно чернеют на снегу следы разорвавшихся мин.
В комнату стремительно вошел лейтенант, огромного роста молодой человек с прекрасным курносым лицом и широко расставленными глазами, сверкавшими отчаянной радостью.
– Разрешите доложить! – крикнул он, вытянувшись перед командиром.
Было ясно, что он собирается доложить нечто чрезвычайно важное.
– Докладывайте, – сказал командир.
Лейтенант оглянулся, потом махнул рукой и, уже не в силах сдержать возбуждения, выпалил:
– Немцы прорвались на Бараки.
И, ожидая ответа, он в нетерпении стал переминаться с ноги на ногу. Он был еще совсем мальчик. Командир стал что-то соображать, глядя на карту. «Ну что же ты медлишь? – думал, вероятно, лейтенант в эту минуту. – Ведь сейчас все решается: и судьба Москвы, и твоя судьба, и моя судьба».
На его лице появилось выражение мольбы. А командир все еще смотрел на карту. Он смотрел на карту страшно долго, катастрофически долго – минуты две.
– Послать в Бараки третью роту танков, – тихо, но твердо сказал он наконец.
– Есть! – гаркнул лейтенант.
Он обвел всех счастливыми глазами, хотел что-то сказать, потом рванулся к двери, потом остановился и спросил: «Разрешите идти?» – и, получив разрешение, выбежал с таким грохотом, что после его ухода некоторое время звучала гитара на стене.
– В первый раз идет в бой, – сказал командир. – А хорош!
Да, танкисты шли в бой, как на парад. Потому что за спиной была Москва.
Уже было совсем темно, когда получили донесение, что пункт Бараки отбит и немцы отброшены в исходное положение.
26 ноября 1941 г.
Сегодня под Москвой
В простой бревенчатой избе, под образами, совсем как на знаменитой картине «Военный совет в Филях», сидят три советских генерала – пехотный, артиллерийский и танковый.
И так же, как тогда, та же русская природа за окном, и карта на столе, и заглядывает в комнату любопытный деревенский мальчик, и недалеко Москва. И генералы даже чем-то похожи на Дохтурова или молодого Ермолова, вероятно, русскими лицами и золотом на воротниках.
Только они не решают здесь – оставить Москву врагу или дать новое сражение.
Вопрос уже решен: Москву отстоять во что бы то ни стало. А генеральное сражение уже идет четырнадцатый день, не только не ослабевая, но все усиливаясь.
Если продолжить историческую параллель с 1812 годом, хочется сравнить с Бородинским сражением октябрьские бои на Западном фронте, когда наши армии, непрерывно сражаясь, откатывались от Вязьмы и Брянска, а израненный враг, совершивший гигантский прыжок в двести километров, должен был остановиться, чтобы зализать свои раны и собраться с новыми силами. Сейчас же на подступах к Москве идет то сражение, которое Кутузов не решился дать Наполеону, но обязательно дал бы, если бы, защищая Москву, находился в современных условиях.
Величайшее сражение идет четырнадцатый день. Далеко впереди горят оставленные нами деревни. Глядя на карту, я отчетливо вспоминаю. Вот в этой я был пять дней назад. В этой – позавчера. Неужели горит эта чудесная деревушка, вся в садах, с прекрасным домом отдыха по соседству? И не их ли, жителей этой деревушки, встретили мы только что на дороге, направляясь к фронту? Они едут в телегах и на военных грузовиках со всем своим домашним скарбом. Нет ни слез, ни причитаний. Женщины молча смотрят перед собой сухими глазами, обнимая свои узлы. Их мужья на фронте, дома их горят. Но у них есть родина и месть. Страшна будет эта народная месть, когда гитлеровские армии покатятся обратно!
Три генерала, которые так похожи на кутузовских, заехали далеко вперед от своих штабов. Сейчас они бросили навстречу прорвавшимся немцам моторизованную пехоту и теперь ждут результатов. Впереди, за деревней, уходящее вниз поле. Потом лес, начинающийся на пригорке. Поле уже покрыто заранее вырытыми окопами. Они чернеют на снегу.
Немец обстреливает из минометов дорогу между деревней и лесом. Иногда по этой дороге с большой скоростью проносится небольшой связной танк или грузовик с походной кухней. На грузовике, заваливаясь к бортам на поворотах, сидят повара. Из трубы валит дым. Кухня торопится за своей пехотой, которую полчаса назад бросили в бой. На околицах деревни уже поджидают противника противотанковые орудия.
В густом еловом лесу, в засаде, стоят большие белые танки, немного прикрытые хвоей. Их ни за что не увидишь, если не подойдешь совсем близко. Это очень грозная сила, и красный ромбик, которым они отмечены на карте, несомненно, играет в планах командования большую роль. Вероятно, они пойдут в бой еще сегодня, к концу дня.
Все чаще с сухим треском лопаются мины. Бой приближается. Но орудийная прислуга в деревне, и танкисты в лесу, и генералы в своей избе как бы не замечают этого. Таков неписаный закон фронта.
Командир танковой роты, старший лейтенант, молодой двадцатидвухлетний кубанец (он, совсем как казак, выпустил из-под кожаного шлема вьющийся чуб), со смехом рассказывает, как, отправившись на разведку в одиночку, встретился с пятью немецкими средними танками, как подбил два из них, а остальные удрали. Но этим не кончились его приключения. Он помчался дальше, захватил противотанковое орудие, десять ящиков со снарядами к нему и все это в исправном виде (хоть сейчас стреляй!) доставил в свое расположение. Все это он рассказывает как забавный анекдот. У старшего лейтенанта уже большой боевой опыт – он сорок семь раз ходил в танковые атаки, и все они были удачны. Наши танки «Т-34» он считает лучшими в мире.
Он еще раз обходит приготовившиеся к бою машины, потом останавливается возле одной из них и, похлопав ее по стальному боку, ласково говорит:
– А это мой танк!
Он узнает его среди многих совершенно одинаковых машин, как кавалерист узнает свою лошадь. Вероятно, он знает какое-нибудь одному ему известное масляное пятно или небольшую вмятину от снаряда.
Сейчас, во время генерального немецкого наступления на Москву, когда в разных направлениях беспрерывно вспыхивают бои и сражение представляет собою целую серию сложных маневренных действий, исключительный интерес вызывает ближайший тыл, примерно десять километров в глубину.
По состоянию ближайшего тыла, уже просто по одному тому, что и как движется по дорогам и что происходит в деревнях, можно безошибочно судить о состоянии фронта.
Наш ближайший тыл очень хорош.
Немцев ждут всюду – на всех дорогах, на околицах всех деревень. Их ждут рвы и надолбы, колючая проволока и минированные поля. И чем ближе к Москве, тем теснее и разнообразнее оборона, тем гуще сеть укреплений.
Что сегодня под Москвой? Сколько времени может еще продолжаться немецкое наступление? Когда наконец оно выдохнется? Сколько времени неистовый враг сможет бросать в бой все новые резервы, все новые и новые группы танков?
Эти вопросы волнуют сейчас страну. Об этом думают сейчас все.
Трудно делать предположения, когда всем сердцем ждешь остановки немцев, а затем их разгрома. Почти физически невозможно стать объективным и приняться за рассуждения.
Однако некоторые выводы напрашиваются сами собой.
С первого дня наступления, 16 ноября, на Волоколамском направлении немцы прошли от сорока до шестидесяти километров, то есть в среднем от трех до четырех километров в день. Очень важно при этом, что самый длинный бросок был сделан в первые дни. Получается, следовательно, что движение немцев все время замедляется. Между тем они вводят в дело все больше и больше сил. Чем все это объяснить? Вероятно, по планам германского командования выходило, что постепенное усиление нажима приведет к победе, к разгрому Красной Армии. Но этого не получилось. Напротив. Сопротивление усилилось. При приближении к Москве увеличилось количество укреплений, и движение немцев стало менее быстрым.
Если взять июньское и июльское, потом октябрьское и, наконец, это генеральное наступление немцев на Москву, то мы увидим, что от наступления к наступлению темпы их уменьшаются: пятьсот – шестьсот километров в июне – июле, двести километров в октябре и шестьдесят километров сейчас.
Немец должен быть остановлен.
А остановка его в поле с загнутыми, далеко выдвинувшимися вперед флангами будет равносильна проигрышу им генерального сражения.
И это будет началом конца.
30 ноября 1941 г.
Клин, 16 декабря
Положение военных корреспондентов на Западном фронте становится все более сложным. Всего несколько дней назад мы выезжали налегке и, проехав какие-нибудь тридцать километров, оказывались на фронте. Сегодня в том же направлении нам пришлось проехать около сотни километров.
Путь немецкого отступления становится довольно длинным. И этот путь однообразен – сожженные деревни, минированные дороги, скелеты автомобилей и танков, оставшиеся без крова жители. Такой путь я наблюдал на днях, когда ехал в Истру.
Но есть еще один путь – путь немецкого бегства. Его я видел сегодня. Этот путь еще длиннее. И гораздо приятнее для глаза советского человека. Здесь немцы не успевали сжигать дома. Они бросали совершенно целые автомобили, танки, орудия и ящики с патронами. Здесь жителям остались хотя и загаженные, но все-таки дома. Полы будут отмыты, стекла вставлены, и из труб потянется дымок восстановленного очага.
Клин пострадал довольно сильно. Есть немало разрушенных домов. Но все-таки город существует. Вы подъезжаете к нему и видите: это – город.
Он был взят вчера в два часа утра. Сегодня это уже тыл.
Что сказать о жителях? Они смотрят на красноармейцев с обожанием.
– Немцы уже не вернутся сюда? Правда? – выпытывают они. – Теперь здесь будете только вы?
Красноармейцы солидно и загадочно поднимают брови. Они не считают возможным ставить военные прогнозы. Но по тому, каким веселым доброжелательством светятся их глаза, исстрадавшимся жителям ясно – немцы никогда не придут сюда.
К Москве никто никогда не подходил дважды.
Красная Армия не только взяла Клин. Она спасла его в полном смысле слова. Удар был так стремителен и неожидан, что немцы бежали, не успевши сделать то, что они сделали с Истрой, – сжечь город дотла.
И жители не знают, как отблагодарить красноармейцев.
Как только в Клин вошли первые красноармейцы, жители сразу же рассказали им, где и что заминировали немцы и где они оставили свои склады.
В одной из деревушек за Клином произошел случай, столь же героический, сколь и юмористический. Первыми о том, что немцы собираются бежать, пронюхали мальчики. Они подкрались к немецким грузовикам и стащили все ручки, которыми заводятся моторы. Пришлось немцам бежать самым естественным путем, при помощи собственных ног. Как только в деревне появились наши войска, мальчики торжественно поднесли им ручки. Машины были заведены и пущены в дело.
Побывал я и в домике Чайковского. Это была давнишняя моя мечта – увидеть то, о чем я столько раз читал: уголок у окна, где Чайковский писал Шестую симфонию и смотрел на свои любимые три березки, его рояль, книги и ноты.
То, что сделали в домике Чайковского немцы, так отвратительно, чудовищно и тупо, что долго еще буду я вспоминать об этом посещении с тоской.
Мы вошли в дом. Встретил нас старичок экскурсовод А. Шапшал. Он так привык встречать экскурсантов и водить их мимо экспонатов музея, что даже сейчас, после первых радостных восклицаний, он чинно повел нас наверх по узкой деревянной лесенке и, пригласив в довольно большую комнату, сказал:
– Вот зал, принадлежавший лично Петру Ильичу Чайковскому. Здесь, в этой нише, был устроен кабинет великого композитора. А здесь Петр Ильич любил…
Но вдруг он оборвал свою плавную речь и, всплеснув руками, крикнул:
– Нет, вы только посмотрите, что наделали эти мерзавцы!
Но мы давно уже во все глаза смотрели на то, что было когда-то музеем Чайковского. Стадо взбесившихся свиней не могло бы так загадить дом, как загадили его фашисты. Они отрывали деревянные панели и топили ими, в то время как во дворе было сколько угодно дров. К счастью, все манускрипты, личные книги, любимый рояль, письменный стол, одним словом, все самое ценное было своевременно эвакуировано. Относительно менее ценное упаковали в ящики, но не успели отправить. Фашисты выпотрошили ящики и рассыпали по дому их содержимое. Они топили нотами и книгами, ходили в грязных сапогах по старинным фотографическим карточкам, срывали со стен портреты. Они отбили у бюста Чайковского нос и часть головы. Они разбили бюсты Пушкина, Горького и Шаляпина. На полу лежал портрет Моцарта со старинной гравюры с жирным следом немецкого сапога. Я видел собственными глазами портрет Бетховена, сорванный со стены и небрежно брошенный на стул. Неподалеку от него фашисты просто нагадили. Это совершенно точно. Немецкие солдаты или офицеры нагадили на полу рядом с превосходным большим портретом Бетховена.
Повсюду валялись пустые консервные банки и бутылки из-под коньяку.
– Неужели вы не объяснили немецкому офицеру, что это за дом?
– Да, я объяснял. Захожу как-то сюда и говорю: «Чайковский очень любил вашего Моцарта. Хотя бы поэтому пощадите дом». Да меня никто не стал слушать. Вот я и перестал говорить с ними об искусстве. И то – придешь, а они вдруг и скажут: «А ну, старик, снимай валенки». Куда я пойду без валенок? Они тут многих в Клину пораздевали. Нет, с ними нельзя говорить об искусстве!
Я подошел к окну в том месте, где стоял письменный стол Чайковского и где он писал Патетическую симфонию. Прямо за окном, рядышком, стояли три знаменитые березки. Только это были уже березы, большие, вполне взрослые деревья.
Но сейчас было не до грусти. Была деятельная военная жизнь.
У начальника гарнизона собралось множество военного народа. Начальник быстро отдавал приказания, куда эвакуировать раненых, как получше и побыстрее разминировать дома и дороги, как восстановить электростанцию, баню и хлебопекарню. Не хватало штатских. Но тут мы услышали знакомый голос:
– Товарищи, надо принять меры. Для Клина еще не выделены фонды.
Мы обернулись. Конечно, это был он, председатель райпотребсоюза. На нем было странное по сравнению с военными полушубками, а в самом деле самое обыкновенное драповое пальто. На нем была барашковая шапка пирожком и калоши.
– А! – воскликнул начальник гарнизона, приятно улыбаясь. – Ну вот и прекрасно. И давайте работать. Вы когда пришли?
– Да только что, – сказал человек в пальто. – Тут я, товарищи, уже кое-что наметил. В части организации торговых точек…
И работа началась.
Как будто ее никто и не прерывал.
1941 г.
Что такое счастье
Мы любили говорить о счастье будущих поколений, о счастье наших детей, наконец о нашем общем счастье, когда через пятнадцать лет мы построим коммунистическое государство, где всего будет вдоволь для всех. Но мы редко говорили о нашем сегодняшнем счастье. И никогда не думали о нем. Человеку свойственно сетовать на свои, даже самые маленькие, несчастья и в то же время не замечать, когда он счастлив.
Очень часто я встречаю людей, которых не видел с начала войны. И, обсудив предварительно все военные вопросы, включая последнюю речь Черчилля, и не забыв о положении на острове Гуам, мы начинаем вспоминать, где встречались в последний раз.
– Ну конечно же в Ялте. Я еще жил в санатории ВЦСПС и еще, дурак, жаловался, что там плохо кормят. Помните, мы встретились на набережной? Вы еще шли купаться, а я еще сказал: «Ну кто купается в мае! Вот в июне…». А в июне-то…
– М-да. Хорошо было.
– Здорово жили. Ничего не скажешь.
Или:
– Позвольте, позвольте! Ну конечно! На этом самом месте! Вы шли по улице Горького с женой и детьми. Помните, вы еще жаловались, что просто ума не приложите, куда отдать сына после окончания десятилетки. Вы хотели в политехникум, жена – в театральное училище, а сам мальчик хотел в летную школу.
– Уже летает. На Юго-Западном.
– Истребитель?
– Бомбардировщик. Два месяца нет писем. Жена каждый день шлет мне телеграммы. Не знаю, что и отвечать.
– А она где?
– Она с маленьким в Сибири. А девочка с пионерским лагерем в Средней Азии. А мою тетушку помните? Старушку? Она сейчас у немцев, в Днепропетровске. Что с ней – не знаю. Ведь и жила она только на то, что я ей посылал.
– М-да. Жили – не думали.
– Ничего не скажешь. Хорошо жили.
Мы хорошо жили на нашей советской земле. Но все ли мы понимаем это? И не было разве среди нас людей, которые не только не понимали этого, но, напротив, твердо считали, что они недостаточно счастливы, что для их счастья чего-то не хватает?
Мы ехали по лесной дороге ночью, в полной тишине. В белом свете автомобильных фар лес выглядел, как оперная декорация, очень странная, потому что мы никогда не видим оперных декораций без музыки. А сейчас была тишина. Очень странная тишина, потому что мы ехали в прифронтовой полосе, где, казалось, должен был бы стоять грохот. Но на фронте даже во время самого интенсивного наступления бывает какое-то время тишина. Я не знаю более полной, абсолютной тишины, чем фронтовая.
По этому лесу прошел медведь войны. Он ободрал металлическими боками стволы деревьев, выломал сучья и раскидал их, протащился вперед и в стороны своим тяжелым телом, взрывая землю и вытаскивая с корнем кусты.
Потом почти целые сутки шел снег.
Медведь войны ушел на запад. Снег закрыл страшные раны, нанесенные войною природе.
Природа сопротивляется войне. Подпиленное и сваленное на дорогу громадное дерево лежит, как гладиатор, который под ударом врага упал на руки, но еще надеется подняться. Природа сопротивляется войне как может. Когда же сопротивление сломлено, она гибнет горделиво, как храбрый солдат. Нетронутая – она вызывала восхищение, она была красива. Изломанная, побежденная – она величественна и вызывает уважение.
Немцы, отступая, минировали дорогу. Саперы осторожно выбирали мины. Наш караван автомобилей ехал за ними, останавливаясь через каждые пять минут. Это было, как в минированном море, когда эскадра движется за тральщиками.
Мы ехали очень долго, часов двенадцать. Мы объезжали брошенные немцами грузовики и куски разорванных минами лошадей. Иногда мы останавливались в деревнях. Там немецких машин было еще больше, чем по пути. Мы узнавали дорогу и двигались дальше.
В деревню, где мы собирались остановиться, мы приехали часа в два ночи. Это была деревня, где не пели петухи и не лаяли собаки.
Тут уцелело много домов. Сохранилось и несколько семейств. Днем они возвратились из лесу, где жили, как звери, в ямах, и теперь устраивались в своих пустых, загрязненных немцами домах. Немцы не оставили им ничего – ни одной крупинки еды, ни одного лоскута материи.
На печи сидела старуха и смотрела, как в избе возятся красноармейцы. Печь хорошо натопили, Старухе было тепло, и она все время улыбалась, ожидая вопросов.
– Ты что, бабка, тут развалилась? – сказал ей маленький, веснушчатый красноармеец строгим голосом. – Не видишь, готовим избу для высшего начальства? Шла бы себе в лес ночевать.
– Так вот взяла да и пошла, – ответила старуха радостно.
– Небось когда немец был, ты и в избу боялась взойти, не то что на печь лезть в присутствии высшего командования.
– Что, бабушка, – спросил я, – надоел немец?
– Совсем, думали, пропадем, – быстро и оживленно ответила старуха, которая ожидала этого вопроса. – Как пришел, так сразу: «Иди, иди, говорит, в ямцы». В ямы, значит. А сам все чисто забрал. Ничего не оставил.
– Кто теперь тебя, такую, замуж возьмет без приданого? – заметил веснушчатый красноармеец.
– Да ну тебя совсем! Привязался! – сказала старуха, делая вид, что замахивается на веснушчатого красноармейца.
Между ним и старухой явно устанавливались приятельские отношения.
В избу вошел командир. Он снял ремни и положил на стол трофейный немецкий автомат, потом посмотрел на печь.
– А! – сказал он. – Ты еще жива, моя старушка?
– Не хочет больше в лес идти, товарищ старший лейтенант. Все за печку держится, – почтительно доложил веснушчатый красноармеец.
– Накормили старуху?
– Точно.
Старший лейтенант некоторое время глядел на старуху улыбаясь.
– Что это ты такая веселая, бабушка? – спросил он. – Уж, кажется, и натерпелась ты от немцев, и ограбили тебя всю как есть, и внука убили. А ты веселая.
– На вас гляжу – веселюсь, – ответила старуха. – Веселюсь, что русские пришли. Что хозяйство! Даст бог, опять подымемся. А мне думалось, еще разок на своих посмотреть. А там и помирать не жалко.
На другое утро я был в Волоколамске.
Там я видел старика крестьянина, видно, зажиточного, в хорошей бараньей шапке, в исправных валенках с калошами. Он быстро шел по развороченной снарядами, покрытой глубоким снегом улице. В руке у него была веревка. В морозном воздухе резко звучала пулеметная стрельба: бой шел еще в двух километрах от города.
– Куда, дедушка?
– Да вот корову ищу! – крикнул старик. – Я сам из деревни…
Он назвал одну из бесчисленных Покровок или Петровок. Перед приходом немцев, когда многие колхозники уходили, он считал, что все обойдется, что «немец – тоже человек». Ему повезло. Деревушка его далеко от шоссейной дороги, и немец так до нее и не дошел. Старик-единоличник прожил два месяца не плохо. Заявились к нему немцы только перед своим уходом, когда он уже надеялся, что нелегкая вывезла. Это были отступающие немцы. Старик вовремя успел убежать в лес. Избу немцы разграбили и увели корову. Теперь он ее искал.
– У нас так люди говорят, – сказал он, – что немцев в Волоколамске окружили, я и пришел. Думал, найду мою корову. Ан, оказывается, окружение-то вышло неполное.
– Да они, дедушка, наверно, уж съели твою корову.
– Нет, – сказал старик убежденно, – они ее на Берлин погнали, в Германию. Пойду поищу, может, где-нибудь здесь бросили. Смотри, сколько машин покидали! Ишь бежали, черти! – добавил он с ненавистью.
Он быстро пошел вверх по улице. Потом остановился и, обернувшись ко мне, закричал тонким голосом:
– Что же вы, товарищ командир? Окружать их надо, гадов! Окружать! Так их окружать, чтоб… Эх!
Он махнул своей веревкой и побежал дальше.
Уже много писалось о том, каких дел натворили фашисты в Волоколамске, как изломали, пожгли, загадили милый городок, как повесили они там восемь советских патриотов и не снимали их с виселицы сорок пять дней. И когда бы ни вышел волоколамский житель на улицу и куда бы он ни пошел, он никуда не мог уйти от этого страшного зрелища.
Я зашел в один из домов, в котором расположился штаб нашей части.
В клетушке, примыкавшей к большой комнате, где за картой сидели командиры, я увидел двух женщин и маленькую девочку.
Мы разговорились. Я заметил, что люди, избавившиеся от немецкой власти, становятся очень разговорчивы, как будто хотят сразу выговорить все, что собралось у них на душе. Во время разговора одна из женщин, видно, когда-то полная, а теперь дряблая сорокапятилетняя женщина в кофейного цвета платочке, несколько раз принималась плакать. Фашисты застрелили ее сына, четырнадцатилетнего парнишку, когда он пытался проскочить в ближайшую деревню, где стояли тогда передовые части Красной Армии. Женщина обстоятельно перечислила, что забрали у нее немцы. Я занес в блокнот этот список: корова, 8 овец, 2 свиньи, 26 породистых кур, 40 пудов овса, много муки, крупы, сала и масла. Это только продукты. Кроме того, немцы вынесли решительно все вещи, которые были в доме. А их, по рассказу женщины, было немало.
– Каждую тряпочку смотрели на свет и, если сгодится, брали. Елочные игрушки – и те взяли. Вот для нее берегла.
И женщина кивнула на свою дочурку, которая за время разговора успела взгромоздиться на колени начальника штаба, водила пальчиком по карте и с уважением спрашивала:
– А это что, дяденька?
– Ну, ну, девочка, спокойненько. Не мешать дяде, – отвечал начальник штаба рассеянно.
– За людей нас не считали, – сказала женщина. Она вытерла платком глаза, потом высморкалась. – Их у нас тут в доме много перебывало, немцев-то. Что ребенок? Кому он может помешать? А немец идет по комнате и никого не видит. Наткнется на ребенка, – ребенок в сторону летит. А немец даже не оглядывается. Не замечает.
– Вот! Будешь в другой раз знать! – крикнула вдруг вторая женщина, очевидно, соседка, маленькая, простоволосая, с решительным морщинистым лицом. – Будешь теперь знать! Будешь теперь знать, какие твои немцы! Все ходила, все говорила: «Врут газеты, немец нам зла не сделает». Не сделает, не сделает! Дождалась! Тьфу!
– Все сделал, как в газете, – сказала первая женщина. – А я думала, немец культурный! Теперь одно остается – бить немца!
Я уже не в первый раз слышал эту фразу: «Немец все сделал, как в газете». Она очень характерна для тех людей, которые думали, что немец не может быть таким чудовищным зверем, как об этом пишут в газетах.
– Бить его! – повторила женщина. – Так бить, чтоб ни один живым не ушел!
Теперь эти люди многое поняли. Женщина из Волоколамска, у которой при советской власти было довольно большое имущество, думала, что она недостаточно счастлива при советской власти.
А на самом деле она была очень счастлива! Ей очень хорошо жилось в чистеньком волоколамском домике, в тепле и довольстве. Но она не ощущала своего счастья.
Она ощущает его сейчас, когда у нее в доме ничего не осталось. Она счастлива лишь тем, что ушли немцы, что не будут больше висеть под окнами восемь повешенных, что никогда больше не услышит она грохота немецких сапог.
Нет счастья без родины, свободной, сильной родины.
Нет и не может быть.
Люди, которые не понимали этого, поняли это сейчас. Жизнь научила их.
6 января 1942 г.
«Птенчики» майора Зайцева
Я проехал необозримое снежное поле, где особые машины беспрерывно разравнивали и утрамбовывали снег, миновал несколько десятков аэропланов, расставленных на довольно большом расстоянии друг от друга, и подъехал к деревушке. Тут дальше автомобиль проехать не мог. Пришлось идти по чьим-то следам, глубоко вдавившимся в снег.
Майор Зайцев стоял во дворе домика, на пустом ящике, и смотрел через бинокль в молочное небо.
Он рассеянно со мной поздоровался и тотчас же снова взялся за бинокль.
– Летит, – сказал он наконец, облегченно вздохнув, но не опуская бинокля.
– Я не вижу, – заметил я.
– Он в облаках. Сейчас увидите.
Действительно, через две минуты совсем низко над землей вышел из облачной мути пикирующий бомбардировщик.
Майор продолжал стоять на своем ящике. И, только когда бомбардировщик благополучно сел, майор опустил бинокль и, как бы впервые меня увидев, улыбнулся.
– Пойдемте, – сказал он.
Мы пошли на аэродром. Самолет подруливал к своему месту. Вскоре он остановился. Было видно, как от него отделились три человека в меховых комбинезонах и быстрым шагом пошли нам навстречу. Майор Зайцев тоже прибавил шагу. Теперь он нетерпеливо ждал донесения. Трое в комбинезонах почти бежали. Полевые сумки подпрыгивали на их бедрах. Это были очень молодые люди, на вид почти мальчики.
Обе наши группы с ходу остановились. Все взяли под козырек.
– Товарищ майор, ваше задание выполнено! – крикнул молодой человек, стоявший впереди. – Бомбили на аэродроме К. скопления неприятельских самолетов.
Вся тройка молодых людей – летчик, штурман и стрелок-радист – была очень взволнована. Оказывается, за немецким аэродромом охотились уже целую неделю, ждали, когда немцы перегонят туда самолеты. И вот наконец дождались. Донесение было очень серьезное, и майор не скрывал своей радости.
После первой же фразы донесения строго официальная часть кончилась, и трое юношей, перебивая друг друга, стремясь вспомнить все подробности полета и ничего не пропустить, принялись рассказывать, как было дело. Видимость была плохая, и почти весь полет прошел в облаках. Шли по приборам. Когда вынырнули из облаков, немецкий аэродром оказался справа. На нем было не меньше двадцати самолетов.
– Там было еще два четырехмоторных, – вставил штурман. – Они вот так стояли.
И он стал чертить на снегу ногами в меховых унтах расположение четырехмоторных самолетов.
Никто так хорошо не знает положения на фронте за последний час, как летчики. Здесь уже с утра имели сведения, что немцы начали беспорядочный отход. Дороги забиты обозами. Вот уже три часа, как наши бомбят эти обозы.
Меня поразило, что летчики и их командир ни разу не взглянули на карту.
– Мы тут все наизусть знаем, – сказал майор, не оборачиваясь.
Молодые люди продолжали свой рассказ.
Как только они увидели справа от себя немецкий аэродром, начали бить зенитки. Забегали люди.
– Ну? – сказал майор нетерпеливо.
– Я, значит, принял решение, – сказал летчик, – стал заходить на цель.
– Это правильно, – заметил майор.
Он знал, что экипаж шел без сопровождения истребителей, и решение, которое принял командир самолета, – идти в бой против многих истребителей и зенитных снарядов, вместо того чтобы уйти в облака и дать газу, – было мужественное решение.
– Зашли мы, значит, точно и отбомбились.
– Результаты? – спросил майор.
– Не знаю, – сказал летчик, – все в дыму было. Как-никак сбросили четыре сотни, не считая осколочных.
– Я им еще дал пить из пулемета, – вставил стрелок-радист.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/evgeniy-petrov/frontovoy-dnevnik/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Евгений Петрович Петров
«Фронтовой дневник» – сборник записей, созданных за период с 1941 по июль 1942. Эта уникальная книга издается впервые с послевоенного времени. Каждая запись в «дневнике» – это не просто хронология событий, это текст написанный под свист пуль и оглушающие звуки разрыва снарядов. Бесценные записи автобиографичны и пропитаны личными впечатлениями автора, они максимально реалистично иллюстрируют события той Великой войны.
Евгений Петров
Фронтовой дневник
Аэродром под Москвой
Здесь совершенно темно. Я не знаю, где запад и где восток. Видно только небо, покрытое легкими темными облачками. Я спрашиваю:
– Где Москва?
– Вы сейчас стоите к ней лицом, – отвечает голос, – скоро взойдет луна.
Я начинаю видеть кожаное пальто моего собеседника. Мы только что познакомились с ним и долго тыкали в воздух руками, прежде чем они соединились в рукопожатии. Рука у него теплая и твердая. Он майор, командир подразделения истребительной авиации.
– Выпейте пока чаю, – говорит майор.
– Успею ли я? Он может прилететь каждую минуту.
– Он прилетит позднее, когда взойдет луна. Ему сейчас невыгодно лететь.
Майор осторожно берет меня за плечи и ведет куда-то. По сторонам чудятся деревья. Я всматриваюсь. Это действительно деревья. Потом мы останавливаемся под навесом из ветвей, которые висят на веревках. Теперь видны не только куски неба, но становится виден горизонт.
– Садитесь здесь, – говорит майор.
Мои колени прикасаются к скамейке, а руки нащупывают стол. Я сажусь. Майор представляет меня.
– Маруся, дайте нам чаю, – говорит майор.
Я вижу белый фартук, а за ним очертания чего-то большого. Через минуту «оно» оказывается автобусом-столовой, а рядом со мной за столом сидят не менее десяти человек в кожаных пальто и пилотках набекрень. Нам подают чай, и мы беседуем.
Вчера летчик эскадрильи лейтенант Киселев протаранил «хейнкеля». Спускаясь на парашюте, он зацепился за дерево и немного поранил лицо. Сейчас он в госпитале. За столом говорят о его подвиге, о принципах применения тарана и о том, кто первый его применил.
– Первым протараненным самолетом в истории был австрийский самолет, – говорит майор, – и протаранил его русский летчик капитан Нестеров. Он протаранил его и сам погиб.
– Это было в тысяча девятьсот пятнадцатом году, – говорит кто-то.
– Нет, это было в тысяча девятьсот четырнадцатом году, – строго поправляет майор. – Нестеров протаранил австрийца и сам погиб. Он был великий летчик.
– Он первый сделал мертвую петлю, – говорит еще кто-то.
– Но штука в том, – перебивает майор, – чтобы протаранить немца и не погибнуть. И еще лучше – спасти самолет.
В голосе майора звучит педагогическая нотка.
Я спрашиваю, выгодно ли жертвовать самолетом и летчиком, чтобы сбить самолет противника.
– Да, это выгодно, – говорит майор, – но еще лучше, уничтожив противника, спастись самому и спасти самолет.
– Даже если погибнуть и погубить самолет, все равно это выгодно, – говорит чей-то голос. – Во-первых, с вами погибнут четыре врага или даже пять, если это «хейнкель». Во-вторых, бомбардировщик стоит гораздо дороже, чем истребитель. И там очень много дорогих навигационных приборов. Но самое главное, что он уже не сбросит бомбы над Москвой и можно спасти много людей.
– Это правильно, – подтверждает майор, – но нужно таранить так, чтобы спастись самому и спасти самолет. И таранить только тогда, когда уже нечем стрелять.
Киселев протаранил «хейнкеля» на высоте тысяча восьмьсот метров. Он отрубил ему пропеллером кусок крыла. Еще за несколько дней до этого летчик соседней эскадрильи Талалихин отрубил «юнкерсу» часть элерона.
Самое поразительное, что летчики говорят об этом сверхгероизме деловито, как об общепризнанном виде оружия. «Он протаранил самолет» говорится так же, как «он подстрелил самолет».
– На горизонте небольшой пожар, – говорю я.
– Нет, это восходит луна, – отвечает майор.
Ему что-то докладывают на ухо.
– Надо поднять людей, – говорит он, потом обращается ко мне: – Пойдемте на командный пункт. Они пролетели Вязьму и будут здесь минут через двадцать. Я подниму дежурных.
Мы подходим к землянке, где помещается командный пункт. Это небольшой холмик земли, насыпанный над бревенчатым входом. На холмике стол, стул и телефон. Майор поднимается на холмик, садится и берет трубку. Сначала он говорит непонятные мне цифры. Потом дает приказание: «Поднимайтесь!» И в ту же секунду, буквально в ту же секунду, я слышу в темноте рев мотора, мелькают огненные вспышки, рев усиливается, потом уменьшается. Над головой проносится буря. Первый истребитель уже в воздухе.
Под землей две очень чистые бревенчатые комнаты. Огромное количество телефонов, наушников, каких-то аппаратов, бумаг. Здесь царствует начальник штаба. Оказывается, пока германские самолеты летят над темной землей, за их передвижением следят тысячи людей. Оказывается, каждый истребитель, который ушел в воздух, опекают несколько человек. Они переговариваются с ним, указывают ему место посадки. Здесь, в этой бревенчатой комнате, точно известно, что делается на небе.
Я снова выхожу наверх. Сейчас все небо расчерчено голубыми геометрическими линиями прожекторов. Они перекрещиваются, зацепляя красную ущербную луну. Иногда один из них потухает, и тогда на его месте на секунду возникает черный столб. Он зажигается снова и медленно идет по небу. И по всему небу прыгают золотые звездочки разрывов. Слышится далекий гром зениток: это заградительный огонь. В промежутках слышно напряженное гуденье тяжело нагруженных германских бомбардировщиков. Снова громкий голос майора: «Поднимайтесь!» И в ту же секунду рев мотора – и новый истребитель проносится над головой. В перекрещенных лучах прожекторов, на очень большой высоте, становится виден беленький самолетик. Теперь из командного пункта выходят почти все. Начинается воздушный бой. Истребителя не видно. Видны только трассирующие пули. Бомбардировщик, который все время упорно шел по курсу, теперь разворачивается и уходит назад. Светящиеся пули летят к нему то с одной стороны, то с другой. Летчики, стоящие рядом со мной, начинают аплодировать. Они понимают то, чего сразу не понимаю я, – бомбардировщик сбит. Только на секунду я вижу где-то в стороне огненный след.
1941 г.
На Западном фронте в сентябре
Уже несколько дней я нахожусь на самом оживленном участке Западного фронта. Слово «фронт», которое в первый месяц войны употреблялось лишь условно, сейчас стало реальностью. Здесь многое напоминает Первую мировую войну – окопы, колючая проволока, известная стабильность. Но эта война неизмеримо страшнее, упорнее, кровопролитнее. Такой силы огня, какой ведется здесь уже третий месяц без отдыха, днем и ночью, в ту войну не было даже в самые напряженные дни.
Немцы стали строить здесь очень серьезные полевые укрепления примерно месяц назад, после занятия Смоленска, стоившего немцам громадных потерь. Затем начались непрерывные местные атаки частей Красной Армии. Я посетил участок протяжением в несколько десятков километров и глубиною до двенадцати километров, откуда немцы были выбиты в последние дни.
Произошло событие, которое войдет в историю этой, если можно так выразиться, сверхвойны. Впервые немцы были не только остановлены, но и отогнаны. Красная Армия продолжает оказывать сильнейшее давление на их позиции, прорывая все новые оборонительные линии, захватывая новые деревни и городки, орудия, пулеметы, пленных. Немцы, перешедшие к обороне, защищаются стойко и иногда переходят в контратаки. Вчера на том участке, где я нахожусь, они переходили в контратаки шесть раз, стремясь во что бы то ни стало вернуть потерянные территории, но были не только отбиты, но отброшены еще дальше. Их силы подорваны. Это несомненно.
Наш автомобиль медленно переваливает на пахнущий свежей стружкой бревенчатый мост, возведенный саперами позавчера. Под ним маленькая мутная речка, которая лениво течет среди невысоких поросших травой берегов. У нее есть имя. Но я не могу назвать его. О таких речках обычно пишут: «На реке N. продолжаются упорные бои». Но здесь ее простое русское название произносится с уважением.
– По этой речке проходил фронт несколько дней назад, – говорит мой спутник.
Он капитан, участник последних боев. Сейчас мы едем вместе на передовую линию, где идет бой.
На берегу реки почти совершенно разрушенная немцами деревня. Сохранились только ограждающие жилье заборы. Самого жилья уже нет. На его месте торчат кирпичные трубы и в квадратах золы можно рассмотреть глиняные почерневшие горшки да искривленные огнем железные кровати. На огородах осела пыль, поднятая тысячами танков, грузовиков и солдатских сапог. Совершенно непонятен здесь крохотный беленький цыпленок, который деловито роется в золе. Собак нет совершенно: они ушли с людьми, но зато попадаются кошки.
Дальше идет несжатое поле ржи. Она полегла и спуталась. Местами поле изрыто немецкими окопами и воронками снарядов. Оттуда несется сильнейший трупный запах. Валяются простреленные немецкие каски, вдавленная в рыжую землю проволока, трупы лошадей. Люди уже похоронены.
Мы едем дальше. Коричневые поля поспевающего льна (Смоленская область богата льном) сменяются лесами. В природе чувствуется наступление осени. Леса начинают ронять желтый лист. Но хвои здесь больше. Ели густо стоят вдоль дороги. Оттуда несет холодком и прелью. Людей и машин почти не видно – местность, по которой мы едем, простреливается немцами. Мы не видим людей и машин даже тогда, когда находимся совсем рядом с ними. И только подойдя почти вплотную к автомобилю или орудию, которые очень ловко замаскированы ветвями, начинаешь понимать, что собой представляет современный фронт.
Очень часто нас задерживают регуляторы движения. У них на руках повязки. Орудуют они красным и желтым флагами. Проверив документы, они вежливо берут под козырек и объясняют дальнейший путь.
Все чаще попадаются немецкие могилы – холмики земли, деревянный крест, на котором висит каска, и табличка с множеством фамилий, торопливо написанных химическим карандашом. И я вспоминаю слова пленного немецкого солдата, с которым разговаривал вчера о книге Гитлера «Моя борьба».
– Я всегда думал, – сказал солдат, – что, когда меня убьют, о моей борьбе никто не напишет. – И он добавил с бессмысленно радостной улыбкой человека, спасшегося от смерти, стереотипную фразу, которую повторяют почти все немецкие пленные: – Теперь для меня война кончилась.
Для этих, которые лежали в чужой земле, под чужим солнцем, рядом с чужими елями, война кончилась иначе.
1941 г.
В лесу
Этот лес обжит, как дом. Люди ходят друг к другу в гости, как в соседний подъезд. Низко согнувшись, они входят в палатку, прикрытую сверху еловыми ветвями, и, блеснув на секунду электрическим фонариком, садятся и закуривают. В лесу сыро. Накрапывает дождик. Здесь, недалеко от Смоленска, осень уже пришла. Слышится непрерывный шум, похожий на шум прибоя. Это шумят на ветру высокие вершины елей. С правильными промежутками в несколько минут раздается нарастающий визг, и тотчас же за ним громкий тупой звук разрыва. Это стреляет немецкая тяжелая артиллерия. С идиотической методичностью она бьет по пустому месту. На тошнотворный грохот разрывов никто не обращает внимания.
– Он будет бить до двух часов ночи, – говорит молоденький лейтенант, деловито поглядев на часы. – Снаряды падают отсюда метров за четыреста. Странные люди – немецкие артиллеристы! Уже несколько дней, как они вообразили себе какую-то цель, вероятно, несуществующую батарею, и теперь садят каждую ночь прямо в болото. Мы им не препятствуем. Пусть садят.
Ночью в лесу до такой степени темно, что мне кажется чудом, как это люди разыскивают нужные им палатки и блиндажи. Потом я замечаю под ногами множество маленьких и больших, светящихся холодным голубоватым светом крупинок. Как будто кто-то прошел впереди с мешком, из которого понемногу сыпался на землю этот волшебный, непотухающий огонь. И я не сразу могу сообразить, что это просто гнилушки, которые собрала в лесу заботливая интендантская рука и провела светящиеся дорожки между палатками. Здесь такие дорожки называют Млечным Путем. Это до такой степени похоже, что лучшего сравнения невозможно придумать. Я осторожно ступаю своими грубыми, непромокаемыми сапогами, стараясь не растоптать мироздание.
Мы приехали, когда было уже темно, и я заснул, не раздеваясь, укрывшись шинелью, в полном неведении того, что за мир меня окружает. Но заснул не сразу. Трудно было привыкнуть к немецким разрывам, от которых дрожала земля. Я насчитал их что-то шестьдесят. Потом наступила тишина. Я посмотрел на светящиеся часы. Было ровно два часа ночи.
Проснулся я поздно, часов в восемь. Из-под завешенного брезентом входа в палатку проникал солнечный свет. Погода за ночь изменилась. Слышались голоса проходящих людей и какой-то чрезвычайно знакомый непрерывный стук. «Вероятно, дятел», – подумал я. Но это оказался не дятел, а молоденькая хорошенькая машинистка, с аккуратно подвитыми кудряшками, в военной пилотке набекрень и вообще в полной военной форме, включая маленькие сапоги. Нагнувшись к своей машинке, она отстукивала нечто, состоящее главным образом из цифр. Над ее головой, на четырех вбитых в землю столбиках, была крыша, сделанная из ветвей. Немного дальше, перед входом в блиндаж, парикмахер, тоже в военном, брил клиента, любезно усадив его на ящик. Повсюду, в редких косых столбах солнца, проникавшего в торжественный темный лес, были разбиты замаскированные палатки и шатры из ветвей, стояли грузовики и лимузины, расхаживали военные с папками дел. По высокому стволу сосны пробежала жирная красная белка, на секунду замерла на обломанном сучке и посмотрела вниз своими черными стеклянными глазками. Это был штаб соединения генерала Конева, человека, о котором сейчас много говорят на фронте.
Он ведет с немцами непрерывные дневные и ночные бои и понемногу вытесняет их с нашей территории. За десять – двенадцать дней он прорвал несколько укрепленных немецких линий и взял большое количество трофеев и пленных. Сейчас бои продолжаются по всему фронту.
Я уже писал о том, что нынешний Западный фронт напоминает фронт Первой мировой войны, но со значительно большим огнем. Когда-то по знаменитой Верденской дороге в минуту проходили пять военных грузовиков. Сейчас по одной из дорог, ведущих к тому участку, где я нахожусь, проходит восемь грузовиков в минуту. А так как этот участок не является исключением (подобные бои идут по всему Западному фронту), читатель легко может судить о силе современного огня. Увеличенный почти вдвое Верден по всему фронту!
Здесь необходимо упомянуть о порядке, который существует на фронтовых дорогах. Нет не только дорожных пробок – ужасного бича современной войны, – но движение построено так, что оно почти не ощущается. Впечатление такое, что на фронтовых дорогах свободно. Искусство маскировки, необыкновенно обостренное современной воздушной войной, в Красной Армии достигло совершенства. Вы едете по фронту, но почти не замечаете его. А между тем он велик и предельно уплотнен.
Среди ветвей мелькает расшитая золотом генеральская фуражка.
– Встать! – командует дежурный.
Генерал принимает рапорт. Он в кожаном пальто. В руках у него палка, с которой он никогда не расстается. Генерал уже не молод, но очень крепок, сухощав и подвижен.
Он приглашает пройти на наблюдательный пункт, откуда будут хорошо видны результаты артиллерийской подготовки, которая должна начаться через двенадцать минут и предшествовать атаке.
По дороге генерал показывает чертежи германских окопов, захваченных накануне нашими частями. Современный немецкий окоп строится в виде ломаной линии с длинным ходом сообщения посредине. Командир роты сидит у этого хода сообщения, и ни один солдат не может уйти, не пройдя мимо своего командира.
– Это хитро придумано, – смеется генерал, – в последнее время дух немецких солдат значительно поколеблен.
Примечательно и то, что от индивидуальных окопчиков, принятых в современной войне, немцы снова переходят к общим окопам, как это было в Первую мировую войну.
Мы на наблюдательном пункте. Отсюда хорошо видно расположение немцев, невысокие холмы и лесочки.
Артиллерийская подготовка начинается точно по расписанию. Один за другим в расположении противника возникают разрывы, и скоро ими покрыт весь горизонт. Снаряды с визгом проносятся над нашими головами. В дыму можно разглядеть блеск пожаров.
Этот ад длится полчаса.
Подходит адъютант и в наступившей тишине тихо докладывает:
– Пошли.
– Ага, пошли. Отлично! – говорит генерал.
Он идет в блиндаж и просит соединить себя с командиром части, которая пошла в наступление.
1941 г.
Командир и комиссар
Когда наступила тишина и адъютант доложил генералу, что части пошли в наступление, мы уселись в свой автомобиль и поехали вперед. Снова была дорога, и снова лес, и снова овраги и небольшие подъемы. Лесные дороги, наскоро проложенные проходившими войсками, были грязны. Во многих местах их успели замостить тонкими стволами деревьев. Иначе невозможно было бы проехать. Автомобиль тарахтел по ним, как тарантас. В лесах была осень. Но на полевых дорогах еще стояла глубокая, летняя пыль.
Тишина продолжалась недолго. Снова стала бить артиллерия. О приближении линии фронта мы судили по характеру огня. Когда на наблюдательном пункте генерала мы наблюдали действие артиллерийской подготовки, тяжелые орудия стреляли позади нас. Тотчас же за выстрелом мы слышали над головами визг снаряда, и потом он долго еще летел туда, к немцам, и сначала мы видели разрывы, а уже после слышали их звук. Звук выстрела был сильнее, чем звук разрыва. Теперь визг пролетавшего снаряда слышался раньше всего. Потом долетал слабый выстрел, и мгновенно за ним сильный разрыв. Потом через головы стали летать снаряды легкой артиллерии, и время от времени очень громко били пулеметные очереди. Они били так громко, как будто стрельба происходила над самым ухом. Но до первой линии оставалось еще километра полтора.
Шофер въехал задним ходом в лес, остановился рядом с большим танком и накрыл машину ветвями. Дальше надо было идти пешком. В лесу сидели шоферы с танкистами и, прислонясь к танку, ели из алюминиевых котелков кашу с салом. Кроме того, у них было много сладкого чая. Наш шофер был тотчас же приглашен к столу. Шоферы совсем как масоны. Они мгновенно узнают друг друга и сходятся так, будто знакомы добрый десяток лет. Танкистов они охотно считают своими и любят их, но с несколько покровительственным оттенком. Так умудренный опытом, умный папа относится к своему отчаянно храброму сыну. Шоферы и танкисты ели кашу с очень серьезными лицами. По лицам людей всегда видно, в каком месте фронта ты находишься. Нет такой линии, которая отделяла бы тыл от фронта. Но она существует и может быть с полной точностью определена по лицам людей. Здесь люди делают серьезное мужское дело. Движения их неторопливы и очень четки. И что бы человек ни делал: вел коня на водопой, ел кашу, писал донесение, копался в моторе танка или даже улыбался чему-нибудь, у него совсем не то выражение, какое бывает у него же в двух-трех километрах ближе к тылу.
Мы пошли пешком прямо через поле спутанной, поникшей, погибающей ржи (ее уже никто не сможет убрать), и ее было жалко, как живое существо. Было жалко человеческого труда и баснословного урожая, какой бывает едва ли раз в десять лет. Мы поднялись на пригорок, и здесь надо было бежать метров четыреста до наблюдательного пункта командира части, так как местность была открытая и простреливалась противником. И мы побежали, унизительно пригибаясь и гремя амуницией. Командир части, громадный человек, с толстой шеей и добрым круглым лицом, сидел в блиндаже у телефонного аппарата и хрипло кричал что-то в трубку. Комиссар сидел снаружи, среди вороха ржи, свесив ноги в яму, в которой была вырезана лестница, и смотрел в бинокль. Иногда командир и комиссар переговаривались о чем-то, хорошо им знакомом, что происходило впереди. Иногда командир уговаривал комиссара спуститься вниз. «Ты мне всю маскировку портишь», – сердито говорил он. Но комиссар только посмеивался, показывая свои сверкающие зубы, особенно белые на темном, запыленном лице. «Когда ты сидел здесь, – отвечал он, – я тоже все время звал тебя вниз, и ты не хотел идти».
Для того чтобы понять, что такое комиссар на фронте, надо прежде всего запомнить одно: комиссар и командир – почти всегда друзья. Их содружество естественно и гармонично. Один замещает другого, если того убьют. Это высшая форма братства. Такая может родиться только на войне. Я посетил много частей и подразделений Красной Армии и всюду наблюдал эту крепкую, простую, мужскую дружбу.
Часть прошла уже две линии немецких полевых укреплений и окопалась под сильным минометным огнем. Этот бой будет продолжаться весь день, возобновится ночью и потом опять возобновится завтра утром.
Командир и комиссар знают, как тяжела и кровопролитна эта война. Они ведут ее с первого дня вместе. Вместе они переживали гнетущие дни отступления, хотя это отступление было правильным и единственным выходом в то время. Вместе они выходили из окружения и блестяще выполнили этот труднейший маневр, прорвав немецкую блокаду и выведя всю свою часть. Вместе они были в Смоленске, отстаивая каждый дом. Теперь вместе на крепком, установившемся фронте они крепко бьют немцев. Эти два месяца боев стоят двадцатилетней дружбы. Теперь оба, дополняя друг друга, они рассказывают мне о капитане, командире разведывательного батальона. Капитан совершил подвиг, о котором будут складываться песни через сотни лет. Он вел разведку всем батальоном и устроил свой наблюдательный пункт на колокольне церкви в маленьком покинутом жителями селе. Командир и комиссар попеременно разговаривали с ним по телефону. Он давал замечательные указания артиллерии. Его батальон вел бой по сторонам от села. Неожиданно в село прорвалась большая колонна немецких танков. Танки заполнили всю сельскую площадь. Капитану немцы предложили сдаться. Герой вместе со своим связистом ответил выстрелами. Капитан сразу понял, какая опасность угрожает не только его батальону, но всему стоящему позади соединению и, может быть, даже фронту. И он немедленно скомандовал в трубку:
– Огонь по мне!
Ориентир – церковная колокольня – был идеальный, площадь была забита немецкими танками.
– Прощайте, товарищи! – сказал он в трубку.
И на него обвалился шквал артиллерийского огня.
1941 г.
Москва за нами
Последние пять дней я провел на Можайском и Волоколамском направлениях. Здесь защищают грудь Москвы от прямого удара в сердце.
Мы выехали на шоссе, которое начинается еще в городе и представляет собою одну из лучших улиц новой Москвы. Здесь еще осталось несколько ветхих деревянных домишек былой, запущенной окраины. И они очень выразительно контрастируют с длиннейшей перспективой громадных новых домов, выстроенных за последний год. Некоторые из них еще не закончены. Здесь осуществлено то, о чем мечтал Ленин. Окраины больше нет. Нет убогих лачуг, где в былое время ютилась нищета. Дома новой улицы выстроены со вкусом и даже известным великолепием. Они выстроены из хороших материалов. Многие отделаны мрамором и гранитом. За последним домом с золоченой вывеской кондитерского магазина сразу начинается поле. Еще весной этого года по Можайскому шоссе мчались автомобили дачников. Сейчас оно перегорожено баррикадами и противотанковыми заграждениями.
Кажется, что с мирного времени прошло не пять месяцев, а триста лет; так это было давно.
Мы проехали холм, до половины срезанный широкой автострадой. Это – Поклонная гора, хорошо известная в истории русского государства. Отсюда в 1812 году Наполеон впервые увидел Москву. Здесь, сидя на барабане, он ждал, когда бургомистр принесет ему ключи от города. Но он не дождался. Русские не приносят ключей от своих городов.
Мы ехали часа полтора, обгоняя обозы военных грузовиков. Все меньше становилось мирных жителей и все больше военных.
Последние жители, которых мы видели, шли и ехали нам навстречу со своим имуществом. Некоторые тащили его на санках. Старики и женщины гнали коров по обочинам дороги. Все ближе становится гул артиллерии и минометов. Люди уходили с насиженных мест, боясь нашествия немцев.
Скоро уже невозможно было встретить штатского человека.
Это был фронт.
Западный фронт, который я помнил в августе и сентябре накануне великих и кровавых боев за столицу, крепкий, но все же беспечный фронт, уже не существовал. Но не потому, что был начисто уничтожен, как это с обычным своим нахальством утверждает немецкий генеральный штаб. Люди остались те же, если не считать погибших. Были те же дороги, и те же леса, и те же бревенчатые деревушки, и те же танки, и тот же одуряющий запах отработанного бензина, смешанный с запахом пожарища – запах современной войны, – и простреленные каски, и закоченевшие трупы с согнутыми коленями, и обгорелые машины на обочинах дорог.
Но все было не то.
Тогда начиналась осень. Сейчас была злая, колючая, небывало ранняя зима. Оголенные лиственные леса оледенели. Деревья казались дорогими и тонкими изделиями из серебра. Отчетливо была видна каждая веточка. Хвоя была покрыта крепким промерзшим инеем только с северной стороны. С юга она оставалась зеленой. Земля стала крепкой, как дерево. Погода – идеальная для действия крупных танковых соединений. В такую погоду танки могут пройти решительно в любом месте. И этой погодой воспользовались немцы, чтобы произвести новое решительное наступление на Москву.
Но изменилась не только природа. Танки, приспособляясь к ней, покрылись белой краской. На красноармейцах и командирах появились теплые меховые шапки из голубоватого меха, ватники и безрукавки, которые отлично греют под шинелями. Сейчас светает только к семи часам утра, а к пяти часам дня уже начинает темнеть. Боевой день стал страшно короток и поэтому особенно напряжен. И потому еще фронт стал совсем другим, что приблизилась Москва. Тогда, сражаясь за Москву, люди знали, что позади еще большая территория, что если немцы не будут отогнаны сегодня, они будут отогнаны завтра. Сейчас Москва за самой спиной, на некоторых участках всего лишь в шестидесяти километрах. И остановить немцев нужно именно сегодня. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что на фронте нет ни одного человека, который поверил бы, что Москва может пасть. Люди хорошо вооружены. У них есть танки (их, правда, не много), отличная артиллерия, пулеметы, автоматы, минометы. Но если придет такая минута, русские люди будут перегрызать фашистам горло зубами. Потому что за спиной самое дорогое, что есть у русского человека, – Москва.
Как полагают здесь, немцы убедились, что взять Москву фронтальным ударом, действуя по сходящимся к столице магистралям, чрезвычайно трудно и сопряжено с грандиозными потерями. Поэтому, судя по нынешнему сражению, немецкое командование делает новую и, очевидно, генеральную попытку обойти Москву с флангов.
Как всегда, немцы ищут стыков между крупными соединениями, ищут слабых мест. Как всегда, они отходят там, где натыкаются на сильное сопротивление, и предпринимают все новые и новые маневры.
Бои идут очень серьезные. Но на фронте, от переднего края до штабов, люди полны уверенности. Тогда на Западном фронте, в августе и сентябре, тоже была уверенность. Но то была уверенность гордой нации, сопряженная с известным добродушием. Звучит это несколько странно, но это именно так – с добродушием мирных людей, для которых убийство, даже на войне, даже самое справедливое из справедливых, – занятие малопривлекательное. Нужно знать характер русского человека. Это очень добрый человек. Он вспыльчив, но отходчив, и нужно много времени, чтобы он озлобился по-настоящему. Сейчас люди озлобились до такой степени, что не могут слышать слова «немец». Ненависть к захватчикам сделала каждого бойца крепким, как оледеневшая почва, на которой он стоит. Сейчас люди черпают уверенность в своей ненависти.
Вчера вступило в бой танковое соединение, состоящее из английских танков. И английские машины, и советские танкисты, управлявшие ими, шли в бой впервые. И те и другие экзамен выдержали. Танкисты отзываются о танках хорошо. Если бы машины могли говорить, они еще больше хвалили бы танкистов.
Идти в бой в первый раз в жизни – нелегкая штука. Сколько было случаев, когда люди, дрогнувшие в первом бою, оказывались потом героями. Танкисты нового соединения сразу повели себя героями. Потому что за спиной – Москва.
– Знаете, буквально приходится их удерживать, – сказал командир батальона.
И по той нежной и в то же время мужественной улыбке, с которой он сказал это, было видно, что удерживать своих бойцов – задача хотя и не легкая, но приятная.
Мы сидели в бревенчатой комнате, только вчера покинутой хозяевами. Танкисты помогли хозяевам эвакуироваться – дали им грузовик. Старуха-хозяйка не знала, как поблагодарить. И когда уже все было собрано и погружено, она отозвала начальника штаба и, значительно поджимая губы, зашептала:
– Тут я оставила в погребе бочонок с солеными огурцами. Все лето солила. Ешьте, милые, на здоровье. И оставляю вам еще гитару. Будет свободное время – играйте, веселитесь.
И уже трудно поверить, что еще только вчера шла в этом домике хорошо налаженная, привычная жизнь и чирикала в клетке канарейка, стояли на подоконниках горшки с геранью, за маленьким окном с резными наличниками играли снежинки, и только лай собак да пенье петухов нарушали деревенскую тишину.
Сейчас в комнате царили полевой телефон и карта. Пахло сапогами и овчиной. Невдалеке шел бой. Казалось, что за стеной, беспрерывно стуча сапогами, сбегают по деревянной лестнице какие-то люди. В деревне есть уже разрушенные дома, и явственно чернеют на снегу следы разорвавшихся мин.
В комнату стремительно вошел лейтенант, огромного роста молодой человек с прекрасным курносым лицом и широко расставленными глазами, сверкавшими отчаянной радостью.
– Разрешите доложить! – крикнул он, вытянувшись перед командиром.
Было ясно, что он собирается доложить нечто чрезвычайно важное.
– Докладывайте, – сказал командир.
Лейтенант оглянулся, потом махнул рукой и, уже не в силах сдержать возбуждения, выпалил:
– Немцы прорвались на Бараки.
И, ожидая ответа, он в нетерпении стал переминаться с ноги на ногу. Он был еще совсем мальчик. Командир стал что-то соображать, глядя на карту. «Ну что же ты медлишь? – думал, вероятно, лейтенант в эту минуту. – Ведь сейчас все решается: и судьба Москвы, и твоя судьба, и моя судьба».
На его лице появилось выражение мольбы. А командир все еще смотрел на карту. Он смотрел на карту страшно долго, катастрофически долго – минуты две.
– Послать в Бараки третью роту танков, – тихо, но твердо сказал он наконец.
– Есть! – гаркнул лейтенант.
Он обвел всех счастливыми глазами, хотел что-то сказать, потом рванулся к двери, потом остановился и спросил: «Разрешите идти?» – и, получив разрешение, выбежал с таким грохотом, что после его ухода некоторое время звучала гитара на стене.
– В первый раз идет в бой, – сказал командир. – А хорош!
Да, танкисты шли в бой, как на парад. Потому что за спиной была Москва.
Уже было совсем темно, когда получили донесение, что пункт Бараки отбит и немцы отброшены в исходное положение.
26 ноября 1941 г.
Сегодня под Москвой
В простой бревенчатой избе, под образами, совсем как на знаменитой картине «Военный совет в Филях», сидят три советских генерала – пехотный, артиллерийский и танковый.
И так же, как тогда, та же русская природа за окном, и карта на столе, и заглядывает в комнату любопытный деревенский мальчик, и недалеко Москва. И генералы даже чем-то похожи на Дохтурова или молодого Ермолова, вероятно, русскими лицами и золотом на воротниках.
Только они не решают здесь – оставить Москву врагу или дать новое сражение.
Вопрос уже решен: Москву отстоять во что бы то ни стало. А генеральное сражение уже идет четырнадцатый день, не только не ослабевая, но все усиливаясь.
Если продолжить историческую параллель с 1812 годом, хочется сравнить с Бородинским сражением октябрьские бои на Западном фронте, когда наши армии, непрерывно сражаясь, откатывались от Вязьмы и Брянска, а израненный враг, совершивший гигантский прыжок в двести километров, должен был остановиться, чтобы зализать свои раны и собраться с новыми силами. Сейчас же на подступах к Москве идет то сражение, которое Кутузов не решился дать Наполеону, но обязательно дал бы, если бы, защищая Москву, находился в современных условиях.
Величайшее сражение идет четырнадцатый день. Далеко впереди горят оставленные нами деревни. Глядя на карту, я отчетливо вспоминаю. Вот в этой я был пять дней назад. В этой – позавчера. Неужели горит эта чудесная деревушка, вся в садах, с прекрасным домом отдыха по соседству? И не их ли, жителей этой деревушки, встретили мы только что на дороге, направляясь к фронту? Они едут в телегах и на военных грузовиках со всем своим домашним скарбом. Нет ни слез, ни причитаний. Женщины молча смотрят перед собой сухими глазами, обнимая свои узлы. Их мужья на фронте, дома их горят. Но у них есть родина и месть. Страшна будет эта народная месть, когда гитлеровские армии покатятся обратно!
Три генерала, которые так похожи на кутузовских, заехали далеко вперед от своих штабов. Сейчас они бросили навстречу прорвавшимся немцам моторизованную пехоту и теперь ждут результатов. Впереди, за деревней, уходящее вниз поле. Потом лес, начинающийся на пригорке. Поле уже покрыто заранее вырытыми окопами. Они чернеют на снегу.
Немец обстреливает из минометов дорогу между деревней и лесом. Иногда по этой дороге с большой скоростью проносится небольшой связной танк или грузовик с походной кухней. На грузовике, заваливаясь к бортам на поворотах, сидят повара. Из трубы валит дым. Кухня торопится за своей пехотой, которую полчаса назад бросили в бой. На околицах деревни уже поджидают противника противотанковые орудия.
В густом еловом лесу, в засаде, стоят большие белые танки, немного прикрытые хвоей. Их ни за что не увидишь, если не подойдешь совсем близко. Это очень грозная сила, и красный ромбик, которым они отмечены на карте, несомненно, играет в планах командования большую роль. Вероятно, они пойдут в бой еще сегодня, к концу дня.
Все чаще с сухим треском лопаются мины. Бой приближается. Но орудийная прислуга в деревне, и танкисты в лесу, и генералы в своей избе как бы не замечают этого. Таков неписаный закон фронта.
Командир танковой роты, старший лейтенант, молодой двадцатидвухлетний кубанец (он, совсем как казак, выпустил из-под кожаного шлема вьющийся чуб), со смехом рассказывает, как, отправившись на разведку в одиночку, встретился с пятью немецкими средними танками, как подбил два из них, а остальные удрали. Но этим не кончились его приключения. Он помчался дальше, захватил противотанковое орудие, десять ящиков со снарядами к нему и все это в исправном виде (хоть сейчас стреляй!) доставил в свое расположение. Все это он рассказывает как забавный анекдот. У старшего лейтенанта уже большой боевой опыт – он сорок семь раз ходил в танковые атаки, и все они были удачны. Наши танки «Т-34» он считает лучшими в мире.
Он еще раз обходит приготовившиеся к бою машины, потом останавливается возле одной из них и, похлопав ее по стальному боку, ласково говорит:
– А это мой танк!
Он узнает его среди многих совершенно одинаковых машин, как кавалерист узнает свою лошадь. Вероятно, он знает какое-нибудь одному ему известное масляное пятно или небольшую вмятину от снаряда.
Сейчас, во время генерального немецкого наступления на Москву, когда в разных направлениях беспрерывно вспыхивают бои и сражение представляет собою целую серию сложных маневренных действий, исключительный интерес вызывает ближайший тыл, примерно десять километров в глубину.
По состоянию ближайшего тыла, уже просто по одному тому, что и как движется по дорогам и что происходит в деревнях, можно безошибочно судить о состоянии фронта.
Наш ближайший тыл очень хорош.
Немцев ждут всюду – на всех дорогах, на околицах всех деревень. Их ждут рвы и надолбы, колючая проволока и минированные поля. И чем ближе к Москве, тем теснее и разнообразнее оборона, тем гуще сеть укреплений.
Что сегодня под Москвой? Сколько времени может еще продолжаться немецкое наступление? Когда наконец оно выдохнется? Сколько времени неистовый враг сможет бросать в бой все новые резервы, все новые и новые группы танков?
Эти вопросы волнуют сейчас страну. Об этом думают сейчас все.
Трудно делать предположения, когда всем сердцем ждешь остановки немцев, а затем их разгрома. Почти физически невозможно стать объективным и приняться за рассуждения.
Однако некоторые выводы напрашиваются сами собой.
С первого дня наступления, 16 ноября, на Волоколамском направлении немцы прошли от сорока до шестидесяти километров, то есть в среднем от трех до четырех километров в день. Очень важно при этом, что самый длинный бросок был сделан в первые дни. Получается, следовательно, что движение немцев все время замедляется. Между тем они вводят в дело все больше и больше сил. Чем все это объяснить? Вероятно, по планам германского командования выходило, что постепенное усиление нажима приведет к победе, к разгрому Красной Армии. Но этого не получилось. Напротив. Сопротивление усилилось. При приближении к Москве увеличилось количество укреплений, и движение немцев стало менее быстрым.
Если взять июньское и июльское, потом октябрьское и, наконец, это генеральное наступление немцев на Москву, то мы увидим, что от наступления к наступлению темпы их уменьшаются: пятьсот – шестьсот километров в июне – июле, двести километров в октябре и шестьдесят километров сейчас.
Немец должен быть остановлен.
А остановка его в поле с загнутыми, далеко выдвинувшимися вперед флангами будет равносильна проигрышу им генерального сражения.
И это будет началом конца.
30 ноября 1941 г.
Клин, 16 декабря
Положение военных корреспондентов на Западном фронте становится все более сложным. Всего несколько дней назад мы выезжали налегке и, проехав какие-нибудь тридцать километров, оказывались на фронте. Сегодня в том же направлении нам пришлось проехать около сотни километров.
Путь немецкого отступления становится довольно длинным. И этот путь однообразен – сожженные деревни, минированные дороги, скелеты автомобилей и танков, оставшиеся без крова жители. Такой путь я наблюдал на днях, когда ехал в Истру.
Но есть еще один путь – путь немецкого бегства. Его я видел сегодня. Этот путь еще длиннее. И гораздо приятнее для глаза советского человека. Здесь немцы не успевали сжигать дома. Они бросали совершенно целые автомобили, танки, орудия и ящики с патронами. Здесь жителям остались хотя и загаженные, но все-таки дома. Полы будут отмыты, стекла вставлены, и из труб потянется дымок восстановленного очага.
Клин пострадал довольно сильно. Есть немало разрушенных домов. Но все-таки город существует. Вы подъезжаете к нему и видите: это – город.
Он был взят вчера в два часа утра. Сегодня это уже тыл.
Что сказать о жителях? Они смотрят на красноармейцев с обожанием.
– Немцы уже не вернутся сюда? Правда? – выпытывают они. – Теперь здесь будете только вы?
Красноармейцы солидно и загадочно поднимают брови. Они не считают возможным ставить военные прогнозы. Но по тому, каким веселым доброжелательством светятся их глаза, исстрадавшимся жителям ясно – немцы никогда не придут сюда.
К Москве никто никогда не подходил дважды.
Красная Армия не только взяла Клин. Она спасла его в полном смысле слова. Удар был так стремителен и неожидан, что немцы бежали, не успевши сделать то, что они сделали с Истрой, – сжечь город дотла.
И жители не знают, как отблагодарить красноармейцев.
Как только в Клин вошли первые красноармейцы, жители сразу же рассказали им, где и что заминировали немцы и где они оставили свои склады.
В одной из деревушек за Клином произошел случай, столь же героический, сколь и юмористический. Первыми о том, что немцы собираются бежать, пронюхали мальчики. Они подкрались к немецким грузовикам и стащили все ручки, которыми заводятся моторы. Пришлось немцам бежать самым естественным путем, при помощи собственных ног. Как только в деревне появились наши войска, мальчики торжественно поднесли им ручки. Машины были заведены и пущены в дело.
Побывал я и в домике Чайковского. Это была давнишняя моя мечта – увидеть то, о чем я столько раз читал: уголок у окна, где Чайковский писал Шестую симфонию и смотрел на свои любимые три березки, его рояль, книги и ноты.
То, что сделали в домике Чайковского немцы, так отвратительно, чудовищно и тупо, что долго еще буду я вспоминать об этом посещении с тоской.
Мы вошли в дом. Встретил нас старичок экскурсовод А. Шапшал. Он так привык встречать экскурсантов и водить их мимо экспонатов музея, что даже сейчас, после первых радостных восклицаний, он чинно повел нас наверх по узкой деревянной лесенке и, пригласив в довольно большую комнату, сказал:
– Вот зал, принадлежавший лично Петру Ильичу Чайковскому. Здесь, в этой нише, был устроен кабинет великого композитора. А здесь Петр Ильич любил…
Но вдруг он оборвал свою плавную речь и, всплеснув руками, крикнул:
– Нет, вы только посмотрите, что наделали эти мерзавцы!
Но мы давно уже во все глаза смотрели на то, что было когда-то музеем Чайковского. Стадо взбесившихся свиней не могло бы так загадить дом, как загадили его фашисты. Они отрывали деревянные панели и топили ими, в то время как во дворе было сколько угодно дров. К счастью, все манускрипты, личные книги, любимый рояль, письменный стол, одним словом, все самое ценное было своевременно эвакуировано. Относительно менее ценное упаковали в ящики, но не успели отправить. Фашисты выпотрошили ящики и рассыпали по дому их содержимое. Они топили нотами и книгами, ходили в грязных сапогах по старинным фотографическим карточкам, срывали со стен портреты. Они отбили у бюста Чайковского нос и часть головы. Они разбили бюсты Пушкина, Горького и Шаляпина. На полу лежал портрет Моцарта со старинной гравюры с жирным следом немецкого сапога. Я видел собственными глазами портрет Бетховена, сорванный со стены и небрежно брошенный на стул. Неподалеку от него фашисты просто нагадили. Это совершенно точно. Немецкие солдаты или офицеры нагадили на полу рядом с превосходным большим портретом Бетховена.
Повсюду валялись пустые консервные банки и бутылки из-под коньяку.
– Неужели вы не объяснили немецкому офицеру, что это за дом?
– Да, я объяснял. Захожу как-то сюда и говорю: «Чайковский очень любил вашего Моцарта. Хотя бы поэтому пощадите дом». Да меня никто не стал слушать. Вот я и перестал говорить с ними об искусстве. И то – придешь, а они вдруг и скажут: «А ну, старик, снимай валенки». Куда я пойду без валенок? Они тут многих в Клину пораздевали. Нет, с ними нельзя говорить об искусстве!
Я подошел к окну в том месте, где стоял письменный стол Чайковского и где он писал Патетическую симфонию. Прямо за окном, рядышком, стояли три знаменитые березки. Только это были уже березы, большие, вполне взрослые деревья.
Но сейчас было не до грусти. Была деятельная военная жизнь.
У начальника гарнизона собралось множество военного народа. Начальник быстро отдавал приказания, куда эвакуировать раненых, как получше и побыстрее разминировать дома и дороги, как восстановить электростанцию, баню и хлебопекарню. Не хватало штатских. Но тут мы услышали знакомый голос:
– Товарищи, надо принять меры. Для Клина еще не выделены фонды.
Мы обернулись. Конечно, это был он, председатель райпотребсоюза. На нем было странное по сравнению с военными полушубками, а в самом деле самое обыкновенное драповое пальто. На нем была барашковая шапка пирожком и калоши.
– А! – воскликнул начальник гарнизона, приятно улыбаясь. – Ну вот и прекрасно. И давайте работать. Вы когда пришли?
– Да только что, – сказал человек в пальто. – Тут я, товарищи, уже кое-что наметил. В части организации торговых точек…
И работа началась.
Как будто ее никто и не прерывал.
1941 г.
Что такое счастье
Мы любили говорить о счастье будущих поколений, о счастье наших детей, наконец о нашем общем счастье, когда через пятнадцать лет мы построим коммунистическое государство, где всего будет вдоволь для всех. Но мы редко говорили о нашем сегодняшнем счастье. И никогда не думали о нем. Человеку свойственно сетовать на свои, даже самые маленькие, несчастья и в то же время не замечать, когда он счастлив.
Очень часто я встречаю людей, которых не видел с начала войны. И, обсудив предварительно все военные вопросы, включая последнюю речь Черчилля, и не забыв о положении на острове Гуам, мы начинаем вспоминать, где встречались в последний раз.
– Ну конечно же в Ялте. Я еще жил в санатории ВЦСПС и еще, дурак, жаловался, что там плохо кормят. Помните, мы встретились на набережной? Вы еще шли купаться, а я еще сказал: «Ну кто купается в мае! Вот в июне…». А в июне-то…
– М-да. Хорошо было.
– Здорово жили. Ничего не скажешь.
Или:
– Позвольте, позвольте! Ну конечно! На этом самом месте! Вы шли по улице Горького с женой и детьми. Помните, вы еще жаловались, что просто ума не приложите, куда отдать сына после окончания десятилетки. Вы хотели в политехникум, жена – в театральное училище, а сам мальчик хотел в летную школу.
– Уже летает. На Юго-Западном.
– Истребитель?
– Бомбардировщик. Два месяца нет писем. Жена каждый день шлет мне телеграммы. Не знаю, что и отвечать.
– А она где?
– Она с маленьким в Сибири. А девочка с пионерским лагерем в Средней Азии. А мою тетушку помните? Старушку? Она сейчас у немцев, в Днепропетровске. Что с ней – не знаю. Ведь и жила она только на то, что я ей посылал.
– М-да. Жили – не думали.
– Ничего не скажешь. Хорошо жили.
Мы хорошо жили на нашей советской земле. Но все ли мы понимаем это? И не было разве среди нас людей, которые не только не понимали этого, но, напротив, твердо считали, что они недостаточно счастливы, что для их счастья чего-то не хватает?
Мы ехали по лесной дороге ночью, в полной тишине. В белом свете автомобильных фар лес выглядел, как оперная декорация, очень странная, потому что мы никогда не видим оперных декораций без музыки. А сейчас была тишина. Очень странная тишина, потому что мы ехали в прифронтовой полосе, где, казалось, должен был бы стоять грохот. Но на фронте даже во время самого интенсивного наступления бывает какое-то время тишина. Я не знаю более полной, абсолютной тишины, чем фронтовая.
По этому лесу прошел медведь войны. Он ободрал металлическими боками стволы деревьев, выломал сучья и раскидал их, протащился вперед и в стороны своим тяжелым телом, взрывая землю и вытаскивая с корнем кусты.
Потом почти целые сутки шел снег.
Медведь войны ушел на запад. Снег закрыл страшные раны, нанесенные войною природе.
Природа сопротивляется войне. Подпиленное и сваленное на дорогу громадное дерево лежит, как гладиатор, который под ударом врага упал на руки, но еще надеется подняться. Природа сопротивляется войне как может. Когда же сопротивление сломлено, она гибнет горделиво, как храбрый солдат. Нетронутая – она вызывала восхищение, она была красива. Изломанная, побежденная – она величественна и вызывает уважение.
Немцы, отступая, минировали дорогу. Саперы осторожно выбирали мины. Наш караван автомобилей ехал за ними, останавливаясь через каждые пять минут. Это было, как в минированном море, когда эскадра движется за тральщиками.
Мы ехали очень долго, часов двенадцать. Мы объезжали брошенные немцами грузовики и куски разорванных минами лошадей. Иногда мы останавливались в деревнях. Там немецких машин было еще больше, чем по пути. Мы узнавали дорогу и двигались дальше.
В деревню, где мы собирались остановиться, мы приехали часа в два ночи. Это была деревня, где не пели петухи и не лаяли собаки.
Тут уцелело много домов. Сохранилось и несколько семейств. Днем они возвратились из лесу, где жили, как звери, в ямах, и теперь устраивались в своих пустых, загрязненных немцами домах. Немцы не оставили им ничего – ни одной крупинки еды, ни одного лоскута материи.
На печи сидела старуха и смотрела, как в избе возятся красноармейцы. Печь хорошо натопили, Старухе было тепло, и она все время улыбалась, ожидая вопросов.
– Ты что, бабка, тут развалилась? – сказал ей маленький, веснушчатый красноармеец строгим голосом. – Не видишь, готовим избу для высшего начальства? Шла бы себе в лес ночевать.
– Так вот взяла да и пошла, – ответила старуха радостно.
– Небось когда немец был, ты и в избу боялась взойти, не то что на печь лезть в присутствии высшего командования.
– Что, бабушка, – спросил я, – надоел немец?
– Совсем, думали, пропадем, – быстро и оживленно ответила старуха, которая ожидала этого вопроса. – Как пришел, так сразу: «Иди, иди, говорит, в ямцы». В ямы, значит. А сам все чисто забрал. Ничего не оставил.
– Кто теперь тебя, такую, замуж возьмет без приданого? – заметил веснушчатый красноармеец.
– Да ну тебя совсем! Привязался! – сказала старуха, делая вид, что замахивается на веснушчатого красноармейца.
Между ним и старухой явно устанавливались приятельские отношения.
В избу вошел командир. Он снял ремни и положил на стол трофейный немецкий автомат, потом посмотрел на печь.
– А! – сказал он. – Ты еще жива, моя старушка?
– Не хочет больше в лес идти, товарищ старший лейтенант. Все за печку держится, – почтительно доложил веснушчатый красноармеец.
– Накормили старуху?
– Точно.
Старший лейтенант некоторое время глядел на старуху улыбаясь.
– Что это ты такая веселая, бабушка? – спросил он. – Уж, кажется, и натерпелась ты от немцев, и ограбили тебя всю как есть, и внука убили. А ты веселая.
– На вас гляжу – веселюсь, – ответила старуха. – Веселюсь, что русские пришли. Что хозяйство! Даст бог, опять подымемся. А мне думалось, еще разок на своих посмотреть. А там и помирать не жалко.
На другое утро я был в Волоколамске.
Там я видел старика крестьянина, видно, зажиточного, в хорошей бараньей шапке, в исправных валенках с калошами. Он быстро шел по развороченной снарядами, покрытой глубоким снегом улице. В руке у него была веревка. В морозном воздухе резко звучала пулеметная стрельба: бой шел еще в двух километрах от города.
– Куда, дедушка?
– Да вот корову ищу! – крикнул старик. – Я сам из деревни…
Он назвал одну из бесчисленных Покровок или Петровок. Перед приходом немцев, когда многие колхозники уходили, он считал, что все обойдется, что «немец – тоже человек». Ему повезло. Деревушка его далеко от шоссейной дороги, и немец так до нее и не дошел. Старик-единоличник прожил два месяца не плохо. Заявились к нему немцы только перед своим уходом, когда он уже надеялся, что нелегкая вывезла. Это были отступающие немцы. Старик вовремя успел убежать в лес. Избу немцы разграбили и увели корову. Теперь он ее искал.
– У нас так люди говорят, – сказал он, – что немцев в Волоколамске окружили, я и пришел. Думал, найду мою корову. Ан, оказывается, окружение-то вышло неполное.
– Да они, дедушка, наверно, уж съели твою корову.
– Нет, – сказал старик убежденно, – они ее на Берлин погнали, в Германию. Пойду поищу, может, где-нибудь здесь бросили. Смотри, сколько машин покидали! Ишь бежали, черти! – добавил он с ненавистью.
Он быстро пошел вверх по улице. Потом остановился и, обернувшись ко мне, закричал тонким голосом:
– Что же вы, товарищ командир? Окружать их надо, гадов! Окружать! Так их окружать, чтоб… Эх!
Он махнул своей веревкой и побежал дальше.
Уже много писалось о том, каких дел натворили фашисты в Волоколамске, как изломали, пожгли, загадили милый городок, как повесили они там восемь советских патриотов и не снимали их с виселицы сорок пять дней. И когда бы ни вышел волоколамский житель на улицу и куда бы он ни пошел, он никуда не мог уйти от этого страшного зрелища.
Я зашел в один из домов, в котором расположился штаб нашей части.
В клетушке, примыкавшей к большой комнате, где за картой сидели командиры, я увидел двух женщин и маленькую девочку.
Мы разговорились. Я заметил, что люди, избавившиеся от немецкой власти, становятся очень разговорчивы, как будто хотят сразу выговорить все, что собралось у них на душе. Во время разговора одна из женщин, видно, когда-то полная, а теперь дряблая сорокапятилетняя женщина в кофейного цвета платочке, несколько раз принималась плакать. Фашисты застрелили ее сына, четырнадцатилетнего парнишку, когда он пытался проскочить в ближайшую деревню, где стояли тогда передовые части Красной Армии. Женщина обстоятельно перечислила, что забрали у нее немцы. Я занес в блокнот этот список: корова, 8 овец, 2 свиньи, 26 породистых кур, 40 пудов овса, много муки, крупы, сала и масла. Это только продукты. Кроме того, немцы вынесли решительно все вещи, которые были в доме. А их, по рассказу женщины, было немало.
– Каждую тряпочку смотрели на свет и, если сгодится, брали. Елочные игрушки – и те взяли. Вот для нее берегла.
И женщина кивнула на свою дочурку, которая за время разговора успела взгромоздиться на колени начальника штаба, водила пальчиком по карте и с уважением спрашивала:
– А это что, дяденька?
– Ну, ну, девочка, спокойненько. Не мешать дяде, – отвечал начальник штаба рассеянно.
– За людей нас не считали, – сказала женщина. Она вытерла платком глаза, потом высморкалась. – Их у нас тут в доме много перебывало, немцев-то. Что ребенок? Кому он может помешать? А немец идет по комнате и никого не видит. Наткнется на ребенка, – ребенок в сторону летит. А немец даже не оглядывается. Не замечает.
– Вот! Будешь в другой раз знать! – крикнула вдруг вторая женщина, очевидно, соседка, маленькая, простоволосая, с решительным морщинистым лицом. – Будешь теперь знать! Будешь теперь знать, какие твои немцы! Все ходила, все говорила: «Врут газеты, немец нам зла не сделает». Не сделает, не сделает! Дождалась! Тьфу!
– Все сделал, как в газете, – сказала первая женщина. – А я думала, немец культурный! Теперь одно остается – бить немца!
Я уже не в первый раз слышал эту фразу: «Немец все сделал, как в газете». Она очень характерна для тех людей, которые думали, что немец не может быть таким чудовищным зверем, как об этом пишут в газетах.
– Бить его! – повторила женщина. – Так бить, чтоб ни один живым не ушел!
Теперь эти люди многое поняли. Женщина из Волоколамска, у которой при советской власти было довольно большое имущество, думала, что она недостаточно счастлива при советской власти.
А на самом деле она была очень счастлива! Ей очень хорошо жилось в чистеньком волоколамском домике, в тепле и довольстве. Но она не ощущала своего счастья.
Она ощущает его сейчас, когда у нее в доме ничего не осталось. Она счастлива лишь тем, что ушли немцы, что не будут больше висеть под окнами восемь повешенных, что никогда больше не услышит она грохота немецких сапог.
Нет счастья без родины, свободной, сильной родины.
Нет и не может быть.
Люди, которые не понимали этого, поняли это сейчас. Жизнь научила их.
6 января 1942 г.
«Птенчики» майора Зайцева
Я проехал необозримое снежное поле, где особые машины беспрерывно разравнивали и утрамбовывали снег, миновал несколько десятков аэропланов, расставленных на довольно большом расстоянии друг от друга, и подъехал к деревушке. Тут дальше автомобиль проехать не мог. Пришлось идти по чьим-то следам, глубоко вдавившимся в снег.
Майор Зайцев стоял во дворе домика, на пустом ящике, и смотрел через бинокль в молочное небо.
Он рассеянно со мной поздоровался и тотчас же снова взялся за бинокль.
– Летит, – сказал он наконец, облегченно вздохнув, но не опуская бинокля.
– Я не вижу, – заметил я.
– Он в облаках. Сейчас увидите.
Действительно, через две минуты совсем низко над землей вышел из облачной мути пикирующий бомбардировщик.
Майор продолжал стоять на своем ящике. И, только когда бомбардировщик благополучно сел, майор опустил бинокль и, как бы впервые меня увидев, улыбнулся.
– Пойдемте, – сказал он.
Мы пошли на аэродром. Самолет подруливал к своему месту. Вскоре он остановился. Было видно, как от него отделились три человека в меховых комбинезонах и быстрым шагом пошли нам навстречу. Майор Зайцев тоже прибавил шагу. Теперь он нетерпеливо ждал донесения. Трое в комбинезонах почти бежали. Полевые сумки подпрыгивали на их бедрах. Это были очень молодые люди, на вид почти мальчики.
Обе наши группы с ходу остановились. Все взяли под козырек.
– Товарищ майор, ваше задание выполнено! – крикнул молодой человек, стоявший впереди. – Бомбили на аэродроме К. скопления неприятельских самолетов.
Вся тройка молодых людей – летчик, штурман и стрелок-радист – была очень взволнована. Оказывается, за немецким аэродромом охотились уже целую неделю, ждали, когда немцы перегонят туда самолеты. И вот наконец дождались. Донесение было очень серьезное, и майор не скрывал своей радости.
После первой же фразы донесения строго официальная часть кончилась, и трое юношей, перебивая друг друга, стремясь вспомнить все подробности полета и ничего не пропустить, принялись рассказывать, как было дело. Видимость была плохая, и почти весь полет прошел в облаках. Шли по приборам. Когда вынырнули из облаков, немецкий аэродром оказался справа. На нем было не меньше двадцати самолетов.
– Там было еще два четырехмоторных, – вставил штурман. – Они вот так стояли.
И он стал чертить на снегу ногами в меховых унтах расположение четырехмоторных самолетов.
Никто так хорошо не знает положения на фронте за последний час, как летчики. Здесь уже с утра имели сведения, что немцы начали беспорядочный отход. Дороги забиты обозами. Вот уже три часа, как наши бомбят эти обозы.
Меня поразило, что летчики и их командир ни разу не взглянули на карту.
– Мы тут все наизусть знаем, – сказал майор, не оборачиваясь.
Молодые люди продолжали свой рассказ.
Как только они увидели справа от себя немецкий аэродром, начали бить зенитки. Забегали люди.
– Ну? – сказал майор нетерпеливо.
– Я, значит, принял решение, – сказал летчик, – стал заходить на цель.
– Это правильно, – заметил майор.
Он знал, что экипаж шел без сопровождения истребителей, и решение, которое принял командир самолета, – идти в бой против многих истребителей и зенитных снарядов, вместо того чтобы уйти в облака и дать газу, – было мужественное решение.
– Зашли мы, значит, точно и отбомбились.
– Результаты? – спросил майор.
– Не знаю, – сказал летчик, – все в дыму было. Как-никак сбросили четыре сотни, не считая осколочных.
– Я им еще дал пить из пулемета, – вставил стрелок-радист.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/evgeniy-petrov/frontovoy-dnevnik/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
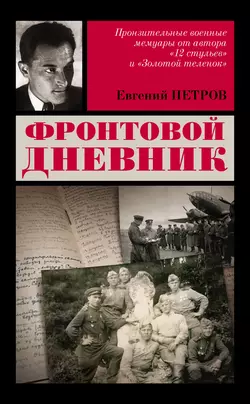
Евгений Петров
Тип: электронная книга
Жанр: Книги о войне
Язык: на русском языке
Издательство: АСТ
Дата публикации: 01.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Фронтовой дневник» – сборник записей, созданных за период с 1941 по июль 1942. Эта уникальная книга издается впервые с послевоенного времени. Каждая запись в «дневнике» – это не просто хронология событий, это текст написанный под свист пуль и оглушающие звуки разрыва снарядов. Бесценные записи автобиографичны и пропитаны личными впечатлениями автора, они максимально реалистично иллюстрируют события той Великой войны.