Бросок на Прагу (сборник)
Бросок на Прагу (сборник)
Валерий Дмитриевич Поволяев
Военные приключения
В новом романе признанного мастера отечественной остросюжетной литературы «Бросок на Прагу» читатель вновь встретится с героями книги «Список войны». На сей раз командиру группы разведки капитану Горшкову, его ординарцу Мустафе и их боевым товарищам предстоит принять участие в последней крупной военной операции Великой Отечественной войны… В повести «Солнечные часы» рассказывается о героической обороне Ленинграда.
Валерий Поволяев
Бросок на Прагу (сборник)
© Поволяев В.Д., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства www.veche.ru
Бросок на Прагу
Эльба, несмотря на изящное женское имя, оказалась рекой норовистой, широкой, с пенными волнами, внезапно возникающими на беспокойной свинцовой поверхности воды и также внезапно пропадавшими. Тревожная это была река.
По воде плыли разбитые снарядные ящики, какие-то тряпки, мебель, обрубки деревьев, иногда возникал раздувшийся серый труп, поднявшийся со дна, с раскинутыми крестом руками и широко открытым ртом, потом исчезал.
Капитан Горшков сидел за чугунной тумбой трансформатора и рассматривал в бинокль противоположную сторону длинного прочного моста, переброшенного через реку. Пролеты моста были закопчены, кое-где светились дыры, но сам мост, странное дело, был цел. По нему стреляли все кому не лень, долбили орудиями и минометами, с воздуха накрывали таким ковром, что дым поднимался до неба, кругом все делалось черно, но мосту везло – он оставался цел. Будто заговорен был.
Было тихо. Где-то в стороне некоторое время потрескивали автоматные очереди, словно рвалась старая истлевшая ткань, но потом и они умолкли. Слышно было лишь, как шуршит в траве, на асфальте, в ветках обугленных деревьев мелкий частый дождь – ну словно бы мыши бегают, никак не угомонятся. Совсем рядом носятся грызуны, пытаются раздобыть себе еды, но их не видно…
Нет их. Горшков сунул бинокль под плащ-палатку, расстегнул карман гимнастерки и изнанкой клапана протер забусенные дождем линзы. Тихо было на противоположном берегу Эльбы.
Сквозь скошенную наволочь дождя едва различимо просматривались силуэты домов, наполовину вырубленный снарядами парк, полуразбитая, со стесанным верхом кирха. Что еще? Больше ничего не было видно.
Сидевший рядом с капитаном сержант Коняхин, уютно скрывшийся под плащ-палаткой, будто под колоколом, целиком наружу выступал только нос, еще были видны глаза и губы, также наблюдал за противоположным берегом. Наблюдал молча. Как в разведке. Да покуривал немецкую офицерскую сигаретку, изъятую из полевой сумки убитого гауптмана.
Бинокля у старшего сержанта не было. Да и не нужен он был ему – глаза у Коняхина были острее кошачьих, он видел даже то, чего капитан не видел в бинокль.
В частности, Коняхин засек, как на том берегу к реке спустился пацаненок в куцем мундирчике, с брезентовым ведром, поспешно зачерпнул воды и, поддерживая ведро под дно рукой, тут же ввинтился в какую-то щель: был человек, и не стало его. Явно пацаненок этот из гитлерюгенда, юный фаустпатронщик, которому жизни собственной не жалко, он готов бросить ее, как смятую тряпку, под ноги любимому фюреру – и фюрер возьмет ее, даже не поморщится, в знак благодарности.
«Надо засечь это место, – невольно подумал Коняхин, – если прикажут пойти на ту строну, то проверим этот клоповник. Вдруг он доверху набит фаустпатронщиками? Пара гранат – и клопов не будет».
Тихо-то как! Непривычно тихо, даже озноб по коже ползет, а уши рвет электрический звон. Коняхин с сожалением глянул на догоревшую офицерскую сигарету, которую он тщательно оберегал от дождевой пыли – слишком уж быстро превращается в пепел, небось бумага каким-нибудь порохом пропитана, – сунул ее под подошву сапога.
Дождь продолжал барабанить по капюшону плащ-палатки, плотно натянутому на голову, по спине, вгонял в сон. Коняхин прикрыл зевок кулаком и потряс головой.
Капитан тем временем снова приник к биноклю – продолжал изучать противоположную часть моста и задымленный дождем берег.
Минут через десять ему показалось, что под ногами дрогнула земля, капитан оторвал от глаз бинокль и, настороженно вытянув голову, прислушался к пространству. Было по-прежнему тихо, хотя напряжение, висевшее в воздухе, несмотря на мелкий весенний дождь и тишину, не сулившую ничего худого, не исчезало.
– Иван, – позвал капитан Коняхина, – слышишь чего-нибудь?
– Ничего, кроме звука дождя.
– Земля под ногами не дрожала? Случайно не засек?
– Не засек. – Коняхин мотнул головой.
– Значит, приблазнилось, – успокоенно произнес капитан, стер с лица дождевую морось. – Так в конце войны, ко дню победы, глядишь, перед глазами и чертики будут вертеться.
– Пройдет, товарищ капитан, – отрешенно проговорил Коняхин, зевнул, – с кем не бывает… Со всеми такое бывает. И со мною было.
– Ладно, тезка, – Горшков вновь приник к биноклю, – поехали дальше…
Поехали так поехали. Да-а, Эльба оказалась, вопреки ожиданиям, рекой могучей – такой же, как и Волга где-нибудь в районе Саратова… Нет, Волга все-таки пошире, пополнее будет даже в самую худую жаркую пору, а Эльба кажется такой большой из-за весеннего тепла, наступившего в Германии, тающий снег сволок в воду все, что было лишнего на земле, набил реку всяким мусором, и поволоклось все это куда-то к морю, или куда там впадает Эльба?.. Надо посмотреть по карте, куда она впадает, в море или в какую-нибудь другую реку.
На противоположном берегу вновь показался пацаненок в форме, с прежним брезентовым ведром, согнувшись в три погибели, подскочил к воде, взмахнул шутейским своим ведерком и через несколько мгновений исчез. Горшков на этот раз и засек пацаненка, и хорошо его разглядел. Надо будет обязательно проверить, что за гнездо себе свили юные защитники фюрера. И для чего им понадобилась поганая вода? Ведь ею только сапоги мыть, да и то с опаскою, на другое она не годится.
И капитан, и сержант думали одинаково. Порывшись в кармане, Коняхин достал сложенную в несколько долей бумажку, карандаш, начертил на листке береговую линию, обозначил мост и справа от него поставил точку. Внизу, под точкой, написал: «Примерно 120 метров от моста».
Недалеко, почти у самой кромки берега, на котором сидели капитан и Коняхин, проплыл труп в офицерской форме, с серебряными погончиками, – труп двигался медленно, словно бы подыскивал себе гавань, в которую можно было бы завернуть и отдышаться малость, но таких гаваней не было, и доблестный офицер вермахта поплыл дальше.
Под ногами вновь дрогнула земля, на этот раз ощутимо, это почувствовали и капитан и Коняхин, переглянулись – сквозь надоевший шорох дождя протиснулся гул: по той стороне Эльбы шли танки. Это были американские танки.
– Й-йех! – огорченно воскликнул капитан, хлобыстнул себя ладонью по плащ-палатке – только серые холодные брызги полетели в разные стороны, покрутил нервно головой, словно бы не верил тому, что слышал. – Опередили они нас!
– Это что, плохо, товарищ капитан? – удивленно высунул лицо из плащ-палатки Коняхин. – А чего, собственно, тут плохого? – В голосе сержанта прозвучало недоумение. – Раз подошли американцы, значит, война закончится на месяц раньше.
– Чего тут хорошего, а чего плохого – не нашего с тобою ума, тезка, дело, – назидательно просипел капитан, голос от огорчения у него неожиданно сделался дырявым, – этим занимается высшее начальство. А у нас с тобою приказ локальный, мы с тобою по сравнению с маршалами Жуковым и Коневым – люди маленькие. Пешки.
Сквозь мутную сетку дождя было видно, как на противоположном берегу на набережную вынеслись один за другим три танка, взревели моторами, разворачиваясь в боевую цепь… Силуэты танков были незнакомые, ни у нас, ни у немцев таких машин не было. Значит, это точно прикатили американцы.
Через несколько мгновений из щели, в которой скрылся мальчишка-солдат с брезентовым ведром, полыхнуло два длинных ярких снопа – огонь походил на слепящий сверк электросварки.
Фаустпатроны, с которыми Горшков столкнулся только в Германии. Выпущены пацанами с плеча. Один фаустпатрон пронесся мимо танков и всадился в черный мокрый ствол спаленного дерева. Дерево было старое, ствол имело не меньше трансформаторной будки, за которой скрывались капитан и Коняхин, дождем пропиталось насквозь и по всем законам физики, химии и прочих школьных наук не должно было загореться, но оно загорелось, заполыхало безудержно сильно, словно было облито бензином.
Коняхин удивленно покачал головой: что за фокус?
Второй фаустпатрон угодил в танк, находившийся в середине боевой цепи, пробил дырку в башне, и танк заполыхал также сильно и ярко, как и дерево. Коняхин сжал кулаки:
– Вот суки! Союзников жгут.
Из танка вывалились два живых горящих комка, покатились по мокрой набережной, сшибая с себя огонь, обволоклись рыжеватым химическим дымом – огонь танкистам удалось сбить, теперь они походили на пушистых рыжих зверей, катающихся по земле, – потом танкисты поднялись и, хромая, падая, устремились за угол ближайшего дома.
Два других танка поспешно попятились назад.
– Винтовку бы сюда снайперскую, – досадливо просипел капитан, – от этих юнцов одни бы курточки с галошами остались.
– Что за город на той стороне, товарищ капитан? – поинтересовался Коняхин. – Как называется?
– Бад-Шандау. Так обозначено на карте.
– А на этой стороне что за город находится?
– Тоже Бад-Шандау. Эльба делит его пополам.
Американские танки уже завернули за угол дома, когда из щели на противоположном берегу выскочил еще один стрелок, вскинул на плечо железную трубу с насаженной на конец бутылкой и нажал на спусковой крючок фаустпатрона. Бутылка с воем вырвалась из железной трубы, отплюнулась длинным хвостом огня и понеслась в сторону, где только что находились танки. Опоздал фаустпатронщик, на малую малость опоздал.
Снаряд шлепнулся на мокрую, курящуюся туманом землю, подскочил высоко, будто резиновая безделушка, вновь клюнул в землю и взорвался. Вверх взвился столб цветного сиреневого дыма, следом из столба вывалилась огненная простынь.
– Эта хренотень танковую броню прожигает насквозь. – Коняхин выругался, высунул из-под плащ-палатки ствол автомата, цикнул со вздохом: – Жаль, эта штука до сумасшедших детсадовцев дострелить не сможет.
Да спиной послышался натуженный рев – шли грузовые машины. Недавно в их полк с Урала поступили новенькие ЗИСы, очень прочные, будто из одного куска железа да из четырех кусков монолитной резины сработанные: один отбившийся от колонны зис неожиданно наехал на мину, так ему хоть бы что, только деревянный борт выломало да оторвало колесо, и все.
Капитан приподнял голову, услышал натуженные подвывы зисовских моторов у себя за спиной и проговорил облегченно:
– Наконец-то!
Минут через пять сквозь погустевшую наволочь дождя протиснулся один зис, развернулся на площадке около моста. На буксирном крюке у него, прихваченная мертвым сцепом, «висела» пушка с ободранным щитом, в зазубринах – не раз попадала под немецкий огонь, выстрадала войну так же, как и любой солдат их полка.
Из кузова зиса выпрыгнули трое, одного из них капитан знал – это был землячок из Кемеровской области, младший лейтенант Фильченко, ногастый, долговязый, носастый, с круглыми, немигающими, как у совы, глазами.
Увидев Горшкова, Фильченко улыбнулся во весь рот, от уха до уха, так, что стали видны редкие крупные зубы, – проговорил мощным певческим басом:
– Земеля!
В ответ Горшков вскинул одну руку, спросил:
– Где там мой Мустафа застрял, не видел?
– Видел. На последней машине едет, манатки везет.
– Ладно, раз это так, – успокоенно произнес капитан.
– Как тут обстановочка?
– На той стороне, справа от моста, фаустпатронщики засели. Один американский танк подбили. Видишь, чадит?
Фильченко прищурился, острым совиным взором он разглядел все мигом, сощурился болезненно – жалел подбитых танкистов.
– А где этих недоумков с фаустпатронами засекли?
– Справа от моста темную щель видишь? Оттуда они и выскакивают… Как из преисподней. Коняхин, укажи лейтенанту цель поточнее.
Коняхин зашевелился, достал из кармана бумажку с крохотным чертежом, на котором был намечен мост с береговой линией, развернул ее и потыкал пальцем в дождевой туман.
– Товарищ капитан точно определил – эти гниды сидят вон в той темной щели. Это, судя по всему, русло ручья, и там наверняка есть укрепление. Вылезают именно оттуда, – саданут из своей железной дуры бутылкой и снова ныряют назад.
Младший лейтенант потеребил нос длинными пальцами и скомандовал своим артиллеристам:
– Братцы, разворачивай орудие! – На водителя зиса шикнул: – Отъезжай, не занимай место.
На площадку, примыкавшую к мосту, исковыренную снарядами, засыпанную землей и кусками асфальта, выехала вторая машина.
– Вот и второй ствол прибыл, – довольно проговорил капитан, потер руки: – Хор-рошее дело!
Младший лейтенант Фильченко действовал проворно: его пушкари за минуту установили орудие, раздвинули стальные сошники пошире, чтобы при выстреле пушка не поехала назад и не изувечила людей, заряжающий поспешно загнал в ствол снаряд. Доложился командиру:
– К стрельбе готов!
Фильченко сам встал к прицелу, закрутил рукоять наводки, быстро нащупал стволом орудия цель и озадаченно приподнялся над щитом – темная ручейная щель была пуста, хоть бы кто-нибудь показался в ней…
– Чего ждешь, Фильченко? – поинтересовался капитан.
– Как чего? Развития событий, – не замедлил отозваться Фильченко. Будто в театре.
– Это каких же таких событий? – В голосе капитана послышались ироничные нотки.
– Сейчас кто-нибудь из американцев выскочит… Обязательно.
– Ну и что?
– Это нам на руку.
Младший лейтенант как в воду глядел: на противоположной стороне послышался резкий рев мотора, и на набережную на полном ходу вынесся американский «шерман». Разворачиваться он не стал, развернул только башню. На рев мотора, как мухи на мед, выскочили из своего убежища два фаустпатронщика с диковинными длинными трубами, увенчанными толстыми бутылками…
Танк, спеша, выстрелил первым, и тут же механик-водитель дал задний ход. Снаряд, дымя, пронесся мимо фаустпатронщиков и взорвался в мокром обгорелом парке.
Фаустпатронщики выстрелили ответно, хотя могли бы и не стрелять – ясно было: не попадут, ушел танк. Один фаустпатрон горящим болидом унесся в реку, булькнул, почти не потревожив воду – пошел на корм рыбам, другой всадился в стену полуразрушенного кирпичного дома и растекся по ней жидкой огненной простынею.
В это время младший лейтенант взмахнул рукой, будто шашкой, наводчик, выжидательно смотревший на него, рванул за витой кожаный шнур пуска, пушка рявкнула устрашающе, отплюнулась огнем и длинный рычащий сноп этот в то же мгновение накрыл активистов гитлерюгенда.
В воздух полетели какие-то тряпки, изогнутая кольцом железка – труба от фаустпатрона, комья земли… Когда огонь опал, фаустпатронщиков уже не было – растворились в снопе взрыва.
– Вот и все проблемы, – сказал Фильченко и довольно хлопнул ладонью о ладонь, – у фаустпатронщиков руки больше чесаться не будут, – американцы могут подарить мне пару банок тушенки.
Бойцы тем временем отцепили от зиса второе орудие.
– Ставьте на прямую наводку, – скомандовал капитан, – цель – любая машина, которая появится на мосту.
– А если это будут американцы? – недоуменным тоном спросил Фильченко.
– Американцев я и имею в виду в первую очередь.
– Но это же союзники… – Брови на лице Фильченко, словно две мохнатые птички, взлетели вверх.
– Выполняйте приказ, лейтенант, – жестким голосом, на «вы», произнес Горшков, потом добавил, уже примиряюще: – Сам понимаешь, не мое это решение… Не знаю, может быть, это решено в самом Кремле.
– Есть выполнять приказ, – разом угаснув, проговорил младший лейтенант.
Два орудия установили на площадке, испятнанной следами зисов, третье чуть в стороне, ствол его также навели на мост. Горшков оттянул рукав гимнастерки, глянул на часы и поморщился, будто на зубы ему попала пара кислых жестких ягод.
– Где минеры, Фильченко, а? – раздраженно спросил он у младшего лейтенанта. – Куда они подевались?
– Я за минеров не отвечаю, товарищ капитан.
– Знаю. – Горшков вновь поморщился: командиров много, а отвечать некому.
У него на руках имелся, – как говорят в таких случаях, – приказ командира полка: на мост союзников не пускать, как бы те ни рвались… Вывести орудия на прямую наводку, а сам мост заминировать. Ежели что – взрывать к чертовой матери.
В комнате у командира полка тогда находился генерал – пожилой, одышливый, по фамилии Егоров, – командир дивизии.
– Да-да, сынок. – Кивком крупной седой головы комдив подтвердил слова полковника. – Это так! – Развел в стороны тяжелые крестьянские руки. – Всему причина – высшие силы, – произнес он непонятную фразу и неохотно улыбнулся.
Он мог бы ничего не говорить, и без этого все было понятно, но генерал посчитал нужным поставить в разговоре именно эту точку: под высшими силами он подразумевал политику и тех, кто готовит ее у себя на кухне вместе с яичницей.
Капитан вновь с досадою глянул на наручные часы:
– Ах, минеры, минеры!
В дело это словно бы кто-то вмешался – через пять минут к Горшкову подбежал маленький человечек в каске, помеченной вмятиной – по скользящей прошел осколок, след был приметный, если во время удара каска находилась на голове маленького человечка, то ему здорово повезло.
– Командир взвода саперов лейтенант Кнорре! – подбежавший вскинул руку к каске.
«Ого, какая громкая фамилия! – невольно отметил Горшков. – По-моему, есть писатель с такой фамилией. До войны я читал в журнале “Огонек” его произведения».
– Задерживаться изволите, лейтенант, – недовольно проговорил он.
– Простите, по дороге нас обстреляли, – виновато пробормотал Кнорре, – пришлось повоевать.
– Задание свое знаете?
– Так точно! – лихо отрапортовал маленький лейтенант.
– Тогда – вперед!
Горшков и не заметил, как маленький лейтенант оброс бойцами, такими же низкорослыми, шустрыми, чернявыми, как и он сам. Саперы проворно полезли на мост – минировать настил, быки, массивные металлические балясины.
– Поторапливайтесь, поторапливайтесь, ребята, – подогнал их капитан и поискал глазами: не появился ли ординарец Мустафа?
Застрял где-то Мустафа, хотя должен был, как обещал Фильченко, прибыть с бойцами последнего зиса – разведку всегда оставляли в прикрытии. Впрочем, ее всегда бросали и в первые ряды, в авангард… Да и Мустафа был хорошо известен всему их полку – 685-му артиллерийскому.
На той стороне на набережную вновь выехали американские танки – союзники уже поняли, что сумасшедших юнцов-фаустпатронщиков придавила русская пушка, больше детишки не будут баловать, – на скорости проскочили вперед, остановились у догорающей машины и задрали стволы пушек – словно бы салютовали русским артиллеристам.
Потом один танк подцепил подбитого собрата на крюк и уволок за дома, второй танк остался. Опустил ствол пушки, повернул его в сторону щели, из которой выбегали проворные фаустпатронщики, замер, словно бы слушал пространство.
Дождь тем временем немного угас, небо приподнялось и посветлело.
– Вот это другое дело, – пробормотал Фильченко, потом потряс головой, словно хотел что-то вытряхнуть из нее. – Нет, никак не могу понять, товарищ капитан…
– Подучиться надо немного – получишься и будешь все понимать, – Горшков насмешливо фыркнул, – война закончится – в институт пойдешь… Либо того выше – в академию.
Фильченко поскреб нос длинным пальцем – такие изящные гибкие пальцы не артиллеристу нужны, а пианисту либо скрипачу, отрицательно помотал головой. Вздохнул:
– В академию – вряд ли, военный из меня не получится, а вот насчет института… тут все верно. Инженер по строительству железных дорог либо станций метро может получиться вполне.
– Почему именно метро?
– А я полюбил метро. Один раз был в Москве, на метро покатался – удивительная все-таки штука. И быстро, и удобно, и красота под землей такая, что ахнуть можно.
Было что-то в Фильченко от ребенка, он умел восхищаться простыми вещами и добр был, как неиспорченный ребенок – стремился оказать помощь человеку, если тот попадал в беду или в горе, протягивал руку малым и слабым, умел любоваться солнцем, цветами и бабочками – это был не размятый войной, не униженный болью и ранениями человек… Такие в Сибири, особенно в родной Курганской области, которую Горшков видел иногда во сне и чуть не плакал от того, что видел – дом свой, мать, постаревшую и поседевшую, соседей, и отчего-то начинал задыхаться, – попадаются часто.
Жаль только, что Фильченко не хочет пойти в военную академию, ему, кавалеру двух орденов Отечественной войны, академия будет в самый раз, примут без всяких отметок, особенно в артиллерийскую… Пушкарь Фильченко от Бога, вон как лихо сдул с земли двух глупых фаустпатронщиков, – будто снайпер, позавидовать можно.
В эту минуту появился Мустафа – круглоликий, загорелый, с живыми маленькими темными глазами, плотно сбитый. Он нисколько не постарел за последние два с половиной года, скорее даже помолодел – когда Горшков забирал его к себе в разведку, Мустафа был другим, он хоть и не растерял в лагере напористости, но на лице его лежала печать усталости, обреченности, в углах рта застыли небольшие горькие скобочки…
Сейчас этих скобочек не было.
Автомат, висевший у Мустафы на груди, был мокрым от дождя, блестел, словно покрытый лаком, – очень уж картинно смотрелся воин. Хоть в кино снимай.
– Товарищ капитан, я тут горяченького привез на завтрак, похлебать бы надо, – просяще произнес он.
– Потом, Мустафа… Когда закончим минирование моста, тогда и позавтракаем. – Капитан отмахнулся от ординарца, но тот не уходил. – Чего еще у тебя? – недовольно спросил Горшков.
– Квартир свободных в этом городишке нету, я облазил десятка четыре домов – все впустую. Очень много беженцев. Просто кишмя кишат. В некоторых квартирах набито по три семьи.
– Это мы переживем, Мустафа, – и не такое переживали.
– Так точно, и не такое переживали, – подтвердил Мустафа. – Можно было по старой привычке разведчиков облюбовать какой-нибудь сарай, но… – ординарец развел руки в стороны и стал походить на сварливую наседку, – и сараи забиты. Просто под завязку – ни одного свободного сантиметра.
– У немцев сараев нет, Мустафа, у них – хозяйственные постройки.
– Что в лоб, что по лбу, товарищ капитан.
– Поставим палатки. Лучше палатки на фронте жилья нет. Под себя одну полу шинели, сверху другую, под голову пилотку и – чуткий тревожный сон до утра обеспечен.
Люк у «шермана», застывшего на том берегу, словно на почетном дежурстве, приподнялся, некоторое время находился в стоячем положении, будто экипажу потребовался свежий воздух, потом показалась голова в рыжем танкистском шлеме – шлем был явно сшит из чистой кожи, – и нырнула обратно.
Правильно поступил американец – в домах на той стороне могли сидеть снайперы, которых еще не выскребли, а по ним обязательно надо пройтись частой гребенкой, – Горшков одобрительно хмыкнул, заметив маневр танкиста.
– Может, все-таки позавтракаете, товарищ капитан? – взялся за старое Мустафа.
– Не ной, приятель, – не оборачиваясь, бросил капитан, – мы же с тобой договорились: как только саперы уйдут с моста, тут же достанем ложки…
– У меня и фляжечка есть, – проворковал Мустафа голубиным тоном, но Горшков уже не слышал его – из американского танка выбрался человек – тот самый, в рыжем шлеме, который уже показывался, спрыгнул на землю.
Помахал рукой противоположному берегу. Горшков ответил – чего же не ответить, не сделать чужеземцу приятное, – хотя помахал вяло, с опаской. И неведомо было ни незнакомому американскому танкисту, ни начальнику разведки 585-го артиллерийского полка капитану Горшкову Ивану Ивановичу, что это воздушное помахивание – факт исторический, хотя и не отмечен юпитерами, их слепящим светом, все остальные встречи русских с американцами произойдут позже и будут отмечены не только торжественной иллюминацией, но и репортажами корреспондентов. В общем, каждому празднику – свое.
Лишь на следующий день недалеко от города Торгау была отмечена встреча солдат 69-й пехотной дивизии Первой американской армии и бойцов 58-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, после чего войскам и одной и другой стороны был дан приказ остановиться.
Были также утверждены опознавательные знаки, чтобы случайно не ударить по своим. В частности, серия зеленых ракет, запущенная ввысь, обозначала, что это – свои. Русские танки должны были пометить башни белыми полосами – вокруг всей башни, ширина полосы – двадцать пять сантиметров. Макушки башен, люки, требовалось украсить белыми крестами, ширина полос креста – также двадцать пять сантиметров.
И вообще, пресловутые двадцать пять сантиметров оказались стандартом советско-американской встречи. Отмеченная историей встреча произошла, к слову, двадцать пятого апреля. А пока… пока саперы лейтенанта Кнорре продолжали минировать мост. Американские танки не должны были переправиться на этот берег. Три полковых «семидесятишестимиллиметровки» – ровно половина батареи, – грозно таращились потертыми, с обгорелыми надульниками стволами в пространство. У них была та же цель – все, что шевелится и ползает на том берегу, должно быть поражено меткими выстрелами, если вздумает переправиться на этот берег.
Американец, вылезший из башни «шермана», беспокоил капитана, очень уж беспечно ведет себя парень – вдруг какой-нибудь гад подсечет его с чердака пулей?
– Уйди, дурак! – выкрикнул капитан, резко располосовал рукою воздух, но танкист не услышал и не увидел его. – Тьфу!
Жаль. А ведь им предстоит еще встретиться, обняться, выпить по стакану русской водки – желательно холодной, хотя и теплая тоже пойдет, – и заесть из одной банки американской тушенкой.
– Уйди!
Нет, не уходит. Снайперы, снайперы… Слишком уж много этих хорошо стреляющих сволочей развелось в последнее время у гитлеровцев. Говорят, что сам фюрер – лично, вот ведь как, не побрезговал, – занимался этим.
Кто-то из приближенных генералов, – кажется, это был Кейтель, – сказал ему, что один снайпер может легко остановить взвод автоматчиков, а четверо снайперов – роту. Фюрера очень взбодрила идея войны малыми силами, он даже перестал походить на слабого ощипанного куренка, на которого очень уж здорово смахивал последние полгода, у Адольфа даже голос сделался куриным, – он загорелся, горделиво вскинул голову и взял под свое крыло скоропортящийся продукт: курсы по досрочному выпуску снайперов.
Очень уж беспечно, бестолково ведет себя танкист – это же война, тут иногда стреляют… Тьфу! А человек в рыжем шлеме и прочном сером комбинезоне начал исполнять на том берегу радостный шаманский танец, совершал прыжки, размахивал руками, что-то кричал, пел. Что именно кричал и пел – не было слышно, все звуки давил дождь.
– Вот обезьяна обрадованная, – Горшков выругался, – совсем себя не бережет.
Он как в воду глядел – с крыши одного из домов, вставших в рядок на противоположном берегу, щелкнул задавленный расстоянием и поредевшим дождем выстрел, американец перестал размахивать руками, недоуменно оглянулся и, сложившись мягким кулем, распластался на земле около гусениц «шермана» У Горшкова потемнело лицо.
– Мустафа! – позвал он.
Мустафа никуда не уходил, сидел за спиной капитана на какой-то деревяшке и «грел» завтрак.
– Я здесь.
– Видел, Мустафа?
– Видел. Я даже засек, с какого чердака стреляли.
– Возьми с собой двоих, Мустафа, и разберись. Пока саперы мост не закрыли.
Ординарец кивнул понимающе и в то же мгновение исчез. Будто и не было его – растворился в пространстве. Через несколько минут он с двумя разведчиками прогрохотал сапогами по мосту. Горшков продолжал наблюдать за противоположным берегом Эльбы.
Вернулся Мустафа через полтора часа. Лицо в поту, губы – запаленные, белые.
– Их там целый выводок оказался, – доложил он, – змеюшник.
– Ну и как?
– Змеюшник ликвидирован.
Капитан довольно кивнул: молодец, Мустафа, можешь взять с полки пирожок, а еще лучше – получишь стопку вне очереди.
Саперы к этой поре уже закончили минирование. Маленький лейтенант в намокшей, колом сидевшей на нем плащ-палатке подбежал к Горшкову, притиснул руку к своей меченой каске.
– Что-то вы, лейтенант, очень быстро справились – мост-то огромный, – недоверчиво пробормотал капитан. – Подозрительно это.
– Под пулями мы работаем еще быстрее. – Сапер неожиданно улыбнулся. Улыбка у него была чистая, как у девчонки.
– Ладно, – прощающе махнул рукой Горшков, – вопрос с повестки дня снимается.
«Шерман», неподвижно стоявший на том берегу, неожиданно дрогнул и тихо пополз назад. Американец, которого задел снайпер – не убил, а только задел и человек свалился без сознания у гусеницы танка (провалялся долго без помощи, очень долго – за это время мог пять раз истечь кровью), – приподнялся и на четвереньках также двинулся назад, танк прикрывал его.
Хорошо, что американцы увидели, как лейтенант со своим взводом минировал мост, – будут осторожны и лишний раз не сунутся… Это очень хорошо. Горшков отер ладонью мокрое лицо – будто умылся, повернулся к Мустафе:
– Давай твой завтрак.
Дождь сделался еще тише, помельчал совсем, капли его превратились в туманную пыль, земля набухла водой, сквозь черноту сгоревших мест, сквозь битый асфальт и кирпич, – куски валялись всюду, – робко пробивалась бледная хилая травка… Жизнь брала свое.
– Неужели мы взорвем этот мост, товарищ капитан? – Неверящие глаза Мустафы превратились в узкие щелки. – А?
– Не знаю, – неохотно ответил Горшков, – это не нам с тобою решать. Решают… – он поднял голову, глянул вверх, в подернутое темной сырой наволочью небо, – там решают…
– На завтрак у нас картошечка с мясной тушенкой, – объявил Мустафа капитану, – есть еще кое-что. – Он выдернул из-под плащ-палатки фляжку, поболтал ею, с довольным видом послушал бульканье. – Еще имеется кофий. Горячий. В термосе. Говорят, французский. – В голос Мустафы невольно натекло уважение: дальний предок его много лет назад с русскими войсками побывал в Париже, поэтому Мустафа ко всему французскому относился с особой симпатией. – Это еще не все, товарищ капитан, – многозначительно проговорил ординарец, – имеется также две баночки рыбных консервов и круг копченой колбасы.
Ординарец по локоть запустил руку в мешок, извлек оттуда нарядно поблескивавшую золотой краской плоскую банку, похожую на шкатулку для дамских украшений. Это были знаменитые марокканские сардины – рыбки, которые сами таяли во рту, не надо было даже разжевывать. Горшкову уже довелось отведать их. В немецкой армии сардинами кормили только генералов, и такие баночки находили только в запасах генеральских кухонь, когда захватывали какой-нибудь крупный штаб.
– Вот, – хвастливо произнес ординарец, повертел банку в руке. Спросил, приподняв одну жидкую бровь: – Открыть?
– Не надо.
– А ведь в самый раз под стопку, товарищ капитан.
– Потом, потом, Мустафа. Это ведь товар такой – не прокиснет. Вдруг американцы заявятся – чем их будем угощать?
– Но пока мы их угощаем стволами «семидесятишестимиллиметровок»…
– Это не наше дело, Мустафа. В стволах нет снарядов. Наверху, думаю, договорятся, и нам так или иначе придется встречать союзников стопками холодной водки.
Картошка с тушенкой оказалась хороша, повар не пожалел, положил в котел и масла, и лаврового листа, и лука, блюдо получилось и душистым и вкусным – век бы ел…
Капитан откинул капюшон плащ-палатки, противная водяная пыль перестала сочиться из небесных прорех, вверху что-то сдвинулось, сырые, заряженные мокретью облака сместились в сторону – похоже, решили сбиться в одну кучу и так, кучей, проследовать дальше, в недалеких деревьях раздалось пение одинокой птицы.
У Мустафы даже лицо вытянулось от удивления: в войну они почти не слышали птиц: грохот, выстрелы, рвущиеся снаряды, дым пожаров, бои отгоняли их далеко, дальше, чем за пресловутый Можай, – сжигали сотнями, тысячами, сжигали жестоко – уничтожали более бездумно, чем людей, казалось, что все, птичье поголовье истреблено под корень, ан нет – отдельные экземпляры выжили…
Приподнявшись на коленях, Мустафа проговорил смятым, едва различимым шепотом:
– Вы слышите, товарищ капитан?
Горшков молча кивнул – он тоже услышал пение птицы, лицо у него сделалось встревоженным и немного растерянным…
Неужели война скоро кончится? Скажите, однополчане, это правда? Горшков неверяще покрутил головой: не может этого быть! Мустафа укоризненно глянул на командира: может, еще как может.
Палатки постарались поставить под деревьями – почему-то места у опаленных ясеневых и кленовых стволов казались более надежными, чем, скажем, около стенки какого-нибудь дома. Обманчивое, конечно, суждение, на войне неуязвимых мест нет, если только на небесах (в конце концов, все там будем), поэтому Горшков расположил своих разведчиков поближе к мосту, под обгорелыми стволами… Спрашивается, зачем? А так, на всякий случай. Переправа будет сохраннее. Да и чутье так подсказывало.
Вечером реку укрыл плотным пологом туман, противоположный берег совсем растаял в нем. Если дело пойдет так и дальше, скоро пальцы на собственной руке невозможно будет разглядеть.
На ночь Горшков выставил часовых: одному определил место у моста, около чугунной трансформаторной будки, облюбованной капитаном еще утром, другому – асфальтовую площадку, окружавшую огромный, сгоревший до середины клен. Предупредил часовых:
– Глядите в оба, мужики! Война еще не кончилась. Смена – через два часа.
Несколько минут постоял у реки. От воды тянуло неприятным холодом, пахло рыбой, травяной прелью, снегом – вполне возможно, что в верховьях Эльбы еще где-то лежал снег, нещадно терзаемый дождями и солнцем, он и добавлял реке свой особый запах, течение было сильным… Горшков вгляделся в темноту, в крутящуюся воду и поспешно отступил назад на несколько шагов. Покачиваясь в волнах, к берегу подплыл ногами вперед труп, на подошвах сапог у него, на носках и каблуках, поблескивали новенькие стальные подковки, хорошо видные в темном тумане.
Судя по подковкам, это был немец, наши солдатики, ходившие в кирзачах, до такого еще не доросли, да и стальные подковки в армию еще не поступали – дорого это было…
Труп ткнулся подошвами в подмытую песчаную кромку и замер на несколько мгновений, потом чуть стронулся и опять замер, словно бы встал на якорь, но никакого якоря не было, и разбухшее тело, подбитое течением, сдвинулось на несколько метров вниз и через минуту исчезло. Труп растворился в туманной ночи.
Подковки на сапогах не обманули – это действительно был немец. В черной форме – то ли железнодорожник, то ли танкист, то ли эсэсовец в парадной одежде.
По-прежнему было тихо – ни единого выстрела: ни на нашей стороне, ни на стороне той. Где-то далеко, за линией горизонта, в тумане метались рыжеватые полосы. В той стороне находился Берлин. Там еще шли бои.
Надо было отдыхать. Горшков развел караульных и снова улегся спать. Организм у него работал как хорошо отлаженный хронометр – капитан мог просыпаться без всякого будильника в назначенное время. И видать, эта привычка вживилась в него уже навсегда, на всю оставшуюся жизнь.
Война вообще вырабатывает в человеке много привычек, причем в основном плохих.
У Горшкова был один толковый разведчик, по фамилии Георгиев, так он настолько привык к наркомовской «сотке» – фронтовым ста граммам водки, что когда его списали в гражданку после потери руки и отправили домой, дома он спился.
Сын его, мальчишка, работавший на кожевенном производстве, начал каждый лень приносить папе по пузырьку спирта, эти пузырьки и погубили толкового разведчика, награжденного двумя медалями «За отвагу».
А когда затяжная война эта закончится совсем и солдаты вернутся домой, наружу вообще полезут всякие хвори, о которых на фронте они даже слыхом не слыхивали, обнаружатся дырки, что вроде бы зажили давным-давно, но в мирную пору открылись вновь, обнаружится что-то еще – нехорошее, – и это произойдет обязательно.
Сделав второй развод часовых, Горшков заснул вновь, погрузился в яркий счастливый сон – он видел собственное детство, рыбалку на озерах, куда часто бегали курганские пацаны и без добычи почти не возвращались, обязательно приносили карасей… Потом краски сна поблекли, света стало меньше, откуда-то приползла пороховая хмарь, и капитан ощутил тревогу, наползшую откуда-то в него.
Вообще, на войне тревога сидит в человеке всегда, это закон, без тревоги здесь и дня прожить нельзя – именно она заставляет солдата лишний раз поклониться пуле, лишний раз проверить, не зарыта ли где-нибудь на хоженой-перехоженой тропе свеженькая мина и нет ли в веселом, безмятежно спокойном месте вражеской засады. Не живет на войне боец беспечно, без тревоги и забот, не дано, тревога всегда находится в нем, она с ним… И будит солдата в нужное время. Капитан Горшков проснулся.
По ткани палатки с шуршанием бегали мелкие капли дождя – будто мыши, было их много, в провисах ткани собралась вода.
Рядом мирно сопел Мустафа, в дождь всегда хорошо спится, капитан некоторое время слушал водяные шорохи, тишь, возникающую после них, попытался понять причины тревоги, всплывшей в нем на поверхность, но не находил. Похоже, где-то рядом обозначилась опасность, и он ее ощущал.
Он поспешно вылез из палатки. Было темно, туманно, в нескольких шагах уже ничего не различишь, – Горшков прислонился плечом к мокрому стволу, всмотрелся в ночь: что там? чего видно?
Ничего, только темное ослепление пространства – оно навалилось на него, попыталось подмять – человек в такой кромешной слепой обстановке быстро теряется, он бессилен, незряч, он становится никем.
Следом из палатки беззвучно выбрался Мустафа.
– Что, товарищ капитан? – шепотом спросил он. – Случилось чего-то?
– Не знаю… – ответил капитан, напряженно вглядываясь в дождевую наволочь.
Темнота немного разредилась, пожижела, глаза почти привыкли к ней, стали видны и другие палатки, мокнущие под водяной сыпью, – бока у палаток провисли, провисы наполнились водой.
Мустафа перекинул через шею ремень автомата.
– Может, посты надо проверить, товарищ капитан… А?
– Надо, Мустафа. – Капитан шагнул в темноту, обошел несколько палаток, в которых обосновались саперы и внезапно присел, Мустафа ткнулся лицом в его спину и также присел: впереди грохнул выстрел. Сильный, звучный, словно бы ударили из базуки. – За мной, Мустафа! – прошептал капитан и ринулся в темноту.
А там, впереди, полыхнула автоматная очередь, задавленная дождем, потом другая, затем третья. Одна из очередей была выпущена из нашего автомата – звук ППШ всегда, даже во сне, можно отличить от торопливого стрекота немецкой «швейной машинки». Из ППШ стрелял явно часовой.
Капитан первым добежал до него, упал на мокрую раскисшую землю.
– Что случилось?
– Немцы. К реке пытаются пройти.
– Много их?
– Не очень. Я засек человек пять, не более.
Горшков понял, в чем дело, что тянет фрицев к реке, усмехнулся:
– К американцам хотят уйти, гады, – мотнул отрицательно головой, – только вряд ли у них это получится.
Темнота невдалеке окрасилась в оранжевый цвет – будто свечечку кто в ночи зажег, в то же мгновение раздался автоматный стрекот. Капитан засек место, где запалилась и тут же погасла свечка, поспешно переполз к другому дереву, спрятался за толстым вековым комлем. Ординарцу сказал:
– Мустафа, ты пока оставайся здесь.
Главное, в слепой ночной стычке не угодить под свою пулю либо под случайную автоматную очередь… Тьфу, что за глупые мысли лезут в голову? А в стычке дневной в таком разе что главное?
Он ждал, когда в темноте снова запалится и тут же погаснет свечка, главное было понять: перемещается противник или залег, находится в одном месте?
Немцы перемещались по берегу – видать, где-то недалеко у них была спрятана лодка, к ней они и устремлялись, иначе чего бы им тут держаться, рисковать – давно бы растаяли, как духи бестелесные… А может, они хотят попасть на тот берег через заминированный мост?
Для этого надо быть совсем наивными людьми. Кто же даст им это сделать? Мосты всегда, любой армией брались под охрану в первую очередь. Так было и в этом случае.
Ну обозначьтесь, фрицы, ну! Неужели вы ушли? Нет, не должны уйти, фрицы здесь.
Сырость заползла капитану за воротник, опалила холодом, он поежился, шевельнул плечами.
Снова застрекотал немецкий автомат, очередь была короткой, слабой, пули, выбивая искры, защелкали о ветки деревьев, от земли сильно запахло плесенью. Свечка зажглась в старом месте – значит, немец залег – посчитал темноту и туман своими верными союзниками: не выдадут, мол… Выдадут, еще как выдадут.
Это один фриц… А где остальные? Часовой сказал, что их было пять человек… Или примерно пять – не один, в общем.
Было холодно – Горшков выскочил наружу без плащ-палатки, теперь сырость пробирала его до костей, допекала, как могла, уже обозначилась под лопатками, по коже заскользили противные, острекающие своими колючими мокрыми лапками муравьи, – гнилая все-таки весна на Эльбе.
В темноте снова запалилась и потухла свечка, шум дождя погасил стрекот выстрелов, пули всадились в комель, за которым лежал капитан. «Однако фриц бьет метко, – отметил Горшков, – он чего, видит что-то, что-то различает в этой грязной плотной темноте?»
Плоско прижимаясь к противной мокрой земле, капитан переполз к Мустафе.
– Вроде чего-то выжидают фрицы, – сказал он, собственного шепота почти не услышал, – не пойму. Может, попытаться взять одного из них?
– Зачем он нужен нам, товарищ капитан? – просипел Мустафа в ответ. – Наступление у нас не предвидится, начштаба языков не требует… Я бы не стал.
– А вдруг эти гады волокут за Эльбу какие-нибудь документы? К американцам… А?
– Все равно игра не стоит свечек. Я бы не стал.
– Как сказать, Мустафа… – Горшков, поморщившись, застегнул под горлом верхнюю пуговицу гимнастерки – за пазухой скоро будет хлюпать вода… – Жди меня здесь.
Он пополз в темноту, целя в то место, где трижды загоралась, а потом угасала свечка – было похоже, что меткий стрелок никуда не делся, продолжал сидеть там. Конечно, в словах Мустафы есть резон – а на хрена нужен этот вшивый пленный, что может он изменить в ходе войны? Оттянуть победу на один день? Вряд ли он сумеет это сделать?
Дождь продолжал шуршать по-мышиному, вызывать озноб, онемение в мышцах, влажные, ставшие морщинистыми и непослушными пальцы тоже онемели, от недалекой реки тянуло ледяным холодом. Хорошо, что в звуке дождя гаснет всякое неосторожное движение – ничего не слышно… Горшков попробовал прикинуть, сколько метров осталось до немца – выходило, немного. Метров пятнадцать всего.
Надо подползти к этому удалому стрелку метра на четыре, иначе немец опередит его, успеет скосить из автомата, когда капитан прыгнет на него. Под руку капитану попали гильзы – целая горсть использованных пустых патронов лежали кучкой, Горшков ощупал гильзы пальцами – показалось, что они еще теплые, – в этом месте еще десять минут назад находился один из фрицев-стрелков. Капитан аккуратно сдвинулся назад – если гильзы, задев друг дружку, зазвякают в ночи, это засечет автоматчик, лежавший уже совсем недалеко от него…
Хоть и недалеко находился фашист, а Горшков не видел его – темнота, сырость, грязный туман поглощали предметы, растворяли не только людей, но и огромные дома, деревья, целые парки и растерзанные снарядами рощи.
Капитан покрутил головой – показалось, что под воротник, прямо на спину, на хребет ему вылили сразу несколько ковшов стылой воды – это дерево сотрясло на него свои мокрые ветки, урожай был богатым, – поспешно отодвинулся от дерева. Ну хоть бы кто-нибудь из немцев обозначился в темноте, пальнул из автомата – нет, молчат фрицы, затаились.
Горшков прополз еще несколько метров, замер, пожалел, что взял с собою автомат, можно было обойтись пистолетом и ножом, а автомат оставить около Мустафы, – вгляделся в недобро шевелящуюся темноту: где же все-таки находятся немцы? Или же они ушли все, остался только один – для прикрытия? Либо не осталось ни одного? Капитан перевел дыхание.
Стрелок все-таки обозначился – не выдержал либо что-то почувствовал; вязкую темноту ночи разрезала короткая оранжевая вспышка, возникла она совсем недалеко от капитана, метрах в десяти, Горшкову показалось, что он даже услышал шипение пуль, унесшихся в пространство.
Стало понятно, что немец никуда не двигался, находился на месте и, судя по всему, он один – оставлен прикрывать отход своих товарищей.
Ну а те… Те либо шкуры свои спасают – слишком много у них скопилось здесь грехов, либо очки зарабатывают, волокут к американцам какие-нибудь документы и для этого ищут проход к Эльбе в другом месте.
Последние метры Горшков полз, сдирая пуговицы с гимнастерки, старался слиться с землей, самому стать ею, – и все-таки глазастый стрелок углядел его, приподнялся недоверчиво и вскинул свой «шмайссер». Нажать на спусковой крючок не успел – капитан со всего маху ударил его прикладом автомата в лоб.
Немец только ботинки вверх вскинул. Наряжен он был в штатское – в серый, испачканный грязью плащ, в разъеме которого был виден воротник рубашки с крупным, неумело повязанным узлом галстука, из-под плаща выглядывали намокшие полосатые брюки.
Капитан сапогом отбил в сторону автомат, склонился, чтобы связать поверженному стрелку руки, но что-то остановило его. Он машинально отпрыгнул в сторону и в то же мгновение тяжелое тело, выплюнутое темнотой, промахнуло мимо него.
Это был здоровенный фриц, также одетый в штатское, в шляпе, с ножом в руке – он почему-то хотел втихую снять капитана, дур-рак… Зачем? Гораздо проще было сделать по-другому. А сейчас фриц проиграл. Самого себя: проиграл, вот ведь как.
В следующий миг приклад горшковского автомата всадился ему в затылок – ударил капитан с силой, у фрица чуть челюсти не вылетели изо рта, чуть на землю не шлепнулись – нельзя было допустить, чтобы он поднялся.
Еще раз отпрыгнув, Горшков растянулся на мокрой, наполовину спаленной траве – надо было оглядеться. А вдруг из темноты вывалится еще один гитлеровец?
Было тихо. Только скрипела на ветках, шуршала в траве и палых листьях, на голых обожженных плешинах мокреть, сыплющаяся с неба, да угрюмо ползли ворохи тумана в темноте. Ничего опасного вроде бы не было – немцы, кажется, ушли. Кроме этих двоих.
Выждав несколько минут, капитан поднялся, постоял немного, изучая темноту. Тут все было важно – и то, что он видел, и то, что слышал, а главное – что ощущал. На войне внутри у всякого человека обязательно сидит некий чувствительный датчик, позволяющий и события предугадывать, и опасность ощущать, и выстраивать линию поведения, чтобы не влететь в какую-нибудь ловушку.
«Не то» у Горшкова уже было – в степи под Сталинградом он пренебрег этим правилом и вместе со своей разведкой попал в капкан. Только он и Мустафа тогда и уцелели. Да и то случайно. Интересно, что подсказывал тогда капитану его внутренний датчик и подсказывал ли вообще что-нибудь?
Этого Горшков не помнил.
Он вновь поднялся. Подошвы сапог на мокрых листьях разъезжались – ну будто маслом их смазали. Сапоги старые, стоптанные, рисунок на подошвах стерт – куда хочет обувь, туда и едет. В глотке сидела сырость, усталые мышцы были вялыми, кости ломило. Надо было отдохнуть хотя бы один раз в последние годы, поспать вволю, чтобы никто не будил, и выспаться, в конце концов, а потом уже – куда угодно: хоть в бой, хоть за обеденный стол… Любой приказ можно будет выполнить.
Держа автомат наизготове, он подошел к лежащему немцу – тому, который захотел поиграть ножичком. Выбил из скрюченных пальцев нож, поднял его с земли, стер с лезвия грязь. Это был знатный ножик – эсэсовский кортик с костяной ручкой и коротким, очень прочным, закаленным лезвием. Такими ножами пользовались еще штурмовики Рема.
Капитан приподнял голову эсэсовца. Тот был мертв – очень уж лихо опечатал его Горшков прикладом. Второй немец был жив. Капитан ухватил его за шиворот, резким рывком поставил на ноги.
Немец был вял, как тряпичная кукла, лицо его плоско светлело в темноте, изо рта то ли кровь текла, то ли слюна – не понять, Горшков встряхнул его снова, встряхнул так, что у неудачного стрелка даже лязгнули зубы. Подобрал с земли измазанный грязью «шмайссер», снова встряхнул пленника:
– Пошли, пошли, тетеря недоделанная…
До самого утра пленник сидел в палатке, кряхтел болезненно, ощупывал свою голову, морщился и снова кряхтел – капитан славно угостил его. Мустафа не спал, охранял немца, позевывал досадливо, сверлил взглядом фрица, но глаз не смыкал – нес караульную службу.
Утром немца отвели в штаб полка. Немец был упитанный, розовый, с лоснящимися холеными щеками, но когда он попал в плен, то сгорбился, постарел и вид теперь имел какой-то общипанный, будто после болезни.
Когда днем Горшков заглянул в штаб, то Мурыжин, старший лейтенант-переводчик, сообщил, что пленный оказался интендантом, интереса особого не представлял, поскольку всю жизнь командовал только амуницией да лопатами для рытья окопов и оставлен был на берегу действительно для прикрытия – прикрывал отход шести человек, которые собирались уйти к американцам. Помогал ему гауптман Фефель. Фефелю не повезло: приклад у русского автомата ППШ оказался крепче его черепушки.
– А кто были шестеро ушедших?
– Начальник гестапо, его зам и еще четыре местных шишки.
– Ушли?
– Говорит, что нет – вернулись в город.
– Ну и слава богу, – проговорил капитан удовлетворенно, – в городе мы их где угодно найдем. Кого-кого, а начальника гестапо тут должна знать каждая собака. Документы они с собою никакие не несли?
– Интендант говорит, что несли. Бумаги находились у второго гестаповца, у зама.
– Потолковать с этим интендантом можно?
– Сколько угодно. После того как ему обработали ссадину на голове, он стал говорлив, как попугай, которому пообещали орехов, – не умолкает ни на минуту. Все благодарит за то, что не убили.
Горшков понимающе склонил голову набок, усмехнулся:
– Вообще-то надо было убить гада. Он же строчил из автомата не переставая, будто костюм себе перелицовывал. Хорошо, что никого из наших не задел. Если бы задел – вряд ли сегодня находился у вас.
– Капитан, капитан, конец войне… Всем жить хочется. И этому отставной козы барабанщику тоже.
– Начштаба у себя?
– Если можешь не ходить – не ходи. Злой, как черт, которому под хвост насыпали толченого перца.
– Не ходить нельзя, – Горшков глянул на наручные часы, качнул отрицательно головой, – надо доложиться – время! Иначе… – Он отрицательно попилил себя пальцем по горлу.
– Понимаю. – Мурыжин отступил на шаг назад и шутливо перекрестил капитана. – С Богом!
Начальник штаба у них был новый. Строптивый молодой подполковник был переведен к ним из штаба соседней дивизии, в артиллерийский полк он пришел с понижением – что-то у него в дивизии не срослось, след какой-то худой он оставил там, он вообще должен был пойти под трибунал, но его спас родной папаша, которого подполковник называл папахеном, – важная фигура в центральном Смерше, в результате проштрафившегося подполковника понизили в должности, тем и ограничились.
Остановившись перед дверью подполковника, Горшков громко стукнул в нее костяшками пальцев, прислушался: отзовется хозяин кабинета или нет?
За дверью громыхнул опрокинутый стул, прозвучал невнятный голос и капитан вошел в серую унылую комнату, которую выбрал себе начальник штаба, – неудачно с точки зрения Горшкова, выбрал, но на вкус и цвет товарищей, как известно, нет.
Хозяин кабинета был занят важным делом – стоя на одном стуле, вешал на стенку портрет товарища Сталина (вождь был изображен в маршальском кителе с отложным воротником и петлицами), второй стул валялся на полу, и подполковник шутовски дергал висящей правой ногой, не зная, куда ее пристроить. Оглянувшись на Горшкова, он выкрикнул громко, будто поднимал людей в атаку:
– Чего стоишь, капитан? Ну-ка подсоби мне!
Дел-то тут было на полтора удара молотком – вбить всего один гвоздь, но чувствовалось по всему, что подполковник бьется над решением этой трудной задачи уже долго и никак не может свести концы с концами и победить. Глаза у него, как у быка на корриде, были красными. Не хотелось бы на этой битве выступать в роли поверженного тореадора.
Но подполковник вместо того, чтобы обварить Горшкова огнем, спрыгнул со стула и протянул ему молоток:
– На!
Хоть и не отличался особыми способностями капитан, и мастеровым человеком себя не считал, ему действительно хватило полутора ударов молотком, чтобы загнать гвоздь в стенку и нацепить на него бечевку, прикрепленную к портрету.
Спрыгнув со стула на замызганный паркетный пол, Горшков приложил руку к пилотке:
– Финита, товарищ подполковник!
– Финита, но не ля комедия, – спокойно произнес тот, – не то я совсем замучался, – подполковник повертел перед собой растопыренными пальцами, глянул на них, – пульку такие пальцы расшвыривают так, что любо-дорого посмотреть, все время выигрыш бывает, а вот насчет молотка с гвоздями… – Он критически хмыкнул. – Что там с союзниками из-за океана?
– Ворота держим крепко, союзники пока не суются. После вчерашних событий ничего новенького.
– Что за стрельба была ночью?
Капитан пояснил. Про себя удивился – не думал, что подполковник не знает о пленном, доставленном ему в штаб. В свою очередь спросил о Берлине: как там?
– Наши уже под Рейхстагом, бои идут на площади. Гитлер, говорят, покинул Берлин.
– Раз покинул, товарищ подполковник, то рейху – крышка. Капут!
– Вашими устами, капитан, да мед бы пить…
– Мед – не мед, а шнапс можно.
Потолкавшись немного в штабе, заглянув в комнату связи, Горшков покинул этот старый, на треть разрушенный особнячок с продавленной обмедненной крышей – судя по всему, раньше тут находилось заведение, в котором веселились богатые офицеры, – хорошо, когда разведчики не требуются, можно отдохнуть от приказов начальства…
Разведчики подтянулись к палатке командира, установили несколько трофейных палаток – они были потяжелее наших, зато надежнее, с каучуковой пропиткой, такие палатки никакой дождь не берет. Коняхин ходил между палатками, покрикивал командно, иногда помогал какому-нибудь оплошавшему бойцу – старшина из Коняхина получался неплохой, надо бы подать бумаги следом – на присвоение ему очередного звания и назначить главным хозяйственником в группе разведки… Дело в общем-то недолгое, двадцати минут на это хватит.
Увидев капитана, Коняхин сбавил обороты, но не стих – не та была натура. Горшков засек насмешливый взгляд Мустафы – тот поглядывал на Коняхина с иронией, за суетой наблюдал словно бы свысока, забравшись на дерево, но стараниям сержанта не препятствовал.
– Ну, что на том берегу? – привычно окинув взглядом противоположную сторону Эльбы, затянутую сизой кисеей, похожей на сигаретный дым, спросил Горшков. – Тихо?
– Тихо, товарищ капитан. Американцы так и не появились – сидят за теми вон домами и носа не кажут.
– Дай-ка, Мустафа, бинокль, – попросил капитан, осмотрел противоположный берег внимательно. Тот был совершенно пуст – ни одного человека, и следов войны почти никаких, – кроме обугленных деревьев леска, разбитой ломины, в которой вчера прятались юные фаустпатронщики, да большого черного пятна, где стоял горелый американский танк – из него, видать, вытекла солярка, раз место то спалило до самой земли.
– Команду пойти на контакт с американцами еще не дали, товарищ капитан? – Мустафа хитро прищурил один глаз.
– Не дали. А что тебя так волнует, Мустафа? Перспектива отведать консервов из американской индейки?
– Да нет. Просто пообщаться интересно. – Мустафа приоткрыл прищуренный глаз, вид его сделался еще более хитрым. – Понять, кто они такие, американы эти, пощупать их, воздух около них понюхать…
– И пощупаем их. Мустафа, и воздух понюхаем вместе, и даже водки выпьем – все впереди.
Неожиданно у крайней палатки, где располагались разведчики, раздался пронзительный женский визг. Капитан оглянулся недоуменно – непонятно было, что там происходит.
– Ну-ка, Мустафа, – велел он, – проверь, каким образом в наши доблестные ряды занесло какую-то непутевую бабу? Похоже, это немка.
Мустафа исчез стремительно, будто его и не было, объявился очень скоро, с собою притащил толстую разъяренную немку со следами помады, ярко испятнавшими ее круглые щеки – ну будто бы кто-то специально разрисовал эту даму тюбиком броской губной краски.
В руках разъяренная немка держала какую-то рваную тряпку.
– Вас ист дас? – визгливо закричала она, увидев капитана, и взмахнула тряпкой призывно, как флагом.
– Что с ней, Мустафа? – Горшков невольно поморщился: еще не хватало воевать с какими-то непотребными бабами, задал грубый вопрос, который в другой раз вряд ли задал бы: – Чего она орет, будто ей вырезали матку вместе с желудком?
– Фрау утверждает, что ее изнасиловали, да вдобавок ко всему порвали хорошую юбку. Насчет изнасилования она не в претензии, а вот за порванную юбку просит заплатить.
– Кто ее изнасиловал, фрау знает?
– Говорит, что какой-то солдат с медалями на груди. Вооружен автоматом.
– Солдата опознать сможет?
– На этом она не настаивает, а за юбку требует дойчмарки.
Капитан задумчиво покачал головой: эту историю можно, конечно, раздуть до размеров баобаба, а можно погасить в корне, и тогда никто ничего не узнает.
– Видите, что он сделал, герр офицер! – пуще прежнего заорала немка и вновь взмахнула порванной юбкой, несколько раз прокрутила ее над головой. Баба она была здоровая, мясистая, для изголодавшегося солдата очень даже аппетитная, ляжки были такие, что легкое платьице, которое она в спешке натянула на себя, готово было треснуть по боковым швам. И по заднему шву тоже. Платье натянуть на себя не забыла, а вот смыть помаду с крепкощекого лица своего забыла.
– Мустафа, у тебя дойчмарки есть? – Горшков решил, что раздувать эту историю ни к чему, смершевцы ведь обязательно разыщут этого бравого солдатика и еще, чего доброго, шлепнут. Медали его не спасут.
– Если надо, найдем, товарищ капитан. – Мустафа улыбнулся скуласто – одобрял действия шефа.
– Найди, Мустафа, и заплати ей, сколько она просит.
– Пли-из, фрау, – галантно просипел Мустафа, рукой показывая, куда надо идти. – Битте-дритте за мной!
Толстуха напоследок уничтожающе глянула на Горшкова, будто он был виноват в «приключении», случившемся с ней, фыркнула, давя в себе ярость, и устремилась следом за Мустафой.
Вечером Горшкова вызвал к себе начальник штаба. Подполковник пребывал в приподнятом настроении, благодушно поглаживал живот, неведомо по какой причине выросший у него на войне, – харчей жирных не было даже в высоких штабах, но у подполковника «трудовой (а может, боевой?) мозоль» наметился такой, что его едва сдерживал новенький офицерский ремень, укрепленный портупеей. Может, подполковника ранило куда-нибудь в укромное место, в результате живот и вырос? Увидев Горшкова, начштаба ткнул пальцем в стул:
– Садись!
Когда подполковник бывал раздражен, хотел подчиненного отдалить от себя, то обращался к нему на «вы», если же, напротив, считал нужным приблизить, произносил «ты».
Капитан сел на стул, глянул выжидательно на начальника штаба. Портрет Сталина висел над головой подполковника ровно и, надо признаться, украшал кабинет. Сталин на портрете довольно улыбался.
– Вот что, капитан Горшков, – начштаба помял пальцами нижнюю челюсть, словно бы после вывиха ставил ее на место, – у тебя, как мне доложили, есть опыт общения с гражданским населением.
«Ого, – мелькнуло в голове капитана удивленное, – уже кто-то успел побывать здесь и настучать, что к разведчикам прибегала злющая немка. Тьфу! Надо бы вычислить этого докладчика. Чтобы больше не докладывал».
– Есть, капитан, или нет? Признавайся!
– Нет, товарищ подполковник.
– У меня имеются совершенно другие сведения, – начштаба погрозил Горшкову пальцем, – так что не ври, капитан. А посему есть мнение – назначить тебя временным комендантом города Бад-Шандау. По нашим сведениям, в городе тридцать тысяч жителей, чуть более ста тысяч беженцев и пять тысяч раненых фрицев в воинском госпитале. Так что приступай к выполнению приказа.
– Да вы чего, товарищ подполковник? – Горшков умоляюще прижал к груди обе ладони. – Из меня комендант, как из ездового ефрейтора зулусский князь.
– Ничего не знаю, капитан.
– Но мне же велено присматривать за американцами…
– Тот приказ отменяется.
– Ведь сам генерал Егоров приказал…
– Он этот приказ и отменил, – в голосе подполковника обозначились раздраженные нотки – не любил, когда ему сопротивлялись подчиненные или хотя бы возражали. – Выполняйте, капитан!
Горшкову ничего не оставалось, как взять под козырек, внутри родилось ощущение досады, чего-то противного, холодного, показалось даже, что в глотке вот-вот вспухнет комок тошноты, но он справился с ним. И вообще делать было нечего, приказ есть приказ.
– Есть! – произнес он и, повернувшись четко, будто находился в карауле, направился к двери.
– Наши солдаты умудрились ограбить часовщика, взяли полмешка часов – все неисправные, мастер не успел их починить. Разберитесь с этой историей в первую очередь, капитан. На этом дело, я думаю, не закончится.
Капитан снова вскинул руку к пилотке:
– Есть!
Сам подумал, что виною тому, наверное, сталинский приказ о том, что всякое беспризорное имущество, валяющееся на немецкой территории, наши солдаты могут брать беспрепятственно и в размере посылки отправлять домой.
Определение «беспризорное имущество» солдаты просто-напросто опустили, вывели за кавычки и стали брать все подряд. И то, что плохо лежит, совсем не охраняется хозяевами, и то, на чем висит большущий замок и для пущей убедительности красуется табличка «Руками не трогать».
В Берлине грохотала канонада, на улицах рвались снаряды, обваливая, превращая в груды мусора целые кварталы, дома, причастные к всемирной истории, а в Бад-Шандау было тихо, даже пистолетные хлопки уже не слышались – люди привыкали к мирной жизни. Горшков послал Мустафу в «глубокую разведку», как он сам выразился:
– Узнай-ка, друг, где, в каком банке или в конторе мы можем разжиться дойчмарками.
– Зачем они нам, товарищ капитан?
– Пока других денег в Германии нет, только дойчмарки… Изнасилованную немку помнишь?
– Еще бы!
– Если бы у нас не было марок, мы вряд ли справились с этой историей. Шум пошел бы на весь фронт.
Мустафа озадаченно поскреб пальцами затылок.
– А ведь верно, товарищ капитан.
– Действуй, Мустафа.
Капитан собрал группу разведки, молча оглядел каждого, качнул головой удовлетворенно: хоть и небольшая у него была группа – всего двенадцать человек, с ним тринадцать, а стоила много, народ в ней собрался штучный (как, собственно, и во всякой разведке), а штучными бывают не только товары и производства, но и люди. Полковая разведка капитана Горшкова собрала, наверное, лучшее, что удалось отыскать в полку, в пополнениях, даже в других частях.
– Поступила новая вводная, друзья, – проговорил капитан неожиданно мягко, совершенно по-штатски, – ну совсем «штрюцким» он вернулся на этот раз из штаба (штатский народ, который не носил на плечах погон, «штрюцким» называл писатель Куприн Александр Иванович), – нам велено выполнять в городе комендантские функции. Я, значит, назначен комендантом, а вы – вся разведка, вся, до единого человека – комендантским взводом. Будем сообща наводить порядок в городе.
– Надолго это, товарищ капитан? – спросил ефрейтор Дик, плотный плечистый здоровяк с красным обожженным лицом.
– Не знаю, – честно признался капитан.
– Вот напасть-то. – Дик огорченно крякнул.
Шахматный ход насчет денег был сделан Горшковым правильно – дойчмарки потом помогли заткнуть немало дыр и уладить кое-какие скандальные дела. Ведь что ни день, то в Бад-Шандау обязательно чего-нибудь случалось. Случалось и уже знакомое: на немок – посмазливее разъяренной тетки, густо измазанной губной помадой, – нападали наши солдатики, на ходу задирали подолы и старались побыстрее добраться до сладкой бабьей начинки, стонали от страсти… Но это все ерунда по сравнению с тем, что произошло на второй день горшковского комендантства, так некстати свалившегося…
А на второй день к коменданту пришла делегация жителей Бад-Шандау – полтора десятка пожилых мужиков и женщин с пустыми кружками и ложками, проворно застучали ложами по доньям кружек:
– Брот, гepp комендант! Брот!
Что такое «брот», Горшков знал очень хорошо и раз уж терпеливые немцы начали разевать рты, как голодные птенцы, значит, приперло. Надо было что-то делать.
Капитан кинулся к подполковнику в штаб – помогите хоть чем-нибудь!
Тот раздвинул складки на пухнущем животе, сгреб их к бокам – к одному боку и к другому, – и произнес недовольным тоном:
– Вы комендант, вы эту проблему и решайте. Проявите инициативу. Ко мне больше не приходите. Кру-гом!
Делать было нечего. Горшков сел за руль доджа, посадил рядом с собою переводчика Петрониса, младшего лейтенанта, перешедшего к артиллеристам из пехоты, в кузов запрыгнули четыре разведчика с автоматами – Коняхин, Мустафа, Дик и Юзбеков, и капитан вывел машину на плохо расчищенную от обломков и разрубленных взрывами камней улицу.
Стоило проехать немного, как в окнах домов начали возникать любопытные детские мордахи, были видны и лица взрослых, но их было много меньше, чем детских, но они были, вот ведь как, – всем было интересно посмотреть на русских солдат: какие они?
Действительно ли на голове у русских растут рога, как вещал доктор Геббельс – у-умный человек, а из галифе, из прорех сзади, высовывается длинный гибкий хвост? Удивительная штука, но ни рогов, ни хвостов у разведчиков капитана Горшкова не было.
В воздух висела маслянистая копоть – кто-то поджег два крытых пропитанным жирной смолой рубероидом цеха, где производили люки для подводных лодок. На заводе том были еще два цеха, но они не работали, и их не тронули. Кто подпалил промышленное предприятие, свои или чужие, было неведомо. В этом надо бы разобраться…
Впрочем, Горшков на три четверти был уверен, что это сделали наши: они находились на территории врага, поэтому и считали, что им сам бог велел уничтожать все, что у врага есть, и в первую очередь – разные заводы, фабричонки и фабрики, мастерские, цеха, потоки, дававшие военную продукцию.
На выезде из города, около одного из домов, Горшков остановился, выпрыгнул из доджа.
– Пока все оставайтесь в машине, – скомандовал он, – со мной – Петронис. Мы скоро вернемся.
Улица эта была тихая и почти целая, снаряды ее тронули мало, несколько воронок, испортивших асфальт, были заделаны камешником, привезенным с реки, затем засыпаны песком и плотно утрамбованы. Война ведь почти закончилась, по Бад-Шандау уже вряд ли будут бить пушки, можно начинать ремонт, а потом, поднатужившись, собравшись с духом и начать отстраиваться. Заново. Уже без Гитлера.
Капитан вошел во двор небольшого кирпичного дома, обнесенного железной оградой, на крыше дома красовались свежие заплаты – несколько листов железа были сорваны взрывной волной, посечены осколками, скручены в рогульки, и хозяин, не имея под руками никакого другого материала, взял пару пустых металлических бочек, расклепал их, выпрямил листы и пустил на крышу. Горшков постучал костяшками пальцев в дверь.
– Хозяи-ин! – Снова постучал в дверь.
Занавеска за одним из окон шевельнулась, в раздвиг двух половинок кто-то выглянул, и дверь отворилась.
Ефрейтор Дик, сидя в додже, удивленно распахнул рот:
– Прямо сказка какая-то. Капитан уже и тут заимел знакомства.
– Не замай капитана, иначе дело будешь иметь со мной, – предупредил Мустафа. Ефрейтор покраснел еще больше, сквозь ожоги, казалось, вот-вот проступит кровь и не произнес больше ни слова. – Вот это правильно, – оценил его молчание Мустафа.
А капитан знал, куда и к кому пришел, потому так смело и стучал в дверь. Все дело в том, что вчера утром к нему заявился необычный посетитель – местный столяр с руками, изуродованными в гестапо: у столяра были расплющены два пальца, а с нескольких с корнем содраны ногти.
– Ты комендант? – колюче глядя на Горшкова, спросил столяр.
– Я. Временно, – ответил Горшков, попросил Петрониса: – Пранас, переведи!
– Нет ничего более постоянного, чем временные назначения на должность, – ворчливо произнес гость, оглянулся привычно и, пошарив искалеченными пальцами в кармане пиджака, достал удостоверение – книжицу в красном матерчатой переплете, аккуратно развернул ее. – Я – член Коммунистической партии Германии, – произнес он торжественно, голос его, глуховатый, с простудными трещинами, неожиданно обрел звонкость, морщины на лице разгладились.
– Очень приятно, – ответил Горшков удивленно – не думал он, что в Германии еще сохранились коммунисты, гестапо в последние годы жестоко вылавливало их, вырубало под корень, взял рукою под козырек, назвался сам.
– Сохранились коммунисты, – прежним ворчливым тоном произнес гость, – я не один в городе, нас целая ячейка… Подпольная.
– Ячейка большая?
– По нынешним временам большая. Четыре человека.
– А где остальные? – спросил Горшков почти машинально, понял запоздало: вопрос этот – неуместный.
Столяр засипел простуженно и выдохнул шепотом, едва слышно:
– Остальные казнены.
Как всякий комендант – пусть даже временный, – Горшков обладал властью, поэтому он поразмышлял немного и назначил столяра бургомистром Бад-Шандау.
К бургомистру он сейчас и приехал. Столяр, сидя на табуретке с мягким верхом и поставив на стол таз с горячей водой, отпаривал искалеченные руки, постанывал и ерзал задницей по верху табуретки – ему было больно.
Увидев капитана, он привстал и произнес каким-то измученным и одновременно очень спокойным, почти угасшим голосом:
– Сегодня в Берлине не стало Гитлера.
Горшков не выдержал, повел головою в сторону, словно бы горло ему сдавил тугой воротник, выплюнул зло:
– Надеюсь, у собаки была собачья смерть! Тьфу!
– Вместо себя Гитлер оставил гросс-адмирала Деница. По радио объявили, что Гитлер пал на боевом посту.
Капитан отплюнулся еще раз:
– Тьфу!
Столяр вытащил из таза одну руку, потом другую и, кряхтя, потянулся к приемнику, ухватился пальцами за пластмассовую бобышку, включил. Послышались звуки музыки – протяжные, навевающие уныние, капитан этой музыки никогда не слышал. Столяр пояснил:
– Седьмая симфония Брукнера. Ее очень любил покойный фюрер. – Губы столяра презрительно сдвинулись в сторону.
Симфония неожиданно прервалась, и послышался голос диктора:
– Наш фюрер Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания против большевизма, сегодня пал за Германию в своем оперативном штабе в рейсхканцелярии.
Презрительная улыбка на лице столяра расширилась.
– Пал за Германию, – хмыкнул он. – Пристрелили небось, как шелудивoго пса, и бросили в канаву. Еще, может быть, облили бензином из канистры и подожгли.
– Откуда такие сведения? – спросил капитан.
– Это не сведения, это – предположение.
– Тридцатого апреля фюрер назначил своим преемником гросс-адмирала Деница, – продолжал вещать диктор.
– Вот, – сказал столяр.
– Сегодня слушайте обращение к немецкому народу гросс-адмирала и преемника фюрера, – произнес диктор напоследок, в приемнике что-то щелкнуло, и послышались заунывные звуки симфонии, сочиненной неведомым Брукнером.
– Собирайтесь, – подогнал капитан столяра, – надо проехать по здешним хозяйствам, узнать, кто какие продукты может дать городу.
– Хорошее дело, – одобрил столяр.
– Иначе горожане от голода и вас и меня вздернут на каком-нибудь крепком суку.
– Я знаю несколько хороших фермеров, – сказал столяр, – они помогут. А я тут вот что сочинил. – Выдвинув ящик стола, он порылся в нем, извлек лист бумаги, протянул капитану. – Вот.
Горшков взял лист, повертел его и передал переводчику.
– Пранас, посмотри, что это?
Тот прочитал бумагу и, с трудом сдерживая улыбку, прижал к губам пальцы. Наклонил пониже голову, чтобы столяр не засек улыбку, если она вдруг прорвется и он не сдержит ее.
– Это документ. Наши немецкие товарищи провели первое открытое партсобрание и вынесли постановление… – Петронис покашлял в кулак.
– Ну!
– В постановлении написано: «Запрещается всем бывшим членам нацистской партии ловить в Эльбе рыбу».
Капитан также покашлял в кулак. Невольно.
– Ну и ну! Судьбоносное постановление, ничего не скажешь. Значит, поступим так, Пранас… Ты переведи поточнее. Если партийная ячейка сможет снабжать рыбой население Бад-Шандау, беженцев, госпиталь и всех остальных, я готов утвердить это постановление. Если нет, то и суда нет.
Столяр замялся, губы у него неожиданно приняли обиженное выражение, он развел руки в стороны.
– Ага, – сказал капитан. – Вижу, что партийная ячейка не готова кормить город рыбой. Постановление временно замораживается. Поехали, бургомистр, к фермерам.
Столяр закряхтел досадливо, ткнулся в один угол, в другой – искал свою выходную одежду. Что-то нашел, чего-то не нашел, закропотал недовольно, замахал руками на жену – та также заметалась по дому…
Через пять минут выехали.
Следов войны за городом было втрое больше, чем в самом Бад-Шандау. В городе люди хоть и не очень старались по этой части, но все же пытались убрать скорбные следы, засыпали воронки, растаскивали крюками горелые дома, спиливали изувеченные деревья, пускали их на корм для печей, обогревались сырыми ночами и варили еду, а в полях и в лесах изуродованная земля так и оставалась изуродованной землей, никто ее не лечил, не обихаживал.
Сидя в машине, среди автоматчиков, столяр затих, сжался, превращаясь в этакого старого мыша, боящегося кота, щурился подслеповато – он не узнавал землю, по которой так много ходил и ездил, рот у него сомкнулся в печальную скобку, отвердел, и сам он сделался печальным, здорово одряхлевшим.
Неуютно он чувствовал себя. Мотор доджа гудел натужно, разведчики держали автоматы наготове – из-за любого куста ведь могла выплеснуться свинцовая струя.
Но пока не выплескивалась, было тихо – доджу везло. Птиц тоже не было слышно – вернувшись, они старались найти себе места поспокойнее, без стрельбы и взрывов, – и переселялись туда. Таким местом у них, похоже, считался и городок Бад-Шандау, там птичьи голоса все-таки звучали.
Поездка не была удачной, проку от нее оказалось ноль: разведчики побывали в трех хозяйствах, и во всех трех им отказали – продуктов, дескать, нет, коровы, напуганные войной, перестали доиться, а куры нести яйца… «Самим бы выжить», – дружно хныкали фермеры.
Столяр был обескуражен. Даже его старый приятель, с которым он выдул не менее трех цистерн пива, – толстый, с бородавчатым лицом Курт Цигель, – и тот развел в стороны полные конопатые руки.
– Извини, Эрих, – сказал он столяру, – сам не знаю, как буду выкручиваться… Ничем не могу тебе помочь.
Маленькие заплывшие глазки его при этом ускользали в сторону, на своего пивного приятеля Цигель старался не смотреть. Все было понятно.
– Ах ты, старый куриный желудок, – сказал столяр фермеру, – обожравшийся сосискоед, павиан облезлый. – Голос у столяра сделался расстроенным, дрогнул, он махнул рукой слабо и полез в додж.
Уже в кузове доджа пробормотал угрюмо:
– Только о своем пупке и думает. Сопля бородавчатая, индюк вареный, сарделька, набитая салом… Тьфу! Тухлая задница!
– Мы в эту задницу можем вставить клизму, – сказал Горшков.
– Не надо. Хозяин он неплохой, и человек неплохой. – Столяр поправил пальцами подбородок, будто получил прямой удар в челюсть, глаза у него покраснели. – И заначка у него имеется, это совершенно точно. Надо только Курта раскочегарить. А вот как раскочегарить, пока не знаю, – столяр вопросительно приподнял одно плечо.
– Ладно, поищем способ, – пообещал ему капитан. Он сейчас думал о том, что придется вновь пойти к подполковнику в штаб и после того, как прозвучит унизительная нотация, попросить продукты… Хотя бы немного. Но даст ли подполковник что-то – это большой вопрос.
Горшков озабоченно хмыкнул и уселся за руль доджа, надавил носком сапога на столбик стартера, похожий на огрызок детской пустышки.
Мотор завелся мигом, будто машина соскучилась по дороге, по езде, по песне собственного мотора.
– Ну Курт, ну Курт, – столяр осуждающе покачал головой, – не ожидал я…
– Еще не вечер, господин бургомистр. – Горшков аккуратно обогнул две кучи навоза, приготовленные к вывозу в поле, и выехал с фермерского двора.
Ровно через сутки фермер Курт Цигель был замечен со своей одноколкой на небольшом стихийном рынке, образовавшемся неподалеку от городской ратуши – робком, тихом, на рынок совсем не похожем…
К Горшкову явился ефрейтор Дик, неуклюже козырнул:
– Товарищ капитан, там этот самый явился… Ну… – Дик иногда заикался, это было следствием контузии, произошло замыкание и сейчас, он умолк, жалобно моргая глазами, замахал протестующе ладонью, через несколько секунд одолел себя. – Ну у которого бородавки на толстой физиономии. Глаза у него еще мыльные, на подшипниках.
– Кто это? – Капитан не сразу понял, о ком идет речь.
– Ну, этот самый… Фермер.
– И что он делает?
– Продает продукты.
– Вот гад. – Капитан удивленно покачал головой: не думал, что ушлый хозяин так скоро проявится… Невооруженным глазом виден капиталист проклятый. Горшков неожиданно весело улыбнулся. – Ладно! Я же говорил, что еще не вечер – значит, еще не вечер.
– Совершенно верно, – поддакнул Дик, скосил глаза в окно. При канцелярии хозяйственной роты Горшкову выделили комнатенку с разбитыми окнами, рамы полковые умельцы заделали с помощью осколков стекла – получились не окошки, а некая разнотоновая мозаика, художественное полотно, сквозь которое была видна улица, вернее, часть ее с кучами битого кирпича и мусором, также собранным в кучи. Что интересного там увидел Дик – неведомо. Да и не до этого было Горшкову.
– Дик, возьми с собою Юзбекова и, как только этот бородавочный собственник распродаст свой товар, арестуй его, – приказал капитан, – и сюда этого Бородавкина, в комендатуру.
– А кутузка для арестанта найдется, товарищ капитан?
– Я за это время организую роскошную арестантскую. Такой во всей Германии не было. Даже у гестапо. – Горшков не выдержал, хохотнул коротко: неподалеку он нашел пустой винный подвал, который хоть и пропах духом сладкого портвейна, но вполне годился под кутузку. Осталось только заселить подвал клиентами. Похоже, дело за этим долго не задержится.
Через час Лик доставил к капитану растерянного, с трясущимися щеками Цигеля. Следом Юзбеков привел под узцы лошадь фермера, запряженную в просторный справный тарантас, снабженный, чтобы не растрясло, металлическими рессорами.
– Старый знакомый, – иронично сощурил взгляд капитан, увидев фермера, постучал торцом толстого начальнического карандаша о поверхность стола. Карандаш ему подарил столяр – он уже почувствовал вкус власти и кресло бургомистра обживал довольно успешно.
Фермер растерянно распахнул рот, пустил, словно ребенок, пузырь и сомкнул губы. Переводчик Петронис находился здесь же, в комнатке коменданта.
– Пранас, переведи этому деятелю, что мы его задерживаем до выяснения обстоятельств продажи продуктов в городе Бад-Шандау по спекулятивным ценам.
Петронис понимающе кивнул.
Бедняга фермер после такого обвинения задрожал как осиновый лист, у него даже щеки затряслись, зубы тоже затряслись и мелко застучали друг о дружку.
Дик ухватил фермера рукой за воротник, просипел сердито:
– Вперед, милейший!
К ефрейтору присоединился Мустафа: он знал, где находится облюбованный капитаном винный подвал.
– Льошадь, льошадь, пожалуста! – заполошно проревел фермер, на глазах у него появились тусклые мокрые блестки, зубы начали стучать сильнее. – Льошадь…
– Не бойся, «льошадь» твоя жива останется, – благодушно проговорил капитан, прощально махнул рукой. – Вперед!
Когда фермера увели, капитан выглянул в окошко, зацепился глазами за мусорные кучи, вызывавшие у него головную боль – надо бы убрать их, но никто из жителей на уборку не выходит, считает ниже своего достоинства, – покачал головой удрученно: охо-хо! Позвал переводчика:
– Пранас! – И когда тот наклонился на его столом, сказал: – Через полтора часа фермера надо выпустить. Пойдешь, переговоришь с ним и, независимо от того, что он скажет, вытуришь из каталажки.
На сей раз фермер был более гибким, и вообще он оказался человеком довольно понятливым, либо же его просто проняло до костей, глаза примерного труженика сельского хозяйства Германии продолжали мокро поблескивать. Увидев Петрониса, он проворно вскочил со старого скрипучего ящика, который кинул ему Мустафа.
– О-о, я все понял, все понял! – прокричал фермер, молитвенно сомкнув на груди ладони.
– А я не понял, – жестко обрезал его переводчик, – не понял совершенно, зачем вам надо было ссориться с комендантом. Ведь вам капитан заплатил бы такие же деньги, что и те, кто купил продукты у вас в городе.
– Я осознал свою вину. – Фермер отер кулаком глаза.
– Раз осознали – это хорошо. – Петронис был вежлив, на «вы», отстегнул от пояса трофейную фляжку, обтянутую тонкой, защитного цвета тканью. Отвернул колпачок. Несмотря на скромные размеры, колпачок вмещал в себя пятьдесят граммов алкоголя. Петронис налил в колпачок водки, протянул несостоявшемуся арестанту. – Нате, выпейте. Согреетесь.
– Благодарю вас, благодарю, – зашлепал губами фермер, схватил колпачок, легко выплеснул его в себя и зашлепал губами сильнее. – Зер гут! Очень хороший напиток. Гораздо лучше шнапса.
– Русская водка, – сказал Петронис и снова наполнил колпачок. – Посуда – дрек, конечно, трофейная, но зато водка своя, качественная.
Фермер перестал шлепать губами и поцеловал колпачок в тонкий серебряный бочок.
– Ах, какой божественный напиток! – умиленным тоном произнес он. – С вами следует дружить, герр офицер!
Когда фермер плеснул в рот, как в топку, вторую стопку и снова подставил колпачок под фляжку, Петронис хмыкнул весело, налил еще и проговорил недоверчивым тоном:
– Не знал, что у немцев, как и у русских, Бог Троицу любит.
Фермер, сладостно зажмурясь, выпил третью стопку и довольно крякнул.
Петронис, понимая, что так вообще можно остаться без «горючего», отнял у него колпачок и нахлобучил на горлышко фляжки.
– Приказ коменданта Горшкова таков, – произнес он строгим тоном, – каждый фермер должен доставить в город подводу хлеба. Иначе – арест и сидение в подвале.
– Если после подвала будут угощать такой водкой, я готов сидеть сколько угодно, – громоподобно хохотнув, заявил Курт Цигель. Бородавки на его лице налились свекольной краской.
– Водки не будет, – прежним строгим голосом проговорил Петронис, – а хлеб быть должен. Понятно, господин хороший?
– Понятно, – покладисто произнес фермер, после трех стопок водки сделавшийся очень словоохотливым, – чего ж тут не понять? Но водка все-таки нужна. У моих коллег должен быть стимул.
– Стимулом будут деньги, – сказал на это переводчик, потом, помедлив, добавил: – Впрочем, для отдельных выдающихся личностей будет и водка.
– Это хорошо, – благодушно пророкотал фермер, – я завтра же привезу вам две телеги зерна.
Фермер не обманул Петрониса: назавтра, в час дня, у окошек комендатуры остановились две одноколки с высокими бортами, доверху наполненные хлебом. Петронис подарил фермеру бутылку русской водки, ну а Горшков… Горшков рассчитался с ним за зерно гитлеровскими дойчмарками.
Другой валюты в Германии пока не было.
Мародерам и насильникам временный комендант Бад-Шандау пригрозил, сцепив зубы:
– Если кого-то застукаю на месте преступления – расстреляю без суда и следствия.
Но истосковавшимся по женской ласке солдатам было плевать на это предупреждение – они слышали (и видывали) и не такое… На войне случались вещи и пострашнее предупреждения временного коменданта. Немок насиловали регулярно, в том числе и бойцы из родного для Горшкова артиллерийского полка, – только вот жалоб не было ни одной.
Немки то ли боялись жаловаться, то ли также соскучились по общению – ведь от стариков, остававшихся в годы войны в Бад-Шандау, проку было немного. Что мог сделать седой бюргер с иной могучей дамой? Только сыграть на губах что-нибудь из Вагнера или Мендельсона, еще снять с себя штаны и предъявить в качестве оправдания свои вялые причиндалы, и все. Еще со старым немцем можно было обсудить последние новости, пришедшие с фронта.
Когда Горшкову сообщили о том, что изнасилованные немки предпочитают молчать, он махнул рукой:
– Раз молчат – значит, и изнасилования не было, и я ни о чем не знаю. Но ежели натолкнусь… – Капитан красноречиво показал кулак.
Подумал о том, что самое паршивое дело – быть на войне комендантом, лучше пятнадцать раз сходить в разведку, чем один день побыть комендантом такого муторного городка, как Бад-Шандау.
Погода стояла прежняя, не теряла своих «мокрых» позиций – часто сыпали противные холодные дожди, с Эльбы наползали едкие густые туманы, явно давно должно было наступить тепло, но оно не наступало.
В ночь со второго на третье мая погиб лейтенант Кнорре. В туманной вечерней темноте он возвращался к своим саперам – получил в штабе приказ о разминировании моста – предстояли торжественные объятия с американцами на генеральском уровне, – и неожиданно услышал резкий женский вскрик.
Крик повторился, но был придавлен чьей-то крепкой рукой. Лейтенант поспешно кинулся к двери дома, где раздавались крики, рванул ее на себя, распахивая, очутился в небольшом, слабо освещенной коридоре, очень чистом – немцы вообще были очень чистоплотными людьми, Кнорре отмечал это не раз, – рванул одну дверь, оказавшуюся на пути, увидел темную, бедно убранную комнату, в которой никого не было, с силой захлопнул дверь, рванул следующую.
Эта комната оказалась посветлее – на стене висела керосиновая лампа, электричества не было, лампа была старинная, с темным стеклянным корпусом и высоким чистым стеклом. В комнате Кнорре увидел троих.
Все трое были наши. Двое держали немку за ноги и за руки, чтобы не дергалась, один попутно зажимал ей рот, третий насиловал. Делал это азартно, сладостно, со стонами.
– Что вы творите, сволочи? – закричал Кнорре, зашарил правой рукой по поясу, нащупывая кобуру с пистолетом. – Что творите? А ну, прекратить!
Он лапал пальцами пояс, искал кобуру и не мог ее найти. С ним что-то происходило, а что именно, он не мог понять. Ну словно бы ослеп, сделался немощным лейтенант…
– Прекратить немедленно! – выкрикнул он яростно, удивляясь тому, что с ним происходит.
Тот, который дергался, прыгал на несчастной женщине, лейтенанта даже не услышал, а вот дюжий сержант, зажимавший немке рот, услышал и выстрелил в Кнорре прежде, чем тот достал свой пистолет. Выстрел отбил лейтенанта в коридор, на пол он свалился уже мертвым – пуля пробила ему сердце.
Растерявшиеся насильники, пригибаясь низко, будто нашкодившие псы, толкаясь и сопя, выскочили из дома – за убийство офицера им грозил не штрафной батальон – грозил расстрел.
Горшков, услышав о гибели Кнорре, сжал кулаки, на щеках его заходили желваки, глаза блеснули жестко.
– Я найду того, кто застрелил лейтенанта, – пообещал он, разжал кулаки и снова сжал. – Клянусь, найду! – Он замолчал, крепко стиснул зубы: вспомнил, как маленький лейтенант со своими ребятами недавно минировал мост.
А сегодня мост этот уже надо разминировать, Москва салютовала американцам, с которыми надлежит повидаться и обняться, столькими-то там залпами и собирается салютовать еще… Солдаты, находящиеся на Эльбе, не должны отставать от Москвы…
Ночью грузовики взяли семидесятишестимиллиметровые пушки на жесткую сцепку и оттащили от моста на разрушенную окраину Бад-Шандау, в почерневший от огня лесок – там расположились две батареи артиллерийского полка.
На рассвете на рычащем, с оторванной выхлопной трубой «студебеккере» прибыли саперы, возглавляемые нервным старшим лейтенантом-грузином, и принялись за разминирование моста.
На разминирование потребовалось времени больше, чем на минирование, – старший лейтенант, несмотря на нервную дрожь, пробегавшую по его загорелому лицу и карту минного поля, которую он держал в руках, действовал очень осторожно, медленно, с оглядкой, снимал заряды по одному и грузил их в кузов «студебеккера».
На берег Эльбы высыпала целая толпа солдат-зевак, действия саперов, поскольку ночь уже прошла и наступило утро, было светло, громко обсуждались.
– Ты глянь, как он тащит мину! Вспотел парень так, что даже яйца к взрывателю приклеились.
– Ага. Перепутал мину с бабой. Как бы не оторвало достоинство.
– А вон, смотри, второй ковыляет… Будто телятница на сносях, живот в беремя обхватил, не мычит только.
– Как бы он не родил на мосту.
Шутки были благодушными, тон голосов – свойский, война для этих людей кончилась – так считали они, но считает ли так их командование – вот вопрос…
В тылу ведь остался мощный кулак немцев, сколоченный из пятидесяти полнокровных дивизий и шести штурмовых групп – полмиллиона человек. Сдаваться немцы не собирались, сопротивлялись ожесточенно 1-му, 2-му и 4-му Украинским фронтам. Бои шли такие, что делалось тошно и небу и земле. Руководил обреченными гитлеровскими дивизиями генерал-фельдмаршал Шернер.
Дениц настаивал, чтобы Шернер немедленно начал отвод дивизий на запад, разрезал войска русских, будто ножом, смял их, достиг Эльбы и там сдался американцам – те с немцами воевать не будут; Кейтель и Йодль были против этого плана, они считали, что как только группировка Шернера отойдет со своих позиций, так будет тут же разбита русскими, других вариантов нет – исход будет один.
Столкнулись две точки зрения, два взгляда, но оба они не предусматривали капитуляцию, прекращение бойни. Это означало – кровь будет литься еще, и много крови – захлебнуться в ней можно будет. Перемолоть полмиллиона хорошо вооруженных немцев – на это придется положить столько же своих или почти столько. В руках у гитлеровцев продолжала находиться едва ли не вся Чехословакия, в Праге против фрицев поднялся город, целиком восстал, улицы перекрыли траншеи и баррикады, если Прагу сейчас не выручить, она будет уничтожена вместе с людьми. А выручать Прагу придется тем, кто, обойдя Берлин, прорвался на запад и находился сейчас на Эльбе.
Придется идти на Прагу и капитану Горшкову со своими людьми. Впрочем, Горшкова это устраивало – очень уж обрыдли комендантские обязанности, хлебнул он достаточно, на всю оставшуюся жизнь. Горшков жалел, что у него не хватило решимости отвергнуть предложение подполковника, не хватило, наверное, потому, что фрукт был очень уж неведомый – скрипучий стул коменданта, если бы он знал, что это за пряник, то пошел бы к генералу Егорову и отбился.
А пока надо было отыскать того, кто застрелил маленького лейтенанта-сапера. Память о нем требовала того.
Для начала надо было понять, какие части стоят в Бад-Шандау. Крупных частей было две – два полка, артиллерийский и стрелковый, все остальное – по мелочи: передвижная мастерская по ремонту танков, неведомо как тут очутившаяся, рота связи фронтового подчинения и небольшая группа разведки, прибывшая из штаба армии – вот и все бойцы.
Рота связи отпадала сразу – это была женская рота, командовала девушками пожилая женщина в звании старшего лейтенанта, группа армейской разведки также отпадала, ее Горшков знал, да и в тот момент, когда погиб лейтенант Кнорре, она ходила на тот берег Эльбе.
Оставались два полка и танковая мастерская. Оказалось, что мастерская эта состояла сплошь из стариков, очень умелых, которые могли приклепать палец к носу так прочно, что хрен оторвешь, а главное – боли не почувствуешь. Руководил мастерской подслеповатый инженер-капитан, в несколько раз лучше разбирающийся в многомудрых механизмах, чем в человеческих отношениях. Он встретил Горшкова, будто большого начальника, стоя, через десять минут выстроил во фрунт своих подопечных – седых и лысых, очень усталых людей, которые были рады передышке, которую получили в Бад-Шандау.
– Вот, – сказал начальник мастерской и обвел шеренгу заскорузлой рукой, в которую, кажется, навсегда въелось машинное масло, – все мои люди налицо. – Добавил с некоей нежностью в голосе: – Очень даже хорошие люди. Опытные ремонтники.
В строю стояло восемнадцать человек, кое-как одетых, кое-как подпоясанных, держать строй неспособных, но очень ценных, ценность их Горшков представлял очень хорошо, каждый из этих стариков стоил целого взвода танков.
– Вольно, – сказал им Горшков, притиснул ладонь к пилотке, – извините, что побеспокоил вас.
– Ничего-ничего, – понимающе смежил глаза под толстыми стеклами очков инженер-капитан, махнул рукой. – В жизни всякое бывает. Удачи вам!
– И вам, – Горшков снова притиснул ладонь к пилотке, – и главное – здоровья.
– Здоровье никому из нас не помешает. – Инженер-капитан улыбнулся застенчиво, в скошенном раздвиге губ показались серебристые коронки зубов, он поклонился Горшкову. – И удачи вам в ваших делах…
Капитан, сопровождаемый Мустафой, ушел. Оставались два полка – артиллерийский и стрелковый, у пушкарей народу поменьше, у пехотинцев побольше. Как же всех пропустить через комендантское чистилище, через фильтры Горшкова, как обнаружить человека, который стрелял в маленького лейтенанта?
– Насчет нашего полка я уверен, товарищ капитан, – безапелляционно заявил Мустафа, почесав затылок, – наши не могли этого сделать.
– Я тоже уверен в этом, – кивнул ему в ответ Горшков, – но уверенность – это еще не доказательство. Нужны доказательства, Мустафа.
– И все равно, товарищ капитан, это сделала пехтура. Ну хоть убейте меня – они это.
– Нужны доказательства, доказательства и еще раз доказательства. Где они, Мустафа? – Горшков помял пальцами воздух, жест был демонстративным, он словно бы считал деньги. Лицо у капитана напряглось, на скулах плотно натянулась кожа.
– Ладно, попробую пошукать у пехотинцев – вдруг найду какие-нибудь зацепки?
– А у артиллеристов пошукать не хочешь?
– У артиллеристов позже, товарищ капитан… Во вторую очередь.
Мустафа оказался прав. В разведке стрелкового полка у него отыскался земляк – очень близкий земеля, в одном районе родились, одним воздухом дышали, – земляк, помявшись немного, сказал, что он слышал об одном походе солдат из хозвзвода к немкам, в котором дело закончилось стрельбой, но тот ли это поход или какой-то другой, он не знает…
– Ты назови мне хотя бы одну фамилию этих кривозадых из хозвзвода, а дальше я сам разбираться буду, – сказал Мустафа земляку, – я сам и мой командир. Понимаешь, дело уж больно нехорошее. Если приедут товарищи из Смерша, ты представляешь, что они тут наколбасят? Камня на камне не оставят.
– Представлять не представляю, но наколбасят они точно много, – согласился с Мустафой земляк. – Ладно. Дай мне денек, я попробую кое-что разузнать.
– Денек? – Мустафа поднял брови домиком, вид у него сделался таким, будто он слушал сейчас самого себя, пытался понять, что происходит у него внутри. – Денек даю, – произнес он разрешающе, – но не более.
Назавтра Мустафа снова появился в стрелковом полку.
– Выкладывай, что разузнал? – потребовал он у земляка.
– За стопроцентную точность ручаться не могу, но на пятьдесят процентов уверен – это они.
– Кто они?
– Есть у нас одна тройка… – земляк усмехнулся недобро, – нападающих. За главного у них сержант Крылов. Видишь, какая знатная у него фамилия? Как у великого баснописца. Но в отличие от баснописца оторва он распоследняя и компанию себе подобрал такую же – из оторв и, извиняй, подонков. Пробы на них ставить негде. В ту ночь, когда грохнули сапера, они примчались в хозвзвод заведенные, бледные и из горлышка выдули по бутылке шнапса. Без закуски.
– Не верю, чтобы в хозвзводе не нашлось закуски.
– Верь не верь, но это было так.
– Значит, фамилия у него, говоришь, знатная? Как у баснописца?
– Да. Крылов.
– Главное – не ошибиться, – Мустафа еще с давних, зэковских времен был знаком с неким воровским кодексом чести, одним из принципов которого был именно этот – не ошибаться. – Крылов, значитца, его фамилия?
– Крылов, – вновь подтвердил земляк.
– Ладно, зарисовал я эту фамилию. – Мустафа поправил висящий за спиной автомат, прощально хлопнул земляка по плечу и неожиданно спросил: – Кумыс давно в последний раз пил?
– У-у-у. – Земляк взвыл, будто паровоз, на который пикировал фашистский самолет. – Очень давно. Дома это было, еще до фронта.
Мустафа вздохнул.
– А я последний раз пил кумыс аж в тридцать восьмом году. – Губы у него сморщились горестно, глаза сделались узкими и влажными, было понятно, о чем он думает – о местах, в которых родился и жил когда-то… Остались они в прошлом, в некоем тумане времени, где ничего не видно – ни людей, ни лиц. Только сердце бьется оглашенно, очень часто и громко, норовит выскочить наружу. Интересно, как там, на родине, живут люди? И живут ли?
Горшков раскрутил «баснописца» – на руках у капитана имелась гильза от «ТТ», из которого стреляли. Эту темную латунную «мензурку» ему передала семья изнасилованной немки, – гильза эта побывала в стволе «ТТ», висевшего на поясе у сержанта Крылова… Это первое.
И второе – из тела лейтенанта Кнорре была извлечена пуля. А всякая пуля – это фамильный росчерк оружия, из которого она была выпущена. Из пистолета сержанта сделали несколько контрольных выстрелов, собрали пули и сравнили их с тупой долькой, изъятой из тела сапера, результат был тот, который ожидал Горшков, – те же самые следы, те же царапины. Значит, стрелял в лейтенанта «баснописец».
– Ну что, будешь признаваться или станешь кочевряжиться? – спросил Горшков у «баснописца», ответа дожидаться не стал, добавил: – Если признаешься чистосердечно, то, возможно, сохранишь себе жизнь, не признаешься – получишь такую же дуреху себе с затылок, – показал сержанту свинцовую пулю, запечатанную в медную рубашечку. – Выбирай!
– Признаюсь, – глухо проговорил «баснописец».
– Вот и хорошо, – проговорил капитан, сунул руки себе за спину – очень захотелось расстрелять мерзавца тут же, сейчас же, немедленно, – сцепил пальцы в кулак – и некоторое время так и держал их за спиной сцепленными, затем выкрикнул громко: – Мустафа!
Мустафа с автоматом стоял за дверью, признание «баснописца» слышал, всунул голову в дверной проем.
– Уведи задержанного, – приказал ему капитан.
Подойдя к «баснописцу», Мустафа ухватил его под мышки, приподнял обмякшее тяжелое тело, отрывая от стула:
– Пошли, родимый!
«Баснописец» поднялся, покорно сунул руки за спину. Плечи у него обвисли, сделались дряблыми – от былой стати ничего не осталось, – губы задрожали плаксиво…
Горшков сделал выразительный гребок ладонью, показывая Мустафе: уводи, мол, быстрее, и без того воздух тут тяжелый, – ординарец в ответ понимающе кивнул, ткнул «баснописца» стволом автомата между лопаток:
– Шнель!
Нагнув голову, арестованный поспешно шагнул к двери: ему хотелось как можно быстрее исчезнуть отсюда. Теперь с «баснописцем» будет разбираться Смерш, и сочинитель там все расскажет – и как немку насиловали, и как стрелял в сапера, и кто были его подельники… Горшков постарался его выплеснуть из головы, забыть, поскольку у него и без того дел было выше крыши, и главное из них – разведка.
С американцами встретились на разминированном мосту – «америкосы» вышли на него принаряженные, в желтых кожаных ботинках, с сиреневыми цветочками, засунутыми за отвороты пилоток, и двумя ящиками виски.
Наши в грязь лицом тоже не ударили – появились при орденах, в начищенных сапогах, во главе с генералом Егоровым.
Следом за генерал-майором четверо горшковских разведчиков несли два ящика «белоголовой» – московский водки, держа тару с драгоценными бутылками с двух сторон, как носилки. Было это неловко, но все равно лучше, чем нести ящик одному человеку.
С американской стороны вперед выдвинулся зубастый лупоглазый полковник в новенькой, еще необмятой форме, надетой, видать, специально по случаю торжественной встречи с русскими, грудь полковника была украшена широким рядом цветастых орденских колодок. Егоров по сравнению с американским полковником выглядел обычным усталым дедом.
А с другой стороны, повоевал бы полковник столько, сколько воевал этот «дед», сколько не спал ночей, сколько маялся, отступая от врага и наступая на него, сколько съел лекарств, страдая от язвы желудка и приступов сердечной слабости, – то вряд ли бы выглядел так браво и зубасто, – согнулся бы, делаясь похожим на обычный лошадиный хомут.
Полковник выкрикнул что-то гортанно и, лихо раскинув руки в стороны, будто крылья, кинулся к Егорову, тот растопырил руки ответно, крякнул сдавленно, кoгда американец стиснул его в объятиях.
– ЮэСэй энд СэСэСэРэ – дрюжба! – оглушил полковник генерала лозунгом, который он специально заучил на русском языке.
Генерал глянул на Горшкова, неотступно следовавшего за ним – так было велено, – и скомандовал тихо:
– Наливай!
Горшков обернулся к Мустафе, и у того, как у фокусника, неожиданно оказались в руках сразу штук восемь граненых стаканов, насаженных один на другой, сержант Коняхин торопливо выдернул из ящика одну бутылку и рукояткой нарядного немецкого кинжала, снятого им с убитого эсэсовца, обколол сургуч со стеклянной головки. Пробку выколотил из бутылки ударом кулака.
Налил два полных стакана водки, генерал в ответ грозно глянул на него: чего ж ты делаешь, сукин сын, зачем своих спаиваешь? Спаивай лучше американцев. Коняхин смущенно покашлял в кулак.
– Извините, товарищ генерал! Учтем на будущее.
Американец влил в себя стакан водки, будто воду, даже не поперхнулся. Генерал одобрительно покосился на него и поднес к губам свой стакан. Медленно, маленькими глотками, не отрываясь, выпил.
Столпившиеся на мосту американцы дружно зааплодировали. К ним присоединились и наши. Хлопали довольные, будто в театре на хорошем спектакле. Полковник вновь потянулся к генералу Егорову, будто малое дитя к своей матке, обнял его, облобызал и прокричал заученно:
– ЮэСэй энд СэСэСэРэ – дрюжба!
– Правильно, – качнул тяжелой головой генерал, обернулся к своей свите: – А ну, ребята, наливай! Угощайте щедрее американцев!
Шум поднялся великий, такого маленький городок Бад-Шандау не слышал, наверное, со времен крестоносцев.
– Мустафа! – позвал Горшков ординарца, видя, что к нему присматривается здоровенный негр с улыбкой во всю свою многозубую белую пасть, – очень симпатичный был негр, в чине, кажется, офицерском. – А, Мустафа!
Наконец Мустафа вывинтился из толчеи людей, встал перед командиром.
– Там что-нибудь от моего пайка осталось? – спросил Горшков.
Мустафа отрицательно качнул головой:
– По-моему, нет. Ребята все срубали.
– Заначка какая-нибудь у нас имеется?
– Найдем, товарищ капитан. – Мустафа скромно кашлянул в кулак.
Свой офицерский паек Горшков никогда не съедал в одиночку – всегда делил его с бойцами: ведь в разведку-то он ходит с ними, им бывает также тяжело, как и ему, значит, и плавленые сырки со сгущенкой и печеньем, которые он получает в продпайке, надо бросать на общую скатерть, он отдавал продукты Мустафе либо Коняхину и говорил просто:
– Это на всех.
Коняхин с добродушной миной, прочно припечатанной к его лицу, сгребал продуктовые дары в кучу и обычно произносил:
– Благодарствую от имени всех ребят, товарищ капитан.
– Благодарствуй, благодарствуй, – машинально откликался на это капитан и, погруженный в свои мысли и заботы (в последнее время от разведки начали требовать слишком много бумаг, раньше такого не было), махал рукой: иди, мол…
О том, как расходуется его паек, кто лакомится печеньем фабрики «Рот Фронт», а кто нет, он узнавал от Мустафы – ординарец внимательно следил за тем, чтобы никто не был обижен, и бывал, ежели что, строг. Хотя капитану никогда не жаловался, если было надо кого-то наказать, обходился своими силами.
Мустафа словно бы законсервировался, он не изменился совершенно, все такой же, как и три года назад, когда Горшков забрал его из свежего пополнения и усадил на грузовик, – был по-прежнему широкоплеч и низок ростом, не вырос ни на сантиметр, светлые рысьи глаза его по-прежнему были пронзительны, все видели, он, как и прежде, был ловок и подвижен, рассказывать любил не о фронтовых своих проделках, а о погранцовской службе на Дальнем Востоке, о том, как гонялся по уссурийским дебрям за нарушителями, достать мог, как и раньше, что угодно…
И где он достает, скажем, мясо, когда у начпрода полка нет ни одного мясного кусочка, а мед в местности, где нет не то, чтобы пчел а даже мух, не знает никто. Но Мустафа делал это.
Он мог добывать огонь из ладоней, потерев их одна о другую, поймать рыбу на голый палец, из двух веток и пучка травы, сорванной под ногами, сварить вкусный суп… Мустафа – это был Мустафа.
– Вперед, Мустафа, – сказал ему капитан, – волоки сюда закуску. Русскую… Чтоб американцам тошно сделалось.
Мустафа притиснул руку к пилотке и исчез.
Разведчики ходили сейчас в пилотках – очень удобный головной убор пилотка, американцы вон тоже ходят в пилотках, даже их главный – полковник. И генералы у них, говорят, тоже не брезгуют пилотками.
– Еще водки, – послышался голос генерала Егорова. В следующее мгновение генерал лихо, как актер на сцене, щелкнул пальцами. Призывный жест.
Коняхин начал быстро и ловко обкалывать сургуч на горлышках водочных бутылок, наполнил первый подставленный ему стакан, потом второй, следом третий: граненые стаканы понравились американцам, в их стране такой посуды не было.
Бутылка опустела стремительно, Коняхин пустил в ход следующую, потом взял еще одну, стукнул рукояткой кинжала по запечатанной пробке. Мелкие сургучные сколы полетели в разные стороны.
Два ящика водки были опорожнены в десять минут, скорость поглощения была необыкновенно высокой, Егоров был вынужден крикнуть, не прекращая общения с американцами:
– Бойцы, где подмога?
Подмога не замедлила появиться – разведчики Горшкова притащили еще два ящика водки, Коняхин снова принялся стучать кинжалом по горлышкам, следом за водочной подмогой прибыл Мустафа с внушительным свертком, сказал капитану:
– Вот!
Круглое лицо его светилось довольно.
– Что это? – тихо спросил Горшков.
– Первоклассное украинское сало. С худобинкой. И с чесночком, товарищ капитан.
– Ты же мусульманин, Мустафа.
– Ну и что? Сало мне, конечно, не положено есть, но это вовсе не означает, что я буду брезговать им всю оставшуюся жизнь. – Жесткие обветреннее губы Мустафы раздвинулись в улыбке.
– В таком разе, Мустафа, пластай сало – удивим союзников.
– Думаю, что не удивим, товарищ капитан.
– Почему так считаешь?
– Они там, в Америке своей, едывали все – и чертей жареных, и суп из одуванчиков, и тюрю с коньяком. Нет, товарищ капитан, таких людей удивить трудно.
Американцы тем временем потчевали русских своим напитком – золотистым виски, ловко стряхивая с бутылок железные пробки, наливали в стаканы, следом кидали пару квадратных кусочков льда – чтобы пилось приятнее.
Русские удивлялись:
– Надо же!
Угощали американцы и своей закуской – бутербродами с беконом, принесли несколько подносов.
Ефрейтор Дик взял один бутерброд, подцепил пальцами ломтик бекона и, посмотрев на свет, произнес удивленно:
– Надо же, облака видны!
Коняхин, потянувшись за очередной бутылкой, хлопнул Дика ладонью по животу:
– Ешь, пока живот свеж.
– М-да, – согласился с ним Дик, – раз дают, то бери, если бьют – беги.
– Наше сало с худобинкой лучше американского. – Мустафа успел напластать ножом уже целую гору закуски, разложил ее на пустом снарядном ящике, принесенном с берега, крупно нарезал хлеб, доставленный из штаба полка и широко раскинул руки: – Союзнички, налетай!
Облака, висевшие с утра над Эльбой, поредели, попрозрачнели и разошлись в разные стороны, сквозь туманную кисею проклюнулось солнце, ненадолго проклюнулось – через несколько минут накрылось дымным сизым взболтком, на мост наползла недобрая тень, вместе с нею – что-то холодное, способное принести боль, но люди, толпящиеся на мосту, внимания на это не обратили совсем, они радовались: война кончается… Кончилась война.
Акт о капитуляции еще не подписан, но это уже не играет никакой роли, – не суть важно это, – дело сделано, победа находится в кармане.
К Мустафе пристал нарядный американец, у которого на голове вместо пилотки косо сидела цветастая полосатая шапочка с помпоном на макушке, шапочка была сшита из трикотажа и растягивалась, словно резиновая. «Клоун», – невольно подумал Мустафа, на всякий случай улыбнулся пошире – нельзя, чтобы его обвинили в нерадушии к союзникам. Клоун протянул ему руку и назвался:
– Джон!
Мустафа понял, что тот назвал свое имя, протянул руку ответно:
– Мустафа!
Американец снял с пояса широкий нож, украшенный птичьей головой, протянул его Мустафе.
– Ченч! – ткнул пальцем в старую финку с наборной ручкой, которую Мустафа наполовину засунул за голенище сапога. – О'кей? Ченч!
– Ченч? Да, это мой старый нож, называется ченч. – Мустафа нагнулся и звонко хлопнул себя по голенищу, потом, поняв, что говорит не то, крикнул Петронису, находившемуся рядом с генералом: – Товарищ младший лейтенант, что по-американски означает «ченч»? Ножик, да?
– Не знаю, как по-американски, но по-английски «ченч» – обмен.
– А-а-а, – наконец сообразил Мустафа, – американец предлагает мне махнуться: за мою старую финку дает мне свой заводской кинжал.
– Меняйся не глядя, – Петронис засмеялся, – ты в выигрыше.
– Да не интересует меня никакой выигрыш, – отмахнулся Мустафа, – мне надо, чтоб все честно было. Моя финка двадцать копеек стоит, а его кинжал – сто рублей. Разница большая.
– Не в деньгах дело, Мустафа. Меняйся! Не обижай союзников.
– Й-йэх! – Мустафа лихо рубанул рукою воздух. – Была не была! Только не считай, американец, что я тебя обманул.
Неподалеку заиграл аккордеон, серебристая мелодия, поплывшая по пространству, была хороша, навевала грусть, мысли о доме, – очень захотелось тем, кто находился на мосту, поехать домой, к родным, в милые сердцу места, – судя по тому, что война подошла к концу, не за горами находится счастливый день, когда прозвучит приказ отправляться в родные пенаты.
До-ом, что для всех нас он значит? Да, собственно, все. Краем глаза Горшков заметил, как рослую красивую машинистку из штаба полка, за которой пытались ухлестывать многие офицеры, но вся было бесполезно, подхватил статный белозубый негр и закружил в танце.
Сизая наволочь сползла с солнца, раздвинула своей тяжестью облака, обнажился кусок чистого яркого неба, стало видно, что в образовавшейся прорехе кружится крупная птица, высматривает что-то, дивится веселью, развернувшемуся на мосту. Там, где гремит стрельба, никогда не бывает птиц, но стоит только стрельбе затихнуть, как птицы тут как тут – они не намерены изменять человеку.
Но они же и боятся человека.
Окруженные хороводом людей, оглушенные шумом, криками, праздничной необычностью обстановки, аккордеоном, генерал Егоров и Горшков оказались на одном пятачке прижатыми друг к другу, оба с пустыми стаканами – опустошили их в очередной раз, и все, больше никто не налил. Горшков даже подивился: неужели такое бывает с генералами.
– Ну как, сынок, обстановка в комендатуре? – неожиданно поинтересовался Егоров. Вид у него был усталый, невыспавшийся, тяжелые веки набухли нездоровой краснотой. Горшков невольно покачал головой: неужели генерал знает и про комендатуру?
– Не мое это дело, – произнес он огорченно, – за языком сходить – мое дело, с корректировщиком огня засесть на какой-нибудь высоте – мое дело, в бой ввязаться, чтобы выручить своих, – мое дело, а вот комендантская лямка – не мое, товарищ генерал. Освободили бы вы меня от нее, а?
– Потерпи, потерпи, сынок, – мягко пророкотал генерал, – погоди еще немного, скоро мы тебя заменим. Надо найти для Бад-Шандау настоящего коменданта, а на это нужно время, сынок… Потерпи пока, ладно?
– Есть потерпеть, товарищ генерал! – Горшков притиснул ладонь к пилотке. Вытянул шею: что-то не видно ординарца. Выкрикнул зычно: – Мустафа!
Мустафа будто по мановению волшебной палочки возник перед ним. Капитан показал ему пустой стакан.
– Не стыдно тебе, Мустафа? Добудь-ка нам виски.
Поспешно кивнув, Мустафа исчез – все-таки он умел исчезать, как дух бестелесный, за превращениями его в невидимку и обратно проследить было невозможно.
Через несколько мгновений Мустафа возник снова. В руке он держал квадратную темную бутылку с яркой этикеткой. Это было виски – любимый напиток американских пехотинцев, как показалось Горшкову. Впрочем, водку они тоже пили охотно, не отказывались…
– Товарищ генерал, дозвольте. – Мустафа сунулся с бутылкой к Егорову, налил полстакана золотистой, пахнущей свежим хлебом жидкости, поймал начальственный кивок и вежливо проговорил: – Пожалуйста, товарищ генерал-майор! – Передвинулся к Горшкову: – Ваш стакан, товарищ капитан!
Горшков подставил под заморскую бутылку свою посудину, ординарец налил немного – капитан отмерил ногтем, сколько у него должно быть виски, Мустафа неверяще приподнял одну бровь: мало, мол, товарищ командир, не похоже это на вас, но Горшков был тверд: ему сегодня еще канителиться в комендатуре, принимать посетителей – не хотелось выставляться перед немцами этаким красноносым алкоголиком, – чокнулся с Егоровым: тот сам потянулся к нему со стаканом.
– За нашу победу, товарищ генерал!
В ответ Егоров улыбнулся печально: что-то происходило у него в душе, а что именно – не понять, внутрь-то ведь не заглянешь.
Веселье на мосту через бурную темную реку продолжалось. В холодной воде Эльбы возникали воронки, втягивали в себя разный мусор, пропадали, держась стремнины – течение съедало их, под мостом проносились разные плавучие предметы – промахнул выдернутый из земли телефонный столб, следом неожиданно неторопливо – его сдерживали порывы ветра, – проследовал дырявый пустой шкаф, вот проплыл труп – затылком вверх, лицом вниз, с опущенными руками, словно мертвый человек этот хотел зацепиться за что-то на дне и остановиться, труп был немецкий, затылок украшала рваная рана.
– А что, сынок, трудностей в комендатуре все-таки много? – неожиданно поинтересовался Егоров.
– Есть трудности, товарищ генерал, – не стал скрывать Горшков, – даже не ожидал, что такие могут быть. – Ну, например, жители Бад-Шандау оказались ленивым народом…
– Немцы – и ленивые? Быть того не может!
– Еще как может. Сколько ни просил приступить к разборке завалов, к расчистке улиц – никто даже пальцем не пошевелил. Ноль внимания.
– Но так расчищают же улицы, капитан!
– Расчищают. Только после письменного приказа, – под нажимом. Вывесил приказ – пошли, а так в кармане держали фигу. Не реагировали просто никак.
– Почаще вывешивай приказы, сынок.
– Я так и поступаю. Бургомистр решил организовать танцы под духовой оркестр. Немцы отвыкли от музыки и танцев – Гитлер после Сталинграда запретил им и то и другое. Вывесил объявление: дорогие граждане Бад-Шандау, приходите в городской парк на танцы. Ни один человек не пришел. Тогда мне пришлось издать приказ.
– И что?
– Побежали на танцульки, как миленькие. Даже семидесятилетние старушки. Поляну, отведенную под танцплощадку, забили так плотно, что люди там не поместились.
– Это хорошо. – Егоров засмеялся.
– Но есть проблема, которую я не смогу решить без вашей помощи, товарищ генерал.
– Что за проблема?
– Фрицы, отступая, бросили свой госпиталь…
– Это я знаю. Пять тысяч раненых.
– Куда их девать?
– Тех, кто может передвигаться, я бы отправил домой.
– А тех, кто не может? – Горшков поморщился, словно сам был раненым, помял в руках стакан, будто хотел его раздавить.
– Этих придется долечивать.
– Где же я возьму столько лекарств, товарищ генерал-майор? – Капитан даже голову втянул в плечи. – Это же понадобится столько аспирина, анальгина, стрептоцида, прочих снадобий и бинтов – никакая дивизионная медслужба не потянет.
– Киньте клич по городу…
– Вряд ли в Бад-Шандау найдется столько лекарств.
– Дерзай, сынок, – обязательно все получится, – Егоров поправил на плече начальника разведки погон, жест был отцовским. – А я со своей стороны разведаю, чем нам сумеет помочь медицинское управление армии. Как-нибудь выкрутимся.
– Конечно, жаль, товарищ генерал, тратить свои лекарства на врага, но…
– Вот именно – «но», – качнул Егоров тяжелой головой, – мы же победители, нам и тащить этот хомут.
– Верные слова, товарищ генерал. – Горшков не выдержал, вздохнул. – Сегодня же поеду в госпиталь, посмотрю еще раз, что там есть у фрицев, а чего нет.
– Поезжай, сынок.
В комендатуре Горшкова ожидала молодая грудастая немка. Глаза задорные, щеки румяные – кровь с молоком, рот припух, будто от затяжных поцелуев. Во взгляде – затаенный зов, что-то сладкое, способное вскружить голову всякому мужчине, даже сделанному из железа. Мустафа, увидев незваную посетительницу, зацокал языком, словно восторженная птица, которую угостили горстью пшена.
– Что случилось? – по-русски спросил капитан у аппетитной немки.
Та залопотала бодро, быстро – не разобрать, что говорит, – завзмахивала руками, из глаз начал брызгать голубой огонь. Горшков поднял руку, останавливая немку, попросил Петрониса:
– Пранас, переведи! Ничего не могу понять… Что она высыпала на меня?
Петронис усадил немку на стул, произнес что-то резко, и та мигом умолкла, задышала возбужденно, грудь у нее сделалась похожей на тумбочку – можно вазу ставить, – заговорила спокойно, с деловыми нотками в голосе.
Петронис, слушая ее, кивал неторопливо, потом поднял руку:
– Стоп!
Немка умолкла, захлопала своими искристыми глазищами – хороша была дамочка. Капитан вопросительно глянул на переводчика:
– Ну?
Петронис, словно бы сомневаясь в чем-то, приподнял одно плечо – может, он услышал что-то не то? – затем вздохнул и пробормотал:
– Даже не знаю, как сказать, товарищ капитан…
– Как есть, так и говори.
– Согласно вашему приказу она несколько раз выходила на расчистку улиц. В результате от этой работы у нее пропало молоко.
– У нее что, на руках грудной ребенок?
– Да.
– Тьфу! Могла бы вообще не выходить на расчистку.
– Могла бы, товарищ капитан, да побоялась ослушаться приказа.
– Ох уж эти немцы! – Горшков поднялся с расшатанного скрипучего стула – сделал это аккуратно, опасаясь завалиться, приоткрыл дверь в коридор: – Мустафа, где ты?
Мустафа не замедлил нарисоваться, лихо хряснул кирзачами друг о дружку. Хорошо, что каблуки не отвалились.
– Тут я, – глядя на немку, сладкоголосо пропел ординарец.
– Мустафа, у нас в кассе что-нибудь имеется?
Ординарец сложил домиком бесцветные короткие бровки.
– Кой-что имеется, товарищ капитан, – добавил на всякий случай: – Самая малость.
– Придется эту самую малость раскассировать, Мустафа.
Ординарец вновь бросил заинтересованный взгляд на немку, вторично стукнул сбитыми каблуками сапог.
– Всегда готов, товарищ капитан!
– Выдели немного денег на ребенка гражданке – это раз и два – сгоняй с ней к бургомистру, передай мою просьбу: пусть каждый день выделяет этой даме по литру молока. – Горшков сделал пальцем указующий жест. – Пранас, переведи, чтобы мадам все было понятно.
Петронис перевел. Немка расцвела, сделалась пунцовой, из глаз брызнули радостные искры, она присела в книксене.
– Данке шен, герр комендант!
Петронис открыл было рот, но Горшков осадил его рукой:
– Не надо, Пранас, это понятно без всякого перевода.
Переводчик хрипловато, как-то кашляюще рассмеялся, немка не отстала от него – смех ее был легким, звучным, как у феи, капитан не выдержал, поднес ко рту кулак и тоже рассмеялся, хотя, как он полагал, комендантам, находящимся при исполнении служебных обязанностей, смеяться не положено.
Хоть и заартачился бургомистр, не желая ежедневно выделять по литру молока из скудных фермерских поставок, а капитан все-таки дожал его, заставил это делать.
– М-м-м, – стонал бургомистр. – У нее брат погиб на Восточном фронте, офицером был, между прочим, обер-лейтенантом, отец находится у вас в плену, в Сибири, муж, сгородивший ребенка, пребывает невесть где, может быть, сейчас сидит в Берлине, защищает бункер Гитлера, а я ее должен кормить молоком… Неразумно это, господин комендант.
– Эсэсовцы в ее семье были?
– Эсэсовцы? – Бургомистр замялся. – Нет, эсэсовцев не было.
– А раз не было, то, значит, нет политических причин, чтобы отказать ей в молоке.
Бургомистр повозил губами из стороны в сторону и безнадежно махнул рукой:
– Неправильно все это… Но вас не переспоришь, господин комендант.
Через два дня немка вновь появилась в комендатуре, принесла с собой расписной эмалированный тазик, наполненный чем-то доверху и накрытый большой льняной салфеткой, обметанной по краям шелковыми розовыми кружевами – типично дамское рукоделие, – протянула тазик Горшкову:
– Это вам!
В ответ капитан вежливо наклонил голову, принял тазик и сдернул с него салфетку, легкомысленно украшенную кружевами. Тазик оказался доверху наполнен пирожками.
– Испекла из муки, которую берегла с сорок третьего года, – сообщила немка.
Горшков восторженно покрутил носом:
– М-м-м! Не ожидал, что в Германии могут печь пирожки.
– Не умеют, герр комендант, не умеют. Это я вычитала в поваренной книге, в разделе русской кухни. Там подробно описано, как печь пирожки.
– Благодарю вас, фрау…
– Фрау Хельга.
– Благодарю вас, фрау Хельга. – Горшков взял один пирожок, откусил немного. – М-м-м, с повидлом. Очень вкусно!
– Извините, герр комендант, другой начинки не было.
– И не нужно, фрау Хельга. Я больше всего люблю пирожки с повидлом. Это с детства…
– Я прочитала в книге: в России много рецептов – пирожки с мясом, с печенкой, с ягодами, с картофелем, с луком, с капустой…
– Но лучше всех сладкие пирожки с повидлом. – Горшков даже зажмурился: так остро пахнуло на него детством, что захотелось нырнуть в свое прошлое, в счастливую школьную пору и раствориться там.
Вечером Горшкова вызвали к начальнику штаба.
Полный молодой подполковник, фамилию которого никак не могла удержать цепкая память Горшкова, – мудреная была фамилия, – сидел в своем кабинете в новеньком скрипучем кресле (успел расшатать своим крепким телом) и пил соду. И вчера, и позавчера, и сегодня он крепко переел и перебрал горячительного на встречах с американцами и теперь здорово страдал.
Увидев Горшкова, подполковник поморщился нехорошо и поднял трубку полевого телефона.
– Дайте мне первого, – попросил он дежурную связистку, чей острый тоненький голосок был слышен даже Горшкову, стоявшему в отдалении, у порога, а когда первый отозвался, подполковник попросил: – Товарищ генерал, дозвольте зайти.
Получив добро, подполковник молча, по-птичьи покивал и нахлобучил на голову фуражку. Фуражка была ему мала, сидела на голове косо, как поварской чепец, при ходьбе сваливалась то на одно ухо, то на другое. Подполковник встал со стула и выразительно щелкнул пальцами, подавая команду: пошли!
Командир дивизии Егоров, сгорбившись, навис над столом и задумчиво подперев голову обеими руками, рассматривал карту. Перед ним стоял чай в изящной трофейной посудине, втиснутой в подстаканник, генерал про чай забыл, и он остыл. На стук двери поднял голову, в следующее мгновение улыбнулся скупо.
– Твоя взяла, капитан, – неожиданно произнес он. – Придется тебе сдать свои комендантские полномочия. И – как можно скорее. Сделать это надо сегодняшней ночью.
– Готов сделать это в любую минуту.
– Ну, минуты тебе не хватит. Насколько я понимаю, ты уже успел обзавестись кое-каким хозяйством.
– Успел, товарищ генерал. Час назад мне передали, что американцы пропустили к нам целый батальон проституток.
– Да, мне об этом тоже доложили. – Егоров с досадою поморщился. – И откуда только они взяли их?
– Обслуживали власовскую армию. Дамочки наши же, русские.
– И это я знаю. – Егоров поморщился снова, помял пальцами виски – история с проститутками ему не нравилась.
Несколько таких дамочек уже попробовали приклеиться к нашим солдатам, обслужить их бесплатно, но надо отдать должное солдатикам, они не клюнули на дармовые сладости, сказали, что предпочитают ухлестывать за немками.
– Но это еще не все, товарищ генерал. Есть данные, что американцы собираются пропустить на нашу сторону и самих власовцев.
– Час от часу не легче. – Егоров, усмехнувшись, поскреб пальцем затылок. – Ладно, пусть пропускают! Встретим достойно. Вам, подполковник, что-нибудь про власовцев известно? – Он перевел взгляд на начальника штаба.
– Пока эти данные еще не подтверждены.
– Вызвал я вас не за этим. – Егоров подхватил пальцами карандаш и стукнул им по карте. – Бад-Шандау наша дивизия оставляет и в полном составе перемещается вот сюда. – Егоров обвел торцом карандаша географическое пятно, похожее на разломленную лепешку, – это был крупный город. Горшков скосил глаза, прочитал напечатанную черными четкими буквами надпись «Прага». – Здесь сидит мощная группировка, которой командует Шернер. Сдаваться группировка не хочет, поэтому утром идем туда. Дорога тяжелая. Смотрите сюда, капитан. – Егоров провел торцом карандаша по пятнистой гряде. – Это Рудные горы, их надо пройти и артиллерии, и танкам. – Генерал поднял глаза, вгляделся в Горшкова. – Впереди пойдет разведка. Вы, капитан…
– Понял, товарищ генерал-майор.
– Пойдете на «доджах», – Егоров наклонил голову, будто утверждая это свое решение. – «Додж» – машина сильная, поэтому потащите с собой пушки – мало ли что… Для оперативности возьмете пару «виллисов» – вдруг понадобится провесить дорогу или отклониться куда-нибудь вбок.
– Вбок – это хорошо, товарищ генерал. – Горшков не выдержал, засмеялся. – Движение вбок – самое милое дело для разведки.
– Отправление – в шесть утра, когда рассветет, сынок, так что поспешай, дорогой. Под твоей командой будет десять «доджей», пушки и рота «тридцатьчетверок». Командир танковой роты – капитан Пищенко. Все понятно, сынок?
– Так точно.
– Карту и маршрут движения получишь перед отправлением.
– Кому сдать дела в комендатуре?
– А вот, – Егоров повел подбородком в сторону подполковника, – ему вот и сдай.
Рассвет над городком Бад-Шандау занимался тревожный, холодный, с низкими громоздкими тучами, едва ползущими над землей. Тучи были переполнены водой, хотя дождя не было.
Серый угрюмый горизонт пробила раскаленная красная полоска, сдвинулась вначале влево, потом вправо, расширилась, в середине ее возник проран, похожий на кроличий глаз, зашевелился, будто живой. Откуда-то потянуло дымом. На небе появилась рябь, притащилась она откуда-то издалека, ползла валами. Горшков подумал невольно: «А вдруг это дым берлинских пожаров?»
Вполне возможно. Берлин, где еще шли бои, не так уж и далеко находился от Бад-Шандау.
В глубине разбитых улиц городка заскрежетали гусеницы – шли танки. Скорее всего, это и была рота, которой генерал усилил группу разведки. Через некоторое время звук танков исчез, потом возник вновь, уже ближе, моторы ревели сильнее, через пять минут головной танк выскочил на площадку, где стояли «доджи» с прицепленными к ним семидесятишестимиллиметровками – пушки были взяты на жесткую сцепку, – с ревом развернулся.
В открытом люке, держась обеими руками за металлический край, как за щит, сидел смешливый светлоусый танкист, щурился довольно, будто только что съел сладкую коврижку, – танкист выкрикнул громко, перебивая рокот мотора:
– Где найти капитана Горшкова?
В ответ Горшков поднял руку:
– Это я.
Танкист ловко выдернул ноги из люка и спрыгнул на землю, оправил комбинезон, перепоясанный офицерским ремнем:
– Капитан Пищенко, командир танковой роты. Когда отправляемся?
– Уже готовы. Ждем карту и маршрут движения. Баки залиты бензином по самую пробку, так что… – Горшков сделал красноречивый кивок в сторону «доджей», – плюс на каждую машину – две двадцатилитровые канистры запаса. У вас как с горючкой?
– Тоже заправились под завязку. И запас кое-какой взяли с собой. С таким расчетом, чтобы без остановок дойти до Праги.
– Ну, остановки все равно будут…
– Только не по части горючего и смазочных масел, – бодро ответил Пищенко.
Тучи над городом сгустились, сомкнулись, тревожная красная полоска, висевшая над горизонтом, пропала.
Через двадцать минут Горшков получил от хмурого майора из штаба дивизии нужные бумаги и скомандовал:
– По машинам!
Первым пошел «виллис», на котором сидели Горшков с водителем, курносым орловским пареньком, сзади – Петронис и Мустафа с автоматами, вторым – «додж» с весело галдящими разведчиками – им тоже, как и Горшкову, надоела комендантская сбруя, рады были ребята, что впереди замаячило живое дело, в кузове «доджа» разместились Дик, забавляющий публику немецкими анекдотами, Юзбеков, сержант Коняхин, еще несколько человек, машина была вместительная, людей забирала много, в третьем «додже» ехали артиллеристы младшего лейтенанта Фильченко.
Горшков приподнялся в «виллисе», оглянулся, глядя, как выстраивается колонна, первый человек, на котором он задержал взгляд, был как раз Фильченко, сидевший рядом с шофером. Длинный, нескладный, в каске, на манер горшка нахлобученной на голову. Капитан приветственно вскинул руку – салют, земеля! – Фильченко в ответ улыбнулся широко, во весь рот, словно получил третий орден вдобавок к двум имеющимся у него, также вскинул руку.
Хороший человек Фильченко, и артиллерист хороший, но иногда бывает смешным, солдаты подшучивают над ним, – впрочем, это носастому, голенастому земляку-земеле никак не мешает, в бою его авторитет бывает непререкаем. На сибиряка, на кемеровца, Фильченко никак не был похож, словно бы слеплен был из другого теста, неморозоустойчивого…
Но Горшков был готов пойти с ним в любую разведку: Фильченко, ежели что, и из огня вытащит раненого, и в бою прикроет, и последним сухарем, присыпанным солью, поделится. Горшков ощутил, как в горле у него возникло блаженное тепло, а губы сами по себе растянулись в улыбке.
За колонной «доджей», погромыхивая гусеницами и трубно взревывая моторами – так, что с крыш разбитых домов Бад-Шандау посыпалась мелкая битая черепица, – пошли танки. Второго «виллиса» Горшкову не дали, сказали – обойдешься одним. Все равно колонна получилась очень внушительная.
Всмотревшись в карту, Горшков отметил, что проезжать они будут мимо фермы Курта Цигеля; можно, конечно, завернуть к нему, но рев танков перепугает не только коров, но и всех несушек, урон латифундии Цигеля и городу Бад-Шандау будет нанесен внушительный: Курт больше всех сельских хозяев поставляет продуктов бюргерам.
А жаль, что нельзя заехать – неплохо было бы испить парного молочка, опрокинуть кружечку и заесть куском пышной свежей лепешки. Надо полагать, что Курт не отказал бы бывшему коменданту города. Горшков отогнул рукав гимнастерки и посмотрел на часы.
Время поджимало. Они выехали с опозданием на восемнадцать минут. Но восемнадцать минут – не восемнадцать часов, в пути это время наверстается. Горшков считал такие вещи для себя обязательными. Повернулся к ординарцу.
– Мустафа, сколько там на твоих кремлевских?
Тот сощурился хитро:
– Вы же знаете, товарищ капитан, мы опаздываем на восемнадцать минут.
– Молодец, Мустафа, – с неким восхищением произнес Горшков, – на ходу каблуки у командира откусываешь.
– С вами иначе нельзя, товарищ капитан.
Усыпляющее медленно уползала дорога под капот «виллиса» – от танков отрываться было запрещено, хотя и хотелось, сзади пофыркивали своими моторами справные «доджи», лязгали гусеницами «тридцатьчетверки», громыхали, выплевывали из патрубков черный моторный дым, артиллеристы тем временем завели песню – хорошая вытанцовывалась музыка.
Танки, пушки. На двух «доджах» стояли минометы – боевая получилась у них группа, может сломать горло сильному врагу.
Сидевший за спиной Мустафа простудно покашлял в кулак, хотя простуженным не был.
– Что-то холодно сделалось, товарищ капитан!
– Ты чего, Мустафа, намекаешь на что-то?
– Так точно, товарищ командир. – Мустафа нагнулся, сунул Горшкову под мышку фляжку, обтянутую плотной темной тканью – так называемой «чертовой кожей», из которой шьют танкистские комбинезоны, совершенно неснашиваемой, вечной. – Держите!
Капитан перехватил фляжку, открутил пробку, вспомнил, что видел у ординарца и другие фляжки – похоже, у него имелся целый набор этого добра, на все случаи жизни, оглянулся на Мустафу и одобрительно кивнул:
– За нашу великую победу!
Отпил прямо из горлышка, не наливая содержимое в колпачок – расплещется ведь, жалко, – вкусно почмокал губами: отменная штука! И взор проясняет, и сердце заставляет биться ровнее, и дыхание делает легким, покосился вопросительно на ординарца. Тот пояснил:
– Коньяк, товарищ капитан. Выдержанный.
– Ну, Мустафа! Явно в погреб какого-нибудь немецкого графа забрался.
– Никак нет. Это подарок нашего бургомистра – целых три бутылки передал вам.
– Да ну! – Горшков вновь приложился к фляжке, чмокнул губами по-мальчишески: напиток ему нравился – мягкий, горло не дерет, градусов сорок в нем есть, но они не ощущаются, пахнет коньяк солнцем… Передал фляжку Петронису. – Пранас, оскоромься!
Тот принял фляжку аккуратно, чтобы ни капли не расплескать, сделал несколько крупных звучных глотков, произнес многозначительно:
– М-да-а!
– Мустафа, божественный напиток этот храни пуще глаза, – приказал капитан, – отпускать будешь только по моему распоряжению.
Ординарец знакомо покашлял, потом повел плечами и приподнял их, будто крылья:
– Ветер просаживает насквозь, скоро в теле дырки появятся.
Горшков засмеялся – он все понял.
– Отпей, Мустафа, и никаких дырок не будет.
Город остался позади, один за другим потянулись сельские пейзажи, очень схожие, словно бы сработанные по одному трафарету – пейзажи вгоняли в дрему. Когда нет разнообразия, обязательно наваливается дрема, глаза слипаются, но спать нельзя: дорога есть дорога – и в засаду можно угодить, и на мину напороться.
Дрема – прочь! Хорошо, что под рокот мотора, под дерганое движение уползающей назад дороги легко думается, в голову приходят не только дельные мысли, но и воспоминания. О доме, о тех, кто остался там. Интересно знать, чем живет ныне родная Сибирь, есть ли хлеб на столах у близких людей?
Капитан помрачнел: когда нет хлеба, то жизнь, даже самая яркая, с природными красотами, будет казаться тусклой и недоброй, и плохо, очень плохо, если мать его в Кемерове сидит сейчас без хлеба. Он вспомнил своего отца – тот тоже находится в армии, тоже воюет, по количеству звезд на погонах перегнал сына – уже майор, а вот дед Константин Андреевич не воюет, хотя также имеет офицерское звание и знает, как в Первой конной армии кончиком вострой шашки отделяли голову от туловища.
А вообще-то дед был типичным чеховским интеллигентом, и даже на Антона Павловича был похож, речь у него была мягкая, ровная, матерных слов он не употреблял, даже стыдился их, ровно бы и мужиком не был… Народ, когда дед приехал работать в Сибирь, а точнее – на Дальний Восток, в Забайкалье, поначалу даже подтрунивал над ним, а потом прекратил: поняли люди, что надо быть таким, как Константин Андреевич Балашов, и сами начали стыдиться мата, вот ведь как. У деда все, что он ни делал, получалось, а отучить людей от мата вообще оказалось штукой несложной.
Когда у него спрашивали, как ему удалось справиться с такой непосильной задачей, которая будет потруднее, чем выполнение плана по электрификации страны, он делал невинные глаза:
– Да не я это вовсе. Люди сами перестали материться. – Дед вздергивал вверх указательный палец. – Сами!
Константину Андреевичу не верили – и правильно делали, – а он только улыбался да протирал бархатной тряпочкой свои старые очки.
По профессии дед был бухгалтером. Настоящим, опытным, съевшим на «гроссбухах» половину своих зубов, и, прибыв с бабушкой и двумя внуками, оставшимися на его попечении после покойной дочери, очень скоро понял, что бухгалтерия, которую ему подсовывают на новом месте, в управлении лагерей, – липовая, двойная, что этого будут требовать и от него же, и если он не согласится, то его обязательно арестуют по 58-й статье и очень быстро подведут под пулю.
А у него на руках двое детишек – они же внуки. И уволиться с работы нельзя – не дадут, поскольку он уже прознал, чем занимаются местные энкавэдэшные правители, и стоит ему только заикнуться об увольнении, как итог будет тот же – пуля в затылок.
Заключенным в здешних лагерях – подопечных деду, – специально выдирали изо рта здоровые зубы, чтобы меньше ели, морили голодом, ломали пальцы. Бабка Анастасия Лукьяновна всякий раз, проходя мимо лагерной ограды, бросала за колючую проволоку хлеб – все достанется кому-нибудь из зэков.
Какой же выход придумать? Можно ли выбраться из этой вонючей ямы? Дед думал, думал и придумал… Велел Анастасии Лукьяновне собирать и припрятывать продукты.
– Собирай муку, крупу, сахар, – сказал он, – чем больше – тем лучше. Предстоят тяжелые времена. Понятно, мать?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/valeriy-povolyaev/brosok-na-pragu/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Валерий Дмитриевич Поволяев
Военные приключения
В новом романе признанного мастера отечественной остросюжетной литературы «Бросок на Прагу» читатель вновь встретится с героями книги «Список войны». На сей раз командиру группы разведки капитану Горшкову, его ординарцу Мустафе и их боевым товарищам предстоит принять участие в последней крупной военной операции Великой Отечественной войны… В повести «Солнечные часы» рассказывается о героической обороне Ленинграда.
Валерий Поволяев
Бросок на Прагу (сборник)
© Поволяев В.Д., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства www.veche.ru
Бросок на Прагу
Эльба, несмотря на изящное женское имя, оказалась рекой норовистой, широкой, с пенными волнами, внезапно возникающими на беспокойной свинцовой поверхности воды и также внезапно пропадавшими. Тревожная это была река.
По воде плыли разбитые снарядные ящики, какие-то тряпки, мебель, обрубки деревьев, иногда возникал раздувшийся серый труп, поднявшийся со дна, с раскинутыми крестом руками и широко открытым ртом, потом исчезал.
Капитан Горшков сидел за чугунной тумбой трансформатора и рассматривал в бинокль противоположную сторону длинного прочного моста, переброшенного через реку. Пролеты моста были закопчены, кое-где светились дыры, но сам мост, странное дело, был цел. По нему стреляли все кому не лень, долбили орудиями и минометами, с воздуха накрывали таким ковром, что дым поднимался до неба, кругом все делалось черно, но мосту везло – он оставался цел. Будто заговорен был.
Было тихо. Где-то в стороне некоторое время потрескивали автоматные очереди, словно рвалась старая истлевшая ткань, но потом и они умолкли. Слышно было лишь, как шуршит в траве, на асфальте, в ветках обугленных деревьев мелкий частый дождь – ну словно бы мыши бегают, никак не угомонятся. Совсем рядом носятся грызуны, пытаются раздобыть себе еды, но их не видно…
Нет их. Горшков сунул бинокль под плащ-палатку, расстегнул карман гимнастерки и изнанкой клапана протер забусенные дождем линзы. Тихо было на противоположном берегу Эльбы.
Сквозь скошенную наволочь дождя едва различимо просматривались силуэты домов, наполовину вырубленный снарядами парк, полуразбитая, со стесанным верхом кирха. Что еще? Больше ничего не было видно.
Сидевший рядом с капитаном сержант Коняхин, уютно скрывшийся под плащ-палаткой, будто под колоколом, целиком наружу выступал только нос, еще были видны глаза и губы, также наблюдал за противоположным берегом. Наблюдал молча. Как в разведке. Да покуривал немецкую офицерскую сигаретку, изъятую из полевой сумки убитого гауптмана.
Бинокля у старшего сержанта не было. Да и не нужен он был ему – глаза у Коняхина были острее кошачьих, он видел даже то, чего капитан не видел в бинокль.
В частности, Коняхин засек, как на том берегу к реке спустился пацаненок в куцем мундирчике, с брезентовым ведром, поспешно зачерпнул воды и, поддерживая ведро под дно рукой, тут же ввинтился в какую-то щель: был человек, и не стало его. Явно пацаненок этот из гитлерюгенда, юный фаустпатронщик, которому жизни собственной не жалко, он готов бросить ее, как смятую тряпку, под ноги любимому фюреру – и фюрер возьмет ее, даже не поморщится, в знак благодарности.
«Надо засечь это место, – невольно подумал Коняхин, – если прикажут пойти на ту строну, то проверим этот клоповник. Вдруг он доверху набит фаустпатронщиками? Пара гранат – и клопов не будет».
Тихо-то как! Непривычно тихо, даже озноб по коже ползет, а уши рвет электрический звон. Коняхин с сожалением глянул на догоревшую офицерскую сигарету, которую он тщательно оберегал от дождевой пыли – слишком уж быстро превращается в пепел, небось бумага каким-нибудь порохом пропитана, – сунул ее под подошву сапога.
Дождь продолжал барабанить по капюшону плащ-палатки, плотно натянутому на голову, по спине, вгонял в сон. Коняхин прикрыл зевок кулаком и потряс головой.
Капитан тем временем снова приник к биноклю – продолжал изучать противоположную часть моста и задымленный дождем берег.
Минут через десять ему показалось, что под ногами дрогнула земля, капитан оторвал от глаз бинокль и, настороженно вытянув голову, прислушался к пространству. Было по-прежнему тихо, хотя напряжение, висевшее в воздухе, несмотря на мелкий весенний дождь и тишину, не сулившую ничего худого, не исчезало.
– Иван, – позвал капитан Коняхина, – слышишь чего-нибудь?
– Ничего, кроме звука дождя.
– Земля под ногами не дрожала? Случайно не засек?
– Не засек. – Коняхин мотнул головой.
– Значит, приблазнилось, – успокоенно произнес капитан, стер с лица дождевую морось. – Так в конце войны, ко дню победы, глядишь, перед глазами и чертики будут вертеться.
– Пройдет, товарищ капитан, – отрешенно проговорил Коняхин, зевнул, – с кем не бывает… Со всеми такое бывает. И со мною было.
– Ладно, тезка, – Горшков вновь приник к биноклю, – поехали дальше…
Поехали так поехали. Да-а, Эльба оказалась, вопреки ожиданиям, рекой могучей – такой же, как и Волга где-нибудь в районе Саратова… Нет, Волга все-таки пошире, пополнее будет даже в самую худую жаркую пору, а Эльба кажется такой большой из-за весеннего тепла, наступившего в Германии, тающий снег сволок в воду все, что было лишнего на земле, набил реку всяким мусором, и поволоклось все это куда-то к морю, или куда там впадает Эльба?.. Надо посмотреть по карте, куда она впадает, в море или в какую-нибудь другую реку.
На противоположном берегу вновь показался пацаненок в форме, с прежним брезентовым ведром, согнувшись в три погибели, подскочил к воде, взмахнул шутейским своим ведерком и через несколько мгновений исчез. Горшков на этот раз и засек пацаненка, и хорошо его разглядел. Надо будет обязательно проверить, что за гнездо себе свили юные защитники фюрера. И для чего им понадобилась поганая вода? Ведь ею только сапоги мыть, да и то с опаскою, на другое она не годится.
И капитан, и сержант думали одинаково. Порывшись в кармане, Коняхин достал сложенную в несколько долей бумажку, карандаш, начертил на листке береговую линию, обозначил мост и справа от него поставил точку. Внизу, под точкой, написал: «Примерно 120 метров от моста».
Недалеко, почти у самой кромки берега, на котором сидели капитан и Коняхин, проплыл труп в офицерской форме, с серебряными погончиками, – труп двигался медленно, словно бы подыскивал себе гавань, в которую можно было бы завернуть и отдышаться малость, но таких гаваней не было, и доблестный офицер вермахта поплыл дальше.
Под ногами вновь дрогнула земля, на этот раз ощутимо, это почувствовали и капитан и Коняхин, переглянулись – сквозь надоевший шорох дождя протиснулся гул: по той стороне Эльбы шли танки. Это были американские танки.
– Й-йех! – огорченно воскликнул капитан, хлобыстнул себя ладонью по плащ-палатке – только серые холодные брызги полетели в разные стороны, покрутил нервно головой, словно бы не верил тому, что слышал. – Опередили они нас!
– Это что, плохо, товарищ капитан? – удивленно высунул лицо из плащ-палатки Коняхин. – А чего, собственно, тут плохого? – В голосе сержанта прозвучало недоумение. – Раз подошли американцы, значит, война закончится на месяц раньше.
– Чего тут хорошего, а чего плохого – не нашего с тобою ума, тезка, дело, – назидательно просипел капитан, голос от огорчения у него неожиданно сделался дырявым, – этим занимается высшее начальство. А у нас с тобою приказ локальный, мы с тобою по сравнению с маршалами Жуковым и Коневым – люди маленькие. Пешки.
Сквозь мутную сетку дождя было видно, как на противоположном берегу на набережную вынеслись один за другим три танка, взревели моторами, разворачиваясь в боевую цепь… Силуэты танков были незнакомые, ни у нас, ни у немцев таких машин не было. Значит, это точно прикатили американцы.
Через несколько мгновений из щели, в которой скрылся мальчишка-солдат с брезентовым ведром, полыхнуло два длинных ярких снопа – огонь походил на слепящий сверк электросварки.
Фаустпатроны, с которыми Горшков столкнулся только в Германии. Выпущены пацанами с плеча. Один фаустпатрон пронесся мимо танков и всадился в черный мокрый ствол спаленного дерева. Дерево было старое, ствол имело не меньше трансформаторной будки, за которой скрывались капитан и Коняхин, дождем пропиталось насквозь и по всем законам физики, химии и прочих школьных наук не должно было загореться, но оно загорелось, заполыхало безудержно сильно, словно было облито бензином.
Коняхин удивленно покачал головой: что за фокус?
Второй фаустпатрон угодил в танк, находившийся в середине боевой цепи, пробил дырку в башне, и танк заполыхал также сильно и ярко, как и дерево. Коняхин сжал кулаки:
– Вот суки! Союзников жгут.
Из танка вывалились два живых горящих комка, покатились по мокрой набережной, сшибая с себя огонь, обволоклись рыжеватым химическим дымом – огонь танкистам удалось сбить, теперь они походили на пушистых рыжих зверей, катающихся по земле, – потом танкисты поднялись и, хромая, падая, устремились за угол ближайшего дома.
Два других танка поспешно попятились назад.
– Винтовку бы сюда снайперскую, – досадливо просипел капитан, – от этих юнцов одни бы курточки с галошами остались.
– Что за город на той стороне, товарищ капитан? – поинтересовался Коняхин. – Как называется?
– Бад-Шандау. Так обозначено на карте.
– А на этой стороне что за город находится?
– Тоже Бад-Шандау. Эльба делит его пополам.
Американские танки уже завернули за угол дома, когда из щели на противоположном берегу выскочил еще один стрелок, вскинул на плечо железную трубу с насаженной на конец бутылкой и нажал на спусковой крючок фаустпатрона. Бутылка с воем вырвалась из железной трубы, отплюнулась длинным хвостом огня и понеслась в сторону, где только что находились танки. Опоздал фаустпатронщик, на малую малость опоздал.
Снаряд шлепнулся на мокрую, курящуюся туманом землю, подскочил высоко, будто резиновая безделушка, вновь клюнул в землю и взорвался. Вверх взвился столб цветного сиреневого дыма, следом из столба вывалилась огненная простынь.
– Эта хренотень танковую броню прожигает насквозь. – Коняхин выругался, высунул из-под плащ-палатки ствол автомата, цикнул со вздохом: – Жаль, эта штука до сумасшедших детсадовцев дострелить не сможет.
Да спиной послышался натуженный рев – шли грузовые машины. Недавно в их полк с Урала поступили новенькие ЗИСы, очень прочные, будто из одного куска железа да из четырех кусков монолитной резины сработанные: один отбившийся от колонны зис неожиданно наехал на мину, так ему хоть бы что, только деревянный борт выломало да оторвало колесо, и все.
Капитан приподнял голову, услышал натуженные подвывы зисовских моторов у себя за спиной и проговорил облегченно:
– Наконец-то!
Минут через пять сквозь погустевшую наволочь дождя протиснулся один зис, развернулся на площадке около моста. На буксирном крюке у него, прихваченная мертвым сцепом, «висела» пушка с ободранным щитом, в зазубринах – не раз попадала под немецкий огонь, выстрадала войну так же, как и любой солдат их полка.
Из кузова зиса выпрыгнули трое, одного из них капитан знал – это был землячок из Кемеровской области, младший лейтенант Фильченко, ногастый, долговязый, носастый, с круглыми, немигающими, как у совы, глазами.
Увидев Горшкова, Фильченко улыбнулся во весь рот, от уха до уха, так, что стали видны редкие крупные зубы, – проговорил мощным певческим басом:
– Земеля!
В ответ Горшков вскинул одну руку, спросил:
– Где там мой Мустафа застрял, не видел?
– Видел. На последней машине едет, манатки везет.
– Ладно, раз это так, – успокоенно произнес капитан.
– Как тут обстановочка?
– На той стороне, справа от моста, фаустпатронщики засели. Один американский танк подбили. Видишь, чадит?
Фильченко прищурился, острым совиным взором он разглядел все мигом, сощурился болезненно – жалел подбитых танкистов.
– А где этих недоумков с фаустпатронами засекли?
– Справа от моста темную щель видишь? Оттуда они и выскакивают… Как из преисподней. Коняхин, укажи лейтенанту цель поточнее.
Коняхин зашевелился, достал из кармана бумажку с крохотным чертежом, на котором был намечен мост с береговой линией, развернул ее и потыкал пальцем в дождевой туман.
– Товарищ капитан точно определил – эти гниды сидят вон в той темной щели. Это, судя по всему, русло ручья, и там наверняка есть укрепление. Вылезают именно оттуда, – саданут из своей железной дуры бутылкой и снова ныряют назад.
Младший лейтенант потеребил нос длинными пальцами и скомандовал своим артиллеристам:
– Братцы, разворачивай орудие! – На водителя зиса шикнул: – Отъезжай, не занимай место.
На площадку, примыкавшую к мосту, исковыренную снарядами, засыпанную землей и кусками асфальта, выехала вторая машина.
– Вот и второй ствол прибыл, – довольно проговорил капитан, потер руки: – Хор-рошее дело!
Младший лейтенант Фильченко действовал проворно: его пушкари за минуту установили орудие, раздвинули стальные сошники пошире, чтобы при выстреле пушка не поехала назад и не изувечила людей, заряжающий поспешно загнал в ствол снаряд. Доложился командиру:
– К стрельбе готов!
Фильченко сам встал к прицелу, закрутил рукоять наводки, быстро нащупал стволом орудия цель и озадаченно приподнялся над щитом – темная ручейная щель была пуста, хоть бы кто-нибудь показался в ней…
– Чего ждешь, Фильченко? – поинтересовался капитан.
– Как чего? Развития событий, – не замедлил отозваться Фильченко. Будто в театре.
– Это каких же таких событий? – В голосе капитана послышались ироничные нотки.
– Сейчас кто-нибудь из американцев выскочит… Обязательно.
– Ну и что?
– Это нам на руку.
Младший лейтенант как в воду глядел: на противоположной стороне послышался резкий рев мотора, и на набережную на полном ходу вынесся американский «шерман». Разворачиваться он не стал, развернул только башню. На рев мотора, как мухи на мед, выскочили из своего убежища два фаустпатронщика с диковинными длинными трубами, увенчанными толстыми бутылками…
Танк, спеша, выстрелил первым, и тут же механик-водитель дал задний ход. Снаряд, дымя, пронесся мимо фаустпатронщиков и взорвался в мокром обгорелом парке.
Фаустпатронщики выстрелили ответно, хотя могли бы и не стрелять – ясно было: не попадут, ушел танк. Один фаустпатрон горящим болидом унесся в реку, булькнул, почти не потревожив воду – пошел на корм рыбам, другой всадился в стену полуразрушенного кирпичного дома и растекся по ней жидкой огненной простынею.
В это время младший лейтенант взмахнул рукой, будто шашкой, наводчик, выжидательно смотревший на него, рванул за витой кожаный шнур пуска, пушка рявкнула устрашающе, отплюнулась огнем и длинный рычащий сноп этот в то же мгновение накрыл активистов гитлерюгенда.
В воздух полетели какие-то тряпки, изогнутая кольцом железка – труба от фаустпатрона, комья земли… Когда огонь опал, фаустпатронщиков уже не было – растворились в снопе взрыва.
– Вот и все проблемы, – сказал Фильченко и довольно хлопнул ладонью о ладонь, – у фаустпатронщиков руки больше чесаться не будут, – американцы могут подарить мне пару банок тушенки.
Бойцы тем временем отцепили от зиса второе орудие.
– Ставьте на прямую наводку, – скомандовал капитан, – цель – любая машина, которая появится на мосту.
– А если это будут американцы? – недоуменным тоном спросил Фильченко.
– Американцев я и имею в виду в первую очередь.
– Но это же союзники… – Брови на лице Фильченко, словно две мохнатые птички, взлетели вверх.
– Выполняйте приказ, лейтенант, – жестким голосом, на «вы», произнес Горшков, потом добавил, уже примиряюще: – Сам понимаешь, не мое это решение… Не знаю, может быть, это решено в самом Кремле.
– Есть выполнять приказ, – разом угаснув, проговорил младший лейтенант.
Два орудия установили на площадке, испятнанной следами зисов, третье чуть в стороне, ствол его также навели на мост. Горшков оттянул рукав гимнастерки, глянул на часы и поморщился, будто на зубы ему попала пара кислых жестких ягод.
– Где минеры, Фильченко, а? – раздраженно спросил он у младшего лейтенанта. – Куда они подевались?
– Я за минеров не отвечаю, товарищ капитан.
– Знаю. – Горшков вновь поморщился: командиров много, а отвечать некому.
У него на руках имелся, – как говорят в таких случаях, – приказ командира полка: на мост союзников не пускать, как бы те ни рвались… Вывести орудия на прямую наводку, а сам мост заминировать. Ежели что – взрывать к чертовой матери.
В комнате у командира полка тогда находился генерал – пожилой, одышливый, по фамилии Егоров, – командир дивизии.
– Да-да, сынок. – Кивком крупной седой головы комдив подтвердил слова полковника. – Это так! – Развел в стороны тяжелые крестьянские руки. – Всему причина – высшие силы, – произнес он непонятную фразу и неохотно улыбнулся.
Он мог бы ничего не говорить, и без этого все было понятно, но генерал посчитал нужным поставить в разговоре именно эту точку: под высшими силами он подразумевал политику и тех, кто готовит ее у себя на кухне вместе с яичницей.
Капитан вновь с досадою глянул на наручные часы:
– Ах, минеры, минеры!
В дело это словно бы кто-то вмешался – через пять минут к Горшкову подбежал маленький человечек в каске, помеченной вмятиной – по скользящей прошел осколок, след был приметный, если во время удара каска находилась на голове маленького человечка, то ему здорово повезло.
– Командир взвода саперов лейтенант Кнорре! – подбежавший вскинул руку к каске.
«Ого, какая громкая фамилия! – невольно отметил Горшков. – По-моему, есть писатель с такой фамилией. До войны я читал в журнале “Огонек” его произведения».
– Задерживаться изволите, лейтенант, – недовольно проговорил он.
– Простите, по дороге нас обстреляли, – виновато пробормотал Кнорре, – пришлось повоевать.
– Задание свое знаете?
– Так точно! – лихо отрапортовал маленький лейтенант.
– Тогда – вперед!
Горшков и не заметил, как маленький лейтенант оброс бойцами, такими же низкорослыми, шустрыми, чернявыми, как и он сам. Саперы проворно полезли на мост – минировать настил, быки, массивные металлические балясины.
– Поторапливайтесь, поторапливайтесь, ребята, – подогнал их капитан и поискал глазами: не появился ли ординарец Мустафа?
Застрял где-то Мустафа, хотя должен был, как обещал Фильченко, прибыть с бойцами последнего зиса – разведку всегда оставляли в прикрытии. Впрочем, ее всегда бросали и в первые ряды, в авангард… Да и Мустафа был хорошо известен всему их полку – 685-му артиллерийскому.
На той стороне на набережную вновь выехали американские танки – союзники уже поняли, что сумасшедших юнцов-фаустпатронщиков придавила русская пушка, больше детишки не будут баловать, – на скорости проскочили вперед, остановились у догорающей машины и задрали стволы пушек – словно бы салютовали русским артиллеристам.
Потом один танк подцепил подбитого собрата на крюк и уволок за дома, второй танк остался. Опустил ствол пушки, повернул его в сторону щели, из которой выбегали проворные фаустпатронщики, замер, словно бы слушал пространство.
Дождь тем временем немного угас, небо приподнялось и посветлело.
– Вот это другое дело, – пробормотал Фильченко, потом потряс головой, словно хотел что-то вытряхнуть из нее. – Нет, никак не могу понять, товарищ капитан…
– Подучиться надо немного – получишься и будешь все понимать, – Горшков насмешливо фыркнул, – война закончится – в институт пойдешь… Либо того выше – в академию.
Фильченко поскреб нос длинным пальцем – такие изящные гибкие пальцы не артиллеристу нужны, а пианисту либо скрипачу, отрицательно помотал головой. Вздохнул:
– В академию – вряд ли, военный из меня не получится, а вот насчет института… тут все верно. Инженер по строительству железных дорог либо станций метро может получиться вполне.
– Почему именно метро?
– А я полюбил метро. Один раз был в Москве, на метро покатался – удивительная все-таки штука. И быстро, и удобно, и красота под землей такая, что ахнуть можно.
Было что-то в Фильченко от ребенка, он умел восхищаться простыми вещами и добр был, как неиспорченный ребенок – стремился оказать помощь человеку, если тот попадал в беду или в горе, протягивал руку малым и слабым, умел любоваться солнцем, цветами и бабочками – это был не размятый войной, не униженный болью и ранениями человек… Такие в Сибири, особенно в родной Курганской области, которую Горшков видел иногда во сне и чуть не плакал от того, что видел – дом свой, мать, постаревшую и поседевшую, соседей, и отчего-то начинал задыхаться, – попадаются часто.
Жаль только, что Фильченко не хочет пойти в военную академию, ему, кавалеру двух орденов Отечественной войны, академия будет в самый раз, примут без всяких отметок, особенно в артиллерийскую… Пушкарь Фильченко от Бога, вон как лихо сдул с земли двух глупых фаустпатронщиков, – будто снайпер, позавидовать можно.
В эту минуту появился Мустафа – круглоликий, загорелый, с живыми маленькими темными глазами, плотно сбитый. Он нисколько не постарел за последние два с половиной года, скорее даже помолодел – когда Горшков забирал его к себе в разведку, Мустафа был другим, он хоть и не растерял в лагере напористости, но на лице его лежала печать усталости, обреченности, в углах рта застыли небольшие горькие скобочки…
Сейчас этих скобочек не было.
Автомат, висевший у Мустафы на груди, был мокрым от дождя, блестел, словно покрытый лаком, – очень уж картинно смотрелся воин. Хоть в кино снимай.
– Товарищ капитан, я тут горяченького привез на завтрак, похлебать бы надо, – просяще произнес он.
– Потом, Мустафа… Когда закончим минирование моста, тогда и позавтракаем. – Капитан отмахнулся от ординарца, но тот не уходил. – Чего еще у тебя? – недовольно спросил Горшков.
– Квартир свободных в этом городишке нету, я облазил десятка четыре домов – все впустую. Очень много беженцев. Просто кишмя кишат. В некоторых квартирах набито по три семьи.
– Это мы переживем, Мустафа, – и не такое переживали.
– Так точно, и не такое переживали, – подтвердил Мустафа. – Можно было по старой привычке разведчиков облюбовать какой-нибудь сарай, но… – ординарец развел руки в стороны и стал походить на сварливую наседку, – и сараи забиты. Просто под завязку – ни одного свободного сантиметра.
– У немцев сараев нет, Мустафа, у них – хозяйственные постройки.
– Что в лоб, что по лбу, товарищ капитан.
– Поставим палатки. Лучше палатки на фронте жилья нет. Под себя одну полу шинели, сверху другую, под голову пилотку и – чуткий тревожный сон до утра обеспечен.
Люк у «шермана», застывшего на том берегу, словно на почетном дежурстве, приподнялся, некоторое время находился в стоячем положении, будто экипажу потребовался свежий воздух, потом показалась голова в рыжем танкистском шлеме – шлем был явно сшит из чистой кожи, – и нырнула обратно.
Правильно поступил американец – в домах на той стороне могли сидеть снайперы, которых еще не выскребли, а по ним обязательно надо пройтись частой гребенкой, – Горшков одобрительно хмыкнул, заметив маневр танкиста.
– Может, все-таки позавтракаете, товарищ капитан? – взялся за старое Мустафа.
– Не ной, приятель, – не оборачиваясь, бросил капитан, – мы же с тобой договорились: как только саперы уйдут с моста, тут же достанем ложки…
– У меня и фляжечка есть, – проворковал Мустафа голубиным тоном, но Горшков уже не слышал его – из американского танка выбрался человек – тот самый, в рыжем шлеме, который уже показывался, спрыгнул на землю.
Помахал рукой противоположному берегу. Горшков ответил – чего же не ответить, не сделать чужеземцу приятное, – хотя помахал вяло, с опаской. И неведомо было ни незнакомому американскому танкисту, ни начальнику разведки 585-го артиллерийского полка капитану Горшкову Ивану Ивановичу, что это воздушное помахивание – факт исторический, хотя и не отмечен юпитерами, их слепящим светом, все остальные встречи русских с американцами произойдут позже и будут отмечены не только торжественной иллюминацией, но и репортажами корреспондентов. В общем, каждому празднику – свое.
Лишь на следующий день недалеко от города Торгау была отмечена встреча солдат 69-й пехотной дивизии Первой американской армии и бойцов 58-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, после чего войскам и одной и другой стороны был дан приказ остановиться.
Были также утверждены опознавательные знаки, чтобы случайно не ударить по своим. В частности, серия зеленых ракет, запущенная ввысь, обозначала, что это – свои. Русские танки должны были пометить башни белыми полосами – вокруг всей башни, ширина полосы – двадцать пять сантиметров. Макушки башен, люки, требовалось украсить белыми крестами, ширина полос креста – также двадцать пять сантиметров.
И вообще, пресловутые двадцать пять сантиметров оказались стандартом советско-американской встречи. Отмеченная историей встреча произошла, к слову, двадцать пятого апреля. А пока… пока саперы лейтенанта Кнорре продолжали минировать мост. Американские танки не должны были переправиться на этот берег. Три полковых «семидесятишестимиллиметровки» – ровно половина батареи, – грозно таращились потертыми, с обгорелыми надульниками стволами в пространство. У них была та же цель – все, что шевелится и ползает на том берегу, должно быть поражено меткими выстрелами, если вздумает переправиться на этот берег.
Американец, вылезший из башни «шермана», беспокоил капитана, очень уж беспечно ведет себя парень – вдруг какой-нибудь гад подсечет его с чердака пулей?
– Уйди, дурак! – выкрикнул капитан, резко располосовал рукою воздух, но танкист не услышал и не увидел его. – Тьфу!
Жаль. А ведь им предстоит еще встретиться, обняться, выпить по стакану русской водки – желательно холодной, хотя и теплая тоже пойдет, – и заесть из одной банки американской тушенкой.
– Уйди!
Нет, не уходит. Снайперы, снайперы… Слишком уж много этих хорошо стреляющих сволочей развелось в последнее время у гитлеровцев. Говорят, что сам фюрер – лично, вот ведь как, не побрезговал, – занимался этим.
Кто-то из приближенных генералов, – кажется, это был Кейтель, – сказал ему, что один снайпер может легко остановить взвод автоматчиков, а четверо снайперов – роту. Фюрера очень взбодрила идея войны малыми силами, он даже перестал походить на слабого ощипанного куренка, на которого очень уж здорово смахивал последние полгода, у Адольфа даже голос сделался куриным, – он загорелся, горделиво вскинул голову и взял под свое крыло скоропортящийся продукт: курсы по досрочному выпуску снайперов.
Очень уж беспечно, бестолково ведет себя танкист – это же война, тут иногда стреляют… Тьфу! А человек в рыжем шлеме и прочном сером комбинезоне начал исполнять на том берегу радостный шаманский танец, совершал прыжки, размахивал руками, что-то кричал, пел. Что именно кричал и пел – не было слышно, все звуки давил дождь.
– Вот обезьяна обрадованная, – Горшков выругался, – совсем себя не бережет.
Он как в воду глядел – с крыши одного из домов, вставших в рядок на противоположном берегу, щелкнул задавленный расстоянием и поредевшим дождем выстрел, американец перестал размахивать руками, недоуменно оглянулся и, сложившись мягким кулем, распластался на земле около гусениц «шермана» У Горшкова потемнело лицо.
– Мустафа! – позвал он.
Мустафа никуда не уходил, сидел за спиной капитана на какой-то деревяшке и «грел» завтрак.
– Я здесь.
– Видел, Мустафа?
– Видел. Я даже засек, с какого чердака стреляли.
– Возьми с собой двоих, Мустафа, и разберись. Пока саперы мост не закрыли.
Ординарец кивнул понимающе и в то же мгновение исчез. Будто и не было его – растворился в пространстве. Через несколько минут он с двумя разведчиками прогрохотал сапогами по мосту. Горшков продолжал наблюдать за противоположным берегом Эльбы.
Вернулся Мустафа через полтора часа. Лицо в поту, губы – запаленные, белые.
– Их там целый выводок оказался, – доложил он, – змеюшник.
– Ну и как?
– Змеюшник ликвидирован.
Капитан довольно кивнул: молодец, Мустафа, можешь взять с полки пирожок, а еще лучше – получишь стопку вне очереди.
Саперы к этой поре уже закончили минирование. Маленький лейтенант в намокшей, колом сидевшей на нем плащ-палатке подбежал к Горшкову, притиснул руку к своей меченой каске.
– Что-то вы, лейтенант, очень быстро справились – мост-то огромный, – недоверчиво пробормотал капитан. – Подозрительно это.
– Под пулями мы работаем еще быстрее. – Сапер неожиданно улыбнулся. Улыбка у него была чистая, как у девчонки.
– Ладно, – прощающе махнул рукой Горшков, – вопрос с повестки дня снимается.
«Шерман», неподвижно стоявший на том берегу, неожиданно дрогнул и тихо пополз назад. Американец, которого задел снайпер – не убил, а только задел и человек свалился без сознания у гусеницы танка (провалялся долго без помощи, очень долго – за это время мог пять раз истечь кровью), – приподнялся и на четвереньках также двинулся назад, танк прикрывал его.
Хорошо, что американцы увидели, как лейтенант со своим взводом минировал мост, – будут осторожны и лишний раз не сунутся… Это очень хорошо. Горшков отер ладонью мокрое лицо – будто умылся, повернулся к Мустафе:
– Давай твой завтрак.
Дождь сделался еще тише, помельчал совсем, капли его превратились в туманную пыль, земля набухла водой, сквозь черноту сгоревших мест, сквозь битый асфальт и кирпич, – куски валялись всюду, – робко пробивалась бледная хилая травка… Жизнь брала свое.
– Неужели мы взорвем этот мост, товарищ капитан? – Неверящие глаза Мустафы превратились в узкие щелки. – А?
– Не знаю, – неохотно ответил Горшков, – это не нам с тобою решать. Решают… – он поднял голову, глянул вверх, в подернутое темной сырой наволочью небо, – там решают…
– На завтрак у нас картошечка с мясной тушенкой, – объявил Мустафа капитану, – есть еще кое-что. – Он выдернул из-под плащ-палатки фляжку, поболтал ею, с довольным видом послушал бульканье. – Еще имеется кофий. Горячий. В термосе. Говорят, французский. – В голос Мустафы невольно натекло уважение: дальний предок его много лет назад с русскими войсками побывал в Париже, поэтому Мустафа ко всему французскому относился с особой симпатией. – Это еще не все, товарищ капитан, – многозначительно проговорил ординарец, – имеется также две баночки рыбных консервов и круг копченой колбасы.
Ординарец по локоть запустил руку в мешок, извлек оттуда нарядно поблескивавшую золотой краской плоскую банку, похожую на шкатулку для дамских украшений. Это были знаменитые марокканские сардины – рыбки, которые сами таяли во рту, не надо было даже разжевывать. Горшкову уже довелось отведать их. В немецкой армии сардинами кормили только генералов, и такие баночки находили только в запасах генеральских кухонь, когда захватывали какой-нибудь крупный штаб.
– Вот, – хвастливо произнес ординарец, повертел банку в руке. Спросил, приподняв одну жидкую бровь: – Открыть?
– Не надо.
– А ведь в самый раз под стопку, товарищ капитан.
– Потом, потом, Мустафа. Это ведь товар такой – не прокиснет. Вдруг американцы заявятся – чем их будем угощать?
– Но пока мы их угощаем стволами «семидесятишестимиллиметровок»…
– Это не наше дело, Мустафа. В стволах нет снарядов. Наверху, думаю, договорятся, и нам так или иначе придется встречать союзников стопками холодной водки.
Картошка с тушенкой оказалась хороша, повар не пожалел, положил в котел и масла, и лаврового листа, и лука, блюдо получилось и душистым и вкусным – век бы ел…
Капитан откинул капюшон плащ-палатки, противная водяная пыль перестала сочиться из небесных прорех, вверху что-то сдвинулось, сырые, заряженные мокретью облака сместились в сторону – похоже, решили сбиться в одну кучу и так, кучей, проследовать дальше, в недалеких деревьях раздалось пение одинокой птицы.
У Мустафы даже лицо вытянулось от удивления: в войну они почти не слышали птиц: грохот, выстрелы, рвущиеся снаряды, дым пожаров, бои отгоняли их далеко, дальше, чем за пресловутый Можай, – сжигали сотнями, тысячами, сжигали жестоко – уничтожали более бездумно, чем людей, казалось, что все, птичье поголовье истреблено под корень, ан нет – отдельные экземпляры выжили…
Приподнявшись на коленях, Мустафа проговорил смятым, едва различимым шепотом:
– Вы слышите, товарищ капитан?
Горшков молча кивнул – он тоже услышал пение птицы, лицо у него сделалось встревоженным и немного растерянным…
Неужели война скоро кончится? Скажите, однополчане, это правда? Горшков неверяще покрутил головой: не может этого быть! Мустафа укоризненно глянул на командира: может, еще как может.
Палатки постарались поставить под деревьями – почему-то места у опаленных ясеневых и кленовых стволов казались более надежными, чем, скажем, около стенки какого-нибудь дома. Обманчивое, конечно, суждение, на войне неуязвимых мест нет, если только на небесах (в конце концов, все там будем), поэтому Горшков расположил своих разведчиков поближе к мосту, под обгорелыми стволами… Спрашивается, зачем? А так, на всякий случай. Переправа будет сохраннее. Да и чутье так подсказывало.
Вечером реку укрыл плотным пологом туман, противоположный берег совсем растаял в нем. Если дело пойдет так и дальше, скоро пальцы на собственной руке невозможно будет разглядеть.
На ночь Горшков выставил часовых: одному определил место у моста, около чугунной трансформаторной будки, облюбованной капитаном еще утром, другому – асфальтовую площадку, окружавшую огромный, сгоревший до середины клен. Предупредил часовых:
– Глядите в оба, мужики! Война еще не кончилась. Смена – через два часа.
Несколько минут постоял у реки. От воды тянуло неприятным холодом, пахло рыбой, травяной прелью, снегом – вполне возможно, что в верховьях Эльбы еще где-то лежал снег, нещадно терзаемый дождями и солнцем, он и добавлял реке свой особый запах, течение было сильным… Горшков вгляделся в темноту, в крутящуюся воду и поспешно отступил назад на несколько шагов. Покачиваясь в волнах, к берегу подплыл ногами вперед труп, на подошвах сапог у него, на носках и каблуках, поблескивали новенькие стальные подковки, хорошо видные в темном тумане.
Судя по подковкам, это был немец, наши солдатики, ходившие в кирзачах, до такого еще не доросли, да и стальные подковки в армию еще не поступали – дорого это было…
Труп ткнулся подошвами в подмытую песчаную кромку и замер на несколько мгновений, потом чуть стронулся и опять замер, словно бы встал на якорь, но никакого якоря не было, и разбухшее тело, подбитое течением, сдвинулось на несколько метров вниз и через минуту исчезло. Труп растворился в туманной ночи.
Подковки на сапогах не обманули – это действительно был немец. В черной форме – то ли железнодорожник, то ли танкист, то ли эсэсовец в парадной одежде.
По-прежнему было тихо – ни единого выстрела: ни на нашей стороне, ни на стороне той. Где-то далеко, за линией горизонта, в тумане метались рыжеватые полосы. В той стороне находился Берлин. Там еще шли бои.
Надо было отдыхать. Горшков развел караульных и снова улегся спать. Организм у него работал как хорошо отлаженный хронометр – капитан мог просыпаться без всякого будильника в назначенное время. И видать, эта привычка вживилась в него уже навсегда, на всю оставшуюся жизнь.
Война вообще вырабатывает в человеке много привычек, причем в основном плохих.
У Горшкова был один толковый разведчик, по фамилии Георгиев, так он настолько привык к наркомовской «сотке» – фронтовым ста граммам водки, что когда его списали в гражданку после потери руки и отправили домой, дома он спился.
Сын его, мальчишка, работавший на кожевенном производстве, начал каждый лень приносить папе по пузырьку спирта, эти пузырьки и погубили толкового разведчика, награжденного двумя медалями «За отвагу».
А когда затяжная война эта закончится совсем и солдаты вернутся домой, наружу вообще полезут всякие хвори, о которых на фронте они даже слыхом не слыхивали, обнаружатся дырки, что вроде бы зажили давным-давно, но в мирную пору открылись вновь, обнаружится что-то еще – нехорошее, – и это произойдет обязательно.
Сделав второй развод часовых, Горшков заснул вновь, погрузился в яркий счастливый сон – он видел собственное детство, рыбалку на озерах, куда часто бегали курганские пацаны и без добычи почти не возвращались, обязательно приносили карасей… Потом краски сна поблекли, света стало меньше, откуда-то приползла пороховая хмарь, и капитан ощутил тревогу, наползшую откуда-то в него.
Вообще, на войне тревога сидит в человеке всегда, это закон, без тревоги здесь и дня прожить нельзя – именно она заставляет солдата лишний раз поклониться пуле, лишний раз проверить, не зарыта ли где-нибудь на хоженой-перехоженой тропе свеженькая мина и нет ли в веселом, безмятежно спокойном месте вражеской засады. Не живет на войне боец беспечно, без тревоги и забот, не дано, тревога всегда находится в нем, она с ним… И будит солдата в нужное время. Капитан Горшков проснулся.
По ткани палатки с шуршанием бегали мелкие капли дождя – будто мыши, было их много, в провисах ткани собралась вода.
Рядом мирно сопел Мустафа, в дождь всегда хорошо спится, капитан некоторое время слушал водяные шорохи, тишь, возникающую после них, попытался понять причины тревоги, всплывшей в нем на поверхность, но не находил. Похоже, где-то рядом обозначилась опасность, и он ее ощущал.
Он поспешно вылез из палатки. Было темно, туманно, в нескольких шагах уже ничего не различишь, – Горшков прислонился плечом к мокрому стволу, всмотрелся в ночь: что там? чего видно?
Ничего, только темное ослепление пространства – оно навалилось на него, попыталось подмять – человек в такой кромешной слепой обстановке быстро теряется, он бессилен, незряч, он становится никем.
Следом из палатки беззвучно выбрался Мустафа.
– Что, товарищ капитан? – шепотом спросил он. – Случилось чего-то?
– Не знаю… – ответил капитан, напряженно вглядываясь в дождевую наволочь.
Темнота немного разредилась, пожижела, глаза почти привыкли к ней, стали видны и другие палатки, мокнущие под водяной сыпью, – бока у палаток провисли, провисы наполнились водой.
Мустафа перекинул через шею ремень автомата.
– Может, посты надо проверить, товарищ капитан… А?
– Надо, Мустафа. – Капитан шагнул в темноту, обошел несколько палаток, в которых обосновались саперы и внезапно присел, Мустафа ткнулся лицом в его спину и также присел: впереди грохнул выстрел. Сильный, звучный, словно бы ударили из базуки. – За мной, Мустафа! – прошептал капитан и ринулся в темноту.
А там, впереди, полыхнула автоматная очередь, задавленная дождем, потом другая, затем третья. Одна из очередей была выпущена из нашего автомата – звук ППШ всегда, даже во сне, можно отличить от торопливого стрекота немецкой «швейной машинки». Из ППШ стрелял явно часовой.
Капитан первым добежал до него, упал на мокрую раскисшую землю.
– Что случилось?
– Немцы. К реке пытаются пройти.
– Много их?
– Не очень. Я засек человек пять, не более.
Горшков понял, в чем дело, что тянет фрицев к реке, усмехнулся:
– К американцам хотят уйти, гады, – мотнул отрицательно головой, – только вряд ли у них это получится.
Темнота невдалеке окрасилась в оранжевый цвет – будто свечечку кто в ночи зажег, в то же мгновение раздался автоматный стрекот. Капитан засек место, где запалилась и тут же погасла свечка, поспешно переполз к другому дереву, спрятался за толстым вековым комлем. Ординарцу сказал:
– Мустафа, ты пока оставайся здесь.
Главное, в слепой ночной стычке не угодить под свою пулю либо под случайную автоматную очередь… Тьфу, что за глупые мысли лезут в голову? А в стычке дневной в таком разе что главное?
Он ждал, когда в темноте снова запалится и тут же погаснет свечка, главное было понять: перемещается противник или залег, находится в одном месте?
Немцы перемещались по берегу – видать, где-то недалеко у них была спрятана лодка, к ней они и устремлялись, иначе чего бы им тут держаться, рисковать – давно бы растаяли, как духи бестелесные… А может, они хотят попасть на тот берег через заминированный мост?
Для этого надо быть совсем наивными людьми. Кто же даст им это сделать? Мосты всегда, любой армией брались под охрану в первую очередь. Так было и в этом случае.
Ну обозначьтесь, фрицы, ну! Неужели вы ушли? Нет, не должны уйти, фрицы здесь.
Сырость заползла капитану за воротник, опалила холодом, он поежился, шевельнул плечами.
Снова застрекотал немецкий автомат, очередь была короткой, слабой, пули, выбивая искры, защелкали о ветки деревьев, от земли сильно запахло плесенью. Свечка зажглась в старом месте – значит, немец залег – посчитал темноту и туман своими верными союзниками: не выдадут, мол… Выдадут, еще как выдадут.
Это один фриц… А где остальные? Часовой сказал, что их было пять человек… Или примерно пять – не один, в общем.
Было холодно – Горшков выскочил наружу без плащ-палатки, теперь сырость пробирала его до костей, допекала, как могла, уже обозначилась под лопатками, по коже заскользили противные, острекающие своими колючими мокрыми лапками муравьи, – гнилая все-таки весна на Эльбе.
В темноте снова запалилась и потухла свечка, шум дождя погасил стрекот выстрелов, пули всадились в комель, за которым лежал капитан. «Однако фриц бьет метко, – отметил Горшков, – он чего, видит что-то, что-то различает в этой грязной плотной темноте?»
Плоско прижимаясь к противной мокрой земле, капитан переполз к Мустафе.
– Вроде чего-то выжидают фрицы, – сказал он, собственного шепота почти не услышал, – не пойму. Может, попытаться взять одного из них?
– Зачем он нужен нам, товарищ капитан? – просипел Мустафа в ответ. – Наступление у нас не предвидится, начштаба языков не требует… Я бы не стал.
– А вдруг эти гады волокут за Эльбу какие-нибудь документы? К американцам… А?
– Все равно игра не стоит свечек. Я бы не стал.
– Как сказать, Мустафа… – Горшков, поморщившись, застегнул под горлом верхнюю пуговицу гимнастерки – за пазухой скоро будет хлюпать вода… – Жди меня здесь.
Он пополз в темноту, целя в то место, где трижды загоралась, а потом угасала свечка – было похоже, что меткий стрелок никуда не делся, продолжал сидеть там. Конечно, в словах Мустафы есть резон – а на хрена нужен этот вшивый пленный, что может он изменить в ходе войны? Оттянуть победу на один день? Вряд ли он сумеет это сделать?
Дождь продолжал шуршать по-мышиному, вызывать озноб, онемение в мышцах, влажные, ставшие морщинистыми и непослушными пальцы тоже онемели, от недалекой реки тянуло ледяным холодом. Хорошо, что в звуке дождя гаснет всякое неосторожное движение – ничего не слышно… Горшков попробовал прикинуть, сколько метров осталось до немца – выходило, немного. Метров пятнадцать всего.
Надо подползти к этому удалому стрелку метра на четыре, иначе немец опередит его, успеет скосить из автомата, когда капитан прыгнет на него. Под руку капитану попали гильзы – целая горсть использованных пустых патронов лежали кучкой, Горшков ощупал гильзы пальцами – показалось, что они еще теплые, – в этом месте еще десять минут назад находился один из фрицев-стрелков. Капитан аккуратно сдвинулся назад – если гильзы, задев друг дружку, зазвякают в ночи, это засечет автоматчик, лежавший уже совсем недалеко от него…
Хоть и недалеко находился фашист, а Горшков не видел его – темнота, сырость, грязный туман поглощали предметы, растворяли не только людей, но и огромные дома, деревья, целые парки и растерзанные снарядами рощи.
Капитан покрутил головой – показалось, что под воротник, прямо на спину, на хребет ему вылили сразу несколько ковшов стылой воды – это дерево сотрясло на него свои мокрые ветки, урожай был богатым, – поспешно отодвинулся от дерева. Ну хоть бы кто-нибудь из немцев обозначился в темноте, пальнул из автомата – нет, молчат фрицы, затаились.
Горшков прополз еще несколько метров, замер, пожалел, что взял с собою автомат, можно было обойтись пистолетом и ножом, а автомат оставить около Мустафы, – вгляделся в недобро шевелящуюся темноту: где же все-таки находятся немцы? Или же они ушли все, остался только один – для прикрытия? Либо не осталось ни одного? Капитан перевел дыхание.
Стрелок все-таки обозначился – не выдержал либо что-то почувствовал; вязкую темноту ночи разрезала короткая оранжевая вспышка, возникла она совсем недалеко от капитана, метрах в десяти, Горшкову показалось, что он даже услышал шипение пуль, унесшихся в пространство.
Стало понятно, что немец никуда не двигался, находился на месте и, судя по всему, он один – оставлен прикрывать отход своих товарищей.
Ну а те… Те либо шкуры свои спасают – слишком много у них скопилось здесь грехов, либо очки зарабатывают, волокут к американцам какие-нибудь документы и для этого ищут проход к Эльбе в другом месте.
Последние метры Горшков полз, сдирая пуговицы с гимнастерки, старался слиться с землей, самому стать ею, – и все-таки глазастый стрелок углядел его, приподнялся недоверчиво и вскинул свой «шмайссер». Нажать на спусковой крючок не успел – капитан со всего маху ударил его прикладом автомата в лоб.
Немец только ботинки вверх вскинул. Наряжен он был в штатское – в серый, испачканный грязью плащ, в разъеме которого был виден воротник рубашки с крупным, неумело повязанным узлом галстука, из-под плаща выглядывали намокшие полосатые брюки.
Капитан сапогом отбил в сторону автомат, склонился, чтобы связать поверженному стрелку руки, но что-то остановило его. Он машинально отпрыгнул в сторону и в то же мгновение тяжелое тело, выплюнутое темнотой, промахнуло мимо него.
Это был здоровенный фриц, также одетый в штатское, в шляпе, с ножом в руке – он почему-то хотел втихую снять капитана, дур-рак… Зачем? Гораздо проще было сделать по-другому. А сейчас фриц проиграл. Самого себя: проиграл, вот ведь как.
В следующий миг приклад горшковского автомата всадился ему в затылок – ударил капитан с силой, у фрица чуть челюсти не вылетели изо рта, чуть на землю не шлепнулись – нельзя было допустить, чтобы он поднялся.
Еще раз отпрыгнув, Горшков растянулся на мокрой, наполовину спаленной траве – надо было оглядеться. А вдруг из темноты вывалится еще один гитлеровец?
Было тихо. Только скрипела на ветках, шуршала в траве и палых листьях, на голых обожженных плешинах мокреть, сыплющаяся с неба, да угрюмо ползли ворохи тумана в темноте. Ничего опасного вроде бы не было – немцы, кажется, ушли. Кроме этих двоих.
Выждав несколько минут, капитан поднялся, постоял немного, изучая темноту. Тут все было важно – и то, что он видел, и то, что слышал, а главное – что ощущал. На войне внутри у всякого человека обязательно сидит некий чувствительный датчик, позволяющий и события предугадывать, и опасность ощущать, и выстраивать линию поведения, чтобы не влететь в какую-нибудь ловушку.
«Не то» у Горшкова уже было – в степи под Сталинградом он пренебрег этим правилом и вместе со своей разведкой попал в капкан. Только он и Мустафа тогда и уцелели. Да и то случайно. Интересно, что подсказывал тогда капитану его внутренний датчик и подсказывал ли вообще что-нибудь?
Этого Горшков не помнил.
Он вновь поднялся. Подошвы сапог на мокрых листьях разъезжались – ну будто маслом их смазали. Сапоги старые, стоптанные, рисунок на подошвах стерт – куда хочет обувь, туда и едет. В глотке сидела сырость, усталые мышцы были вялыми, кости ломило. Надо было отдохнуть хотя бы один раз в последние годы, поспать вволю, чтобы никто не будил, и выспаться, в конце концов, а потом уже – куда угодно: хоть в бой, хоть за обеденный стол… Любой приказ можно будет выполнить.
Держа автомат наизготове, он подошел к лежащему немцу – тому, который захотел поиграть ножичком. Выбил из скрюченных пальцев нож, поднял его с земли, стер с лезвия грязь. Это был знатный ножик – эсэсовский кортик с костяной ручкой и коротким, очень прочным, закаленным лезвием. Такими ножами пользовались еще штурмовики Рема.
Капитан приподнял голову эсэсовца. Тот был мертв – очень уж лихо опечатал его Горшков прикладом. Второй немец был жив. Капитан ухватил его за шиворот, резким рывком поставил на ноги.
Немец был вял, как тряпичная кукла, лицо его плоско светлело в темноте, изо рта то ли кровь текла, то ли слюна – не понять, Горшков встряхнул его снова, встряхнул так, что у неудачного стрелка даже лязгнули зубы. Подобрал с земли измазанный грязью «шмайссер», снова встряхнул пленника:
– Пошли, пошли, тетеря недоделанная…
До самого утра пленник сидел в палатке, кряхтел болезненно, ощупывал свою голову, морщился и снова кряхтел – капитан славно угостил его. Мустафа не спал, охранял немца, позевывал досадливо, сверлил взглядом фрица, но глаз не смыкал – нес караульную службу.
Утром немца отвели в штаб полка. Немец был упитанный, розовый, с лоснящимися холеными щеками, но когда он попал в плен, то сгорбился, постарел и вид теперь имел какой-то общипанный, будто после болезни.
Когда днем Горшков заглянул в штаб, то Мурыжин, старший лейтенант-переводчик, сообщил, что пленный оказался интендантом, интереса особого не представлял, поскольку всю жизнь командовал только амуницией да лопатами для рытья окопов и оставлен был на берегу действительно для прикрытия – прикрывал отход шести человек, которые собирались уйти к американцам. Помогал ему гауптман Фефель. Фефелю не повезло: приклад у русского автомата ППШ оказался крепче его черепушки.
– А кто были шестеро ушедших?
– Начальник гестапо, его зам и еще четыре местных шишки.
– Ушли?
– Говорит, что нет – вернулись в город.
– Ну и слава богу, – проговорил капитан удовлетворенно, – в городе мы их где угодно найдем. Кого-кого, а начальника гестапо тут должна знать каждая собака. Документы они с собою никакие не несли?
– Интендант говорит, что несли. Бумаги находились у второго гестаповца, у зама.
– Потолковать с этим интендантом можно?
– Сколько угодно. После того как ему обработали ссадину на голове, он стал говорлив, как попугай, которому пообещали орехов, – не умолкает ни на минуту. Все благодарит за то, что не убили.
Горшков понимающе склонил голову набок, усмехнулся:
– Вообще-то надо было убить гада. Он же строчил из автомата не переставая, будто костюм себе перелицовывал. Хорошо, что никого из наших не задел. Если бы задел – вряд ли сегодня находился у вас.
– Капитан, капитан, конец войне… Всем жить хочется. И этому отставной козы барабанщику тоже.
– Начштаба у себя?
– Если можешь не ходить – не ходи. Злой, как черт, которому под хвост насыпали толченого перца.
– Не ходить нельзя, – Горшков глянул на наручные часы, качнул отрицательно головой, – надо доложиться – время! Иначе… – Он отрицательно попилил себя пальцем по горлу.
– Понимаю. – Мурыжин отступил на шаг назад и шутливо перекрестил капитана. – С Богом!
Начальник штаба у них был новый. Строптивый молодой подполковник был переведен к ним из штаба соседней дивизии, в артиллерийский полк он пришел с понижением – что-то у него в дивизии не срослось, след какой-то худой он оставил там, он вообще должен был пойти под трибунал, но его спас родной папаша, которого подполковник называл папахеном, – важная фигура в центральном Смерше, в результате проштрафившегося подполковника понизили в должности, тем и ограничились.
Остановившись перед дверью подполковника, Горшков громко стукнул в нее костяшками пальцев, прислушался: отзовется хозяин кабинета или нет?
За дверью громыхнул опрокинутый стул, прозвучал невнятный голос и капитан вошел в серую унылую комнату, которую выбрал себе начальник штаба, – неудачно с точки зрения Горшкова, выбрал, но на вкус и цвет товарищей, как известно, нет.
Хозяин кабинета был занят важным делом – стоя на одном стуле, вешал на стенку портрет товарища Сталина (вождь был изображен в маршальском кителе с отложным воротником и петлицами), второй стул валялся на полу, и подполковник шутовски дергал висящей правой ногой, не зная, куда ее пристроить. Оглянувшись на Горшкова, он выкрикнул громко, будто поднимал людей в атаку:
– Чего стоишь, капитан? Ну-ка подсоби мне!
Дел-то тут было на полтора удара молотком – вбить всего один гвоздь, но чувствовалось по всему, что подполковник бьется над решением этой трудной задачи уже долго и никак не может свести концы с концами и победить. Глаза у него, как у быка на корриде, были красными. Не хотелось бы на этой битве выступать в роли поверженного тореадора.
Но подполковник вместо того, чтобы обварить Горшкова огнем, спрыгнул со стула и протянул ему молоток:
– На!
Хоть и не отличался особыми способностями капитан, и мастеровым человеком себя не считал, ему действительно хватило полутора ударов молотком, чтобы загнать гвоздь в стенку и нацепить на него бечевку, прикрепленную к портрету.
Спрыгнув со стула на замызганный паркетный пол, Горшков приложил руку к пилотке:
– Финита, товарищ подполковник!
– Финита, но не ля комедия, – спокойно произнес тот, – не то я совсем замучался, – подполковник повертел перед собой растопыренными пальцами, глянул на них, – пульку такие пальцы расшвыривают так, что любо-дорого посмотреть, все время выигрыш бывает, а вот насчет молотка с гвоздями… – Он критически хмыкнул. – Что там с союзниками из-за океана?
– Ворота держим крепко, союзники пока не суются. После вчерашних событий ничего новенького.
– Что за стрельба была ночью?
Капитан пояснил. Про себя удивился – не думал, что подполковник не знает о пленном, доставленном ему в штаб. В свою очередь спросил о Берлине: как там?
– Наши уже под Рейхстагом, бои идут на площади. Гитлер, говорят, покинул Берлин.
– Раз покинул, товарищ подполковник, то рейху – крышка. Капут!
– Вашими устами, капитан, да мед бы пить…
– Мед – не мед, а шнапс можно.
Потолкавшись немного в штабе, заглянув в комнату связи, Горшков покинул этот старый, на треть разрушенный особнячок с продавленной обмедненной крышей – судя по всему, раньше тут находилось заведение, в котором веселились богатые офицеры, – хорошо, когда разведчики не требуются, можно отдохнуть от приказов начальства…
Разведчики подтянулись к палатке командира, установили несколько трофейных палаток – они были потяжелее наших, зато надежнее, с каучуковой пропиткой, такие палатки никакой дождь не берет. Коняхин ходил между палатками, покрикивал командно, иногда помогал какому-нибудь оплошавшему бойцу – старшина из Коняхина получался неплохой, надо бы подать бумаги следом – на присвоение ему очередного звания и назначить главным хозяйственником в группе разведки… Дело в общем-то недолгое, двадцати минут на это хватит.
Увидев капитана, Коняхин сбавил обороты, но не стих – не та была натура. Горшков засек насмешливый взгляд Мустафы – тот поглядывал на Коняхина с иронией, за суетой наблюдал словно бы свысока, забравшись на дерево, но стараниям сержанта не препятствовал.
– Ну, что на том берегу? – привычно окинув взглядом противоположную сторону Эльбы, затянутую сизой кисеей, похожей на сигаретный дым, спросил Горшков. – Тихо?
– Тихо, товарищ капитан. Американцы так и не появились – сидят за теми вон домами и носа не кажут.
– Дай-ка, Мустафа, бинокль, – попросил капитан, осмотрел противоположный берег внимательно. Тот был совершенно пуст – ни одного человека, и следов войны почти никаких, – кроме обугленных деревьев леска, разбитой ломины, в которой вчера прятались юные фаустпатронщики, да большого черного пятна, где стоял горелый американский танк – из него, видать, вытекла солярка, раз место то спалило до самой земли.
– Команду пойти на контакт с американцами еще не дали, товарищ капитан? – Мустафа хитро прищурил один глаз.
– Не дали. А что тебя так волнует, Мустафа? Перспектива отведать консервов из американской индейки?
– Да нет. Просто пообщаться интересно. – Мустафа приоткрыл прищуренный глаз, вид его сделался еще более хитрым. – Понять, кто они такие, американы эти, пощупать их, воздух около них понюхать…
– И пощупаем их. Мустафа, и воздух понюхаем вместе, и даже водки выпьем – все впереди.
Неожиданно у крайней палатки, где располагались разведчики, раздался пронзительный женский визг. Капитан оглянулся недоуменно – непонятно было, что там происходит.
– Ну-ка, Мустафа, – велел он, – проверь, каким образом в наши доблестные ряды занесло какую-то непутевую бабу? Похоже, это немка.
Мустафа исчез стремительно, будто его и не было, объявился очень скоро, с собою притащил толстую разъяренную немку со следами помады, ярко испятнавшими ее круглые щеки – ну будто бы кто-то специально разрисовал эту даму тюбиком броской губной краски.
В руках разъяренная немка держала какую-то рваную тряпку.
– Вас ист дас? – визгливо закричала она, увидев капитана, и взмахнула тряпкой призывно, как флагом.
– Что с ней, Мустафа? – Горшков невольно поморщился: еще не хватало воевать с какими-то непотребными бабами, задал грубый вопрос, который в другой раз вряд ли задал бы: – Чего она орет, будто ей вырезали матку вместе с желудком?
– Фрау утверждает, что ее изнасиловали, да вдобавок ко всему порвали хорошую юбку. Насчет изнасилования она не в претензии, а вот за порванную юбку просит заплатить.
– Кто ее изнасиловал, фрау знает?
– Говорит, что какой-то солдат с медалями на груди. Вооружен автоматом.
– Солдата опознать сможет?
– На этом она не настаивает, а за юбку требует дойчмарки.
Капитан задумчиво покачал головой: эту историю можно, конечно, раздуть до размеров баобаба, а можно погасить в корне, и тогда никто ничего не узнает.
– Видите, что он сделал, герр офицер! – пуще прежнего заорала немка и вновь взмахнула порванной юбкой, несколько раз прокрутила ее над головой. Баба она была здоровая, мясистая, для изголодавшегося солдата очень даже аппетитная, ляжки были такие, что легкое платьице, которое она в спешке натянула на себя, готово было треснуть по боковым швам. И по заднему шву тоже. Платье натянуть на себя не забыла, а вот смыть помаду с крепкощекого лица своего забыла.
– Мустафа, у тебя дойчмарки есть? – Горшков решил, что раздувать эту историю ни к чему, смершевцы ведь обязательно разыщут этого бравого солдатика и еще, чего доброго, шлепнут. Медали его не спасут.
– Если надо, найдем, товарищ капитан. – Мустафа улыбнулся скуласто – одобрял действия шефа.
– Найди, Мустафа, и заплати ей, сколько она просит.
– Пли-из, фрау, – галантно просипел Мустафа, рукой показывая, куда надо идти. – Битте-дритте за мной!
Толстуха напоследок уничтожающе глянула на Горшкова, будто он был виноват в «приключении», случившемся с ней, фыркнула, давя в себе ярость, и устремилась следом за Мустафой.
Вечером Горшкова вызвал к себе начальник штаба. Подполковник пребывал в приподнятом настроении, благодушно поглаживал живот, неведомо по какой причине выросший у него на войне, – харчей жирных не было даже в высоких штабах, но у подполковника «трудовой (а может, боевой?) мозоль» наметился такой, что его едва сдерживал новенький офицерский ремень, укрепленный портупеей. Может, подполковника ранило куда-нибудь в укромное место, в результате живот и вырос? Увидев Горшкова, начштаба ткнул пальцем в стул:
– Садись!
Когда подполковник бывал раздражен, хотел подчиненного отдалить от себя, то обращался к нему на «вы», если же, напротив, считал нужным приблизить, произносил «ты».
Капитан сел на стул, глянул выжидательно на начальника штаба. Портрет Сталина висел над головой подполковника ровно и, надо признаться, украшал кабинет. Сталин на портрете довольно улыбался.
– Вот что, капитан Горшков, – начштаба помял пальцами нижнюю челюсть, словно бы после вывиха ставил ее на место, – у тебя, как мне доложили, есть опыт общения с гражданским населением.
«Ого, – мелькнуло в голове капитана удивленное, – уже кто-то успел побывать здесь и настучать, что к разведчикам прибегала злющая немка. Тьфу! Надо бы вычислить этого докладчика. Чтобы больше не докладывал».
– Есть, капитан, или нет? Признавайся!
– Нет, товарищ подполковник.
– У меня имеются совершенно другие сведения, – начштаба погрозил Горшкову пальцем, – так что не ври, капитан. А посему есть мнение – назначить тебя временным комендантом города Бад-Шандау. По нашим сведениям, в городе тридцать тысяч жителей, чуть более ста тысяч беженцев и пять тысяч раненых фрицев в воинском госпитале. Так что приступай к выполнению приказа.
– Да вы чего, товарищ подполковник? – Горшков умоляюще прижал к груди обе ладони. – Из меня комендант, как из ездового ефрейтора зулусский князь.
– Ничего не знаю, капитан.
– Но мне же велено присматривать за американцами…
– Тот приказ отменяется.
– Ведь сам генерал Егоров приказал…
– Он этот приказ и отменил, – в голосе подполковника обозначились раздраженные нотки – не любил, когда ему сопротивлялись подчиненные или хотя бы возражали. – Выполняйте, капитан!
Горшкову ничего не оставалось, как взять под козырек, внутри родилось ощущение досады, чего-то противного, холодного, показалось даже, что в глотке вот-вот вспухнет комок тошноты, но он справился с ним. И вообще делать было нечего, приказ есть приказ.
– Есть! – произнес он и, повернувшись четко, будто находился в карауле, направился к двери.
– Наши солдаты умудрились ограбить часовщика, взяли полмешка часов – все неисправные, мастер не успел их починить. Разберитесь с этой историей в первую очередь, капитан. На этом дело, я думаю, не закончится.
Капитан снова вскинул руку к пилотке:
– Есть!
Сам подумал, что виною тому, наверное, сталинский приказ о том, что всякое беспризорное имущество, валяющееся на немецкой территории, наши солдаты могут брать беспрепятственно и в размере посылки отправлять домой.
Определение «беспризорное имущество» солдаты просто-напросто опустили, вывели за кавычки и стали брать все подряд. И то, что плохо лежит, совсем не охраняется хозяевами, и то, на чем висит большущий замок и для пущей убедительности красуется табличка «Руками не трогать».
В Берлине грохотала канонада, на улицах рвались снаряды, обваливая, превращая в груды мусора целые кварталы, дома, причастные к всемирной истории, а в Бад-Шандау было тихо, даже пистолетные хлопки уже не слышались – люди привыкали к мирной жизни. Горшков послал Мустафу в «глубокую разведку», как он сам выразился:
– Узнай-ка, друг, где, в каком банке или в конторе мы можем разжиться дойчмарками.
– Зачем они нам, товарищ капитан?
– Пока других денег в Германии нет, только дойчмарки… Изнасилованную немку помнишь?
– Еще бы!
– Если бы у нас не было марок, мы вряд ли справились с этой историей. Шум пошел бы на весь фронт.
Мустафа озадаченно поскреб пальцами затылок.
– А ведь верно, товарищ капитан.
– Действуй, Мустафа.
Капитан собрал группу разведки, молча оглядел каждого, качнул головой удовлетворенно: хоть и небольшая у него была группа – всего двенадцать человек, с ним тринадцать, а стоила много, народ в ней собрался штучный (как, собственно, и во всякой разведке), а штучными бывают не только товары и производства, но и люди. Полковая разведка капитана Горшкова собрала, наверное, лучшее, что удалось отыскать в полку, в пополнениях, даже в других частях.
– Поступила новая вводная, друзья, – проговорил капитан неожиданно мягко, совершенно по-штатски, – ну совсем «штрюцким» он вернулся на этот раз из штаба (штатский народ, который не носил на плечах погон, «штрюцким» называл писатель Куприн Александр Иванович), – нам велено выполнять в городе комендантские функции. Я, значит, назначен комендантом, а вы – вся разведка, вся, до единого человека – комендантским взводом. Будем сообща наводить порядок в городе.
– Надолго это, товарищ капитан? – спросил ефрейтор Дик, плотный плечистый здоровяк с красным обожженным лицом.
– Не знаю, – честно признался капитан.
– Вот напасть-то. – Дик огорченно крякнул.
Шахматный ход насчет денег был сделан Горшковым правильно – дойчмарки потом помогли заткнуть немало дыр и уладить кое-какие скандальные дела. Ведь что ни день, то в Бад-Шандау обязательно чего-нибудь случалось. Случалось и уже знакомое: на немок – посмазливее разъяренной тетки, густо измазанной губной помадой, – нападали наши солдатики, на ходу задирали подолы и старались побыстрее добраться до сладкой бабьей начинки, стонали от страсти… Но это все ерунда по сравнению с тем, что произошло на второй день горшковского комендантства, так некстати свалившегося…
А на второй день к коменданту пришла делегация жителей Бад-Шандау – полтора десятка пожилых мужиков и женщин с пустыми кружками и ложками, проворно застучали ложами по доньям кружек:
– Брот, гepp комендант! Брот!
Что такое «брот», Горшков знал очень хорошо и раз уж терпеливые немцы начали разевать рты, как голодные птенцы, значит, приперло. Надо было что-то делать.
Капитан кинулся к подполковнику в штаб – помогите хоть чем-нибудь!
Тот раздвинул складки на пухнущем животе, сгреб их к бокам – к одному боку и к другому, – и произнес недовольным тоном:
– Вы комендант, вы эту проблему и решайте. Проявите инициативу. Ко мне больше не приходите. Кру-гом!
Делать было нечего. Горшков сел за руль доджа, посадил рядом с собою переводчика Петрониса, младшего лейтенанта, перешедшего к артиллеристам из пехоты, в кузов запрыгнули четыре разведчика с автоматами – Коняхин, Мустафа, Дик и Юзбеков, и капитан вывел машину на плохо расчищенную от обломков и разрубленных взрывами камней улицу.
Стоило проехать немного, как в окнах домов начали возникать любопытные детские мордахи, были видны и лица взрослых, но их было много меньше, чем детских, но они были, вот ведь как, – всем было интересно посмотреть на русских солдат: какие они?
Действительно ли на голове у русских растут рога, как вещал доктор Геббельс – у-умный человек, а из галифе, из прорех сзади, высовывается длинный гибкий хвост? Удивительная штука, но ни рогов, ни хвостов у разведчиков капитана Горшкова не было.
В воздух висела маслянистая копоть – кто-то поджег два крытых пропитанным жирной смолой рубероидом цеха, где производили люки для подводных лодок. На заводе том были еще два цеха, но они не работали, и их не тронули. Кто подпалил промышленное предприятие, свои или чужие, было неведомо. В этом надо бы разобраться…
Впрочем, Горшков на три четверти был уверен, что это сделали наши: они находились на территории врага, поэтому и считали, что им сам бог велел уничтожать все, что у врага есть, и в первую очередь – разные заводы, фабричонки и фабрики, мастерские, цеха, потоки, дававшие военную продукцию.
На выезде из города, около одного из домов, Горшков остановился, выпрыгнул из доджа.
– Пока все оставайтесь в машине, – скомандовал он, – со мной – Петронис. Мы скоро вернемся.
Улица эта была тихая и почти целая, снаряды ее тронули мало, несколько воронок, испортивших асфальт, были заделаны камешником, привезенным с реки, затем засыпаны песком и плотно утрамбованы. Война ведь почти закончилась, по Бад-Шандау уже вряд ли будут бить пушки, можно начинать ремонт, а потом, поднатужившись, собравшись с духом и начать отстраиваться. Заново. Уже без Гитлера.
Капитан вошел во двор небольшого кирпичного дома, обнесенного железной оградой, на крыше дома красовались свежие заплаты – несколько листов железа были сорваны взрывной волной, посечены осколками, скручены в рогульки, и хозяин, не имея под руками никакого другого материала, взял пару пустых металлических бочек, расклепал их, выпрямил листы и пустил на крышу. Горшков постучал костяшками пальцев в дверь.
– Хозяи-ин! – Снова постучал в дверь.
Занавеска за одним из окон шевельнулась, в раздвиг двух половинок кто-то выглянул, и дверь отворилась.
Ефрейтор Дик, сидя в додже, удивленно распахнул рот:
– Прямо сказка какая-то. Капитан уже и тут заимел знакомства.
– Не замай капитана, иначе дело будешь иметь со мной, – предупредил Мустафа. Ефрейтор покраснел еще больше, сквозь ожоги, казалось, вот-вот проступит кровь и не произнес больше ни слова. – Вот это правильно, – оценил его молчание Мустафа.
А капитан знал, куда и к кому пришел, потому так смело и стучал в дверь. Все дело в том, что вчера утром к нему заявился необычный посетитель – местный столяр с руками, изуродованными в гестапо: у столяра были расплющены два пальца, а с нескольких с корнем содраны ногти.
– Ты комендант? – колюче глядя на Горшкова, спросил столяр.
– Я. Временно, – ответил Горшков, попросил Петрониса: – Пранас, переведи!
– Нет ничего более постоянного, чем временные назначения на должность, – ворчливо произнес гость, оглянулся привычно и, пошарив искалеченными пальцами в кармане пиджака, достал удостоверение – книжицу в красном матерчатой переплете, аккуратно развернул ее. – Я – член Коммунистической партии Германии, – произнес он торжественно, голос его, глуховатый, с простудными трещинами, неожиданно обрел звонкость, морщины на лице разгладились.
– Очень приятно, – ответил Горшков удивленно – не думал он, что в Германии еще сохранились коммунисты, гестапо в последние годы жестоко вылавливало их, вырубало под корень, взял рукою под козырек, назвался сам.
– Сохранились коммунисты, – прежним ворчливым тоном произнес гость, – я не один в городе, нас целая ячейка… Подпольная.
– Ячейка большая?
– По нынешним временам большая. Четыре человека.
– А где остальные? – спросил Горшков почти машинально, понял запоздало: вопрос этот – неуместный.
Столяр засипел простуженно и выдохнул шепотом, едва слышно:
– Остальные казнены.
Как всякий комендант – пусть даже временный, – Горшков обладал властью, поэтому он поразмышлял немного и назначил столяра бургомистром Бад-Шандау.
К бургомистру он сейчас и приехал. Столяр, сидя на табуретке с мягким верхом и поставив на стол таз с горячей водой, отпаривал искалеченные руки, постанывал и ерзал задницей по верху табуретки – ему было больно.
Увидев капитана, он привстал и произнес каким-то измученным и одновременно очень спокойным, почти угасшим голосом:
– Сегодня в Берлине не стало Гитлера.
Горшков не выдержал, повел головою в сторону, словно бы горло ему сдавил тугой воротник, выплюнул зло:
– Надеюсь, у собаки была собачья смерть! Тьфу!
– Вместо себя Гитлер оставил гросс-адмирала Деница. По радио объявили, что Гитлер пал на боевом посту.
Капитан отплюнулся еще раз:
– Тьфу!
Столяр вытащил из таза одну руку, потом другую и, кряхтя, потянулся к приемнику, ухватился пальцами за пластмассовую бобышку, включил. Послышались звуки музыки – протяжные, навевающие уныние, капитан этой музыки никогда не слышал. Столяр пояснил:
– Седьмая симфония Брукнера. Ее очень любил покойный фюрер. – Губы столяра презрительно сдвинулись в сторону.
Симфония неожиданно прервалась, и послышался голос диктора:
– Наш фюрер Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания против большевизма, сегодня пал за Германию в своем оперативном штабе в рейсхканцелярии.
Презрительная улыбка на лице столяра расширилась.
– Пал за Германию, – хмыкнул он. – Пристрелили небось, как шелудивoго пса, и бросили в канаву. Еще, может быть, облили бензином из канистры и подожгли.
– Откуда такие сведения? – спросил капитан.
– Это не сведения, это – предположение.
– Тридцатого апреля фюрер назначил своим преемником гросс-адмирала Деница, – продолжал вещать диктор.
– Вот, – сказал столяр.
– Сегодня слушайте обращение к немецкому народу гросс-адмирала и преемника фюрера, – произнес диктор напоследок, в приемнике что-то щелкнуло, и послышались заунывные звуки симфонии, сочиненной неведомым Брукнером.
– Собирайтесь, – подогнал капитан столяра, – надо проехать по здешним хозяйствам, узнать, кто какие продукты может дать городу.
– Хорошее дело, – одобрил столяр.
– Иначе горожане от голода и вас и меня вздернут на каком-нибудь крепком суку.
– Я знаю несколько хороших фермеров, – сказал столяр, – они помогут. А я тут вот что сочинил. – Выдвинув ящик стола, он порылся в нем, извлек лист бумаги, протянул капитану. – Вот.
Горшков взял лист, повертел его и передал переводчику.
– Пранас, посмотри, что это?
Тот прочитал бумагу и, с трудом сдерживая улыбку, прижал к губам пальцы. Наклонил пониже голову, чтобы столяр не засек улыбку, если она вдруг прорвется и он не сдержит ее.
– Это документ. Наши немецкие товарищи провели первое открытое партсобрание и вынесли постановление… – Петронис покашлял в кулак.
– Ну!
– В постановлении написано: «Запрещается всем бывшим членам нацистской партии ловить в Эльбе рыбу».
Капитан также покашлял в кулак. Невольно.
– Ну и ну! Судьбоносное постановление, ничего не скажешь. Значит, поступим так, Пранас… Ты переведи поточнее. Если партийная ячейка сможет снабжать рыбой население Бад-Шандау, беженцев, госпиталь и всех остальных, я готов утвердить это постановление. Если нет, то и суда нет.
Столяр замялся, губы у него неожиданно приняли обиженное выражение, он развел руки в стороны.
– Ага, – сказал капитан. – Вижу, что партийная ячейка не готова кормить город рыбой. Постановление временно замораживается. Поехали, бургомистр, к фермерам.
Столяр закряхтел досадливо, ткнулся в один угол, в другой – искал свою выходную одежду. Что-то нашел, чего-то не нашел, закропотал недовольно, замахал руками на жену – та также заметалась по дому…
Через пять минут выехали.
Следов войны за городом было втрое больше, чем в самом Бад-Шандау. В городе люди хоть и не очень старались по этой части, но все же пытались убрать скорбные следы, засыпали воронки, растаскивали крюками горелые дома, спиливали изувеченные деревья, пускали их на корм для печей, обогревались сырыми ночами и варили еду, а в полях и в лесах изуродованная земля так и оставалась изуродованной землей, никто ее не лечил, не обихаживал.
Сидя в машине, среди автоматчиков, столяр затих, сжался, превращаясь в этакого старого мыша, боящегося кота, щурился подслеповато – он не узнавал землю, по которой так много ходил и ездил, рот у него сомкнулся в печальную скобку, отвердел, и сам он сделался печальным, здорово одряхлевшим.
Неуютно он чувствовал себя. Мотор доджа гудел натужно, разведчики держали автоматы наготове – из-за любого куста ведь могла выплеснуться свинцовая струя.
Но пока не выплескивалась, было тихо – доджу везло. Птиц тоже не было слышно – вернувшись, они старались найти себе места поспокойнее, без стрельбы и взрывов, – и переселялись туда. Таким местом у них, похоже, считался и городок Бад-Шандау, там птичьи голоса все-таки звучали.
Поездка не была удачной, проку от нее оказалось ноль: разведчики побывали в трех хозяйствах, и во всех трех им отказали – продуктов, дескать, нет, коровы, напуганные войной, перестали доиться, а куры нести яйца… «Самим бы выжить», – дружно хныкали фермеры.
Столяр был обескуражен. Даже его старый приятель, с которым он выдул не менее трех цистерн пива, – толстый, с бородавчатым лицом Курт Цигель, – и тот развел в стороны полные конопатые руки.
– Извини, Эрих, – сказал он столяру, – сам не знаю, как буду выкручиваться… Ничем не могу тебе помочь.
Маленькие заплывшие глазки его при этом ускользали в сторону, на своего пивного приятеля Цигель старался не смотреть. Все было понятно.
– Ах ты, старый куриный желудок, – сказал столяр фермеру, – обожравшийся сосискоед, павиан облезлый. – Голос у столяра сделался расстроенным, дрогнул, он махнул рукой слабо и полез в додж.
Уже в кузове доджа пробормотал угрюмо:
– Только о своем пупке и думает. Сопля бородавчатая, индюк вареный, сарделька, набитая салом… Тьфу! Тухлая задница!
– Мы в эту задницу можем вставить клизму, – сказал Горшков.
– Не надо. Хозяин он неплохой, и человек неплохой. – Столяр поправил пальцами подбородок, будто получил прямой удар в челюсть, глаза у него покраснели. – И заначка у него имеется, это совершенно точно. Надо только Курта раскочегарить. А вот как раскочегарить, пока не знаю, – столяр вопросительно приподнял одно плечо.
– Ладно, поищем способ, – пообещал ему капитан. Он сейчас думал о том, что придется вновь пойти к подполковнику в штаб и после того, как прозвучит унизительная нотация, попросить продукты… Хотя бы немного. Но даст ли подполковник что-то – это большой вопрос.
Горшков озабоченно хмыкнул и уселся за руль доджа, надавил носком сапога на столбик стартера, похожий на огрызок детской пустышки.
Мотор завелся мигом, будто машина соскучилась по дороге, по езде, по песне собственного мотора.
– Ну Курт, ну Курт, – столяр осуждающе покачал головой, – не ожидал я…
– Еще не вечер, господин бургомистр. – Горшков аккуратно обогнул две кучи навоза, приготовленные к вывозу в поле, и выехал с фермерского двора.
Ровно через сутки фермер Курт Цигель был замечен со своей одноколкой на небольшом стихийном рынке, образовавшемся неподалеку от городской ратуши – робком, тихом, на рынок совсем не похожем…
К Горшкову явился ефрейтор Дик, неуклюже козырнул:
– Товарищ капитан, там этот самый явился… Ну… – Дик иногда заикался, это было следствием контузии, произошло замыкание и сейчас, он умолк, жалобно моргая глазами, замахал протестующе ладонью, через несколько секунд одолел себя. – Ну у которого бородавки на толстой физиономии. Глаза у него еще мыльные, на подшипниках.
– Кто это? – Капитан не сразу понял, о ком идет речь.
– Ну, этот самый… Фермер.
– И что он делает?
– Продает продукты.
– Вот гад. – Капитан удивленно покачал головой: не думал, что ушлый хозяин так скоро проявится… Невооруженным глазом виден капиталист проклятый. Горшков неожиданно весело улыбнулся. – Ладно! Я же говорил, что еще не вечер – значит, еще не вечер.
– Совершенно верно, – поддакнул Дик, скосил глаза в окно. При канцелярии хозяйственной роты Горшкову выделили комнатенку с разбитыми окнами, рамы полковые умельцы заделали с помощью осколков стекла – получились не окошки, а некая разнотоновая мозаика, художественное полотно, сквозь которое была видна улица, вернее, часть ее с кучами битого кирпича и мусором, также собранным в кучи. Что интересного там увидел Дик – неведомо. Да и не до этого было Горшкову.
– Дик, возьми с собою Юзбекова и, как только этот бородавочный собственник распродаст свой товар, арестуй его, – приказал капитан, – и сюда этого Бородавкина, в комендатуру.
– А кутузка для арестанта найдется, товарищ капитан?
– Я за это время организую роскошную арестантскую. Такой во всей Германии не было. Даже у гестапо. – Горшков не выдержал, хохотнул коротко: неподалеку он нашел пустой винный подвал, который хоть и пропах духом сладкого портвейна, но вполне годился под кутузку. Осталось только заселить подвал клиентами. Похоже, дело за этим долго не задержится.
Через час Лик доставил к капитану растерянного, с трясущимися щеками Цигеля. Следом Юзбеков привел под узцы лошадь фермера, запряженную в просторный справный тарантас, снабженный, чтобы не растрясло, металлическими рессорами.
– Старый знакомый, – иронично сощурил взгляд капитан, увидев фермера, постучал торцом толстого начальнического карандаша о поверхность стола. Карандаш ему подарил столяр – он уже почувствовал вкус власти и кресло бургомистра обживал довольно успешно.
Фермер растерянно распахнул рот, пустил, словно ребенок, пузырь и сомкнул губы. Переводчик Петронис находился здесь же, в комнатке коменданта.
– Пранас, переведи этому деятелю, что мы его задерживаем до выяснения обстоятельств продажи продуктов в городе Бад-Шандау по спекулятивным ценам.
Петронис понимающе кивнул.
Бедняга фермер после такого обвинения задрожал как осиновый лист, у него даже щеки затряслись, зубы тоже затряслись и мелко застучали друг о дружку.
Дик ухватил фермера рукой за воротник, просипел сердито:
– Вперед, милейший!
К ефрейтору присоединился Мустафа: он знал, где находится облюбованный капитаном винный подвал.
– Льошадь, льошадь, пожалуста! – заполошно проревел фермер, на глазах у него появились тусклые мокрые блестки, зубы начали стучать сильнее. – Льошадь…
– Не бойся, «льошадь» твоя жива останется, – благодушно проговорил капитан, прощально махнул рукой. – Вперед!
Когда фермера увели, капитан выглянул в окошко, зацепился глазами за мусорные кучи, вызывавшие у него головную боль – надо бы убрать их, но никто из жителей на уборку не выходит, считает ниже своего достоинства, – покачал головой удрученно: охо-хо! Позвал переводчика:
– Пранас! – И когда тот наклонился на его столом, сказал: – Через полтора часа фермера надо выпустить. Пойдешь, переговоришь с ним и, независимо от того, что он скажет, вытуришь из каталажки.
На сей раз фермер был более гибким, и вообще он оказался человеком довольно понятливым, либо же его просто проняло до костей, глаза примерного труженика сельского хозяйства Германии продолжали мокро поблескивать. Увидев Петрониса, он проворно вскочил со старого скрипучего ящика, который кинул ему Мустафа.
– О-о, я все понял, все понял! – прокричал фермер, молитвенно сомкнув на груди ладони.
– А я не понял, – жестко обрезал его переводчик, – не понял совершенно, зачем вам надо было ссориться с комендантом. Ведь вам капитан заплатил бы такие же деньги, что и те, кто купил продукты у вас в городе.
– Я осознал свою вину. – Фермер отер кулаком глаза.
– Раз осознали – это хорошо. – Петронис был вежлив, на «вы», отстегнул от пояса трофейную фляжку, обтянутую тонкой, защитного цвета тканью. Отвернул колпачок. Несмотря на скромные размеры, колпачок вмещал в себя пятьдесят граммов алкоголя. Петронис налил в колпачок водки, протянул несостоявшемуся арестанту. – Нате, выпейте. Согреетесь.
– Благодарю вас, благодарю, – зашлепал губами фермер, схватил колпачок, легко выплеснул его в себя и зашлепал губами сильнее. – Зер гут! Очень хороший напиток. Гораздо лучше шнапса.
– Русская водка, – сказал Петронис и снова наполнил колпачок. – Посуда – дрек, конечно, трофейная, но зато водка своя, качественная.
Фермер перестал шлепать губами и поцеловал колпачок в тонкий серебряный бочок.
– Ах, какой божественный напиток! – умиленным тоном произнес он. – С вами следует дружить, герр офицер!
Когда фермер плеснул в рот, как в топку, вторую стопку и снова подставил колпачок под фляжку, Петронис хмыкнул весело, налил еще и проговорил недоверчивым тоном:
– Не знал, что у немцев, как и у русских, Бог Троицу любит.
Фермер, сладостно зажмурясь, выпил третью стопку и довольно крякнул.
Петронис, понимая, что так вообще можно остаться без «горючего», отнял у него колпачок и нахлобучил на горлышко фляжки.
– Приказ коменданта Горшкова таков, – произнес он строгим тоном, – каждый фермер должен доставить в город подводу хлеба. Иначе – арест и сидение в подвале.
– Если после подвала будут угощать такой водкой, я готов сидеть сколько угодно, – громоподобно хохотнув, заявил Курт Цигель. Бородавки на его лице налились свекольной краской.
– Водки не будет, – прежним строгим голосом проговорил Петронис, – а хлеб быть должен. Понятно, господин хороший?
– Понятно, – покладисто произнес фермер, после трех стопок водки сделавшийся очень словоохотливым, – чего ж тут не понять? Но водка все-таки нужна. У моих коллег должен быть стимул.
– Стимулом будут деньги, – сказал на это переводчик, потом, помедлив, добавил: – Впрочем, для отдельных выдающихся личностей будет и водка.
– Это хорошо, – благодушно пророкотал фермер, – я завтра же привезу вам две телеги зерна.
Фермер не обманул Петрониса: назавтра, в час дня, у окошек комендатуры остановились две одноколки с высокими бортами, доверху наполненные хлебом. Петронис подарил фермеру бутылку русской водки, ну а Горшков… Горшков рассчитался с ним за зерно гитлеровскими дойчмарками.
Другой валюты в Германии пока не было.
Мародерам и насильникам временный комендант Бад-Шандау пригрозил, сцепив зубы:
– Если кого-то застукаю на месте преступления – расстреляю без суда и следствия.
Но истосковавшимся по женской ласке солдатам было плевать на это предупреждение – они слышали (и видывали) и не такое… На войне случались вещи и пострашнее предупреждения временного коменданта. Немок насиловали регулярно, в том числе и бойцы из родного для Горшкова артиллерийского полка, – только вот жалоб не было ни одной.
Немки то ли боялись жаловаться, то ли также соскучились по общению – ведь от стариков, остававшихся в годы войны в Бад-Шандау, проку было немного. Что мог сделать седой бюргер с иной могучей дамой? Только сыграть на губах что-нибудь из Вагнера или Мендельсона, еще снять с себя штаны и предъявить в качестве оправдания свои вялые причиндалы, и все. Еще со старым немцем можно было обсудить последние новости, пришедшие с фронта.
Когда Горшкову сообщили о том, что изнасилованные немки предпочитают молчать, он махнул рукой:
– Раз молчат – значит, и изнасилования не было, и я ни о чем не знаю. Но ежели натолкнусь… – Капитан красноречиво показал кулак.
Подумал о том, что самое паршивое дело – быть на войне комендантом, лучше пятнадцать раз сходить в разведку, чем один день побыть комендантом такого муторного городка, как Бад-Шандау.
Погода стояла прежняя, не теряла своих «мокрых» позиций – часто сыпали противные холодные дожди, с Эльбы наползали едкие густые туманы, явно давно должно было наступить тепло, но оно не наступало.
В ночь со второго на третье мая погиб лейтенант Кнорре. В туманной вечерней темноте он возвращался к своим саперам – получил в штабе приказ о разминировании моста – предстояли торжественные объятия с американцами на генеральском уровне, – и неожиданно услышал резкий женский вскрик.
Крик повторился, но был придавлен чьей-то крепкой рукой. Лейтенант поспешно кинулся к двери дома, где раздавались крики, рванул ее на себя, распахивая, очутился в небольшом, слабо освещенной коридоре, очень чистом – немцы вообще были очень чистоплотными людьми, Кнорре отмечал это не раз, – рванул одну дверь, оказавшуюся на пути, увидел темную, бедно убранную комнату, в которой никого не было, с силой захлопнул дверь, рванул следующую.
Эта комната оказалась посветлее – на стене висела керосиновая лампа, электричества не было, лампа была старинная, с темным стеклянным корпусом и высоким чистым стеклом. В комнате Кнорре увидел троих.
Все трое были наши. Двое держали немку за ноги и за руки, чтобы не дергалась, один попутно зажимал ей рот, третий насиловал. Делал это азартно, сладостно, со стонами.
– Что вы творите, сволочи? – закричал Кнорре, зашарил правой рукой по поясу, нащупывая кобуру с пистолетом. – Что творите? А ну, прекратить!
Он лапал пальцами пояс, искал кобуру и не мог ее найти. С ним что-то происходило, а что именно, он не мог понять. Ну словно бы ослеп, сделался немощным лейтенант…
– Прекратить немедленно! – выкрикнул он яростно, удивляясь тому, что с ним происходит.
Тот, который дергался, прыгал на несчастной женщине, лейтенанта даже не услышал, а вот дюжий сержант, зажимавший немке рот, услышал и выстрелил в Кнорре прежде, чем тот достал свой пистолет. Выстрел отбил лейтенанта в коридор, на пол он свалился уже мертвым – пуля пробила ему сердце.
Растерявшиеся насильники, пригибаясь низко, будто нашкодившие псы, толкаясь и сопя, выскочили из дома – за убийство офицера им грозил не штрафной батальон – грозил расстрел.
Горшков, услышав о гибели Кнорре, сжал кулаки, на щеках его заходили желваки, глаза блеснули жестко.
– Я найду того, кто застрелил лейтенанта, – пообещал он, разжал кулаки и снова сжал. – Клянусь, найду! – Он замолчал, крепко стиснул зубы: вспомнил, как маленький лейтенант со своими ребятами недавно минировал мост.
А сегодня мост этот уже надо разминировать, Москва салютовала американцам, с которыми надлежит повидаться и обняться, столькими-то там залпами и собирается салютовать еще… Солдаты, находящиеся на Эльбе, не должны отставать от Москвы…
Ночью грузовики взяли семидесятишестимиллиметровые пушки на жесткую сцепку и оттащили от моста на разрушенную окраину Бад-Шандау, в почерневший от огня лесок – там расположились две батареи артиллерийского полка.
На рассвете на рычащем, с оторванной выхлопной трубой «студебеккере» прибыли саперы, возглавляемые нервным старшим лейтенантом-грузином, и принялись за разминирование моста.
На разминирование потребовалось времени больше, чем на минирование, – старший лейтенант, несмотря на нервную дрожь, пробегавшую по его загорелому лицу и карту минного поля, которую он держал в руках, действовал очень осторожно, медленно, с оглядкой, снимал заряды по одному и грузил их в кузов «студебеккера».
На берег Эльбы высыпала целая толпа солдат-зевак, действия саперов, поскольку ночь уже прошла и наступило утро, было светло, громко обсуждались.
– Ты глянь, как он тащит мину! Вспотел парень так, что даже яйца к взрывателю приклеились.
– Ага. Перепутал мину с бабой. Как бы не оторвало достоинство.
– А вон, смотри, второй ковыляет… Будто телятница на сносях, живот в беремя обхватил, не мычит только.
– Как бы он не родил на мосту.
Шутки были благодушными, тон голосов – свойский, война для этих людей кончилась – так считали они, но считает ли так их командование – вот вопрос…
В тылу ведь остался мощный кулак немцев, сколоченный из пятидесяти полнокровных дивизий и шести штурмовых групп – полмиллиона человек. Сдаваться немцы не собирались, сопротивлялись ожесточенно 1-му, 2-му и 4-му Украинским фронтам. Бои шли такие, что делалось тошно и небу и земле. Руководил обреченными гитлеровскими дивизиями генерал-фельдмаршал Шернер.
Дениц настаивал, чтобы Шернер немедленно начал отвод дивизий на запад, разрезал войска русских, будто ножом, смял их, достиг Эльбы и там сдался американцам – те с немцами воевать не будут; Кейтель и Йодль были против этого плана, они считали, что как только группировка Шернера отойдет со своих позиций, так будет тут же разбита русскими, других вариантов нет – исход будет один.
Столкнулись две точки зрения, два взгляда, но оба они не предусматривали капитуляцию, прекращение бойни. Это означало – кровь будет литься еще, и много крови – захлебнуться в ней можно будет. Перемолоть полмиллиона хорошо вооруженных немцев – на это придется положить столько же своих или почти столько. В руках у гитлеровцев продолжала находиться едва ли не вся Чехословакия, в Праге против фрицев поднялся город, целиком восстал, улицы перекрыли траншеи и баррикады, если Прагу сейчас не выручить, она будет уничтожена вместе с людьми. А выручать Прагу придется тем, кто, обойдя Берлин, прорвался на запад и находился сейчас на Эльбе.
Придется идти на Прагу и капитану Горшкову со своими людьми. Впрочем, Горшкова это устраивало – очень уж обрыдли комендантские обязанности, хлебнул он достаточно, на всю оставшуюся жизнь. Горшков жалел, что у него не хватило решимости отвергнуть предложение подполковника, не хватило, наверное, потому, что фрукт был очень уж неведомый – скрипучий стул коменданта, если бы он знал, что это за пряник, то пошел бы к генералу Егорову и отбился.
А пока надо было отыскать того, кто застрелил маленького лейтенанта-сапера. Память о нем требовала того.
Для начала надо было понять, какие части стоят в Бад-Шандау. Крупных частей было две – два полка, артиллерийский и стрелковый, все остальное – по мелочи: передвижная мастерская по ремонту танков, неведомо как тут очутившаяся, рота связи фронтового подчинения и небольшая группа разведки, прибывшая из штаба армии – вот и все бойцы.
Рота связи отпадала сразу – это была женская рота, командовала девушками пожилая женщина в звании старшего лейтенанта, группа армейской разведки также отпадала, ее Горшков знал, да и в тот момент, когда погиб лейтенант Кнорре, она ходила на тот берег Эльбе.
Оставались два полка и танковая мастерская. Оказалось, что мастерская эта состояла сплошь из стариков, очень умелых, которые могли приклепать палец к носу так прочно, что хрен оторвешь, а главное – боли не почувствуешь. Руководил мастерской подслеповатый инженер-капитан, в несколько раз лучше разбирающийся в многомудрых механизмах, чем в человеческих отношениях. Он встретил Горшкова, будто большого начальника, стоя, через десять минут выстроил во фрунт своих подопечных – седых и лысых, очень усталых людей, которые были рады передышке, которую получили в Бад-Шандау.
– Вот, – сказал начальник мастерской и обвел шеренгу заскорузлой рукой, в которую, кажется, навсегда въелось машинное масло, – все мои люди налицо. – Добавил с некоей нежностью в голосе: – Очень даже хорошие люди. Опытные ремонтники.
В строю стояло восемнадцать человек, кое-как одетых, кое-как подпоясанных, держать строй неспособных, но очень ценных, ценность их Горшков представлял очень хорошо, каждый из этих стариков стоил целого взвода танков.
– Вольно, – сказал им Горшков, притиснул ладонь к пилотке, – извините, что побеспокоил вас.
– Ничего-ничего, – понимающе смежил глаза под толстыми стеклами очков инженер-капитан, махнул рукой. – В жизни всякое бывает. Удачи вам!
– И вам, – Горшков снова притиснул ладонь к пилотке, – и главное – здоровья.
– Здоровье никому из нас не помешает. – Инженер-капитан улыбнулся застенчиво, в скошенном раздвиге губ показались серебристые коронки зубов, он поклонился Горшкову. – И удачи вам в ваших делах…
Капитан, сопровождаемый Мустафой, ушел. Оставались два полка – артиллерийский и стрелковый, у пушкарей народу поменьше, у пехотинцев побольше. Как же всех пропустить через комендантское чистилище, через фильтры Горшкова, как обнаружить человека, который стрелял в маленького лейтенанта?
– Насчет нашего полка я уверен, товарищ капитан, – безапелляционно заявил Мустафа, почесав затылок, – наши не могли этого сделать.
– Я тоже уверен в этом, – кивнул ему в ответ Горшков, – но уверенность – это еще не доказательство. Нужны доказательства, Мустафа.
– И все равно, товарищ капитан, это сделала пехтура. Ну хоть убейте меня – они это.
– Нужны доказательства, доказательства и еще раз доказательства. Где они, Мустафа? – Горшков помял пальцами воздух, жест был демонстративным, он словно бы считал деньги. Лицо у капитана напряглось, на скулах плотно натянулась кожа.
– Ладно, попробую пошукать у пехотинцев – вдруг найду какие-нибудь зацепки?
– А у артиллеристов пошукать не хочешь?
– У артиллеристов позже, товарищ капитан… Во вторую очередь.
Мустафа оказался прав. В разведке стрелкового полка у него отыскался земляк – очень близкий земеля, в одном районе родились, одним воздухом дышали, – земляк, помявшись немного, сказал, что он слышал об одном походе солдат из хозвзвода к немкам, в котором дело закончилось стрельбой, но тот ли это поход или какой-то другой, он не знает…
– Ты назови мне хотя бы одну фамилию этих кривозадых из хозвзвода, а дальше я сам разбираться буду, – сказал Мустафа земляку, – я сам и мой командир. Понимаешь, дело уж больно нехорошее. Если приедут товарищи из Смерша, ты представляешь, что они тут наколбасят? Камня на камне не оставят.
– Представлять не представляю, но наколбасят они точно много, – согласился с Мустафой земляк. – Ладно. Дай мне денек, я попробую кое-что разузнать.
– Денек? – Мустафа поднял брови домиком, вид у него сделался таким, будто он слушал сейчас самого себя, пытался понять, что происходит у него внутри. – Денек даю, – произнес он разрешающе, – но не более.
Назавтра Мустафа снова появился в стрелковом полку.
– Выкладывай, что разузнал? – потребовал он у земляка.
– За стопроцентную точность ручаться не могу, но на пятьдесят процентов уверен – это они.
– Кто они?
– Есть у нас одна тройка… – земляк усмехнулся недобро, – нападающих. За главного у них сержант Крылов. Видишь, какая знатная у него фамилия? Как у великого баснописца. Но в отличие от баснописца оторва он распоследняя и компанию себе подобрал такую же – из оторв и, извиняй, подонков. Пробы на них ставить негде. В ту ночь, когда грохнули сапера, они примчались в хозвзвод заведенные, бледные и из горлышка выдули по бутылке шнапса. Без закуски.
– Не верю, чтобы в хозвзводе не нашлось закуски.
– Верь не верь, но это было так.
– Значит, фамилия у него, говоришь, знатная? Как у баснописца?
– Да. Крылов.
– Главное – не ошибиться, – Мустафа еще с давних, зэковских времен был знаком с неким воровским кодексом чести, одним из принципов которого был именно этот – не ошибаться. – Крылов, значитца, его фамилия?
– Крылов, – вновь подтвердил земляк.
– Ладно, зарисовал я эту фамилию. – Мустафа поправил висящий за спиной автомат, прощально хлопнул земляка по плечу и неожиданно спросил: – Кумыс давно в последний раз пил?
– У-у-у. – Земляк взвыл, будто паровоз, на который пикировал фашистский самолет. – Очень давно. Дома это было, еще до фронта.
Мустафа вздохнул.
– А я последний раз пил кумыс аж в тридцать восьмом году. – Губы у него сморщились горестно, глаза сделались узкими и влажными, было понятно, о чем он думает – о местах, в которых родился и жил когда-то… Остались они в прошлом, в некоем тумане времени, где ничего не видно – ни людей, ни лиц. Только сердце бьется оглашенно, очень часто и громко, норовит выскочить наружу. Интересно, как там, на родине, живут люди? И живут ли?
Горшков раскрутил «баснописца» – на руках у капитана имелась гильза от «ТТ», из которого стреляли. Эту темную латунную «мензурку» ему передала семья изнасилованной немки, – гильза эта побывала в стволе «ТТ», висевшего на поясе у сержанта Крылова… Это первое.
И второе – из тела лейтенанта Кнорре была извлечена пуля. А всякая пуля – это фамильный росчерк оружия, из которого она была выпущена. Из пистолета сержанта сделали несколько контрольных выстрелов, собрали пули и сравнили их с тупой долькой, изъятой из тела сапера, результат был тот, который ожидал Горшков, – те же самые следы, те же царапины. Значит, стрелял в лейтенанта «баснописец».
– Ну что, будешь признаваться или станешь кочевряжиться? – спросил Горшков у «баснописца», ответа дожидаться не стал, добавил: – Если признаешься чистосердечно, то, возможно, сохранишь себе жизнь, не признаешься – получишь такую же дуреху себе с затылок, – показал сержанту свинцовую пулю, запечатанную в медную рубашечку. – Выбирай!
– Признаюсь, – глухо проговорил «баснописец».
– Вот и хорошо, – проговорил капитан, сунул руки себе за спину – очень захотелось расстрелять мерзавца тут же, сейчас же, немедленно, – сцепил пальцы в кулак – и некоторое время так и держал их за спиной сцепленными, затем выкрикнул громко: – Мустафа!
Мустафа с автоматом стоял за дверью, признание «баснописца» слышал, всунул голову в дверной проем.
– Уведи задержанного, – приказал ему капитан.
Подойдя к «баснописцу», Мустафа ухватил его под мышки, приподнял обмякшее тяжелое тело, отрывая от стула:
– Пошли, родимый!
«Баснописец» поднялся, покорно сунул руки за спину. Плечи у него обвисли, сделались дряблыми – от былой стати ничего не осталось, – губы задрожали плаксиво…
Горшков сделал выразительный гребок ладонью, показывая Мустафе: уводи, мол, быстрее, и без того воздух тут тяжелый, – ординарец в ответ понимающе кивнул, ткнул «баснописца» стволом автомата между лопаток:
– Шнель!
Нагнув голову, арестованный поспешно шагнул к двери: ему хотелось как можно быстрее исчезнуть отсюда. Теперь с «баснописцем» будет разбираться Смерш, и сочинитель там все расскажет – и как немку насиловали, и как стрелял в сапера, и кто были его подельники… Горшков постарался его выплеснуть из головы, забыть, поскольку у него и без того дел было выше крыши, и главное из них – разведка.
С американцами встретились на разминированном мосту – «америкосы» вышли на него принаряженные, в желтых кожаных ботинках, с сиреневыми цветочками, засунутыми за отвороты пилоток, и двумя ящиками виски.
Наши в грязь лицом тоже не ударили – появились при орденах, в начищенных сапогах, во главе с генералом Егоровым.
Следом за генерал-майором четверо горшковских разведчиков несли два ящика «белоголовой» – московский водки, держа тару с драгоценными бутылками с двух сторон, как носилки. Было это неловко, но все равно лучше, чем нести ящик одному человеку.
С американской стороны вперед выдвинулся зубастый лупоглазый полковник в новенькой, еще необмятой форме, надетой, видать, специально по случаю торжественной встречи с русскими, грудь полковника была украшена широким рядом цветастых орденских колодок. Егоров по сравнению с американским полковником выглядел обычным усталым дедом.
А с другой стороны, повоевал бы полковник столько, сколько воевал этот «дед», сколько не спал ночей, сколько маялся, отступая от врага и наступая на него, сколько съел лекарств, страдая от язвы желудка и приступов сердечной слабости, – то вряд ли бы выглядел так браво и зубасто, – согнулся бы, делаясь похожим на обычный лошадиный хомут.
Полковник выкрикнул что-то гортанно и, лихо раскинув руки в стороны, будто крылья, кинулся к Егорову, тот растопырил руки ответно, крякнул сдавленно, кoгда американец стиснул его в объятиях.
– ЮэСэй энд СэСэСэРэ – дрюжба! – оглушил полковник генерала лозунгом, который он специально заучил на русском языке.
Генерал глянул на Горшкова, неотступно следовавшего за ним – так было велено, – и скомандовал тихо:
– Наливай!
Горшков обернулся к Мустафе, и у того, как у фокусника, неожиданно оказались в руках сразу штук восемь граненых стаканов, насаженных один на другой, сержант Коняхин торопливо выдернул из ящика одну бутылку и рукояткой нарядного немецкого кинжала, снятого им с убитого эсэсовца, обколол сургуч со стеклянной головки. Пробку выколотил из бутылки ударом кулака.
Налил два полных стакана водки, генерал в ответ грозно глянул на него: чего ж ты делаешь, сукин сын, зачем своих спаиваешь? Спаивай лучше американцев. Коняхин смущенно покашлял в кулак.
– Извините, товарищ генерал! Учтем на будущее.
Американец влил в себя стакан водки, будто воду, даже не поперхнулся. Генерал одобрительно покосился на него и поднес к губам свой стакан. Медленно, маленькими глотками, не отрываясь, выпил.
Столпившиеся на мосту американцы дружно зааплодировали. К ним присоединились и наши. Хлопали довольные, будто в театре на хорошем спектакле. Полковник вновь потянулся к генералу Егорову, будто малое дитя к своей матке, обнял его, облобызал и прокричал заученно:
– ЮэСэй энд СэСэСэРэ – дрюжба!
– Правильно, – качнул тяжелой головой генерал, обернулся к своей свите: – А ну, ребята, наливай! Угощайте щедрее американцев!
Шум поднялся великий, такого маленький городок Бад-Шандау не слышал, наверное, со времен крестоносцев.
– Мустафа! – позвал Горшков ординарца, видя, что к нему присматривается здоровенный негр с улыбкой во всю свою многозубую белую пасть, – очень симпатичный был негр, в чине, кажется, офицерском. – А, Мустафа!
Наконец Мустафа вывинтился из толчеи людей, встал перед командиром.
– Там что-нибудь от моего пайка осталось? – спросил Горшков.
Мустафа отрицательно качнул головой:
– По-моему, нет. Ребята все срубали.
– Заначка какая-нибудь у нас имеется?
– Найдем, товарищ капитан. – Мустафа скромно кашлянул в кулак.
Свой офицерский паек Горшков никогда не съедал в одиночку – всегда делил его с бойцами: ведь в разведку-то он ходит с ними, им бывает также тяжело, как и ему, значит, и плавленые сырки со сгущенкой и печеньем, которые он получает в продпайке, надо бросать на общую скатерть, он отдавал продукты Мустафе либо Коняхину и говорил просто:
– Это на всех.
Коняхин с добродушной миной, прочно припечатанной к его лицу, сгребал продуктовые дары в кучу и обычно произносил:
– Благодарствую от имени всех ребят, товарищ капитан.
– Благодарствуй, благодарствуй, – машинально откликался на это капитан и, погруженный в свои мысли и заботы (в последнее время от разведки начали требовать слишком много бумаг, раньше такого не было), махал рукой: иди, мол…
О том, как расходуется его паек, кто лакомится печеньем фабрики «Рот Фронт», а кто нет, он узнавал от Мустафы – ординарец внимательно следил за тем, чтобы никто не был обижен, и бывал, ежели что, строг. Хотя капитану никогда не жаловался, если было надо кого-то наказать, обходился своими силами.
Мустафа словно бы законсервировался, он не изменился совершенно, все такой же, как и три года назад, когда Горшков забрал его из свежего пополнения и усадил на грузовик, – был по-прежнему широкоплеч и низок ростом, не вырос ни на сантиметр, светлые рысьи глаза его по-прежнему были пронзительны, все видели, он, как и прежде, был ловок и подвижен, рассказывать любил не о фронтовых своих проделках, а о погранцовской службе на Дальнем Востоке, о том, как гонялся по уссурийским дебрям за нарушителями, достать мог, как и раньше, что угодно…
И где он достает, скажем, мясо, когда у начпрода полка нет ни одного мясного кусочка, а мед в местности, где нет не то, чтобы пчел а даже мух, не знает никто. Но Мустафа делал это.
Он мог добывать огонь из ладоней, потерев их одна о другую, поймать рыбу на голый палец, из двух веток и пучка травы, сорванной под ногами, сварить вкусный суп… Мустафа – это был Мустафа.
– Вперед, Мустафа, – сказал ему капитан, – волоки сюда закуску. Русскую… Чтоб американцам тошно сделалось.
Мустафа притиснул руку к пилотке и исчез.
Разведчики ходили сейчас в пилотках – очень удобный головной убор пилотка, американцы вон тоже ходят в пилотках, даже их главный – полковник. И генералы у них, говорят, тоже не брезгуют пилотками.
– Еще водки, – послышался голос генерала Егорова. В следующее мгновение генерал лихо, как актер на сцене, щелкнул пальцами. Призывный жест.
Коняхин начал быстро и ловко обкалывать сургуч на горлышках водочных бутылок, наполнил первый подставленный ему стакан, потом второй, следом третий: граненые стаканы понравились американцам, в их стране такой посуды не было.
Бутылка опустела стремительно, Коняхин пустил в ход следующую, потом взял еще одну, стукнул рукояткой кинжала по запечатанной пробке. Мелкие сургучные сколы полетели в разные стороны.
Два ящика водки были опорожнены в десять минут, скорость поглощения была необыкновенно высокой, Егоров был вынужден крикнуть, не прекращая общения с американцами:
– Бойцы, где подмога?
Подмога не замедлила появиться – разведчики Горшкова притащили еще два ящика водки, Коняхин снова принялся стучать кинжалом по горлышкам, следом за водочной подмогой прибыл Мустафа с внушительным свертком, сказал капитану:
– Вот!
Круглое лицо его светилось довольно.
– Что это? – тихо спросил Горшков.
– Первоклассное украинское сало. С худобинкой. И с чесночком, товарищ капитан.
– Ты же мусульманин, Мустафа.
– Ну и что? Сало мне, конечно, не положено есть, но это вовсе не означает, что я буду брезговать им всю оставшуюся жизнь. – Жесткие обветреннее губы Мустафы раздвинулись в улыбке.
– В таком разе, Мустафа, пластай сало – удивим союзников.
– Думаю, что не удивим, товарищ капитан.
– Почему так считаешь?
– Они там, в Америке своей, едывали все – и чертей жареных, и суп из одуванчиков, и тюрю с коньяком. Нет, товарищ капитан, таких людей удивить трудно.
Американцы тем временем потчевали русских своим напитком – золотистым виски, ловко стряхивая с бутылок железные пробки, наливали в стаканы, следом кидали пару квадратных кусочков льда – чтобы пилось приятнее.
Русские удивлялись:
– Надо же!
Угощали американцы и своей закуской – бутербродами с беконом, принесли несколько подносов.
Ефрейтор Дик взял один бутерброд, подцепил пальцами ломтик бекона и, посмотрев на свет, произнес удивленно:
– Надо же, облака видны!
Коняхин, потянувшись за очередной бутылкой, хлопнул Дика ладонью по животу:
– Ешь, пока живот свеж.
– М-да, – согласился с ним Дик, – раз дают, то бери, если бьют – беги.
– Наше сало с худобинкой лучше американского. – Мустафа успел напластать ножом уже целую гору закуски, разложил ее на пустом снарядном ящике, принесенном с берега, крупно нарезал хлеб, доставленный из штаба полка и широко раскинул руки: – Союзнички, налетай!
Облака, висевшие с утра над Эльбой, поредели, попрозрачнели и разошлись в разные стороны, сквозь туманную кисею проклюнулось солнце, ненадолго проклюнулось – через несколько минут накрылось дымным сизым взболтком, на мост наползла недобрая тень, вместе с нею – что-то холодное, способное принести боль, но люди, толпящиеся на мосту, внимания на это не обратили совсем, они радовались: война кончается… Кончилась война.
Акт о капитуляции еще не подписан, но это уже не играет никакой роли, – не суть важно это, – дело сделано, победа находится в кармане.
К Мустафе пристал нарядный американец, у которого на голове вместо пилотки косо сидела цветастая полосатая шапочка с помпоном на макушке, шапочка была сшита из трикотажа и растягивалась, словно резиновая. «Клоун», – невольно подумал Мустафа, на всякий случай улыбнулся пошире – нельзя, чтобы его обвинили в нерадушии к союзникам. Клоун протянул ему руку и назвался:
– Джон!
Мустафа понял, что тот назвал свое имя, протянул руку ответно:
– Мустафа!
Американец снял с пояса широкий нож, украшенный птичьей головой, протянул его Мустафе.
– Ченч! – ткнул пальцем в старую финку с наборной ручкой, которую Мустафа наполовину засунул за голенище сапога. – О'кей? Ченч!
– Ченч? Да, это мой старый нож, называется ченч. – Мустафа нагнулся и звонко хлопнул себя по голенищу, потом, поняв, что говорит не то, крикнул Петронису, находившемуся рядом с генералом: – Товарищ младший лейтенант, что по-американски означает «ченч»? Ножик, да?
– Не знаю, как по-американски, но по-английски «ченч» – обмен.
– А-а-а, – наконец сообразил Мустафа, – американец предлагает мне махнуться: за мою старую финку дает мне свой заводской кинжал.
– Меняйся не глядя, – Петронис засмеялся, – ты в выигрыше.
– Да не интересует меня никакой выигрыш, – отмахнулся Мустафа, – мне надо, чтоб все честно было. Моя финка двадцать копеек стоит, а его кинжал – сто рублей. Разница большая.
– Не в деньгах дело, Мустафа. Меняйся! Не обижай союзников.
– Й-йэх! – Мустафа лихо рубанул рукою воздух. – Была не была! Только не считай, американец, что я тебя обманул.
Неподалеку заиграл аккордеон, серебристая мелодия, поплывшая по пространству, была хороша, навевала грусть, мысли о доме, – очень захотелось тем, кто находился на мосту, поехать домой, к родным, в милые сердцу места, – судя по тому, что война подошла к концу, не за горами находится счастливый день, когда прозвучит приказ отправляться в родные пенаты.
До-ом, что для всех нас он значит? Да, собственно, все. Краем глаза Горшков заметил, как рослую красивую машинистку из штаба полка, за которой пытались ухлестывать многие офицеры, но вся было бесполезно, подхватил статный белозубый негр и закружил в танце.
Сизая наволочь сползла с солнца, раздвинула своей тяжестью облака, обнажился кусок чистого яркого неба, стало видно, что в образовавшейся прорехе кружится крупная птица, высматривает что-то, дивится веселью, развернувшемуся на мосту. Там, где гремит стрельба, никогда не бывает птиц, но стоит только стрельбе затихнуть, как птицы тут как тут – они не намерены изменять человеку.
Но они же и боятся человека.
Окруженные хороводом людей, оглушенные шумом, криками, праздничной необычностью обстановки, аккордеоном, генерал Егоров и Горшков оказались на одном пятачке прижатыми друг к другу, оба с пустыми стаканами – опустошили их в очередной раз, и все, больше никто не налил. Горшков даже подивился: неужели такое бывает с генералами.
– Ну как, сынок, обстановка в комендатуре? – неожиданно поинтересовался Егоров. Вид у него был усталый, невыспавшийся, тяжелые веки набухли нездоровой краснотой. Горшков невольно покачал головой: неужели генерал знает и про комендатуру?
– Не мое это дело, – произнес он огорченно, – за языком сходить – мое дело, с корректировщиком огня засесть на какой-нибудь высоте – мое дело, в бой ввязаться, чтобы выручить своих, – мое дело, а вот комендантская лямка – не мое, товарищ генерал. Освободили бы вы меня от нее, а?
– Потерпи, потерпи, сынок, – мягко пророкотал генерал, – погоди еще немного, скоро мы тебя заменим. Надо найти для Бад-Шандау настоящего коменданта, а на это нужно время, сынок… Потерпи пока, ладно?
– Есть потерпеть, товарищ генерал! – Горшков притиснул ладонь к пилотке. Вытянул шею: что-то не видно ординарца. Выкрикнул зычно: – Мустафа!
Мустафа будто по мановению волшебной палочки возник перед ним. Капитан показал ему пустой стакан.
– Не стыдно тебе, Мустафа? Добудь-ка нам виски.
Поспешно кивнув, Мустафа исчез – все-таки он умел исчезать, как дух бестелесный, за превращениями его в невидимку и обратно проследить было невозможно.
Через несколько мгновений Мустафа возник снова. В руке он держал квадратную темную бутылку с яркой этикеткой. Это было виски – любимый напиток американских пехотинцев, как показалось Горшкову. Впрочем, водку они тоже пили охотно, не отказывались…
– Товарищ генерал, дозвольте. – Мустафа сунулся с бутылкой к Егорову, налил полстакана золотистой, пахнущей свежим хлебом жидкости, поймал начальственный кивок и вежливо проговорил: – Пожалуйста, товарищ генерал-майор! – Передвинулся к Горшкову: – Ваш стакан, товарищ капитан!
Горшков подставил под заморскую бутылку свою посудину, ординарец налил немного – капитан отмерил ногтем, сколько у него должно быть виски, Мустафа неверяще приподнял одну бровь: мало, мол, товарищ командир, не похоже это на вас, но Горшков был тверд: ему сегодня еще канителиться в комендатуре, принимать посетителей – не хотелось выставляться перед немцами этаким красноносым алкоголиком, – чокнулся с Егоровым: тот сам потянулся к нему со стаканом.
– За нашу победу, товарищ генерал!
В ответ Егоров улыбнулся печально: что-то происходило у него в душе, а что именно – не понять, внутрь-то ведь не заглянешь.
Веселье на мосту через бурную темную реку продолжалось. В холодной воде Эльбы возникали воронки, втягивали в себя разный мусор, пропадали, держась стремнины – течение съедало их, под мостом проносились разные плавучие предметы – промахнул выдернутый из земли телефонный столб, следом неожиданно неторопливо – его сдерживали порывы ветра, – проследовал дырявый пустой шкаф, вот проплыл труп – затылком вверх, лицом вниз, с опущенными руками, словно мертвый человек этот хотел зацепиться за что-то на дне и остановиться, труп был немецкий, затылок украшала рваная рана.
– А что, сынок, трудностей в комендатуре все-таки много? – неожиданно поинтересовался Егоров.
– Есть трудности, товарищ генерал, – не стал скрывать Горшков, – даже не ожидал, что такие могут быть. – Ну, например, жители Бад-Шандау оказались ленивым народом…
– Немцы – и ленивые? Быть того не может!
– Еще как может. Сколько ни просил приступить к разборке завалов, к расчистке улиц – никто даже пальцем не пошевелил. Ноль внимания.
– Но так расчищают же улицы, капитан!
– Расчищают. Только после письменного приказа, – под нажимом. Вывесил приказ – пошли, а так в кармане держали фигу. Не реагировали просто никак.
– Почаще вывешивай приказы, сынок.
– Я так и поступаю. Бургомистр решил организовать танцы под духовой оркестр. Немцы отвыкли от музыки и танцев – Гитлер после Сталинграда запретил им и то и другое. Вывесил объявление: дорогие граждане Бад-Шандау, приходите в городской парк на танцы. Ни один человек не пришел. Тогда мне пришлось издать приказ.
– И что?
– Побежали на танцульки, как миленькие. Даже семидесятилетние старушки. Поляну, отведенную под танцплощадку, забили так плотно, что люди там не поместились.
– Это хорошо. – Егоров засмеялся.
– Но есть проблема, которую я не смогу решить без вашей помощи, товарищ генерал.
– Что за проблема?
– Фрицы, отступая, бросили свой госпиталь…
– Это я знаю. Пять тысяч раненых.
– Куда их девать?
– Тех, кто может передвигаться, я бы отправил домой.
– А тех, кто не может? – Горшков поморщился, словно сам был раненым, помял в руках стакан, будто хотел его раздавить.
– Этих придется долечивать.
– Где же я возьму столько лекарств, товарищ генерал-майор? – Капитан даже голову втянул в плечи. – Это же понадобится столько аспирина, анальгина, стрептоцида, прочих снадобий и бинтов – никакая дивизионная медслужба не потянет.
– Киньте клич по городу…
– Вряд ли в Бад-Шандау найдется столько лекарств.
– Дерзай, сынок, – обязательно все получится, – Егоров поправил на плече начальника разведки погон, жест был отцовским. – А я со своей стороны разведаю, чем нам сумеет помочь медицинское управление армии. Как-нибудь выкрутимся.
– Конечно, жаль, товарищ генерал, тратить свои лекарства на врага, но…
– Вот именно – «но», – качнул Егоров тяжелой головой, – мы же победители, нам и тащить этот хомут.
– Верные слова, товарищ генерал. – Горшков не выдержал, вздохнул. – Сегодня же поеду в госпиталь, посмотрю еще раз, что там есть у фрицев, а чего нет.
– Поезжай, сынок.
В комендатуре Горшкова ожидала молодая грудастая немка. Глаза задорные, щеки румяные – кровь с молоком, рот припух, будто от затяжных поцелуев. Во взгляде – затаенный зов, что-то сладкое, способное вскружить голову всякому мужчине, даже сделанному из железа. Мустафа, увидев незваную посетительницу, зацокал языком, словно восторженная птица, которую угостили горстью пшена.
– Что случилось? – по-русски спросил капитан у аппетитной немки.
Та залопотала бодро, быстро – не разобрать, что говорит, – завзмахивала руками, из глаз начал брызгать голубой огонь. Горшков поднял руку, останавливая немку, попросил Петрониса:
– Пранас, переведи! Ничего не могу понять… Что она высыпала на меня?
Петронис усадил немку на стул, произнес что-то резко, и та мигом умолкла, задышала возбужденно, грудь у нее сделалась похожей на тумбочку – можно вазу ставить, – заговорила спокойно, с деловыми нотками в голосе.
Петронис, слушая ее, кивал неторопливо, потом поднял руку:
– Стоп!
Немка умолкла, захлопала своими искристыми глазищами – хороша была дамочка. Капитан вопросительно глянул на переводчика:
– Ну?
Петронис, словно бы сомневаясь в чем-то, приподнял одно плечо – может, он услышал что-то не то? – затем вздохнул и пробормотал:
– Даже не знаю, как сказать, товарищ капитан…
– Как есть, так и говори.
– Согласно вашему приказу она несколько раз выходила на расчистку улиц. В результате от этой работы у нее пропало молоко.
– У нее что, на руках грудной ребенок?
– Да.
– Тьфу! Могла бы вообще не выходить на расчистку.
– Могла бы, товарищ капитан, да побоялась ослушаться приказа.
– Ох уж эти немцы! – Горшков поднялся с расшатанного скрипучего стула – сделал это аккуратно, опасаясь завалиться, приоткрыл дверь в коридор: – Мустафа, где ты?
Мустафа не замедлил нарисоваться, лихо хряснул кирзачами друг о дружку. Хорошо, что каблуки не отвалились.
– Тут я, – глядя на немку, сладкоголосо пропел ординарец.
– Мустафа, у нас в кассе что-нибудь имеется?
Ординарец сложил домиком бесцветные короткие бровки.
– Кой-что имеется, товарищ капитан, – добавил на всякий случай: – Самая малость.
– Придется эту самую малость раскассировать, Мустафа.
Ординарец вновь бросил заинтересованный взгляд на немку, вторично стукнул сбитыми каблуками сапог.
– Всегда готов, товарищ капитан!
– Выдели немного денег на ребенка гражданке – это раз и два – сгоняй с ней к бургомистру, передай мою просьбу: пусть каждый день выделяет этой даме по литру молока. – Горшков сделал пальцем указующий жест. – Пранас, переведи, чтобы мадам все было понятно.
Петронис перевел. Немка расцвела, сделалась пунцовой, из глаз брызнули радостные искры, она присела в книксене.
– Данке шен, герр комендант!
Петронис открыл было рот, но Горшков осадил его рукой:
– Не надо, Пранас, это понятно без всякого перевода.
Переводчик хрипловато, как-то кашляюще рассмеялся, немка не отстала от него – смех ее был легким, звучным, как у феи, капитан не выдержал, поднес ко рту кулак и тоже рассмеялся, хотя, как он полагал, комендантам, находящимся при исполнении служебных обязанностей, смеяться не положено.
Хоть и заартачился бургомистр, не желая ежедневно выделять по литру молока из скудных фермерских поставок, а капитан все-таки дожал его, заставил это делать.
– М-м-м, – стонал бургомистр. – У нее брат погиб на Восточном фронте, офицером был, между прочим, обер-лейтенантом, отец находится у вас в плену, в Сибири, муж, сгородивший ребенка, пребывает невесть где, может быть, сейчас сидит в Берлине, защищает бункер Гитлера, а я ее должен кормить молоком… Неразумно это, господин комендант.
– Эсэсовцы в ее семье были?
– Эсэсовцы? – Бургомистр замялся. – Нет, эсэсовцев не было.
– А раз не было, то, значит, нет политических причин, чтобы отказать ей в молоке.
Бургомистр повозил губами из стороны в сторону и безнадежно махнул рукой:
– Неправильно все это… Но вас не переспоришь, господин комендант.
Через два дня немка вновь появилась в комендатуре, принесла с собой расписной эмалированный тазик, наполненный чем-то доверху и накрытый большой льняной салфеткой, обметанной по краям шелковыми розовыми кружевами – типично дамское рукоделие, – протянула тазик Горшкову:
– Это вам!
В ответ капитан вежливо наклонил голову, принял тазик и сдернул с него салфетку, легкомысленно украшенную кружевами. Тазик оказался доверху наполнен пирожками.
– Испекла из муки, которую берегла с сорок третьего года, – сообщила немка.
Горшков восторженно покрутил носом:
– М-м-м! Не ожидал, что в Германии могут печь пирожки.
– Не умеют, герр комендант, не умеют. Это я вычитала в поваренной книге, в разделе русской кухни. Там подробно описано, как печь пирожки.
– Благодарю вас, фрау…
– Фрау Хельга.
– Благодарю вас, фрау Хельга. – Горшков взял один пирожок, откусил немного. – М-м-м, с повидлом. Очень вкусно!
– Извините, герр комендант, другой начинки не было.
– И не нужно, фрау Хельга. Я больше всего люблю пирожки с повидлом. Это с детства…
– Я прочитала в книге: в России много рецептов – пирожки с мясом, с печенкой, с ягодами, с картофелем, с луком, с капустой…
– Но лучше всех сладкие пирожки с повидлом. – Горшков даже зажмурился: так остро пахнуло на него детством, что захотелось нырнуть в свое прошлое, в счастливую школьную пору и раствориться там.
Вечером Горшкова вызвали к начальнику штаба.
Полный молодой подполковник, фамилию которого никак не могла удержать цепкая память Горшкова, – мудреная была фамилия, – сидел в своем кабинете в новеньком скрипучем кресле (успел расшатать своим крепким телом) и пил соду. И вчера, и позавчера, и сегодня он крепко переел и перебрал горячительного на встречах с американцами и теперь здорово страдал.
Увидев Горшкова, подполковник поморщился нехорошо и поднял трубку полевого телефона.
– Дайте мне первого, – попросил он дежурную связистку, чей острый тоненький голосок был слышен даже Горшкову, стоявшему в отдалении, у порога, а когда первый отозвался, подполковник попросил: – Товарищ генерал, дозвольте зайти.
Получив добро, подполковник молча, по-птичьи покивал и нахлобучил на голову фуражку. Фуражка была ему мала, сидела на голове косо, как поварской чепец, при ходьбе сваливалась то на одно ухо, то на другое. Подполковник встал со стула и выразительно щелкнул пальцами, подавая команду: пошли!
Командир дивизии Егоров, сгорбившись, навис над столом и задумчиво подперев голову обеими руками, рассматривал карту. Перед ним стоял чай в изящной трофейной посудине, втиснутой в подстаканник, генерал про чай забыл, и он остыл. На стук двери поднял голову, в следующее мгновение улыбнулся скупо.
– Твоя взяла, капитан, – неожиданно произнес он. – Придется тебе сдать свои комендантские полномочия. И – как можно скорее. Сделать это надо сегодняшней ночью.
– Готов сделать это в любую минуту.
– Ну, минуты тебе не хватит. Насколько я понимаю, ты уже успел обзавестись кое-каким хозяйством.
– Успел, товарищ генерал. Час назад мне передали, что американцы пропустили к нам целый батальон проституток.
– Да, мне об этом тоже доложили. – Егоров с досадою поморщился. – И откуда только они взяли их?
– Обслуживали власовскую армию. Дамочки наши же, русские.
– И это я знаю. – Егоров поморщился снова, помял пальцами виски – история с проститутками ему не нравилась.
Несколько таких дамочек уже попробовали приклеиться к нашим солдатам, обслужить их бесплатно, но надо отдать должное солдатикам, они не клюнули на дармовые сладости, сказали, что предпочитают ухлестывать за немками.
– Но это еще не все, товарищ генерал. Есть данные, что американцы собираются пропустить на нашу сторону и самих власовцев.
– Час от часу не легче. – Егоров, усмехнувшись, поскреб пальцем затылок. – Ладно, пусть пропускают! Встретим достойно. Вам, подполковник, что-нибудь про власовцев известно? – Он перевел взгляд на начальника штаба.
– Пока эти данные еще не подтверждены.
– Вызвал я вас не за этим. – Егоров подхватил пальцами карандаш и стукнул им по карте. – Бад-Шандау наша дивизия оставляет и в полном составе перемещается вот сюда. – Егоров обвел торцом карандаша географическое пятно, похожее на разломленную лепешку, – это был крупный город. Горшков скосил глаза, прочитал напечатанную черными четкими буквами надпись «Прага». – Здесь сидит мощная группировка, которой командует Шернер. Сдаваться группировка не хочет, поэтому утром идем туда. Дорога тяжелая. Смотрите сюда, капитан. – Егоров провел торцом карандаша по пятнистой гряде. – Это Рудные горы, их надо пройти и артиллерии, и танкам. – Генерал поднял глаза, вгляделся в Горшкова. – Впереди пойдет разведка. Вы, капитан…
– Понял, товарищ генерал-майор.
– Пойдете на «доджах», – Егоров наклонил голову, будто утверждая это свое решение. – «Додж» – машина сильная, поэтому потащите с собой пушки – мало ли что… Для оперативности возьмете пару «виллисов» – вдруг понадобится провесить дорогу или отклониться куда-нибудь вбок.
– Вбок – это хорошо, товарищ генерал. – Горшков не выдержал, засмеялся. – Движение вбок – самое милое дело для разведки.
– Отправление – в шесть утра, когда рассветет, сынок, так что поспешай, дорогой. Под твоей командой будет десять «доджей», пушки и рота «тридцатьчетверок». Командир танковой роты – капитан Пищенко. Все понятно, сынок?
– Так точно.
– Карту и маршрут движения получишь перед отправлением.
– Кому сдать дела в комендатуре?
– А вот, – Егоров повел подбородком в сторону подполковника, – ему вот и сдай.
Рассвет над городком Бад-Шандау занимался тревожный, холодный, с низкими громоздкими тучами, едва ползущими над землей. Тучи были переполнены водой, хотя дождя не было.
Серый угрюмый горизонт пробила раскаленная красная полоска, сдвинулась вначале влево, потом вправо, расширилась, в середине ее возник проран, похожий на кроличий глаз, зашевелился, будто живой. Откуда-то потянуло дымом. На небе появилась рябь, притащилась она откуда-то издалека, ползла валами. Горшков подумал невольно: «А вдруг это дым берлинских пожаров?»
Вполне возможно. Берлин, где еще шли бои, не так уж и далеко находился от Бад-Шандау.
В глубине разбитых улиц городка заскрежетали гусеницы – шли танки. Скорее всего, это и была рота, которой генерал усилил группу разведки. Через некоторое время звук танков исчез, потом возник вновь, уже ближе, моторы ревели сильнее, через пять минут головной танк выскочил на площадку, где стояли «доджи» с прицепленными к ним семидесятишестимиллиметровками – пушки были взяты на жесткую сцепку, – с ревом развернулся.
В открытом люке, держась обеими руками за металлический край, как за щит, сидел смешливый светлоусый танкист, щурился довольно, будто только что съел сладкую коврижку, – танкист выкрикнул громко, перебивая рокот мотора:
– Где найти капитана Горшкова?
В ответ Горшков поднял руку:
– Это я.
Танкист ловко выдернул ноги из люка и спрыгнул на землю, оправил комбинезон, перепоясанный офицерским ремнем:
– Капитан Пищенко, командир танковой роты. Когда отправляемся?
– Уже готовы. Ждем карту и маршрут движения. Баки залиты бензином по самую пробку, так что… – Горшков сделал красноречивый кивок в сторону «доджей», – плюс на каждую машину – две двадцатилитровые канистры запаса. У вас как с горючкой?
– Тоже заправились под завязку. И запас кое-какой взяли с собой. С таким расчетом, чтобы без остановок дойти до Праги.
– Ну, остановки все равно будут…
– Только не по части горючего и смазочных масел, – бодро ответил Пищенко.
Тучи над городом сгустились, сомкнулись, тревожная красная полоска, висевшая над горизонтом, пропала.
Через двадцать минут Горшков получил от хмурого майора из штаба дивизии нужные бумаги и скомандовал:
– По машинам!
Первым пошел «виллис», на котором сидели Горшков с водителем, курносым орловским пареньком, сзади – Петронис и Мустафа с автоматами, вторым – «додж» с весело галдящими разведчиками – им тоже, как и Горшкову, надоела комендантская сбруя, рады были ребята, что впереди замаячило живое дело, в кузове «доджа» разместились Дик, забавляющий публику немецкими анекдотами, Юзбеков, сержант Коняхин, еще несколько человек, машина была вместительная, людей забирала много, в третьем «додже» ехали артиллеристы младшего лейтенанта Фильченко.
Горшков приподнялся в «виллисе», оглянулся, глядя, как выстраивается колонна, первый человек, на котором он задержал взгляд, был как раз Фильченко, сидевший рядом с шофером. Длинный, нескладный, в каске, на манер горшка нахлобученной на голову. Капитан приветственно вскинул руку – салют, земеля! – Фильченко в ответ улыбнулся широко, во весь рот, словно получил третий орден вдобавок к двум имеющимся у него, также вскинул руку.
Хороший человек Фильченко, и артиллерист хороший, но иногда бывает смешным, солдаты подшучивают над ним, – впрочем, это носастому, голенастому земляку-земеле никак не мешает, в бою его авторитет бывает непререкаем. На сибиряка, на кемеровца, Фильченко никак не был похож, словно бы слеплен был из другого теста, неморозоустойчивого…
Но Горшков был готов пойти с ним в любую разведку: Фильченко, ежели что, и из огня вытащит раненого, и в бою прикроет, и последним сухарем, присыпанным солью, поделится. Горшков ощутил, как в горле у него возникло блаженное тепло, а губы сами по себе растянулись в улыбке.
За колонной «доджей», погромыхивая гусеницами и трубно взревывая моторами – так, что с крыш разбитых домов Бад-Шандау посыпалась мелкая битая черепица, – пошли танки. Второго «виллиса» Горшкову не дали, сказали – обойдешься одним. Все равно колонна получилась очень внушительная.
Всмотревшись в карту, Горшков отметил, что проезжать они будут мимо фермы Курта Цигеля; можно, конечно, завернуть к нему, но рев танков перепугает не только коров, но и всех несушек, урон латифундии Цигеля и городу Бад-Шандау будет нанесен внушительный: Курт больше всех сельских хозяев поставляет продуктов бюргерам.
А жаль, что нельзя заехать – неплохо было бы испить парного молочка, опрокинуть кружечку и заесть куском пышной свежей лепешки. Надо полагать, что Курт не отказал бы бывшему коменданту города. Горшков отогнул рукав гимнастерки и посмотрел на часы.
Время поджимало. Они выехали с опозданием на восемнадцать минут. Но восемнадцать минут – не восемнадцать часов, в пути это время наверстается. Горшков считал такие вещи для себя обязательными. Повернулся к ординарцу.
– Мустафа, сколько там на твоих кремлевских?
Тот сощурился хитро:
– Вы же знаете, товарищ капитан, мы опаздываем на восемнадцать минут.
– Молодец, Мустафа, – с неким восхищением произнес Горшков, – на ходу каблуки у командира откусываешь.
– С вами иначе нельзя, товарищ капитан.
Усыпляющее медленно уползала дорога под капот «виллиса» – от танков отрываться было запрещено, хотя и хотелось, сзади пофыркивали своими моторами справные «доджи», лязгали гусеницами «тридцатьчетверки», громыхали, выплевывали из патрубков черный моторный дым, артиллеристы тем временем завели песню – хорошая вытанцовывалась музыка.
Танки, пушки. На двух «доджах» стояли минометы – боевая получилась у них группа, может сломать горло сильному врагу.
Сидевший за спиной Мустафа простудно покашлял в кулак, хотя простуженным не был.
– Что-то холодно сделалось, товарищ капитан!
– Ты чего, Мустафа, намекаешь на что-то?
– Так точно, товарищ командир. – Мустафа нагнулся, сунул Горшкову под мышку фляжку, обтянутую плотной темной тканью – так называемой «чертовой кожей», из которой шьют танкистские комбинезоны, совершенно неснашиваемой, вечной. – Держите!
Капитан перехватил фляжку, открутил пробку, вспомнил, что видел у ординарца и другие фляжки – похоже, у него имелся целый набор этого добра, на все случаи жизни, оглянулся на Мустафу и одобрительно кивнул:
– За нашу великую победу!
Отпил прямо из горлышка, не наливая содержимое в колпачок – расплещется ведь, жалко, – вкусно почмокал губами: отменная штука! И взор проясняет, и сердце заставляет биться ровнее, и дыхание делает легким, покосился вопросительно на ординарца. Тот пояснил:
– Коньяк, товарищ капитан. Выдержанный.
– Ну, Мустафа! Явно в погреб какого-нибудь немецкого графа забрался.
– Никак нет. Это подарок нашего бургомистра – целых три бутылки передал вам.
– Да ну! – Горшков вновь приложился к фляжке, чмокнул губами по-мальчишески: напиток ему нравился – мягкий, горло не дерет, градусов сорок в нем есть, но они не ощущаются, пахнет коньяк солнцем… Передал фляжку Петронису. – Пранас, оскоромься!
Тот принял фляжку аккуратно, чтобы ни капли не расплескать, сделал несколько крупных звучных глотков, произнес многозначительно:
– М-да-а!
– Мустафа, божественный напиток этот храни пуще глаза, – приказал капитан, – отпускать будешь только по моему распоряжению.
Ординарец знакомо покашлял, потом повел плечами и приподнял их, будто крылья:
– Ветер просаживает насквозь, скоро в теле дырки появятся.
Горшков засмеялся – он все понял.
– Отпей, Мустафа, и никаких дырок не будет.
Город остался позади, один за другим потянулись сельские пейзажи, очень схожие, словно бы сработанные по одному трафарету – пейзажи вгоняли в дрему. Когда нет разнообразия, обязательно наваливается дрема, глаза слипаются, но спать нельзя: дорога есть дорога – и в засаду можно угодить, и на мину напороться.
Дрема – прочь! Хорошо, что под рокот мотора, под дерганое движение уползающей назад дороги легко думается, в голову приходят не только дельные мысли, но и воспоминания. О доме, о тех, кто остался там. Интересно знать, чем живет ныне родная Сибирь, есть ли хлеб на столах у близких людей?
Капитан помрачнел: когда нет хлеба, то жизнь, даже самая яркая, с природными красотами, будет казаться тусклой и недоброй, и плохо, очень плохо, если мать его в Кемерове сидит сейчас без хлеба. Он вспомнил своего отца – тот тоже находится в армии, тоже воюет, по количеству звезд на погонах перегнал сына – уже майор, а вот дед Константин Андреевич не воюет, хотя также имеет офицерское звание и знает, как в Первой конной армии кончиком вострой шашки отделяли голову от туловища.
А вообще-то дед был типичным чеховским интеллигентом, и даже на Антона Павловича был похож, речь у него была мягкая, ровная, матерных слов он не употреблял, даже стыдился их, ровно бы и мужиком не был… Народ, когда дед приехал работать в Сибирь, а точнее – на Дальний Восток, в Забайкалье, поначалу даже подтрунивал над ним, а потом прекратил: поняли люди, что надо быть таким, как Константин Андреевич Балашов, и сами начали стыдиться мата, вот ведь как. У деда все, что он ни делал, получалось, а отучить людей от мата вообще оказалось штукой несложной.
Когда у него спрашивали, как ему удалось справиться с такой непосильной задачей, которая будет потруднее, чем выполнение плана по электрификации страны, он делал невинные глаза:
– Да не я это вовсе. Люди сами перестали материться. – Дед вздергивал вверх указательный палец. – Сами!
Константину Андреевичу не верили – и правильно делали, – а он только улыбался да протирал бархатной тряпочкой свои старые очки.
По профессии дед был бухгалтером. Настоящим, опытным, съевшим на «гроссбухах» половину своих зубов, и, прибыв с бабушкой и двумя внуками, оставшимися на его попечении после покойной дочери, очень скоро понял, что бухгалтерия, которую ему подсовывают на новом месте, в управлении лагерей, – липовая, двойная, что этого будут требовать и от него же, и если он не согласится, то его обязательно арестуют по 58-й статье и очень быстро подведут под пулю.
А у него на руках двое детишек – они же внуки. И уволиться с работы нельзя – не дадут, поскольку он уже прознал, чем занимаются местные энкавэдэшные правители, и стоит ему только заикнуться об увольнении, как итог будет тот же – пуля в затылок.
Заключенным в здешних лагерях – подопечных деду, – специально выдирали изо рта здоровые зубы, чтобы меньше ели, морили голодом, ломали пальцы. Бабка Анастасия Лукьяновна всякий раз, проходя мимо лагерной ограды, бросала за колючую проволоку хлеб – все достанется кому-нибудь из зэков.
Какой же выход придумать? Можно ли выбраться из этой вонючей ямы? Дед думал, думал и придумал… Велел Анастасии Лукьяновне собирать и припрятывать продукты.
– Собирай муку, крупу, сахар, – сказал он, – чем больше – тем лучше. Предстоят тяжелые времена. Понятно, мать?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/valeriy-povolyaev/brosok-na-pragu/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
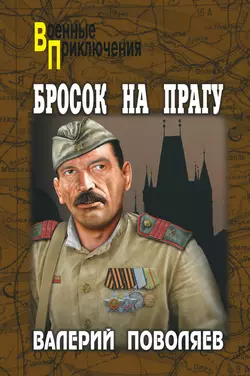
Валерий Поволяев
Тип: электронная книга
Жанр: Книги о войне
Язык: на русском языке
Издательство: ВЕЧЕ
Дата публикации: 22.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В новом романе признанного мастера отечественной остросюжетной литературы «Бросок на Прагу» читатель вновь встретится с героями книги «Список войны». На сей раз командиру группы разведки капитану Горшкову, его ординарцу Мустафе и их боевым товарищам предстоит принять участие в последней крупной военной операции Великой Отечественной войны… В повести «Солнечные часы» рассказывается о героической обороне Ленинграда.