Барсуки
Барсуки
Леонид Максимович Леонов
Всемирная литература
«Барсуки» – первый роман выдающегося советского писателя Леонида Леонова – это крупное эпическое полотно, в котором изображено предреволюционное московское мещанство и драматические эпизоды революционной борьбы в деревне.
Возрастное ограничение: 16+
Леонид Леонов
Барсуки
Жили-были
Два брата родные.
Одна мать их вспоила,
Равным счастьем наделила:
Одного-то богатством,
А другого нищетой!
(Слепцы поют)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Егор Иваныч Брыкин женихаться едет
Прикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село, именем – Егор Брыкин, званьем – торгаш. На Толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшенье либо в обиход: и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки… Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на Толкучем: у Брыкина глаз косой, но меткий, много видит; у Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки, – великими делами отметит себя Егорка на земле.
А за неделю до Казанской нашел Брыкин стертый пятак под водосточным желобом. С пятака и пристала к нему тоска. Осунулся и помертвел, вся скупая пища, какую принимал, на разращенье его тоски пошла. Тут как-то, сидя на койке у себя со свечкой, сосчитал Брыкин сумму богатства своего и задумался. Причудилось ему, что уже настало время удивить мир деянием большого человека Егора Брыкина, а тоску за предвестье славы своей счел. Парень он был коммерческого смысла, знал потехе меру, деньгам счет, высшему чину лукавый почет, а себе истинную цену. Пораздумав вдоволь и дело обсудив с городским своим приятелем Карасьевым, порешил Егор к жнитву домой жениться ехать.
Назаровскую, с лихими бубенцами, нанял он со станции тройку, – четвертной билет Егору в женитьбенном деле не расчет. Ямщика щедро выпоив чаем с баранками, чтобы в Сускии не ночевать, сел пошире да поскладней на все сорок четыре скучных версты, сплюнул из-за папироски, покрестился со смешком на иконку в подорожном столбе, сказал ямщику речисто и степенно:
– Правь.
Дернул коренник, свистнула по пристяжке вожжа. Трескуче защебетали железные шины по крупному щебню станционного шоссе. Потом свернули в сторону, смягчилась дорога высокой топкой пылью. Куриные домики станционной мелюзги сменились тяжкими ржаными полями. А вокруг двинулись, уплывая назад, старознакомые виды Егоровой стороны.
Плыли мимо глухие овраги, сохраняющие к далекой осени влажный холодок, и рощичка крохотная, о семнадцати березках, стоящих на отлете под пылью и ветром, плыла. Проплывало ленивое и чинное, как ржаной ломоть, все насквозь соломенное Бедряга-село, и полянка резвая убегала, на которой, в гостях у бедрягинского дядьки, игрывал в лапту с ребятами Егорка.
Заяц проскакивал на опушках, и воробьи взлетали со свистом крыл. Старенький попик в заплатанной ряске проползал мимо, кланяясь и сторонясь ко ржи. Бабку обгоняли, бредущую к ровеснице за семь верст – навестить, новости выведать, хлебца откушать, – не поторчал ли у подружки хлеб. И над ними над всеми буйным облаком взвивалась от Егорова поезда густая дорожная пыль.
Любо стало Егору Брыкину озирать с высокого тарантасного сиденья все эти когда-то пешком пройденные, полузабытые места. Вишь – и небушко, милое, не каплет! И ржица доцветает, а ветер бежит по ней, играя облаком дурманной ржаной пыльцы. И теленочек, рябенький голубок, у загороды привязан стоит. И солнышко над дальним синим лесом, усталое за день, медленно клонится к закатной черте. И впрямь отдохни, родное: надоест еще тебе мужицкую жатву полуденным жаром обвевать!
Взыграла Егорова душа.
– Как, не зажинали еще по волостям? Не слышно?
– Куда ж еще зажинать! – смеется беззлобно ямщик. – Ведь рожь – она как? Она две недели выметывается, да две цветет, да две наливает… а тут она, глянь, еще и не побелела! Вот Гусаки, сказывано, уж и серпы зубрят, – не оборачиваясь, в бороду гудит ямщик.
– Зубря-ат! – степенным гневом вспыхивает Егор. – Ровно татаре аль цыгане там твои Гусаки! И в самый светлый день-круги, Махметка!..
Вожжи вскидываются на потные лошадиные спины. И опять одолевает неустанная назаровская тройка тягучие, ленивые версты. День переменяется на вечер. Холодеют дали кругом. В тонкий пыли посерели лакированные жениховские сапожки.
Приятным дремотным ручейком текут мечтанья сквозь Егорову голову. Как приедет, так и пойдет к Мите Барыкову в гости, с гармонью, на выселки. И как придет, так и сядут они, два, рядышком на крылечке, так и заиграют дружно на двух гармонях, вместо пустых разговоров – как жил, что пил, чем похваляться приехал. А потом, пооткинув гармонь за плечо, вытянет Егорка сапожки свои, Мите в зависть и раздражение, да и вытащит из кармашка ненароком серебряный свой, полных восемьдесят четыре пробы, с голой дамочкой на крышке, портсигар: «Не угодно ли папиросочку тонкого формата, Дмитрий Дорофеич? Табачок самый турецкий, четвертак коробка, в магазине куплено!..»
Замечтавшись, томно клонит голову на плечо Егорка. Сладко жениху предчувствовать собственной свадьбы угарную пьянь. Ох, Егорка, житье твое просторное! Вон сколько места предоставлено земной твоей славе!
– Только б папенька не помер. Всем делам подгадит, – вздыхает вслух Егор Иваныч и опять поникает головой.
– Чего-о?.. – равнодушно тянет ямщик.
– Много ль осталось, спрашиваю! – грубо кричит Егор и косится злым взглядом на морщинистую грязно-красную ямщиковую шею, и ежится, разбуженный от мечтаний, в своем люстриновом пиджачке.
– Да вот сам считай… От Бедряги до Рогозина пяток наберется, да две проехали. Да от Рогозина до Сускии десять. Вот тебе и выходит…
А уж меркнет безветренное небо. В краю луга дотлевает за дальними лесами ласковая полоска зари. Подорожные кусты стоят ровно и кругло. Приходит в тот край большой покой трудового сна.
Вдруг стала тройка. Скинулся с козел, вглядывается в сумерки кустов ямщик. Потом, на ходу разминая затекшие ноги, идет неспешно к тем кустам. А мать Егора догадливым родила, – кричит Егор Иваныч:
– Ой, никак, ваше степенство, капустки с сыренькой водичкой обхлебались?
Тот будто и не слышит. С возрастающей тревогой подается из тарантаса Егор. Склоняется ямщик к кустам, даже и обрывки его речи не доходят до настороженных Егоровых ушей. Ямщик идет обратно, несет на руках мальца лет тринадцати, легко – точно липового. У мальца губы запеклись, как в болезни, лицо – цвета праха и пыли, а руки висят, словно и нет их, а рукава одни. Обессилевшее тело мальца покорно и гибко в коротких руках ямщика.
– Неужели клад отыскал? Чур, пополам! – трескуче хохочет Егор Иваныч.
– Пополам и придется, – слышит Егор в ответ. – Ну-ко, примости его направо да попридержи: как поедем… не выпал бы!
И, не дожидаясь Егорова согласья, впихивает ямщик найденыша к Егору на сиденье. Малец дрожит, бессильным стебельком клонится на возмущенного Егора.
– Эй, борода! – хорохорится тот и с негодованием отстраняет лакированный сапожок от грязного Мальцева лаптя. – Ты меня, кажись, одного нанимался везти. Парень и так добежит. На парня у нас с тобой уговору не было.
Ямщик рывком трогает с места. Смолкает и Егор Иваныч, тронутый внезапным соображением: «Ой, медведя, Егорка, не серди! Места глухие, воровские, болотные. И сгниешь ты, Егорка, со всеми сундучками и турецким табачком в болотной дырке, бесславно и безвестно».
Тут предночной ветерок подул и колыхнул верхушку проползавшей ветлы. Золотое полотенчико померкающей зари порвалось в лиловые клочья. Пыль прилегла, и задымились росы. Неутомимые, на стежках застрекотали ночную песню кузнечные хоры. Опять бегут под колеса сажени и версты, еле успевает переступать по ним разгоряченными ногами коренник.
Село Суския! Маячит в сумерках белый толстый храм торгового села. Горят костры по низкому берегу Мочиловки, – светляки полусонному взгляду Егора Брыкина. Картуз нахлобучивает поглубже Егор Иваныч и мальца прихватывает к себе, чтоб не слишком бился на ухабах. Опять в неглубокий омут жениховских мечтаний уходит Брыкин с головой.
Как приедет – спать. А с утра оделит Егор Иваныч сродников гостинцами, знакомцев поклонами, степенным щелчком зазевавшегося мальца. Потом, гармонь потуже подтянув к плечу, айдакнет Егор Иваныч к Митьке в гости. А уж к вечеру и повытомит он и статных девок, и крепких вдовух, и засохших вековух и сапогами, и гармонью, и тонкими, немужицкими разговорами, в которых что ни слово – ровно томпаковое кольцо: и блестит, и сердце голубит, и скинуть его с перста не жаль. А что ряб Егор Иваныч, как рогожка, так ведь лицо что? Лицо – что пол: было бы вымыто. Зато как отгуляет он холостые денечки, зашлет свахой Катерину Тимофеевну, попадью и ябеду, к Бабинцовым на двор. И наказа своего повелит не преступать: чтоб не сразу выкладывала Егоров помысел, а почванилась бы вволю, будто невеста с глуховатинкой, будто уж и перины в чулане подопрели, и шубы повылезли, ожидая зятя Григорию Бабинцову, Аннушке – мужа и хранителя. Катерина Тимофеевна в жизни знает толк: толста, и слова у нее круглые. Закуролесит всю волостную округу Брыкин. Все гармони на десять верст округ похрипнут от Егорова веселья. Ой, великое куриное пьянствие, ой, мирская смехота!
– Паренек-то родственничек тебе аль как? – ластится к ямщику раздобревший от довольства своего Егорка.
– Своих не признаешь. Знать, дома давно не бывал? – кряхтит ямщик. – С коровами-то – слышал? – беда вышла.
– Ан и не слыхивал… Какая? У нас, говоришь, в Ворах, беда?
– Все бы нам подешевше, – раздумчиво укоряет ямщик, – а за дешевку-то впятеро платить. Максимку Лызлова памятуешь?
– В пастухах который? Ну! – торопит Егор.
– Заспал на солнышке, по старости… а пастушата – ведь вон экие, их самих пасти впору – дудки резали. Коровы – восемь ли, девять ли голов – спустились на поемку…
– Ой! – пугается Егор, сдвигаясь с сиденья.
– Вот те и ой. Спустились да веху и обожрались… Подохло пятеро. Остальным фершал чекмасовский – Шебякин, что ль? – пузья прокалывать наезжал.
– Выходили? – волнуется Егор, ерзая по сиденью.
– Да не известны мы.
Переезжали мосток. Бревна хлопали, колеса стучали, мешали слушать.
– …парнишку, евойного братеня, крепко побили, в кулаки. Шестнадцатый всего парнишке. Да што, коров-то не подымешь! А этот вот убег да четыре, вишь, дня в лесах бродил. Сенькой-то тебя, что ли? – спросил он вдруг мальца, пугливо вскинувшего большие, в кругах, глаза. – Задичал! А мать в реке багром шарила. Темные мы, ровно под землей живем…
Ахает Егорова душа: неужто и твоя, Егор, корова в счет попала? А корова – месяц целый крику на Толкучем, земляка в трактир не сводить, с Карасьевым в праздничек пивком не побаловаться. Да еще новый дом в Ворах в голубой оттенок красить сбирался…
И тут же в память идет: и их – Егорку, да покойного Алёшу Босоногова, да Андрюшу Подпрятова, да Митю Барыкова – в детстве влекло на Глебовскую пойму, где высокого веха полые палки ненасытно сосут черный жир из заболоченной земли. Из веха цыкалки делали и дудки. Под вечер шли домой и трубили все четверо дружным хором и наперебой, распугивая куликов и кур, брюхатых баб и молодых телят. Егорке и прозвание было дадено: Егорка Тарары.
Небо стало глубже и темнее, увеличиваются в нем стайки звезд. Придвигается последний перелесок, за ним – Воры, Егорова родина. Лихо козырек пооткинув, носовым платочком обмахивает Егор Иваныч пыль с сапог.
– Да уж и то сказать! – рассудительно внушает Брыкин. – Уж больно народ у нас дик. Били нас, надо сказать, мало. Ноне, к примеру, жалобитесь да слезой тексте, а завтра как хлобыснете по священному-то месту… Серость в вас!
– А сам-то, аль в графья пошел, как в городе пожил? – в первый раз оборачивается ямщик; из его деревянной рожи, распустившейся в острую насмешку, узятся презрительные старичьи глаза.
– Ну-ну, уж не щерься… правь, правь! – рычит на него Брыкин, скаля зубы и кося глаз на близкое село. – Ты знай свое дело, чеши бороду!..
Ямщик злобно и тупо смотрит на Брыкина и вдруг рывком поворачивается к лошадям.
– Э-э-к, вы… собачки зеленые! – с надрывом и дико кричит он, и кнут его свистит на всех трех разом.
Тарантас, хрипя рессорами, вспрыгивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде в село. Охватило знакомым духом жилых изб. Полаяла на троечное колесо собака. Лихие, безудержные, из последних сил раззвенелись по селу бубенцы.
Ночь.
II. Савелий пристроил ребяток
Превеликим загулом проводил Егор Брыкин холостые свои деньки. Еще и до свадьбы стал Егорка Егор Иванычем зваться, а как оженился, так и совсем возвеличился на всем миру Егор. Играли свадебку в новом доме, в сослужении родственников и свойственников, песенников и попов. Воистину куриная смехота: напитков и наедков не перечислить, пахло свежей краской, ломился от пляски пол.
А один из наезжих сродников, дикой, невиданный дядя, так балаболил в соседней волости об Егоровом величестве:
– Ой, дедуньки… Гармони пеяли, девки пеяли, попы пеяли. Хошь – кушай, хошь – слушай. Адом! Вот это дом, одна печь вдвое больше избы… Вот уж дом так дом! – и пьяными ногами расписывался в справедливости рассказа своего. Да и не один дядя только.
Погуляв же месяц-другой, собрался Брыкин в город. Правда, горяча и неустанна в любви, как и в пахоте, Аннушка Бабинцова, теперь законная Брыкина жена: и руки у нее мягкие и жадные, и губы сладки, как большая лесная ягода, – скуки с такой женой не ведать, какая длинная ни случись ночь. Но и ларь не ждал: каждый день – заметная убыль, каждый час – рубль. С молодой своей супругой совсем обносился и лицом и карманом Егор Иваныч. И покуда собирался вернуться к своим крикливым будням, зазвал его к себе Савелий Рахлеев, поротый.
Яишенку смастерив и раздобывшись у соседа настойкой в долг, стал Савелий, руками махая, прикланиваясь и потчуя, рассуждать вслух о разном. Одно в его бестолковых рассужденьях ясно было – совсем его невозможность одолела.
– Да вот и с коровами-те какая провинность! Кто его знал, вех? Растет и растет, явственный факт. И никогда такого не случалось, чтоб на него скотина льстилась. В нем и соку-те, понимаешь, никакого нет, ни кровиночки… одно деревянное стволье! – Савелий в этом месте пошикал на жену, Анисью: – У-y, ровно метелка в углу стоишь. Присударкивай гостя-т, непоклонная!
Егор Иваныч сидел в красном углу, пыхтя от сознанья собственной славы и от тугого воротника. Временами, поддакивая и наморщивая небольшой лбишко, ковырял он ложкой яичницу, посапывал и молчал.
И опять разливался слезой да жалобой Савелий. В такие времена велика трудность в хозяйстве. Мальчонок – не баран, шерсти не настрижешь, а хлеба ест много. Хозяйство бедняет с каждым годом, двор падает, и боров прошлой осенью, ровно назло, сдох.
– Нищаю… А каб была у меня зацепка в городе, отдал бы я мальцов своих туда. Сыт, одет, и не думается. Глядишь, и набежит с каждого хоть по серебряному рублику за три месяца. Хлеба не едят, и то барыш! – жалобно прокричал Савелий и, в бессилье выпучив глаза, присел на лавку.
– Разве у нас там рубль – деньги? – пожал плечами и посклабился Егор Иваныч. – В Москве тыщи цельные по улицам бегают, а от рублей-то мозоли на руках вспухают. Конечное дело, сноровка нужна вовремя рублик попридержать. – Тут Егор Иваныч встал, отпихивая в сторону недогрызенный огурец. – Так вот: ты, Савелий Петрович, готовь подводу к завтрему. Беру мальцов твоих… И меня уж зараз отвезешь.
Проговорив так, поиграл плечиком Егор Иваныч, посмотрел на серебряные часы и вышел. В сенях тащил с колодца бадью с водой хромой Пашка, старший Савельев. Ему дав одобрительного щелчка, произнес строго Егор Иваныч:
– Ну, хромка, сбирайся в город со мной. Просватали!
Шум поднялся в рахлеевской избе по уходе Брыкина. Мать кричала на отца, а тот отпихивался и отнекивался:
– Что-о? Это я-т, выходит, пьяница? Носоватов, князь, величественный человек, как я в Пажеском-те корпусе служил… «Пей, говорит, Савелий! Питье украшает жизнь, пей!» А я рази для украшенья? Рази тот человек пьяница, который от горя пьет?.. Да и ребят-те я с кровью, может, от сердца отрываю! Не-ет, это ты совсем неверно.
Тем и докончил Савелий, что допил единым духом остатки, мутневшие на донышке, и сбежал от Анисьи на весь вечер в разговоры по мужичкам.
…Утро, подкованное легким морозцем, бодрило и отбивало сон. В то серебряное утро уже стемна ждала у брыкинского крыльца Савельева подвода. Братья, Сенька и Пашка, сидели в телеге, укутанные в самое новое, какое нашлось у матери, тряпье, и пучились на отца. А отец, суетливый и маленький и уже не без пьянцы, все подхихикивал кому-то воображаемому и попрыгивал вокруг своего конька, смешного, усатого, жалкого, как он сам. Черные брыкинские окна тускло тлели красными и желтыми бликами скупой осенней зари.
Тут на крыльцо Егор Иваныч вышел, застегнутый на все пуговицы, заспанный и сердитый. Шея его была обвязана полосатым, толстенной шерсти шарфом – супругин дар. Сзади Брыкина, заплаканная, явилась сама Егорова молодайка.
– Ну, прощай, жена, – сурово сказал Брыкин и тут же не удержался, чтоб не щипнуть жену вдобавок к недавней утехе. – Жди гостинцев, Анна.
– Да хоть на народе-то не мни, мучитель! – отстранилась та. – Замял ты меня совсем.
– А что ж? Не убудет, а любо будет! – притворно засмеялся Брыкин. – Так, что ль, Савель Петрович?
Но Савелий только мигал, и рот его плыл униженной, поддакивающей улыбкой. Пашка угрюмо отвернулся и глядел куда-то в угол, где на выселках горел в заре пестрою резьбою дом лавочника Сигнибедова. Сеня дремал.
– А что, Савель Петрович, – приступил к делу Брыкин, не выпуская из узкой ладони пухлой жениной руки, – меринко-то подгуляло твое! Уж больно брюхо-то у него отвисло, прямо по земле волочит. Не довезет четверых-то!
– Гэ-э, – затрепыхался в воробьином смехе Савелий, одергивая кушак и смехом же надувая щеки. – Скажешь ты, Егор Иваныч, плешь тебя возьми! Да рази ж в лошади брюхо важно? В хрестьянской лошади, гэ-э, зубы главное! Она зубами пищу принимает, жует, одним словом… Да ноги еще! А брюхо-то, уж извини, это никакого влияния не оказывает…
И он подтягивал узду, бегал всемеро больше, чем того требовала минута, не переставая распевать с пьяным благодушием:
– А зубы у него все целехоньки. У меня, посмотрикось… – он раскрывал темную дырку рта, – все растерял! А у него зубок к зубку, ровно у белки…
Уже садясь в подводу и кутая соломой зябнущие ноги, в последний раз поучал Брыкин жену:
– Не плачь тут попусту. Не мокри дома. И баба должна иметь свое соображение. Полушалок я тебе с первой оказией пошлю. Что обещано, то у меня тверже горы стоит.
– Да я не беспокоюсь, – всхлипнула молодайка. – По мне, хоть и совсем не присылай…
Егор Иваныч достал папиросу, затянулся. Потом деловито тронул Савелия пальцем в плечо:
– Трогай… К поезду надо поспеть.
– Поспеем! – беспричинно захохотал Савелий. Скрипнула на дорожной ямке ось. Еще раз, но громче, всхлипнула Аннушка:
– Полушалок-то с Барыковыми, как поедут, пошли…
Худящий, одряхлевший пес просунулся в плетень, потявкал для прилику. Потом избенки двинулись назад, а Савелий задергался от понуканий, требуя резвых рысей от престарелого Воронка.
Мимо дома проезжали, догнала их у колодца Анисья, мать. Задыхаясь от бега, сунула в колени ребятам две горячих, с подгорелым творогом, лепешки и хотела говорить что-то, не имеющее явственных слов, а только одну боль материнскую расставанья… Тут вдарил Савелий всем кнутовищем вдоль Воронка, и взыграл тот кривыми ногами и обвисшим брюхом. Егор Иваныч сунулся носом в Савельеву спину, чертыхнулся, сломал папироску и погрозил Анисье кулаком. Что-то кричала еще Анисья, а впереди уже начинался лес. Поднимался там снежный парок. Еще пуще здесь, чем в открытом поле, зудило ноздри морозцем. В зимний убор обряжался умирающий лес.
На первой развилине пути – правая шла в Гусаки – выплюнул Егор Иваныч сломанную папироску.
– Бабы бабы и есть! – с досадой отрубил он. – Ну чего ей бегать, ровно бешеной? Ну-ко двинься, малец, не грязни сапога.
– А как же! – охотно откликнулся Савелий. – Вот ты даве меринка моего хаял. Я и говорю, у лошади, говорю, зубы главное. Она зубами пищу принимает. А брюхо – это никакого влияния…
– Ладно, ладно… на пень наедешь! – оборвал его Брыкин. Голые, предзимние леса бежали по сторонам. Шмыгали малые лесные лысинки, мертвенные от проиндевелой зелени. Прошагивали мимо широким шагом темные сосновые стволы. «…И вот переменилась жизнь ваша, Егор Иваныч. Давно ль в холостом виде по земле гулял, и никаких забот, кроме как родителям пятерку в месяц для благолепия дома и во исполнение христианской заповеди. Вот тоже и Аннушка! Девочка быта – насмешкой и недобрым словом Егорку шпыняла: и ряб, и мал, и глаза заместо пуговок к штанам бы! Но и тогда Егорка Тарары на бойкую Анку зуб точил. Ах, погодите, Анна Григорьевна, все на свете совсем не окончательно. Почем знать, может, милей всех стану, может, и детенычка спородите от убогого, лупоглазого Егорки!»
…И вот стала Аннушка законной хозяйкой в брыкинском дому. Будет теперь в город к мужу покорные письма слать. Летом – полевые тяготы на Брыкиных; зимами – сидеть будет под оконцем, сиротливая да скучная, непрестанной тревоге – не завел ли другую – ждать. И от любви московского магазинщика Егора Брыкина заведется в дому тихонький мальчик. Ему будешь ты, Егор Иваныч, в письмах слать родительское благословение, а в приезды учить пониманию жизни, не снимая кожи, но внедряя покорство и ум. Ах, какие развлечения наполнят житейскую твою скуку, Егор Иваныч!
Страшились шевельнуться Савельевы ребятки, хоть и давил Пашке на ногу ящик с яблоками, а у Сени затекла нога. Боялся вынуть ногу из-под ящика Пашка, словно мог обидеться брыкинский ящик. Сеня дремал, склонясь на Пашкино плечо. Все чудился ему почему-то скворечник, что стоит, привязан к черемухе, перед домом. Во все последующие годы, когда думал о родном селе, скворечник этот, крохотный домок весны, первым вставал в Семёновой памяти.
Не знали братья, что не вернутся в село в прежнем своем виде. Не знали, какие ждут их в городе небывалости. Дома – в каждом деревенской колоколенке укрыться впору. Машины – пожирательницы угля, извергающие с дымом и грохотом вешь из себя. Люди – хлопотливое, толкотливое племя, спешащее надумать больше, чтоб туже людям же на земле стало жить. Не знали и потому не плакали.
III. Зарядье
В Мокром переулке – потому что у Москвы-реки у самой, – на углу Большого Щукина, желто-розовый дом стоит о четырех длинных ярусах. Давно – тому сто лет, и кирпичи и люди крупней были – сшит был каменный дом этот казенным покроем, без улыбки и тех, кто строил, и тех, кому жить в нем. Был он с теченьем времени заботливо прошиваем железными нитками балок и скреп, но все напрасно. Был и без того дом тот в дряхлости своей столетней крепок, как старый николаевский солдат.
Правым боком каменного своего тулова чуть всего Щукина не перегородил. Левым – подпирает тощую древнюю церквушку, осеняющую Мокрый: не дает ей упасть и рассыпаться в легкий ладанный пепелок. «Обопрись, мать, на мою каменную грудь. Крепкая, выдержит», – такое, кажется, говорит он, старый солдат, притихшей старушке, напуганной гомоном возрастающей жизни.
Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народу, всех видов и ремесл: копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня. Окна в дому крохотные, цепко держат тепло. Голуби живут в навесах, прыгают оравами воробьи. Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины. Глухо и торжественно, как под водами большой реки. Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест. Тихо и снежно. Жизнь здесь похожа на медленное колесо, но все спицы порознь.
По второму ярусу каменного солдата протянулось синим пояском железное уведомление: помещаются тут трактир, постоялый двор и меблированные комнаты. Название всему заведению чохом – «Венеция», а принадлежит Секретову Петру.
Нетронутой, несуесловной стариной овеян секретовский дом. На обширном здесь проходном дворе рядами выстроились извозчичьи сани. Лошади фыркают и грызут овес. Теплый навоз дымится на снегу. Голубиные стаи, целые облака голубей, лениво вздымаются и снова оседают вокруг лошадиных кормух. Голубь здесь смирный, доверчивый, с руки берет. Голоса – гулки: железа много. Железные ведут на крыши лестницы, железные караулят у внутренних складов двери, железные галерейки и стропила, переплетаясь, вьются по стенам. Обсижена голубем и усыпана снежком вся та железная паутина.
С фасада смотреть – пониже секретовского второе висит железное уведомление. На краях его золоченый крендель, синее казанское мыло, белая сахарная голова. «Бакалейная торговля Быхалова» – здесь теперь Савельевы ребятки. Помещение это сырое и темное, как в сапоге здесь: потолки висят тяжко, гнетут потолки, потому что весь дом на нижнем этаже как на сапогах стоит. Разделены сапоги длинными сквозными воротами: проходит в них ветер, едет извозчик, и обоим не тесно.
Глядят секретовские окна весело: «Слава те, не гробами торгуем!» Быхаловские окна исподлобья глядят. Зимами, как ныне, уныло мерзнут на них уксусов мрачные бутылки и сухой горчицы скоробленные пачки. Летом мякнут от жары алые ломти арбуза, кучи перезрелых огурцов, горки румяных, как девки, яблок. Целые стаи устремляются тогда к ним жирных, ленивых мух и тощих зарядских ребят. Тогда и запах в Зарядье сменяется на арбузный…
А запахов здесь много, с них бы и нужно начинать. То пальнет в прохожего кожей из раскрытого склада – запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки, притулившейся Быхалову наискосок. То обдаст его, заметавшегося, как помоями из дудинского подвального окошка, а Дудин – скорняк.
А уже за углами сторожат его сотни других прытких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше и не ходить.
Зарядская суетня – с рассвета. В семь, едва утро, вскакивает Сеня с дощатой койки и бежит отпирать. Холодно и дрожко, а сонные глаза еще трудней отмыкаются, чем тяжелые, забухшие инеем замки. Покуда бежит Пашка в трактир за кипятком для чая, сам Быхалов, Зосим Васильевич, выходит за дверь, на улицу, хрустящую под шагами редких прохожих. Он, обнажая лысину от стеганого ватного картуза, сурово крестится на три стороны, обступающие его бакалею. В одной стороне, направо, розовеет в заре старое золото кремлевских маковок. В другой – за проломом Китайских ворот – стоит неизвестного назначения глухой дом: тридцать восемь лет верится Быхалову – за этим домом восток. В третьей стороне пустует незастроенное место; стоял здесь дрянненький домишко, да подсох в жару, да подмок в осень, да мышки его подгрызли, да из трубы однажды залило, – остатки пожар догрыз. Виден здесь спокойному оку Быхалова огромный клок зимнего неба.
Из тесноты и житейской маеты любо глядеть зарядцу в хрусткое зимнее небо декабря. В нем синие и розовые ленты, словно в брыкинской галантерее, бегут и ширятся слепительными дугами. Их моет морозное солнце, топорщит снежный ветер. Птицы, замедлив взмахи крыл, падают в тех лентах. Голуби окунаются в холод, ворона чертит ровные, бесшумные круги…
А в переулке синё от снега и пара. Домики в нем, как курносенькие ребята, как пропылившиеся, ветхие старички, как пузатые купчики с ярлыками вывесок, – который чем богат.
…Чинно и молча, вприкуску, пьют густой и вязкий, обжигающий чай. Неприступен в те минуты и телом прям Быхалов, как человек, поставленный к рулю. Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел… А тут народ начинает приходить.
Мальчик от сапожника, худой и тоненький, прибегает, смерзшими ногами выбивая дробь. Ему – «рубца на пятачок, за две – огурец, да горчички, да семитку сдачи». Извозчик входит, синей тушой вгоняя холод в лавку.
– У-ух-те, Зосим Васильевич! Пеклеваннички есть? Дудин Ермолай, скорняк, седой и взъерошенный, страшный по нелюдской своей худобе, с кашлем просовывается сюда же.
– Эх, дозволь, дядя Зосим, рассольцу хлебнуть!..
– Чуть свет, а ты уж похмеляться. Эх ты, козырь! Ты б лучше орехи грыз! – гудит из-за прилавка Быхалов, кивая на огромную, снегом, как мохом, обросшую кадь. – И право, орехов бы тебе. Ты купи у меня фунт и грызи. Зубов у тебя мало, надолго хватит.
– Их-х вы какой! – приниженно сипит Дудин, прыгает и хлопает опорками. – Не пить, так это бунт даже против государства… для нас и устроено! – Звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол. – И потом, как это вы сказали? Оре-хи? – Нездоровый дудинский смех разом наполняет всю лавку. – Орех, Зосим Васильич, вещь наивная! Только пузырь об него засаривать, а пользы-действия, извините, никакой.
– Ну и козырь! – благодушно дивится Быхалов. – Ты шкурок-то моих смотри не пропей.
Все в лавке начинают подхихикивать. Карасьев, быхаловский молодец, каким-то извивающимся тенорком, а старушонка, пришедшая за ваксой, изрядным басом. Кажется, что даже и Никола из киота, и керосиновая бутыль, и пятифунтовик на весах усмехаются над незадачливым скорняком.
– Ну, зачем пропивать, – смешно вертится Дудин. – Мы у хороших людей не возьмем. А орехом ты меня не потчуй. Да что ж я, лошадь, что ли, орехи-то грызть?! Эхе-кхе…
Опять хлопает дверь. Новые приходят люди, новые приносят слова. Катушин, древний шапошник с четвертого этажа, придя за ситником, тихонечко вразумляет по уходе Дудина:
– Да и как, посудите, не выпить ремесленному человеку! Сынка третьевось схоронил. Вот и проклаждается на радостях, что ослобонился.
Развешивая соль, в тон Катушину, рассуждает ярославец Карасьев:
– У него уж больно дух немыслимый. Всю улицу вонью запрудил. Пройти мимо фортки – очень нехорошо. У него даже крысы перевелись. По-моему, так даже воспретить бы таким!..
Дверь настежь. Пар клубится с пола и на сторону гнетет Николино пламя. Кацавейки влезают и чуйки, рыбье пальтецо захудалого чиновного умника и купеческой родственницы пудовая шубища-дипломат. Шелестит ссыпаемое пшено, стучит хлебный нож, звенят медяки. Пустеют хлебные полки, худеют сахарные бочки, обнажается днище керосинового чана, захлебывается маслом обмерзший жестяной насос. И шумно, и тесно. Небыстрыми ручейками течет серебро в дубовый хозяйский ящик, туда же прыгают темные, как лики московских Никол, пятаки…
В ту пору и само солнце в морозной дымке над Зарядьем – медный, морозом обожженный докрасна пятак.
IV. У Катушина
Всех приходящих лукаво и нелукаво, и слепых и зрячих, и уродов и умников, принимало Зарядье и платило им не поровну, а по тихости или по буести их.
Робким, задумчивым мальчонком пришел сюда из деревни Катушин, дерзающим и неспокойным – Ермолай Дудин, лукавым и тихим – Петр Секретов. На них, на троих, глядел Сеня и детским смыслом угадывал, что между ними где-то поместит жизнь и его самого. Все трое были совсем разные, – это город нашел в них разницу и подразделил их.
Тринадцатилетним, как и Сеню, привела нужда Стёпушку Катушина в Зарядье. И Зарядье в лице шапошника Ралунова Стёпушку не отринуло, а приняло и вынянчило, кинуло ему хлебца, чтоб жил, выделило койку, чтоб спал… И сказало Зарядье Катушину: «Будь шапошником, Степан». И с тех пор, повинуясь строгому веленью, стал он быстрой, нестареющей рукой простегивать картузы и меховые шапки для покрытия чужих голов. Сам же так и пробегал всю жизнь чуть ли не в той же самой ушанке, в которой выбросила его деревня.
Он напоминал собою горошинку, – тоже и глаза его, улыбчато бегающие поверх разбитых и бумажкой проклеенных очков. Сорок три года, неустанно тачая галуновский товар, на машине ли, на руках ли, глядит он из крохотного каменного оконца на нетеплые светы предутреннего городского неба, на черные облачные тени, приглушающие день. Кажется, он и не изменился нисколько, только глаза слезиться стали да колени отказываются держать. Только в том и разница, что раньше выжидал себе Степан Леонтьич кусочек счастьица, а теперь ждет, когда вынесут его отсюда ногами вперед в последний приют, за Калужскую заставу.
За всю жизнь только и нажито было Катушиным добра: зеленоватый сундучок, одному унести, да корзиночка. В сундучке покоилось ветхое белье, еще часы с продавленной крышкой, завод ключом, еще пиджачок матерчатый, еще заново подшитые сапожки. А поверх всего, чтоб не искать чужому, обиходные лежали вещи на его смертный обряд: фунт тощих панихидных свечей, миткалю и сарпинки два равных отреза, ладан в аптечной коробочке и деньги, семнадцать с полтиной, чистая прибыль катушинской жизни в рублях.
В корзинке другое хранилось. Чистенькими стопками лежали там книжки в обойных обертках с пятнами чужих, незаботливых рук. Были книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о любви, о нищете, о полынной чаше всяческого бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч, а вокруг него ютились остальные неизвестные певцы простонародных печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю обертку и собственные катушинские стишки.
Проходили внизу богатые похороны – видел Степан Леонтьич, откладывал шитье, писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле будет стоять талая весенняя вода… Май стучал в стекла первым дождем – пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют… а о чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового люда. Самому Катушину и знать: солгал ли он в стишках своих хоть раз? Он-то и приютил Сеню в своем добром и тесном сердце.
Вечером, как отужинает, мчался Сеня вверх по лестницам, на высокий, подчердачный катушинский этаж, близко к зимнему небу. Сеню обучал Катушин грамоте. Вряд ли бывало у Катушина за всю жизнь большее оживление, чем в тот вечер, когда написал Сеня первые четыре неграмотных слова. То хлопал он себя по заштопанным коленкам, то разглаживал трясущейся рукой твердую пакетную бумагу, то подносил ее к свету.
Сеня сидел тогда у окна, а за окнами затихало Зарядье и перемигивалась огнями ночь. Острые прохладные ручейки небывалого возбуждения бежали по его спине, и в скрипе оторванной железки за окном чудился ему неясный и властный зов.
– Книжки теперь бери у меня, – сказал в тот вечер Катушин. – У меня книжки тоненькие, хорошие… Я толстых не читаю, голова от них разламывается. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходишь. Банька – слабость жизни моей.
Здесь встречал Сеня и Дудина, верного катушинского друга, но столь отличного от него. Сюда же однажды привел Сеня и брата.
Пашка нелюдимым рос. У Быхалова он был на побегушках. Пашка, хромой, широкоспинный, камнеобразный, симпатиями хозяйскими не овладел.
– Ты уж больно карточкой-то не вышел. Весь народ мне разгонишь, – сказал хозяин Пашке, приведенному Брыкиным, давая для нравоучительности легкий подзатыльник. – Ты мне товар вози. Хром? Так ведь дело неспешное. Съездил раз в день, и то прибыль.
Пашке с детства жить было больно и мучительно. Пашка многое, невидное другому, видел, и потому детство казалось ему глупой нарочной обидой. Когда случилась коровья беда и односельчане били Пашку, половинку человека, Пашка молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду. Он и на мир глядел не просто – птичка летит, а облачко плывет, а береза цветет, – а так, как отражены были все эти благости в темном озере его невыплаканных, не показанных миру слез. Пашка на мир глядел исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему.
Коровья беда докончила ковку человека в Пашке. Без детства, без обычных шалостей Пашка вступил в жизнь. А жизнь поджидала его не медовым пирожком. У Быхалова с утра влезал он в дырявые валенки, впрягался в санки и так, хромой и хмурый, возил по городу быхаловскую кладь, без разбора времени, по мостовой и сугробам, в дождь и снег, лошадиным обычаем.
…Зевал Пашка, сидя у Катушина. В этот день прибавилась еще одна обида к вороху прежних. Карасьев, в припадке игры воображения, посылал его в аптеку купить на пятачок дёру и на гривенник дыму. Пашка не знал, бывают ли подобные товары, а аптекари злы… И до сих пор еще стыдом и болью горели Пашкины уши.
Рассказывал об этом Сеня торопливым, прерывающимся голосом, чуть не плача за брата. Дудин слушал, ерзая и поминутно кашляя, Катушин – с грустью глядя в пол.
– …главное дело, Иван-то уж и забыл, что послал Пашку. По мне, так я бы… – У него задрожали губы, и руки быстрей затеребили тонкий коломенковый поясок.
– А ты мягчи сердце, не копи обид. Поплачь, если плачется… – заговорил Катушин, ширкая ногтем по лавке, на которой сидел. – Человеку, если помнить про каждый день, сгореть от напрасной злобы.
– Вот я и горю, – резко вставил Дудин и засмеялся.
– И горишь… и сгоришь! Сосчитана твоя сила, Ермолаша, – ласково отвечал Катушин. – Неустроенно ведешь жизнь, смиренья не приобрел, буянишь попусту… – вычитывал Катушин.
– Смиренья?.. – строго спросил Дудин. – Куда же мне больше смиряться, Стёпушка! В трубочку свернуться, что ли?
– Ищи свое в жизни… Запись помни! – указал Катушин.
– Это какую запись, Степан Леонтьич? – шумно вздохнул Сеня.
– А сто восьмого псалма запись, – уверенно и быстро сказал Катушин. – За слезы да за неоплатные долги сто восьмой-то сторожем стоит, – и он мелко-мелко похлопал себя по коленке. – На полях у сто восьмого и ведется запись. Каждому жучку, а своя буква. И люди стираются, и книги стираются, города тают дымком, а запись нерушимо стоит, как стена! Ты в запись верь, Ермолаша, коли не во что уж…
Теперь Катушин, не моргая, глядел в газовую, накаленную добела сетку, словно в слепительном свете ее и развернут был тот свиток со всякими земными печалями и жалобами.
– Ангел, что ль, у тебя заместо писаря? – съязвил Дудин и кашлял с таким звуком, точно раздирали крепкую ткань.
– Ты бурен, Ермолаша, а я тих. Ты оставь мне жить по-моему. Перхаешь, а нет того, чтоб смириться… Все ищешь чего-то! Нетерянного не найдешь.
Дудин помолчал, но только для того, чтоб с большей силой выговорить.
– Вот и я таким же пришел, как они, – зашептал он с болезненной страстностью. – Не хочу, чтоб и они жизнь свою без жизни прожили. Я для них, Стёпушка, ищу…
– Чудной ты… летучий какой-то. Всегда как бы за ребенка тебя почитаю, – засмеялся дудинской горячности Катушин. – А ты, паренек, – обратился он к Пашке, – ты молчи. Вырастешь – сам всему цену узнаешь. Ищи, где тут основа. Нонешнего моего хозяина-то папаша, Гаврила Андреич, царство небесное, – продолжал он, понизив голос, – так он раз меня с лестницы спихнул… Я тогда и сломал себе мизинчик, упамши. А койки наши рядком стояли. Ночью-то спит он, а я сижу вот этак-то с колодкой, с деревянной болвашкой, да и думаю: чему на свете больше цена – мизинчику моему либо жизни его. Все толкал меня враг в головешку ему стукнуть…
В этом месте Пашка поднялся с табуретки.
– Я спать пойду, – внезапно сказал он и зевнул.
– А и ступай, паренек… Я тебя не держу, привязу тебе нету, – услужливо кинул Катушин и продолжал после Пашкина ухода: – Всю ночь вот и продумал этак-то. Нашел основу – уж светало в окнах. Жена-то его, вишь, с приказчиком связалась, а у приказчика-то язва во рту была…
– Какая язва? – испугался Сеня.
– Ступай и ты спать, милый друг, – как бы просыпаясь от сна, отвел Сеню в сторону Катушин. – А книжечку ты еще раз в бумажку оберни… да на мокрое-то не клади, завянет. Ну, покрой тебя господь! Деревянен братец твой, деревянен… мозги у него прямые какие-то.
Дудин, сосредоточенно бормоча себе под нос, вышел вместе с Сеней. Не обменявшись ни словом, они сошли вниз. Уже в воротах, под тусклым фонарем постоялого двора, Дудин внезапно схватил Сеню за руку.
– В святые Стёпушка лезет… А ты ему не поддавайся! – убежденно зашептал он, тиская в кулаке седую бороденку. – Не должен человек терпеть. Терпенье человеку в насмешку дадено. Воюй, не поддавайся! Человек солдатом родится, на то и зубы даны…
Над головами их мигал желтый фонарь постоялого двора. Шел легкий снежок. Волчки вихрей бесшумно рыскали по уголкам. Сене было холодно в одной рубашке. Лицо Дудина, сведенное в точку бессильной настойчивости, совсем напугало его. Он вырвался из его руки и побежал по снегу.
– Остановись, мальчик… остановись! – умоляюще кричал ему вслед Дудин и шел по Сениным следам.
– Дяденька, ты пьяный! – так же умоляюще защищался Сеня, стуча изо всех сил в запертую дверь быхаловского черного хода.
Оглянувшись из двери, еще раз увидел Сеня в синих, неуверенных сумерках двора длинную фигуру Дудина; он стоял один посреди двора и кашлял, весь сосредоточившись на чем-то невидимом для Сени. Кашель Ермолая Дудина походил на ночной лай большой дворовой собаки.
V. Именины Зосима Быхалова
Апрель был – месяц буйных ручьев и первых цветений, но некому было в Зарядье, кроме черноголовых грачей да великопостных колоколов, кричать о том, что, нежная и робкая, приходит в город весна.
Зосим Васильевич, именинник, видел, возвращаясь от заутрени: на древних кремлевских стенах прозеленели ползучие мхи, а снег в углах протаял дырьями, а лед на реке набух и посинел, готовясь уползать от возрастающей теплыни. Скоро, не сегодня-завтра, вскроются реки по всей стране, и солнце взметнется в голубые высоты лета, пыль понесется вдоль московских улиц, подорожает картофель.
Сделало Зарядье Быхалова человеком непоколебимых смыслов, – в вещь глядел сурово, скукой и тоской не болел, не удивлялся ничему. Но тут захватило ноги предательской слабостью, сжалось сердце непривычно и мучительно, загудело в ушах. Закружила Зосима Васильевича весна.
День мокрый стоял, ветер брызгался влагой с реки. Воздух гудел многими тысячами убыстренных дыханий. Но разгадал Зосим Васильевич, что тревожна звонкость ветра, поющего в столбах, голых деревьях, флюгерах, как ненадежна и всякая радость.
«Текут весны, проходят человеческие годы, и когда-нибудь, через тысячу весен, травки снова заспешат к солнцу, и звонким ветром обсушится первый смолистый листок. Останется от тебя, Зосим Быхалов, единая косточка. Будет ей и сыро, и скучно, и холодно в талой земле лежать. И если тысячная случится бурной – яблони в феврале процветут, а льды полопаются с новогодья, – разроет буреподобный ветер землю до самой кости и спросит ветер: “Чем ты, кость, прославлена? Лежишь – не радуешься”. И кость ему не ответит. Сиротливо будет останку твоему, Зосим Быхалов, в ту последнюю, тысячную…»
Всякое положение принимал со строгой рассудительностью Быхалов, печалясь мало. А тут заболело под сердцем, и захотелось зыкнуть, как на Пашку в лавке: «Остановись, весна!» Не остановилась: все вокруг спешило заполнять назначенные сроки.
Как будто утро было, но уже таилась в нем ночь. Остеклело небо, злился ветер, текла весна. Два ломовых, полубыки, били загнанную лошадь, напрягаясь докрасна, крича. Сани крепко пристыли к обнаженному камню. Коротконогий дворник, увенчанный медной бляхой, торопливо сколачивал с тротуара мягкий ледок, помогая весне. Женщина, спотыкаясь, тащила санки с узлами шитья, – зарядская швейка. Ее лицо огрубело и ожелтело оттого лишь, что проспешила всю жизнь.
Били часы на башне, вызванивалась конка на углу, ехали гурьбой извозчики, обнюхивались собаки.
У часовенки тощий бродяга с вербочками четверть часа уговаривал Матрёну Симанну, секретовскую приживалку:
– Убеждаю вас, тетенька, как истинный христианин… За неделю еще боле запушатся! Овечки, чистые овечки станут… – Голос у него был сиплый и злой.
– Не-ет, – покачивалась в толстой шали на ветру старуха. – Мы за пятак-то горбатимся-горбатимся… Скинь, скинь, касатик, для старушки. Я у тебя зато два пучка возьму…
– Так ведь тут дров одних на гривенник, грымза чертова! – кричал пустым, гулким брюхом парень, замахиваясь всей охапкой товара.
Зосим Васильевич шел мимо с омерзением. Придя домой, щелкнул Сеньку за недочищенный сапог, а дворника, пришедшего поздравить, выругал от всей полноты разгневанного сердца; на покупателя кричал.
Торговали в тот день до полудня, как в праздники, но только к закрытию набежал народ. Быхалов, несмотря на недомоганье, выпрямленный и торжественный, в чистом фартуке, тужился морщинистой шеей, щелкая на счетах, пробуя о мраморный осколок добротность приходящего серебра. Карасьев возился с сахаром и так успевал, как будто был четверорукий. Сеня размашисто работал хлебным ножом, когда дверь в лавку отворилась и вошел еще один.
Вошедший был человек не старый, но как бы изглоданный жестокой болезнью. Обтрепанное осеннее пальтецо, без пуговиц, с торчащей кое-где ватой, осело и приняло форму длинного, худого тела; особенно остро выделялись плечи и карманы, набитые чем-то сверх меры. В левой руке повис тощий белый узелок.
– Чего прикажете? – сухо спросил Быхалов, с крякотом нагибаясь поднять упавшую монету.
– Это я, папаша… – тихо сказало подобие человека. – Сегодня в половине одиннадцатого выпустили…
Слышно было в тишине, как снова выскользнула и покатилась серебряная монетка.
– В комнату ступай. Сосчитаемся потом, – рывком бросил Быхалов и огляделся, соображая, много ли понято чужими из того, что произошло.
Как сквозь строй проходил через лавку быхаловский сын, сутулясь и запинаясь. Он еще не прошел совсем, зацепившись полой за лопнувший обруч бочки, когда услышал позади себя вопрос. Старик с опухшими глазами, в картузе, похожем на гнездо, спрашивал у Карасьева:
– Сынок, што ль, Зосиму-то Васильичу?
– Не сынок, а сынишше цельное, – поиграл статными плечами Карасьев. – Кончил курс своей науки, сдал экзамент в пастухи!.. – Он не договорил, остановленный злым хозяйским взглядом.
– Запирай! – кричит Быхалов.
Сеня гремит полдюжиной замков, бежит, пробует рукой и глазом, хорошо ли повисли на ставнях. Не успел Зосим Васильич под девку снять, Карасьев, румяный соблазнитель, долу потупляя круглое играющее око, говорит ярославским напевом:
– Кушать подано, Зосим Васильич. Прикажите начинать…
– Не вертись ты, сатана, – шутливо огрызается хозяин; приход сына и смутные надежды на какую-то решительную перемену в нем делают свое дело. – Успеешь баб своих полапать. Ишь хохол-то зачесал!
– Для красоты-изящества, – отшаркивается Карасьев, поплевывая на ладошку и приглаживая поразительной кривизны кок на лбу. – Это мы, Зосим Васильич, чтоб девушки любили…
– Видал я девок твоих, – ворчит Быхалов, – худящие да мазаные. И не разберешь: живой человек аль труп. Выбрал, нечего сказать.
– Это ничего-с, – вертит плечом, в меру обижаясь, Карасьев. – Я и труп могу полюбить. Любовь из нутра идет, и человек не может знать, куда его сердце прилипнет.
– Балда! – объявляет ему Быхалов, покачивая головой к вящему карасьевскому удовольствию, и садится к столу. На нем замасленный пиджак, надетый поверх снежно-белой рубашки. Он все еще улыбается: в Карасьеве не без удовольствия узнает он молодого себя. – Пётр, есть иди!..
Притихший, с опущенными глазами, выходит из соседней каморки Пётр и садится на краешек табуретки.
– Лоб-то разучился крестить?.. – зорко косясь на сына, ворчит отец. – Запрещают, что ль, у вас там, в тюрьме?
Пётр молчит, как не слышит.
Карасьев с показным усердием машет себя истовым крестом.
– Ты, Петруша, не сердись… – кашляя, говорит отец. – Сам знаешь, за стойкой все стою… Тридцать восемь лет стою. К минуетам вашим не приучен!
Пётр тихо:
– Не надо, папаша. Устал я…
Миска постных щей быстро пустеет. Карасьев жадно набивает рот; румяные его щеки дуются тугими барабанами. Сеня ест робко. Пётр совсем не ест.
– Пашка где? – спрашивает Быхалов, так повышая голос, что Сеня роняет ложку. – Пошел вон из-за стола, если сидеть не умеешь! – резко приказывает Быхалов. – Иван, Пашку ты услал? Простужен он, напрасно ты его… Еще свалится где.
– Я его… – давится Карасьев и с видимым отчаянием глотает непрожеванный кусок, – …его с утра за уксусной кислотой направил. Очень нужда-с!
На столе пшенная каша, обильно политая маслом. Карасьев первым ныряет ложкой в кашу, но останавливается на полпути ко рту, пуча глаза на хозяина.
– Ешь, ешь, – смеется Быхалов. Петру: – А ты? Аль брезгуешь? Аль тебе отцовская соль солоней острожной? – сухой, горький смешок.
– У меня катар, мне нельзя, – тихо говорит Пётр.
– Ката-ар?.. Хрбж… – фыркает в колени Карасьев, подобострастно взирая на хозяина.
– Эй, холуй! – зло одергивает Быхалов. – Губой-то по полу возишь, занозить не боишься?
Все молчат. Глаза Петра темнеют, как окна в сумерки. Сеня стоит поодаль, грустно глядя, как Карасьев дожирает кашу.
…Сеня моет посуду на подоконнике, широком, в толщину стены.
Обманная весна чертит окно тонкими царапинками мороза. И летом быстро темнеет у Быхалова, а зимами и совсем не бывает дня.
– Ну… рассказывай, – вздыхает Быхалов. – Мне-то про себя рассказывать нечего. Вот мать без тебя скувыркнулась. Ты б ей хоть письмецо написал из тюрьмы-то, она тебя жалела.
– Я знаю, – неясно вторит Пётр.
– То-то, знаешь. Плохо небось в тюрьме-то?
– Да как сказать?.. Неважно. Измотался весь, – глухо говорит Пётр. – В последние дни на рассветах все людей у нас увозили. – Сеня прислушивается и осторожней плещет кипятком. – Часов около трех придут, ключами зазвенят… – однообразно тянет Пётр, – уводят. А он и крикнет на всю тюрьму:
«Прощайте, товарищи!» Тут уж и начинается. Окна бьют, двери колотят… У нас, в Таганке, тюрьма была очень гулкая.
– Что ж, на выпуск, значит, увозили? – ворчливо спрашивает Быхалов-отец, соскабливая ногтем маслянистую корочку обеденной грязи со стола.
– Не на выпуск, папаша, а на повешенье, – спокойно говорит Пётр и повертывает голову к окну.
Сенино лицо строго и бледно, сразу осунулось. Проскакивает воспоминанье: там, в деревне, в Бабашихином лесу, молодые ребята суку вешали. Она долго царапала лапами воздух, воя и подгибаясь вверх. Сеня стоял тогда в стороне от общего веселья и лицом повторял все ее напрасные движения.
– У нас вот тоже собаку вешали… – робко начинает он, глотая обильную слюну.
– Хватит!! – Быхалов ударяет ладонью по столу, весь красный. – Эти побаски ты у меня в квартире оставь, тут тебе хвастаться нечем! Ты мать свою съел и меня съесть хочешь? А я не дамся… не дамся, братец!
– Да ведь я и не хвастаюсь, – горько усмехается Пётр, в какой-то страшной судороге разглаживая себе лицо. – Чем тут хвастаться?.. Разве только тем, что от расправы уцелел? Плохая радость!
– Сенька, заваривай чай! – кричит Быхалов. Заваривают густо. Шуршит в Петровых руках бумажка развертываемой карамельки. Маятник стучит. За окном какой-то шум; отпирает Сеня. В раскрытую дверь городовик проталкивает Пашку багровой ладонью в плечо. Пашкино лицо неподвижно и серо, и он особенно тяжко приседает на хромую ногу. Руки свои, перебинтованные в ладонях, тяжелые и белые, прячет Пашка за спиной.
– Паша, что с тобой? – испуганным полушепотом спрашивает Сеня брата.
– Руки обморозил вот… – отвечает холодно брат.
– Малец врет! – четко возглашает городовик. Часто вскидывая руку к овчинной тулье, он докладывает. – Вез малец две бутыли уксусной кислоты, вез и вез, под горку. А тут подвернулись похороны: зазевался. Сани опрокинулись на тумбу, а вслед упал и сам он, руками в разбитое стекло.
– И так испугался малец ваш, что хозяйское добро погибнет, что голыми руками, без варежек, как был, сунулся в уксусную лужу. Перелить, вишь, хотел хоть горстку в отбитое днище! – осклабился поощрительно городовик. – И только как увидел кровь на руках, тут и закричал.
Хозяин медленно пошел к Пашке, не сводя взгляда с вихра на его стриженой голове. А тот щурился и пятился к стене.
На полпути Быхалов остановился.
– Спать иди, – бросил он сквозь сжатые зубы. Потом Зосим Васильич снял пиджак и полез на свою высокую кровать; он вытянулся, наморщил лоб и вздохнул. И в будни не уставал так Зосим Васильич.
VI. Пашка Рахлеев уходит в жизнь
Быхаловские окна не раскрывались ни разу за все тридцать восемь лет. А как украли шубу у покойницы, вделал в окно железную плетенку Быхалов. Сквозь нее и тончайшей солнечной струйке было не пробраться, вору же ни вовек.
За таким надежным укрытием от солнечных ветерков обитали в плесенном кругу быхаловских стен многообразные запахи: каждому своя щель, свой час. Утрами струится по полу душный запашок сопревающего картофеля и острым холодком перебегает дорогу к носу керосин. Обеденного пришельца обдаст сверх того горячим дыханием кислого ржаного хлеба. А досидит пришелец до вечера, поласкает ему нос внезапный и непонятный аромат из-под хозяйской кровати, – целая кипа там цветных дешевых мыл. К ночи все остальное вытесняет гниловатый привкус мокрой соли и отсыревших, крашенных масляной зеленью стен.
Огромная печь разгородила надвое темную быхаловскую щель. В правой половине притулилась приножьем к печке, спрятана за ситцевой занавеской, хозяйская кровать. У стены стол, над столом поясной Никола. Сумрачно смотрит он из-за обсиженного мухами стекла на чадную перед собой лампаду. Тридцать восемь лет назад моложе и веселей был: тогда еще не обманывали угодников керосиновыми смесями. А за киотом торчит высохшая вербочка. Облетели барашки, и уже не весенняя благостынька с веселой, шустрой речки, а розга розгой, недоумков стегать.
Правая половина – молодцовская. В сыром углу, у выхода в лавку, сбиты из старых ящиков коечки для Савельевых ребят. Легкие сны, приятные, не зарождаются в таких углах. Карасьев, зарядский красавец, помещается на полатях, где и теплей и благодатней. Сюда пробирались порой на сочное ярославское тело отощавшие на сухожильном Зосиме Васильиче клопы.
В стене, на которой Никола, проделана дырка-дверь, за нею – комнатушка-крохотка, комнатка-сундучок. Стоят такие сундучки под кроватями богаделенных старушек, открываются туго и поют в проржавелых петлях, по погоде меняя голоса… А таят они в себе молевых червячков, неношеную бабью рухлядь и запахи: прелый – ткани, кислый – железа, горклый – мыла, просфорный – от пыльного божественного сора… Здесь, на сундуке, умерла Быхалова-мать.
Пётр пролежал с полчаса на высоком и твердом подобии кровати, тоскливо поглядывая на полку с недопитыми микстурами, на бескиотную троеручицу в паучином углу; потом поднялся и пошел к отцу. Тот не спал и, лежа на спине, глядел в потолок немигающими глазами.
– Папаша, – тихо сказал Пётр, – я поговорить хочу…
– Эх, да потом, потом! – чуть не хныча, зашевелился отец. – Жалости в вас нету. Сходи вот лучше в подвал, ребята туда убежали. Не наделали бы чего над собой…
– Это в картофельный?.. – покорно спросил Пётр, отходя от отца.
– Да. Спать зови.
Дверь не сразу выводила в подвал. Сперва – сенцы, налево – выход в лавку, направо – четыре темные ступеньки. По ним, знакомо-скользким, прощупывая темноту недоверчивой ногой, спустился Пётр. Последняя, подгнившая, треснула.
Пётр зажег спичку и толкнул низкую дверцу. Спичка потухла, из подвального мрака тянуло плотным теплым ветерком: картофель. Пётр вошел, дверца за ним запахнулась сама. Когда отворял дверь, откуда-то из глубины мрака послышался глухой всхлип. Теперь там стояло совершенное безмолвие.
– Ты кто? – как-то ломко прозвучал Сенин голос и прервался. – Это вот Пашка тебя звал!..
Пётр прислушался. Мрак молчал. Пётр переступил с ноги на ногу, хрустнула раздавленная картофелина.
– Брось, Сенька. Ну, хочешь, я картофелиной в него запущу, – сказала темнота простуженным Пашкиным голосом.
– Ну конечно! – с горячей убедительностью заспешил Пётр. – Что с вами, мальчики? Ведь этого же, что вы подумали, не существует на свете! Вам наговорили глупцы, которые сами ничего не знают. Ну, глядите. Видите, кто я? – Он вспомнил про спички, достал коробок и, с огнем в вытянутой руке, сделал шаг вперед. – Я Пётр Зосимыч, ваш товарищ, Пётр. Я проведать вас пришел…
Спичка горела неровно, задыхаясь в подвальной духоте, тухла.
– Подсматривать пришел, не воруем ли…
– И совсем не подсматривать, – вспыхнул Пётр. – Зачем ты сказал неправду? Это нехорошо. Ты еще мальчик, я старше тебя.
– Хорош мальчик! Уж оброки за отца с матерью платим! – усмехнулся мрак. – В Сибири уж плодятся такие, сам твой отец говорил.
Петру вдруг стало очень неловко. Уйти было неуместно, молчать – слишком глупо, а говорить, стоя перед ними, сидящими, было всего трудней.
– Мой отец – грубый человек, я знаю, – неловко сознался Пётр. – Но меня-то вы ведь впервые видите. Почему же ты хочешь уколоть меня? Я такой же, как и вы… – Пётр хотел добавить «несчастный», но заменил «угнетенным», а когда нашел это слово, было уже поздно говорить. Пётр готов был заплакать в эту минуту от мучительного недоверия тех, ради кого он шел в тюрьму.
– Ну, хорошо, – спокойно и неумолимо сказал мрак. – Ну-ко, подвинься, Сенька. Откуда ж это ты узнал, что мы тут сидим?
– Отец сказал, – откровенно сознался Пётр.
– Ну вот! Ступай укради тогда у отца… – В голосе Пашки звучала насмешка.
– Что украсть?
– Да хоть часы укради… и принеси сюда. Вот и посмотрим дружбу твою!
– Я не понимаю, я совсем не понимаю тебя!.. – торопливо затвердил Пётр и еще шагнул вперед с вытянутыми руками. – Дайте-ка мне сесть рядом… и давайте поговорим.
– Садись, – тихо произнес Пашка; по движению воздуха Пётр понял, что Пашка встал. – Пойдем, Сенька! И реветь довольно, а то хозяйская картошка загниет…
Молча, стороной, мальчики пошли из подвала. Хлопнула дверь.
Пётр все стоял, оторопев от обиды. Потом он услышал ширкающий звук задвигаемого засова. Пётр кинулся к дверце и сильно толкнул ее. Дверца, глухая к его удару, как толстая чужая спина, не отмыкалась. Скользя на раздавленных картофелинах, Пётр пошел в угол, где сидели мальчики. Там он нащупал полурассыпанный мешок картофеля и сел на него, закрыв лицо руками. Минуты через три он отвел руки, покачал головой и засмеялся.
А Пашку и в самом деле трепала простуда, еще в подвале мутилась голова; все чаще, с утра, накатывал на него бредовый полусон… Он прилег, и тотчас же сознание его потускнело: словно вылили из стаканчика и самый стаканчик разбили. Дыхание захрипело, точно в грудь поместили большие, свирепые часы. Виделось, будто стены раздвинулись, потом лениво покачались, потом пошли на Пашку, грозя смять.
…А вот уже и нет стен, а будто пойма. Сено косят бабы, и Пашке всего восемь лет. День ладный, жаркий; солнце висит над самым теменем. Небо сине до черноты. Восток грозит дождем. Рядами идут осоловелые бабы и бойкое, говорливое девьё. Ребятишки – и Пашка вместе с ними – рыщут по стежкам, выискивая ягоды.
Разморило солнцем Марфушку-дурочку. Рваный белый платок приспустив на румяные щеки, глаза сощуря, заходила с опушки Кривоносова бора, шла – как играла. Мерно выдавались плечо и грудь на взмахе, мерно вздыхали травы, поникая под острым косьем. Тут Пашка перед ней стоит и в траву смотрит.
Марфушка ему:
– Недоброй, отойди!
А Пашка и не слышит. Марфушке прозванье в Ворах – «Дубовый Язык». Опять:
– Уходит-т, я тебе тказала аль нет? Вот я тебя котой! Пашка и в те годы задорен был:
– А не подкосишь!
– Ан и подкоту!
– А ну, подкоси!..
Марфушка взмахнула косой и зубом скрипнула. Пашкин крик был необычен, словно лошадь вздумала закричать. Выглянула из-под платка Марфушка – и впрямь подкосила паренька: из ноги его, повыше бабки, красная ручьится кровь.
Лоскутьем рубахи перетягивали Пашке ногу, несли на рогожке домой. Сознание Пашкино померкло. Потом ночь. Избяная духота пахла телятами. Мухи бились в потолке. Возле сидел Сеня и совал в почернелый от муки Пашкин рот кислый квадратик карамельки. Все забыл Пашка, все съедает, как ржа железо, тупая человеческая боль.
– …Пашка, вставай… – говорит тихо Сеня, кладя руку на Пашкин лоб.
Но Пашке тошно, Пашка молчит.
– Вставай же, сказано! – грубее приказывает Сеня и тычет перстом в увлажненный испариной Пашкин лоб.
Пашка сердится, глотает скудную слюну, открывает глаза.
Сеня – в жилетке и с бородой, глаза злые: Быхалов. Бреда Пашкина сразу как не бывало, только непокорно слипаются глаза, только руки словно на кусочки порублены, и каждый в отдельности горит.
– Успеешь, говорю, выспаться, – говорит ему Быхалов. – Петр где? Я его за вами посылал.
Пашкина память просыпается лениво. Пашка морщит лоб, рот его тогда открывается сам собой.
– В подвале он…
– В подва-але? – топырит губы Быхалов. Бровь у него бежит вверх недоуменным смешком. – Что ж ему там делать?
Старик берет с полки прокопченную семилинейную лампчонку и отворяет дверь в сенцы. Пашка слышит, как осторожно спускается хозяин по ступенькам, потом отодвигает засов подвальной двери.
– Пётр… Петруша!.. – кричит он в глубь подвала. – Ты здесь, а?
Пётр выходит из подвала, подслеповато щурится на коптилку, улыбается, молчит.
– Как попал сюда?.. – спрашивает отец. – Деньги, что ль, заперся выделывать? Кто тебя запер?
– Да я сам… нечаянно. – Смеющийся голос Петра особенно ненавистен Пашке.
– Не мог же ты снаружи запереться, чего ты мелешь?
– Наверно, мальчики подшутили, – сознается Пётр. – Особенно этот, старший. Ужасно недоверчивый народ, папаша! – И опять, слышно, Пётр смеется.
Быхалов-старик выжидающе молчит, потом сурово подымает голос:
– Ну а если бы он тебя по морде хватил… ты тоже смеяться бы стал?
Близкая к Пашке дверь скрипит: «Ага, каменная стена приближается!» Пашка сжимается в клубок и материной кофтой, в которой приехал, закутывает голову, темя. Снова вперемежку, раздирающей глаза каруселью, несутся: пойма, Марфушка с косой, кровь, рассыпанные ягоды. Звук шагов замолкает рядом.
– Что ты хочешь с ним делать? – слышен Пашке тревожный голос Петра.
Старик, не отвечая и сопя, ищет щелку в кофте. Мальчик глубже зарывается в тряпье, но рука Быхалова протискивается к самой голове и, приноровись, хватает за ухо…
В то же мгновение Зосим Васильич вскрикивает, более от испуга, чем от боли. Он растерянно трясет рукой, а на конце мизинца повисает темная капелька крови.
Сам Пашка уже стоит ногами на койке, готовый броситься, прижавшись к стене. Его влажные зубы блестят в потемках. Лицо его смутно и серо, но румянец бьет дико, как осенний закат.
– А, вот как! – мычит Зосим Васильич, обсасывая прокушенный палец. – Ну, слезай. Стоять тебе там нечего… – Он идет к кровати, достает из-под подушки клеенчатый бумажник – в нем Пашкина метрика. Кстати обертывает палец в красный носовой платок. – Собирайсь! – решительно командует он.
– Куда, куда ты его гонишь? – умоляюще вступается Пётр, но Быхалову не до Петра.
Пошатываясь, Пашка набивает в линялую, застиранную до дыр наволочку свои убогие пожитки.
– Да ведь ночь же!.. – в отчаянии за Пашку говорит Пётр и делает неопределенное движение рукой, поясняющее, как темна и неприютна весенняя ночь.
– Не мешай, – властно говорит старик Быхалов. – Тут не игрушки тебе, тут жизнь! В жизни всегда ночь. Одновременно Пашка выступает вперед.
– Вы засуньте пачпорт-то в карман мне, – просит он сипло. – У меня руки не действуют… – и выставляется боком, где карман.
– Вот что, братец, – не сразу начинает Быхалов, но по губам Пашки бежит тонкая струйка насмешки, и тот как-то меркнет лицом. – Ведь ты, братец, этак-то и убивать возможешь. А в том, что поучить тебя хотел, особой обиды нет. И сам вот так же учен был. Чем больше, братец, по горбу бьют, тем больше горб и стоит… Причащался ведь я нынче, – прибавляет он через минуту совсем упавшим голосом.
– Прощенья проси! – заплетаясь языком от волнения, шепчет Пётр. – Мальчик, проси прощенья… и все кончено, ну?
– Сам проси, коли охота напала!
Мерно покачиваясь на хромую ногу, Пашка идет к двери. Узел свой он прижимает к груди как-то локтями. С порога оборачивается:
– Там за вами еще полтора рубля оставалось… Сеньке отдайте. Он к Катушину побежал…
– Постой, я тебе сразу выдам, – спешит Зосим Васильич, но Пашка уже ушел.
Дверь притворена неплотно. К ногам бежит морозный холодок. За окном полная ночь.
…Попозже, через час, Пётр заходит к отцу и садится в ногах. Тот лежит по-прежнему, одетый, немигающий. В головах у него как-то особенно намекающе и нравоучительно тикают часы.
– Пришел?.. – жестко спрашивает отец. – Ну, посиди, посиди у меня. Вот так мы и живем, Петруша. Варимся, и поблагодарить некому. Ишь проносились штиблетки-то твои, песок в них и то не удержится! – замечает он, глядя на свесившиеся худые и длинные ноги Петра. – Отнеси завтра к сапожнику, походи в моих пока.
– Папаша, – мягко прерывает его Пётр, обводя пальцем квадратики лоскутного отцовского одеяла, – я все сказать вам хотел, времени вот только не выходило… Меня не совсем еще выпустили. Через две недели второе дело в судебной палате будет слушаться…
– А-а, – холодно внимает отец. – Тянет тебя в тюрьму, Петруша. Жрать, что ли, тебе на свободе нечего?
– Мне-то есть что, – с мягкой настойчивостью отвечает Пётр. – Хотим, чтоб все, папаша, жрали…
Они сидят, не глядя друг на друга. Вдруг Петру кажется, что он сказал грубость. Длинноносое лицо его бледно краснеет.
– Папаша, я и позабыл вас с ангелом-то поздравить. С ангелом, папаша!
– Нашел время, Емеля! – тоскующе усмехается отец и легонько толкает сына в плечо. В голосе быхаловском – и жалоба на свое нехорошее одиночество, и грустная насмешка над суетой Петра.
Петр уходит спать.
Еще через час – уже полный сон. Газ потушен. Вверху, на полатях, с остервенением и вывертом, словно напилком стекло режет, храпит Карасьев.
Внизу, рядом с пустой койкой, ворочается без сна Сеня. Ему и холодно, и чего-то страшно. Будто – поле, огромное, ровное, ночное. И в поле этом разошлись пути братьев на две разные стороны…
VII. Девушка в гераневом окне
Каждому цвету свой черед, пришла пора и Сенина. Вот уж и Семёном стал звать Сеню Быхалов: с Успенья тронулся Сене восемнадцатый год. Время Сенино к убыли не спешило. Но когда восемнадцатого побежали первые дни, стал вдруг виться Сенин волос. Раньше все в скобку стригся, маслом утихомиривая непокорный затылочный вихор. А тут взыграли щеки Сенины румянцем, а голова – кольчиками; никакого с ними сладу нет. Не всех в могилу гнало Зарядье.
У Сени глаза серые, а брови, свидетельствуя о силе и воле, вкрутую сбежались к переносью. Жизни в него до краев налито. Она переливается могучими желваками на его спине, под рубашкой, она играет на алых Сениных губах. Вырос и поширел: скоро тесна станет Сене неглубокая, невысокая зарядская скудость.
За пять лет житья в бакалейных молодцах не устал Сеня бегать к Катушину, в его подчердачную высоту. К лету восемнадцатого своего года все катушинские книжки перечел Сеня, не ускользнула ни одна. Каждая из обтертых, скользких ступенек катушинской лестницы имела свое обличье и место в Сениной памяти… Взбегал, быстро проходил темный коридор с бесчисленным количеством дверей и рывком распахивал одну из них.
Так случилось и в это воскресенье, после закрытия лавки. В окна мастерской, где работал и жил Степан Леонтьич, широким снопом западало солнце, ярко и оранжево располагаясь и на войлочной двери, и на полу с обрезками сукна, марли, ваты и картона. Когда растворилась дверь и в солнечном пятне явилась белая Сенина рубашка, даже зажмурился Степан Леонтьич: уж не выносили света его слепнущие глаза.
– Чтой-то ты горячий какой нынче? Словно из печки только что вылез, выпекли…
– Книжку назад принес. – Улыбка Сенина широка и свободна.
– Всю прочел? – жмурился Катушин.
– Всю-то всю. Сочинение хорошее, слов нет. Только вот уж больно про любовь много. Словно у них и дела другого нет: влюбляются да расходятся.
Катушин улыбался: поздняя старость наблюдала раннюю младость.
– Все к тому и течет, Сенюшка. И нет другого дела, правда твоя. Которы любят, те и счастливы. Ты знай: весь мир приобретешь, и он тебя обманет, а любовь…
– …спасет, – докончил за Катушина Сеня. – Это ты вон из той книжки, Степан Леонтьич, говоришь. Я читаал… – протянул Сеня. – Там дальше так сказано: но если обманет тебя любовь, то больней ее обман, чем обман целого мира. Только, по-моему, все это враки. – И со смеющейся недоверчивостью Сеня садится возле старика.
– Что ж, обманывать, что ль, я тебя буду? – хитровато посмеивается Катушин. – И я ведь не всегда этаким сморчком по свету вихлял. Я тебе из правды жизни сказал, а не по книге…
Уже через три минуты от катушинской веселости нет и следа. Он грустно молчит, погружаясь в свои воспоминания. Выпуклые очки снова дрожат на его крохотном носу, брови по-детски подняты.
– …Очень мне хотелось грамоту вот тоже осилить, – сутулясь еще больше, рассказывает Катушин. – Меня тогда дьячок и приютил один, из соседнего села. Я к нему бегал тайком, чуть не замерз раз, во вьюгу побежал. Я у дядьки жил, дядька и не пускал: «Мы без грамоты прожили, и тебе пачкаться не след!» А дьячок меня и учил… Вот как кончилось обученье, он и говорит мне напоследях, дьячок мой: «Ну, говорит, Степан, все я тебе, что имел, передал. Ничего у меня, Степан, боле нету. Лапти вот еще умею плести, хочешь – обучу. А дальше уж ступай, как сам знаешь!»
Сеня смотрит в окно. Ветерок задувает к нему в лицо и перебирает кольчики Сениных волос, нежно, как женская рука. Грудь дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глубже – в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц. Сеня любит глядеть из катушинского окна: видно много.
Каменные невысокие этажи с суровой простотой возносились кверху. Предвечернее солнце калило воздух, мягчило асфальт, как воск, оранжевой дымкой одевало пыльную московскую даль. А внизу крались кривые переулки, и в них стоял небудничный гам. Ремесленное Зарядье погуливало, лущило семечки, скрипело гармоньями, изливалось в унылых песнях. Каждому зарядцу отведено в празднике свое особое место. Дудину – в сыром подвале чокаться с бутылкой, Быхалову – умиляться над киевским патериком, сказаньями о святых подвижниках, Карасьеву – все гулять по переулочкам, перемигиваясь со встречными девушками.
На все это Сеня смотрит теперь со смешанным чувством вялого любопытства и удивления. Вот по этим же руслам, в Зарядье, потечет и его собственной жизни река. Спокойна ли будет, порожиста ли, и когда обмелеет – в чьих жизнях затеряется ее конец?
Внезапно услышал Сеня старческий всхлип позади и как бы шуршанье бумаги.
Катушин сидел теперь к нему спиной, и за линялым ситцем его рубахи странно суетились стариковские лопатки.
– Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый? – кинулся к нему Сеня.
– Ничего… ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку твою… Дьячка своего вот вспомнил. – Катушин уже улыбался, и лицо его, разглаженное улыбкой, походило на последнюю страницу книги, обрызганную слезами. – Весь небось растворился в земельке, года немалые. Как обучил он меня лаптям, так и помер в недельку. Ну вот и я так же. – Выходило, что не Сеня утешал старика, а скорее старик примирял молодого с необходимостью смерти. – Не тревожься, паренек, будь крепенек. Одна глупость моя. Устарел я, а куды мне? В богаделенку меня не примут… Крови я не проливал, родины не спасал. А глаза-то, звона, покоя хотят. Берешь иглу в руки, а и не видишь иглы-то… и нитки не вижу! Так, паренек милый, пустым местом по пустому и шью. Только вот рука не омманывает…
Он сидел, ссохшийся калужский старичок, глядя в низкий потолок, под которым просидел всю жизнь, и кусал губами ноготок мизинца, как провинившийся мальчик, разбивший то, что дарят человеку однажды в жизни.
Жара за окном сменялась прохладой, предвещающе подуло влагой с реки. День закатывался куда-то за дома, дышавшие душной каменной истомой. Пьяный голос где-то внизу затянул песню, оборвался на высокой точке и умолк. На смену ему из раскрытого окна секретовского трактира запел трубным голосом орган. Задумавшись, Сеня неподвижно глядел в окно.
– …Все картузы да картузы, а ведь она-то не ждет! Пожалуйте, скажет, мыться да на стол!.. – слышал Сеня совсем издалека.
В двухэтажном доме напротив, в теневой стороне, открылось окно. В ветерке заколыхались кисейные занавески; за ними пылали на подоконнике пушистые ярко-красные герани и жирные бальзамины. Потом в окне явилась женщина или девушка, – было Сене не разглядеть.
Она поправила передничек, оперлась локотком о подоконник и, поглядев вниз, зевнула. Что-то привлекло ее внимание на крыше; раздвинув цветочные горшки, она высунулась из окна.
– Да улетайте же вы, улетайте… – закричала она, беспомощно хлопая в ладоши; вслед за тем она увидела Сеню в окне. – Там кот на голубей охотится, спугните его! Да скорей же, неповоротливый какой…
Она была такая праздничная, зовущая – в нарядном гераневом окне.
– Сейчас мы его уважим, – отвечал Сеня через улицу и успокоительно махнул рукой. – Только не уходи, побудь там еще немножко!
Не дослушав Катушина, он метнулся в дверь и скоро через разбитое чердачное окно вымахнул на крышу, громыхая по железу тяжелыми сапогами.
Опасенья, что уж поздно, оправдались: сытый бело-рыжий кот держал голубя в зубах, из разорванной шейки капала на раскаленную крышу кровь. В следующее мгновение он жалобно топырил лапы в сжатой Сениной руке… Но вот нога скользнула вниз, и одновременно девичий вскрик раздался в гераневом окне. Если бы не водосточный желоб, игра Сенина была бы проиграна… Покачиваясь, не выпуская добычи, он стоял на самом краю обрыва и силился овладеть пошатнувшимся сознанием…
Сперва он ощутил опасность и отодвинулся на полшага вверх по скату. Извернувшись, кот царапал ему руку, а девушка еще кричала что-то из гераневого окна, и Сеня с удивлением различал в ее голосе сердитые нотки. Все еще кружилась голова – не мог уловить причины ее гнева…
А та нетерпеливо барабанила ладонями по железному отливу подоконника.
– Да отпустите же его, вам говорят… Это наш кот! – И оборачиваясь к кому-то позади: – Матрёна Симанна, он его задушит. Господи, какие дурни бывают на земле!
Он стоял теперь на гребне крыши, держась за кирпичную кладку трубы, большой и смелый, в черно-голубом предгрозовом небе, и расстегнутая у ворота его рубашка оранжево горела в тягучем закатном свете. Едва понял и разжал пальцы, кот мгновенно исчез в чердачном проеме, а девушка все глядела на занятного паренька через улицу, качала головой и смеялась:
– Ну, чего вы сюда уставились! Не глядите на меня, слышите? Не велю…
Ее голос был низок, мягок, звучен: его можно было слушать век. Сеня улыбался ее гневу широко и восторженно; холодки, мурашки и льдинки струились у него по спине. Крикни она ему – лети! – он без раздумья исполнил бы ее приказание. «Тонкая какая!» – удивился он и вдруг сам испугался за нее:
– Не вылазь, ладно, не вылазь… Переломишься! Старушечья рука захлопнула окно и тотчас же задернула занавеску. Гераневое окно сразу потерялось среди всех других, столь же незначительных оконцев.
Сеня сел на гребень крыши и осмотрелся. «Тонкая какая!» – повторил он вслух и еще раз посмеялся над необычайностью события. Ветерок задувал за ворот рубашки; Сеня поднял руку застегнуть и нахмурился: двух верхних пуговиц недоставало у ворота. Потом взгляд его сам собою перекинулся на сапоги: они были тяжелы и неуклюжи. «Бочки, а не сапоги. Капусту в таких осенью квасить, вот что!» – подумал он, вспомнил карасьевские сапожки, топкой кожи, лакированными бутылочками, и огорченно покачал головой…
И точно преисподний дух, легкий на помине, в чердачное окно просунулась потная, обозленная рожа самого Карасьева:
– Ты чего тут балбесничаешь? Пошел домой! – рявкнул он, багровея от удовольствия удовлетворить потребность власти. – Чего народ внизу собираешь? Я вот задам тебе, неслуху!..
Но тут случилось нечто совершенно не предвиденное Карасьевым. Сеня засмеялся, беззлобно, но с какой-то возмутительной самостоятельностью:
– А ну, поди сюда! Я тебя, лошака ярославского, вниз скину…
– Вот и дурак! – обиделся Карасьев, не решаясь выбраться на крышу. – Я тебе заместо отца родного, можно сказать. А ты этак-то? Погоди. Я тебя, мужика, выучу, припомню!
– В поминанье пропиши! – крикнул ему Сеня вдогонку, но тот уже исчез с той же внезапностью, как и появился.
…Он долго сидел здесь. Чуть не весь город лежал распростертый внизу, как покоренный у ног победителя. Огромной лиловой дугой, прошитой золотом, все влево и влево закруглялась река. Широкое и красное, как цветок разбухшей герани, опускалось солнце за темные кремлевские башни, пики и купола… А снизу источались духота, жар, томящая, расслабляющая скука. Небо гасло, и все принимало лилово-синий отсвет тучи, наползавшей с востока. Ночь обещала грозу, и уже попыхивал молниями иссушенный московский горизонт.
Сеня обернулся. Москва быстро погружалась в синеву потемок, только диким бронзовым румянцем пылали крест и купол Никиты-мученика, что на Вшивой горке. Дальше все размывала мгла.
Напрасно ждал своего питомца Катушин, приготовивший для него последнюю свою, самую сокровенную книжку. Сеня сидел вверху, как раз над ним, чутко впитывая в себя эту непомерную торжественность закатной Москвы. Сердце его стучало быстро, четко и властно; так несется в свою неизвестность, ударяя не кованными еще копытами, молодой жеребенок по гулкой ночной дороге.
?IIІ. Петр Секретов
У Карасьева план тонкий. И крепко сшитые зарядцы смертью не обижены: как кончится Быхалов, откажет он деньги сыну, если тот к тому времени до полной трухи по тюрьмам не догниет. А лавку – кому ее и оставить, как не Карасьеву, человеку непьющему и обходительному, знающему благодетелям почесть, делу оборот, деньгам счет. Переменит Карасьев вывеску, приоткроет мясное: денежка закопит денежку, рублик погонит рублик, и выйдет из того усидчивого карасьевского нажима под старость каменный домок. И шестерки в козыри выходят: примером тому Секретов Пётр.
Из дырявой полтинки Пётр Филиппыч повелся, а помнит бородатая зарядская мелкота, как пришел он вместе с Ермолашкой Дудиным из деревни, хитроватый, рыжий, изворотливый, гнилыми грушами да квасом с лотка торговать. С Дудиным Петька в решку игрывал и на кулачках дрался, к Катушину книжки ходил читать. Был лопоух, за что и прозвали его Лопухом.
Вдруг пропал Лопух. Где Лопух? Нет Лопуха… Но осенью однажды объявилась москательная в каменной прорешке между двух домов, и вывеска утверждала безграмотно, что москательщик тут – Пётр Секретов. Лопуха в нем признали и свыклись. Стекло ли вставить, масла ли деревянного купить или рожу полюбовнику залить кислотой – шли непременно к Лопуху: у него товар свежий, с ручательством, и запросу нет.
Да раз пошла быхаловская молодайка замазки купить на зимнюю надобу, а москательни-то и нет. Досочками забита прореха, вывеска сорвана: ни товара, ни хозяина. Такая беда, пришлось брюхатой – Петром была покойница на сносях – на Москворецкую тащиться и у незнакомых покупать.
Безусые оженились, бородатых по кладбищам развезли. Слух прошел по Зарядью: желто-розовый дом Берги продают, им в гвардейском полку для поддержания чина и фамилии в деньгах нужда. Смекала голь: какого-то хозяина бог на шею посадит? Вдруг дудинская жена открыла во сне: дом Берги продали, а купил лопоухий барин, бесфамильный, неподслушанный. Дудин тогда же бабу побил, чтобы не суеверила попусту. А через неделю и приехал новый барин с женой. Пригляделись зарядцы – Лопух. Очень тогда Секретова невзлюбили, что помимо Зарядья, окольной статью в люди вышел. Впрочем, Секретов от их злобы ущерба себе не чувствовал.
Ловок был, а на дороге ему купец попался. Имелись у купца и лабазы, и мельницы, и мучные оптовки, а еще дочка Катеринка с глуповатинкой. Секретов к ней и лазил по пожарной лестнице в светелку, обаловал ее, молодую да глупую, небрежной, мимоходной лаской, а на четвертом месяце, как объявилась Катеринкина любовь, деловым, скромным образом предложил Пётр Секретов купцу честной свадебкой Катеринкин грех покрыть.
Купец только бороду почесал да усмехнулся:
– Я умен, а ты еще умней. Такими, как ты да я, вся Сибирь заселена. Бить Катьку не будешь? Прямо говори…
С той поры Секретов поважнел, кланяться перестал, люди ему – как грошики: только тогда им и счет, если в сотню сложатся. Отделал себе квартиру в доме против желто-розового владенья своего и по всем комнатам кнопки провел во избежанье вора.
… Как-то раз в двунадесятый, на безденежье, стало Дудину обидно на приятеля давнего детства. Оделся победней, в самые рваные сапоги, и пошел Петрушу, друга сердца, проведать. Пришел, встал в дверях, головенку набок, улыбается с горьким умиленьем на секретовское благолепие и покачивается, будто с пьянцой. А на самом деле был дико трезв, даже слишком для Ермолая Дудина.
Секретов за чайным столом ватрушку жевал. С одной стороны сидела беременная жена, а с другой – шурин Платон.
– Ты что ж образ-то подобие корчишь? – поднял глаза Секретов, облизывая творог с ватрушки. – Какая у тебя надобность?
– Ватрушечка-то небось вкусная? – погнулся Дудин в пояснице.
– На, – сказал Секретов и протянул облизанную.
– Ноне-то и пузцом обзавелись… а ведь я Петькой помню вас, Пётр Филиппыч, – льстиво забубнил Дудин, пряча ватрушку в карман и там разминая ее в крошки от злобы. – Как, бывало, в ребятишках мы с вами бегали; уж такой вы жулик были, смрадь, можно сказать, и не приведи бог! Я б и еще кое-что про вас сказал, да вон их стесняюсь, – и кивнул на Катерину Ивановну, пугливо замершую с непрожеванной ватрушкой во рту.
Петра Филиппыча в багровость кинуло. Не выходя из-за стола, потискал он кнопку под столом, вскочили в дверь дворники, взяли Дудина в охапку, унесли… Некому было Дудину жаловаться, а жена его, сама хирея день ото дня, замечать стала, что кашлять стал глуше и нудней Ермолай после того, как сходил в гости к другу давней юности.
…А Секретов в гору шел. В новокупленном дому зазвенела трактирная посуда и запел орган. Зарядье – место бойкое, в три быстрых ключа забилась в «Венеции» жизнь. Линии секретовской жизни были грубы, ясны и незатейны, как и на мозолистой руке. Все у него было правильно. Короткая его шея не давала вихляться и млеть головище, не то что у Дудина, длинношеего. Разум свой содержал в чистоте и опрятности, не засаривал его легковесным пустяком, подобно Катушину. Проветриваемая смешком, не болела его душа ни тоской, ни жалостью, ни изнурительной любовью.
Четыре месяца спустя по приезде в Зарядье родила Катерина Ивановна девочку Настю. Быть бы в той нечаянной семье счастью и хотя бы наружному благополучию, как вдруг простудилась Катерина и слегла. Дочке тогда третий год шел, когда у матери ноги опухли. Все же переползала от кровати к окну, из-за занавески наблюдая чужую жизнь, стыдясь самой себя.
Ее-то, так же как и Сеня Настю пятнадцать лет спустя, увидел Катушин из окна, тачая камилавку, дар прихожан приходскому попу. И оттого, что прожил без любви, а перед тем собачка у него околела, полюбил он Катерину Ивановну, чужую, в чужом окне, тоскующую. Но только в убогих стишках своих смел говорить он о своей любви. Ключ же от сундучка, где таилась его тетрадка, стал прятать далеко-далеко, на шейный шнурок.
Оставался еще в Катерине кусочек смысла: покрикивала по хозяйству, штопала носки самому. Вскоре, однако, совсем ей ноги отказались служить. Положили тогда Катерину Ивановну в угловой комнатушке, завесив окно той самой шалью, в которой, к слову сказать, венчаться ехала. Двигаться Катерина Ивановна уже не могла, и ухаживала за ней Матрёна Симанна, новоявленная тетка из Можайска. Толстая и ленивая, она и креститься помогала хозяйке малоподвижною рукой, она же и молитвы за нее шептала, поясняя целителю Пантелеймону бормотание хозяйкиных губ, приходила на помощь и в остальном.
Секретов запивал. Раз ночью, когда боролись в нем пьяные чувства, пришел к жене.
– Ты меня, Катерина, прости… за все гуртом прости! – сказал он тихо, стоя в дверях, и обмахнул увлажнившиеся глаза рукавом.
Та лежала, неподвижная, страшная, белая.
– Слышь, жена, прощенья прошу, – повторил терпеливо он, кулаком ударяя себя в грудь, и вдруг завопил на всю квартиру: – Да что ж ты, как башня, лежишь… не ворочаешься? С той поры совсем махнул он рукой на Катерину. Зато, как-то случилось, стал Катушин ходить к тому, что было когда-то секретовской женою. Приходил вымытый, в чистенькой воскресной рубахе, садился возле кровати и сидел тихо, полузакрыв глаза. Иногда рассказывал слышанное и читанное или смешное что, не получая ответа, да и не нуждаясь в нем. Своей любви остался Катушин верен и любил Катерину, быть может, больше, чем если бы она была здорова. Он же пробовал лечить ее отваром капустного листа.
Тут, в этом темном тупике, плодилась моль, мерцала лампада, воркотала очередная монашенка, и из года в год возле столика, уставленного лекарственным хламом, бесшумно сидел Катушин. Так он научился понимать смутный язык больной. Однажды сказал Насте:
– Ты заходи к матери-то. Сердится, что не бываешь. В другой раз осмелился сказать Секретову:
– Что ж ты ее, Пётр Филиппыч, просвирками-то моришь? Ты бы ей щец дал!..
IX. Настюша
Настюша росла девочкой крепенькой, смуглой, как вишенка, в постоянном смехе, как в цвету.
Детство свое помнила лет с шести: дядя Платон куклу подарил.
Кукла была с фокусом, плакала и моргала. Недолговечны детские утехи: вечером распорола Настюша кукле животик, чтобы узнать секрет куклиной жизни. Там оказалась только пружина да еще жестяной пищик, вонявший столярным клеем. Чтобы скрыть преступленье, она подкинула останки куклы матери под кровать. Сора оттуда не выметали, чтоб не тревожить больную.
Никто и не заметил, а отцу не было никакого дела до Настиных поступков. «Расти, сколько в тебе росту хватит. Дал тебе жизнь, даю хлеб. Вот и в расчете, пожалуйста!» – таков был неписаный договор между отцом и дочерью. У отца в то время ширились дела, требовали воли, глаза, времени. Каждый винтик в общей машине хотел, чтоб и за ним присмотр да хлопоты были.
Лишь в воскресные дни, садясь за стол, спрашивал, посмеиваясь:
– Ну, Настасья Петровна, как живете-можете, растете-матереете?
– Ничего, папаня… матереем! – в тон ему пищала восьмилетняя Настасья Петровна.
Вопрос повторялся из праздника в праздник, из года в год… Настюше рано опротивел отцовский дом – грузные пироги с ливером, безмолвие комнат, громадная Матрена Симанна, жующая мятную лепешку для сокрытия винного запаха. Матери Настюша боялась, как страшного сна; когда, по воскресеньям, старуха приводила ее сюда, в тесную, всегда завешенную каморку, девочка робела, мучилась укорами совести, старалась не дышать мертвым запахом чужой болезни и пуще всего страшилась прикосновения белой, из-под одеяла, опухшей руки…
Потом, волнуясь и спеша, она надевала оборванную шубку, дырявый шерстяной платок, чтоб не бранили за порчу, и вихреподобно уносилась на улицу.
Так и росла Настюша на улице, без нянек и присмотров, бегала с ребятами через Проломные ворота на реку, тонула однажды в проруби, дразнила вместе со всей ребячьей оравой извозчиков, татар, иззябших попугаев на шарманках у персов. Шумливая и загадочная, звала ее улица. Она сделала Настю бойкой; тела ее, изворотливого и гибкого, никакой случайностью было не удивить… В городском училась – детскую мудрость срыву, по-мальчишески, брала. Остальное время с мальчишками же вровень каталась на коньках вдоль кремлевского бульвара, скатывала снежных страшилищ: любопытно было наблюдать, как точит их, и старит, и к земле гнетет речной весенний ветер. То-то было шумно и буйно, непокорно и весело.
Двенадцатая весна шла, придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженный фитилек. Всю ту ночь, думая об этом бесцельном огоньке, томилась без сна Настя. Ах, какой славный ветер в ту ночь был! Как бы облака сталкивались и гудели, словно тесно стало в весеннем небе облакам… Наутро нашли в огоньковой пещере только копоть. Недолго погорел фитилек. Тут еще снег пошел, лужицы затянулись. Так впервые изведала Настя горечь всякой радости и грусть весны.
Раз осенью, поутру, окончилось Настино детство. От обедни возвращаясь вместе, сказал Секретов Зосиму Быхалову от всей полноты души:
– Паренька твоего видал. Хороший, ласковый…
– Законоучитель очень его хвалил: ваш, говорит, сын перстом отмечен, – довольно пробурчал Быхалов.
– Надо и мне Настюшку мою к занятиям пристроить. Как знать, какие жеребьи выпадут… Вдруг да посватается? Негоже будет умному-то мужу да глупую жену! – задорил Пётр Филиппыч.
– Коли товар хорош выйдет, чем мы не покупатели? – пощурился и Быхалов. – Только что ж ты ее ровно просвирню водишь? Бабочка славная растет.
– Бабочка славная… – повторил задумчиво Секретов и впервые оценил дочь.
Сделали новую шубку Настюше – здесь и кончилось детство: в новой не так вольготно стало и в угольных сараях прятаться, и валяться в снегу. Настю отдали в купеческий пансион.
В канун того дня заходила Настя к отцу проститься на ночь. Тот сидел на кровати, без поддевки и без сапог, усталый и хмурый, в предчувствии запоя.
– Ну, девка, – заговорил он, усаживая ее на колени, – смотри у меня.
– Я смотрю, – сказала Настюша и поджала губы.
– Да не егозой расти, а яблочком… Чтоб каждому от тебя и рот вязало, и душу тешило. Живи и никому спуску не давай. На меня гляди: мужиком пришел, двадцать лет меня жизнь в ладонях терла, а все целехонек. Чувствуешь?
– Да! – не робея, сказала Настюша, скашивая глаза на порожние бутылки, оставшиеся в углу от прошлого запоя.
– Учись и божье слово слушай, на то человеку и уши даны. Без него, девка, плохо, тем и кормимся…
– А у вас, папаня, – давясь смехом, спросила Настюша, – ухи большие тоже для божьих слов?.. – Она не выдержала и рассмеялась, точно целая связка колокольчиков раскатилась по полу. – Папаня, извините, у меня губы чешутся, – уходя, попросила Настя.
…Тем временем названый жених Настин вступал в университет. Часто, к вящему недовольству отца, пропадал ночи, путался с волосатыми приятелями, худел и бледнел: не шли Петру впрок его усидчивые занятия. А среди белых пансионских стен, намекавших на девическую невинность содержательницы, мадам Трубиной, науками, напротив, не утруждали. Преобладали танцы и арифметика. Беря с купеческих девиц втридорога, боялась Трубина потерять лишнюю ученицу. Какой-то защелканный многосемейный немец вслух переводил по пять строчек в день, с грустным ужасом глядя на сидящих перед ним круглолицых, румяных девиц. Зато Евграф Жмакин, учитель танцев, был неизменно весел и летающ, походя на пружинного беса; казалось, что мать его так в танце и родила.
На четырнадцатом году тронула Настюшу корь. После выздоровления отец долго не пускал Настю в пансион; да тут еще негаданно просунулось шило из мешка. У знакомого зарядского купца дочка Катя, учившаяся вместе с Настей, пополнела от неизвестных причин; под неизвестными причинами был сокрыт от гневного родительского взгляда сам Евграф Жмакин. Пётр Филиппыч был так обрадован своевременным удалением Насти из пансиона, что даже забыл посмеяться над купеческим позором.
Оставлять Настю без образования Секретову было совестно перед друзьями. По совету шурина стал он подумывать о приглашении домашнего учителя. И тут как раз совпало: Пётр после первого своего, пустякового ареста, понятого всеми как недоразумение, проживал в Зарядье, у отца. Лучшего случая нанять учителя задешево, а вместе с тем и познакомиться с Петром Быхаловым поближе, если того и в самом деле угораздит посвататься, не представлялось. Пётр согласился, уроки начались почти тотчас же.
Учитель приходил с утра, с книгами и тетрадями под мышкой. И без того сильно сутулясь, теперь он еще вдобавок хмурился, чтоб внушить девочке уважение к особе учителя. Садился за стол, раскрывал книгу на заложенном месте, начинал с одного и того же:
– Ну-с, приступим. Итак…
И в тон ему, щуря глаза, – привычка, перенятая у Кати, – как эхо, вторила Настя:
– Приступим…
Она садилась на самый краешек, точно старалась скорее устать. Первые десять минут все шло чинно. В купеческой тишине слышались только громыханья сковородников и кухаркин голос. Положив локотки на стол, Настя подпирала руками голову и глядела прямо в рот Петру, забавляясь движениями вялого учительского рта.
Потом глаза ее подергивались тоненькой пленкой дремы. Она зевала в самых неожиданных местах, – однажды стала играть полуоторвавшейся пуговицей студенческой тужурки Петра, однажды просто запела. Честное пошевеливанье Петровых губ усыпляло Настю: запела, чтоб не уснуть.
– Слушайте, Пётр Зосимыч, – сказала однажды, – в который раз у вас вижу. Дырка у вас на локте, дырка, – указала Настя. – Давайте я вам зашью… А вы мне лучше потом доскажете.
– Это давняя, я к ней привык… Впрочем, зашейте, – согласился он, стаскивая с себя тесную тужурку.
Напевая, Настя отыскала в ворохе цветных обрезков подходящий лоскуток. Петр сидел молча и глядел на ее быстрые пальцы.
– Скажите, – вкрадчиво начала она, вдевая нитку в иголку – правда это, что вы каторжник?
– То есть как это каторжник? – опешил Пётр. – Что за пустяки! Кто это вам сказал? – И длинный нос его принял ярко-розовый оттенок.
– Вы уже убивали кого-нибудь? – тончайшим голоском спросила Настя, склоняясь над работой.
– А, вот вы про что! Нет, я за другое сидел… – сказал он тихо, косясь на растворенную в коридорчик дверь. Дверь Настиной комнаты, по настоянию Петра Филиппыча, была всегда раскрыта.
Настин взгляд был выспрашивающий и требовательный, и, повинуясь ему, Пётр тихо пояснил, за какие провинности вычеркивают людей из жизни, иногда на время, иногда навсегда. Похоже было, что он приглашал и Настю разделить с ним его судьбу. Настя спешила, доканчивая починку.
– Нате, надевайте, – сказала она, обкусывая нитку. Она встала и отошла к окну. Там падал осенний дождик. Вдруг плечики у Насти запрыгали.
– Что вы, Настя? – испугался Пётр.
– Знаете что?.. Знаете что? – задыхаясь от слез, объявила девочка, откидывая голову назад. – Так вы и знайте… Замуж я за вас не пойду! Вы лучше и не сватайтесь!
– Да почему же? – удивился Пётр.
– У вас нос длинный, и потом у вас с головы белая труха сыплется… – прокричала Настя и выбежала вон.
Весь тот день она просидела в кресле, сжавшись в комок. А вечером решительно вошла в отцовскую спальню. В ожидании ужина Пётр Филиппыч серебряным ключиком заводил часы.
– Я за твоего Петра Зосимыча не пойду. Так и знай! – твердо объявила она и встала боком к отцу. – Не хочу с ним в тюрьму, не хочу!
– Да ну-у?.. – захохотал Секретов, уставляясь руками в бока. – Вот баба… На чью-то неповинную головушку сядешь ты, такая!
Настя подошла ближе и вдруг, припав к груди отца, заплакала. От жилетки пахло обычным трактирным запахом. Отец гладил Настю по спине широкой, почти круглой ладонью.
Так она и заснула в тот вечер на коленях у отца. А в столовой стыл ужин и коптила лампа.
…Через два дня Пётр снова уселся в тюрьму, на этот раз надолго. В мирной сутолоке Зарядья то было немалым событием. Секретову рассказали, будто приезжала за Петром черная карета. Она-то и увезла душегуба Петра в четыре царские стены.
Пётр Филиппыч человек мнительный, тогда же порешил покончить все это дело. В субботу, перед полднем, отправился к Быхалову в лавку и сделал вид, что ненароком зашел.
– Здравствуй, сват, – прищурился Быхалов, зорко присматриваясь ко всем внутренним движениям гостя. – Семён! – закричал он в глубь лавки, скрывая непонятное волнение. – Дай-кось стул большому хозяину… Да стул-то вытри наперед!
– А не трудись, Зосим Васильич. Я мимо тут шел, дай, думаю, навещу, взгляну, чем сосед бога славит.
– Ну, спасибо на добром слове, – упавшим голосом отвечал Быхалов, почуяв неискренность в секретовских словах. – Садись, садись… стоять нам с тобою не пристало.
– А и сяду, – закряхтел Секретов, садясь. – Эх, вот увидел тебя, обрадовался и забыл, зачем шел-то. Время-то не молодит. Эвон как постарел ты, Зосим Васильич. Краше в гроб кладут! Огорчений, должно, много?..
Быхалов морщился недоброй улыбкой.
– Да ведь и ты, сватушка… тоже пухнешь все. Пьешь-то по-прежнему? Я б на улице и не признал тебя. Плесневеть скоро будешь!
– Скажешь тоже, смехотворщик! Я-то еще попрыгаю по земле! Вот у Серпуховских еще трактиришко открываю, сестриного зятя посажу. Да вот домишко еще один к покупке наметил. Сам видишь, дела идут, контора пишет. Эвон я какой, хоть под венец! Моложе тебя года на два всего, а ведь годов на тридцать перепрыгаю!..
Последний покупатель ушел. Наступало послеобеденное затишье.
– Ванька, – глухо приказывает Быхалов новому мальчику, – налей чаю господину. Да сапогами-то не грохай, не в трактире!
– Насчет чаю не беспокойся, соседушко, – степенится Секретов, лукаво разглаживая рыжую круглую бороду. – В чаю-то купаемся!
– Да и нам не покупать. Выпей вот с конфетками. Да смотри не обожгись, горяч у меня чай-то!
На прилавок, у которого сидит Секретов, ставит Зосим Васильич фанерный ящик с конфетами.
– Ах да, вот зачем я пришел… Вспомнил! – приступает Секретов, мешая ложечкой чай, стоящий на самом краю прилавка. – Вот ты сватушкой меня даве называл. Конешно, все это – смехи да выдумки, а только ведь я Настюши своей за сына твоего не отдам… Не посетуй, согласись!
– А что? Почище моего сыскали? Что-то не верится… – скрипит сквозь зубы Быхалов, все пододвигая ящик с конфетами на гостев стакан.
– Так ведь сам посуди, – поигрывая часовой цепкой, говорит Секретов, голос его смеется. – Кому охота дочку за арестанта выдавать? Уж я лучше в печку ее заместо дров суну, и то пользы больше будет…
Оба молчат. Сеня громко щелкает на счетах, – месячный подсчет покупательских книжек. Секретов сидит широко и тяжко, каждому куску своих обширных мяс давая отдохновенье и покой. В стакане дымится чай. Быхалов, уставясь в выручку, все двигает к гостю конфетный ящичек и вдруг выталкивает его на стакан, который колеблется, скользит и опрокидывается к Секретову на колени.
В первое мгновение Секретов неожиданно пищит, подобно мыши в мышеловке, и Быхалов не сдерживает тонкой, как лезвие ножа, усмешки.
– Да ты, никак, ошпарился? Вот какая беда, Пётр Филиппыч, – наклонясь побагровевшей шеей, картузом смахивает с колен дымящийся кипяток.
– Да, захватило чуть-чуть, краешком, – фальшиво улыбается Секретов, твердо снося жестокую боль ожога. – А сынища своего, – вдруг прямится он, – на живодерню отошли, кошек драть!..
– И мы имеем сказать, да помолчим. – И Зосим Васильич поворачивается к гостю спиной.
– И правильно сделаете! А то к сыну в острог влетите… – выкрикивает Секретов. – А на лавку мы вам еще накинем… вы мне тута весь дом сгноите! Счастливо оставаться!
Затем последовал неопределенный взмах руки, и Секретова больше нет. Любил Пётр Филиппыч, чтоб за ним оставалось последнее слово, – отсюда и легкое его порханье.
X. Павел навещает брата
Сеня впоследствии не особенно огорчался безвестным отсутствием брата. Крутая, всегда подчиняющая, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, – жизнь стала ему легче. Сеня уже перешел первый, второй и третий рубежи зарядской жизни. Теперь только расти, ждать случая, верным глазом укрепляться на намеченных целях.
В конце того же лета, когда Катушин вспоминал о дьячке, в воскресенье вышел Сеня из дому, собравшись на Толкучий рынок, к Устьинскому. На подоконнике быхаловского окна, возле самой двери, сидел Павел. Зловеще больно сжалось сердце Сени, – такое бывает, когда видишь во сне непроходимую пропасть. Павел был приодет; черный картуз был налажен на коротко обстриженный Пашкин волос. Все на нем было очень дешевое, но без заплат. Сидя на подоконнике, Пашка писал что-то в записную книжку и не видел вышедшего брата.
– Паша, ты ли?
– А что, испугался? – спокойно обернулся Павел, пряча книжку в карман брюк; глаза его покровительственно улыбнулись. Потом Павел достал из кармана платок и стал сморкаться.
Надоедливо накрапывало. В водосточных желобах стоял глухой шум, капало с крыш.
– Чего ж мне тебя пугаться! – возразил Семён, поддаваясь непонятной тоске, и пожал плечами.
С неловкостью они стояли друг перед другом, ища слов, чтоб начать разговор. Вспыхнувшее было в обоих стремление обняться после пяти лет разлуки теперь показалось им неестественным и ненужным.
– Чего же под дождем-то стоять?.. Пойдем куда-нибудь, – сказал Сеня, выпуская руку Павла, твердую и черную, как из чугуна.
– Да вот в трактир и зайдем. Деньги у меня есть, – сказал Павел.
Она стояли в воротах, продуваемых мокрым сквозняком осени. То и дело въезжали извозчики с поднятыми верхами. Братьев обдавало ветром и брызгами с извозчичьих колес.
– Деньги-то и у нас найдутся, – с готовностью похлопал себя по тощему карману Сеня; там звякнуло серебро.
Они поднялись с черного хода в трактир, второй этаж каменной секретовской громады. Кривая, скользкая лестница, освещенная трепетным газовым языком, вывела их в коридор, а коридор мрачно повел в тусклую, длинную и шумливую коробку, сплошь заставленную столиками. Под низким потолком висели чад и гул. Все было занято. Зарядская голь перемежалась с синекафтанной массой извозчиков и черными чуйками мелких торгашей; это у них товару на пятак, а разговору на полтину. Несколько бродяг с сонным благодушием сидело тут же, склонив огромные, опухшие лица в густой чайный пар. Осовев от крепкого чая, как от вина, они блаженно молчали, всем телом ощущая домовитую теплоту «Венеции».
Торгаши кричали больше всех, но даже когда вспыхивало в чадной духоте короткое ругательство, снова срастался рассеченный гул и оставался ненарушим.
Лишь извозчики, блестя черными и рыжими, гладко примасленными головами, потребляли чайную благодать в особо сосредоточенном безмолвии; не узнать в них было уличных льстивых, насмешливых крикунов. Спины их были выпрямлены, линия затылка, не сломясь, переходила в линию спины: прямая исконного русского торгового достоинства. Разрумянившись, они сидели парами и тройками, прея в вате, как в бане, обжигающим чаем радуя разопревающую кость. Самые их румянцы были густы, как неспитой цветочный чай.
Дневной свет, разбавленный осенней пасмурью, слабо пробивался сюда сквозь смутную трактирную мглу. Пахло кислой помесью пережаренной селянки с крепким потом лошади, стоялой горечью кухонного чада и радужной сладостью размокающей карамели.
Сеня повел брата в темный уголок, где оставался незанятым столик под картиной, и постучал в стол. Половой, белый и проворный, как зимний ветерок, мигом подлетел к ним, раздуваясь широкими штанами, с целой башней чашек, блюдец и чайников.
– Чего-с?.. – тупо уставился он между двумя столиками.
– Да я не стучал, – рассудительно сказал соседний к Сене извозчик, разгрызая сахар и держа дымящееся блюдце в отставленной руке. – А уж если подошел, так нарежь, парень, колбаски покрупней да поджарь в меру. Горчички прихвати. А сверху поплюй этак перчиком.
– Нам чайку, яишенку тоже, на двоих… Да кстати ситничка, – заказал Сеня и улыбнулся Павлу. – Ты ко мне в гости пришел, я и угощаю!
– Гуди, гуди! – засмеялся Павел. – Небось разбогател, а? За тыщу-то перевалило?
– За десять! – подмигнул и Сеня, радуясь шутке брата, позволявшей ему и весь разговор вести в шутливом тоне.
– Братана-то не забудь, как разбогатеешь! – опять пошутил Павел.
– Да вот за прошлый месяц четыре рубля домой послал… А так – по трешнице. Ни месяца не пропустил, – хвастнул Сеня.
– Смотри, сопьется совсем отец-то! – опередил Павел Сенино хвастовство.
Павел, ворочая под столом хромую ногу, схлебывал с блюдца чай. Лица его не зарумянило чайное тепло. Сеня осматривался; впервые приходил он сюда как равноправный посетитель. Совсем установились сумерки, хотя стрелки круглых трактирных часов стояли только на четырех. У дальней стены, рядом со входом в бильярдную, возвышалась хозяйская стойка. Позади нее громоздился незастекленный шкаф, втесную набитый дешевым чайным прибором. На прилавке отцветали в стеклянных вазах дряблые бумажные цветы. С ними соперничали по цвету разложенные на прилавке ядовито-багровые колбасы, красные и желтые сыры, яркие леденцовые конфетки в стеклянных банках. Больше же всего было тут яиц, – может быть, тысяча, – сваренных вкрутую на дневной расход.
– Что же ты не спросишь, где я устроился… живу как? – спросил Павел, трогая вилкой шипящую яичницу.
– Что? Что ты говоришь? – откликнулся брат.
– На заводе, говорю, устроился, – рассказывал Павел. – Интересно там! Все пищит, скрипит, лезет… Там, брат, не то, что колбасу отпускать! Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал намотало, весь потолок в крови был! – сказал он размякшим голосом, дрожащим от гордости своим заводом и всем, что в нем: кровь на потолке, гремящие и цепкие станки, бешено летящие приводы, разогретая сталь – все сосредоточившееся перед глазами в одном куске железа, которому сообщается жизнь. – Я вот, знаешь, очень полюбил смотреть, как железо точат. Знаешь, Сенька, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно… Стою и смотрю, сперва по три часа простаивал так-то, не мог отойти. Вот, гляди, сам сделал!.. – И он, вытащив из кармана, протянул брату небольшую шестеренку с матово блестевшими зубцами; Сеня повертел ее в руках и отдал Павлу без единого слова. – Книжки теперь читаю, – продолжал Павел полувраждебно. – Умные есть книжки, про людей… Ах, да много всего накопилось.
– Книжки – это хорошо, – равнодушно ответил Сеня, откидываясь головой к стене.
– Вначале трудно было, да и руки болели… – Павел, обиженный странным невниманием брата, стал рассказывать тише, словно повторял только для самого себя, а Сеня продолжал скользить вялым взглядом по трактирной зале.
Немного поодаль от стойки, чтоб не глушить хозяйских ушей, раздвинулся во весь простенок трактирный орган. Молчавший, поблескивал он в сумерках длинными архангельскими трубами, тонкими пастушьими свирелями, толстыми скоморошьими дудами. Вдруг в нем раздался вздох, потом скрип валов, потом пискнула, выскочив раньше времени, тонкая труба, и наконец, собравшись с силами, он запел что-то тягучее и несогласное, что поют на ярмарках слепцы. Орган был стар; когда струя воздуха попадала на сломанный лад, беспомощно всхлипывало пустое место и шипящий жалобный ветер пробегал по всем трубам враз… Так лилась жестяная песня, и вся «Венеция», словно околдованная, внимала ей. Половые, заложив ногу за ногу, привычно замерли у притолок… Пасмурное небо за окном совсем истощилось и не давало света. Был тот сумеречный час, когда сами вещи, странно преобразясь, излучают непонятное белесое мерцанье.
Как будто раздвигались стены и освобождали взгляду то, что было ими до сей поры заслонено. Великое пространство, голубое с серым, с холмами и пологими скатами, лежало теперь перед Сеней. И Сеня ушел в него, бродил по нему, огромному полю своих дум, покуда изливался песней орган.
– Очень долго к ночной смене привыкнуть не мог – один раз и самого чуть машина не утащила! – слышит Сеня издалека. – Да ты что, спишь, что ли?
– Нет, нет… ты говори, я слушаю, – откликается Семён. Голос Павла, упругий и настойчивый, теперь все ближе.
– А уж этого нельзя, Сеня, простить…
– Чего нельзя?.. О чем ты? – вникает Сеня.
– Да вот как я в кислоту кинулся… из-за хозяйского добра-то! – голос Павла глух и дрожит сильным чувством.
– Кому, кому? – недоумевает Сеня. – Кому нельзя простить?
– Быхалову и всем им… Да и себе тоже, – тихо говорит Павел. – Гляди вот! – И показывает Сене свои ладони, на которых по неотмываемой черноте бегут красные рубцы давних ожогов.
Глаза Павла темны, губы его редко и четко вздрагивают. Снова Сеня чувствует свинцовую гору, надвигающуюся на него, – волю Павла. Он поднимается с места с тягучим чувством тоски и неприязни.
– Я пойду колбаски подкуплю, – неискренне объявляет он.
– Да мне не хочется… Ты уж досиди со мной! – говорит Павел.
– Да я и сам поесть не прочь. Еще в полдень ведь обедали… – Сеня фальшиво подмигивает брату и пробирается между столиками к трактирной стойке.
Орган все пел, теперь – звуками трудными и громоздкими: будто по каменной основе вышивают чудесные розаны, и они живут, шевелятся, распускаются и цветут…
Сеня подошел к стойке, за которой обычно стоял сам Секретов, неподвижный и надутый, как литургисающий архиерей, и указал на розово-багровую снедь, скрученную в виде больших баранок.
– Эта вот, почем за фунт берете? – спросил он, глядя вниз и доставая из кармана деньги.
– Эта тридцать копеек… а эта вот тридцать пять, – пересиливая орган, сказал женский голос.
Цена была высока. Ту же колбасу Быхалов отдавал за четвертак, да еще с прибавкой горчицы для ослабления лишних запахов. Сеня поднял глаза, и готовое уже возражение замерло у него на губах. Чувство, близкое к восхищению, наполнило его до краев.
Наступили полные сумерки, и в сумерках цвели бумажные цветы на стойке. А за ними стояла та самая, крикунья из гераневого окна… Облегало ее простое платьице из коричневого кашемира; благодаря ему резче выделялась матовая бледность лица, обесцвеченного в ту минуту скукой. Только губы, цвета яркого бумажного цветка, змеились лукавым смешком.
С глазами, раскрытыми на улыбающуюся трактирщицу, Сеня приблизился вплотную, забывая и брата, и первоначальную цель прихода. Полтинка, приготовленная в ладони, скатилась на пол, но он не видел.
– Это вы!.. – сказал он почти с восторгом.
– Как будто я… да. – Она его узнала, иначе не смеялась бы: ей был приятен Сенин полуиспуг.
– Я не знал тогда, что это ваш кот, – виновато сказал он и опять опустил глаза. – Я думал, вы за голубей боялись…
– Эй, малый! – смешливо окликнула соседняя чуйка. – Что же ты деньгами швыряешься? Как полтинку ни сей, рубля не вырастет.
Сеня нагнулся и поднял монету. В эту минуту орган хрустнул последней нотой и остановился. И вновь «Венецию» наполнил обычный трактирный гам и плеск.
– Не серчайте на меня… Ведь на коте отметки-то не было! – проговорил он с опущенной головой.
– Чего-с? – переспросил мужской голос.
– Фунтик мне, – не соображая, сказал Сеня.
– Чего фунтик? Гирьку, что ли, в фунтик? За стойкой, вместо Насти, теперь стоял сам Секретов, насмешливо постукивая по прилавку ножом.
– Нет, мне вот этого, – сказал Сеня, невпопад указывая на яйца.
– Яйца фунтами не продаем. Яйца мы десятками, – сухо поправил Секретов.
– Мне десяток, да, – сказал Сеня, ощущая себя так, словно катился под откос.
– Семнадцать копеек… Товар замечательный. Извольте сдачу… Сеня торопливыми глазами искал ту, из гераневого; ее уже не было. Казалось, весь трактир смотрит только на него и, изнывая от смеха, ждет, что еще выкинет этот потешный малый, набивающий карманы крутыми яйцами.
Когда он добрался до своего столика, брата уже не было. Он не дождался и ушел.
– Эй, земляк! – крикнул Сеня, не особенно огорчаясь уходом Павла. – А ну, получи с меня…
– Заплачено за этот стол, – мельком бросил половой, снова проносясь снежноподобным вихрем.
…Когда Сеня выходил на черную лестницу, по которой и пришел, «Венеция» зажигала огни; здесь и там вспыхивали газовые рожки. Позади снова загрохотал орган, но уже не жалобно, а вприпляс. Похоже было, будто развеселился на Сеню старик и пошел вкруговую, не стыдясь ни хромоты своей, ни обвисшего плеча.
XI. Сперва смеется Настя, а потом Сеня
Словно воды под ударом ветра, разволновалась Сенина душа. Неумолкающие круги, разбуженные первым восторгом, забегали по ее поверхности. Предчувствием любви заиграло Сенино воображение.
Теперь вечерами уже не к Катушину бежал Сеня. Едва запрут – закрытие лавки совпадало теперь как раз с наступлением темноты, – выбегал на осеннюю улицу, чтоб брести, куда поведут глаза, в надежде когда-нибудь повстречать свою Настюшу. Странно милы были ему головокружительное волнение мыслей о ней и ядовитая сладость бесцельных блужданий.
В том году как раз прогремели первые военные вести. Те, которым, как братьям, одну бы песню петь, стояли в больших полях друг против друга, засыпали чужую сторону железом, душили смрадом и уже много народу побили. Брали тогда и брили молоденьких, везли в самые погиблые места, где и земля-то сама, как воск, таяла и гнила стыдом. Тужились стороны, тужилось и Зарядье, посылая молодятину в пороховой чад…
Растеряв все свои ярославские румянцы, унылый и пьяный, выехал на фронт Иван Карасьев. Замело общей волной и Егора Брыкина, не успевшего и наследника по себе оставить. Выехал туда же и Пётр Быхалов с тайными намерениями. Он приходил прощаться к отцу и поцеловал его в жесткую щеку, а отец сказал: «Очистись, Пётр…» Тихо стало в Зарядье. В безмолвие, нарушаемое только звоном праздничных колоколов да похрустываньем жирных пирогов с вязигой, не доходили громы с далеких полей. Уже и до Сениной очереди оставался только год, а он и не думал.
…Была суббота. В зарядскую низинку моросило. Уличный мрак не рассеивался мутным светом убогих зарядских фонарей. Все дремало в предпраздничном отдохновении, когда Сеня вышел из ворот и привычно взглянул в окно противоположного дома, в гераневое. Огня в нем не было, и только Сенин глаз умел найти его в ряду других, таких же.
На тумбе сидел бездомный, с мокрой шерстью, кот. Сеня присвистнул на него, надвинул козырек на самые глаза и пошел вдоль переулка. Пальтецо распахнулось, тонкий сатин рубашки не защищал тела от пронизывающих веяний влаги, но это было приятно. Он уже миновал два переулка и проходил мимо бедноватой Зачатьевской церквушки, загнанной в самый угол Китайгородской стены. Где-то в колоколах свистела непогода. Всенощная отходила, – уже спускались с паперти невнятные подобия людей; их тотчас же поглощала ночная мгла. Внутренность церкви была трепетно и бедно освещена.
Сеня вошел.
Пели уже «Славу в вышних». Наступил тот промежуток в службе, когда в страхе потемок повергается на землю тело человеческой души. Смутное освещение немногих свечей не выпячивало на глаза назойливой церковной позолоты. На амвоне стоял дьякон, склоняя голову вниз, как во сне. Народу было мало. Вправо от себя, в темном углу, увидел Сеня Настю; он уже знал ее по имени. Она стояла, опустив голову, но вдруг обернулась, высоко подняв удивленные брови, и порозовела. По каким-то неуловимым признакам, может быть – биенью сердца, она догадалась о его присутствии.
Шло к концу. Уже давался отпуст, когда Сеня вышел на паперть. Там бежал дощатый заборчик, чуть не заваливаясь на тротуар. Прислонясь к нему, Сеня ждал. Проходившие мимо не замечали его: ближние фонари не горели. Сеня слышал разговоры прихожан.
Двое, борода и без бороды:
– Будто отца Василья-то к митре представили.
– Это что ж, дяденька, вроде как бы «Георгий» у солдат?.. Несколько минут совсем пустых, только ветер; потом старухи:
– Жена и напиши ему: куда мне безрукий? Я себе и с руками найду…
– Скажи-и пожалуйста!.. Наконец знакомые голоса:
– Нечистый-то ему и приказывает: ложись, говорит, спи! А Сергей-то Парамоныч покрестился, глянул, а перед ним пролубь… Он и отвечает: дак ведь это пролубь, говорит…
– А тот что?
– А бес-то и повянул весь. Сеня насторожился:
– …Так ведь вы, Матрёна Симанна, не видели!.. Две женщины, старая и молодая, подходили. Несмотря на мрак, Сеня сразу узнал свою. Настя шла дальнею от Сени, справа. С забившимся сердцем Сеня выждал, пока они приблизились совсем. Тогда он выступил из своего укрытия и пошел рядом. Старая – Матрёна Симанна – посторонилась было, давая пройти, но Сеня не собирался уходить, шел вместе, взволнованный и смущенный.
– Проходи, проходи, милый, – затрубила баском Матрёна Симанна, неспокойно приглядываясь к подозрительному молодцу. – Я вот людей кликну на тебя! – Она даже оглянулась, но никого не было кругом; из церкви Секретовы вышли последними.
Место здесь самое глухое – кондитерский оптовый склад, ящичное заведение, парикмахерская с подобающей вывеской: человек остригает голову человеку же огромными ножницами… Все это теперь закрыто на замок и отгорожено толстой стеною сна.
– Настя!.. – тихо позвал Сеня; многое хотел сказать, но все мысли, рожденные радостью этой встречи, уже слились в одном слове, и слово это было произнесено. Настя молчала, может быть, смеясь.
– Да отстанешь ли ты, мошенник, или нет?.. – загорячилась старая, пытаясь втолкнуться клином среди молодых. – Ишь какой напористый, – пыхтела она, отпихивая Сеню, отмахивая его, словно чурала, длиннющим рукавом салопа.
Сеня сперва как будто не замечал ее, потом обронил сердито:
– Ты погодь, старушка, не лезь. Что ты тут под ногами шариком вертишься?
– В самом деле, вы ступайте, Матрёна Симанна, позади. Троим тут очень трудно идти, – сказала Настя и впервые близко взглянула на Сеню. – Может, у него дело ко мне есть…
– Какое же, матушка, дело у ночного мошенника? – пуще затарахтела старуха. – Может, он убить нас с тобой хочет!..
– А ты веди себя кротко, не шуми, так и не убьет, – приказала Настя. – Я тебе за это… ну, одним словом, про скляницы твои рассказывать папане не буду!
Ей было и радостно, и чуть-чуть жутко; то и дело вынимала платочек из муфты, маленькой, как черный котенок, и терла зудевшие губы. Сеня шел рядом с ней, плечи их почти соприкасались.
– Так что же вам нужно от меня? – с опущенной головой начала Настя.
– Мне ничего от вас не нужно, – откровенно сознался он и даже приотстал на полшага.
Настя подождала его; игра казалась ей забавной.
– А… вот как! – и закусила губку. – Может, вы к папане в половые хотите поступить?
– Не-ет, – отвечал Сеня, готовый в любую подворотню вскочить от стыда за внезапную немоту свою.
Они уже прошли весь переулок, а еще ничего не было сказано из того, что думали они оба.
– Как вас зовут? – решился он наконец.
– Нас – Аниса Липатовна! – кинула Настя и с неожиданным раздражением обернулась к старухе: – Вы идите, тетя, домой. Скажите там, что к иконам осталась прикладываться!.. Ну, а вас как?
– Нас – Парфением, – резко сказал Сеня, удивляясь, кто дал ей эту власть – вести его за собой, как на веревочке.
– Что же вы замолкли совсем? Приятное что-нибудь скажите, раз уж на улице пристали… или какие у вас мысли про меня? – И, странно, это подергиванье веревочки доставляло Сене острое и неприятное удовольствие.
– Нет у меня никаких мыслей, – угрюмясь, отвечал Сеня.
– А зачем же вам голова дадена?
– Голова для понимания дадена, – из последних сил оборонялся он.
– Вот и слава богу… А я думала, орехи колоть. Они остановились у ворот Настина дома. Матрёна Симанна ушла вперед.
– Ну, спасибо вам за интересный разговор, – сказала Настя, готовясь отворить деревянную глухую калитку.
– Пожалуйста… ничего, очень рад, – с отчаяньем сказал Сеня и снял картуз; ярость раздразненного тела боролась с непонятной робостью.
– Теперь марш спать! – крикнула Настя. – Больше не подходите. Адью!.. – Она прихлопнула за собой калитку и исчезла.
Он все стоял, озадаченный и обозленный происшедшим. Непонятное слово хлестнуло его, как кнут. Мускулы лица перебегали жалкой улыбкой. Вдруг он срыву нахлобучил картуз и ударом ноги распахнул тяжелую калитку. Настя медленно уходила в воротах, – так медленно, как будто ждала чего-то, – не оглядываясь. Он догнал ее почти при самом выходе и больно, по-хозяйски, заломил ей голову назад. В следующую минуту не было ни холодных Настиных губ, ни растрескавшихся губ Сени: все слилось в один темный цветок.
– Пусти меня… – запросила Настя, обессиленная борьбой, прижатая спиной к стене. Голос ее был низок и томителен.
Сенина рука слабнула. Ярость и страсть уступали место нежности; Настя была гибка и хитра, она воспользовалась этим. Ловко извернувшись, она уже стояла в трех шагах от него, прямая и насмешливая, держа в руке сорванный с Сени картуз.
– Лови!.. – крикнула она и швырнула картуз вдоль ворот.
Тот, вертясь, описал дугу и звучно шлепнулся в лужу; сощуренными глазами Сеня проследил его полет.
– Ничего-с. мы другой купим. На картуз у нас найдутся! – сказал он осипшим голосом и обернулся.
Насти уже не было. Жалкий, как озябшая птица, мерцал посаженный в закопченное стекло огонек. Сеня вышел из ворот с пылающими щеками, остановился смахнуть грязь с картуза и вдруг засмеялся. Ночное происшествие представилось ему совсем по-другому, чем за несколько минут перед тем.
…Настю, пришедшую домой, встретил отец.
– Богомолкой стала? – подозрительно заметил он. – Старуха-то уж дома!
– Ботинок развязался в воротах, – сказала Настя.
– Тут к тебе подруга приходила. Приезжая. Я оставлял ждать, не осталась. Минуты три назад вышла.
– Какая она? – встрепенулась Настя. – Не Катя ли?
– Катя не Катя, а очень такая… играет, – неодобрительно заметил Секретов.
«Наверно, видела все, – думала Настя. – Она могла стоять там, за выступом стены, возле кожевенного склада… Бежать догонять, чтоб не проболталась?»
Она прошла к себе, поправила волосы перед зеркалом и тут заметила, каким неугасимым румянцем горело ее лицо. Оставшись наедине с собою, она подошла к окну и поочередно прижимала лоб и щеки к холодному потному стеклу.
XII. Катя
Настя не такого к себе в сердце ждала и даже удивилась Сене, когда вошел он. Но, значит, его и звало к себе в полусне цветенья девическое сердце, иначе не боялась бы, что с крыши упадет… Впрочем, все это было так неточно и неокончательно, что Настя промолчала на Катин вопрос о сердечных привязанностях.
Катя была единственной дочкой у зарядского торговца разным железным хламом; ей было двадцать три. Ясноглазую, пышноволосую и всю какую-то замедленную, Матрёна Симанна прозвала ее клецкой. После жмакинского происшествия Катя уехала к тетке на юг, но и там шалила, приманивала провинциальных женихов и вдруг на званом обеде отшлепала по щекам теткина мужа, который, несмотря на почтенность чина и возраста, сохранял излишнюю живость воображения. И вот в осеннее утро снова прикатила к отцу.
Она пришла к Насте на другой день после истории в воротах, вся шуршащая, дышащая незнакомыми Насте запретными духами, покорительница. Настя, выбежавшая отпереть, даже не узнала ее. Катя стояла на пороге, щурилась и улыбалась.
– Ну да, я, – утвердительно кивнула она. – Здравствуй, крошка! – и протянула руку в тугой перчатке.
Настя так и прыгнула на шею к подруге, но радость ее быстро поблекла.
– Ну, полно, хватит… – смеялась Катя, легонько отпихивая Настю от себя. – Разве можно так! Всю пудру смахнула… Ну, веди меня к себе.
– Вот сюда, за мной. Тут сундук стоит, я всегда коленки об него расшибаю… не зацепись!
Настя провела гостью через темный, с закоулочками, коридорчик и ввела к себе. Керосиновая лампа в фарфоровой подставке горела на комоде, бросая скудный свет из-под бумажного кружка. Катя обвела комнату любопытным взглядом и улыбнулась: в самых неприметных пустячках и подробностях светилась строгая, нетронутая чистота. Это впечатление усиливали цветы в банках, обернутых цветной бумагой, белые глянцевые обои, туго накрахмаленные занавески.
– Я очень рада, что застала тебя. – Катя сняла шляпку и пальто сбросила на спинку стула. – Тут можно?
– Ты садись, садись… Я повешу все! – хлопотала Настя.
– Не торопи, дай оглядеться. – В голосе Кати звучало сознание своего превосходства; она прошлась по комнате, трогая каждую Настину мелочь: повернула ключик в шкатулке, мельком заглянула в книжку на кровати… – A-а, грибок! – сказала она с легким смешком и повертела в руках деревянную бесполезную вещицу.
– Он открывается, я туда пуговицы кладу… – торопливо объяснила Настя, боясь, что подруга осудит ее именно за этот грибок; проходя мимо угла, Настя мимоходом затушила горевшую лампадку.
– Ты прости, что я не писала тебе. Все как-то некогда было. Ах, вот, кстати, и зеркало у тебя есть! – открыла она и пошла поправить волосы; они были, как и вся она, шуршащие и ленивые. – Вот теперь я сяду…
Шумя юбками, она опустилась на Настину кровать, и тотчас же гримаска сдержанного изумления обежала ее грешное лицо.
– Однако! – заметила она. – Ты что, в монашенки готовишься?
– Я люблю спать на твердом, привыкла… – засмеялась Настя, садясь на стул против подруги и пристально всматриваясь в ее лицо.
– Что так глядишь? – улыбнулась Катя.
– Ты красивая стала, – ответила Настя робко.
– Да? – и еще раз окинула себя быстрым взглядом. – Да и ты… выросла тоже. Только уж очень тонкая какая-то… – Катя искала, что еще можно похвалить в подруге, но мальчишеский задор Настина лица ей не нравился. – Нет, а ты, вообще говоря, хорошенькая! – с внезапным хохотом открыла она. – Ты не красней… право же, им такие нравятся! Только вот тут у тебя мало… – мельком указала она на грудь. – Знаешь, ты на Дианочку похожа. У греков такая была, помнишь?.. Ты ешь больше!
– Не говори мне так, – тихо попросила Настя. – Мне стыдно от твоих слов…
– А ты не стыдись. Папенька замуж-то еще не выдает?
– Я сама себе найду, – загоревшись, смутилась Настя.
– А может, уж и нашла?.. Какой-нибудь такой, а? – и подмигнула.
– Катя! – попросила Настя, присаживаясь рядом. – Закрой глаза… я спросить хочу. Ну, закрой…
– Закрыла… Ну?
– Ты вчера видела что-нибудь или нет?
– Нет, не видела. Я мимо прошла… Это в воротах-то? Нет, не видела.
Обе хохотали, белая комнатка повеселела, лампа стала гореть как-то ярче.
– А у тебя тут славно, – все еще смеясь, сказала Катя. – Ты в зеркало-то часто глядишься? Нет, тебе непременно надо больше есть. Глупая, чем ты ребенка-то кормить станешь? Ну, не буду, не буду! – Катя притворно испугалась помрачневшего Настина взгляда.
Вошла Матрёна Симанна.
– Кушать, Настенька, иди, – сказала она. – Папаня сердятся.
– Я потом, не хочу.
Старуха постояла еще с полминуты, потом резко вышла, хлопнув дверью.
– Матрёна Симанна! – крикнула Настя вдогонку. – Вы чего хлопаете… вон захотелось?
Шаркающие, нарочные шаги в коридоре разом стихли.
– Едят целый день, ровно в трубу валят, – сумрачно обронила Настя.
– Если ты и с мужчинами так, это хорошо! – деловито вставила Катя и поиграла кружевной оборкой рукава.
Торопясь, словно за тем и пришла, она стала рассказывать свои приключения последних лет; Настя слушала ее, вся пылая. Но, такой хвастливый вначале, все грустней становился Катин рассказ, и вдруг две продольные полоски обозначились на ее щедро запудренных щеках.
– Чего ж ты плачешь, глупая? – бросилась к ней Настя. – Значит, и у тебя жених есть!
– Он уже женился, – и поднялась. – Ну, прощай… у меня тоже папаша строгий.
– Ведь еще не поздно, – пыталась задержать ее Настя, чувствуя себя старшей в эту минуту.
– Нет, – и высвободила руку. – Проводи меня до дверей.
…Когда Настя разделась и юркнула в жесткую, холодную постель, была полная ночь. Она полежала минут десять, укрывшись с головой и старательно закрывая глаза; сон не приходил. Тогда она просто улеглась на спину, покорная мыслям, сумбурно скользившим в голове.
Вдруг она вскочила с кровати, прошла босыми ногами к комоду, нашарила спички и зажгла свечу. Из зеркала глянула на нее тонкая, с правильным мальчишеским лицом девушка, со свечой в одной руке, другой придерживающая сорочку, чтобы не соскользнула на пол. Обе – и та, которая в зеркале, и та, которая перед ним, – боязливо взглянули в глаза друг другу.
Девушка в зеркале была спокойна, стройна и строга в своей наготе.
Настя улыбнулась ей, та ответила тем же, но вся залилась краской и состроила презрительную гримаску. Настя повторила… С беззвучным смехом Настя подалась губами к зеркалу. Та угадала Настин порыв и тоже протянула Насте свои губы. Настя еще не хотела, но та уже поцеловала ее.
Вспугнутая соображением, что из противоположного дома могут подглядеть ее тайну, она задула свечу и отскочила от окна. С минуту она стояла в темноте, прислушиваясь к шорохам позднего часа. Крупный дождь колотился в окно, и звенело в ушах; больше звуков не было.
Она засмеялась, как в детстве лихой проделке. Зябко ежась, она влезла под одеяло, и тотчас же захлестнуло ее сном. Засыпая, все еще смеялась: сокровеннее всех тайн небесных – нетронутой девушки ночной смех.
XIII. Дудин кричит
Дымное, неспокойное небо, славшее неслышный дождь, ныне бесстрастно и ровно: поздняя осень.
В низине Зарядье стоит, и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь. Воздух дрябнет, известка размокает, сизыми подтеками украшается желто-розовый дом. И даже странно, как не потонул здесь городовик Басов за те сорок лет, которые простоял он на страже зарядской тишины.
Зимним уныньем веет отовсюду, но не нарушен им бег махового зарядского колеса. С утра Ванька открывает лавку, а Семён с подоткнутым фартуком отправляется за свою конторку. Зосима Васильича тронула проседь за последний год, и сам он пополнел: так оплывает догорающая свеча. Сквозь запотевшие окна видно Сене: пирожник Никита Баринов проплыл мимо с двухпудовым лотком на голове – с пирогами на потребу торгового верха. А Чигурин, человек незначительный в сравнении с Бариновым, потчует со своего угла прохожих круглым луковым блинком: сыты будут прохожие – сыта будет и жена его, Чигуриха, и семеро голодных чигурят.
…Снаружи – все по-прежнему. Все тот же грош маячит смутной целью, но приступило иное время: в погоне за грошом на бег и скок променяло Зарядье свой прежний степенный шаг. Тревожно и шатко стало, – кит, на котором стояло зарядское благополучие, закачался… Бровкин, быхаловский племянник, приехал с войны; бросилась к нему на шею жена, а целоваться-то и нечем: губы Василью Андреичу отстрелило немецким осколком вместе с зубами и челюстью. Воротился, полные сроки родине отслужа, Серёга Хренов, зарядский хреновщик; как и прежде, – цельный весь, больших размеров человек, только трястись стал.
…Вдруг городовик Басов помер. Еще вчера покрикивал с поста, а нынче другой, высокий и егозливый, на его место встал.
Всякая радость порохом стада отдавать, а как винишко отменили, и вовсе нечем стало скорбящему человеку душу от горя омыть.
К Быхалову в последний день осени, в последний час дня, забежал Дудин Ермолай за керосином. Следа не оставалось в скорняке от прежнего пьянства, зато весь каким-то черным стал: и пиджачок черненький, и сапожки черные, и в лице какой-то копотный налет. Одна голова торчала расщетинившимся седым ежом.
Даже посмеялся Быхалов:
– Чтой-то принарядился как? Не на войну ли собрался? Там и таким скоро рады будут!
– А и что ж! – заклохтал злым сиплым смехом Дудин. – Не все ли равно, в кого палять! В меня и стрелять-то хорошо. Как выстрельнешь, так и помру… и починки не потребую. Я сухой, без вони. Вот ты если, дядя Зосим, помрешь, так в один час душком повянешь!
– Ну-ну, я твоему пустословию не слушатель! – сердился Быхалов. – Ты, Дудин, известный шипун! Получай товар и отчаливай.
– Погоди, и вовсе отчалю… дай посмотреть, чем дело кончится. Эва, всё льют народную кровцу себе в наживу. Теперь уж не уймутся, пока не выжмут нашего брата досуха.
Быхалов тревожно машет на него руками, поглядывая вокруг, нет ли в лавке людей опасливых, а народ слушает, посмеивается, задорит:
– Кто ж это тебя прижимает-то, Дудин?
– Кто?.. Различные должностные лица.
– Ой, заберут тебя, Ермолашка!
– А и заберут, что со мной поделают? Ежли на колбасу пустить, так у скорняка и мясо-то с тухлиной. Я ни червя, ни царя, ни мухи, ничего не боюсь. А тюрьмы Дудин тоже не страшится… там и получше меня люди живут. Вот ты сынка своего оттолкнул, хозяин, а я преклоняюсь. Мне бы с ним за решеточкой-то посидеть, и я б ума набрался. О, кабы ум-то Дудину, – я б весь мир наискосок поставил. Ка-ак дернул бы за вожжу – стой, становись по-моему!.. – и, скомкав рубаху на груди, дергает с маху за вожжу воображаемую.
Его долго и надрывно треплет кашель; когда перестает, лицо у него измученное, детское, позывающее на жалость. Он рывком хватает керосин и бежит домой, чуть не опрокинув на пороге молоденького офицерика, входящего в лавку.
– Господин Быхалов… вы? – вежливо и сразу спросил тот, едва вошел.
– Господин не я. А Быхалов, Зосим Васильич, действительно мое имя, – вразумительно поправляет бакалейщик.
– Я от сына к вам… – И прапорщик подтянулся, точно рапортовал. – У вас есть сын, Пётр Зосимыч?
– Не ранен ли? – И лоб Зосима Васильича пробороздился морщинками.
– Как вам сказать, – замялся прапорщик. – Я бы попросил дозволения наедине с вами…
– Лавку запирать, – приказывает Быхалов. – А вас попрошу на квартиру ко мне. В скорлупе живем, прошу прощения.
Войдя в задние комнаты, Быхалов стал медленно снимать фартук и замасленную поддевку; потом придвинул гостю табуретку, предварительно обмахнув ее полотенцем.
– Грязь у нас везде… сало, – пояснил он, усаживаясь напротив. – Ну, какие же вы мне новости привезли?
Сумерки сгустились, оба сидели в потемках. Вдруг прапорщик понукающе подергал себя за наплечный ремень.
– Видите, дело совсем просто. Две недели назад…
– Постой, постой, чтоб не забыть! – перебил Зосим Васильич и, не вставая со стула, достал из-под кровати сверток. – Пётр тут в письме шахматную игру просил прислать Да бельеца пары две… Это вы и есть Иевлев? Он мне писал, что Иевлев в отпуск поедет.
– Никак нет, моя фамилия Немолякин, – торопливо поправил прапорщик. – Я с Иевлевым незнаком… и вообще боюсь, что шахматы им больше не потребуются.
– Иевлев-то, значит, не приедет? – оттягивая неприятные вести, прервал Быхалов. – А может, чайку со мной попьете? Я прикажу заварить…
– Нет, нет… – испугался гость, аккуратно выставляя ладони против Быхалова, – я спешу… Видите, предполагалась операция, военная операция, вы понимаете? Мы с вольноопределяющимся, то есть с сыном вашим, вышли вдвоем в разведку. Место очень, знаете, паршивое; названье Чертово поле… солдаты так прозвали. Ползем на брюхе… – Прапорщик потеребил огненный темляк шашки и неуверенно откашлянулся в папаху. – Налезаем – проволока, в три кола! Вот я вам сейчас чертежик нарисую, как дело было… Вот тут, извольте видеть, холмик небольшой, а тут – фугасное поле. Здесь – пулеметное гнездо, понятно? – сыпал прапорщик, указывая на неразборчивый мохнатый клубок. – Вот тут мы и шли… то есть ползли.
– Погоди, я газ зажгу. Ничего не видно, – тихо остановил Быхалов.
– Не зажигайте… прошу вас! – встрепенулся прапорщик и мгновенно спрятал книжку. – К тому же мне и бежать нужно!..
– А ты не спеши!.. – придержал его Быхалов. – У меня сыновей не каждый день убивают. Уж потешь старика лишней минуткой!
– Ничуть не бывало, ничуть не бывало! Я когда уезжал, Пётр Зосимыч в полном покуда здоровье был, – сказал прапорщик, и вдруг лицо его приняло выражение отчаянной решимости. – Нет, не могу, виноват!
– Чего не можешь-то, молодой ты человек? Ты все в жизни моги, раз в живых остался.
– Врать не могу, – мотая головой, простонал прапорщик. – Сына вашего все мы очень ценили за прямой, мягкий характер, а нижние чины души не чаяли… Вот и наказали перед отъездом, чтоб уведомил вас с возможной осторожностью!.. Пётр Зосимыч арестован в конце прошлого месяца: против войны солдатам высказывался. Но вы не расстраивайтесь пока: дело получилось двойное, и есть надежда, что пойдет оно в окружной, а не в военно-полевой суд… – и, вымахнув все начистоту, затеребил кончик наплечного ремня.
– Та-ак, – покачивался на табуретке Быхалов. – Вот и мягок, а упорен был: дотянулся до горькой чаши своей. Что ж, беги и ты… небось повеселиться охота в отпуску-то. Смотри, не бунтуй… скуплю поди на веревке-то висеть!
– Так что прошу прощения за печальное известие, – уже оправившись, держа папаху на отлете, поднялся прапорщик.
– Да, уж лучше бы ты мне дом поджег… Кому же мне теперь посылочку-то приспособить? Себе возьми, за услугу. Бери, неловко отказываться. Без креста, без пенья закопают, пусть хоть добрым словцом люди помянут…
Он пошел проводить гостя, цеплявшегося шашкой за ящики, кадушки и чаны, потом долго стоял у проплесневелой стены, сцарапывая с нее бугорки масляной краски. Казалось, жизнь свою тратил скупее всех, по копеечке, а на поверку выходило, что ничего на нее не было куплено.
– …Эх, Петруша, Петруша! – вслух сказал он, и лицо его сморщилось.
XIV. Один вечер у Кати
Они стали встречаться у Кати, вечерами, по истечении торгового дня.
Настя прибегала, закутанная в платок потемней, с черного хода, всегда раньше Сени; забивалась в угол и ждала. Неясные предчувствия грозных событий, копившиеся в воздухе страны, заставляли ее заранее искать опоры, а никого не было ближе Сени, сильного, дерзкого, готового постоять за себя. Встречи эти, довольно редкие вначале, происходили в присутствии Кати; чтоб не стеснять подруги, та писала письма или бренчала на гитаре, изредка справляясь о Настином самочувствии.
– Я понимаю, как трудно сейчас с женихами, но ты напрасно так волнуешься. Им и виду нельзя показывать, а то зазнаются… их вот здесь надо держать, – и казала сжатый кулачок. – Однако что ты нашла в нем, в этом кудряше из бакалейной?
– Не знаю… – шептала Настя, кляня себя за малодушье.
– Имей в виду, я могу и уйти… будто за орехами. Только мигни…
– О нет! – Ее глаза ширились испугом, а руки тискали вялые Катины пальцы.
– Я к тому, Дианочка, что ведь год его подходит… могут и в солдаты забрать!
– Молчи…
Сене тоже бывало не по себе в этой душной комнатке с горочными запахами, обставленной с показной купеческой роскошью, среди множества бесполезных и хрупких пустячков, единственный смысл которых, казалось, заключался в том, чтобы сковать естественную широту человеческих движений. Он становился застенчивым, злился, однажды пришел с гармоньей, рассчитывая этим заменить невязавшийся разговор; Катя сказала ему тогда довольно резко, что это не деревенские посиделки, и в городе надлежит вести себя пообходительней.
Иногда, в стремлении скинуть с себя Настин плен, он хвастался своими надеждами на будущее по окончании войны: хозяин все кряхтит, уж монахов зовет на задушевные беседишки… и в конце концов совсем не известно, Карасьеву или ему, Сене, стать наследником быхаловской фирмы. Он говорил отрывисто, полунамеком на счастье той девушки, которая согласится разделить его мечту; краска заливала Настины щеки, и сама Катя украдкой любовалась им в такие минуты.
В другие вечера он обращался к памяткам детства, где таились корни его презренья к городскому укладу; так рассказал он с маху одно самое давнее событие, какое помнил, и смысл его повести был таков:
Про 1905 год
…Бунт был. И приехали с вечера из Попузина сорок три мужика с подводами остатнее в уезде помещичье именье дожигать. Ночевало из них шестеро в Савельевом дому, главари. Ночь напролет, тверезые и темные, скупыми словами перекидывались бунтари. Боролись в них страх и ненависть. Речи их были скользки.
– На что ему земля! – сказал один, с грустными глазами. – Он небось и сам-то не знает, куда ее, землю-то, потреблять. Лепешки из ей месят, либо во щи кладут…
Другой отозвался, глядя в пол:
– Конешное дело, друзья мои! Мы народ смирный, мы на точке закона стоим. Нас не обижай, мы и помалкиваем. Каб, скажем, отдали нам земельку-то всю чохом, в полный наш обиход, мы б и молчок. А ему бы дом остался. Пускай его на поправку к нам ездит, мы не противимся.
Третий сверкал светлыми детскими глазами:
– Во-во! Воздухи у нас в самый раз хорошие! Дыши хочь все лето, и платы никакой не возьмем!..
Потом заснули ребятки на полатях, Пашка и Сенька, не слыхали продолжения разговора. Много ли их сна было – не поняли. Проснулись на исходе ночи. В тишине, одетые и готовые, сидели бунтари.
Крайний бородач царапал ногтем стол. Сосед сказал:
– Хомка… не корябай.
И опять сидели. Потом длинный худой мужик, попузинец, встал и сказал тихо, но пронзительно:
– …Что ж, мужики? Самое время!
На ходу затягивая кушаки, на глаза надвигая шапки, мужики выходили из избы. Савелий, отец, с ворчаньем шарил под лавкой топор и мешок: топор – рубить, мешок – нести… Пашка вскочил и стал запихивать в валенок хромую ногу. Сеню от возбуждения озноб забил, – так бывает на пасху, когда среди ночи встрепенутся колокола.
С буйным, веселым треском горел на горе свинулинский дом. Дыма и не было совсем; гулко лопались бревна, оттуда выскакивал прятавшийся в них красный огонь. Небо было ровно с грязнотцой, просвечивало серое солнце; воздух был какой-то настороженный. Тонким слоем снега белела ноябрьская земля.
На полпути к свинулинской усадьбе холм торчал. На нем, вокруг размашистой голой березы, замерло в пугливом любопытстве деревенское ребятье. Было ребяткам тревожно и радостно.
Вдруг запрыгал Васька Рублев, белый мальчонок, в отцовских стоптанных сапогах, забил в ладоши и закричал. Из ворот усадьбы, из самого огня, огромный и рыжий, вырвался племенной свинулинский бык. Ослепленно поводя рогами, он остановился и затрубил, жалуясь и грозя. Но в бок ему ударилась головня, метко пущенная со стороны. Тогда, облегченный болью и яростью, к запруде, где стояла когда-то сигнибедовская маслобойка, помчал он свое опаленное тело. Там, в последний раз пронзив рогами невидимого врага, он взревел, обрываясь в воду. Бурное, величественное мычанье донеслось до оцепенелых ребят; потом бучило поглотило быка.
…А через неделю наехали из города пятьдесят чужеспинников, с пиками и ружьями, под синими околышами, откормленные кони их беспрерывно ржали. При полном безмолвии взяли пятерых и отвезли судить, скрученных. А Евграфу Петровичу Подпрятову, да Савелью Рахлееву, да Афанасу Чигунову, как имевшим военные отличия, дали только по горячей сотенке розог, чтобы памятовали накрепко незыблемость помещичьего добра. Молча, с опущенными головами, стояли вокруг согнанные мужики. Голосить по мужьям боялись бабы, но чудился в самом ноябрьском ветре глухой бабий вой.
…И на всю жизнь запомнили ребятки, как натягивал и застегивал перелатанные портки на всем миру Савелий, плача от злобы, боли и стыда. Тянуло с поля мокрым снежком, а мать, босая, как была, выпрямленная и страшная, всю порку простояла на снегу… Кому ж тогда, как не городу, приходящему ночной татью, приносящему закон и кнут, грозил в потемках полатей Сеня негрозным отроческим кулачком?..
– С того-то отец мой Савелий и нищать стал, и к вину ударился. – Так заключил Сеня свой рассказ и, стесняясь, круто опустил голову. – Ничего, сочтемся!
– Я таких вот люблю, – вслух сказала Катя подруге. – Лихого ты себе выбрала, смотри – с лихим горя изведать!
– Любить не люби, а почаще взглядывай, – возбужденно засмеялся Сеня, заметив пристальный, оценивающий Катин взгляд.
– Зачем ты ногти грызешь? – резко спросила Настя у Кати.
– А тебе какое дело? – насмешливо возразила та.
– Есть, значит, дело. Ты вот… – И, склонясь к Катину уху, Настя укоризненно зашептала что-то.
– А как я на него глядела… да что с тобой? – громко обиделась Катя.
– Ну, не надо вслух! – Настя пугливо оглянулась.
– Да нет, я не понимаю… Украла я его, что ли, у тебя?
– Пойдем, Настя, я тебя провожу, – сказал Сеня и встал.
Они вышли, и оба торопились.
– Мне гадко у нее стало, она нехорошая… – говорила Настя уже на лестнице. – И мне не нравится, как ты сегодня говорил. Словно в театре как-то. За что ты городских ненавидишь? Ведь ты и сам городской! В городе и останешься…
– Почем знать? Ноне времена не такие. День против дня выступает, – неопределенно отвечал Сеня. – А вот насчет театра… это уж не театр, если кровь из отца течет. Тут уж, Настюша, драка начинается!
– Я и целовать тебя не хочу сегодня. У тебя и сейчас глаза красные, – сказала Настя тихо и пошла от него, не оглядываясь.
– Всегда глаза красны, коли правду видят! – крикнул ей Сеня вдогонку; потом подошел к стене и с маху ударил в нее кулаком. Мякоть руки расцарапалась шероховатым камнем до крови. «Вот она!» – вслух подумал Сеня, глядя на руку.
Это случилось в пятницу…
…А в субботу Сеня как-то нечаянно написал свой первый и последний стишок. Стоял и щелкал счетами, подсчитывая покупательские книжки. В голове своим чередом бежали разные думки, а среди них вплетались полузабытые стихи из какой-то катушинской книжки.
Оторвавшись от дела, он попробовал на память восстановить утерянную строчку, но получилось как-то совсем иначе. Так, строку за строкой, он придумал все стихотворение сызнова.
Холодея и волнуясь, он стоял над столбцом полуграмотных строк, перечитывал, открывая в них все новые прелести. Ему особенно нравилась концовка стихотворения: «Покой ангелы пусть твой хранят!»
XV. Катушин тоже закричал
…Совсем забыл Сеня Катушина.
Настя была для Сени – жизнь, смех, буйный трепет любовной радости. Катушин – уныние, безволие жизни, недвижность тишины. Тот давний поцелуй в воротах безмерно отдалил Сеню от Катушина. В такой же степени потянуло его к Степану Леонтьичу после первой размолвки с Настей.
В обед он поднялся по каменной лестничке наверх прочесть ему свои первые стихи. Приоткрыв дверь, он осмотрелся и не узнал сперва этой непривычно чистой, полуопустелой комнаты. Недобрым предчувствием сжалось Сенино сердце.
Коечка старика была задернута пологом. Не было обычной табуретки у окна, на которой сиживал с книжкой в праздничные дни Степан Леонтьич. Зато рядом с койкой сидела рябая баба и сонливо вязала чулок. Заметив Сеню, она просунула спицы между головным платком и виском и почесала там.
– Тебе что? – спросила она враждебным полушепотом.
– Мне Степана Леонтьича… – просительно сказал Сеня.
– Дверь-то закрой сперва, – заворчала баба. – Если по делу, так вот он тут лежит. – Она кивнула на койку, закрытую пологом. – Уж какие дела к мертвому!
В то мгновение из-за полога раздался короткий, глухой рывок кашля. Сеня подошел и бережно отвел полог в сторону. Катушин, еще живой, лежал там, свернувшись, точно зябнул, под крохотным квадратным одеяльцем из цветных лоскутков. Когда он перевел взгляд на Сеню, тот поразился тусклому спокойствию стариковых глаз. В поблекшем, мертвенном лице не было никакого оживляющего блеска, – может быть, из-за отсутствия очков.
– Здорово, Степан Леонтьич, – сказал Сеня и попробовал улыбнуться.
– Кто? – не узнавая, жестким, надтреснутым голосом спросил Катушин.
– Это я, Семён. Прихворнул, что ли, Степан Леонтьич?.. – Сене стало стыдно, что вот он – здоровый, а Катушин – больной.
– Да, – невыразительно сказал старик и порывисто сжался, точно коснулись его холодом. – Садись, гость будешь.
– Ты, паренек, посидишь тут? – спросила баба еще, залезая спицей себе за ворот. – Посиди, мне тут сбегать. Обряжать-то не скоро еще! – жестко и просто сказала она, складывая вязанье на выдвинутую из-под катушинской кровати корзиночку.
– Что ты, дура, мелешь… кого обряжать? – озлился Сеня, но баба уже ушла за дверь.
Сене вдруг стало жутко от наступившей внутри него тишины. Рвалась старой дружбы нить, ее не связать вновь. Притихший, но полный внезапного глубокого чувства, Сеня пересел к Катушину на койку. Ему хотелось быть в ту минуту ближе к старику.
– На табуретку сядь… не тревожь, – сухо сказал Катушин и подвигался под одеялом. – Руки гудут все!
Сеня покорно пересел обратно на табурет и уже боялся начинать разговор.
– Что-то не признаю я тебя, – продолжал Катушин. – Плохо стал людей различать… Все мне лица одинаковые стали.
– Я Семён… от Быхалова. Помнишь, ты меня грамоте учил, книжки давал. Я вот навестить тебя пришел, Степан Леонтьич.
– Помню, – без выражения сказал Катушин, – так ведь тот маленький был!
– Я вырос, Степан Леонтьич, – извиняющимся тоном произнес Сеня и смятенно стал стирать пятно с пола носком сапога.
– Не ширкай, не ширкай… – остановил Катушин и кашлянул разок.
Прежнего задушевного разговора не выходило.
– …По картузу в день – считай, сколько я их за всю жизнь наделал! – снова начал Катушин, и лицо его на короткое мгновение отразило тоску. – Картузы сносились, вот и я сносился… – Сеня заметил, что старик сделал движение под одеялом, точно махнул рукой. – Я тебя теперь помню. Ты забыл, а я помню… Я все помню! – Что-то прежнее, незабываемое промелькнуло в катушинских губах.
– Давно лежишь-то? Что болит-то у тебя? – неловко допрашивал Сеня.
– …Я тебе тут бельишко оставлю, не отказывайся. Подшить, так и поносишь! – продолжал вести свою мысль Катушин.
– Ну, поживешь еще! Спешить, Степан Леонтьич, некуда. Человеку сто лет сроку дано, – заторопился Сеня. – Это баба чулошная тебя так настроила. Я бы ее турнул, бабу, – право, турнул бы!..
– Бабу не тронь… она за мной ходит, баба, – поправил Катушин.
Сеня встал и отошел к окну. Он обмахнул рукавом запотевшее стекло и глянул наружу. Поздней осени гнетущее небо продувалось из края в край острыми холодными порывами. Настин дом казался безотрадно серым. Темные окна не пропускали чужого взгляда внутрь.
«Настя… она не знает, что я тут. Степан Леонтьич помрет. Меня возьмут в солдаты…»
– Паренек… – заворочался Катушин, силясь поднять голову с пролежанной подушки, – дай-кось водицы мне… на окошке стоит.
Старик пил воду, чавкал, точно жевал. Отпив глоток, он внимательно глядел в низкий, прокопченный потолок, потом опять пил.
– …Четвертого дня просыпаюсь ночью, а он и стоит в уголку, смутительный… дожидается, – сказал Катушин, откидываясь назад.
– Кто в уголку? – и невольно оглянулся в угол.
– Да Никита-т Акинфыч, дьячок-то мой… приходил. Я ему: ты подожди, говорю, деньков пяток. А он: что ж, говорит, догоняй, подожду.
– Это тебе мерестит, Степан Леонтьич, ты противься… – убежденно сказал Сеня. – Ты не верь. Это истома твоя.
– Никита-т истома? – строго переспросил Катушин. – Не-ет, Никита не истома.
Сеня не знал, что возразить. Он вспомнил: достал исписанный листок и вопросительно поглядел на старика.
– Я тут стишок написал, прочесть тебе хочу. Ты послушай, – и опять глядел с вопросом Сеня, но стариково лицо стало еще неподвижнее.
Не смущаясь этим, Сеня стал читать по листку, но в угасающих глазах старика были только испуг и обида, точно заставляли умирающего бегать за быстроногим.
– Я пойду лучше… – потерянно сказал Сеня и встал. – Прощай покуда, Степан Леонтьич!
…В тот же вечер Матрёна Симанна занесла ему в лавку записку. Тревожными словами Настя просила Сеню прийти в девять к воротам ее дома. Старуха так вся и струилась легчайшими насмешечками, покуда Сеня перечитывал записку.
– Что ж это вы, божья коровка, кривитесь так? – тихо спросил он, постукивая гирькой по прилавку. – Чему бы вам радоваться?..
– Да что, голубчик, какая у старушки радость! – храбро проскрипела Матрёна Симанна. – Старушечья радость скучная! А свадебке как не радоваться… всё на платье подарят. Мне бы черненького, белое-то уж и не к лицу!
…Неслись в сумерки зарядской низины тонкие снежинки, первые вестницы зимы. Сеня присел на тумбу; потом, чтоб провести время, он походил взад и вперед: Настя все не шла.
«Заболела? Тогда не звала бы. Помер кто-нибудь? Тогда к чему я ей!» – так метались мысли. Зловещий намек старухи как-то не дошел до сознания.
У ворот стоял лихач, его только теперь заметил Сеня. О чем-то догадываясь, Сеня с ненавистью поглядел на пустое сиденье лихачовой пролетки. А лихачу, видимо, было скучно…
– Разлюбезненькую поджидаешь? – спросил он с величественным добродушием и поворочался, как на оси, на ватном заду.
– Нет, барина твоего убивать пришел, – озлился Сеня.
– Занозистый! – определил лихач. – А разлюбезненькая-то не придет, – зубоскалил тот певучей скороговоркой. – Я ее даве с солдатом видал. На лавочке в Александровском саду любовь крутят!
– Это ты мамашу свою видал, – съязвил Сеня, отходя от ворот.
В ту минуту скрипнула дверца ворот.
– Ты давно тут?
Она озабоченно смотрела на него из-под приспущенного на глаза белого пухового платка. Черная прядка волос выбилась на бледную щеку. В смутном свете ночи и снежинок был тот локон как-то прощально смел.
– Куда пойдем?.. К Катьке, что ли? – шепотом спросил Семён.
– Не хочу к ней. Пойдем туда… – Она указала глазами в темноту улиц. – Ты знаешь… это его лихач!
Подхватив Сеню под руку, она потащила его в переулок, неясно пестревший снеговыми пятнами. Сзади слышались шаги. Настя почти бежала. Впереди тоже шел кто-то. Они остановились и приникли друг к другу в темном углу двух высоких каменных стен.
– Настя, – горячо зашептал Сеня, привлекая ее к себе, – неужто в самом деле замуж выходишь?.. – и он наклонился к ней губами, нежно и жадно.
– Погоди… дай людям пройти, – быстро и досадливо оборвала Настя, отстраняя его от себя. – Потом.
Двое проходили мимо. Молодой с любопытством вгляделся, а другой, постарше и побессовестней, даже сказал «эге». Еще не дождавшись, пока пройдут, Сеня губами нашарил ее губы под платком. Они были солоны, холодны и влажны.
– Ты плачешь? – догадался он.
– Лихача-то видел? – вместо ответа сказала она.
– А ты как решила?
– Папенька просил… Хочет дело расширять. Он объяснял, я не поняла… – случайно или нарочно избегала Настя прямого ответа.
Вдруг Сеня махом сорвал с себя картуз, провел руками по волосам.
– Что ж, добрая путь вам, Настасья Петровна! – размашисто сказал он. – Зерно к зерну, а рубль к рублю. Хозяйкой будете…
– Он меня в театре увидел… Стал цветы присылать. Папенька смеялся, а я не знала, – рассказывала Настя и притягивала за руку Сеню. – Ну, обними же!
– Ты мне так не говори. Я тебе себя самого в конверте прислал бы, каб знато было… – Сенин голос дрожал.
– Куда пойдем-то? – И сама указала в свистящее вьюжное пространство, за арку Китайских ворот.
Теперь они шли по набережной навстречу снегу. Ветер был в сторону города, городских гулов сюда не доносилось. Место тут глухое. Река стыла и замедляла течение черных и гладких вод. Как огромные латунные подвески, спускались в глубь ее отражения береговых фонарей.
Они оперлись на парапет ограды и глядели в воду. Сенины пальцы гладили сухое, холодное железо решетки.
– На свадьбу-то позови… Калошки там снять понадобится, тарелочку помыть!.. Кто он?
– Мне холодно, – зябко ответила Настя.
Снег усиливался, швы в кладке гранитных камней побелели. На Китайской стене гнулись облетелые стебли сорных трав и хилых березовых кустков, выросших там прихотью ветра.
– Фирму Желтковых знаешь? Вот… оттуда, – сказала Настя и повернулась к нему спиной.
– В лесу бы мне с ним один на один встретиться! – ответил Сеня.
– Что ж, убил бы, что ли? – недоверчиво повернулась Настя.
– Нет. А сжал бы, сколь силы хватит. Выживет – пускай живет, собачья отрава!..
– Ну вот, – эхом сказала Настя, – а я девочкой на Петю Быхалова рассердилась, что никого не убил… – Она кусала губы. – Тебя на войну-то не возьмут?
– А тебе что? Нехорошо чужой невесте о чужом заботиться. Ведь не любишь?
– Право, не знаю… Чудно как-то, – созналась Настя.
XVI. Стёпушка Катушин кончил земные сроки
Шапошник помер ночью, в час, когда Сеня глядел вместе с Настей на стынущие воды реки Москвы.
Сеня не навестил Катушина перед смертью, и теперь его мучило боязливое раскаяние, что не исполнил последнего долга перед стариком. Он не видался в этот день и с Настей, не выходил никуда. Он стал ленив, ему стало все равно. Ему казалось, что вода и воздух пахнут свежей сосновой стружкой, носят горьковато-пресный вкус; его тошнило от еды.
Лишь на другой день, вечером, Сеня вышел из дому и почти на пороге столкнулся с женщиной в белом пуховом платке. Он узнал ее и не сказал ни слова привета.
– А я к тебе шла! – Настин голос был решителен и тверд. – Хоть и навсегда шла… Все равно, не могу больше!
– Ходить, что ль, не можешь? – усмехаясь, спросил он.
– Дома не могу. Всю комнату цветами уставили. Уйти некуда…
– Возьми да выбрось, – равнодушно посоветовал Семён.
– Помолвка завтра… – еле слышно прибавила она. Он оттолкнул ее и хотел пройти мимо.
– Ты не надо так! – резким низким шепотом заговорила она, догнав его у начала катушинской лестницы; губы ее тряслись. – Этим, Сеня, не шутят. А узел завязался, давай вдвоем распутывать.
Опять снежинки крутились в потемках постоялого двора. Где-то в глубине его лениво ругались из-за места извозчики.
– Что ж мне-то распутывать! Я тебе не муж. Мать вот письмо прислала, чтоб женился. По хозяйству дома некому.
– На мне женись, – быстро решила Настя.
– Ты не к дому нам. Деревня, Настя, не город. Что в городе можно, того в деревне нельзя, – тихо сказал Семён. – Ну, пусти… Степан Леонтьич помер, я на панихиду иду.
– Я с тобой пойду. Зачем ты меня гонишь?.. По лестнице, как ни противился Семён, они поднимались рука об руку. Перед дверью, в темном коридоре, он остановил ее:
– Ты обожди. Я войду, а ты потом. Люди увидят, слух пустят.
– Пускай! – так же грубо, как и Семён, ответила Настя, нащупывая рукой холодную и липкую скобку двери. Она вошла первою.
Пахнуло на них не ладаном, а именно той самой сосновой стружкой, которая мерещилась Сене весь вчерашний день. Мастерская шапошника Галунова была сплошь набита зарядским старичьем: пришли проводить уходящего в век. Служба только что началась. Высокий, кривошеий поп от Николы Мокрого раздавал тощие свечечки, знакомые Сене. Рядом с Катушиным, одетым во все новенькое и дешевое, лежавшим с выпяченной грудью – не трудно мертвому блюсти человеческое достоинство, – шамкал псалтырь неизвестный лысый старик; когда переступал с ноги на ногу, скрипели его сапоги – скрипливые сапоги, новые. Читал он негромко, только для себя да для Катушина, изредка взглядывая на мертвого, чинно ли лежит, внимательно ли слушает горькие слова Давидовой печали.
На носу у чтеца сидели катушинские очки. Сеня догадался: пришел, а очки забыл… Ему и сказали: «Вот Степановы, – надень». Серебряное кадило кривошеего попа с жадностью пожирало катушинский ладан. Становилось сизо от дыма. Дьячок спешил, словно разбитая таратайка с горы. Стояла душная полутемь. Ее не одолевали три большие свечи, наряженные в банты из катушинской же сарпинки.
Сеня взял две свечи, для себя и для Насти, и прошел к окну. Настя встала рядом с ним и отвела платок с лица назад, точно хотела, чтобы все ее увидели. Это и было замечено, – дьячок, гнуся очередную молитву, обернулся назад и бессовестно разглядывал Настю. Сам он был исконный зарядьевец, и узнать что-либо про секретовскую дочку доставляло ему глубокое душевное удовлетворение.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64860646) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Леонид Максимович Леонов
Всемирная литература
«Барсуки» – первый роман выдающегося советского писателя Леонида Леонова – это крупное эпическое полотно, в котором изображено предреволюционное московское мещанство и драматические эпизоды революционной борьбы в деревне.
Возрастное ограничение: 16+
Леонид Леонов
Барсуки
Жили-были
Два брата родные.
Одна мать их вспоила,
Равным счастьем наделила:
Одного-то богатством,
А другого нищетой!
(Слепцы поют)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Егор Иваныч Брыкин женихаться едет
Прикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село, именем – Егор Брыкин, званьем – торгаш. На Толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшенье либо в обиход: и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки… Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на Толкучем: у Брыкина глаз косой, но меткий, много видит; у Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки, – великими делами отметит себя Егорка на земле.
А за неделю до Казанской нашел Брыкин стертый пятак под водосточным желобом. С пятака и пристала к нему тоска. Осунулся и помертвел, вся скупая пища, какую принимал, на разращенье его тоски пошла. Тут как-то, сидя на койке у себя со свечкой, сосчитал Брыкин сумму богатства своего и задумался. Причудилось ему, что уже настало время удивить мир деянием большого человека Егора Брыкина, а тоску за предвестье славы своей счел. Парень он был коммерческого смысла, знал потехе меру, деньгам счет, высшему чину лукавый почет, а себе истинную цену. Пораздумав вдоволь и дело обсудив с городским своим приятелем Карасьевым, порешил Егор к жнитву домой жениться ехать.
Назаровскую, с лихими бубенцами, нанял он со станции тройку, – четвертной билет Егору в женитьбенном деле не расчет. Ямщика щедро выпоив чаем с баранками, чтобы в Сускии не ночевать, сел пошире да поскладней на все сорок четыре скучных версты, сплюнул из-за папироски, покрестился со смешком на иконку в подорожном столбе, сказал ямщику речисто и степенно:
– Правь.
Дернул коренник, свистнула по пристяжке вожжа. Трескуче защебетали железные шины по крупному щебню станционного шоссе. Потом свернули в сторону, смягчилась дорога высокой топкой пылью. Куриные домики станционной мелюзги сменились тяжкими ржаными полями. А вокруг двинулись, уплывая назад, старознакомые виды Егоровой стороны.
Плыли мимо глухие овраги, сохраняющие к далекой осени влажный холодок, и рощичка крохотная, о семнадцати березках, стоящих на отлете под пылью и ветром, плыла. Проплывало ленивое и чинное, как ржаной ломоть, все насквозь соломенное Бедряга-село, и полянка резвая убегала, на которой, в гостях у бедрягинского дядьки, игрывал в лапту с ребятами Егорка.
Заяц проскакивал на опушках, и воробьи взлетали со свистом крыл. Старенький попик в заплатанной ряске проползал мимо, кланяясь и сторонясь ко ржи. Бабку обгоняли, бредущую к ровеснице за семь верст – навестить, новости выведать, хлебца откушать, – не поторчал ли у подружки хлеб. И над ними над всеми буйным облаком взвивалась от Егорова поезда густая дорожная пыль.
Любо стало Егору Брыкину озирать с высокого тарантасного сиденья все эти когда-то пешком пройденные, полузабытые места. Вишь – и небушко, милое, не каплет! И ржица доцветает, а ветер бежит по ней, играя облаком дурманной ржаной пыльцы. И теленочек, рябенький голубок, у загороды привязан стоит. И солнышко над дальним синим лесом, усталое за день, медленно клонится к закатной черте. И впрямь отдохни, родное: надоест еще тебе мужицкую жатву полуденным жаром обвевать!
Взыграла Егорова душа.
– Как, не зажинали еще по волостям? Не слышно?
– Куда ж еще зажинать! – смеется беззлобно ямщик. – Ведь рожь – она как? Она две недели выметывается, да две цветет, да две наливает… а тут она, глянь, еще и не побелела! Вот Гусаки, сказывано, уж и серпы зубрят, – не оборачиваясь, в бороду гудит ямщик.
– Зубря-ат! – степенным гневом вспыхивает Егор. – Ровно татаре аль цыгане там твои Гусаки! И в самый светлый день-круги, Махметка!..
Вожжи вскидываются на потные лошадиные спины. И опять одолевает неустанная назаровская тройка тягучие, ленивые версты. День переменяется на вечер. Холодеют дали кругом. В тонкий пыли посерели лакированные жениховские сапожки.
Приятным дремотным ручейком текут мечтанья сквозь Егорову голову. Как приедет, так и пойдет к Мите Барыкову в гости, с гармонью, на выселки. И как придет, так и сядут они, два, рядышком на крылечке, так и заиграют дружно на двух гармонях, вместо пустых разговоров – как жил, что пил, чем похваляться приехал. А потом, пооткинув гармонь за плечо, вытянет Егорка сапожки свои, Мите в зависть и раздражение, да и вытащит из кармашка ненароком серебряный свой, полных восемьдесят четыре пробы, с голой дамочкой на крышке, портсигар: «Не угодно ли папиросочку тонкого формата, Дмитрий Дорофеич? Табачок самый турецкий, четвертак коробка, в магазине куплено!..»
Замечтавшись, томно клонит голову на плечо Егорка. Сладко жениху предчувствовать собственной свадьбы угарную пьянь. Ох, Егорка, житье твое просторное! Вон сколько места предоставлено земной твоей славе!
– Только б папенька не помер. Всем делам подгадит, – вздыхает вслух Егор Иваныч и опять поникает головой.
– Чего-о?.. – равнодушно тянет ямщик.
– Много ль осталось, спрашиваю! – грубо кричит Егор и косится злым взглядом на морщинистую грязно-красную ямщиковую шею, и ежится, разбуженный от мечтаний, в своем люстриновом пиджачке.
– Да вот сам считай… От Бедряги до Рогозина пяток наберется, да две проехали. Да от Рогозина до Сускии десять. Вот тебе и выходит…
А уж меркнет безветренное небо. В краю луга дотлевает за дальними лесами ласковая полоска зари. Подорожные кусты стоят ровно и кругло. Приходит в тот край большой покой трудового сна.
Вдруг стала тройка. Скинулся с козел, вглядывается в сумерки кустов ямщик. Потом, на ходу разминая затекшие ноги, идет неспешно к тем кустам. А мать Егора догадливым родила, – кричит Егор Иваныч:
– Ой, никак, ваше степенство, капустки с сыренькой водичкой обхлебались?
Тот будто и не слышит. С возрастающей тревогой подается из тарантаса Егор. Склоняется ямщик к кустам, даже и обрывки его речи не доходят до настороженных Егоровых ушей. Ямщик идет обратно, несет на руках мальца лет тринадцати, легко – точно липового. У мальца губы запеклись, как в болезни, лицо – цвета праха и пыли, а руки висят, словно и нет их, а рукава одни. Обессилевшее тело мальца покорно и гибко в коротких руках ямщика.
– Неужели клад отыскал? Чур, пополам! – трескуче хохочет Егор Иваныч.
– Пополам и придется, – слышит Егор в ответ. – Ну-ко, примости его направо да попридержи: как поедем… не выпал бы!
И, не дожидаясь Егорова согласья, впихивает ямщик найденыша к Егору на сиденье. Малец дрожит, бессильным стебельком клонится на возмущенного Егора.
– Эй, борода! – хорохорится тот и с негодованием отстраняет лакированный сапожок от грязного Мальцева лаптя. – Ты меня, кажись, одного нанимался везти. Парень и так добежит. На парня у нас с тобой уговору не было.
Ямщик рывком трогает с места. Смолкает и Егор Иваныч, тронутый внезапным соображением: «Ой, медведя, Егорка, не серди! Места глухие, воровские, болотные. И сгниешь ты, Егорка, со всеми сундучками и турецким табачком в болотной дырке, бесславно и безвестно».
Тут предночной ветерок подул и колыхнул верхушку проползавшей ветлы. Золотое полотенчико померкающей зари порвалось в лиловые клочья. Пыль прилегла, и задымились росы. Неутомимые, на стежках застрекотали ночную песню кузнечные хоры. Опять бегут под колеса сажени и версты, еле успевает переступать по ним разгоряченными ногами коренник.
Село Суския! Маячит в сумерках белый толстый храм торгового села. Горят костры по низкому берегу Мочиловки, – светляки полусонному взгляду Егора Брыкина. Картуз нахлобучивает поглубже Егор Иваныч и мальца прихватывает к себе, чтоб не слишком бился на ухабах. Опять в неглубокий омут жениховских мечтаний уходит Брыкин с головой.
Как приедет – спать. А с утра оделит Егор Иваныч сродников гостинцами, знакомцев поклонами, степенным щелчком зазевавшегося мальца. Потом, гармонь потуже подтянув к плечу, айдакнет Егор Иваныч к Митьке в гости. А уж к вечеру и повытомит он и статных девок, и крепких вдовух, и засохших вековух и сапогами, и гармонью, и тонкими, немужицкими разговорами, в которых что ни слово – ровно томпаковое кольцо: и блестит, и сердце голубит, и скинуть его с перста не жаль. А что ряб Егор Иваныч, как рогожка, так ведь лицо что? Лицо – что пол: было бы вымыто. Зато как отгуляет он холостые денечки, зашлет свахой Катерину Тимофеевну, попадью и ябеду, к Бабинцовым на двор. И наказа своего повелит не преступать: чтоб не сразу выкладывала Егоров помысел, а почванилась бы вволю, будто невеста с глуховатинкой, будто уж и перины в чулане подопрели, и шубы повылезли, ожидая зятя Григорию Бабинцову, Аннушке – мужа и хранителя. Катерина Тимофеевна в жизни знает толк: толста, и слова у нее круглые. Закуролесит всю волостную округу Брыкин. Все гармони на десять верст округ похрипнут от Егорова веселья. Ой, великое куриное пьянствие, ой, мирская смехота!
– Паренек-то родственничек тебе аль как? – ластится к ямщику раздобревший от довольства своего Егорка.
– Своих не признаешь. Знать, дома давно не бывал? – кряхтит ямщик. – С коровами-то – слышал? – беда вышла.
– Ан и не слыхивал… Какая? У нас, говоришь, в Ворах, беда?
– Все бы нам подешевше, – раздумчиво укоряет ямщик, – а за дешевку-то впятеро платить. Максимку Лызлова памятуешь?
– В пастухах который? Ну! – торопит Егор.
– Заспал на солнышке, по старости… а пастушата – ведь вон экие, их самих пасти впору – дудки резали. Коровы – восемь ли, девять ли голов – спустились на поемку…
– Ой! – пугается Егор, сдвигаясь с сиденья.
– Вот те и ой. Спустились да веху и обожрались… Подохло пятеро. Остальным фершал чекмасовский – Шебякин, что ль? – пузья прокалывать наезжал.
– Выходили? – волнуется Егор, ерзая по сиденью.
– Да не известны мы.
Переезжали мосток. Бревна хлопали, колеса стучали, мешали слушать.
– …парнишку, евойного братеня, крепко побили, в кулаки. Шестнадцатый всего парнишке. Да што, коров-то не подымешь! А этот вот убег да четыре, вишь, дня в лесах бродил. Сенькой-то тебя, что ли? – спросил он вдруг мальца, пугливо вскинувшего большие, в кругах, глаза. – Задичал! А мать в реке багром шарила. Темные мы, ровно под землей живем…
Ахает Егорова душа: неужто и твоя, Егор, корова в счет попала? А корова – месяц целый крику на Толкучем, земляка в трактир не сводить, с Карасьевым в праздничек пивком не побаловаться. Да еще новый дом в Ворах в голубой оттенок красить сбирался…
И тут же в память идет: и их – Егорку, да покойного Алёшу Босоногова, да Андрюшу Подпрятова, да Митю Барыкова – в детстве влекло на Глебовскую пойму, где высокого веха полые палки ненасытно сосут черный жир из заболоченной земли. Из веха цыкалки делали и дудки. Под вечер шли домой и трубили все четверо дружным хором и наперебой, распугивая куликов и кур, брюхатых баб и молодых телят. Егорке и прозвание было дадено: Егорка Тарары.
Небо стало глубже и темнее, увеличиваются в нем стайки звезд. Придвигается последний перелесок, за ним – Воры, Егорова родина. Лихо козырек пооткинув, носовым платочком обмахивает Егор Иваныч пыль с сапог.
– Да уж и то сказать! – рассудительно внушает Брыкин. – Уж больно народ у нас дик. Били нас, надо сказать, мало. Ноне, к примеру, жалобитесь да слезой тексте, а завтра как хлобыснете по священному-то месту… Серость в вас!
– А сам-то, аль в графья пошел, как в городе пожил? – в первый раз оборачивается ямщик; из его деревянной рожи, распустившейся в острую насмешку, узятся презрительные старичьи глаза.
– Ну-ну, уж не щерься… правь, правь! – рычит на него Брыкин, скаля зубы и кося глаз на близкое село. – Ты знай свое дело, чеши бороду!..
Ямщик злобно и тупо смотрит на Брыкина и вдруг рывком поворачивается к лошадям.
– Э-э-к, вы… собачки зеленые! – с надрывом и дико кричит он, и кнут его свистит на всех трех разом.
Тарантас, хрипя рессорами, вспрыгивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде в село. Охватило знакомым духом жилых изб. Полаяла на троечное колесо собака. Лихие, безудержные, из последних сил раззвенелись по селу бубенцы.
Ночь.
II. Савелий пристроил ребяток
Превеликим загулом проводил Егор Брыкин холостые свои деньки. Еще и до свадьбы стал Егорка Егор Иванычем зваться, а как оженился, так и совсем возвеличился на всем миру Егор. Играли свадебку в новом доме, в сослужении родственников и свойственников, песенников и попов. Воистину куриная смехота: напитков и наедков не перечислить, пахло свежей краской, ломился от пляски пол.
А один из наезжих сродников, дикой, невиданный дядя, так балаболил в соседней волости об Егоровом величестве:
– Ой, дедуньки… Гармони пеяли, девки пеяли, попы пеяли. Хошь – кушай, хошь – слушай. Адом! Вот это дом, одна печь вдвое больше избы… Вот уж дом так дом! – и пьяными ногами расписывался в справедливости рассказа своего. Да и не один дядя только.
Погуляв же месяц-другой, собрался Брыкин в город. Правда, горяча и неустанна в любви, как и в пахоте, Аннушка Бабинцова, теперь законная Брыкина жена: и руки у нее мягкие и жадные, и губы сладки, как большая лесная ягода, – скуки с такой женой не ведать, какая длинная ни случись ночь. Но и ларь не ждал: каждый день – заметная убыль, каждый час – рубль. С молодой своей супругой совсем обносился и лицом и карманом Егор Иваныч. И покуда собирался вернуться к своим крикливым будням, зазвал его к себе Савелий Рахлеев, поротый.
Яишенку смастерив и раздобывшись у соседа настойкой в долг, стал Савелий, руками махая, прикланиваясь и потчуя, рассуждать вслух о разном. Одно в его бестолковых рассужденьях ясно было – совсем его невозможность одолела.
– Да вот и с коровами-те какая провинность! Кто его знал, вех? Растет и растет, явственный факт. И никогда такого не случалось, чтоб на него скотина льстилась. В нем и соку-те, понимаешь, никакого нет, ни кровиночки… одно деревянное стволье! – Савелий в этом месте пошикал на жену, Анисью: – У-y, ровно метелка в углу стоишь. Присударкивай гостя-т, непоклонная!
Егор Иваныч сидел в красном углу, пыхтя от сознанья собственной славы и от тугого воротника. Временами, поддакивая и наморщивая небольшой лбишко, ковырял он ложкой яичницу, посапывал и молчал.
И опять разливался слезой да жалобой Савелий. В такие времена велика трудность в хозяйстве. Мальчонок – не баран, шерсти не настрижешь, а хлеба ест много. Хозяйство бедняет с каждым годом, двор падает, и боров прошлой осенью, ровно назло, сдох.
– Нищаю… А каб была у меня зацепка в городе, отдал бы я мальцов своих туда. Сыт, одет, и не думается. Глядишь, и набежит с каждого хоть по серебряному рублику за три месяца. Хлеба не едят, и то барыш! – жалобно прокричал Савелий и, в бессилье выпучив глаза, присел на лавку.
– Разве у нас там рубль – деньги? – пожал плечами и посклабился Егор Иваныч. – В Москве тыщи цельные по улицам бегают, а от рублей-то мозоли на руках вспухают. Конечное дело, сноровка нужна вовремя рублик попридержать. – Тут Егор Иваныч встал, отпихивая в сторону недогрызенный огурец. – Так вот: ты, Савелий Петрович, готовь подводу к завтрему. Беру мальцов твоих… И меня уж зараз отвезешь.
Проговорив так, поиграл плечиком Егор Иваныч, посмотрел на серебряные часы и вышел. В сенях тащил с колодца бадью с водой хромой Пашка, старший Савельев. Ему дав одобрительного щелчка, произнес строго Егор Иваныч:
– Ну, хромка, сбирайся в город со мной. Просватали!
Шум поднялся в рахлеевской избе по уходе Брыкина. Мать кричала на отца, а тот отпихивался и отнекивался:
– Что-о? Это я-т, выходит, пьяница? Носоватов, князь, величественный человек, как я в Пажеском-те корпусе служил… «Пей, говорит, Савелий! Питье украшает жизнь, пей!» А я рази для украшенья? Рази тот человек пьяница, который от горя пьет?.. Да и ребят-те я с кровью, может, от сердца отрываю! Не-ет, это ты совсем неверно.
Тем и докончил Савелий, что допил единым духом остатки, мутневшие на донышке, и сбежал от Анисьи на весь вечер в разговоры по мужичкам.
…Утро, подкованное легким морозцем, бодрило и отбивало сон. В то серебряное утро уже стемна ждала у брыкинского крыльца Савельева подвода. Братья, Сенька и Пашка, сидели в телеге, укутанные в самое новое, какое нашлось у матери, тряпье, и пучились на отца. А отец, суетливый и маленький и уже не без пьянцы, все подхихикивал кому-то воображаемому и попрыгивал вокруг своего конька, смешного, усатого, жалкого, как он сам. Черные брыкинские окна тускло тлели красными и желтыми бликами скупой осенней зари.
Тут на крыльцо Егор Иваныч вышел, застегнутый на все пуговицы, заспанный и сердитый. Шея его была обвязана полосатым, толстенной шерсти шарфом – супругин дар. Сзади Брыкина, заплаканная, явилась сама Егорова молодайка.
– Ну, прощай, жена, – сурово сказал Брыкин и тут же не удержался, чтоб не щипнуть жену вдобавок к недавней утехе. – Жди гостинцев, Анна.
– Да хоть на народе-то не мни, мучитель! – отстранилась та. – Замял ты меня совсем.
– А что ж? Не убудет, а любо будет! – притворно засмеялся Брыкин. – Так, что ль, Савель Петрович?
Но Савелий только мигал, и рот его плыл униженной, поддакивающей улыбкой. Пашка угрюмо отвернулся и глядел куда-то в угол, где на выселках горел в заре пестрою резьбою дом лавочника Сигнибедова. Сеня дремал.
– А что, Савель Петрович, – приступил к делу Брыкин, не выпуская из узкой ладони пухлой жениной руки, – меринко-то подгуляло твое! Уж больно брюхо-то у него отвисло, прямо по земле волочит. Не довезет четверых-то!
– Гэ-э, – затрепыхался в воробьином смехе Савелий, одергивая кушак и смехом же надувая щеки. – Скажешь ты, Егор Иваныч, плешь тебя возьми! Да рази ж в лошади брюхо важно? В хрестьянской лошади, гэ-э, зубы главное! Она зубами пищу принимает, жует, одним словом… Да ноги еще! А брюхо-то, уж извини, это никакого влияния не оказывает…
И он подтягивал узду, бегал всемеро больше, чем того требовала минута, не переставая распевать с пьяным благодушием:
– А зубы у него все целехоньки. У меня, посмотрикось… – он раскрывал темную дырку рта, – все растерял! А у него зубок к зубку, ровно у белки…
Уже садясь в подводу и кутая соломой зябнущие ноги, в последний раз поучал Брыкин жену:
– Не плачь тут попусту. Не мокри дома. И баба должна иметь свое соображение. Полушалок я тебе с первой оказией пошлю. Что обещано, то у меня тверже горы стоит.
– Да я не беспокоюсь, – всхлипнула молодайка. – По мне, хоть и совсем не присылай…
Егор Иваныч достал папиросу, затянулся. Потом деловито тронул Савелия пальцем в плечо:
– Трогай… К поезду надо поспеть.
– Поспеем! – беспричинно захохотал Савелий. Скрипнула на дорожной ямке ось. Еще раз, но громче, всхлипнула Аннушка:
– Полушалок-то с Барыковыми, как поедут, пошли…
Худящий, одряхлевший пес просунулся в плетень, потявкал для прилику. Потом избенки двинулись назад, а Савелий задергался от понуканий, требуя резвых рысей от престарелого Воронка.
Мимо дома проезжали, догнала их у колодца Анисья, мать. Задыхаясь от бега, сунула в колени ребятам две горячих, с подгорелым творогом, лепешки и хотела говорить что-то, не имеющее явственных слов, а только одну боль материнскую расставанья… Тут вдарил Савелий всем кнутовищем вдоль Воронка, и взыграл тот кривыми ногами и обвисшим брюхом. Егор Иваныч сунулся носом в Савельеву спину, чертыхнулся, сломал папироску и погрозил Анисье кулаком. Что-то кричала еще Анисья, а впереди уже начинался лес. Поднимался там снежный парок. Еще пуще здесь, чем в открытом поле, зудило ноздри морозцем. В зимний убор обряжался умирающий лес.
На первой развилине пути – правая шла в Гусаки – выплюнул Егор Иваныч сломанную папироску.
– Бабы бабы и есть! – с досадой отрубил он. – Ну чего ей бегать, ровно бешеной? Ну-ко двинься, малец, не грязни сапога.
– А как же! – охотно откликнулся Савелий. – Вот ты даве меринка моего хаял. Я и говорю, у лошади, говорю, зубы главное. Она зубами пищу принимает. А брюхо – это никакого влияния…
– Ладно, ладно… на пень наедешь! – оборвал его Брыкин. Голые, предзимние леса бежали по сторонам. Шмыгали малые лесные лысинки, мертвенные от проиндевелой зелени. Прошагивали мимо широким шагом темные сосновые стволы. «…И вот переменилась жизнь ваша, Егор Иваныч. Давно ль в холостом виде по земле гулял, и никаких забот, кроме как родителям пятерку в месяц для благолепия дома и во исполнение христианской заповеди. Вот тоже и Аннушка! Девочка быта – насмешкой и недобрым словом Егорку шпыняла: и ряб, и мал, и глаза заместо пуговок к штанам бы! Но и тогда Егорка Тарары на бойкую Анку зуб точил. Ах, погодите, Анна Григорьевна, все на свете совсем не окончательно. Почем знать, может, милей всех стану, может, и детенычка спородите от убогого, лупоглазого Егорки!»
…И вот стала Аннушка законной хозяйкой в брыкинском дому. Будет теперь в город к мужу покорные письма слать. Летом – полевые тяготы на Брыкиных; зимами – сидеть будет под оконцем, сиротливая да скучная, непрестанной тревоге – не завел ли другую – ждать. И от любви московского магазинщика Егора Брыкина заведется в дому тихонький мальчик. Ему будешь ты, Егор Иваныч, в письмах слать родительское благословение, а в приезды учить пониманию жизни, не снимая кожи, но внедряя покорство и ум. Ах, какие развлечения наполнят житейскую твою скуку, Егор Иваныч!
Страшились шевельнуться Савельевы ребятки, хоть и давил Пашке на ногу ящик с яблоками, а у Сени затекла нога. Боялся вынуть ногу из-под ящика Пашка, словно мог обидеться брыкинский ящик. Сеня дремал, склонясь на Пашкино плечо. Все чудился ему почему-то скворечник, что стоит, привязан к черемухе, перед домом. Во все последующие годы, когда думал о родном селе, скворечник этот, крохотный домок весны, первым вставал в Семёновой памяти.
Не знали братья, что не вернутся в село в прежнем своем виде. Не знали, какие ждут их в городе небывалости. Дома – в каждом деревенской колоколенке укрыться впору. Машины – пожирательницы угля, извергающие с дымом и грохотом вешь из себя. Люди – хлопотливое, толкотливое племя, спешащее надумать больше, чтоб туже людям же на земле стало жить. Не знали и потому не плакали.
III. Зарядье
В Мокром переулке – потому что у Москвы-реки у самой, – на углу Большого Щукина, желто-розовый дом стоит о четырех длинных ярусах. Давно – тому сто лет, и кирпичи и люди крупней были – сшит был каменный дом этот казенным покроем, без улыбки и тех, кто строил, и тех, кому жить в нем. Был он с теченьем времени заботливо прошиваем железными нитками балок и скреп, но все напрасно. Был и без того дом тот в дряхлости своей столетней крепок, как старый николаевский солдат.
Правым боком каменного своего тулова чуть всего Щукина не перегородил. Левым – подпирает тощую древнюю церквушку, осеняющую Мокрый: не дает ей упасть и рассыпаться в легкий ладанный пепелок. «Обопрись, мать, на мою каменную грудь. Крепкая, выдержит», – такое, кажется, говорит он, старый солдат, притихшей старушке, напуганной гомоном возрастающей жизни.
Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народу, всех видов и ремесл: копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня. Окна в дому крохотные, цепко держат тепло. Голуби живут в навесах, прыгают оравами воробьи. Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины. Глухо и торжественно, как под водами большой реки. Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест. Тихо и снежно. Жизнь здесь похожа на медленное колесо, но все спицы порознь.
По второму ярусу каменного солдата протянулось синим пояском железное уведомление: помещаются тут трактир, постоялый двор и меблированные комнаты. Название всему заведению чохом – «Венеция», а принадлежит Секретову Петру.
Нетронутой, несуесловной стариной овеян секретовский дом. На обширном здесь проходном дворе рядами выстроились извозчичьи сани. Лошади фыркают и грызут овес. Теплый навоз дымится на снегу. Голубиные стаи, целые облака голубей, лениво вздымаются и снова оседают вокруг лошадиных кормух. Голубь здесь смирный, доверчивый, с руки берет. Голоса – гулки: железа много. Железные ведут на крыши лестницы, железные караулят у внутренних складов двери, железные галерейки и стропила, переплетаясь, вьются по стенам. Обсижена голубем и усыпана снежком вся та железная паутина.
С фасада смотреть – пониже секретовского второе висит железное уведомление. На краях его золоченый крендель, синее казанское мыло, белая сахарная голова. «Бакалейная торговля Быхалова» – здесь теперь Савельевы ребятки. Помещение это сырое и темное, как в сапоге здесь: потолки висят тяжко, гнетут потолки, потому что весь дом на нижнем этаже как на сапогах стоит. Разделены сапоги длинными сквозными воротами: проходит в них ветер, едет извозчик, и обоим не тесно.
Глядят секретовские окна весело: «Слава те, не гробами торгуем!» Быхаловские окна исподлобья глядят. Зимами, как ныне, уныло мерзнут на них уксусов мрачные бутылки и сухой горчицы скоробленные пачки. Летом мякнут от жары алые ломти арбуза, кучи перезрелых огурцов, горки румяных, как девки, яблок. Целые стаи устремляются тогда к ним жирных, ленивых мух и тощих зарядских ребят. Тогда и запах в Зарядье сменяется на арбузный…
А запахов здесь много, с них бы и нужно начинать. То пальнет в прохожего кожей из раскрытого склада – запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки, притулившейся Быхалову наискосок. То обдаст его, заметавшегося, как помоями из дудинского подвального окошка, а Дудин – скорняк.
А уже за углами сторожат его сотни других прытких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше и не ходить.
Зарядская суетня – с рассвета. В семь, едва утро, вскакивает Сеня с дощатой койки и бежит отпирать. Холодно и дрожко, а сонные глаза еще трудней отмыкаются, чем тяжелые, забухшие инеем замки. Покуда бежит Пашка в трактир за кипятком для чая, сам Быхалов, Зосим Васильевич, выходит за дверь, на улицу, хрустящую под шагами редких прохожих. Он, обнажая лысину от стеганого ватного картуза, сурово крестится на три стороны, обступающие его бакалею. В одной стороне, направо, розовеет в заре старое золото кремлевских маковок. В другой – за проломом Китайских ворот – стоит неизвестного назначения глухой дом: тридцать восемь лет верится Быхалову – за этим домом восток. В третьей стороне пустует незастроенное место; стоял здесь дрянненький домишко, да подсох в жару, да подмок в осень, да мышки его подгрызли, да из трубы однажды залило, – остатки пожар догрыз. Виден здесь спокойному оку Быхалова огромный клок зимнего неба.
Из тесноты и житейской маеты любо глядеть зарядцу в хрусткое зимнее небо декабря. В нем синие и розовые ленты, словно в брыкинской галантерее, бегут и ширятся слепительными дугами. Их моет морозное солнце, топорщит снежный ветер. Птицы, замедлив взмахи крыл, падают в тех лентах. Голуби окунаются в холод, ворона чертит ровные, бесшумные круги…
А в переулке синё от снега и пара. Домики в нем, как курносенькие ребята, как пропылившиеся, ветхие старички, как пузатые купчики с ярлыками вывесок, – который чем богат.
…Чинно и молча, вприкуску, пьют густой и вязкий, обжигающий чай. Неприступен в те минуты и телом прям Быхалов, как человек, поставленный к рулю. Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел… А тут народ начинает приходить.
Мальчик от сапожника, худой и тоненький, прибегает, смерзшими ногами выбивая дробь. Ему – «рубца на пятачок, за две – огурец, да горчички, да семитку сдачи». Извозчик входит, синей тушой вгоняя холод в лавку.
– У-ух-те, Зосим Васильевич! Пеклеваннички есть? Дудин Ермолай, скорняк, седой и взъерошенный, страшный по нелюдской своей худобе, с кашлем просовывается сюда же.
– Эх, дозволь, дядя Зосим, рассольцу хлебнуть!..
– Чуть свет, а ты уж похмеляться. Эх ты, козырь! Ты б лучше орехи грыз! – гудит из-за прилавка Быхалов, кивая на огромную, снегом, как мохом, обросшую кадь. – И право, орехов бы тебе. Ты купи у меня фунт и грызи. Зубов у тебя мало, надолго хватит.
– Их-х вы какой! – приниженно сипит Дудин, прыгает и хлопает опорками. – Не пить, так это бунт даже против государства… для нас и устроено! – Звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол. – И потом, как это вы сказали? Оре-хи? – Нездоровый дудинский смех разом наполняет всю лавку. – Орех, Зосим Васильич, вещь наивная! Только пузырь об него засаривать, а пользы-действия, извините, никакой.
– Ну и козырь! – благодушно дивится Быхалов. – Ты шкурок-то моих смотри не пропей.
Все в лавке начинают подхихикивать. Карасьев, быхаловский молодец, каким-то извивающимся тенорком, а старушонка, пришедшая за ваксой, изрядным басом. Кажется, что даже и Никола из киота, и керосиновая бутыль, и пятифунтовик на весах усмехаются над незадачливым скорняком.
– Ну, зачем пропивать, – смешно вертится Дудин. – Мы у хороших людей не возьмем. А орехом ты меня не потчуй. Да что ж я, лошадь, что ли, орехи-то грызть?! Эхе-кхе…
Опять хлопает дверь. Новые приходят люди, новые приносят слова. Катушин, древний шапошник с четвертого этажа, придя за ситником, тихонечко вразумляет по уходе Дудина:
– Да и как, посудите, не выпить ремесленному человеку! Сынка третьевось схоронил. Вот и проклаждается на радостях, что ослобонился.
Развешивая соль, в тон Катушину, рассуждает ярославец Карасьев:
– У него уж больно дух немыслимый. Всю улицу вонью запрудил. Пройти мимо фортки – очень нехорошо. У него даже крысы перевелись. По-моему, так даже воспретить бы таким!..
Дверь настежь. Пар клубится с пола и на сторону гнетет Николино пламя. Кацавейки влезают и чуйки, рыбье пальтецо захудалого чиновного умника и купеческой родственницы пудовая шубища-дипломат. Шелестит ссыпаемое пшено, стучит хлебный нож, звенят медяки. Пустеют хлебные полки, худеют сахарные бочки, обнажается днище керосинового чана, захлебывается маслом обмерзший жестяной насос. И шумно, и тесно. Небыстрыми ручейками течет серебро в дубовый хозяйский ящик, туда же прыгают темные, как лики московских Никол, пятаки…
В ту пору и само солнце в морозной дымке над Зарядьем – медный, морозом обожженный докрасна пятак.
IV. У Катушина
Всех приходящих лукаво и нелукаво, и слепых и зрячих, и уродов и умников, принимало Зарядье и платило им не поровну, а по тихости или по буести их.
Робким, задумчивым мальчонком пришел сюда из деревни Катушин, дерзающим и неспокойным – Ермолай Дудин, лукавым и тихим – Петр Секретов. На них, на троих, глядел Сеня и детским смыслом угадывал, что между ними где-то поместит жизнь и его самого. Все трое были совсем разные, – это город нашел в них разницу и подразделил их.
Тринадцатилетним, как и Сеню, привела нужда Стёпушку Катушина в Зарядье. И Зарядье в лице шапошника Ралунова Стёпушку не отринуло, а приняло и вынянчило, кинуло ему хлебца, чтоб жил, выделило койку, чтоб спал… И сказало Зарядье Катушину: «Будь шапошником, Степан». И с тех пор, повинуясь строгому веленью, стал он быстрой, нестареющей рукой простегивать картузы и меховые шапки для покрытия чужих голов. Сам же так и пробегал всю жизнь чуть ли не в той же самой ушанке, в которой выбросила его деревня.
Он напоминал собою горошинку, – тоже и глаза его, улыбчато бегающие поверх разбитых и бумажкой проклеенных очков. Сорок три года, неустанно тачая галуновский товар, на машине ли, на руках ли, глядит он из крохотного каменного оконца на нетеплые светы предутреннего городского неба, на черные облачные тени, приглушающие день. Кажется, он и не изменился нисколько, только глаза слезиться стали да колени отказываются держать. Только в том и разница, что раньше выжидал себе Степан Леонтьич кусочек счастьица, а теперь ждет, когда вынесут его отсюда ногами вперед в последний приют, за Калужскую заставу.
За всю жизнь только и нажито было Катушиным добра: зеленоватый сундучок, одному унести, да корзиночка. В сундучке покоилось ветхое белье, еще часы с продавленной крышкой, завод ключом, еще пиджачок матерчатый, еще заново подшитые сапожки. А поверх всего, чтоб не искать чужому, обиходные лежали вещи на его смертный обряд: фунт тощих панихидных свечей, миткалю и сарпинки два равных отреза, ладан в аптечной коробочке и деньги, семнадцать с полтиной, чистая прибыль катушинской жизни в рублях.
В корзинке другое хранилось. Чистенькими стопками лежали там книжки в обойных обертках с пятнами чужих, незаботливых рук. Были книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о любви, о нищете, о полынной чаше всяческого бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч, а вокруг него ютились остальные неизвестные певцы простонародных печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю обертку и собственные катушинские стишки.
Проходили внизу богатые похороны – видел Степан Леонтьич, откладывал шитье, писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле будет стоять талая весенняя вода… Май стучал в стекла первым дождем – пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют… а о чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового люда. Самому Катушину и знать: солгал ли он в стишках своих хоть раз? Он-то и приютил Сеню в своем добром и тесном сердце.
Вечером, как отужинает, мчался Сеня вверх по лестницам, на высокий, подчердачный катушинский этаж, близко к зимнему небу. Сеню обучал Катушин грамоте. Вряд ли бывало у Катушина за всю жизнь большее оживление, чем в тот вечер, когда написал Сеня первые четыре неграмотных слова. То хлопал он себя по заштопанным коленкам, то разглаживал трясущейся рукой твердую пакетную бумагу, то подносил ее к свету.
Сеня сидел тогда у окна, а за окнами затихало Зарядье и перемигивалась огнями ночь. Острые прохладные ручейки небывалого возбуждения бежали по его спине, и в скрипе оторванной железки за окном чудился ему неясный и властный зов.
– Книжки теперь бери у меня, – сказал в тот вечер Катушин. – У меня книжки тоненькие, хорошие… Я толстых не читаю, голова от них разламывается. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходишь. Банька – слабость жизни моей.
Здесь встречал Сеня и Дудина, верного катушинского друга, но столь отличного от него. Сюда же однажды привел Сеня и брата.
Пашка нелюдимым рос. У Быхалова он был на побегушках. Пашка, хромой, широкоспинный, камнеобразный, симпатиями хозяйскими не овладел.
– Ты уж больно карточкой-то не вышел. Весь народ мне разгонишь, – сказал хозяин Пашке, приведенному Брыкиным, давая для нравоучительности легкий подзатыльник. – Ты мне товар вози. Хром? Так ведь дело неспешное. Съездил раз в день, и то прибыль.
Пашке с детства жить было больно и мучительно. Пашка многое, невидное другому, видел, и потому детство казалось ему глупой нарочной обидой. Когда случилась коровья беда и односельчане били Пашку, половинку человека, Пашка молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду. Он и на мир глядел не просто – птичка летит, а облачко плывет, а береза цветет, – а так, как отражены были все эти благости в темном озере его невыплаканных, не показанных миру слез. Пашка на мир глядел исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему.
Коровья беда докончила ковку человека в Пашке. Без детства, без обычных шалостей Пашка вступил в жизнь. А жизнь поджидала его не медовым пирожком. У Быхалова с утра влезал он в дырявые валенки, впрягался в санки и так, хромой и хмурый, возил по городу быхаловскую кладь, без разбора времени, по мостовой и сугробам, в дождь и снег, лошадиным обычаем.
…Зевал Пашка, сидя у Катушина. В этот день прибавилась еще одна обида к вороху прежних. Карасьев, в припадке игры воображения, посылал его в аптеку купить на пятачок дёру и на гривенник дыму. Пашка не знал, бывают ли подобные товары, а аптекари злы… И до сих пор еще стыдом и болью горели Пашкины уши.
Рассказывал об этом Сеня торопливым, прерывающимся голосом, чуть не плача за брата. Дудин слушал, ерзая и поминутно кашляя, Катушин – с грустью глядя в пол.
– …главное дело, Иван-то уж и забыл, что послал Пашку. По мне, так я бы… – У него задрожали губы, и руки быстрей затеребили тонкий коломенковый поясок.
– А ты мягчи сердце, не копи обид. Поплачь, если плачется… – заговорил Катушин, ширкая ногтем по лавке, на которой сидел. – Человеку, если помнить про каждый день, сгореть от напрасной злобы.
– Вот я и горю, – резко вставил Дудин и засмеялся.
– И горишь… и сгоришь! Сосчитана твоя сила, Ермолаша, – ласково отвечал Катушин. – Неустроенно ведешь жизнь, смиренья не приобрел, буянишь попусту… – вычитывал Катушин.
– Смиренья?.. – строго спросил Дудин. – Куда же мне больше смиряться, Стёпушка! В трубочку свернуться, что ли?
– Ищи свое в жизни… Запись помни! – указал Катушин.
– Это какую запись, Степан Леонтьич? – шумно вздохнул Сеня.
– А сто восьмого псалма запись, – уверенно и быстро сказал Катушин. – За слезы да за неоплатные долги сто восьмой-то сторожем стоит, – и он мелко-мелко похлопал себя по коленке. – На полях у сто восьмого и ведется запись. Каждому жучку, а своя буква. И люди стираются, и книги стираются, города тают дымком, а запись нерушимо стоит, как стена! Ты в запись верь, Ермолаша, коли не во что уж…
Теперь Катушин, не моргая, глядел в газовую, накаленную добела сетку, словно в слепительном свете ее и развернут был тот свиток со всякими земными печалями и жалобами.
– Ангел, что ль, у тебя заместо писаря? – съязвил Дудин и кашлял с таким звуком, точно раздирали крепкую ткань.
– Ты бурен, Ермолаша, а я тих. Ты оставь мне жить по-моему. Перхаешь, а нет того, чтоб смириться… Все ищешь чего-то! Нетерянного не найдешь.
Дудин помолчал, но только для того, чтоб с большей силой выговорить.
– Вот и я таким же пришел, как они, – зашептал он с болезненной страстностью. – Не хочу, чтоб и они жизнь свою без жизни прожили. Я для них, Стёпушка, ищу…
– Чудной ты… летучий какой-то. Всегда как бы за ребенка тебя почитаю, – засмеялся дудинской горячности Катушин. – А ты, паренек, – обратился он к Пашке, – ты молчи. Вырастешь – сам всему цену узнаешь. Ищи, где тут основа. Нонешнего моего хозяина-то папаша, Гаврила Андреич, царство небесное, – продолжал он, понизив голос, – так он раз меня с лестницы спихнул… Я тогда и сломал себе мизинчик, упамши. А койки наши рядком стояли. Ночью-то спит он, а я сижу вот этак-то с колодкой, с деревянной болвашкой, да и думаю: чему на свете больше цена – мизинчику моему либо жизни его. Все толкал меня враг в головешку ему стукнуть…
В этом месте Пашка поднялся с табуретки.
– Я спать пойду, – внезапно сказал он и зевнул.
– А и ступай, паренек… Я тебя не держу, привязу тебе нету, – услужливо кинул Катушин и продолжал после Пашкина ухода: – Всю ночь вот и продумал этак-то. Нашел основу – уж светало в окнах. Жена-то его, вишь, с приказчиком связалась, а у приказчика-то язва во рту была…
– Какая язва? – испугался Сеня.
– Ступай и ты спать, милый друг, – как бы просыпаясь от сна, отвел Сеню в сторону Катушин. – А книжечку ты еще раз в бумажку оберни… да на мокрое-то не клади, завянет. Ну, покрой тебя господь! Деревянен братец твой, деревянен… мозги у него прямые какие-то.
Дудин, сосредоточенно бормоча себе под нос, вышел вместе с Сеней. Не обменявшись ни словом, они сошли вниз. Уже в воротах, под тусклым фонарем постоялого двора, Дудин внезапно схватил Сеню за руку.
– В святые Стёпушка лезет… А ты ему не поддавайся! – убежденно зашептал он, тиская в кулаке седую бороденку. – Не должен человек терпеть. Терпенье человеку в насмешку дадено. Воюй, не поддавайся! Человек солдатом родится, на то и зубы даны…
Над головами их мигал желтый фонарь постоялого двора. Шел легкий снежок. Волчки вихрей бесшумно рыскали по уголкам. Сене было холодно в одной рубашке. Лицо Дудина, сведенное в точку бессильной настойчивости, совсем напугало его. Он вырвался из его руки и побежал по снегу.
– Остановись, мальчик… остановись! – умоляюще кричал ему вслед Дудин и шел по Сениным следам.
– Дяденька, ты пьяный! – так же умоляюще защищался Сеня, стуча изо всех сил в запертую дверь быхаловского черного хода.
Оглянувшись из двери, еще раз увидел Сеня в синих, неуверенных сумерках двора длинную фигуру Дудина; он стоял один посреди двора и кашлял, весь сосредоточившись на чем-то невидимом для Сени. Кашель Ермолая Дудина походил на ночной лай большой дворовой собаки.
V. Именины Зосима Быхалова
Апрель был – месяц буйных ручьев и первых цветений, но некому было в Зарядье, кроме черноголовых грачей да великопостных колоколов, кричать о том, что, нежная и робкая, приходит в город весна.
Зосим Васильевич, именинник, видел, возвращаясь от заутрени: на древних кремлевских стенах прозеленели ползучие мхи, а снег в углах протаял дырьями, а лед на реке набух и посинел, готовясь уползать от возрастающей теплыни. Скоро, не сегодня-завтра, вскроются реки по всей стране, и солнце взметнется в голубые высоты лета, пыль понесется вдоль московских улиц, подорожает картофель.
Сделало Зарядье Быхалова человеком непоколебимых смыслов, – в вещь глядел сурово, скукой и тоской не болел, не удивлялся ничему. Но тут захватило ноги предательской слабостью, сжалось сердце непривычно и мучительно, загудело в ушах. Закружила Зосима Васильевича весна.
День мокрый стоял, ветер брызгался влагой с реки. Воздух гудел многими тысячами убыстренных дыханий. Но разгадал Зосим Васильевич, что тревожна звонкость ветра, поющего в столбах, голых деревьях, флюгерах, как ненадежна и всякая радость.
«Текут весны, проходят человеческие годы, и когда-нибудь, через тысячу весен, травки снова заспешат к солнцу, и звонким ветром обсушится первый смолистый листок. Останется от тебя, Зосим Быхалов, единая косточка. Будет ей и сыро, и скучно, и холодно в талой земле лежать. И если тысячная случится бурной – яблони в феврале процветут, а льды полопаются с новогодья, – разроет буреподобный ветер землю до самой кости и спросит ветер: “Чем ты, кость, прославлена? Лежишь – не радуешься”. И кость ему не ответит. Сиротливо будет останку твоему, Зосим Быхалов, в ту последнюю, тысячную…»
Всякое положение принимал со строгой рассудительностью Быхалов, печалясь мало. А тут заболело под сердцем, и захотелось зыкнуть, как на Пашку в лавке: «Остановись, весна!» Не остановилась: все вокруг спешило заполнять назначенные сроки.
Как будто утро было, но уже таилась в нем ночь. Остеклело небо, злился ветер, текла весна. Два ломовых, полубыки, били загнанную лошадь, напрягаясь докрасна, крича. Сани крепко пристыли к обнаженному камню. Коротконогий дворник, увенчанный медной бляхой, торопливо сколачивал с тротуара мягкий ледок, помогая весне. Женщина, спотыкаясь, тащила санки с узлами шитья, – зарядская швейка. Ее лицо огрубело и ожелтело оттого лишь, что проспешила всю жизнь.
Били часы на башне, вызванивалась конка на углу, ехали гурьбой извозчики, обнюхивались собаки.
У часовенки тощий бродяга с вербочками четверть часа уговаривал Матрёну Симанну, секретовскую приживалку:
– Убеждаю вас, тетенька, как истинный христианин… За неделю еще боле запушатся! Овечки, чистые овечки станут… – Голос у него был сиплый и злой.
– Не-ет, – покачивалась в толстой шали на ветру старуха. – Мы за пятак-то горбатимся-горбатимся… Скинь, скинь, касатик, для старушки. Я у тебя зато два пучка возьму…
– Так ведь тут дров одних на гривенник, грымза чертова! – кричал пустым, гулким брюхом парень, замахиваясь всей охапкой товара.
Зосим Васильевич шел мимо с омерзением. Придя домой, щелкнул Сеньку за недочищенный сапог, а дворника, пришедшего поздравить, выругал от всей полноты разгневанного сердца; на покупателя кричал.
Торговали в тот день до полудня, как в праздники, но только к закрытию набежал народ. Быхалов, несмотря на недомоганье, выпрямленный и торжественный, в чистом фартуке, тужился морщинистой шеей, щелкая на счетах, пробуя о мраморный осколок добротность приходящего серебра. Карасьев возился с сахаром и так успевал, как будто был четверорукий. Сеня размашисто работал хлебным ножом, когда дверь в лавку отворилась и вошел еще один.
Вошедший был человек не старый, но как бы изглоданный жестокой болезнью. Обтрепанное осеннее пальтецо, без пуговиц, с торчащей кое-где ватой, осело и приняло форму длинного, худого тела; особенно остро выделялись плечи и карманы, набитые чем-то сверх меры. В левой руке повис тощий белый узелок.
– Чего прикажете? – сухо спросил Быхалов, с крякотом нагибаясь поднять упавшую монету.
– Это я, папаша… – тихо сказало подобие человека. – Сегодня в половине одиннадцатого выпустили…
Слышно было в тишине, как снова выскользнула и покатилась серебряная монетка.
– В комнату ступай. Сосчитаемся потом, – рывком бросил Быхалов и огляделся, соображая, много ли понято чужими из того, что произошло.
Как сквозь строй проходил через лавку быхаловский сын, сутулясь и запинаясь. Он еще не прошел совсем, зацепившись полой за лопнувший обруч бочки, когда услышал позади себя вопрос. Старик с опухшими глазами, в картузе, похожем на гнездо, спрашивал у Карасьева:
– Сынок, што ль, Зосиму-то Васильичу?
– Не сынок, а сынишше цельное, – поиграл статными плечами Карасьев. – Кончил курс своей науки, сдал экзамент в пастухи!.. – Он не договорил, остановленный злым хозяйским взглядом.
– Запирай! – кричит Быхалов.
Сеня гремит полдюжиной замков, бежит, пробует рукой и глазом, хорошо ли повисли на ставнях. Не успел Зосим Васильич под девку снять, Карасьев, румяный соблазнитель, долу потупляя круглое играющее око, говорит ярославским напевом:
– Кушать подано, Зосим Васильич. Прикажите начинать…
– Не вертись ты, сатана, – шутливо огрызается хозяин; приход сына и смутные надежды на какую-то решительную перемену в нем делают свое дело. – Успеешь баб своих полапать. Ишь хохол-то зачесал!
– Для красоты-изящества, – отшаркивается Карасьев, поплевывая на ладошку и приглаживая поразительной кривизны кок на лбу. – Это мы, Зосим Васильич, чтоб девушки любили…
– Видал я девок твоих, – ворчит Быхалов, – худящие да мазаные. И не разберешь: живой человек аль труп. Выбрал, нечего сказать.
– Это ничего-с, – вертит плечом, в меру обижаясь, Карасьев. – Я и труп могу полюбить. Любовь из нутра идет, и человек не может знать, куда его сердце прилипнет.
– Балда! – объявляет ему Быхалов, покачивая головой к вящему карасьевскому удовольствию, и садится к столу. На нем замасленный пиджак, надетый поверх снежно-белой рубашки. Он все еще улыбается: в Карасьеве не без удовольствия узнает он молодого себя. – Пётр, есть иди!..
Притихший, с опущенными глазами, выходит из соседней каморки Пётр и садится на краешек табуретки.
– Лоб-то разучился крестить?.. – зорко косясь на сына, ворчит отец. – Запрещают, что ль, у вас там, в тюрьме?
Пётр молчит, как не слышит.
Карасьев с показным усердием машет себя истовым крестом.
– Ты, Петруша, не сердись… – кашляя, говорит отец. – Сам знаешь, за стойкой все стою… Тридцать восемь лет стою. К минуетам вашим не приучен!
Пётр тихо:
– Не надо, папаша. Устал я…
Миска постных щей быстро пустеет. Карасьев жадно набивает рот; румяные его щеки дуются тугими барабанами. Сеня ест робко. Пётр совсем не ест.
– Пашка где? – спрашивает Быхалов, так повышая голос, что Сеня роняет ложку. – Пошел вон из-за стола, если сидеть не умеешь! – резко приказывает Быхалов. – Иван, Пашку ты услал? Простужен он, напрасно ты его… Еще свалится где.
– Я его… – давится Карасьев и с видимым отчаянием глотает непрожеванный кусок, – …его с утра за уксусной кислотой направил. Очень нужда-с!
На столе пшенная каша, обильно политая маслом. Карасьев первым ныряет ложкой в кашу, но останавливается на полпути ко рту, пуча глаза на хозяина.
– Ешь, ешь, – смеется Быхалов. Петру: – А ты? Аль брезгуешь? Аль тебе отцовская соль солоней острожной? – сухой, горький смешок.
– У меня катар, мне нельзя, – тихо говорит Пётр.
– Ката-ар?.. Хрбж… – фыркает в колени Карасьев, подобострастно взирая на хозяина.
– Эй, холуй! – зло одергивает Быхалов. – Губой-то по полу возишь, занозить не боишься?
Все молчат. Глаза Петра темнеют, как окна в сумерки. Сеня стоит поодаль, грустно глядя, как Карасьев дожирает кашу.
…Сеня моет посуду на подоконнике, широком, в толщину стены.
Обманная весна чертит окно тонкими царапинками мороза. И летом быстро темнеет у Быхалова, а зимами и совсем не бывает дня.
– Ну… рассказывай, – вздыхает Быхалов. – Мне-то про себя рассказывать нечего. Вот мать без тебя скувыркнулась. Ты б ей хоть письмецо написал из тюрьмы-то, она тебя жалела.
– Я знаю, – неясно вторит Пётр.
– То-то, знаешь. Плохо небось в тюрьме-то?
– Да как сказать?.. Неважно. Измотался весь, – глухо говорит Пётр. – В последние дни на рассветах все людей у нас увозили. – Сеня прислушивается и осторожней плещет кипятком. – Часов около трех придут, ключами зазвенят… – однообразно тянет Пётр, – уводят. А он и крикнет на всю тюрьму:
«Прощайте, товарищи!» Тут уж и начинается. Окна бьют, двери колотят… У нас, в Таганке, тюрьма была очень гулкая.
– Что ж, на выпуск, значит, увозили? – ворчливо спрашивает Быхалов-отец, соскабливая ногтем маслянистую корочку обеденной грязи со стола.
– Не на выпуск, папаша, а на повешенье, – спокойно говорит Пётр и повертывает голову к окну.
Сенино лицо строго и бледно, сразу осунулось. Проскакивает воспоминанье: там, в деревне, в Бабашихином лесу, молодые ребята суку вешали. Она долго царапала лапами воздух, воя и подгибаясь вверх. Сеня стоял тогда в стороне от общего веселья и лицом повторял все ее напрасные движения.
– У нас вот тоже собаку вешали… – робко начинает он, глотая обильную слюну.
– Хватит!! – Быхалов ударяет ладонью по столу, весь красный. – Эти побаски ты у меня в квартире оставь, тут тебе хвастаться нечем! Ты мать свою съел и меня съесть хочешь? А я не дамся… не дамся, братец!
– Да ведь я и не хвастаюсь, – горько усмехается Пётр, в какой-то страшной судороге разглаживая себе лицо. – Чем тут хвастаться?.. Разве только тем, что от расправы уцелел? Плохая радость!
– Сенька, заваривай чай! – кричит Быхалов. Заваривают густо. Шуршит в Петровых руках бумажка развертываемой карамельки. Маятник стучит. За окном какой-то шум; отпирает Сеня. В раскрытую дверь городовик проталкивает Пашку багровой ладонью в плечо. Пашкино лицо неподвижно и серо, и он особенно тяжко приседает на хромую ногу. Руки свои, перебинтованные в ладонях, тяжелые и белые, прячет Пашка за спиной.
– Паша, что с тобой? – испуганным полушепотом спрашивает Сеня брата.
– Руки обморозил вот… – отвечает холодно брат.
– Малец врет! – четко возглашает городовик. Часто вскидывая руку к овчинной тулье, он докладывает. – Вез малец две бутыли уксусной кислоты, вез и вез, под горку. А тут подвернулись похороны: зазевался. Сани опрокинулись на тумбу, а вслед упал и сам он, руками в разбитое стекло.
– И так испугался малец ваш, что хозяйское добро погибнет, что голыми руками, без варежек, как был, сунулся в уксусную лужу. Перелить, вишь, хотел хоть горстку в отбитое днище! – осклабился поощрительно городовик. – И только как увидел кровь на руках, тут и закричал.
Хозяин медленно пошел к Пашке, не сводя взгляда с вихра на его стриженой голове. А тот щурился и пятился к стене.
На полпути Быхалов остановился.
– Спать иди, – бросил он сквозь сжатые зубы. Потом Зосим Васильич снял пиджак и полез на свою высокую кровать; он вытянулся, наморщил лоб и вздохнул. И в будни не уставал так Зосим Васильич.
VI. Пашка Рахлеев уходит в жизнь
Быхаловские окна не раскрывались ни разу за все тридцать восемь лет. А как украли шубу у покойницы, вделал в окно железную плетенку Быхалов. Сквозь нее и тончайшей солнечной струйке было не пробраться, вору же ни вовек.
За таким надежным укрытием от солнечных ветерков обитали в плесенном кругу быхаловских стен многообразные запахи: каждому своя щель, свой час. Утрами струится по полу душный запашок сопревающего картофеля и острым холодком перебегает дорогу к носу керосин. Обеденного пришельца обдаст сверх того горячим дыханием кислого ржаного хлеба. А досидит пришелец до вечера, поласкает ему нос внезапный и непонятный аромат из-под хозяйской кровати, – целая кипа там цветных дешевых мыл. К ночи все остальное вытесняет гниловатый привкус мокрой соли и отсыревших, крашенных масляной зеленью стен.
Огромная печь разгородила надвое темную быхаловскую щель. В правой половине притулилась приножьем к печке, спрятана за ситцевой занавеской, хозяйская кровать. У стены стол, над столом поясной Никола. Сумрачно смотрит он из-за обсиженного мухами стекла на чадную перед собой лампаду. Тридцать восемь лет назад моложе и веселей был: тогда еще не обманывали угодников керосиновыми смесями. А за киотом торчит высохшая вербочка. Облетели барашки, и уже не весенняя благостынька с веселой, шустрой речки, а розга розгой, недоумков стегать.
Правая половина – молодцовская. В сыром углу, у выхода в лавку, сбиты из старых ящиков коечки для Савельевых ребят. Легкие сны, приятные, не зарождаются в таких углах. Карасьев, зарядский красавец, помещается на полатях, где и теплей и благодатней. Сюда пробирались порой на сочное ярославское тело отощавшие на сухожильном Зосиме Васильиче клопы.
В стене, на которой Никола, проделана дырка-дверь, за нею – комнатушка-крохотка, комнатка-сундучок. Стоят такие сундучки под кроватями богаделенных старушек, открываются туго и поют в проржавелых петлях, по погоде меняя голоса… А таят они в себе молевых червячков, неношеную бабью рухлядь и запахи: прелый – ткани, кислый – железа, горклый – мыла, просфорный – от пыльного божественного сора… Здесь, на сундуке, умерла Быхалова-мать.
Пётр пролежал с полчаса на высоком и твердом подобии кровати, тоскливо поглядывая на полку с недопитыми микстурами, на бескиотную троеручицу в паучином углу; потом поднялся и пошел к отцу. Тот не спал и, лежа на спине, глядел в потолок немигающими глазами.
– Папаша, – тихо сказал Пётр, – я поговорить хочу…
– Эх, да потом, потом! – чуть не хныча, зашевелился отец. – Жалости в вас нету. Сходи вот лучше в подвал, ребята туда убежали. Не наделали бы чего над собой…
– Это в картофельный?.. – покорно спросил Пётр, отходя от отца.
– Да. Спать зови.
Дверь не сразу выводила в подвал. Сперва – сенцы, налево – выход в лавку, направо – четыре темные ступеньки. По ним, знакомо-скользким, прощупывая темноту недоверчивой ногой, спустился Пётр. Последняя, подгнившая, треснула.
Пётр зажег спичку и толкнул низкую дверцу. Спичка потухла, из подвального мрака тянуло плотным теплым ветерком: картофель. Пётр вошел, дверца за ним запахнулась сама. Когда отворял дверь, откуда-то из глубины мрака послышался глухой всхлип. Теперь там стояло совершенное безмолвие.
– Ты кто? – как-то ломко прозвучал Сенин голос и прервался. – Это вот Пашка тебя звал!..
Пётр прислушался. Мрак молчал. Пётр переступил с ноги на ногу, хрустнула раздавленная картофелина.
– Брось, Сенька. Ну, хочешь, я картофелиной в него запущу, – сказала темнота простуженным Пашкиным голосом.
– Ну конечно! – с горячей убедительностью заспешил Пётр. – Что с вами, мальчики? Ведь этого же, что вы подумали, не существует на свете! Вам наговорили глупцы, которые сами ничего не знают. Ну, глядите. Видите, кто я? – Он вспомнил про спички, достал коробок и, с огнем в вытянутой руке, сделал шаг вперед. – Я Пётр Зосимыч, ваш товарищ, Пётр. Я проведать вас пришел…
Спичка горела неровно, задыхаясь в подвальной духоте, тухла.
– Подсматривать пришел, не воруем ли…
– И совсем не подсматривать, – вспыхнул Пётр. – Зачем ты сказал неправду? Это нехорошо. Ты еще мальчик, я старше тебя.
– Хорош мальчик! Уж оброки за отца с матерью платим! – усмехнулся мрак. – В Сибири уж плодятся такие, сам твой отец говорил.
Петру вдруг стало очень неловко. Уйти было неуместно, молчать – слишком глупо, а говорить, стоя перед ними, сидящими, было всего трудней.
– Мой отец – грубый человек, я знаю, – неловко сознался Пётр. – Но меня-то вы ведь впервые видите. Почему же ты хочешь уколоть меня? Я такой же, как и вы… – Пётр хотел добавить «несчастный», но заменил «угнетенным», а когда нашел это слово, было уже поздно говорить. Пётр готов был заплакать в эту минуту от мучительного недоверия тех, ради кого он шел в тюрьму.
– Ну, хорошо, – спокойно и неумолимо сказал мрак. – Ну-ко, подвинься, Сенька. Откуда ж это ты узнал, что мы тут сидим?
– Отец сказал, – откровенно сознался Пётр.
– Ну вот! Ступай укради тогда у отца… – В голосе Пашки звучала насмешка.
– Что украсть?
– Да хоть часы укради… и принеси сюда. Вот и посмотрим дружбу твою!
– Я не понимаю, я совсем не понимаю тебя!.. – торопливо затвердил Пётр и еще шагнул вперед с вытянутыми руками. – Дайте-ка мне сесть рядом… и давайте поговорим.
– Садись, – тихо произнес Пашка; по движению воздуха Пётр понял, что Пашка встал. – Пойдем, Сенька! И реветь довольно, а то хозяйская картошка загниет…
Молча, стороной, мальчики пошли из подвала. Хлопнула дверь.
Пётр все стоял, оторопев от обиды. Потом он услышал ширкающий звук задвигаемого засова. Пётр кинулся к дверце и сильно толкнул ее. Дверца, глухая к его удару, как толстая чужая спина, не отмыкалась. Скользя на раздавленных картофелинах, Пётр пошел в угол, где сидели мальчики. Там он нащупал полурассыпанный мешок картофеля и сел на него, закрыв лицо руками. Минуты через три он отвел руки, покачал головой и засмеялся.
А Пашку и в самом деле трепала простуда, еще в подвале мутилась голова; все чаще, с утра, накатывал на него бредовый полусон… Он прилег, и тотчас же сознание его потускнело: словно вылили из стаканчика и самый стаканчик разбили. Дыхание захрипело, точно в грудь поместили большие, свирепые часы. Виделось, будто стены раздвинулись, потом лениво покачались, потом пошли на Пашку, грозя смять.
…А вот уже и нет стен, а будто пойма. Сено косят бабы, и Пашке всего восемь лет. День ладный, жаркий; солнце висит над самым теменем. Небо сине до черноты. Восток грозит дождем. Рядами идут осоловелые бабы и бойкое, говорливое девьё. Ребятишки – и Пашка вместе с ними – рыщут по стежкам, выискивая ягоды.
Разморило солнцем Марфушку-дурочку. Рваный белый платок приспустив на румяные щеки, глаза сощуря, заходила с опушки Кривоносова бора, шла – как играла. Мерно выдавались плечо и грудь на взмахе, мерно вздыхали травы, поникая под острым косьем. Тут Пашка перед ней стоит и в траву смотрит.
Марфушка ему:
– Недоброй, отойди!
А Пашка и не слышит. Марфушке прозванье в Ворах – «Дубовый Язык». Опять:
– Уходит-т, я тебе тказала аль нет? Вот я тебя котой! Пашка и в те годы задорен был:
– А не подкосишь!
– Ан и подкоту!
– А ну, подкоси!..
Марфушка взмахнула косой и зубом скрипнула. Пашкин крик был необычен, словно лошадь вздумала закричать. Выглянула из-под платка Марфушка – и впрямь подкосила паренька: из ноги его, повыше бабки, красная ручьится кровь.
Лоскутьем рубахи перетягивали Пашке ногу, несли на рогожке домой. Сознание Пашкино померкло. Потом ночь. Избяная духота пахла телятами. Мухи бились в потолке. Возле сидел Сеня и совал в почернелый от муки Пашкин рот кислый квадратик карамельки. Все забыл Пашка, все съедает, как ржа железо, тупая человеческая боль.
– …Пашка, вставай… – говорит тихо Сеня, кладя руку на Пашкин лоб.
Но Пашке тошно, Пашка молчит.
– Вставай же, сказано! – грубее приказывает Сеня и тычет перстом в увлажненный испариной Пашкин лоб.
Пашка сердится, глотает скудную слюну, открывает глаза.
Сеня – в жилетке и с бородой, глаза злые: Быхалов. Бреда Пашкина сразу как не бывало, только непокорно слипаются глаза, только руки словно на кусочки порублены, и каждый в отдельности горит.
– Успеешь, говорю, выспаться, – говорит ему Быхалов. – Петр где? Я его за вами посылал.
Пашкина память просыпается лениво. Пашка морщит лоб, рот его тогда открывается сам собой.
– В подвале он…
– В подва-але? – топырит губы Быхалов. Бровь у него бежит вверх недоуменным смешком. – Что ж ему там делать?
Старик берет с полки прокопченную семилинейную лампчонку и отворяет дверь в сенцы. Пашка слышит, как осторожно спускается хозяин по ступенькам, потом отодвигает засов подвальной двери.
– Пётр… Петруша!.. – кричит он в глубь подвала. – Ты здесь, а?
Пётр выходит из подвала, подслеповато щурится на коптилку, улыбается, молчит.
– Как попал сюда?.. – спрашивает отец. – Деньги, что ль, заперся выделывать? Кто тебя запер?
– Да я сам… нечаянно. – Смеющийся голос Петра особенно ненавистен Пашке.
– Не мог же ты снаружи запереться, чего ты мелешь?
– Наверно, мальчики подшутили, – сознается Пётр. – Особенно этот, старший. Ужасно недоверчивый народ, папаша! – И опять, слышно, Пётр смеется.
Быхалов-старик выжидающе молчит, потом сурово подымает голос:
– Ну а если бы он тебя по морде хватил… ты тоже смеяться бы стал?
Близкая к Пашке дверь скрипит: «Ага, каменная стена приближается!» Пашка сжимается в клубок и материной кофтой, в которой приехал, закутывает голову, темя. Снова вперемежку, раздирающей глаза каруселью, несутся: пойма, Марфушка с косой, кровь, рассыпанные ягоды. Звук шагов замолкает рядом.
– Что ты хочешь с ним делать? – слышен Пашке тревожный голос Петра.
Старик, не отвечая и сопя, ищет щелку в кофте. Мальчик глубже зарывается в тряпье, но рука Быхалова протискивается к самой голове и, приноровись, хватает за ухо…
В то же мгновение Зосим Васильич вскрикивает, более от испуга, чем от боли. Он растерянно трясет рукой, а на конце мизинца повисает темная капелька крови.
Сам Пашка уже стоит ногами на койке, готовый броситься, прижавшись к стене. Его влажные зубы блестят в потемках. Лицо его смутно и серо, но румянец бьет дико, как осенний закат.
– А, вот как! – мычит Зосим Васильич, обсасывая прокушенный палец. – Ну, слезай. Стоять тебе там нечего… – Он идет к кровати, достает из-под подушки клеенчатый бумажник – в нем Пашкина метрика. Кстати обертывает палец в красный носовой платок. – Собирайсь! – решительно командует он.
– Куда, куда ты его гонишь? – умоляюще вступается Пётр, но Быхалову не до Петра.
Пошатываясь, Пашка набивает в линялую, застиранную до дыр наволочку свои убогие пожитки.
– Да ведь ночь же!.. – в отчаянии за Пашку говорит Пётр и делает неопределенное движение рукой, поясняющее, как темна и неприютна весенняя ночь.
– Не мешай, – властно говорит старик Быхалов. – Тут не игрушки тебе, тут жизнь! В жизни всегда ночь. Одновременно Пашка выступает вперед.
– Вы засуньте пачпорт-то в карман мне, – просит он сипло. – У меня руки не действуют… – и выставляется боком, где карман.
– Вот что, братец, – не сразу начинает Быхалов, но по губам Пашки бежит тонкая струйка насмешки, и тот как-то меркнет лицом. – Ведь ты, братец, этак-то и убивать возможешь. А в том, что поучить тебя хотел, особой обиды нет. И сам вот так же учен был. Чем больше, братец, по горбу бьют, тем больше горб и стоит… Причащался ведь я нынче, – прибавляет он через минуту совсем упавшим голосом.
– Прощенья проси! – заплетаясь языком от волнения, шепчет Пётр. – Мальчик, проси прощенья… и все кончено, ну?
– Сам проси, коли охота напала!
Мерно покачиваясь на хромую ногу, Пашка идет к двери. Узел свой он прижимает к груди как-то локтями. С порога оборачивается:
– Там за вами еще полтора рубля оставалось… Сеньке отдайте. Он к Катушину побежал…
– Постой, я тебе сразу выдам, – спешит Зосим Васильич, но Пашка уже ушел.
Дверь притворена неплотно. К ногам бежит морозный холодок. За окном полная ночь.
…Попозже, через час, Пётр заходит к отцу и садится в ногах. Тот лежит по-прежнему, одетый, немигающий. В головах у него как-то особенно намекающе и нравоучительно тикают часы.
– Пришел?.. – жестко спрашивает отец. – Ну, посиди, посиди у меня. Вот так мы и живем, Петруша. Варимся, и поблагодарить некому. Ишь проносились штиблетки-то твои, песок в них и то не удержится! – замечает он, глядя на свесившиеся худые и длинные ноги Петра. – Отнеси завтра к сапожнику, походи в моих пока.
– Папаша, – мягко прерывает его Пётр, обводя пальцем квадратики лоскутного отцовского одеяла, – я все сказать вам хотел, времени вот только не выходило… Меня не совсем еще выпустили. Через две недели второе дело в судебной палате будет слушаться…
– А-а, – холодно внимает отец. – Тянет тебя в тюрьму, Петруша. Жрать, что ли, тебе на свободе нечего?
– Мне-то есть что, – с мягкой настойчивостью отвечает Пётр. – Хотим, чтоб все, папаша, жрали…
Они сидят, не глядя друг на друга. Вдруг Петру кажется, что он сказал грубость. Длинноносое лицо его бледно краснеет.
– Папаша, я и позабыл вас с ангелом-то поздравить. С ангелом, папаша!
– Нашел время, Емеля! – тоскующе усмехается отец и легонько толкает сына в плечо. В голосе быхаловском – и жалоба на свое нехорошее одиночество, и грустная насмешка над суетой Петра.
Петр уходит спать.
Еще через час – уже полный сон. Газ потушен. Вверху, на полатях, с остервенением и вывертом, словно напилком стекло режет, храпит Карасьев.
Внизу, рядом с пустой койкой, ворочается без сна Сеня. Ему и холодно, и чего-то страшно. Будто – поле, огромное, ровное, ночное. И в поле этом разошлись пути братьев на две разные стороны…
VII. Девушка в гераневом окне
Каждому цвету свой черед, пришла пора и Сенина. Вот уж и Семёном стал звать Сеню Быхалов: с Успенья тронулся Сене восемнадцатый год. Время Сенино к убыли не спешило. Но когда восемнадцатого побежали первые дни, стал вдруг виться Сенин волос. Раньше все в скобку стригся, маслом утихомиривая непокорный затылочный вихор. А тут взыграли щеки Сенины румянцем, а голова – кольчиками; никакого с ними сладу нет. Не всех в могилу гнало Зарядье.
У Сени глаза серые, а брови, свидетельствуя о силе и воле, вкрутую сбежались к переносью. Жизни в него до краев налито. Она переливается могучими желваками на его спине, под рубашкой, она играет на алых Сениных губах. Вырос и поширел: скоро тесна станет Сене неглубокая, невысокая зарядская скудость.
За пять лет житья в бакалейных молодцах не устал Сеня бегать к Катушину, в его подчердачную высоту. К лету восемнадцатого своего года все катушинские книжки перечел Сеня, не ускользнула ни одна. Каждая из обтертых, скользких ступенек катушинской лестницы имела свое обличье и место в Сениной памяти… Взбегал, быстро проходил темный коридор с бесчисленным количеством дверей и рывком распахивал одну из них.
Так случилось и в это воскресенье, после закрытия лавки. В окна мастерской, где работал и жил Степан Леонтьич, широким снопом западало солнце, ярко и оранжево располагаясь и на войлочной двери, и на полу с обрезками сукна, марли, ваты и картона. Когда растворилась дверь и в солнечном пятне явилась белая Сенина рубашка, даже зажмурился Степан Леонтьич: уж не выносили света его слепнущие глаза.
– Чтой-то ты горячий какой нынче? Словно из печки только что вылез, выпекли…
– Книжку назад принес. – Улыбка Сенина широка и свободна.
– Всю прочел? – жмурился Катушин.
– Всю-то всю. Сочинение хорошее, слов нет. Только вот уж больно про любовь много. Словно у них и дела другого нет: влюбляются да расходятся.
Катушин улыбался: поздняя старость наблюдала раннюю младость.
– Все к тому и течет, Сенюшка. И нет другого дела, правда твоя. Которы любят, те и счастливы. Ты знай: весь мир приобретешь, и он тебя обманет, а любовь…
– …спасет, – докончил за Катушина Сеня. – Это ты вон из той книжки, Степан Леонтьич, говоришь. Я читаал… – протянул Сеня. – Там дальше так сказано: но если обманет тебя любовь, то больней ее обман, чем обман целого мира. Только, по-моему, все это враки. – И со смеющейся недоверчивостью Сеня садится возле старика.
– Что ж, обманывать, что ль, я тебя буду? – хитровато посмеивается Катушин. – И я ведь не всегда этаким сморчком по свету вихлял. Я тебе из правды жизни сказал, а не по книге…
Уже через три минуты от катушинской веселости нет и следа. Он грустно молчит, погружаясь в свои воспоминания. Выпуклые очки снова дрожат на его крохотном носу, брови по-детски подняты.
– …Очень мне хотелось грамоту вот тоже осилить, – сутулясь еще больше, рассказывает Катушин. – Меня тогда дьячок и приютил один, из соседнего села. Я к нему бегал тайком, чуть не замерз раз, во вьюгу побежал. Я у дядьки жил, дядька и не пускал: «Мы без грамоты прожили, и тебе пачкаться не след!» А дьячок меня и учил… Вот как кончилось обученье, он и говорит мне напоследях, дьячок мой: «Ну, говорит, Степан, все я тебе, что имел, передал. Ничего у меня, Степан, боле нету. Лапти вот еще умею плести, хочешь – обучу. А дальше уж ступай, как сам знаешь!»
Сеня смотрит в окно. Ветерок задувает к нему в лицо и перебирает кольчики Сениных волос, нежно, как женская рука. Грудь дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глубже – в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц. Сеня любит глядеть из катушинского окна: видно много.
Каменные невысокие этажи с суровой простотой возносились кверху. Предвечернее солнце калило воздух, мягчило асфальт, как воск, оранжевой дымкой одевало пыльную московскую даль. А внизу крались кривые переулки, и в них стоял небудничный гам. Ремесленное Зарядье погуливало, лущило семечки, скрипело гармоньями, изливалось в унылых песнях. Каждому зарядцу отведено в празднике свое особое место. Дудину – в сыром подвале чокаться с бутылкой, Быхалову – умиляться над киевским патериком, сказаньями о святых подвижниках, Карасьеву – все гулять по переулочкам, перемигиваясь со встречными девушками.
На все это Сеня смотрит теперь со смешанным чувством вялого любопытства и удивления. Вот по этим же руслам, в Зарядье, потечет и его собственной жизни река. Спокойна ли будет, порожиста ли, и когда обмелеет – в чьих жизнях затеряется ее конец?
Внезапно услышал Сеня старческий всхлип позади и как бы шуршанье бумаги.
Катушин сидел теперь к нему спиной, и за линялым ситцем его рубахи странно суетились стариковские лопатки.
– Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый? – кинулся к нему Сеня.
– Ничего… ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку твою… Дьячка своего вот вспомнил. – Катушин уже улыбался, и лицо его, разглаженное улыбкой, походило на последнюю страницу книги, обрызганную слезами. – Весь небось растворился в земельке, года немалые. Как обучил он меня лаптям, так и помер в недельку. Ну вот и я так же. – Выходило, что не Сеня утешал старика, а скорее старик примирял молодого с необходимостью смерти. – Не тревожься, паренек, будь крепенек. Одна глупость моя. Устарел я, а куды мне? В богаделенку меня не примут… Крови я не проливал, родины не спасал. А глаза-то, звона, покоя хотят. Берешь иглу в руки, а и не видишь иглы-то… и нитки не вижу! Так, паренек милый, пустым местом по пустому и шью. Только вот рука не омманывает…
Он сидел, ссохшийся калужский старичок, глядя в низкий потолок, под которым просидел всю жизнь, и кусал губами ноготок мизинца, как провинившийся мальчик, разбивший то, что дарят человеку однажды в жизни.
Жара за окном сменялась прохладой, предвещающе подуло влагой с реки. День закатывался куда-то за дома, дышавшие душной каменной истомой. Пьяный голос где-то внизу затянул песню, оборвался на высокой точке и умолк. На смену ему из раскрытого окна секретовского трактира запел трубным голосом орган. Задумавшись, Сеня неподвижно глядел в окно.
– …Все картузы да картузы, а ведь она-то не ждет! Пожалуйте, скажет, мыться да на стол!.. – слышал Сеня совсем издалека.
В двухэтажном доме напротив, в теневой стороне, открылось окно. В ветерке заколыхались кисейные занавески; за ними пылали на подоконнике пушистые ярко-красные герани и жирные бальзамины. Потом в окне явилась женщина или девушка, – было Сене не разглядеть.
Она поправила передничек, оперлась локотком о подоконник и, поглядев вниз, зевнула. Что-то привлекло ее внимание на крыше; раздвинув цветочные горшки, она высунулась из окна.
– Да улетайте же вы, улетайте… – закричала она, беспомощно хлопая в ладоши; вслед за тем она увидела Сеню в окне. – Там кот на голубей охотится, спугните его! Да скорей же, неповоротливый какой…
Она была такая праздничная, зовущая – в нарядном гераневом окне.
– Сейчас мы его уважим, – отвечал Сеня через улицу и успокоительно махнул рукой. – Только не уходи, побудь там еще немножко!
Не дослушав Катушина, он метнулся в дверь и скоро через разбитое чердачное окно вымахнул на крышу, громыхая по железу тяжелыми сапогами.
Опасенья, что уж поздно, оправдались: сытый бело-рыжий кот держал голубя в зубах, из разорванной шейки капала на раскаленную крышу кровь. В следующее мгновение он жалобно топырил лапы в сжатой Сениной руке… Но вот нога скользнула вниз, и одновременно девичий вскрик раздался в гераневом окне. Если бы не водосточный желоб, игра Сенина была бы проиграна… Покачиваясь, не выпуская добычи, он стоял на самом краю обрыва и силился овладеть пошатнувшимся сознанием…
Сперва он ощутил опасность и отодвинулся на полшага вверх по скату. Извернувшись, кот царапал ему руку, а девушка еще кричала что-то из гераневого окна, и Сеня с удивлением различал в ее голосе сердитые нотки. Все еще кружилась голова – не мог уловить причины ее гнева…
А та нетерпеливо барабанила ладонями по железному отливу подоконника.
– Да отпустите же его, вам говорят… Это наш кот! – И оборачиваясь к кому-то позади: – Матрёна Симанна, он его задушит. Господи, какие дурни бывают на земле!
Он стоял теперь на гребне крыши, держась за кирпичную кладку трубы, большой и смелый, в черно-голубом предгрозовом небе, и расстегнутая у ворота его рубашка оранжево горела в тягучем закатном свете. Едва понял и разжал пальцы, кот мгновенно исчез в чердачном проеме, а девушка все глядела на занятного паренька через улицу, качала головой и смеялась:
– Ну, чего вы сюда уставились! Не глядите на меня, слышите? Не велю…
Ее голос был низок, мягок, звучен: его можно было слушать век. Сеня улыбался ее гневу широко и восторженно; холодки, мурашки и льдинки струились у него по спине. Крикни она ему – лети! – он без раздумья исполнил бы ее приказание. «Тонкая какая!» – удивился он и вдруг сам испугался за нее:
– Не вылазь, ладно, не вылазь… Переломишься! Старушечья рука захлопнула окно и тотчас же задернула занавеску. Гераневое окно сразу потерялось среди всех других, столь же незначительных оконцев.
Сеня сел на гребень крыши и осмотрелся. «Тонкая какая!» – повторил он вслух и еще раз посмеялся над необычайностью события. Ветерок задувал за ворот рубашки; Сеня поднял руку застегнуть и нахмурился: двух верхних пуговиц недоставало у ворота. Потом взгляд его сам собою перекинулся на сапоги: они были тяжелы и неуклюжи. «Бочки, а не сапоги. Капусту в таких осенью квасить, вот что!» – подумал он, вспомнил карасьевские сапожки, топкой кожи, лакированными бутылочками, и огорченно покачал головой…
И точно преисподний дух, легкий на помине, в чердачное окно просунулась потная, обозленная рожа самого Карасьева:
– Ты чего тут балбесничаешь? Пошел домой! – рявкнул он, багровея от удовольствия удовлетворить потребность власти. – Чего народ внизу собираешь? Я вот задам тебе, неслуху!..
Но тут случилось нечто совершенно не предвиденное Карасьевым. Сеня засмеялся, беззлобно, но с какой-то возмутительной самостоятельностью:
– А ну, поди сюда! Я тебя, лошака ярославского, вниз скину…
– Вот и дурак! – обиделся Карасьев, не решаясь выбраться на крышу. – Я тебе заместо отца родного, можно сказать. А ты этак-то? Погоди. Я тебя, мужика, выучу, припомню!
– В поминанье пропиши! – крикнул ему Сеня вдогонку, но тот уже исчез с той же внезапностью, как и появился.
…Он долго сидел здесь. Чуть не весь город лежал распростертый внизу, как покоренный у ног победителя. Огромной лиловой дугой, прошитой золотом, все влево и влево закруглялась река. Широкое и красное, как цветок разбухшей герани, опускалось солнце за темные кремлевские башни, пики и купола… А снизу источались духота, жар, томящая, расслабляющая скука. Небо гасло, и все принимало лилово-синий отсвет тучи, наползавшей с востока. Ночь обещала грозу, и уже попыхивал молниями иссушенный московский горизонт.
Сеня обернулся. Москва быстро погружалась в синеву потемок, только диким бронзовым румянцем пылали крест и купол Никиты-мученика, что на Вшивой горке. Дальше все размывала мгла.
Напрасно ждал своего питомца Катушин, приготовивший для него последнюю свою, самую сокровенную книжку. Сеня сидел вверху, как раз над ним, чутко впитывая в себя эту непомерную торжественность закатной Москвы. Сердце его стучало быстро, четко и властно; так несется в свою неизвестность, ударяя не кованными еще копытами, молодой жеребенок по гулкой ночной дороге.
?IIІ. Петр Секретов
У Карасьева план тонкий. И крепко сшитые зарядцы смертью не обижены: как кончится Быхалов, откажет он деньги сыну, если тот к тому времени до полной трухи по тюрьмам не догниет. А лавку – кому ее и оставить, как не Карасьеву, человеку непьющему и обходительному, знающему благодетелям почесть, делу оборот, деньгам счет. Переменит Карасьев вывеску, приоткроет мясное: денежка закопит денежку, рублик погонит рублик, и выйдет из того усидчивого карасьевского нажима под старость каменный домок. И шестерки в козыри выходят: примером тому Секретов Пётр.
Из дырявой полтинки Пётр Филиппыч повелся, а помнит бородатая зарядская мелкота, как пришел он вместе с Ермолашкой Дудиным из деревни, хитроватый, рыжий, изворотливый, гнилыми грушами да квасом с лотка торговать. С Дудиным Петька в решку игрывал и на кулачках дрался, к Катушину книжки ходил читать. Был лопоух, за что и прозвали его Лопухом.
Вдруг пропал Лопух. Где Лопух? Нет Лопуха… Но осенью однажды объявилась москательная в каменной прорешке между двух домов, и вывеска утверждала безграмотно, что москательщик тут – Пётр Секретов. Лопуха в нем признали и свыклись. Стекло ли вставить, масла ли деревянного купить или рожу полюбовнику залить кислотой – шли непременно к Лопуху: у него товар свежий, с ручательством, и запросу нет.
Да раз пошла быхаловская молодайка замазки купить на зимнюю надобу, а москательни-то и нет. Досочками забита прореха, вывеска сорвана: ни товара, ни хозяина. Такая беда, пришлось брюхатой – Петром была покойница на сносях – на Москворецкую тащиться и у незнакомых покупать.
Безусые оженились, бородатых по кладбищам развезли. Слух прошел по Зарядью: желто-розовый дом Берги продают, им в гвардейском полку для поддержания чина и фамилии в деньгах нужда. Смекала голь: какого-то хозяина бог на шею посадит? Вдруг дудинская жена открыла во сне: дом Берги продали, а купил лопоухий барин, бесфамильный, неподслушанный. Дудин тогда же бабу побил, чтобы не суеверила попусту. А через неделю и приехал новый барин с женой. Пригляделись зарядцы – Лопух. Очень тогда Секретова невзлюбили, что помимо Зарядья, окольной статью в люди вышел. Впрочем, Секретов от их злобы ущерба себе не чувствовал.
Ловок был, а на дороге ему купец попался. Имелись у купца и лабазы, и мельницы, и мучные оптовки, а еще дочка Катеринка с глуповатинкой. Секретов к ней и лазил по пожарной лестнице в светелку, обаловал ее, молодую да глупую, небрежной, мимоходной лаской, а на четвертом месяце, как объявилась Катеринкина любовь, деловым, скромным образом предложил Пётр Секретов купцу честной свадебкой Катеринкин грех покрыть.
Купец только бороду почесал да усмехнулся:
– Я умен, а ты еще умней. Такими, как ты да я, вся Сибирь заселена. Бить Катьку не будешь? Прямо говори…
С той поры Секретов поважнел, кланяться перестал, люди ему – как грошики: только тогда им и счет, если в сотню сложатся. Отделал себе квартиру в доме против желто-розового владенья своего и по всем комнатам кнопки провел во избежанье вора.
… Как-то раз в двунадесятый, на безденежье, стало Дудину обидно на приятеля давнего детства. Оделся победней, в самые рваные сапоги, и пошел Петрушу, друга сердца, проведать. Пришел, встал в дверях, головенку набок, улыбается с горьким умиленьем на секретовское благолепие и покачивается, будто с пьянцой. А на самом деле был дико трезв, даже слишком для Ермолая Дудина.
Секретов за чайным столом ватрушку жевал. С одной стороны сидела беременная жена, а с другой – шурин Платон.
– Ты что ж образ-то подобие корчишь? – поднял глаза Секретов, облизывая творог с ватрушки. – Какая у тебя надобность?
– Ватрушечка-то небось вкусная? – погнулся Дудин в пояснице.
– На, – сказал Секретов и протянул облизанную.
– Ноне-то и пузцом обзавелись… а ведь я Петькой помню вас, Пётр Филиппыч, – льстиво забубнил Дудин, пряча ватрушку в карман и там разминая ее в крошки от злобы. – Как, бывало, в ребятишках мы с вами бегали; уж такой вы жулик были, смрадь, можно сказать, и не приведи бог! Я б и еще кое-что про вас сказал, да вон их стесняюсь, – и кивнул на Катерину Ивановну, пугливо замершую с непрожеванной ватрушкой во рту.
Петра Филиппыча в багровость кинуло. Не выходя из-за стола, потискал он кнопку под столом, вскочили в дверь дворники, взяли Дудина в охапку, унесли… Некому было Дудину жаловаться, а жена его, сама хирея день ото дня, замечать стала, что кашлять стал глуше и нудней Ермолай после того, как сходил в гости к другу давней юности.
…А Секретов в гору шел. В новокупленном дому зазвенела трактирная посуда и запел орган. Зарядье – место бойкое, в три быстрых ключа забилась в «Венеции» жизнь. Линии секретовской жизни были грубы, ясны и незатейны, как и на мозолистой руке. Все у него было правильно. Короткая его шея не давала вихляться и млеть головище, не то что у Дудина, длинношеего. Разум свой содержал в чистоте и опрятности, не засаривал его легковесным пустяком, подобно Катушину. Проветриваемая смешком, не болела его душа ни тоской, ни жалостью, ни изнурительной любовью.
Четыре месяца спустя по приезде в Зарядье родила Катерина Ивановна девочку Настю. Быть бы в той нечаянной семье счастью и хотя бы наружному благополучию, как вдруг простудилась Катерина и слегла. Дочке тогда третий год шел, когда у матери ноги опухли. Все же переползала от кровати к окну, из-за занавески наблюдая чужую жизнь, стыдясь самой себя.
Ее-то, так же как и Сеня Настю пятнадцать лет спустя, увидел Катушин из окна, тачая камилавку, дар прихожан приходскому попу. И оттого, что прожил без любви, а перед тем собачка у него околела, полюбил он Катерину Ивановну, чужую, в чужом окне, тоскующую. Но только в убогих стишках своих смел говорить он о своей любви. Ключ же от сундучка, где таилась его тетрадка, стал прятать далеко-далеко, на шейный шнурок.
Оставался еще в Катерине кусочек смысла: покрикивала по хозяйству, штопала носки самому. Вскоре, однако, совсем ей ноги отказались служить. Положили тогда Катерину Ивановну в угловой комнатушке, завесив окно той самой шалью, в которой, к слову сказать, венчаться ехала. Двигаться Катерина Ивановна уже не могла, и ухаживала за ней Матрёна Симанна, новоявленная тетка из Можайска. Толстая и ленивая, она и креститься помогала хозяйке малоподвижною рукой, она же и молитвы за нее шептала, поясняя целителю Пантелеймону бормотание хозяйкиных губ, приходила на помощь и в остальном.
Секретов запивал. Раз ночью, когда боролись в нем пьяные чувства, пришел к жене.
– Ты меня, Катерина, прости… за все гуртом прости! – сказал он тихо, стоя в дверях, и обмахнул увлажнившиеся глаза рукавом.
Та лежала, неподвижная, страшная, белая.
– Слышь, жена, прощенья прошу, – повторил терпеливо он, кулаком ударяя себя в грудь, и вдруг завопил на всю квартиру: – Да что ж ты, как башня, лежишь… не ворочаешься? С той поры совсем махнул он рукой на Катерину. Зато, как-то случилось, стал Катушин ходить к тому, что было когда-то секретовской женою. Приходил вымытый, в чистенькой воскресной рубахе, садился возле кровати и сидел тихо, полузакрыв глаза. Иногда рассказывал слышанное и читанное или смешное что, не получая ответа, да и не нуждаясь в нем. Своей любви остался Катушин верен и любил Катерину, быть может, больше, чем если бы она была здорова. Он же пробовал лечить ее отваром капустного листа.
Тут, в этом темном тупике, плодилась моль, мерцала лампада, воркотала очередная монашенка, и из года в год возле столика, уставленного лекарственным хламом, бесшумно сидел Катушин. Так он научился понимать смутный язык больной. Однажды сказал Насте:
– Ты заходи к матери-то. Сердится, что не бываешь. В другой раз осмелился сказать Секретову:
– Что ж ты ее, Пётр Филиппыч, просвирками-то моришь? Ты бы ей щец дал!..
IX. Настюша
Настюша росла девочкой крепенькой, смуглой, как вишенка, в постоянном смехе, как в цвету.
Детство свое помнила лет с шести: дядя Платон куклу подарил.
Кукла была с фокусом, плакала и моргала. Недолговечны детские утехи: вечером распорола Настюша кукле животик, чтобы узнать секрет куклиной жизни. Там оказалась только пружина да еще жестяной пищик, вонявший столярным клеем. Чтобы скрыть преступленье, она подкинула останки куклы матери под кровать. Сора оттуда не выметали, чтоб не тревожить больную.
Никто и не заметил, а отцу не было никакого дела до Настиных поступков. «Расти, сколько в тебе росту хватит. Дал тебе жизнь, даю хлеб. Вот и в расчете, пожалуйста!» – таков был неписаный договор между отцом и дочерью. У отца в то время ширились дела, требовали воли, глаза, времени. Каждый винтик в общей машине хотел, чтоб и за ним присмотр да хлопоты были.
Лишь в воскресные дни, садясь за стол, спрашивал, посмеиваясь:
– Ну, Настасья Петровна, как живете-можете, растете-матереете?
– Ничего, папаня… матереем! – в тон ему пищала восьмилетняя Настасья Петровна.
Вопрос повторялся из праздника в праздник, из года в год… Настюше рано опротивел отцовский дом – грузные пироги с ливером, безмолвие комнат, громадная Матрена Симанна, жующая мятную лепешку для сокрытия винного запаха. Матери Настюша боялась, как страшного сна; когда, по воскресеньям, старуха приводила ее сюда, в тесную, всегда завешенную каморку, девочка робела, мучилась укорами совести, старалась не дышать мертвым запахом чужой болезни и пуще всего страшилась прикосновения белой, из-под одеяла, опухшей руки…
Потом, волнуясь и спеша, она надевала оборванную шубку, дырявый шерстяной платок, чтоб не бранили за порчу, и вихреподобно уносилась на улицу.
Так и росла Настюша на улице, без нянек и присмотров, бегала с ребятами через Проломные ворота на реку, тонула однажды в проруби, дразнила вместе со всей ребячьей оравой извозчиков, татар, иззябших попугаев на шарманках у персов. Шумливая и загадочная, звала ее улица. Она сделала Настю бойкой; тела ее, изворотливого и гибкого, никакой случайностью было не удивить… В городском училась – детскую мудрость срыву, по-мальчишески, брала. Остальное время с мальчишками же вровень каталась на коньках вдоль кремлевского бульвара, скатывала снежных страшилищ: любопытно было наблюдать, как точит их, и старит, и к земле гнетет речной весенний ветер. То-то было шумно и буйно, непокорно и весело.
Двенадцатая весна шла, придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженный фитилек. Всю ту ночь, думая об этом бесцельном огоньке, томилась без сна Настя. Ах, какой славный ветер в ту ночь был! Как бы облака сталкивались и гудели, словно тесно стало в весеннем небе облакам… Наутро нашли в огоньковой пещере только копоть. Недолго погорел фитилек. Тут еще снег пошел, лужицы затянулись. Так впервые изведала Настя горечь всякой радости и грусть весны.
Раз осенью, поутру, окончилось Настино детство. От обедни возвращаясь вместе, сказал Секретов Зосиму Быхалову от всей полноты души:
– Паренька твоего видал. Хороший, ласковый…
– Законоучитель очень его хвалил: ваш, говорит, сын перстом отмечен, – довольно пробурчал Быхалов.
– Надо и мне Настюшку мою к занятиям пристроить. Как знать, какие жеребьи выпадут… Вдруг да посватается? Негоже будет умному-то мужу да глупую жену! – задорил Пётр Филиппыч.
– Коли товар хорош выйдет, чем мы не покупатели? – пощурился и Быхалов. – Только что ж ты ее ровно просвирню водишь? Бабочка славная растет.
– Бабочка славная… – повторил задумчиво Секретов и впервые оценил дочь.
Сделали новую шубку Настюше – здесь и кончилось детство: в новой не так вольготно стало и в угольных сараях прятаться, и валяться в снегу. Настю отдали в купеческий пансион.
В канун того дня заходила Настя к отцу проститься на ночь. Тот сидел на кровати, без поддевки и без сапог, усталый и хмурый, в предчувствии запоя.
– Ну, девка, – заговорил он, усаживая ее на колени, – смотри у меня.
– Я смотрю, – сказала Настюша и поджала губы.
– Да не егозой расти, а яблочком… Чтоб каждому от тебя и рот вязало, и душу тешило. Живи и никому спуску не давай. На меня гляди: мужиком пришел, двадцать лет меня жизнь в ладонях терла, а все целехонек. Чувствуешь?
– Да! – не робея, сказала Настюша, скашивая глаза на порожние бутылки, оставшиеся в углу от прошлого запоя.
– Учись и божье слово слушай, на то человеку и уши даны. Без него, девка, плохо, тем и кормимся…
– А у вас, папаня, – давясь смехом, спросила Настюша, – ухи большие тоже для божьих слов?.. – Она не выдержала и рассмеялась, точно целая связка колокольчиков раскатилась по полу. – Папаня, извините, у меня губы чешутся, – уходя, попросила Настя.
…Тем временем названый жених Настин вступал в университет. Часто, к вящему недовольству отца, пропадал ночи, путался с волосатыми приятелями, худел и бледнел: не шли Петру впрок его усидчивые занятия. А среди белых пансионских стен, намекавших на девическую невинность содержательницы, мадам Трубиной, науками, напротив, не утруждали. Преобладали танцы и арифметика. Беря с купеческих девиц втридорога, боялась Трубина потерять лишнюю ученицу. Какой-то защелканный многосемейный немец вслух переводил по пять строчек в день, с грустным ужасом глядя на сидящих перед ним круглолицых, румяных девиц. Зато Евграф Жмакин, учитель танцев, был неизменно весел и летающ, походя на пружинного беса; казалось, что мать его так в танце и родила.
На четырнадцатом году тронула Настюшу корь. После выздоровления отец долго не пускал Настю в пансион; да тут еще негаданно просунулось шило из мешка. У знакомого зарядского купца дочка Катя, учившаяся вместе с Настей, пополнела от неизвестных причин; под неизвестными причинами был сокрыт от гневного родительского взгляда сам Евграф Жмакин. Пётр Филиппыч был так обрадован своевременным удалением Насти из пансиона, что даже забыл посмеяться над купеческим позором.
Оставлять Настю без образования Секретову было совестно перед друзьями. По совету шурина стал он подумывать о приглашении домашнего учителя. И тут как раз совпало: Пётр после первого своего, пустякового ареста, понятого всеми как недоразумение, проживал в Зарядье, у отца. Лучшего случая нанять учителя задешево, а вместе с тем и познакомиться с Петром Быхаловым поближе, если того и в самом деле угораздит посвататься, не представлялось. Пётр согласился, уроки начались почти тотчас же.
Учитель приходил с утра, с книгами и тетрадями под мышкой. И без того сильно сутулясь, теперь он еще вдобавок хмурился, чтоб внушить девочке уважение к особе учителя. Садился за стол, раскрывал книгу на заложенном месте, начинал с одного и того же:
– Ну-с, приступим. Итак…
И в тон ему, щуря глаза, – привычка, перенятая у Кати, – как эхо, вторила Настя:
– Приступим…
Она садилась на самый краешек, точно старалась скорее устать. Первые десять минут все шло чинно. В купеческой тишине слышались только громыханья сковородников и кухаркин голос. Положив локотки на стол, Настя подпирала руками голову и глядела прямо в рот Петру, забавляясь движениями вялого учительского рта.
Потом глаза ее подергивались тоненькой пленкой дремы. Она зевала в самых неожиданных местах, – однажды стала играть полуоторвавшейся пуговицей студенческой тужурки Петра, однажды просто запела. Честное пошевеливанье Петровых губ усыпляло Настю: запела, чтоб не уснуть.
– Слушайте, Пётр Зосимыч, – сказала однажды, – в который раз у вас вижу. Дырка у вас на локте, дырка, – указала Настя. – Давайте я вам зашью… А вы мне лучше потом доскажете.
– Это давняя, я к ней привык… Впрочем, зашейте, – согласился он, стаскивая с себя тесную тужурку.
Напевая, Настя отыскала в ворохе цветных обрезков подходящий лоскуток. Петр сидел молча и глядел на ее быстрые пальцы.
– Скажите, – вкрадчиво начала она, вдевая нитку в иголку – правда это, что вы каторжник?
– То есть как это каторжник? – опешил Пётр. – Что за пустяки! Кто это вам сказал? – И длинный нос его принял ярко-розовый оттенок.
– Вы уже убивали кого-нибудь? – тончайшим голоском спросила Настя, склоняясь над работой.
– А, вот вы про что! Нет, я за другое сидел… – сказал он тихо, косясь на растворенную в коридорчик дверь. Дверь Настиной комнаты, по настоянию Петра Филиппыча, была всегда раскрыта.
Настин взгляд был выспрашивающий и требовательный, и, повинуясь ему, Пётр тихо пояснил, за какие провинности вычеркивают людей из жизни, иногда на время, иногда навсегда. Похоже было, что он приглашал и Настю разделить с ним его судьбу. Настя спешила, доканчивая починку.
– Нате, надевайте, – сказала она, обкусывая нитку. Она встала и отошла к окну. Там падал осенний дождик. Вдруг плечики у Насти запрыгали.
– Что вы, Настя? – испугался Пётр.
– Знаете что?.. Знаете что? – задыхаясь от слез, объявила девочка, откидывая голову назад. – Так вы и знайте… Замуж я за вас не пойду! Вы лучше и не сватайтесь!
– Да почему же? – удивился Пётр.
– У вас нос длинный, и потом у вас с головы белая труха сыплется… – прокричала Настя и выбежала вон.
Весь тот день она просидела в кресле, сжавшись в комок. А вечером решительно вошла в отцовскую спальню. В ожидании ужина Пётр Филиппыч серебряным ключиком заводил часы.
– Я за твоего Петра Зосимыча не пойду. Так и знай! – твердо объявила она и встала боком к отцу. – Не хочу с ним в тюрьму, не хочу!
– Да ну-у?.. – захохотал Секретов, уставляясь руками в бока. – Вот баба… На чью-то неповинную головушку сядешь ты, такая!
Настя подошла ближе и вдруг, припав к груди отца, заплакала. От жилетки пахло обычным трактирным запахом. Отец гладил Настю по спине широкой, почти круглой ладонью.
Так она и заснула в тот вечер на коленях у отца. А в столовой стыл ужин и коптила лампа.
…Через два дня Пётр снова уселся в тюрьму, на этот раз надолго. В мирной сутолоке Зарядья то было немалым событием. Секретову рассказали, будто приезжала за Петром черная карета. Она-то и увезла душегуба Петра в четыре царские стены.
Пётр Филиппыч человек мнительный, тогда же порешил покончить все это дело. В субботу, перед полднем, отправился к Быхалову в лавку и сделал вид, что ненароком зашел.
– Здравствуй, сват, – прищурился Быхалов, зорко присматриваясь ко всем внутренним движениям гостя. – Семён! – закричал он в глубь лавки, скрывая непонятное волнение. – Дай-кось стул большому хозяину… Да стул-то вытри наперед!
– А не трудись, Зосим Васильич. Я мимо тут шел, дай, думаю, навещу, взгляну, чем сосед бога славит.
– Ну, спасибо на добром слове, – упавшим голосом отвечал Быхалов, почуяв неискренность в секретовских словах. – Садись, садись… стоять нам с тобою не пристало.
– А и сяду, – закряхтел Секретов, садясь. – Эх, вот увидел тебя, обрадовался и забыл, зачем шел-то. Время-то не молодит. Эвон как постарел ты, Зосим Васильич. Краше в гроб кладут! Огорчений, должно, много?..
Быхалов морщился недоброй улыбкой.
– Да ведь и ты, сватушка… тоже пухнешь все. Пьешь-то по-прежнему? Я б на улице и не признал тебя. Плесневеть скоро будешь!
– Скажешь тоже, смехотворщик! Я-то еще попрыгаю по земле! Вот у Серпуховских еще трактиришко открываю, сестриного зятя посажу. Да вот домишко еще один к покупке наметил. Сам видишь, дела идут, контора пишет. Эвон я какой, хоть под венец! Моложе тебя года на два всего, а ведь годов на тридцать перепрыгаю!..
Последний покупатель ушел. Наступало послеобеденное затишье.
– Ванька, – глухо приказывает Быхалов новому мальчику, – налей чаю господину. Да сапогами-то не грохай, не в трактире!
– Насчет чаю не беспокойся, соседушко, – степенится Секретов, лукаво разглаживая рыжую круглую бороду. – В чаю-то купаемся!
– Да и нам не покупать. Выпей вот с конфетками. Да смотри не обожгись, горяч у меня чай-то!
На прилавок, у которого сидит Секретов, ставит Зосим Васильич фанерный ящик с конфетами.
– Ах да, вот зачем я пришел… Вспомнил! – приступает Секретов, мешая ложечкой чай, стоящий на самом краю прилавка. – Вот ты сватушкой меня даве называл. Конешно, все это – смехи да выдумки, а только ведь я Настюши своей за сына твоего не отдам… Не посетуй, согласись!
– А что? Почище моего сыскали? Что-то не верится… – скрипит сквозь зубы Быхалов, все пододвигая ящик с конфетами на гостев стакан.
– Так ведь сам посуди, – поигрывая часовой цепкой, говорит Секретов, голос его смеется. – Кому охота дочку за арестанта выдавать? Уж я лучше в печку ее заместо дров суну, и то пользы больше будет…
Оба молчат. Сеня громко щелкает на счетах, – месячный подсчет покупательских книжек. Секретов сидит широко и тяжко, каждому куску своих обширных мяс давая отдохновенье и покой. В стакане дымится чай. Быхалов, уставясь в выручку, все двигает к гостю конфетный ящичек и вдруг выталкивает его на стакан, который колеблется, скользит и опрокидывается к Секретову на колени.
В первое мгновение Секретов неожиданно пищит, подобно мыши в мышеловке, и Быхалов не сдерживает тонкой, как лезвие ножа, усмешки.
– Да ты, никак, ошпарился? Вот какая беда, Пётр Филиппыч, – наклонясь побагровевшей шеей, картузом смахивает с колен дымящийся кипяток.
– Да, захватило чуть-чуть, краешком, – фальшиво улыбается Секретов, твердо снося жестокую боль ожога. – А сынища своего, – вдруг прямится он, – на живодерню отошли, кошек драть!..
– И мы имеем сказать, да помолчим. – И Зосим Васильич поворачивается к гостю спиной.
– И правильно сделаете! А то к сыну в острог влетите… – выкрикивает Секретов. – А на лавку мы вам еще накинем… вы мне тута весь дом сгноите! Счастливо оставаться!
Затем последовал неопределенный взмах руки, и Секретова больше нет. Любил Пётр Филиппыч, чтоб за ним оставалось последнее слово, – отсюда и легкое его порханье.
X. Павел навещает брата
Сеня впоследствии не особенно огорчался безвестным отсутствием брата. Крутая, всегда подчиняющая, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, – жизнь стала ему легче. Сеня уже перешел первый, второй и третий рубежи зарядской жизни. Теперь только расти, ждать случая, верным глазом укрепляться на намеченных целях.
В конце того же лета, когда Катушин вспоминал о дьячке, в воскресенье вышел Сеня из дому, собравшись на Толкучий рынок, к Устьинскому. На подоконнике быхаловского окна, возле самой двери, сидел Павел. Зловеще больно сжалось сердце Сени, – такое бывает, когда видишь во сне непроходимую пропасть. Павел был приодет; черный картуз был налажен на коротко обстриженный Пашкин волос. Все на нем было очень дешевое, но без заплат. Сидя на подоконнике, Пашка писал что-то в записную книжку и не видел вышедшего брата.
– Паша, ты ли?
– А что, испугался? – спокойно обернулся Павел, пряча книжку в карман брюк; глаза его покровительственно улыбнулись. Потом Павел достал из кармана платок и стал сморкаться.
Надоедливо накрапывало. В водосточных желобах стоял глухой шум, капало с крыш.
– Чего ж мне тебя пугаться! – возразил Семён, поддаваясь непонятной тоске, и пожал плечами.
С неловкостью они стояли друг перед другом, ища слов, чтоб начать разговор. Вспыхнувшее было в обоих стремление обняться после пяти лет разлуки теперь показалось им неестественным и ненужным.
– Чего же под дождем-то стоять?.. Пойдем куда-нибудь, – сказал Сеня, выпуская руку Павла, твердую и черную, как из чугуна.
– Да вот в трактир и зайдем. Деньги у меня есть, – сказал Павел.
Она стояли в воротах, продуваемых мокрым сквозняком осени. То и дело въезжали извозчики с поднятыми верхами. Братьев обдавало ветром и брызгами с извозчичьих колес.
– Деньги-то и у нас найдутся, – с готовностью похлопал себя по тощему карману Сеня; там звякнуло серебро.
Они поднялись с черного хода в трактир, второй этаж каменной секретовской громады. Кривая, скользкая лестница, освещенная трепетным газовым языком, вывела их в коридор, а коридор мрачно повел в тусклую, длинную и шумливую коробку, сплошь заставленную столиками. Под низким потолком висели чад и гул. Все было занято. Зарядская голь перемежалась с синекафтанной массой извозчиков и черными чуйками мелких торгашей; это у них товару на пятак, а разговору на полтину. Несколько бродяг с сонным благодушием сидело тут же, склонив огромные, опухшие лица в густой чайный пар. Осовев от крепкого чая, как от вина, они блаженно молчали, всем телом ощущая домовитую теплоту «Венеции».
Торгаши кричали больше всех, но даже когда вспыхивало в чадной духоте короткое ругательство, снова срастался рассеченный гул и оставался ненарушим.
Лишь извозчики, блестя черными и рыжими, гладко примасленными головами, потребляли чайную благодать в особо сосредоточенном безмолвии; не узнать в них было уличных льстивых, насмешливых крикунов. Спины их были выпрямлены, линия затылка, не сломясь, переходила в линию спины: прямая исконного русского торгового достоинства. Разрумянившись, они сидели парами и тройками, прея в вате, как в бане, обжигающим чаем радуя разопревающую кость. Самые их румянцы были густы, как неспитой цветочный чай.
Дневной свет, разбавленный осенней пасмурью, слабо пробивался сюда сквозь смутную трактирную мглу. Пахло кислой помесью пережаренной селянки с крепким потом лошади, стоялой горечью кухонного чада и радужной сладостью размокающей карамели.
Сеня повел брата в темный уголок, где оставался незанятым столик под картиной, и постучал в стол. Половой, белый и проворный, как зимний ветерок, мигом подлетел к ним, раздуваясь широкими штанами, с целой башней чашек, блюдец и чайников.
– Чего-с?.. – тупо уставился он между двумя столиками.
– Да я не стучал, – рассудительно сказал соседний к Сене извозчик, разгрызая сахар и держа дымящееся блюдце в отставленной руке. – А уж если подошел, так нарежь, парень, колбаски покрупней да поджарь в меру. Горчички прихвати. А сверху поплюй этак перчиком.
– Нам чайку, яишенку тоже, на двоих… Да кстати ситничка, – заказал Сеня и улыбнулся Павлу. – Ты ко мне в гости пришел, я и угощаю!
– Гуди, гуди! – засмеялся Павел. – Небось разбогател, а? За тыщу-то перевалило?
– За десять! – подмигнул и Сеня, радуясь шутке брата, позволявшей ему и весь разговор вести в шутливом тоне.
– Братана-то не забудь, как разбогатеешь! – опять пошутил Павел.
– Да вот за прошлый месяц четыре рубля домой послал… А так – по трешнице. Ни месяца не пропустил, – хвастнул Сеня.
– Смотри, сопьется совсем отец-то! – опередил Павел Сенино хвастовство.
Павел, ворочая под столом хромую ногу, схлебывал с блюдца чай. Лица его не зарумянило чайное тепло. Сеня осматривался; впервые приходил он сюда как равноправный посетитель. Совсем установились сумерки, хотя стрелки круглых трактирных часов стояли только на четырех. У дальней стены, рядом со входом в бильярдную, возвышалась хозяйская стойка. Позади нее громоздился незастекленный шкаф, втесную набитый дешевым чайным прибором. На прилавке отцветали в стеклянных вазах дряблые бумажные цветы. С ними соперничали по цвету разложенные на прилавке ядовито-багровые колбасы, красные и желтые сыры, яркие леденцовые конфетки в стеклянных банках. Больше же всего было тут яиц, – может быть, тысяча, – сваренных вкрутую на дневной расход.
– Что же ты не спросишь, где я устроился… живу как? – спросил Павел, трогая вилкой шипящую яичницу.
– Что? Что ты говоришь? – откликнулся брат.
– На заводе, говорю, устроился, – рассказывал Павел. – Интересно там! Все пищит, скрипит, лезет… Там, брат, не то, что колбасу отпускать! Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал намотало, весь потолок в крови был! – сказал он размякшим голосом, дрожащим от гордости своим заводом и всем, что в нем: кровь на потолке, гремящие и цепкие станки, бешено летящие приводы, разогретая сталь – все сосредоточившееся перед глазами в одном куске железа, которому сообщается жизнь. – Я вот, знаешь, очень полюбил смотреть, как железо точат. Знаешь, Сенька, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно… Стою и смотрю, сперва по три часа простаивал так-то, не мог отойти. Вот, гляди, сам сделал!.. – И он, вытащив из кармана, протянул брату небольшую шестеренку с матово блестевшими зубцами; Сеня повертел ее в руках и отдал Павлу без единого слова. – Книжки теперь читаю, – продолжал Павел полувраждебно. – Умные есть книжки, про людей… Ах, да много всего накопилось.
– Книжки – это хорошо, – равнодушно ответил Сеня, откидываясь головой к стене.
– Вначале трудно было, да и руки болели… – Павел, обиженный странным невниманием брата, стал рассказывать тише, словно повторял только для самого себя, а Сеня продолжал скользить вялым взглядом по трактирной зале.
Немного поодаль от стойки, чтоб не глушить хозяйских ушей, раздвинулся во весь простенок трактирный орган. Молчавший, поблескивал он в сумерках длинными архангельскими трубами, тонкими пастушьими свирелями, толстыми скоморошьими дудами. Вдруг в нем раздался вздох, потом скрип валов, потом пискнула, выскочив раньше времени, тонкая труба, и наконец, собравшись с силами, он запел что-то тягучее и несогласное, что поют на ярмарках слепцы. Орган был стар; когда струя воздуха попадала на сломанный лад, беспомощно всхлипывало пустое место и шипящий жалобный ветер пробегал по всем трубам враз… Так лилась жестяная песня, и вся «Венеция», словно околдованная, внимала ей. Половые, заложив ногу за ногу, привычно замерли у притолок… Пасмурное небо за окном совсем истощилось и не давало света. Был тот сумеречный час, когда сами вещи, странно преобразясь, излучают непонятное белесое мерцанье.
Как будто раздвигались стены и освобождали взгляду то, что было ими до сей поры заслонено. Великое пространство, голубое с серым, с холмами и пологими скатами, лежало теперь перед Сеней. И Сеня ушел в него, бродил по нему, огромному полю своих дум, покуда изливался песней орган.
– Очень долго к ночной смене привыкнуть не мог – один раз и самого чуть машина не утащила! – слышит Сеня издалека. – Да ты что, спишь, что ли?
– Нет, нет… ты говори, я слушаю, – откликается Семён. Голос Павла, упругий и настойчивый, теперь все ближе.
– А уж этого нельзя, Сеня, простить…
– Чего нельзя?.. О чем ты? – вникает Сеня.
– Да вот как я в кислоту кинулся… из-за хозяйского добра-то! – голос Павла глух и дрожит сильным чувством.
– Кому, кому? – недоумевает Сеня. – Кому нельзя простить?
– Быхалову и всем им… Да и себе тоже, – тихо говорит Павел. – Гляди вот! – И показывает Сене свои ладони, на которых по неотмываемой черноте бегут красные рубцы давних ожогов.
Глаза Павла темны, губы его редко и четко вздрагивают. Снова Сеня чувствует свинцовую гору, надвигающуюся на него, – волю Павла. Он поднимается с места с тягучим чувством тоски и неприязни.
– Я пойду колбаски подкуплю, – неискренне объявляет он.
– Да мне не хочется… Ты уж досиди со мной! – говорит Павел.
– Да я и сам поесть не прочь. Еще в полдень ведь обедали… – Сеня фальшиво подмигивает брату и пробирается между столиками к трактирной стойке.
Орган все пел, теперь – звуками трудными и громоздкими: будто по каменной основе вышивают чудесные розаны, и они живут, шевелятся, распускаются и цветут…
Сеня подошел к стойке, за которой обычно стоял сам Секретов, неподвижный и надутый, как литургисающий архиерей, и указал на розово-багровую снедь, скрученную в виде больших баранок.
– Эта вот, почем за фунт берете? – спросил он, глядя вниз и доставая из кармана деньги.
– Эта тридцать копеек… а эта вот тридцать пять, – пересиливая орган, сказал женский голос.
Цена была высока. Ту же колбасу Быхалов отдавал за четвертак, да еще с прибавкой горчицы для ослабления лишних запахов. Сеня поднял глаза, и готовое уже возражение замерло у него на губах. Чувство, близкое к восхищению, наполнило его до краев.
Наступили полные сумерки, и в сумерках цвели бумажные цветы на стойке. А за ними стояла та самая, крикунья из гераневого окна… Облегало ее простое платьице из коричневого кашемира; благодаря ему резче выделялась матовая бледность лица, обесцвеченного в ту минуту скукой. Только губы, цвета яркого бумажного цветка, змеились лукавым смешком.
С глазами, раскрытыми на улыбающуюся трактирщицу, Сеня приблизился вплотную, забывая и брата, и первоначальную цель прихода. Полтинка, приготовленная в ладони, скатилась на пол, но он не видел.
– Это вы!.. – сказал он почти с восторгом.
– Как будто я… да. – Она его узнала, иначе не смеялась бы: ей был приятен Сенин полуиспуг.
– Я не знал тогда, что это ваш кот, – виновато сказал он и опять опустил глаза. – Я думал, вы за голубей боялись…
– Эй, малый! – смешливо окликнула соседняя чуйка. – Что же ты деньгами швыряешься? Как полтинку ни сей, рубля не вырастет.
Сеня нагнулся и поднял монету. В эту минуту орган хрустнул последней нотой и остановился. И вновь «Венецию» наполнил обычный трактирный гам и плеск.
– Не серчайте на меня… Ведь на коте отметки-то не было! – проговорил он с опущенной головой.
– Чего-с? – переспросил мужской голос.
– Фунтик мне, – не соображая, сказал Сеня.
– Чего фунтик? Гирьку, что ли, в фунтик? За стойкой, вместо Насти, теперь стоял сам Секретов, насмешливо постукивая по прилавку ножом.
– Нет, мне вот этого, – сказал Сеня, невпопад указывая на яйца.
– Яйца фунтами не продаем. Яйца мы десятками, – сухо поправил Секретов.
– Мне десяток, да, – сказал Сеня, ощущая себя так, словно катился под откос.
– Семнадцать копеек… Товар замечательный. Извольте сдачу… Сеня торопливыми глазами искал ту, из гераневого; ее уже не было. Казалось, весь трактир смотрит только на него и, изнывая от смеха, ждет, что еще выкинет этот потешный малый, набивающий карманы крутыми яйцами.
Когда он добрался до своего столика, брата уже не было. Он не дождался и ушел.
– Эй, земляк! – крикнул Сеня, не особенно огорчаясь уходом Павла. – А ну, получи с меня…
– Заплачено за этот стол, – мельком бросил половой, снова проносясь снежноподобным вихрем.
…Когда Сеня выходил на черную лестницу, по которой и пришел, «Венеция» зажигала огни; здесь и там вспыхивали газовые рожки. Позади снова загрохотал орган, но уже не жалобно, а вприпляс. Похоже было, будто развеселился на Сеню старик и пошел вкруговую, не стыдясь ни хромоты своей, ни обвисшего плеча.
XI. Сперва смеется Настя, а потом Сеня
Словно воды под ударом ветра, разволновалась Сенина душа. Неумолкающие круги, разбуженные первым восторгом, забегали по ее поверхности. Предчувствием любви заиграло Сенино воображение.
Теперь вечерами уже не к Катушину бежал Сеня. Едва запрут – закрытие лавки совпадало теперь как раз с наступлением темноты, – выбегал на осеннюю улицу, чтоб брести, куда поведут глаза, в надежде когда-нибудь повстречать свою Настюшу. Странно милы были ему головокружительное волнение мыслей о ней и ядовитая сладость бесцельных блужданий.
В том году как раз прогремели первые военные вести. Те, которым, как братьям, одну бы песню петь, стояли в больших полях друг против друга, засыпали чужую сторону железом, душили смрадом и уже много народу побили. Брали тогда и брили молоденьких, везли в самые погиблые места, где и земля-то сама, как воск, таяла и гнила стыдом. Тужились стороны, тужилось и Зарядье, посылая молодятину в пороховой чад…
Растеряв все свои ярославские румянцы, унылый и пьяный, выехал на фронт Иван Карасьев. Замело общей волной и Егора Брыкина, не успевшего и наследника по себе оставить. Выехал туда же и Пётр Быхалов с тайными намерениями. Он приходил прощаться к отцу и поцеловал его в жесткую щеку, а отец сказал: «Очистись, Пётр…» Тихо стало в Зарядье. В безмолвие, нарушаемое только звоном праздничных колоколов да похрустываньем жирных пирогов с вязигой, не доходили громы с далеких полей. Уже и до Сениной очереди оставался только год, а он и не думал.
…Была суббота. В зарядскую низинку моросило. Уличный мрак не рассеивался мутным светом убогих зарядских фонарей. Все дремало в предпраздничном отдохновении, когда Сеня вышел из ворот и привычно взглянул в окно противоположного дома, в гераневое. Огня в нем не было, и только Сенин глаз умел найти его в ряду других, таких же.
На тумбе сидел бездомный, с мокрой шерстью, кот. Сеня присвистнул на него, надвинул козырек на самые глаза и пошел вдоль переулка. Пальтецо распахнулось, тонкий сатин рубашки не защищал тела от пронизывающих веяний влаги, но это было приятно. Он уже миновал два переулка и проходил мимо бедноватой Зачатьевской церквушки, загнанной в самый угол Китайгородской стены. Где-то в колоколах свистела непогода. Всенощная отходила, – уже спускались с паперти невнятные подобия людей; их тотчас же поглощала ночная мгла. Внутренность церкви была трепетно и бедно освещена.
Сеня вошел.
Пели уже «Славу в вышних». Наступил тот промежуток в службе, когда в страхе потемок повергается на землю тело человеческой души. Смутное освещение немногих свечей не выпячивало на глаза назойливой церковной позолоты. На амвоне стоял дьякон, склоняя голову вниз, как во сне. Народу было мало. Вправо от себя, в темном углу, увидел Сеня Настю; он уже знал ее по имени. Она стояла, опустив голову, но вдруг обернулась, высоко подняв удивленные брови, и порозовела. По каким-то неуловимым признакам, может быть – биенью сердца, она догадалась о его присутствии.
Шло к концу. Уже давался отпуст, когда Сеня вышел на паперть. Там бежал дощатый заборчик, чуть не заваливаясь на тротуар. Прислонясь к нему, Сеня ждал. Проходившие мимо не замечали его: ближние фонари не горели. Сеня слышал разговоры прихожан.
Двое, борода и без бороды:
– Будто отца Василья-то к митре представили.
– Это что ж, дяденька, вроде как бы «Георгий» у солдат?.. Несколько минут совсем пустых, только ветер; потом старухи:
– Жена и напиши ему: куда мне безрукий? Я себе и с руками найду…
– Скажи-и пожалуйста!.. Наконец знакомые голоса:
– Нечистый-то ему и приказывает: ложись, говорит, спи! А Сергей-то Парамоныч покрестился, глянул, а перед ним пролубь… Он и отвечает: дак ведь это пролубь, говорит…
– А тот что?
– А бес-то и повянул весь. Сеня насторожился:
– …Так ведь вы, Матрёна Симанна, не видели!.. Две женщины, старая и молодая, подходили. Несмотря на мрак, Сеня сразу узнал свою. Настя шла дальнею от Сени, справа. С забившимся сердцем Сеня выждал, пока они приблизились совсем. Тогда он выступил из своего укрытия и пошел рядом. Старая – Матрёна Симанна – посторонилась было, давая пройти, но Сеня не собирался уходить, шел вместе, взволнованный и смущенный.
– Проходи, проходи, милый, – затрубила баском Матрёна Симанна, неспокойно приглядываясь к подозрительному молодцу. – Я вот людей кликну на тебя! – Она даже оглянулась, но никого не было кругом; из церкви Секретовы вышли последними.
Место здесь самое глухое – кондитерский оптовый склад, ящичное заведение, парикмахерская с подобающей вывеской: человек остригает голову человеку же огромными ножницами… Все это теперь закрыто на замок и отгорожено толстой стеною сна.
– Настя!.. – тихо позвал Сеня; многое хотел сказать, но все мысли, рожденные радостью этой встречи, уже слились в одном слове, и слово это было произнесено. Настя молчала, может быть, смеясь.
– Да отстанешь ли ты, мошенник, или нет?.. – загорячилась старая, пытаясь втолкнуться клином среди молодых. – Ишь какой напористый, – пыхтела она, отпихивая Сеню, отмахивая его, словно чурала, длиннющим рукавом салопа.
Сеня сперва как будто не замечал ее, потом обронил сердито:
– Ты погодь, старушка, не лезь. Что ты тут под ногами шариком вертишься?
– В самом деле, вы ступайте, Матрёна Симанна, позади. Троим тут очень трудно идти, – сказала Настя и впервые близко взглянула на Сеню. – Может, у него дело ко мне есть…
– Какое же, матушка, дело у ночного мошенника? – пуще затарахтела старуха. – Может, он убить нас с тобой хочет!..
– А ты веди себя кротко, не шуми, так и не убьет, – приказала Настя. – Я тебе за это… ну, одним словом, про скляницы твои рассказывать папане не буду!
Ей было и радостно, и чуть-чуть жутко; то и дело вынимала платочек из муфты, маленькой, как черный котенок, и терла зудевшие губы. Сеня шел рядом с ней, плечи их почти соприкасались.
– Так что же вам нужно от меня? – с опущенной головой начала Настя.
– Мне ничего от вас не нужно, – откровенно сознался он и даже приотстал на полшага.
Настя подождала его; игра казалась ей забавной.
– А… вот как! – и закусила губку. – Может, вы к папане в половые хотите поступить?
– Не-ет, – отвечал Сеня, готовый в любую подворотню вскочить от стыда за внезапную немоту свою.
Они уже прошли весь переулок, а еще ничего не было сказано из того, что думали они оба.
– Как вас зовут? – решился он наконец.
– Нас – Аниса Липатовна! – кинула Настя и с неожиданным раздражением обернулась к старухе: – Вы идите, тетя, домой. Скажите там, что к иконам осталась прикладываться!.. Ну, а вас как?
– Нас – Парфением, – резко сказал Сеня, удивляясь, кто дал ей эту власть – вести его за собой, как на веревочке.
– Что же вы замолкли совсем? Приятное что-нибудь скажите, раз уж на улице пристали… или какие у вас мысли про меня? – И, странно, это подергиванье веревочки доставляло Сене острое и неприятное удовольствие.
– Нет у меня никаких мыслей, – угрюмясь, отвечал Сеня.
– А зачем же вам голова дадена?
– Голова для понимания дадена, – из последних сил оборонялся он.
– Вот и слава богу… А я думала, орехи колоть. Они остановились у ворот Настина дома. Матрёна Симанна ушла вперед.
– Ну, спасибо вам за интересный разговор, – сказала Настя, готовясь отворить деревянную глухую калитку.
– Пожалуйста… ничего, очень рад, – с отчаяньем сказал Сеня и снял картуз; ярость раздразненного тела боролась с непонятной робостью.
– Теперь марш спать! – крикнула Настя. – Больше не подходите. Адью!.. – Она прихлопнула за собой калитку и исчезла.
Он все стоял, озадаченный и обозленный происшедшим. Непонятное слово хлестнуло его, как кнут. Мускулы лица перебегали жалкой улыбкой. Вдруг он срыву нахлобучил картуз и ударом ноги распахнул тяжелую калитку. Настя медленно уходила в воротах, – так медленно, как будто ждала чего-то, – не оглядываясь. Он догнал ее почти при самом выходе и больно, по-хозяйски, заломил ей голову назад. В следующую минуту не было ни холодных Настиных губ, ни растрескавшихся губ Сени: все слилось в один темный цветок.
– Пусти меня… – запросила Настя, обессиленная борьбой, прижатая спиной к стене. Голос ее был низок и томителен.
Сенина рука слабнула. Ярость и страсть уступали место нежности; Настя была гибка и хитра, она воспользовалась этим. Ловко извернувшись, она уже стояла в трех шагах от него, прямая и насмешливая, держа в руке сорванный с Сени картуз.
– Лови!.. – крикнула она и швырнула картуз вдоль ворот.
Тот, вертясь, описал дугу и звучно шлепнулся в лужу; сощуренными глазами Сеня проследил его полет.
– Ничего-с. мы другой купим. На картуз у нас найдутся! – сказал он осипшим голосом и обернулся.
Насти уже не было. Жалкий, как озябшая птица, мерцал посаженный в закопченное стекло огонек. Сеня вышел из ворот с пылающими щеками, остановился смахнуть грязь с картуза и вдруг засмеялся. Ночное происшествие представилось ему совсем по-другому, чем за несколько минут перед тем.
…Настю, пришедшую домой, встретил отец.
– Богомолкой стала? – подозрительно заметил он. – Старуха-то уж дома!
– Ботинок развязался в воротах, – сказала Настя.
– Тут к тебе подруга приходила. Приезжая. Я оставлял ждать, не осталась. Минуты три назад вышла.
– Какая она? – встрепенулась Настя. – Не Катя ли?
– Катя не Катя, а очень такая… играет, – неодобрительно заметил Секретов.
«Наверно, видела все, – думала Настя. – Она могла стоять там, за выступом стены, возле кожевенного склада… Бежать догонять, чтоб не проболталась?»
Она прошла к себе, поправила волосы перед зеркалом и тут заметила, каким неугасимым румянцем горело ее лицо. Оставшись наедине с собою, она подошла к окну и поочередно прижимала лоб и щеки к холодному потному стеклу.
XII. Катя
Настя не такого к себе в сердце ждала и даже удивилась Сене, когда вошел он. Но, значит, его и звало к себе в полусне цветенья девическое сердце, иначе не боялась бы, что с крыши упадет… Впрочем, все это было так неточно и неокончательно, что Настя промолчала на Катин вопрос о сердечных привязанностях.
Катя была единственной дочкой у зарядского торговца разным железным хламом; ей было двадцать три. Ясноглазую, пышноволосую и всю какую-то замедленную, Матрёна Симанна прозвала ее клецкой. После жмакинского происшествия Катя уехала к тетке на юг, но и там шалила, приманивала провинциальных женихов и вдруг на званом обеде отшлепала по щекам теткина мужа, который, несмотря на почтенность чина и возраста, сохранял излишнюю живость воображения. И вот в осеннее утро снова прикатила к отцу.
Она пришла к Насте на другой день после истории в воротах, вся шуршащая, дышащая незнакомыми Насте запретными духами, покорительница. Настя, выбежавшая отпереть, даже не узнала ее. Катя стояла на пороге, щурилась и улыбалась.
– Ну да, я, – утвердительно кивнула она. – Здравствуй, крошка! – и протянула руку в тугой перчатке.
Настя так и прыгнула на шею к подруге, но радость ее быстро поблекла.
– Ну, полно, хватит… – смеялась Катя, легонько отпихивая Настю от себя. – Разве можно так! Всю пудру смахнула… Ну, веди меня к себе.
– Вот сюда, за мной. Тут сундук стоит, я всегда коленки об него расшибаю… не зацепись!
Настя провела гостью через темный, с закоулочками, коридорчик и ввела к себе. Керосиновая лампа в фарфоровой подставке горела на комоде, бросая скудный свет из-под бумажного кружка. Катя обвела комнату любопытным взглядом и улыбнулась: в самых неприметных пустячках и подробностях светилась строгая, нетронутая чистота. Это впечатление усиливали цветы в банках, обернутых цветной бумагой, белые глянцевые обои, туго накрахмаленные занавески.
– Я очень рада, что застала тебя. – Катя сняла шляпку и пальто сбросила на спинку стула. – Тут можно?
– Ты садись, садись… Я повешу все! – хлопотала Настя.
– Не торопи, дай оглядеться. – В голосе Кати звучало сознание своего превосходства; она прошлась по комнате, трогая каждую Настину мелочь: повернула ключик в шкатулке, мельком заглянула в книжку на кровати… – A-а, грибок! – сказала она с легким смешком и повертела в руках деревянную бесполезную вещицу.
– Он открывается, я туда пуговицы кладу… – торопливо объяснила Настя, боясь, что подруга осудит ее именно за этот грибок; проходя мимо угла, Настя мимоходом затушила горевшую лампадку.
– Ты прости, что я не писала тебе. Все как-то некогда было. Ах, вот, кстати, и зеркало у тебя есть! – открыла она и пошла поправить волосы; они были, как и вся она, шуршащие и ленивые. – Вот теперь я сяду…
Шумя юбками, она опустилась на Настину кровать, и тотчас же гримаска сдержанного изумления обежала ее грешное лицо.
– Однако! – заметила она. – Ты что, в монашенки готовишься?
– Я люблю спать на твердом, привыкла… – засмеялась Настя, садясь на стул против подруги и пристально всматриваясь в ее лицо.
– Что так глядишь? – улыбнулась Катя.
– Ты красивая стала, – ответила Настя робко.
– Да? – и еще раз окинула себя быстрым взглядом. – Да и ты… выросла тоже. Только уж очень тонкая какая-то… – Катя искала, что еще можно похвалить в подруге, но мальчишеский задор Настина лица ей не нравился. – Нет, а ты, вообще говоря, хорошенькая! – с внезапным хохотом открыла она. – Ты не красней… право же, им такие нравятся! Только вот тут у тебя мало… – мельком указала она на грудь. – Знаешь, ты на Дианочку похожа. У греков такая была, помнишь?.. Ты ешь больше!
– Не говори мне так, – тихо попросила Настя. – Мне стыдно от твоих слов…
– А ты не стыдись. Папенька замуж-то еще не выдает?
– Я сама себе найду, – загоревшись, смутилась Настя.
– А может, уж и нашла?.. Какой-нибудь такой, а? – и подмигнула.
– Катя! – попросила Настя, присаживаясь рядом. – Закрой глаза… я спросить хочу. Ну, закрой…
– Закрыла… Ну?
– Ты вчера видела что-нибудь или нет?
– Нет, не видела. Я мимо прошла… Это в воротах-то? Нет, не видела.
Обе хохотали, белая комнатка повеселела, лампа стала гореть как-то ярче.
– А у тебя тут славно, – все еще смеясь, сказала Катя. – Ты в зеркало-то часто глядишься? Нет, тебе непременно надо больше есть. Глупая, чем ты ребенка-то кормить станешь? Ну, не буду, не буду! – Катя притворно испугалась помрачневшего Настина взгляда.
Вошла Матрёна Симанна.
– Кушать, Настенька, иди, – сказала она. – Папаня сердятся.
– Я потом, не хочу.
Старуха постояла еще с полминуты, потом резко вышла, хлопнув дверью.
– Матрёна Симанна! – крикнула Настя вдогонку. – Вы чего хлопаете… вон захотелось?
Шаркающие, нарочные шаги в коридоре разом стихли.
– Едят целый день, ровно в трубу валят, – сумрачно обронила Настя.
– Если ты и с мужчинами так, это хорошо! – деловито вставила Катя и поиграла кружевной оборкой рукава.
Торопясь, словно за тем и пришла, она стала рассказывать свои приключения последних лет; Настя слушала ее, вся пылая. Но, такой хвастливый вначале, все грустней становился Катин рассказ, и вдруг две продольные полоски обозначились на ее щедро запудренных щеках.
– Чего ж ты плачешь, глупая? – бросилась к ней Настя. – Значит, и у тебя жених есть!
– Он уже женился, – и поднялась. – Ну, прощай… у меня тоже папаша строгий.
– Ведь еще не поздно, – пыталась задержать ее Настя, чувствуя себя старшей в эту минуту.
– Нет, – и высвободила руку. – Проводи меня до дверей.
…Когда Настя разделась и юркнула в жесткую, холодную постель, была полная ночь. Она полежала минут десять, укрывшись с головой и старательно закрывая глаза; сон не приходил. Тогда она просто улеглась на спину, покорная мыслям, сумбурно скользившим в голове.
Вдруг она вскочила с кровати, прошла босыми ногами к комоду, нашарила спички и зажгла свечу. Из зеркала глянула на нее тонкая, с правильным мальчишеским лицом девушка, со свечой в одной руке, другой придерживающая сорочку, чтобы не соскользнула на пол. Обе – и та, которая в зеркале, и та, которая перед ним, – боязливо взглянули в глаза друг другу.
Девушка в зеркале была спокойна, стройна и строга в своей наготе.
Настя улыбнулась ей, та ответила тем же, но вся залилась краской и состроила презрительную гримаску. Настя повторила… С беззвучным смехом Настя подалась губами к зеркалу. Та угадала Настин порыв и тоже протянула Насте свои губы. Настя еще не хотела, но та уже поцеловала ее.
Вспугнутая соображением, что из противоположного дома могут подглядеть ее тайну, она задула свечу и отскочила от окна. С минуту она стояла в темноте, прислушиваясь к шорохам позднего часа. Крупный дождь колотился в окно, и звенело в ушах; больше звуков не было.
Она засмеялась, как в детстве лихой проделке. Зябко ежась, она влезла под одеяло, и тотчас же захлестнуло ее сном. Засыпая, все еще смеялась: сокровеннее всех тайн небесных – нетронутой девушки ночной смех.
XIII. Дудин кричит
Дымное, неспокойное небо, славшее неслышный дождь, ныне бесстрастно и ровно: поздняя осень.
В низине Зарядье стоит, и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь. Воздух дрябнет, известка размокает, сизыми подтеками украшается желто-розовый дом. И даже странно, как не потонул здесь городовик Басов за те сорок лет, которые простоял он на страже зарядской тишины.
Зимним уныньем веет отовсюду, но не нарушен им бег махового зарядского колеса. С утра Ванька открывает лавку, а Семён с подоткнутым фартуком отправляется за свою конторку. Зосима Васильича тронула проседь за последний год, и сам он пополнел: так оплывает догорающая свеча. Сквозь запотевшие окна видно Сене: пирожник Никита Баринов проплыл мимо с двухпудовым лотком на голове – с пирогами на потребу торгового верха. А Чигурин, человек незначительный в сравнении с Бариновым, потчует со своего угла прохожих круглым луковым блинком: сыты будут прохожие – сыта будет и жена его, Чигуриха, и семеро голодных чигурят.
…Снаружи – все по-прежнему. Все тот же грош маячит смутной целью, но приступило иное время: в погоне за грошом на бег и скок променяло Зарядье свой прежний степенный шаг. Тревожно и шатко стало, – кит, на котором стояло зарядское благополучие, закачался… Бровкин, быхаловский племянник, приехал с войны; бросилась к нему на шею жена, а целоваться-то и нечем: губы Василью Андреичу отстрелило немецким осколком вместе с зубами и челюстью. Воротился, полные сроки родине отслужа, Серёга Хренов, зарядский хреновщик; как и прежде, – цельный весь, больших размеров человек, только трястись стал.
…Вдруг городовик Басов помер. Еще вчера покрикивал с поста, а нынче другой, высокий и егозливый, на его место встал.
Всякая радость порохом стада отдавать, а как винишко отменили, и вовсе нечем стало скорбящему человеку душу от горя омыть.
К Быхалову в последний день осени, в последний час дня, забежал Дудин Ермолай за керосином. Следа не оставалось в скорняке от прежнего пьянства, зато весь каким-то черным стал: и пиджачок черненький, и сапожки черные, и в лице какой-то копотный налет. Одна голова торчала расщетинившимся седым ежом.
Даже посмеялся Быхалов:
– Чтой-то принарядился как? Не на войну ли собрался? Там и таким скоро рады будут!
– А и что ж! – заклохтал злым сиплым смехом Дудин. – Не все ли равно, в кого палять! В меня и стрелять-то хорошо. Как выстрельнешь, так и помру… и починки не потребую. Я сухой, без вони. Вот ты если, дядя Зосим, помрешь, так в один час душком повянешь!
– Ну-ну, я твоему пустословию не слушатель! – сердился Быхалов. – Ты, Дудин, известный шипун! Получай товар и отчаливай.
– Погоди, и вовсе отчалю… дай посмотреть, чем дело кончится. Эва, всё льют народную кровцу себе в наживу. Теперь уж не уймутся, пока не выжмут нашего брата досуха.
Быхалов тревожно машет на него руками, поглядывая вокруг, нет ли в лавке людей опасливых, а народ слушает, посмеивается, задорит:
– Кто ж это тебя прижимает-то, Дудин?
– Кто?.. Различные должностные лица.
– Ой, заберут тебя, Ермолашка!
– А и заберут, что со мной поделают? Ежли на колбасу пустить, так у скорняка и мясо-то с тухлиной. Я ни червя, ни царя, ни мухи, ничего не боюсь. А тюрьмы Дудин тоже не страшится… там и получше меня люди живут. Вот ты сынка своего оттолкнул, хозяин, а я преклоняюсь. Мне бы с ним за решеточкой-то посидеть, и я б ума набрался. О, кабы ум-то Дудину, – я б весь мир наискосок поставил. Ка-ак дернул бы за вожжу – стой, становись по-моему!.. – и, скомкав рубаху на груди, дергает с маху за вожжу воображаемую.
Его долго и надрывно треплет кашель; когда перестает, лицо у него измученное, детское, позывающее на жалость. Он рывком хватает керосин и бежит домой, чуть не опрокинув на пороге молоденького офицерика, входящего в лавку.
– Господин Быхалов… вы? – вежливо и сразу спросил тот, едва вошел.
– Господин не я. А Быхалов, Зосим Васильич, действительно мое имя, – вразумительно поправляет бакалейщик.
– Я от сына к вам… – И прапорщик подтянулся, точно рапортовал. – У вас есть сын, Пётр Зосимыч?
– Не ранен ли? – И лоб Зосима Васильича пробороздился морщинками.
– Как вам сказать, – замялся прапорщик. – Я бы попросил дозволения наедине с вами…
– Лавку запирать, – приказывает Быхалов. – А вас попрошу на квартиру ко мне. В скорлупе живем, прошу прощения.
Войдя в задние комнаты, Быхалов стал медленно снимать фартук и замасленную поддевку; потом придвинул гостю табуретку, предварительно обмахнув ее полотенцем.
– Грязь у нас везде… сало, – пояснил он, усаживаясь напротив. – Ну, какие же вы мне новости привезли?
Сумерки сгустились, оба сидели в потемках. Вдруг прапорщик понукающе подергал себя за наплечный ремень.
– Видите, дело совсем просто. Две недели назад…
– Постой, постой, чтоб не забыть! – перебил Зосим Васильич и, не вставая со стула, достал из-под кровати сверток. – Пётр тут в письме шахматную игру просил прислать Да бельеца пары две… Это вы и есть Иевлев? Он мне писал, что Иевлев в отпуск поедет.
– Никак нет, моя фамилия Немолякин, – торопливо поправил прапорщик. – Я с Иевлевым незнаком… и вообще боюсь, что шахматы им больше не потребуются.
– Иевлев-то, значит, не приедет? – оттягивая неприятные вести, прервал Быхалов. – А может, чайку со мной попьете? Я прикажу заварить…
– Нет, нет… – испугался гость, аккуратно выставляя ладони против Быхалова, – я спешу… Видите, предполагалась операция, военная операция, вы понимаете? Мы с вольноопределяющимся, то есть с сыном вашим, вышли вдвоем в разведку. Место очень, знаете, паршивое; названье Чертово поле… солдаты так прозвали. Ползем на брюхе… – Прапорщик потеребил огненный темляк шашки и неуверенно откашлянулся в папаху. – Налезаем – проволока, в три кола! Вот я вам сейчас чертежик нарисую, как дело было… Вот тут, извольте видеть, холмик небольшой, а тут – фугасное поле. Здесь – пулеметное гнездо, понятно? – сыпал прапорщик, указывая на неразборчивый мохнатый клубок. – Вот тут мы и шли… то есть ползли.
– Погоди, я газ зажгу. Ничего не видно, – тихо остановил Быхалов.
– Не зажигайте… прошу вас! – встрепенулся прапорщик и мгновенно спрятал книжку. – К тому же мне и бежать нужно!..
– А ты не спеши!.. – придержал его Быхалов. – У меня сыновей не каждый день убивают. Уж потешь старика лишней минуткой!
– Ничуть не бывало, ничуть не бывало! Я когда уезжал, Пётр Зосимыч в полном покуда здоровье был, – сказал прапорщик, и вдруг лицо его приняло выражение отчаянной решимости. – Нет, не могу, виноват!
– Чего не можешь-то, молодой ты человек? Ты все в жизни моги, раз в живых остался.
– Врать не могу, – мотая головой, простонал прапорщик. – Сына вашего все мы очень ценили за прямой, мягкий характер, а нижние чины души не чаяли… Вот и наказали перед отъездом, чтоб уведомил вас с возможной осторожностью!.. Пётр Зосимыч арестован в конце прошлого месяца: против войны солдатам высказывался. Но вы не расстраивайтесь пока: дело получилось двойное, и есть надежда, что пойдет оно в окружной, а не в военно-полевой суд… – и, вымахнув все начистоту, затеребил кончик наплечного ремня.
– Та-ак, – покачивался на табуретке Быхалов. – Вот и мягок, а упорен был: дотянулся до горькой чаши своей. Что ж, беги и ты… небось повеселиться охота в отпуску-то. Смотри, не бунтуй… скуплю поди на веревке-то висеть!
– Так что прошу прощения за печальное известие, – уже оправившись, держа папаху на отлете, поднялся прапорщик.
– Да, уж лучше бы ты мне дом поджег… Кому же мне теперь посылочку-то приспособить? Себе возьми, за услугу. Бери, неловко отказываться. Без креста, без пенья закопают, пусть хоть добрым словцом люди помянут…
Он пошел проводить гостя, цеплявшегося шашкой за ящики, кадушки и чаны, потом долго стоял у проплесневелой стены, сцарапывая с нее бугорки масляной краски. Казалось, жизнь свою тратил скупее всех, по копеечке, а на поверку выходило, что ничего на нее не было куплено.
– …Эх, Петруша, Петруша! – вслух сказал он, и лицо его сморщилось.
XIV. Один вечер у Кати
Они стали встречаться у Кати, вечерами, по истечении торгового дня.
Настя прибегала, закутанная в платок потемней, с черного хода, всегда раньше Сени; забивалась в угол и ждала. Неясные предчувствия грозных событий, копившиеся в воздухе страны, заставляли ее заранее искать опоры, а никого не было ближе Сени, сильного, дерзкого, готового постоять за себя. Встречи эти, довольно редкие вначале, происходили в присутствии Кати; чтоб не стеснять подруги, та писала письма или бренчала на гитаре, изредка справляясь о Настином самочувствии.
– Я понимаю, как трудно сейчас с женихами, но ты напрасно так волнуешься. Им и виду нельзя показывать, а то зазнаются… их вот здесь надо держать, – и казала сжатый кулачок. – Однако что ты нашла в нем, в этом кудряше из бакалейной?
– Не знаю… – шептала Настя, кляня себя за малодушье.
– Имей в виду, я могу и уйти… будто за орехами. Только мигни…
– О нет! – Ее глаза ширились испугом, а руки тискали вялые Катины пальцы.
– Я к тому, Дианочка, что ведь год его подходит… могут и в солдаты забрать!
– Молчи…
Сене тоже бывало не по себе в этой душной комнатке с горочными запахами, обставленной с показной купеческой роскошью, среди множества бесполезных и хрупких пустячков, единственный смысл которых, казалось, заключался в том, чтобы сковать естественную широту человеческих движений. Он становился застенчивым, злился, однажды пришел с гармоньей, рассчитывая этим заменить невязавшийся разговор; Катя сказала ему тогда довольно резко, что это не деревенские посиделки, и в городе надлежит вести себя пообходительней.
Иногда, в стремлении скинуть с себя Настин плен, он хвастался своими надеждами на будущее по окончании войны: хозяин все кряхтит, уж монахов зовет на задушевные беседишки… и в конце концов совсем не известно, Карасьеву или ему, Сене, стать наследником быхаловской фирмы. Он говорил отрывисто, полунамеком на счастье той девушки, которая согласится разделить его мечту; краска заливала Настины щеки, и сама Катя украдкой любовалась им в такие минуты.
В другие вечера он обращался к памяткам детства, где таились корни его презренья к городскому укладу; так рассказал он с маху одно самое давнее событие, какое помнил, и смысл его повести был таков:
Про 1905 год
…Бунт был. И приехали с вечера из Попузина сорок три мужика с подводами остатнее в уезде помещичье именье дожигать. Ночевало из них шестеро в Савельевом дому, главари. Ночь напролет, тверезые и темные, скупыми словами перекидывались бунтари. Боролись в них страх и ненависть. Речи их были скользки.
– На что ему земля! – сказал один, с грустными глазами. – Он небось и сам-то не знает, куда ее, землю-то, потреблять. Лепешки из ей месят, либо во щи кладут…
Другой отозвался, глядя в пол:
– Конешное дело, друзья мои! Мы народ смирный, мы на точке закона стоим. Нас не обижай, мы и помалкиваем. Каб, скажем, отдали нам земельку-то всю чохом, в полный наш обиход, мы б и молчок. А ему бы дом остался. Пускай его на поправку к нам ездит, мы не противимся.
Третий сверкал светлыми детскими глазами:
– Во-во! Воздухи у нас в самый раз хорошие! Дыши хочь все лето, и платы никакой не возьмем!..
Потом заснули ребятки на полатях, Пашка и Сенька, не слыхали продолжения разговора. Много ли их сна было – не поняли. Проснулись на исходе ночи. В тишине, одетые и готовые, сидели бунтари.
Крайний бородач царапал ногтем стол. Сосед сказал:
– Хомка… не корябай.
И опять сидели. Потом длинный худой мужик, попузинец, встал и сказал тихо, но пронзительно:
– …Что ж, мужики? Самое время!
На ходу затягивая кушаки, на глаза надвигая шапки, мужики выходили из избы. Савелий, отец, с ворчаньем шарил под лавкой топор и мешок: топор – рубить, мешок – нести… Пашка вскочил и стал запихивать в валенок хромую ногу. Сеню от возбуждения озноб забил, – так бывает на пасху, когда среди ночи встрепенутся колокола.
С буйным, веселым треском горел на горе свинулинский дом. Дыма и не было совсем; гулко лопались бревна, оттуда выскакивал прятавшийся в них красный огонь. Небо было ровно с грязнотцой, просвечивало серое солнце; воздух был какой-то настороженный. Тонким слоем снега белела ноябрьская земля.
На полпути к свинулинской усадьбе холм торчал. На нем, вокруг размашистой голой березы, замерло в пугливом любопытстве деревенское ребятье. Было ребяткам тревожно и радостно.
Вдруг запрыгал Васька Рублев, белый мальчонок, в отцовских стоптанных сапогах, забил в ладоши и закричал. Из ворот усадьбы, из самого огня, огромный и рыжий, вырвался племенной свинулинский бык. Ослепленно поводя рогами, он остановился и затрубил, жалуясь и грозя. Но в бок ему ударилась головня, метко пущенная со стороны. Тогда, облегченный болью и яростью, к запруде, где стояла когда-то сигнибедовская маслобойка, помчал он свое опаленное тело. Там, в последний раз пронзив рогами невидимого врага, он взревел, обрываясь в воду. Бурное, величественное мычанье донеслось до оцепенелых ребят; потом бучило поглотило быка.
…А через неделю наехали из города пятьдесят чужеспинников, с пиками и ружьями, под синими околышами, откормленные кони их беспрерывно ржали. При полном безмолвии взяли пятерых и отвезли судить, скрученных. А Евграфу Петровичу Подпрятову, да Савелью Рахлееву, да Афанасу Чигунову, как имевшим военные отличия, дали только по горячей сотенке розог, чтобы памятовали накрепко незыблемость помещичьего добра. Молча, с опущенными головами, стояли вокруг согнанные мужики. Голосить по мужьям боялись бабы, но чудился в самом ноябрьском ветре глухой бабий вой.
…И на всю жизнь запомнили ребятки, как натягивал и застегивал перелатанные портки на всем миру Савелий, плача от злобы, боли и стыда. Тянуло с поля мокрым снежком, а мать, босая, как была, выпрямленная и страшная, всю порку простояла на снегу… Кому ж тогда, как не городу, приходящему ночной татью, приносящему закон и кнут, грозил в потемках полатей Сеня негрозным отроческим кулачком?..
– С того-то отец мой Савелий и нищать стал, и к вину ударился. – Так заключил Сеня свой рассказ и, стесняясь, круто опустил голову. – Ничего, сочтемся!
– Я таких вот люблю, – вслух сказала Катя подруге. – Лихого ты себе выбрала, смотри – с лихим горя изведать!
– Любить не люби, а почаще взглядывай, – возбужденно засмеялся Сеня, заметив пристальный, оценивающий Катин взгляд.
– Зачем ты ногти грызешь? – резко спросила Настя у Кати.
– А тебе какое дело? – насмешливо возразила та.
– Есть, значит, дело. Ты вот… – И, склонясь к Катину уху, Настя укоризненно зашептала что-то.
– А как я на него глядела… да что с тобой? – громко обиделась Катя.
– Ну, не надо вслух! – Настя пугливо оглянулась.
– Да нет, я не понимаю… Украла я его, что ли, у тебя?
– Пойдем, Настя, я тебя провожу, – сказал Сеня и встал.
Они вышли, и оба торопились.
– Мне гадко у нее стало, она нехорошая… – говорила Настя уже на лестнице. – И мне не нравится, как ты сегодня говорил. Словно в театре как-то. За что ты городских ненавидишь? Ведь ты и сам городской! В городе и останешься…
– Почем знать? Ноне времена не такие. День против дня выступает, – неопределенно отвечал Сеня. – А вот насчет театра… это уж не театр, если кровь из отца течет. Тут уж, Настюша, драка начинается!
– Я и целовать тебя не хочу сегодня. У тебя и сейчас глаза красные, – сказала Настя тихо и пошла от него, не оглядываясь.
– Всегда глаза красны, коли правду видят! – крикнул ей Сеня вдогонку; потом подошел к стене и с маху ударил в нее кулаком. Мякоть руки расцарапалась шероховатым камнем до крови. «Вот она!» – вслух подумал Сеня, глядя на руку.
Это случилось в пятницу…
…А в субботу Сеня как-то нечаянно написал свой первый и последний стишок. Стоял и щелкал счетами, подсчитывая покупательские книжки. В голове своим чередом бежали разные думки, а среди них вплетались полузабытые стихи из какой-то катушинской книжки.
Оторвавшись от дела, он попробовал на память восстановить утерянную строчку, но получилось как-то совсем иначе. Так, строку за строкой, он придумал все стихотворение сызнова.
Холодея и волнуясь, он стоял над столбцом полуграмотных строк, перечитывал, открывая в них все новые прелести. Ему особенно нравилась концовка стихотворения: «Покой ангелы пусть твой хранят!»
XV. Катушин тоже закричал
…Совсем забыл Сеня Катушина.
Настя была для Сени – жизнь, смех, буйный трепет любовной радости. Катушин – уныние, безволие жизни, недвижность тишины. Тот давний поцелуй в воротах безмерно отдалил Сеню от Катушина. В такой же степени потянуло его к Степану Леонтьичу после первой размолвки с Настей.
В обед он поднялся по каменной лестничке наверх прочесть ему свои первые стихи. Приоткрыв дверь, он осмотрелся и не узнал сперва этой непривычно чистой, полуопустелой комнаты. Недобрым предчувствием сжалось Сенино сердце.
Коечка старика была задернута пологом. Не было обычной табуретки у окна, на которой сиживал с книжкой в праздничные дни Степан Леонтьич. Зато рядом с койкой сидела рябая баба и сонливо вязала чулок. Заметив Сеню, она просунула спицы между головным платком и виском и почесала там.
– Тебе что? – спросила она враждебным полушепотом.
– Мне Степана Леонтьича… – просительно сказал Сеня.
– Дверь-то закрой сперва, – заворчала баба. – Если по делу, так вот он тут лежит. – Она кивнула на койку, закрытую пологом. – Уж какие дела к мертвому!
В то мгновение из-за полога раздался короткий, глухой рывок кашля. Сеня подошел и бережно отвел полог в сторону. Катушин, еще живой, лежал там, свернувшись, точно зябнул, под крохотным квадратным одеяльцем из цветных лоскутков. Когда он перевел взгляд на Сеню, тот поразился тусклому спокойствию стариковых глаз. В поблекшем, мертвенном лице не было никакого оживляющего блеска, – может быть, из-за отсутствия очков.
– Здорово, Степан Леонтьич, – сказал Сеня и попробовал улыбнуться.
– Кто? – не узнавая, жестким, надтреснутым голосом спросил Катушин.
– Это я, Семён. Прихворнул, что ли, Степан Леонтьич?.. – Сене стало стыдно, что вот он – здоровый, а Катушин – больной.
– Да, – невыразительно сказал старик и порывисто сжался, точно коснулись его холодом. – Садись, гость будешь.
– Ты, паренек, посидишь тут? – спросила баба еще, залезая спицей себе за ворот. – Посиди, мне тут сбегать. Обряжать-то не скоро еще! – жестко и просто сказала она, складывая вязанье на выдвинутую из-под катушинской кровати корзиночку.
– Что ты, дура, мелешь… кого обряжать? – озлился Сеня, но баба уже ушла за дверь.
Сене вдруг стало жутко от наступившей внутри него тишины. Рвалась старой дружбы нить, ее не связать вновь. Притихший, но полный внезапного глубокого чувства, Сеня пересел к Катушину на койку. Ему хотелось быть в ту минуту ближе к старику.
– На табуретку сядь… не тревожь, – сухо сказал Катушин и подвигался под одеялом. – Руки гудут все!
Сеня покорно пересел обратно на табурет и уже боялся начинать разговор.
– Что-то не признаю я тебя, – продолжал Катушин. – Плохо стал людей различать… Все мне лица одинаковые стали.
– Я Семён… от Быхалова. Помнишь, ты меня грамоте учил, книжки давал. Я вот навестить тебя пришел, Степан Леонтьич.
– Помню, – без выражения сказал Катушин, – так ведь тот маленький был!
– Я вырос, Степан Леонтьич, – извиняющимся тоном произнес Сеня и смятенно стал стирать пятно с пола носком сапога.
– Не ширкай, не ширкай… – остановил Катушин и кашлянул разок.
Прежнего задушевного разговора не выходило.
– …По картузу в день – считай, сколько я их за всю жизнь наделал! – снова начал Катушин, и лицо его на короткое мгновение отразило тоску. – Картузы сносились, вот и я сносился… – Сеня заметил, что старик сделал движение под одеялом, точно махнул рукой. – Я тебя теперь помню. Ты забыл, а я помню… Я все помню! – Что-то прежнее, незабываемое промелькнуло в катушинских губах.
– Давно лежишь-то? Что болит-то у тебя? – неловко допрашивал Сеня.
– …Я тебе тут бельишко оставлю, не отказывайся. Подшить, так и поносишь! – продолжал вести свою мысль Катушин.
– Ну, поживешь еще! Спешить, Степан Леонтьич, некуда. Человеку сто лет сроку дано, – заторопился Сеня. – Это баба чулошная тебя так настроила. Я бы ее турнул, бабу, – право, турнул бы!..
– Бабу не тронь… она за мной ходит, баба, – поправил Катушин.
Сеня встал и отошел к окну. Он обмахнул рукавом запотевшее стекло и глянул наружу. Поздней осени гнетущее небо продувалось из края в край острыми холодными порывами. Настин дом казался безотрадно серым. Темные окна не пропускали чужого взгляда внутрь.
«Настя… она не знает, что я тут. Степан Леонтьич помрет. Меня возьмут в солдаты…»
– Паренек… – заворочался Катушин, силясь поднять голову с пролежанной подушки, – дай-кось водицы мне… на окошке стоит.
Старик пил воду, чавкал, точно жевал. Отпив глоток, он внимательно глядел в низкий, прокопченный потолок, потом опять пил.
– …Четвертого дня просыпаюсь ночью, а он и стоит в уголку, смутительный… дожидается, – сказал Катушин, откидываясь назад.
– Кто в уголку? – и невольно оглянулся в угол.
– Да Никита-т Акинфыч, дьячок-то мой… приходил. Я ему: ты подожди, говорю, деньков пяток. А он: что ж, говорит, догоняй, подожду.
– Это тебе мерестит, Степан Леонтьич, ты противься… – убежденно сказал Сеня. – Ты не верь. Это истома твоя.
– Никита-т истома? – строго переспросил Катушин. – Не-ет, Никита не истома.
Сеня не знал, что возразить. Он вспомнил: достал исписанный листок и вопросительно поглядел на старика.
– Я тут стишок написал, прочесть тебе хочу. Ты послушай, – и опять глядел с вопросом Сеня, но стариково лицо стало еще неподвижнее.
Не смущаясь этим, Сеня стал читать по листку, но в угасающих глазах старика были только испуг и обида, точно заставляли умирающего бегать за быстроногим.
– Я пойду лучше… – потерянно сказал Сеня и встал. – Прощай покуда, Степан Леонтьич!
…В тот же вечер Матрёна Симанна занесла ему в лавку записку. Тревожными словами Настя просила Сеню прийти в девять к воротам ее дома. Старуха так вся и струилась легчайшими насмешечками, покуда Сеня перечитывал записку.
– Что ж это вы, божья коровка, кривитесь так? – тихо спросил он, постукивая гирькой по прилавку. – Чему бы вам радоваться?..
– Да что, голубчик, какая у старушки радость! – храбро проскрипела Матрёна Симанна. – Старушечья радость скучная! А свадебке как не радоваться… всё на платье подарят. Мне бы черненького, белое-то уж и не к лицу!
…Неслись в сумерки зарядской низины тонкие снежинки, первые вестницы зимы. Сеня присел на тумбу; потом, чтоб провести время, он походил взад и вперед: Настя все не шла.
«Заболела? Тогда не звала бы. Помер кто-нибудь? Тогда к чему я ей!» – так метались мысли. Зловещий намек старухи как-то не дошел до сознания.
У ворот стоял лихач, его только теперь заметил Сеня. О чем-то догадываясь, Сеня с ненавистью поглядел на пустое сиденье лихачовой пролетки. А лихачу, видимо, было скучно…
– Разлюбезненькую поджидаешь? – спросил он с величественным добродушием и поворочался, как на оси, на ватном заду.
– Нет, барина твоего убивать пришел, – озлился Сеня.
– Занозистый! – определил лихач. – А разлюбезненькая-то не придет, – зубоскалил тот певучей скороговоркой. – Я ее даве с солдатом видал. На лавочке в Александровском саду любовь крутят!
– Это ты мамашу свою видал, – съязвил Сеня, отходя от ворот.
В ту минуту скрипнула дверца ворот.
– Ты давно тут?
Она озабоченно смотрела на него из-под приспущенного на глаза белого пухового платка. Черная прядка волос выбилась на бледную щеку. В смутном свете ночи и снежинок был тот локон как-то прощально смел.
– Куда пойдем?.. К Катьке, что ли? – шепотом спросил Семён.
– Не хочу к ней. Пойдем туда… – Она указала глазами в темноту улиц. – Ты знаешь… это его лихач!
Подхватив Сеню под руку, она потащила его в переулок, неясно пестревший снеговыми пятнами. Сзади слышались шаги. Настя почти бежала. Впереди тоже шел кто-то. Они остановились и приникли друг к другу в темном углу двух высоких каменных стен.
– Настя, – горячо зашептал Сеня, привлекая ее к себе, – неужто в самом деле замуж выходишь?.. – и он наклонился к ней губами, нежно и жадно.
– Погоди… дай людям пройти, – быстро и досадливо оборвала Настя, отстраняя его от себя. – Потом.
Двое проходили мимо. Молодой с любопытством вгляделся, а другой, постарше и побессовестней, даже сказал «эге». Еще не дождавшись, пока пройдут, Сеня губами нашарил ее губы под платком. Они были солоны, холодны и влажны.
– Ты плачешь? – догадался он.
– Лихача-то видел? – вместо ответа сказала она.
– А ты как решила?
– Папенька просил… Хочет дело расширять. Он объяснял, я не поняла… – случайно или нарочно избегала Настя прямого ответа.
Вдруг Сеня махом сорвал с себя картуз, провел руками по волосам.
– Что ж, добрая путь вам, Настасья Петровна! – размашисто сказал он. – Зерно к зерну, а рубль к рублю. Хозяйкой будете…
– Он меня в театре увидел… Стал цветы присылать. Папенька смеялся, а я не знала, – рассказывала Настя и притягивала за руку Сеню. – Ну, обними же!
– Ты мне так не говори. Я тебе себя самого в конверте прислал бы, каб знато было… – Сенин голос дрожал.
– Куда пойдем-то? – И сама указала в свистящее вьюжное пространство, за арку Китайских ворот.
Теперь они шли по набережной навстречу снегу. Ветер был в сторону города, городских гулов сюда не доносилось. Место тут глухое. Река стыла и замедляла течение черных и гладких вод. Как огромные латунные подвески, спускались в глубь ее отражения береговых фонарей.
Они оперлись на парапет ограды и глядели в воду. Сенины пальцы гладили сухое, холодное железо решетки.
– На свадьбу-то позови… Калошки там снять понадобится, тарелочку помыть!.. Кто он?
– Мне холодно, – зябко ответила Настя.
Снег усиливался, швы в кладке гранитных камней побелели. На Китайской стене гнулись облетелые стебли сорных трав и хилых березовых кустков, выросших там прихотью ветра.
– Фирму Желтковых знаешь? Вот… оттуда, – сказала Настя и повернулась к нему спиной.
– В лесу бы мне с ним один на один встретиться! – ответил Сеня.
– Что ж, убил бы, что ли? – недоверчиво повернулась Настя.
– Нет. А сжал бы, сколь силы хватит. Выживет – пускай живет, собачья отрава!..
– Ну вот, – эхом сказала Настя, – а я девочкой на Петю Быхалова рассердилась, что никого не убил… – Она кусала губы. – Тебя на войну-то не возьмут?
– А тебе что? Нехорошо чужой невесте о чужом заботиться. Ведь не любишь?
– Право, не знаю… Чудно как-то, – созналась Настя.
XVI. Стёпушка Катушин кончил земные сроки
Шапошник помер ночью, в час, когда Сеня глядел вместе с Настей на стынущие воды реки Москвы.
Сеня не навестил Катушина перед смертью, и теперь его мучило боязливое раскаяние, что не исполнил последнего долга перед стариком. Он не видался в этот день и с Настей, не выходил никуда. Он стал ленив, ему стало все равно. Ему казалось, что вода и воздух пахнут свежей сосновой стружкой, носят горьковато-пресный вкус; его тошнило от еды.
Лишь на другой день, вечером, Сеня вышел из дому и почти на пороге столкнулся с женщиной в белом пуховом платке. Он узнал ее и не сказал ни слова привета.
– А я к тебе шла! – Настин голос был решителен и тверд. – Хоть и навсегда шла… Все равно, не могу больше!
– Ходить, что ль, не можешь? – усмехаясь, спросил он.
– Дома не могу. Всю комнату цветами уставили. Уйти некуда…
– Возьми да выбрось, – равнодушно посоветовал Семён.
– Помолвка завтра… – еле слышно прибавила она. Он оттолкнул ее и хотел пройти мимо.
– Ты не надо так! – резким низким шепотом заговорила она, догнав его у начала катушинской лестницы; губы ее тряслись. – Этим, Сеня, не шутят. А узел завязался, давай вдвоем распутывать.
Опять снежинки крутились в потемках постоялого двора. Где-то в глубине его лениво ругались из-за места извозчики.
– Что ж мне-то распутывать! Я тебе не муж. Мать вот письмо прислала, чтоб женился. По хозяйству дома некому.
– На мне женись, – быстро решила Настя.
– Ты не к дому нам. Деревня, Настя, не город. Что в городе можно, того в деревне нельзя, – тихо сказал Семён. – Ну, пусти… Степан Леонтьич помер, я на панихиду иду.
– Я с тобой пойду. Зачем ты меня гонишь?.. По лестнице, как ни противился Семён, они поднимались рука об руку. Перед дверью, в темном коридоре, он остановил ее:
– Ты обожди. Я войду, а ты потом. Люди увидят, слух пустят.
– Пускай! – так же грубо, как и Семён, ответила Настя, нащупывая рукой холодную и липкую скобку двери. Она вошла первою.
Пахнуло на них не ладаном, а именно той самой сосновой стружкой, которая мерещилась Сене весь вчерашний день. Мастерская шапошника Галунова была сплошь набита зарядским старичьем: пришли проводить уходящего в век. Служба только что началась. Высокий, кривошеий поп от Николы Мокрого раздавал тощие свечечки, знакомые Сене. Рядом с Катушиным, одетым во все новенькое и дешевое, лежавшим с выпяченной грудью – не трудно мертвому блюсти человеческое достоинство, – шамкал псалтырь неизвестный лысый старик; когда переступал с ноги на ногу, скрипели его сапоги – скрипливые сапоги, новые. Читал он негромко, только для себя да для Катушина, изредка взглядывая на мертвого, чинно ли лежит, внимательно ли слушает горькие слова Давидовой печали.
На носу у чтеца сидели катушинские очки. Сеня догадался: пришел, а очки забыл… Ему и сказали: «Вот Степановы, – надень». Серебряное кадило кривошеего попа с жадностью пожирало катушинский ладан. Становилось сизо от дыма. Дьячок спешил, словно разбитая таратайка с горы. Стояла душная полутемь. Ее не одолевали три большие свечи, наряженные в банты из катушинской же сарпинки.
Сеня взял две свечи, для себя и для Насти, и прошел к окну. Настя встала рядом с ним и отвела платок с лица назад, точно хотела, чтобы все ее увидели. Это и было замечено, – дьячок, гнуся очередную молитву, обернулся назад и бессовестно разглядывал Настю. Сам он был исконный зарядьевец, и узнать что-либо про секретовскую дочку доставляло ему глубокое душевное удовлетворение.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64860646) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
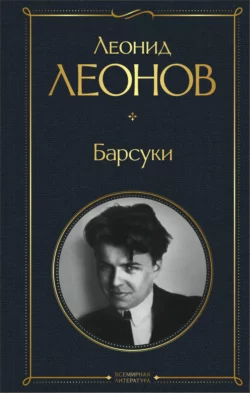
Леонид Леонов
Тип: электронная книга
Жанр: Советская литература
Язык: на русском языке
Стоимость: 269.00 ₽
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 13.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Барсуки» – первый роман выдающегося советского писателя Леонида Леонова – это крупное эпическое полотно, в котором изображено предреволюционное московское мещанство и драматические эпизоды революционной борьбы в деревне.