Роксолана. Страсть Сулеймана Великолепного
Роксолана. Страсть Сулеймана Великолепного
Павел Архипович Загребельный
Роксолана #2
Перед вами один из лучших романов о великолепном веке расцвета Османской империи, о Роксолане, украинской девушке и первой рабыне, которая смогла стать официальной женой султана Сулеймана Великолепного.
В книге рассказывается о самых ярких, интересных и драматичных годах жизни гарема, о женщине, которую многие историки представляют властной, жестокой и коварной обольстительницей!
Павел Загребельный
Роксолана. Страсть Сулеймана Великолепного
Сулейман I Великолепный (6 ноября 1494 – 5/6 сентября 1566) – десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года, при нем Оттоманская Порта достигла апогея своего развития.
Четвертой наложницей и первой законной женой Сулеймана Великолепного стала Анастасия (в других источниках – Александра) Лисовская, которую называли Хюррем Султан, а в Европе знали как Роксолану. По традиции, заложенной востоковедом Хаммер-Пургшталем, считается, что Настя (Александра) Лисовская была полькой из городка Рогатин (ныне Западная Украина).
Обольстительная красавица Роксолана подарила султану пятерых детей.
Книга вторая
Страсти
Кровь
От Ибрагима не осталось ничего, даже его любимых зеркал. Хатиджа не захотела взять ни одного, ибо каждое из них как бы хранило в своих таинственных глубинах бледное отражение того, кто опозорил ее царский род. Султанские эмины, которым велено было забрать имущество бывшего великого визиря в государственную сокровищницу, проявили интерес только к драгоценным оправам. Даже янычары, расположившись во дворце Ибрагима, вопреки своим привычкам, не стали бить зеркал, правда, не из суеверия, а скорее из трезвого расчета, потому что все это добро можно было отправить на Бедестан и распродать там хотя и за полцены, но все же получить при этом пользу большую, чем от вдребезги разбитого стекла.
Неожиданно из-за моря приплыло еще одно зеркало для Ибрагима. Уже для мертвого. У стамбульских причалов всегда было много зевак, которые встречали каждое судно так, будто надеялись, что оно принесет им счастливую судьбу. Посылал туда своих людей и Гасан-ага, желая без промедления получать вести, прилетающие с морскими ветрами. Вот так один из его Гасанов и узнал: на только что прибывшем венецианском барке привезено в дар Ибрагиму огромное зеркало. На этом барке приплыл в Стамбул посланный самим дожем Венеции Андреа Грити прославленный художник Вечеллио с несколькими своими учениками. Дож прислал своего любимого художника по просьбе сына Луиджи Грити, еще не зная о том, что сын его уже мертв, точно так же, как не знал о смерти великого визиря Ибрагима тот, кто посылал ему в дар редкостное зеркало.
Собственно, об этом зеркале и о художнике Гасан-ага немедленно известил свою повелительницу, опережая даже вездесущих султанских улаков доносчиков. Он переслал Роксолане краткое письмо и уже в тот же день получил от султанши повеление взять с барка зеркало и передать гаремным евнухам, чтобы те поставили его в кьёшк Гюльхане, обновленный Сулейманом для своей любимой жены во время ее последней болезни. О художнике Роксолана не упоминала, не интересовалась и тем, кто прислал Ибрагиму зеркало, но Гасан-ага и так знал, что когда-нибудь она может спросить и поинтересоваться, ибо была не только султаншей, а прежде всего женщиной капризной, непонятной и загадочной. Потому он должен был собирать сведения и об этом.
Зеркало было роскошное. Огромное, на полстены, в тяжелой золоченой раме, вверху у нее был вид стрельчатой арки, на которой летели два улыбающихся золотых ангелочка с оливковыми ветвями в руках. Кому принесут они желанный мир и принесут ли?
Зеркало украсило зал приемов в Гюльхане. Оно понравилось самому султану, но и Сулейман проявил сдержанность, достойную властелина, не спросив даже, откуда оно. Роксолана сказала ему о художнике, присланном дожем Венеции.
– Я уже знаю. Это Луиджи Грити попросил своего отца. Хотел, чтобы было как при великом Мехмеде Фатихе, когда Венеция тоже присылала в Стамбул своего самого знаменитого художника. Даже мертвый Грити оказывает мне услуги. Я обязан отомстить за его смерть, подобающим образом наказав венгров и этого коварного молдавского воеводу Рареша.
– Вы снова пойдете в поход, мой падишах? Ради какого-то мертвого купца-иноверца?
– Он был моим другом.
– Кажется, он был еще большим другом Ибрагима.
– Грити убит, когда он исполнял нашу высокую волю. Это преступление не может оставаться безнаказанным.
– Снова наказания и снова кровь? Мой повелитель, мне страшно. Не падет ли когда-нибудь эта кровь на наших детей?
– Это кровь неверных.
– Но все равно она красная. Людская кровь. Сколько ее уже пролито на земле! Целые моря. А все мало? Только и мыслей – как пролить еще больше? Ваше величество, не оставляйте меня одну в Стамбуле! Приостановите свой поход. Возьмите цветок в руки, как это сделал когда-то Фатих, и пусть этот венецианец нарисует вас, как нарисовал когда-то Фатиха его предшественник.
– Обычай запрещает изображать живые существа, – напомнил султан.
– Измените обычай, мой повелитель! Запрещать живое – не делает ли это людей кровожадными, преступно равнодушными к живой жизни?
– Чего стоит человеческая жизнь, когда имеешь намерение изменить мир? – торжественно промолвил Сулейман. – Виновен не тот, кто убивает, а тот, кто умирает. Враг врагу не читает Коран.
Роксолана смотрела на этого загадочного человека, не зная, любить или ненавидеть его за это упрямство, а он утомленно опускал веки, боясь посмотреть в глаза своей Хасеки, глаза такого непостижимого и недостижимого цвета, как и ее сердце.
– Прими этого живописца, – милостиво улыбнулся он, – для него это будет невероятно высокая честь.
– Он рисовал римского папу, императора, королей.
– Но никогда не имел чести разговаривать с всемогущей султаншей.
Роксолана засмеялась.
– Мой султан, эта почтенность меня просто убивает! Я больше хотела бы остаться беззаботной девчонкой, чем быть всемогущей султаншей.
Он тоже попытался сбросить с себя чрезмерную величавость, которая граничила с угрозой окаменения.
– И моему сердцу всегда милее смеющаяся и поющая Хуррем. Почему бы ей теперь не смеяться и не петь? Нет ни преград, ни запретов.
– А может, человек смеется и поет только тогда, когда есть преграды и запреты? Хочешь их пересмеять и перепеть, ибо как же иначе устранишь их? Радостью одолеть все злое.
– Я хочу, чтобы у тебя всегда была радость. Чтобы ты воспринимала радость как дар аллаха. И никто не смеет встать у тебя на пути. Ты должна принять венецианского живописца, может, тебе стоит принять и посла Пресветлой Республики, пусть увидят, в каком счастье и богатстве ты живешь.
– Баилы пишут об этом уже десять лет. Сколько же их сюда присылала Венеция. И все они одинаковы. Живут сплетнями, как женщины в гареме.
– Ты принадлежишь отныне к миру мужскому, – самодовольно заметил Сулейман.
– Слабое утешение, – горько улыбнулась Роксолана. – В этом суровом мире нет счастья, есть только пустые слова: слава, богатство, положение, власть.
Он нахмурился:
– А величие?
Она вспомнила слова: «И он упал, и падение его было великим», но промолчала. Только удивилась, что султан забыл сослаться на спасительный Коран, как это делал каждый раз.
– Вспомни, как мы принимали польского посла, – сказал Сулейман, – и как он был поражен, увидев тебя рядом со мною на троне, а еще больше когда ты обратилась к нему по-латыни и по-польски.
Роксолана засмеялась, вспомнив, как был обескуражен пан Опалинский.
– Я передал польскому королю письмо, где было сказано: «В каком счастье видел твой посол Опалинский твою сестру, а мою жену, пусть сам тебе скажет…»
– Нет пределов моей благодарности, – прошептала Роксолана.
– И моей любви к тебе, – тихо промолвил султан, – каждое воспоминание о тебе светится для меня в кромешной тьме, будто золотая заря. Я пришлю тебе свои стихи об этом.
– Это будет бесценный подарок, – ответила она шепотом, будто окутала шелком.
Прежде чем встретиться с венецианцем, Роксолана позвала к себе Гасана. Несмотря на свое видимое могущество, у нее не было другого места для таких встреч, кроме покоев Фатиха в Большом дворце, очень тесных среди этой роскоши, а теперь еще и запятнанных зловещей славой после той ночи таинственного убийства Ибрагима, которое свершилось здесь. Правда, было в этих покоях и то, что привлекало Роксолану, как бы возвращая ее в навеки утраченный мир. Рисунки Джентиле Беллини на стенах. Контуры далеких городов, фигуры людей, пестрая одежда, голые тела, невинность и греховность, роскошь и суета. В рисунках венецианского художника нашла отражение вся человеческая жизнь с ее долей и недолей. Чудо рождения, первый взгляд на мир, первый крик и первый шаг, робость и дерзость, радость и отчаяние, уныние будничности и шепоты восторга, а затем внезапно настигшее горе, падение, почти гибель, и все начинается заново, ты хочешь снова прийти на свет, который тебя жестоко отбросил, но не просто прийти, а победить, одолеть, покорить, добиться господства; теперь преграды уже не мелочные и никчемные, ты бросаешь вызов самой судьбе, судьба покорно стелется к твоим ногам, возносит тебя к вершинам, к небесам, – и все лишь для того, чтобы с высоты увидела ты юдоли скорби и темные бездны неминуемой гибели, которая суждена тебе с момента рождения, услышала проклятия, которые темным хором окружают каждый твой поступок. И восторг твой, выходит, не настоящий, а мнимый, и мир, которым ты овладела, при всей его видимой пестроте, на самом деле серый и невыразительный, и вокруг тьма, западни и вечная безысходность. Как сказано: «Где бы вы ни были, настигнет вас смерть, если бы вы даже были в воздвигнутых башнях».
Но это было в дни, когда она еще задыхалась от отчаяния, когда безнадежное одиночество и сиротство терзали ее душу, и она лихорадочно всматривалась в эти рисунки, будто в собственную судьбу, и, возможно, видела в них даже то, чего там не было, и только ее болезненная фантазия населяла этот разноцветный мир беззаботного венецианца химерами и ужасами.
Теперь проходила мимо них, не поворачивая головы. Могла разрешить себе такую роскошь невнимания, величавой скуки, уже не было пугливо раскрытых глаз – нависали над ними отяжелевшие веки, жемчужно твердые веки султанши над ее глазами. Ничто для нее не представляет никакой ценности, кроме самой жизни.
Сидела на шелковом диванчике, поджав под себя ноги, с небрежной изысканностью окутавшись широким ярким одеянием, терпеливо ждала, пока прислуга расставляла на восьмигранных столиках сладости и плоды, надменно следила, как нахально слоняются евнухи, на которых могла бы прикрикнуть, чтобы исчезли с глаз, хотя все равно знала, что они спрячутся вокруг покоев Фатиха, чтобы оберегать ее, следить, подсматривать, не доверять. Унизительная очевидность рабства, пусть даже и позолоченного. Гасана, как всегда, привел высоченный кизляр-ага, поклонился султанше до самой земли, не сводя с нее рабского взгляда, но из комнаты не уходил, торчал у дверей, хотя и знал, что будет с позором изгнан одним лишь взмахом пальчика Роксоланы. Но сегодня Роксолана была более милостива к боснийцу, подарив ему даже два слова.
– Иди прочь! – сказала ему ласково.
Ибрагим, кланяясь, попятился за дверь, чтобы притаиться там со всеми своими прислужниками, которых время от времени будет вталкивать в покои, чтобы те сновали там, напоминая ей о неутомимой слежке, о неволе в золотой клетке.
– Что в мире? – спросила Роксолана своего поверенного, кивая Гасану, чтобы сел и угощался султанскими лакомствами.
– Суетятся смертные, – беззаботно промолвил Гасан.
– Это видно даже из гарема. Расскажи о том, чего я не вижу.
Пока не хотела говорить ни о каких делах, искала отдыха в беседе, играла голосом, прихотливостью, беззаботностью.
– Почему же ты молчишь? – удивилась, не услышав Гасановой речи.
Хотя он был самым близким для нее после султана (а может, еще более близким и родным!), но Гасан никогда не забывал, что она повелительница, а он только слуга, потому его молчание не столько удивило, сколько встревожило Роксолану.
– Гасан-ага, что с вами? Почему не отвечаете?
А он продолжал молчать и смотрел через ее плечо, смотрел упорно, немигающими глазами, встревоженно или взволнованно, смотрел, забыв о почтительности, дерзко, будто, как и прежде, оставался наглым янычаром, а не был самым надежным доверенным человеком этой повелительницы.
Проще всего было бы, проследив направление его взгляда, самой оглянуться, увидеть то, что встревожило Гасана, посмеяться над ним, пошутить. Но простые поступки уже не подобали Роксолане. Если бы она была Настасей, тогда… Но Настаси не было. Исчезла, улетела с птицами в теплые края, и не вернулась, и никогда не вернется. И матуся не вернется, и родной батюшка-отец, и отцовский дом на рогатинском холме: «Закричали янголи на небi, iзбудили батечка во гробi. Вставай, вставай, батечку, до суду, ведуть твое дитятко до шлюбу».
Оглянуться или не оглянуться? Нет! Сидела, словно окаменела, на губах царственная улыбка, а в душе ужас.
– Гасан!
– Ваше величество, – прошептал он, – кровь… На стене…
– Разве янычара поразишь кровью?
– Это кровь Ибрагима, ваше величество, – сказал Гасан.
– Боишься, что эта кровь упадет на меня? Но ведь сказано: «Не вы их убивали, но Аллах убивал их…»
– Они нарочно посадили вас под этой стеной.
– Кто они?
Он совсем растерялся:
– Разве я знаю? Они все хотят взвалить на вас, ваше величество. И смерть валиде, и убийство Ибрагима, и смерть великого муфтия Кемаль-заде. Вы уже слыхали о его смерти?
Она снова привела слова из Корана – неизвестно, всерьез или хотела прикрыться шуткой:
– «…чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности».
А сама слышала, как в душе что-то скулит жалобно и отвратительно. Все здесь в крови – руки, стены, сердца, мысли.
– Ибрагим должен был убить султана, султан его опередил, а теперь они хотят взвалить все на вас, ваше величество, – упорно продолжал Гасан-ага.
– Мне надоели гаремные сплетни.
– Даже смерть Грити…
– Еще и Грити? И этого тоже убила я?
– Они говорят, что на молдавский престол Рареша поставили вы, а уже Рареш…
– …выдал венграм Грити, исполняя мою волю? Все только то и делают, что исполняют мою волю. И Петр Рареш точно так же. Этот байстрюк Стефана Великого. Он прислал подарок для моей дочери Михримах, для султанской дочери! Драгоценную мелочь, на которую только и способен был один из многочисленных байстрюков великого господаря[1 - Г о с п о д а р ь – титул правителей (князей) Молдавии и Валахии XIV–XIX вв.]. А знает ли кто-нибудь, что этот господарь Стефан когда-то был в моем родном Рогатине с войском и ограбил церковь моего отца-батюшки? И мог бы кто-нибудь в этой земле сказать мне, где моя матуся, и где мой отец, и где мой дом, и где мое детство? И на чьих руках их кровь?
Гасан молчал. Он проникался ее мукой, напрягался, страдая душой, готов был взять на себя все отчаяние Роксоланы, всю ее скорбь – так хотел бы помочь ей чем-то. Но чем и как?
– Ваше величество, я со своими людьми делаю все, чтобы…
– Зачем? Мои руки чисты! Пойди и скажи об этом всем. Я сама скажу.
Она вскочила на ноги, заметалась по коврам. Гасан тоже мгновенно вскочил с места, прижался к стене – кажется, в полуоткрытой двери промелькнула тяжелая фигура кизляр-аги. Дохнуло кислым запахом евнухов, невидимых, но ощутимых и присутствующих. Роксолана отбежала от стены с пятнами Ибрагимовой крови, остановилась, смотрела на эти коричневые следы смерти ненавистного человека, ощущала, как призраки обступают ее со всех сторон, недвижимые, будто окаменелые символы корыстолюбия и несчастий: валиде с темными резными устами; два великих муфтия с постными лицами и глазами фанатиков; пышнотелая Гульфем, набитая глупостью даже после смерти; Грити, который и мертвыми руками гребет к себе драгоценные камни; Ибрагим, который, щеря острые зубы, ядовито шепчет ей: «А что ты сказала султану? Что ты сказала?» Тень падает на тебя, хотя ты и безвинна. Достигла величия – и теперь падает тень.
– Я нашел того, кто прислал из-за моря зеркало Ибрагиму, – неожиданно сказал Гасан-ага.
Простые слова помогли Роксолане стряхнуть с себя наваждение. Призраки отступили, кровавые пятна на рисунках Джентиле Беллини утратили свой зловещий вид, казались следом небрежности художника, случайным мазком сонной кисти, непостижимым капризом веселого, а то и хмельного венецианца.
– Зеркало? – Она с радостью ухватилась за это спасение от призраков, терзавших ее и на вершине величия с еще большей яростью, чем в рабской униженности, которую познала в ту ночь, когда была приведена в султанский гарем. – Кто же этот благодетель?
Успокоившаяся, она возвратилась к своему шелковому диванчику, удобно расположилась, даже протянула руку, чтобы налить себе шербета из серебряного кувшина. Будто сойдя со стены, появилась неизвестно как и откуда служанка в прозрачной одежде, а за нею тенями подкрадывались евнухи и на самом деле казались бы тенями, если бы не было у них грязных, липких от сладостей пальцев, которые старались как можно скорее вытереть – один о шаровары, другой о тюрбан.
– Убирайтесь вон! – прикрикнула на них султанша.
Служанку удалила незаметным движением бровей, так, что даже Гасан-ага поразился ее умению.
– В том-то и дело, что он не является благодетелем, – сказал Гасан, отвечая на вопрос Роксоланы. – Это скорее любимец. Точно так же, как Ибрагим был душой и сердцем своего повелителя.
– Ты говоришь – был? Неужели его тоже нет, как и нашего грека? Мертвый послал зеркало мертвому, а я оказалась между ними. Велю убрать его из Гюльхане.
– Ваше величество, этот человек жив. И, кажется, плывет сюда, чтобы найти убежище, обещанное ему Ибрагимом.
– Объясни, – утомленно откинулась она на подушку.
– Его зовут Лоренцано. Он из рода Медичи, но не из тех, что обладают влиянием и властью в Италии, а из незнатных. Стал душой и сердцем флорентийского правителя Алессандро Медичи. Услышал, какой властью обладает Ибрагим над султаном, начал переписываться с греком, спрашивал советов, оказался способным учеником. Далее они уже состязались – кто достигнет большей власти над своим благодетелем. Потом стали следить, кто первым избавится от своего благодетеля, потому что любимцами становятся лишь для того, чтобы покончить – рано или поздно – с покровителями, устранить их и занять их место. На случай неудачи они договорились спасать друг друга. Когда же захватят власть, быть и дальше сообщниками во всем, пока не покорится им весь многолюдный мир – одному исламский, другому христианский.
– Говоришь страшное. Как мог узнать об этом?
– Ваше величество, письма. Я купил все письма, которые писал этот Лоренцано Ибрагиму. Грек не знал итальянского, давал читать своему драгоману, потом приказывал уничтожать письма. А тот продавал их великому драгоману Юнус-бегу, потому что Юнус-бег поклялся низвергнуть Ибрагима. Может, это он и открыл глаза султану. Теперь Ибрагим мертв, и Юнус-бег охотно продал мне письма. В последнем из них Лоренцано сообщает, что убил своего благодетеля во время охоты, но из Флоренции вынужден бежать, потому что власть захватить не сумел. Надеется на прибежище в Стамбуле. Еще не знает, что Ибрагим мертв.
– Где эти письма?
Он передал ей тоненький сверток в шелковом платочке.
– Так мало?
– Ваше величество, разве глубина подлости зависит от количества слов?
– Прими этого Лоренцано, и пусть живет здесь, сколько нужно.
– Его могут убить флорентийцы.
– Спрячь от них. А тех венецианцев, которые прибыли к Грити, приведи ко мне. Я приму художника. Где он живет? Во дворце Грити?
– Все имущество Грити забрало государство.
– А разве государство – это не я? Пусть откроют для художника дом Грити и обеспечат всем необходимым. Скажи, что это веление падишаха.
– Ваше величество, вы примете венецианца здесь?
– Нет у меня для этого другого места.
Гасан снова молча смотрел на стену за ее спиной.
– Боишься этой крови? Мертвых врагов не надо бояться. Их надо любить и всячески возвеличивать, ибо тогда наши победы над ними обретают большую цену. Пусть увидит этот заморский художник кровь. У жестокого султана султанша тоже должна быть жестокой!
– Ваше величество, зачем вы это делаете? Мир жесток, он не прощает ничего.
– А чем я должна платить этому миру? Смехом и песнями? Не довольно ли? Уже устала. Полетела бы туда, где родилась моя душа, но где крылья? Султан собирается в поход на молдавского господаря. Иди с ним. И дойди до Рогатина. Посмотри и расскажи. Ибо я уже туда попаду разве лишь мертвой или в молве. Султаншей не могу. Султанша ступает только по своей земле. А моя земля теперь там, где мои дети.
– Ваше величество, поверьте, что мое сердце разрывается от боли при этих словах.
– Ладно. Чересчур много слышишь от меня слов. Иди.
Пробыла в покоях Фатиха до наступления сумерек. Велела принести туда ужин. Ужин с ужасами и кровью. Содрогалась от непонятного предчувствия. Плакала, не скрывая слез. «Лишаю слiдоньки по двору, а слiзоньки по столу». Вслушивалась в голоса неведомые, незримые, таинственные, далекие, то едва ощутимые, словно шелест крови в жилах, то угрожающие, как кара небесная. Ждала отмщения за грехопадение, за чьи-то страдания, ибо ее страданий теперь уже никто не увидит – они исчезли, забылись, вокруг воцарились зависть и ненависть. И никому нет дела до ее болезненно обнаженной души, неведомые голоса, которые с ярой жестокостью добивались мести и кары, считали, будто по ее вине рушатся царства и по ее вине преступление расползается по земле, заполняя просторы, огнем и кровью покоряя времена.
Но разве не она восседает в центре этого преступного мироздания и разве не падает на нее кровавая тень величественного султана, на ложе которого она прорастала, будто молодая беззаботная трава?
Хотела бы в тот же день, в ту же ночь, не дожидаясь утра, привести сюда художника, схватить его за руку, притянуть к этой стене со следами убийства, крикнуть: «На крови нарисуй султана Сулеймана, нарисуй его на крови! Моей, моих детей и моего народа!»
Но встретила художника на следующий день сдержанно, в величавом спокойствии, вся унизанная драгоценностями, окруженная прислугой, евнухами, толпившимися в тесных покоях Фатиха.
Художник оказался человеком старым, утомленным и каким-то словно бы даже равнодушным, не присутствующим при деяниях мира сего. Никакого любопытства ни в глазах, ни в голосе, ни во всем виде. Быть может, весь уже воплотился в свои картины и ничего не оставил для себя?
Роксолана, смело идя на преступное нарушение обычая, приоткрыла тонкий яшмак, чтобы показать венецианцу лицо. Но и это не подействовало на художника, не нарушило его спокойствия. Тогда она, снова опустив на лицо яшмак, сказала почти со злорадством:
– Я не видела ваших картин. Ничего не видела. Не слышала также вашего имени, хотя мне и говорили, что вы довольно известный художник. Но наша вера запрещает изображать живые существа, поэтому ваша слава в этой земле не существует.
Он спокойно выслушал эти жестоко-презрительные слова. Казалось, ничто его не тронуло и не удивило, даже то, что султанша свободно владела его родным языком.
Роксолана слишком поздно поняла, что допустила ошибку. Если хочешь унизить достоинство художника, не обращайся к нему на его родном языке. Она должна была бы обратиться к венецианцу по-турецки, прибегая к услугам драгомана-евнуха. Но теперь поздно об этом говорить. Да и нужно ли было вообще унижать этого человека? Потом присмотрелась к его глазам и увидела: то, что казалось равнодушием, на самом деле было мудростью и глубоко скрытым страданием. Может, только художники острее всего ощущают несовершенство мира и потому больше всех страдают?
– Я сказала вам неправду, – внезапно промолвила Роксолана, – я знаю о вас много, хотя и не видела ваших картин, ибо мир, в котором я живу, не может ни понять, ни воспринять их. Более всего заинтересовало меня ваше знаменитое «Вознесение». Почему-то представляется оно мне все в золотом сиянии, и Мария возносится на небо в золотой радости.
– К сожалению, радости всегда сопутствует печаль, – заметил художник.
– Это я знаю. В церкви моего отца иконы «Вознесение» и «Страсти» висели рядом. Тогда я еще была слишком мала, чтобы понять неминуемость этого сочетания.
– Шесть лет тому назад умерла моя любимая жена Чечилия, – неожиданно сказал художник. – И теперь я не могу успокоить свое старое сердце. Рисовал дожей, пап, императоров, святых, работал тяжело, ожесточенно, искал спасения и утешения, искал того, что превосходит все страсти, искал вечное.
– А что вечное? Душа? Мысль?
– Это субстанции неуловимые. Я привык видеть все воплощенным. Вечным все становится лишь тогда, когда одевается в красоту.
– А бог? – почти испуганно спросила Роксолана. И тихо добавила: – А дьявол?
– Ни боги, ни дьяволы не вечны, вечен только человек на земле, хотя он и смертен, – спокойно промолвил художник. Сказал без страха, так, будто провидел сквозь годы и знал, что переживет всех: несколько венецианских дожей и римских пап, императора Карла и четырех французских королей, пятерых турецких султанов и эту молодую, похожую на тоненькую девчушку султаншу, потому что сам умрет только в день своего столетнего юбилея, оставив после себя множество бессмертных творений.
– Ваши слова противоречивы. Как может быть вечным то, что умирает?
– Умирает человек, но живет красота. Красота природы. Красота женщины. Красота творения. Если от меня останется для потомков хотя бы один удар кисти о полотно, то будет он посвящен женской красоте.
Впервые за все время их беседы загорелся взгляд у старого человека, и огонь его глаз был таким, что обжигал всю душу Роксоланы.
– Но сюда вы прибыли, чтобы нарисовать султана.
– И султаншу, – улыбнулся художник.
– Я еще не думала над этим. Моя вечность не во мне, а в моих детях.
– Я буду просить разрешения написать также вашу дочь.
– Только Михримах? А сыновей?
Художник не ответил. Снова спрятался за спокойное равнодушие. Роксолане почему-то захотелось поверить в это спокойствие. Может, в самом деле этот человек подарит величие и вечность хотя бы на то время, пока будет присутствовать здесь и рисовать султана, ее и маленькую Михримах.
Венецианец писал портрет Сулеймана в Тронном зале. Султан позировал художнику весь в золоте, на фоне тяжелых бархатных занавесей, а Роксолане хотелось бы затолкать Сулеймана в небольшую комнатку, разрисованную холодной рукой Беллини, который смотрел бы на мир словно сквозь светлые волны Адриатики, и поставить у стены, забрызганной кровью. «На крови нарисуйте его! – снова хотелось крикнуть Роксолане. – На крови! Моей, и моих детей, и моего народа!»
И венецианец, будто услышал этот безмолвный крик загадочно мудрой султанши, писал султана не в золотой чешуе, как это делал исламский миниатюрист, которого посадили рядом с неверным, чтобы не допустить осквернения особы падишаха джавуром, а в страшном полыхании крови: тонкий шелковый кафтан, бархатная безрукавка, острый рог колпака – все кроваво-красное, и отблески этого зловещего цвета ложились на острое лицо султана, на правую руку, державшую парчовый платок, на высокий белый тюрбан, даже на ряд золотых пуговиц на кафтане. Фигура султана четко вырисовывалась на темно-зеленом фоне тяжелых занавесей, она стояла как бы отдельно, в стороне от этого фона, вся в багровых отблесках, хищная и острая, как исламский меч. И Сулейман был весьма доволен работой художника.
Творение портрета султана принадлежало к торжественным государственным актам, поэтому в Тронном зале в течение всего времени, которое нужно было венецианцу для его работы, присутствовали Роксолана, новый великий визирь, безмолвный Аяз-паша, члены дивана, вельможи, челядь – нишанджии, хаваши, чухраи и дильсизы.
Когда же художник приступил к портрету султанши, то за его спиной не торчал даже кизляр-ага, лишь непрерывно слонялись евнухи, то принося что-то, то унося, так что порой Роксолане хотелось кшикнуть на них, как на кур, отгоняя будто мух, назойливых и настырных. Знала, что это напрасно. Евнухи всегда триумфуют. Жестоко окромсанные сами, они немилосердно и безудержно кромсают и чужую жизнь.
Словно бы понимая душевное состояние султанши, художник набросал на полотне очертание ее лица. Несколько едва заметных прикосновений угольком к туго натянутому холсту – и уже проглянуло с белого поля капризное личико, выпячивая вперед дерзкий подбородок, одаривая мир неуловимо-таинственной улыбкой, в которой обещание и угроза, хвала и проклятие, и не знаешь, радоваться ему или бояться его.
Этот рисунок стал словно бы свидетельством какого-то единодушия между ними. Он объединял их, хотя и неизвестно в чем. Еще не осознавали они этого, но чувствовали, что этот рисунок навсегда соединяет молодую всевластную женщину и стареющего художника с глазами, полными сосредоточенности и скрытой грусти.
Султан изъявил желание, чтобы Роксолана оделась в подаренное им после Родоса платье и украсила себя всеми драгоценностями. Быть может, он подсознательно почувствовал, что венецианец нарисовал его не в ореоле огней славы и побед, а в тяжелом полыхании крови, и теперь хотел отомстить художнику, заставив его изображать не живую султаншу, а ее драгоценности, сверкание бриллиантов, сочность рубинов, зеленоватую грусть изумрудов и розовую белизну жемчугов? Он и дочь Михримах тоже велел украсить драгоценностями так, что они сплошь затмили ее нежное личико. Чрезмерное богатство или бессмысленная прихоть восточного деспота? Но художник был слишком опытным, чтобы растеряться. Гений, как истина, сильнее деспотов. Художник пробился сквозь все драгоценности, обрел за ними лицо Роксоланы, проник в его тайны, раскрыл в нем глубоко затаенное страдание, горечь, боль и показал все в ее улыбке, в розовом оттенке щек, в трепете прозрачных ноздрей, в упрямом подбородке. В этом маленьком лице можно было прочесть жестокую беспощадность нынешних времен, стыдливую нерешительность будущего, горькую боль по навеки утраченному прошлому, которое не вернется никогда-никогда и потому так болезненно и так прекрасно! Поэт бы сказал: «Художник бровь нарисовал и замер…»
Так и придет Роксолана к далеким потомкам со своей горькой улыбкой, но не с картины прославленного венецианца, существование которой засвидетельствует в своих «Жизнеописаниях» лишь Вазари, а с гравюры неизвестного художника, который сделал ее с той картины. Портрет Михримах затеряется навеки, а портрет Сулеймана окажется в Будапештской национальной портретной галерее под инвентарным номером 438, точно султан уже после смерти возжаждал получить прибежище на той земле, которой причинил при жизни так много зла.
Барабаны
Султан снова был вдали от Роксоланы со своими дикими вояками, ошалелыми конями, смердящими верблюдами, с барабанами и знаменами.
Грохот барабанов заглушал живые голоса. Грохот холодный и мертвый, как железо. Трескучее эхо от красных султанских барабанов стояло над миром, оно впитывалось в землю, входило в ее могучее тело навсегда, навеки, чтобы снова и снова подыматься, рассеяться горьким туманом невинно пролитой крови, красной мглой пожаров, метанием зловещих теней убийц и захватчиков. В человека этот звук не проникал никогда, человеческим тоже не становился никогда – удары извне, истязания, истязания без надежды на спасение.
А барабаны, быть может, единственные в том мире чувствовали себя счастливыми. Бесстрашно и бодро бросали они призывы людям и векам, не зная ни старения, ни усталости. Они гремели в темноте и при солнце безжалостно, никого не жалея, никого не страшась, шли навстречу смерти.
Умереть, побеждая! Вперед! Вперед! Вперед!
Геройством можно превзойти все на свете. Это и есть наивысший пример не щадить себя. Чувство самозащиты чуждо и враждебно мне. Ибо я только барабан. Бей меня безжалостно, бей изо всех сил, бей яростно! Чем сильнее бьешь меня, тем больше я живу. Что должно погибнуть, уже погибло, и я родился из смерти животного, с которого содрали шкуру, чтобы я стал духом бесстрашия и храбрости. Возвещаю чью-то смерть, множество смертей, мой темный голос не знает жалости, ему чужды сомнения, торжественно и зловеще, понуро и страшно пусть звучит мой голос, гремит и гремит моя душа!
Роксолане хотелось кричать со стамбульских холмов в те дальние дали, куда снова пошел султан, на этот раз взяв с собой сыновей – Мехмеда и Селима: «Не верьте барабанам и знаменам! Не слушайте их мертвый голос! Их призыв – это кровь и пожары!»
Султан пошел через Эдирне и Скопле до самого побережья Адриатического моря, чтобы напугать Венецию. Как ни медленно распространялись тогда вести, но страшная весть об убийстве Луиджи Грити все же дошла наконец до венецианского дожа Андреа Грити. Тот тут же отозвал из Стамбула своего художника, не дав ему возможности написать сыновей султана, а теперь из чувства мести к Сулейману намеревался присоединиться к Священной лиге, возглавляемой императором Карлом, самым яростным врагом турецкого падишаха. Младших сыновей, Баязида и Джихангира, Роксолана не пустила в поход. Сменила воспитателя Баязида – сделала им Гасан-агу. Может, не без тайной мысли о том, чтобы хоть один из ее сыновей перенял что-то дорогое ее сердцу, ибо заметила, что прислушивался он больше к ее песням, чем к султанским барабанам. Да и были ли эти барабаны только султанскими? Еще недавно они хмуро молчали при появлении Роксоланы, но когда она вознеслась над гаремом и родила Сулейману четверых сыновей, встречали ее боем, хотя и тогда барабанщики – дюмбекчи – упрямо держали колотушки лишь в левой руке, словно подчеркивая непрочность положения султанши, иллюзорность ее власти. Теперь, когда она стала всемогущей и единственной, без соперников и врагов, дюмбекчи и тамбурджи били в барабаны обеими руками, толпы стамбульцев ревели от восторга, увидев раззолоченную карету Роксоланы, запряженную белыми могучими золоторогими волами. Так чьи же ныне барабаны, неужели только султана, а не ее тоже?
И должны ли прислушиваться к этим барабанам ее дети?
Пятерица
Одиночества еще не было, оно лишь маячило на горизонтах снов, еще только угрожающе, по-тигриному, подкрадывалось к молодой женщине, то и дело хищно ощериваясь, когда отбирали у Роксоланы сыновей и передавали их воспитателям, которых назначал сам султан. На первых порах не знала она одиночества даже во время затяжных походов Сулеймана, не замечала их за хлопотами и детьми. Но дети росли, постепенно отходя от нее все дальше и дальше, как отдаляются ветви от ствола, и тогда она поняла, что не может воспрепятствовать этому отчуждению, как не могла бы, скажем, насильственно остановить рост деревьев. Ведь и деревьям тоже больно… Видела, как в садах Топкапы садовники-евнухи подстригали кусты и деревья, как возились в зеленом кипении, неуклюжие и неповоротливые, будто старые огромные птицы, лязгали безжалостным железом с равнодушным наслаждением (какое непостижимое сопоставление!), с мрачной радостью оттого, что если и не лишают жизни вовсе, то уж укорачивают ее где только возможно. Подстригают ли деревья в райских садах? И есть ли на самом деле где-нибудь рай? Если нет его, то нужно выдумать, иначе не вынесешь тяжести этой проклятой жизни. Но если будет рай, то совершенно необходим и ад. Для сравнения. И для спора. Ибо все на свете имеет свою противоположность. Если есть повелители, должны быть и подчиненные. Рядом с властелинами должны жить бедняки. А она была и повелительницей, и страждущей одновременно. Ибо чем она завладела безраздельно и уверенно? Разве что неволей и этими садами над Босфором, окруженными непробиваемыми стенами, охраняемыми бессонными бостанджиями.
Султан снова был в походе, а она томилась в садах гарема, в глазах у нее залегла тяжкая тоска бездомности, жило в них отчаяние человека, брошенного на безлюдный остров. Но кто же мог заглянуть в эти глаза? Покорные служанки улавливали трепет ресниц, поднятие брови, движение уголков губ – все как когда-то у всемогущей Махидевран, все произошло, как мечталось когда-то маленькой рабыне Хуррем, все желания сбылись, даже самые дерзкие. Но стала ли она счастливее и свободнее?
Птицы трепетали на ветвях и перелетали в воздухе пестрыми лоскутами, легкие и нежные мотыльки, как муслиновые платочки, выпущенные из небрежных рук падишаха, тешили глаз повелительницы, красные букашки суетились, будто султанское войско перед вражеской крепостью, ящерицы грелись на солнце, извиваясь подобно молодым джари – одалискам, – для нее это все или для евнухов? Ведь всюду, куда ни глянь, евнухи, евнухи, евнухи: поправляют стены, подстригают деревья, чистят чешмы[2 - Ч е ш м а – источник, фонтан.], посыпают песком дорожки, срезают розы. Пока дети были маленькими, Роксолане казалось, что вокруг в самом деле райские сады – ведь их красота приносила столько радости этим нежным и беззащитным существам. Но дети росли и обгоняли свою мать, покидали ее в этих садах, а сами рвались на простор, тянулись к небесам, к этим чужим для нее, но родным для них османским небесам. В самом ли деле небо разделено между державами, как и земля, и есть небо родное, а есть чужое? И каждое государство имеет свое солнце, свою луну, свои звезды, облака, дожди, туманы и ветры? Дети отгораживали ее от прошлого навсегда, навеки, и уже никогда не вернется она домой, не сможет проникнуть туда даже ее неугасимая любовь к маме и сочувствие к отцу, ничто, ничто, останется она распятой между печалью и отчаянием, между сутью и проявлением, между вечностью и повседневностью. Когда беспомощной рабыней попала она в страшный гарем, были у нее тогда беспредельные запасы мужества, но не владела силой. Теперь была у нее сила, но мужество отобрали дети. Дрожала за них почти по-звериному, прикрывала собой, своим будущим, своей жизнью, пожертвовала для них душу, поменяла богов – одного отдала и забыла, другого взяла, пытаясь сделать своим (но сделала ли и сделает ли?), – и все ради детей. Дети рождались, и первое, что они видели, – это небо и море. Земля приходила к ним погодя, и была она безграничной. А жизнь? Бесконечна ли и она для них?
А какие же дети! Сыновья стройные, как кипарисы. Михримах в двенадцать лет ростом такая, как ее мать. Самый старший – Мехмед – почти султан, перенял от своего отца всю величавость, всю властность, всю надменность, так будто уже с колыбели готовился к власти. К власти или к смерти? Пока жив Мустафа, самый старший сын Сулеймана, сын хищной черкешенки, над сыновьями Роксоланы нависает угроза истребления. Султаном становится самый старший, а все младшие… От жестокого закона Фатиха не было спасения. Может, и дети чувствовали это уже чуть ли не с колыбели, и детство их заканчивалось в комнате их матери, ибо как только они переходили к своим воспитателям, становились как бы маленькими султанами, обучались торжественным жестам, величественной походке и словам, кичливости и высокомерию. Не знали настоящего детства, детских игр, друзей. Не могли поиграть в прятки, в херле-терле с деревянной палочкой, в длинного осла – узун ешек, не знали шутливых присказок «калач-малач», «кишмиш-мишмиш», «чатал-матал». Все вокруг них были только подданными и слугами, поэтому маленький Селим никак не мог поверить, что у него, как у обычного, простого мальчика, десять пальцев на руках, а для Мехмеда его воспитатель Шемси-эфенди нанимал за одну акча бедных мальчиков, чтобы султанский сын бил их, воспитывая в себе силу, мужество, ненависть к врагу. Для матери все они были неодинаковы, как и в годы их рождений. У Мехмеда после рождения на лобике появились волосы, приметы указывали, что будет с норовом, как конь, и будет придирчив к людям. У Селима были желтоватые глаза – должен быть хитрым, как шайтан. У Баязида родинка над пупком указывала на большое будущее мальчика. Джихангир родился крупноголовым, что говорило об уме. Михримах смеялась во сне, – очевидно, видела себя в раю, а Баязид по ночам плакал, может, видя кого-то из близких в аду.
Пятеро детей. Шестого, Абдаллаха, взяли к себе высшие силы сразу же после рождения, может, именно для того, чтобы утвердилось великое число пять: Мехмед, Селим, Баязид, Джихангир, Михримах. Пятеро детей, как пять сил, направляющих человеческую жизнь: властелин и народ, то есть власть и покорность; отец и сын – то есть отцы и дети; муж и жена – то есть мужчина и женщина; старшие и младшие братья – то есть поколения людские; наконец, друзья – то есть люди как таковые. В числе пять наиболее полно воплощена идея цельности как высшего проявления разнородности. Все распадается на части, но над ним слияние рек и морей – человеческая жизнь, единая и неповторимая.
Но видела она, что ее дети растут без друзей, и ничего не могла поделать. Замечала, что нет между ними братской любви, есть только соперничество и вражда, в конце которой маячила насильственная смерть, и не могла предотвратить этого. Ведь и сама она жила в этом ненадежном мире, где все было призрачным, таинственным и угрожающим: пышная торжественность, упорные моления, роскошь, золото, Коран, крики муэдзинов, грохот орудий, вопли янычар, страх, звон цепей, рев зверей, шепоты, суета и топот евнухов, загадочные слова, подслушивания, поклепы, затаенная вражда, предательство и насилие, насилие. Не потому ли у великого Навои первая поэма из его «Пятерицы» называется «Смятение праведных», в ней есть слова: «О ты, чью руку укрепляет власть, ведь путь твой ведет к насилию, насилие твое над людьми не уменьшается, но ты творишь его и над самим собою». Как это горько и как справедливо…
Пять, десять, пятнадцать лет жизни в гареме. Боролась за себя, затем думала только о маленьких своих детях, дни и ночи съедались бессонницей и хлопотами, ее время уничтожалось без остатка, теперь наконец могла оглянуться, распрямиться, вздохнуть свободнее, подумать о будущем своем и своих детей, снова появилось у нее время для совершенствования своего разума, время для книг, может, и для властвования. Появилось время? Ее удивлению не было пределов, когда обнаружила, что теперь времени еще меньше, чем тогда, когда заботилась о маленьких детях. Тогда события поторапливали, ветры подгоняли, какие-то незримые силы толкали вперед и вперед, и словно бы сами дьяволы подхлестывали тебя, решив во что бы то ни стало либо покончить с тобою, либо стать свидетелями твоего вознесения над душами низкими и ничтожными. Наверное, время обладает способностью уплотняться в самые напряженные периоды твоей жизни, когда же наступает расслабление, тогда невидимая пружина (а может, рука бога, – только ж какого бога?), которая с умной жестокостью сжимала все – и время, и события, и всю жизнь, – тоже расслабляется, и уже ветры не дуют, не поторапливают события, унимаются даже дьяволы непокоя, наступает тишина, ленивая разнеженность, никчемность, чуть ли не угасание. А поэтому для настоящего человека спасение только в напряжении, в вечном неудовлетворении достигнутым и сделанным.
Пятнадцать лет отдала своим детям, а чего достигла, чего добилась для них? Страх и неопределенность сопровождали рождение каждого из них, страх и неопределенность и далее нависали над ними. Пока над сыновьями Роксоланы возвышался их старший брат от черкешенки Мустафа, у Роксоланы не могло быть покоя. «В степу брестиму, як голубка густиму».
Султан не выражал своей воли. Держал всех сыновей в столице, не посылал никого в провинции на самостоятельное управление, не называл своего наследника, хотя от него ждали этого решения каждый день и каждый час. Ждала валиде, ждал великий муфтий, ждали янычары, ждали визири, ждала вся империя, и прежде всего ждали две жены: бывшая любимица Махидевран, отброшенная в неизвестность и унижение, и нынешняя властительница Хасеки, которая завладела сердцем Сулеймана, но отчетливо видела свое полнейшее бессилие перед жестокой судьбой. Что принесет судьба ее детям?
Перед смертью валиде вырвала у Сулеймана обещание послать своего старшего сына в Манису, в ту самую провинцию Сарухан, куда когда-то его самого посылал его отец, султан Селим, который был хотя и жестоким, но, как известно, справедливым, ибо оставил для своего сына трон. Маниса с тех пор стала первой ступенькой к трону для будущего падишаха. Провинция Сарухан не подчинялась анатолийскому беглербегу, она считалась как бы частицей султанского двора до тех пор, пока не сядет в ней будущий преемник высочайшей власти.
Сулейман пообещал матери послать Мустафу в Манису, но не успел выполнить свое обещание, валиде умерла, Мустафа сидел в Стамбуле, а Роксолана молила всех богов, чтобы султан изменил свое решение, но вмешался великий муфтий Кемаль-паша-заде, уже на смертном одре добился того, чтобы султан поклялся на Коране выполнить свой обет перед покойной матерью. И наконец свершилось: Мустафа со своими янычарами, с небольшим гаремом, с матерью, которая уже, наверное, предвкушала, как она станет когда-нибудь всемогущей валиде, торжественно выехал из Стамбула, чтобы сесть в Манисе, откуда его отец когда-то отправлялся к Золотому султанскому трону, таков обычай: откуда Османы пришли, туда и посылают своих наследников, чтобы они снова приходили только оттуда. Сорок тысяч дукатов годового дохода, самостоятельность и надежда получить престол вот что вывозил из Стамбула Мустафа, роскошный и чванливый, как его мать, длинношеий и солидный, как его великий отец. Если бы это произошло еще при жизни валиде, неизвестно, что было бы с Роксоланой, как перенесла бы это она и пережила, несмотря на всю ее твердость. Но теперь над Сулейманом не тяготела непостижимая власть султанской матери, он был свободен в поступках, мог позволить себе все, что может позволить правитель, вот и повел он свою Хуррем Хасеки к стамбульскому кадию в Айя-Софию и торжественно провозгласил ее своей законной женой. Старшего сына Роксоланы Мехмеда почти одновременно с Мустафой послали наместником султана в Эдирне, что не могло, разумеется, равняться с самостоятельным правлением в Манисе, но в то же время не лишало Мехмеда больших надежд, в особенности если учесть, что султан так до сих пор еще и не назвал своего преемника. Выжидал ли, который из сыновей окажется более ловким и смелым? Ведь только такие пробиваются к власти. Но как бы там ни было, Роксолана лишь теперь поняла, что самые большие ее страхи и терзания только начинаются. Смогла бы успокоиться лишь только тогда, когда бы ее первенец, ее любимец, ее Мемиш, принесший когда-то ей освобождение из рабства, спокойно сел в Манисе вместо Мустафы, пусть и не названный преемником трона, пусть и не возвеличенный перед всей империей, но все равно в надежде на возвеличение, ибо только из того далекого и загадочного города, в котором никогда не была, почему-то ждала счастья для себя и для своего сына. Но в Манисе в то время сидел Мустафа, а чтобы сместить его, нужна целая вечность, потому что в этом огромном государстве все делалось вопреки здравому смыслу: то, что нужно сделать немедленно, растягивалось на неопределенное время, а то, что могло быть даже преступным, исполнялось немедленно.
Пятерых детей родила она Сулейману. Пятерица. Будто пять внешних чувств человеческих: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание; будто пять чувств душевных: радость, гнев, желание, страх, горе; будто пять предназначений государства: законодательство, исполнение, суд, воспитание, проверка.
А будет ли счастье у ее детей? И была бы она счастливее, если бы родила султану десять или даже пятнадцать детей – по ребенку каждый год? Так, рассказывают, в Адильджеваге одна курдянка родила одновременно сорок детей – двадцать мальчиков и двадцать девочек, султан даже велел внести это выдуманное событие в летопись своего царства. Но если бы даже такое могло быть правдой, то разве счастье зависит от количества?
Снова и снова возникал перед глазами Роксоланы пик той вершины в Родопах, на который они взбирались с султаном и на котором не оказалось места для двоих.
Лишь теперь изведала Роксолана, что такое настоящее отчаяние. Ей не с кем было посоветоваться, не знала, у кого просить помощи. Пока была маленькой рабыней в гареме, ей могли и сочувствовать, теперь – разве что ненавидеть. Достигнув наивысшей власти, увидела, что достигла лишь вершины бессилия. Предназначение человека на земле – дать продолжение своему роду. Все остальное суета и выдумки. А она только того и достигла, что поставила своих детей под смертельную угрозу, и чем выше поднималась, тем большей была угроза для ее детей, ибо на этих высотах оставалась только власть, а власть не знает жалости.
Роксолана пришла в ужас, узнав о том, что Сулейман чуть было не погиб в походе. В Валоне, на берегу моря, куда пришел султан со своим войском (а шел туда лишь для того, чтобы испытать достоинства сераскера – своего нового зятя Лютфи-паши – мужа ненавистной Хатиджи), ночью в османский лагерь проник сербский гайдук Дамян, который хотел убить султана в его шатре. Гайдука выдал треск сухой ветки, на которую он неосторожно наступил. Серба изрубили янычары, султан уцелел, уцелела и Роксолана со своими детьми, в противном случае Мустафа первым прискакал бы из Манисы в Стамбул, сел бы на трон, и тогда – закон Фатиха, и месть осатаневшей черкешенки, и ее торжество. А какая женщина вынесет торжество соперницы? Уж лучше смерть!
Роксолана поскорее написала Сулейману полную отчаяния газель, которую хотела бы послать уже и не с гонцом, а с перелетными птицами, как Меджнун к своей возлюбленной Лейли:
Как трудно верить, что ко мне вернешься ты. Спасенья!
Дождусь ли я, чтоб голос твой услышать вновь? Спасенья!
Ища тебя, идя к тебе, я одолеть смогла бы
И даль глухих степных дорог, и черствость душ. Спасенья!
Миры немые страшно так в мой сон тревожный рвутся,
И, просыпаясь, я кричу в отчаянье: «Спасенья!»
Никто мне в дверь не постучит, лишь ветер зорькой ранней,
И стоном горестным к тебе взываю я: «Спасенья!»
Когда ж ревнивица-война тебя ко мне отпустит,
Прекрасного, как мир, как свет и тень? Спасенья!
Иль терпеливою мне стать, и твердою, как камень,
Или корой дерев сухих, бесчувственных? Спасенья!
Нет сил у Хасеки взывать, и призывать, и плакать,
И ждать, отчаявшись, тебя, о, мой султан, – Спасенья![3 - Перевод Ю.Саенко.]
Страх не за себя, а за детей своих водил ее рукою, когда ночью слагала эту газель для султана. Любила или ненавидела этого человека – не знала и сама, но молила всех богов, чтобы дарили ему жизнь, чтобы он был живой, и не столько для нее, сколько для ее детей.
Истинно: «Знайте, что ваши богатства и ваши дети – испытание…»
Столпы
Здания держатся на столпах, царство – на верных людях. У Османов никто не знал, кто кем будет, какая высокая (или, наоборот, никчемная) судьба его ждет, – и в этом была вся заманчивость жизни, ее открытость и доступность. Возможно, и это государство стало таким могучим из-за неведения людьми своего назначения. Ибо у каждого неограниченные возможности, каждый мог дойти даже до звания великого визиря, лишь бы только сумел первым крикнуть: «Велик аллах!», первым взмахнуть саблей и оказаться на стене вражеской крепости. Надежда и отчаяние, наслаждение успехом и предчувствие катастрофы, голос здравого смысла и почти дикое неистовство страстей, трезвый ум и фантастические капризы судьбы – все это, казалось, было незнакомым и чуждым османцам, которые жили только войной, не зная никаких отклонений, ни единого шага за ее пределы, будто имели шоры уже не только на глазах, но и в сознании. О войне вспоминали, жили ею, она наполняла все их существование и мысли, разговоры, сны и бессонницу. Знали, что для войны прежде всего необходима неудержимость, отчаянная, безрассудная храбрость. И каждый раз проявляли ее с таким исступлением, что могло показаться, будто это уже и не человеческое мужество, а звериное безрассудство.
Но при этом знали, что всегда над ними стоит султан и все видит и по достоинству вознаградит храбрых, поставив самых отчаянных на место ленивых, ибо всех можно заменить, кроме самого себя. К власти пробирались не умелые и опытные, и даже не богатые, а смелые, ловкие и дерзкие.
После Ибрагима великим визирем был назван арбанас Аяз-паша, человек, который не мог связать двух слов, зато в битвах был всегда первым, громче всех выкрикивал «Аллах великий!», а саблей мог перерубить надвое коня со всадником на нем и самую толстую пуховую перину. Этот человек состоял, собственно, из одного лишь туловища. Это впечатление усиливалось оттого, что Аяз-паша носил широкие шаровары, в которых полностью утопали его коротенькие ножки. В мощном, как каменный столб, туловище Аяз-паши было столько звериной силы, что он растрачивал ее на все стороны с неутомимостью просто зловещей: в походах не слезал с коня, в битвах не знал передышки, в диване мог заседать месяцами, так, будто не ел, не спал; гарем у него был самый большой в империи, и детей от наложниц и жен насчитывалось у него свыше сотни. Став великим визирем, он попросился на прием к султанше, и она милостиво приняла его в новом кёшке Гюльхане на белых коврах, усадила великого визиря напротив себя, велела принести даже вина. Сев, Аяз-паша почти не уменьшился, торчал перед ней столбом, тупо смотрел на нее, что-то говорил, но что именно, Роксолана не могла понять.
Она сказала Аяз-паше что-то ласковое, попросила его говорить спокойнее, но он забормотал еще неразборчивее, и тогда султанша велела слугам принести письменные принадлежности для великого визиря. Пусть он напишет все, что хотел сказать, чтобы она могла прочесть, и не одна, а с его величеством падишахом, да продлит аллах его тень на земле.
Арбанас схватил перо и, разбрызгивая голубые чернила, прорывая дорогую шелковую бумагу, стал царапать свои каракули так же быстро, как говорил, и когда протянул лист султанше, то она не увидела там ни букв, ни письма, а одни лишь извилистые гадючки, которые ползли наискось по бумаге, цеплялись одна за другую, стараясь проглотить одна другую или хотя бы откусить хвост.
– Хорошо, – улыбнулась Роксолана растерянному Аяз-паше, – мы прочтем это с его величеством. Как сказано: «Аллах дает знать человеку через писчий тростник то, чего он не знал».
Когда она рассказывала Сулейману о великом визире и показала его мазню, султан сказал:
– Я знаю о нем все. Может, именно такой человек и нужен для царства. Он и на самом деле дурак, зато верный и неподкупный. А сказать тебе хотел, что именно он с великим драгоманом Юнус-бегом свалил Ибрагима, разоблачив его подлое нутро.
– Разве это не вы, мой повелитель, без чьей-либо помощи вовремя раскрыли преступные намерения Ибрагима?
– На меня нашло ослепление. Но мне открыли глаза.
– Вы просто слишком долго терпели подле своей справедливой и светлой особы этого темного человека, напоминавшего фракийского царя Диомеда, который кормил коней человеческим мясом. У Аяз-паши нет никаких особых заслуг. Разве можно в государстве, где много умных людей, допускать, чтобы великими визирями становились негодяи или глупцы?
– А как найти умных, как? – понуро спросил султан.
Старого Касим-пашу султан все же отпустил на отдых, а вторым визирем взял румелийского беглербега Лютфи-пашу, которого женил на сестре Хатидже, чтобы не печалилась по Ибрагиму. Лютфи-паша, в противовес Аяз-паше, был человеком знающим, это был воин и дипломат, обладал безудержным нравом как в битвах, так и в пороках, любил мальчиков, ненавидел женщин, когда впоследствии стал великим визирем (Аяз-паша умер от мора), велел вылавливать в Стамбуле неверных жен и вырезать им бритвой то, о чем стыдно и говорить. Хатиджа назвала мужа бесстыдником, и он избил ее. Узнав об этом, султан нагим посадил Лютфи-пашу на осла и велел вывезти за ворота Стамбула. Много лет проведет он в изгнании в приморском городе Димотике и напишет там Османскую историю и «Асафнаме» – книгу о должности великого визиря.
Место Лютфи-паши займет евнух Сулейман-паша, которого султан вызовет из Египта. Сулейману-паше к тому времени было уже восемьдесят лет, был он мал ростом, но отличался большой храбростью и еще большей тучностью. Был таким толстым, что самостоятельно не мог встать с постели – его снимали четверо слуг. Сулейман-паша был лют, как все евнухи, с его появлением в диване все забурлило и заклокотало, как в котле с шурпой, евнух покрикивал на всех визирей и чуть ли не на самого султана. А султан лишь загадочно улыбался, слушая перебранку в диване. Визири дополняли в нем то, чего он был лишен от природы. Считал, что наделен только всем высоким, а лишен низкого. Был главой царства, которая всегда в небесах и в облаках. Визири же должны быть ногами, которые глубоко погрязли в повседневности. Было уже когда-то, когда одного из них попытался поднять до своей высоты, а что из этого получилось? Ибрагим замахнулся на самую высшую власть, и его пришлось убрать. Ибрагиму боялись перечить, поэтому все дела решались иногда с излишней торопливостью, отчего постепенно исчезало необходимое спокойствие в государстве и над всем нависала какая-то непостижимая угроза. Ибрагим набрался наглости говорить и писать: «Я сказал», «Я решил», «Я считаю», тогда как такое право имел только султан, ибо лишь он один является личностью, все остальные безликая толпа, подчиненные, подданные, рабы. Никто не имеет права говорить: «Я думаю», «Я требую», «Я прошу», «Мне нужно». Можно говорить: «Есть мнение», «Мы просим», «Нужно». Только тогда человек может быть спокойным, потому что никто не обвинит его в случае неудачи. Виновны будут все, следовательно, никто. Также никогда не нужно торопиться с решениями, и чем больше грызутся в диване визири, тем лучше для империи, ибо все в конце концов должно зависеть от султана. Решительность нужна лишь при штурме вражеских крепостей и могильщикам, которые должны точно знать, где рыть ваши могилы, ибо у могильщиков и у тех, кто проливает кровь, единый покровитель – Каин, который, как известно, без колебаний убил родного брата.
Из жизни была устранена какая бы то ни было возможность личного существования. Империя – это Топкапы, и Топкапы – это империя, а над ними султан с неограниченной властью, которая исключала даже мысль о частной жизни подданных. Никто не принадлежал себе ни в постели, ни в могиле. Султанский диван не составлял исключения, потому что визири были подняты лишь над простым народом, а не над султаном, были столпами, на которых держался Золотой трон падишаха, мертвым деревом, мертвым камнем. Вот и все. Леность, тупость и страх наполняли души визирей, и они трепетали перед султаном. Но ведь мог же султан взять себе и умного помощника, чтобы еще больше напугать глупцов?
Никто этого не знал.
Руины
Султан снова перемеривал просторы со своим гигантским войском, наполнял недра небес грохотом барабанов, славы и власти, величием своим, повергал в ужас врагов и самого Марса. Он брал просторы, как женщину, он насиловал их, весь мир вокруг него должен был служить лишь орудием кары или наслаждений. Женщины не составляли исключения: «Дай нам от наших жен и потомства прохладу глаз…»
Маленькая Хуррем была такой сильной личностью, что он поневоле вынужден был признать существование рядом с собой еще кого-то. Первым желанием было – устранить, уничтожить. После первой ночи, проведенной с маленькой рабыней, попытался не думать о ней, забыть, но с ужасом, а затем и со сладким удовольствием убедился в тщетности своих усилий, пронеся голос удивительной девушки по безбрежным просторам славянских земель, которые отныне должны были стать османскими. Теперь уже не был единственным и одиноким на этом свете, где все должно было служить лишь удовлетворению его прихотей, желаний и надежд. Был еще человек, – это потрясло, удивило, вызвало раздражение, а потом наступила какая-то расслабленность и даже растроганность, так, будто отныне он тоже принадлежал не к заоблачным небожителям, а к обыкновенным людям. Люди еще не рождаются настоящими людьми, ими они могут или не могут стать. Это великая наука, постичь которую удается далеко не всем. Если бы кто-нибудь сказал Сулейману, что эта женщина переменила его, хотя бы в мелочах, султан лишь мрачно улыбнулся бы. Изменять мир и людей мог только он, сам упрямо оставаясь в своей высокой неприступности. В его крови жил голос сельджуков, извечных кочевников, которые со своими отарами и табунами прошли полмира, и этот голос, голос крови, гнал его дальше и дальше, и он не мог усидеть даже в своей огромной столице, в своем роскошном дворце, возле жены, ставшей самым дорогим существом на свете, потому что она внесла в его жизнь то, чего он сам не имел, – сердце, душу, страсть и даже – страшно и странно промолвить – любовь. Он, который знал только силу, испытал радость любви, и не того животного чувства, которое замыкается в темных океанах плоти, а неуловимого и незримого, будто сотканного из небесных золотых нитей, навеки привязавших его к этой непостижимой женщине, к ее голосу, к ее глазам, к ее рубиновой улыбке. Когда после покушения на его жизнь получил от Хуррем полную тревоги газель, он написал ей в ответ свою газель, начинавшуюся словами: «Пусть твой рубин от бед меня спасает». Он имел в виду не тот рубин, который носил на своем тюрбане, а рубин ее бессмертной улыбки. Верил, что будет жить, пока живет на ее устах таинственная улыбка. Еще писал своей султанше: «Не дождусь, чтобы увидеть тебя, прекрасную, как божья мудрость».
Но сам был тем временем далеко и возвратился с войском, так ничего и не завоевав, уже поздней осенью, чтобы сразу же объявить новый поход против молдавского господаря Петра Рареша. Куда, зачем? Снова аисты в болотах и войско на дорогах? Чем больше захватывал султан земель, тем больше изнурял государство, так как война всегда стоит дороже, чем предполагаемая добыча от нее. Его слух полнился дурными вестями, которым не было ни счета, ни конца: то засуха, то ливни, то чума, то недород, то падеж скота, то кто-то убит, то кто-то где-то взбунтовался, то восстали племена, то изменил какой-то паша. Но какое до всего этого дело султану, над которым – целое государство! И он снова и снова отправлялся в походы, спасался в этих походах от всех мыслимых бед, страдал каждый раз от разлуки с Хуррем, но в то же время испытывал от этого необъяснимое удовольствие, потому что разлуки были подобны горькому дыму от опиума, они опьяняли, одурманивали и каждый раз обещали непостижимую сладость встречи, когда Хуррем шла к нему, играя своей рубиновой улыбкой, а под тонким шелком ее сорочки круглилась грудь, будто два больших теплых голубя. Вот так начинался когда-то мир, и так будет начинаться он вечно!
Роксолана знала, что султан снова и снова будет ходить в походы, ведь он принадлежал не самому себе, а лишь какой-то темной и дикой силе, называвшейся Османским государством, но почему же так быстро он покидает столицу, только что вернувшись из похода? Задержать его она не могла, бессильными были тут все газели, сложенные величайшими поэтами мира, потому спела султану ночью, когда остались вдвоем, свою песню, поймет или не поймет, зато услышит: «Привикайте, чорнi очi, сами ночувати: нема ж мого миленького, нi з ким розмовляти. Нема ж мого миленького, рожевого цвiту, ой, нема з ким размовляти до бiлого свiту».
Он почему-то считал, что ее пение осталось где-то позади, в их первых ночах, к которым теперь не мог пробиться даже памятью. А она неожиданно преобразилась, стала такой же юной, как тогда, когда пела ему и припевала, согревала его взглядом, словами, обещаниями, капризами, нежностью, вздохами, приглушенным голосом. Время было бессильно против нее. Казалось, будто маленькие женщины вовсе не стареют, время и стихия не властны над ними. Маленькая песчинка всегда остается песчинкой, тогда как даже самые высокие горы разрушаются под действием стихий, и чем выше они, тем более тяжкие и ужасающие разрушения на их исполинском теле.
– Ты как грех, у которого никогда нет возраста, – шептал ей Сулейман.
– За грехи приходится расплачиваться, – точно так же шепотом ответила ему Роксолана.
– Я готов заплатить самую высокую цену. Я брошу тебе под ноги весь мир.
Она промолчала. Что ей мир, что ей рай и ад? Сама была целым миром, рай и ад носила в своей душе. Родилась доброй, теперь ее хотели сделать злой. Кровь этого человека падала на нее и ее детей, и не было спасения.
Роксолана тяжко застонала. Сулейман встревоженно обнял ее. Непостижимая женщина, сотканная из пения и стонов.
– Что с тобой? Ты нездорова? Почему не сказала?
– У меня изранена душа.
– Назови мне виновных. Они будут немедленно наказаны.
– А если виновных нет?
– Такого не может быть.
– Мне страшно за своих детей.
– Пока я жив, они все будут счастливы.
– Я буду молить аллаха, чтобы вы жили вечно, мой повелитель.
– Но только вместе с тобой.
– А вы снова пойдете в поход. И там, где рос хлеб, будет подниматься лишь пыль от султанских войск.
– Щедрые плоды и храбрые воины не рождаются на одной и той же земле.
– Малое утешение. Мне страшно жить среди руин, ваше величество.
– Среди руин? Моя Хасеки! Ты живешь в самой роскошной столице мира! Величайший зодчий всех времен Коджа Синан сооружает джамии, превосходящие все ранее известное, строит медресе, которые соперничают своими сводами с небесным куполом, ставит минареты, стройные, как божья мысль. А наши базары – чаршии, наши дворцы, наши мосты – где еще в мире есть нечто подобное?
– Но и руин таких, как здесь, наверное, нет нигде на свете. Без вас мне было так тоскливо и тяжко, я нередко выезжала за стены Топкапы и смотрела на Стамбул. И что же я там видела?
– Тебя кто-нибудь обидел? Унизил твое султанское достоинство?
Она тихо засмеялась. Если бы так! Какая это мелочь – оскорбление достоинства или величия. А если что-то другое? Если перед твоими глазами рушится таинственное равновесие между духом и материальными массами, силы природы высвобождаются и в своем неудержимом буйстве погребают все бесплодные усилия людей? Природа словно мстит за насилие духа, который заковал ее в свои формы красоты и разума, – и вражда, вражда повсюду, будто пропасть бездонная. Да, она видела все: и мечети, и медресе, и фонтаны, и акведуки, дворцы и античные стены. Но в то же время видела и бездомных, ютящихся под стенами, и казалось ей, что и сама она живет на руинах, с такой же разбитой душой.
– Кто осмелился сделать это? – снова не вытерпел султан, хотя уже понимал всю бессмысленность своих вопросов.
Почему бы она должна была ему отвечать? Говорила о своем, не думая, слышит ее Сулейман или нет, будто говорила сама с собой, прислушиваясь к собственным словам, может, и не соглашаясь с ними.
Нелепая хаотичность руин и всей ее жизни. Только творение – дело человека, разрушение – это злые дьявольские силы. Одно возносится ввысь, другое тяготеет книзу и неминуемо ведет к падению духа. Мир больше никогда не расцветет в руинах – там только дьявольские гримасы заточенных демонов природы, царство духов, непрочное, бесплотное, без мягких покровов красоты, жестоко обнаженное в мертвых изломах. Но, с другой стороны, возможно, руины необходимы для более обостренного ощущения силы и бессмертия жизни? Ведь в конце концов всякое бытие должно прийти в упадок, чтобы стать доступным тем силам, которые способны его возродить. И, собственно, весь смысл жизни сосредоточен в том мгновении отчаяния и боли, после которого должно наступить новое рождение. Потому, быть может, вечный мир только в руинах, и их состояние покоя смирило ее с рабским положением…
Он снова не выдержал и почти грубо напомнил ей, что она уже давно не рабыня, а всемогущая султанша.
– Султанша над чем? Повелительница чего? Разбитых зеркал Ибрагима? Или садов гарема, подстриженных евнухами с еще большей жестокостью, чем они сами были искалечены жизнью? Мне кажется, что счастье человека только в его детстве. Возвратиться туда хотя бы краешком души – и уже был бы самым счастливым на свете.
– К сожалению, это невозможно, – глухо промолвил Сулейман. – Никто этого не в состоянии сделать, и чем выше стоит человек, тем меньше у него такой возможности.
– Боже, я знаю это. А детство снится золотыми снами, после которых просыпаешься в холоде и страхе, и в душе какие-то трепеты. Ваше величество, помогите мне, спасите меня!
Он тяжело и неуклюже шевельнулся возле нее на широком ложе, коснулся ее волос, гладил долго и нежно, даже удивительно было, откуда столько нежности могло взяться у этого мрачного человека. Не замечали, чтобы он когда-нибудь погладил по голове кого-то из сыновей. Когда умерла валиде, он не пошел в последний раз посмотреть на мать, закрыть ей глаза, поцеловать в лоб, велел похоронить с надлежащей торжественностью – и все. Роксолана пришла тогда в ужас. Неужели она могла любить этого нелюдя? Государство, закон, война. А жизнь? Или он берег всю нежность только для своей Хасеки? Грех было бы не воспользоваться этим, тем более что не для себя лично, а для добра своей земли.
– Ваше величество, я хотела бы попросить вас.
– Нет ничего, чего бы я не сделал для тебя, если бог будет милосердным к нам.
– Когда пойдете на Молдавию, возьмите с собой маленького Баязида.
– Я готов взять всех своих сыновей, чтобы они учились великому делу войны.
– Нет, одного лишь Баязида с его воспитателем Гасан-агой, и разрешите им обоим побывать в моем родном Рогатине.
– В Рогатине? А что это такое?
– Ваше величество! Это город, где я родилась.
– Ты до сих пор не забыла его?
– Как можно забыть? У меня душа разрывается от одного этого слова. Но я султанша и не могу никуда выехать с этой земли. Пусть поедет мой сын. Вы дадите ему сопровождающих для защиты. Там совсем недалеко от Сучавы. Два или три конных перехода. А какая там земля! Вся зеленая-зеленая, как знамя пророка, и потоки текут чистые, как благословение, и леса шумят, как небесные ветры. Если бы могла, я спала бы, как те леса, и жила бы, как те леса. Пусть наш сын увидит эту землю, ваше величество.
Он хотел спросить, почему именно Баязид, а не самый старший их сын Мехмед или не Селим, самый подвижный из всех детей, но решил, что это ниже султанского достоинства. Сказал только: «Я подумаю над этим» – и жадно вдохнул запах ее тела. Это тело озаряло темный круг его жизни, и хотя он каждый раз упорно бежал от Хуррем, но, наверное, делал это лишь для того, чтобы возвращаться к ней снова и снова, испытывая с каждым разом все большее счастье встречи и познания, кроме того, пребывание вдали друг от друга давало возможность для высоких наслаждений духа, а здесь уже не было духа – одна только плоть, пылающая, умопомрачительная, сладкая, как смерть.
Нагая, как плод в сонных садах, она падала в его цепкие, жадные объятия, отдавала тело почти без сожаления, а душу прятала, как правду от тиранов. Настоящая правда никогда до конца не бывает высказана вслух, в особенности между мужчиной и женщиной. Хотела бы она стать мужчиной? Никогда и ни за что! Может, в самом деле испытывала унижения от этого человека, вымаливая у него все в постели и только в постели, зато чувствовала превосходство над мрачным мужским миром, который не знает счастья нежности, которому чуждо благодеяние терпеливости. Почему-то думала, что женщины излучают свет, а мужчины лишь поглощают его, они темны сами, и темнота царит вокруг них, а женщины озаряют их, будто лампадки. Могла ли она озарить этого великого султана и на самом ли деле тоже была великой султаншей или была маленькой девочкой, сотканной из болезненных снов, которая оплакивает свою маму, простирает в безнадежности руки к своему детству и не может дотянуться до него? Одно только слово «Рогатин» терзает сердце. Как когда-то проклинала работу в свинарнике, учение у викария Скарбского, пьяную похвальбу отца Лисовского, а теперь все это вспоминалось словно утраченный рай. Мир напоминал разрезанное яблоко: выпуклый, объемный только с одной стороны, а с другой – несуществующий. И хотя султан ходил со своим ужасающим войском то в одну, то в другую сторону, но ей казалось, будто он проваливается каждый раз в небытие. Потому что жизнь существовала лишь там, где когда-то была она, откуда пришла сюда. Там жизнь, память, будущее, туда летела душа. «Ой, пиймо ми мед-горiлку, а ви, гуси, – воду, плиньте, плиньте, бiлi гуси, до мойого роду. Ой, не кажiть, бiлi гуси, що я тут злидую, ой, но кажiть, бiлi гуси, що я розкошую! Або пошлю бiлу утку по Дунаю хутко: «Пливи, пливи, бiла утко, до родини хутко! Ой, не кажи, сива утко, що я тут горюю, ой, но кажи, сива утко, що я тут паную!»
Неужели и своего младшего сына посылала в родную землю, чтобы сказал там, как роскошествует его мать? Разве она знала? Для тринадцатилетнего Баязида это казалось беззаботной прогулкой возле своего великого, сверкающего золотом отца-султана. Гасан-агу никто не спрашивал о его чувствах, он должен был выполнять веление султана и султанши, поехать и возвратиться и привезти невредимым юного шах-заде. Ох, как это все просто! А Роксолана не смела даже заплакать по сыну или по своему детству, ибо суждена ей только торжественная степенность, обречена она была на величавую надменность и этим платит за свое так называемое счастье называться султаншей. Теперь уже твердо знала, что счастливым можно быть лишь за чей-то счет. Сумма счастья на земле точно так же постоянна, как количество воздуха или воды. Если тебе досталось больше, так и знай: кто-то обделен, обижен, унижен и наказан.
– Да будет над тобой благословение аллаха, – прошептала Роксолана, прощаясь с Баязидом, который нетерпеливо рвался от матери, потому что чувствовал себя не ребенком, а воином, мужчиной, может, и будущим султаном.
Она только вздохнула. Какой удивительный мир! В нем возможен даже аллах.
Султан пошел со своим железным войском, со своими дикими конями, слонами и верблюдами, с устрашающими пушками на маленькую Молдавию, чтобы покарать Петра Рареша, которого сам же сделал господарем и который еще недавно прикидывался верным вассалом, посылая ежегодно в Стамбул десять тысяч дукатов подати и подарки золотом, мехами, конями и соколами. За верность Сулейман дважды награждал Рареша тугами – бунчуками из конского хвоста, которые давались только беглербегам.
И вот – измена. Маленькая Молдавия осмелилась восстать против могучей империи. Рареш выдал восставшим венграм султанского посланца Луиджи Грити, из-за чего поссорил Сулеймана с Венецией, теперь заключил тайный договор с австрийским королем Фердинандом, вел переговоры даже с далекой Москвой, ища поддержки и опоры на случай войны с Османами. Хотя Рареш был всего лишь незаконным сыном Стефана Великого, славного господаря Молдавии, которого когда-то боялись все враги, народ любил Петра, и по его зову со всех концов собирались все, кто мог носить какое-нибудь оружие (в большинстве своем, правда, самодельное), под державное знамя этой гордой земли: на полотнище голова зубра и звезда с одной стороны и крест – с другой. Защитить три святыни, провозглашенные еще Стефаном Великим: крест, родину и знамя.
Хотинский пиркелаб[4 - П и р к е л а б – начальник округа, уезда (молд., истор.).] привел свой липканский корпус, из Орхея прибыли всадники, с гор спустились лесорубы со своими топорами на длинных рукоятях, мелкие дворяне и знатные бояре выступали с хорошо вооруженными собственными дружинами, а ко всему прибавлялось целое море крестьянского войска, насчитывавшего свыше двадцати тысяч, и личная гвардия господаря наемники, боярские сыновья и пажи, – все верхом, в кольчугах, с дорогим оружием, в бархатных кафтанах с серебряными пуговицами, в шляпах с дорогим пером.
В Буджацких степях произошла короткая и кровавая битва. С грозным криком: «Убей! Убей!», будто древние римляне, которые, идя в атаку, кричали: «Фери! Фери!», бросились молдаване на железную стену султанского войска, но слишком неравными были силы, и мужество разбилось о многочисленность, потому что Сулейман привел триста тысяч спахиев (на каждого молдавского воина приходилось чуть ли не по сотне нападающих). Оставив казну опустошенной, войско разбитым, землю расчлененной, народ изнеможенным, Рареш вынужден был бежать в Эрдель, где его укрыли венгры. Сулейман занял Аккерман и Килию, превратив Черное море в османское озеро. Крымскому хану Сахиб-Гирею он велел привести татар в Яссы, и 9 сентября султан и хан встретились там, в разрушенном и сожженном городе. Через неделю султан без сопротивления вошел в молдавскую столицу Сучаву. Поставил воеводой брата Рареша – Стефана – с условием дважды в год лично привозить в Стамбул дань – харадж[5 - Х а р а д ж – налог, который турецкие завоеватели брали у иноверцев.]. Прославленную крепость на Днестре Хотин, которую, по преданиям, якобы основали еще при жизни Иисуса Христа, перед этим захватил польский король Зигмунт, договорившись тайно с Рарешом, и Сулейман не стал отвоевывать Хотин у дружественного ему короля, перешел Прут и в славе и почестях стал спускаться по Днестру. Часто останавливался, ходил по лагерю в сопровождении визирей и янычар, беседовал с воинами, попивая шербет из их бардахов[6 - Б а р д а х – сосуд для питья, стакан.], прощаясь, каждый раз говорил: «До встречи в Кызыл-Элме». Кызыл-Элмом, то есть Красным Яблоком, Османы называли Рим, о взятии которого мечтал каждый – от султана до самого последнего воина. Потому что на свете должна господствовать лишь одна вера, попросту говоря, двум верам всегда тесно, даже в самом просторном дворце.
В Сороках султан осмотрел крепость, поставленную когда-то генуэзскими купцами, оставил там гарнизон, пошел дальше по холмистой молдавской равнине вдоль Днестра.
Возле Тягина снова остановился. Раздавал кафтаны, коней, золото и чифтлики[7 - Ч и ф т л и к – феодальное поместье (турецк.).] вельможам, потом издал фирман о расширении крепости.
В том месте, где Днестр делал изгиб, насыпал широкую песчаную косу под крутым правым берегом, что облегчало переправу через своенравную речку. Еще с седой древности, когда жили в этих краях тиверцы и уличи, уже существовал здесь город, у которого перетягивались через Днестр. Город так и назывался – Тягин. Со временем генуэзцы, оседая на торговых путях, ведших в безбрежные земли над Черным морем, поставили в Тягине восьмибашенную каменную крепость, которая замыкала дорогу из Сучавы через Яссы и Лапушну на Очаков.
Слушая янычарских поэтов, распевавших касыды[8 - К а с ы д ы – жанр восточной поэзии, стихотворения преимущественно панегирического содержания (араб.).] в честь победного похода, попивая из серебряных чаш одобештское и котнарское вино, Сулейман медленно диктовал нишанджию слова фирмана о превращении Тягина и восемнадцати окрестных сел в османский санджак[9 - С а н д ж а к – в султанской Турции объединение военных ленов.], который должен был утверждать здесь мощь великой империи точно так же, как очаковский санджак на Днепре. Крепость велено было расширить вдвое, удлинив ограду, добавив к восьми генуэзским башням еще восемь, опустив крыло вниз, до самой реки, где устроены водяные ворота для гарнизона, окружив крепость высокими валами с глубоким рвом перед ними, обложенным камнем, чтоб не осыпался и не заиливался.
Через сто лет прославленный турецкий путешественник Эвлия Челеби напишет о сооружении крепости Бендеры: «Когда главный зодчий Сулеймана-хана Синан-ага ибн Абдульменан-ага строил эту крепость, он применил все свое искусство. В соответствии с разными законами геометрии он соорудил такие продуманные бастионы, замысловатые угловые башни и стены, что в описании их качеств язык бессилен».
Все это требовало времени, но султан не торопился назад в Стамбул, так, словно ждал чего-то, устраивал охоту в окрестных лесах, награждал кафтанами, золотом и конями своих воевод, рассылал гонцов, слагал стихи, отсылал султанше в столицу подарки. Сын Мехмед, которого оставил в Стамбуле своим наместником на время похода, писал отцу: «Если вы изволите спрашивать о моей маменьке, то она внешне словно бы и спокойна, а внутри из-за разлуки с вами – нет в ней живого места. Заполонена тоской по вас, вздыхает днем и ночью и стоит на краю гибели».
Но и это полное отчаяния письмо не сдвинуло султана с места, ибо Сулейман знал, что Хасеки тревожится не столько о нем, сколько о младшем сыне, которого они, нарушая все известные обычаи, отпустили за пределы своей земли, не зная, что из этого будет. Теперь султан раскаивался, что так легко удовлетворил прихоть любимой жены, но уже состоялось, никто об этом не знал и не должен был знать. Баязид с Гасан-агой в сопровождении отряда сорвиголов поскакал из Сучавы невесть куда, оттуда мог и не вернуться; потому нужно было терпеливо и спокойно ждать на этой чужой своенравной реке, тем временем надежно заковав ее в османский камень.
На сооружение невиданной в этих краях твердыни сгоняли людей, везли камень – из криковских карьеров, из Милешт и Микауцев, пилили дерево в Кодрах люди волошского воеводы Влада, который добровольно подчинился султану, везли на строительство харчи, прокладывали дороги и мосты.
Мрачное строительство было закончено чуть ли не в тот день, когда из дальних странствий по славянским землям возвратился султанский сын Баязид, возвратился ночью, уставший он был удивлен, что не нашел там ничего из тех чудес, о которых ему чуть ли не с колыбели нашептывала и напевала мама-султанша; немало обрадовался, добравшись наконец в огромный султанский лагерь, и еще больше обрадовался, когда через великого визиря Аяз-пашу ему было прислано султанское приглашение быть завтра на торжестве открытия крепости Бендеры, что означало – портовый город. Наверное, ни одна из османских твердынь не сооружалась в такое короткое время ни в Болгарии и Морее[10 - М о р е я – турецкое название северных областей Греции.], ни в Сербии и Боснии, что, разумеется, не сказалось ни на мрачности, ни на неприступности крепости, отпугивавшей своим серым камнем (Эвлия Челеби напишет об этом: «Каждый камень ее стены величиной с тело менглусского слона, а куски мрамора имеют размеры желудка коровы или лошади»), непробивными стенами, зловещими, тяжелыми, как проклятия, башнями. Но Сулейману было мало быстроты, с какой он строил эту твердыню, он велел выбить на ее стене памятную надпись – тарих, которая своей пышностью могла соперничать даже с надписями древних персидских царей: «Я, раб божий, султан этой земли, милостью божией глава Мухаммедовой общины, божье могущество, и Мухаммедовы чудеса мои сообщники, помощники и соратники, я, Сулейман, в честь которого читают хутбу[11 - Х у т б а – у мусульман пятничное богослужение в мечети, во время которого соборный имам читает молитву за «власть предержащую» и за всю мусульманскую общину.] в Мекке и Медине, шах в Багдаде, царь в Византии, султан в Египте, шлю свои корабли на европейские моря, в Магриб и Индию, султан, овладевший короной и престолом Венгрии, а ее подданных превративший в униженных рабов. Воевода Петр Рареш имел наглость взбунтоваться, так я сам копытами своего коня затоптал его в прах и завладел его землей Молдавией».
Новый великий муфтий Абусууд сотворил краткую молитву, воскликнул: «Велик аллах!», провел ладонями по лицу, и все вместе с султаном упали на разостланные прямо на холодной земле ковры и надолго застыли, уткнувшись лбами, обращены в ту сторону, где должна была быть Мекка. Только мелкие грабители бывают безбожными, великие всегда богомольны.
В столицу султан не возвратился. На целую зиму засел в Эдирне, устраивал охоту, запирался в дворцовых покоях с великим муфтием Абусуудом, думал над законами для своей безграничной империи. Сына Баязида отослал к Роксолане еще из Бендер, словно бы в знак того, что удовлетворил ее прихоть, но недоволен тем, что вынужден был нарушать извечный обычай, отпуская младшего шах-заде за пределы государства, да еще и теряя потом свое драгоценное время на ожидание у чужой реки. Может, впервые за все годы любви к Хасеки в сердце Сулеймана пробрался гнев на эту удивительную женщину, и потому, чтобы унять этот неожиданный гнев, султан удержался от искушения привезти Баязида в Стамбул самому и первым увидеть, как будут сиять глаза Хуррем. Пусть время и расстояние излечат его от гнева, а султаншу от причуд. Говорят же: «Наслаждения мира проходят, грядущая жизнь есть истинное благо для тех, кто боится бога».
Когда Роксолана увидела Баязида, она не выдержала, расплакалась. Стоял перед ней в дорогом одеянии, стройный, смуглый, хищнолицый, как султан, а глазами играл, как она, и улыбка была ее собственная, может, и душа у него была такая же, как у матери. Возвратился оттуда, где было ее сердце. Что там видел, чему научился, что скажет матери своей, владычице, и почему молчит? Спросить? Но не знала, о чем спрашивать. Зачем посылала его в Рогатин? Тогда и сама не знала. Лишь теперь, увидев младшего сына перед собой, чуть не закричала: «Почему вернулся? Почему не остался там? Почему?» Испуганно закрыла себе уста ладонью, чтобы не вырвался этот крик, чтобы не выдал ее сокровеннейших мыслей. Подсознательно хотела спасти хотя бы одного из сыновей. Ведь все они неминуемо должны погибнуть, кроме того, кто станет когда-то султаном. Всех задушат вместе с их собственными детьми, если те родятся у них. А этот избежал бы насильственной смерти. Почему именно Баязид, а не Мемиш, Селим или Джихангир? Сама не знала. О Мехмеде еще теплилась надежда, что станет султаном, каким-то образом убрав с дороги Мустафу. А Селим и Джихангир? Разве она знала? Может, Баязид потом спас бы и этих двоих?
Усадила Баязида рядом с собою, Гасана напротив. Долго молчала, борясь с безумством, кипевшим у нее в мозгу, потом спросила, сама не зная о чем:
– Доехали?
И не понятно, куда – то ли в Рогатин, то ли назад в Стамбул.
Баязид по-взрослому пожал костлявыми плечами:
– А что? С коня на коня перескакивая, с седла в седло переметываясь…
– Видел Рогатин? Был там? Все увидел?
– А разве я знаю! Пускай Гасан-ага скажет.
– Долго ехали, – сказал Гасан. – Долго и далеко, ваше величество.
Будто она и сама не знала. По прошлогодней траве, по старым мхам, по молодой траве, под елями и яворами, вброд преодолевая потоки, минуя реки и туманы, топча росы и цветы, ехали они туда, куда она уже никогда не вернется, не долетит ни мыслями, ни воспоминаниями, где хмель по лугам, а пшеница по полям…
– И что там видели? Какой теперь Рогатин? – чуть было не вскрикнула она нетерпеливо, забыв о султанской степенности.
– А никакой, – нахмурился Гасан-ага, – сплошное пожарище и руины. Нет ничего.
– Как это ничего? А стены, ворота, башни?
– Все в проломах, зазубринах, позарастало лопухами.
– А церкви?
– Ободраны и разрушены. Одна огорожена оборонной стеной, но не спасла ее и стена.
– Пепел тебе на голову! А мое золото? Разве не восстановили церковь и город за золото, которое я передавала с королевским послом?
– Ваше величество, золото надо посылать с войском, чтобы оно его оберегало.
– Разве войско может что-нибудь оберегать? Оно ведь только грабит.
– Ну да. Потому не нужно ни золота, ни войска. Люди как-нибудь проживут и так. Пробовали отстраивать Рогатин и его церкви, и дома, и стены, и ворота, но налетели татары и снова все разрушили. Там вся земля ограблена и осквернена так, что по ней страшно ехать.
– Почему я ничего не знаю? Почему ничего не говорил мне об этом?
– Ваше величество, вы не спрашивали.
Он быстрым движением извлек из широкого рукава узкую полоску бумаги, начал читать:
– «В пятьсот двадцать первом году татары Бельжскую, Любельскую, Холминскую земли завоевали, разбили поляков под Сокалем, вывели плен неисчислимый. В пятьсот двадцать третьем году турки и татары Львовскую, Слуцкую, Бельжскую, Подольскую земли жестоко разрушили, с великим пленом пошли назад. В пятьсот двадцать шестом году по велению султана Сулеймана, занятого войной с венграми, опустошили Волынь, Бельжскую и Любельскую земли. Зимой двадцать седьмого года снова кинулись на Украину, пошли на Полесье до самого Пинска по замерзшим рекам и болотам, проникали в самые неприступные места, вывели восемьдесят тысяч пленных, но при возвращении под Ольшаницей догнал их великий гетман литовский князь киевский Константин Острожский, побил татар двадцать четыре тысячи, среди них турок десять тысяч, два литвина поймали татарского мурзу Малая. Острожский велел повесить царевича на сосне и нашпиговать стрелами. Но в году пятьсот двадцать восьмом снова налетели татары на Подолию, забрали ясырь. В пятьсот тридцатом году крымчаки дошли до Вильно и сожгли его. В году…»
Роксолана подняла руку. Довольно. От этого жуткого перечня можно сойти с ума. Пока она здесь рожала султану сыновей и примеряла драгоценности, за которые можно купить полмира, ее земля стонала и истекала кровью. Знала ли она об этом? Разве не говорила ей об этом со злорадством черногубая валиде, разве сам Сулейман не вспоминал о своей провинности перед нею за действия крымских ханов? Все знала. Но была занята только собой. Спасала собственную жизнь. Потом принялась спасать душу, боролась, чтобы не потерять человеческого облика, сберечь свою личность. Потом захотелось вознесения над всей ничтожностью этого мира, над прислужниками султанского трона, может, и над самим султаном, ибо никто и ничто несоизмеримо здесь с ним, кроме нее. На первых порах, может, кто и сочувствовал ей, может, жалели ее, теперь только удивляются, завидуют и ненавидят. Пускай удивляются!
Но как могла она забыть о родной земле? Помнила только свое собственное, отцовский дом стоял перед глазами в солнечном сиянии, будто золотой сон, да мамин голос напевал ей детские колыбельные и пинькала в густых зарослях ольхи на отцовском дворе маленькая птичка, называемая «прилинь», а вся ее большая земля словно бы была забыта, окутана туманом, отошла куда-то в небытие, погибла, пропала для нее навеки, навеки.
– И что там, не осталось уже и людей? – тихо спросила Роксолана то ли Баязида, то ли Гасана. Потом повернулась все же к сыну. – Слыхал ты хотя бы одну нашу песню там?
Баязид пожал плечами.
– Гасан-ага скажет. Он все видел.
– Люд тянется к городам, там его и заграбастывают крымчаки, – сказал Гасан. – А настоящие казаки идут в степи, подстерегают врага там, чтобы при случае ударить как следует.
– Казаки? Что это за люди?
– Непокорившиеся. Свободные, как ветер. Рыцари. Бывают над ними и воеводы порой, как тот же князь Острожский, или воевода Претвич, или какой-то Дашкевич, который сам, говорят, похож на татарина и знает язык татарский и османский, день тут, день там, неуловимый, как чародей. Чаще всего казаки собираются в небольшие ватаги с безымянными вожаками. Каждый сам себе пан, сам себе свинья. Добираются уже и сюда. Не раз уже поджигали Синоп. И до Стамбула добирались.
– Почему же я ничего не знаю?
– Ваше величество, вы не спрашивали, я не говорил.
– И вы видели этих… казаков?
– Видеть не видели, а слышать слышали. Нас тоже принимали за казаков: какие же османцы отважились бы так углубиться в чужую землю?
– Разве вас было мало?
– Два десятка – вот и все!
– Боже милостивый! Баязид, и ты не боялся?
Шах-заде хмыкнул. Еще бы ему бояться, когда он султанский сын!
– Что же я могу сделать для своей земли, Гасан? – заволновалась Роксолана, растерявшись от недобрых вестей, которые так неожиданно обрушились на нее. – Чем тут можно помочь?
– А что можно сделать? Оставить в покое – это было бы лучше всего. Но кто же на этом свете даст покой земле или человеку? Ваше величество спрашивают царевича, слыхал ли он песни на Украине. Может, мало мы там были, может, слишком быстро скакали, что не услышали песен. Но услышать их можно и здесь, даже мы, янычары, слагали каждый свою песню, хотя это песни такие, что их негоже и повторять. А невольники? Вы слыхали их песни, ваше величество?
Она хотела сказать: «Я сама невольница и сама тужу и пою, пою и тужу». Но промолчала, лишь поддержала Гасана самим взглядом. «Ну-ка, что это за песни, хочу их слышать и знать, если сын мой услышит, может, пригодятся ему в будущем». Взглянула искоса на Баязида, – тот скучающе изучал украшенную драгоценными самоцветами рукоять кинжала, подаренного султаном. Гасан отпил немного из чаши, кашлянул, прочищая горло, грустной скороговоркой начал пересказывать страшную песню невольников:
– «Не ясный сокол тужит-рыдает, как сын отцу и матери из тяжкой неволи в города христианские поклон посылает, сокола ясного родным братом называет: «Сокол ясный, брат мой родной! Ты высоко летаешь, почему же у моих отца-матери никогда в гостях не бываешь? Полети же, сокол ясный, родной брат мой, в города христианские, сядь-упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно пропой, моему отцу и матери большую печаль причини. Пусть отец мой добро наживает, землю, большие имения сбывает, сокровища собирает, пусть сыновей своих из тяжкой неволи турецкой выкупает!» Услышав это, брат-товарищ к брату-товарищу обращается: «Товарищ, брат мой родной! Не нужно нам в города христианские поклоны посылать, своему отцу и матери большое горе причинять: хотя наши отец и мать будут добро наживать, землю, большие имения сбывать, сокровища собирать, но не будут знать, где, в какой тяжкой неволе, сыновей своих искать; сюда никто не заходит, и люд крещеный не приезжает, только соколы ясные летают, на темницы садятся, жалобно покрикивают, нас всех, бедных невольников, в тяжкой неволе турецкой добрым здоровьем навещают».
Роксолана снова взглянула на сына. Понял ли он хотя бы одно слово? Сын продолжал играть драгоценным оружием, а ей показалось – играет ее сердцем. Обессиленно прикрыла глаза веками. Отпустила обоих. В дверях сразу же возникла могучая фигура кизляр-аги Ибрагима, промелькнули вспугнутые тени евнухов, она гневно взметнула бровями: прочь!
Ибрагим переступал с ноги на ногу, не уходил.
– Чего тебе? – неприветливо спросила Роксолана.
– Ваше величество, к вам посланец из-за моря. С письмом.
– Пускай ждет! Завтра или через неделю, может, через месяц. Сколько там этих посланцев еще!
Кизляр-ага склонился в молчаливом поклоне.
– И позови Гасана-агу. Да поскорее!
Гасана вернули, он не успел еще выйти из длинного дворцового перехода. Роксолана ждала его, стоя среди покоев.
– Возьмешь золото, сколько будет нужно, – сказала торопливо, – и выкупай из неволи всех наших людей, каких найдешь в Стамбуле. Найди всех и отпусти на волю.
Он молча кивнул.
– Если нужна будет бочка золота, я дам бочку. Султан хвалится, что годовой доход его составляет целых шестьдесят бочек золота. Не обеднеет. И никому ничего не говори. Мне тоже.
– Ваше величество, они отпускают невольников, а потом снова ловят, не давая им добраться домой.
– Позаботься об охранных грамотах. В диване нужно иметь умного визиря для этого. Там сейчас одни глупцы. Подумаю и об этом. Там еще какой-то заморский посланец. Узнай, что ему надо. А теперь иди.
Вспомнились слова из книги, которая теперь преследовала ее каждый миг и на каждом шагу: «Но тот, кто давал, и страшился, и считал истиной прекраснейшее, тому мы облегчим путь к легчайшему».
Должна была пережить одинокую зиму. Черный ветер караель будет прилетать с Балкан, бить в ворота Топкапы, может заморозить даже Босфор, будет морозить ей душу, хотя какой холод может быть больше холода одиночества? Бродила по гарему. Холод, сквозняки, сырость. Окна застеклены только в покоях валиде и ее собственных, а у невольниц-джарие – прикрыты кое-как, и несчастные девушки тщетно пытаются согреться у мангалов с углем. Подавленность, зависть, ненависть, сплетни, темная похотливость, извращенность. Только теперь по-настоящему поняла всю низость и грязь гарема, поняла, ужаснулась, переполнилась отвращением. Спасалась в султанских книгохранилищах, но все равно должна была снова возвращаться в гаремлык – в гигантскую проклятую клетку для людей, в пожизненную тюрьму даже для нее, для султанши, ибо она жена падишаха, а муж, как сказано в священных исламских предписаниях, должен содержать жену точно так же, как государство содержит преступников в тюрьме. Наверное, женщин запирают здесь в гаремы так же, как по всему миру запирают правду, прячут и скрывают. Выпустить на свободу женщину – все равно что выпустить правду. Потому их и держат в заточении, боясь их разрушительной силы, их неутоленной жажды к свободе. Как сказано: страх охраняет виноградники. Может, и Сулейман упорно убегает от нее, приближаясь лишь на короткое время, чтобы меньше слышать горькой правды, меньше просьб и прихотей, прилетает, будто пчела к цветку, чтобы выпить нектар, и поскорее летит дальше и дальше. Он никогда не пытался понять ее, подумать о ней как о равном ему человеке, думал только о себе, брал от нее все, что хотел, пользовался ею, как вещью, как орудием, даже к своему боевому коню относился внимательнее. Тяжело быть человеком, а женщиной еще тяжелее. А она чем дальше шла и чем выше поднималась, тем больше ощущала себя женщиной. «Не предай зверям душу горлицы твоей». Искать спасения в любви? Хотела ли она, чтобы ее любили? А кто этого не хочет? Но чего стоит любовь пусть даже могущественнейшего человека, если вокруг царит сплошная ненависть и льется кровь реками и морями? Кровь не может быть прощена никогда, а только отмщена или искуплена. Чем она искупит все кривды, которые претерпевает ее родная земля? Ледяной купелью исповеди, раскаянием и муками? Как хотелось бы не знать ни душевного смятения, ни мук почти адских. Но праведным суждено смятение. Разве мы не временные гости на этом свете? И разве не боимся прошлого лишь тогда, когда оно угрожает нашему будущему? Даже уплатив дань всем преисподним, не обретешь спокойствия. Искупление, искупление. А у нее дети, и в них – будущее, истина и вечность.
Чужеземцы
Великий евнух Ибрагим снова надоедал Роксолане. Теперь он уже хлопотал не о венецианском посланце с письмом, а об Иерониме Ласском. Сопровождал султаншу в медресе, где учились ее сыновья. Она хотела убедиться, что там не холодно. Быстро шла длинным темным коридором, ведшим в устланное красными коврами помещение кизляр-аги в медресе для шах-заде. На широких мраморных ступеньках огромный Ибрагим мог бы догнать укутанную в мягкие меха султаншу, но не отважился, брел позади, большой и неуклюжий, за спиной показывал евнухам, чтобы позаботились о порядке в зале для занятий, хотя сделать уже что-либо было поздно. Роксолана быстро осмотрела несколько крошечных комнат, предназначенных для уединения вельможных учеников, затем перешла в зал для занятий, представлявший собой большое, просторное помещение в форме нескольких широких террас. Стены зала были украшены желто-золотистыми фаянсами с изображением цветущих деревьев, напротив входа картина – Мекка с черным камнем Каабы и стройными белыми минаретами. Посредине зала лоснящаяся пузатая жаровня, излучавшая тепло, огромный светильник в форме зари, на нем шкатулка, в которую прятали Коран после чтения. Всюду персидские столики, длинные низкие диваны, обтянутые шелком, на столиках синие кувшины с цветами, высокие окна с разноцветными стеклами с изображениями полумесяца и звезд.
– Здесь тепло и уютно, – милостиво промолвила Ибрагиму султанша.
Здесь ее сыновья постигали самую первую мусульманскую мудрость Коран, самую первую и, по мнению улемов, самую главную, здесь изучали буквы, начиная с элифа, похожего на тонкий длинный дубок, а дубок, как известно, пришел из рая. Каждая буква, как человек, имела свой нрав и свой лик: у «ба» запали подвздошья, «сад» имел губы, как у верблюда, у «та» уши, как у зайца. Суры Корана имели свое особое значение и назначение. Первая сура Фатиха читалась перед началом каждого важного дела, а также за упокой души. Тридцать шестую суру «Ясын» читали во всех случаях, когда в медресе ученики доходили до «Ясын», хором кричали: «Ясын, ягли берек гелсын» – «Ясын, масляный коржик неси!» Большим праздником было, когда доходили до семидесятого стиха восемнадцатой суры – почти половины Корана, но наибольшее разочарование ждало малышей в конце занятий, когда ходжа говорил им, что сто двенадцатая сура Ихляс стоит всего Корана. Если так, тогда зачем было изучать эту огромную запутанную книгу – ведь стоит запомнить лишь несколько стихотворений Ихляса.
Ее сыновья изучали Коран с пятилетнего возраста. Уже даже самый младший, Джихангир, заканчивал эту тяжелую и неблагодарную науку, чтобы высвободить время для знаний, необходимых властелину, хотя и не было никаких надежд на то, что он станет султаном: ведь над ним стояли по праву первородства еще четыре брата. Даже Селим, второй после Мехмеда, не возлагал особых надежд на престол, учиться не хотел упорно, почти воинственно, на упреки матери дерзко отвечал:
– Пускай обучается всем премудростям тот, кто станет султаном! А нам лишь бы жить! Не сушить голову, не корпеть над книгами, быть вольным, под небом и ветрами, с конями, псами, соколами, охотиться на зверя, раздирать теплое мясо, пить свежую кровь!
Когда Селим, рыжеволосый и зеленоглазый, как она сама, отчеканил ей это, Роксолана ничем не выдала себя, лишь окаменело ее лицо и побледнели уста. Селима возненавидела с тех пор и уже не могла тянуться к нему сердцем, хотя внешне никогда этого не показывала. Не могла простить ему преждевременного пророчества страшной судьбы, собственной и его младших братьев, и часто ловила себя на том, что сама думает точно так же. Может, и к своему самому младшему относилась со странным равнодушием, не веря в его будущее, а Джихангир, будто ощущая материнскую холодность к нему, надоедал ей, просился спать в ее покои, канючил сладости, игрушки, одеяния, не давал покоя ни днем, ни ночью, так, будто мать была его рабыней. С рабами и детьми разговаривают однозначно: пойди, встань, принеси, дай, не трогай. Джихангир не признавал такого способа обращения, он требовал у матери, чтобы она рассказывала ему сказки и поэмы, чтобы не умолкала ни на миг. Он рано постиг тайны человеческого поведения, будучи еще не в состоянии осознать это, все же как-то сумел почувствовать, что Роксолана должна вознаградить своего последнего сына, эту жертву судьбы, это возмездие или проклятие за все зло, накопленное Османами, отплатить если и не нежностью, то вниманием и покорностью, и потому сумел захватить власть над матерью и стал настоящим деспотом. А маленький деспот намного страшнее большого, потому что он мелочен, назойлив и не дает передышки ни на миг, от него не спрячешься и не избавишься.
Но как бы там ни было, Джихангир был дорог ее сердцу так же, как Мехмед, Селим, Баязид и Михримах, и сегодня утром она подумала, что ему здесь, может, холодно, как холодно всюду в просторном неуютном султанском дворце, и пришла сюда, чтобы развеять свои опасения.
– Хорошо, – сказала она кизляр-аге. – Мне здесь нравится.
– Может, позвать шах-заде Джихангира, ваше величество?
– Не надо. Ты свободен.
Тогда Ибрагим и сказал об Иерониме Ласском.
– От кого он на этот раз? – улыбнулась Роксолана, вспомнив сладкоречивого тихоню, льстивого дипломата, о котором французский король Франциск сказал: «Никогда не служит одному, не обслуживая одновременно другого». Богатый краковский вельможа, прекрасно образованный и воспитанный, Иероним Ласский от службы у польского короля переметнулся к королю венгерскому, затем перешел к Яношу Заполье, оказывал бесконечные услуги императору Карлу, королю Франциску, Фердинанду Австрийскому. Непостоянный и продажный, он без колебаний переходил на сторону того, кто платил больше. Самое же странное: имел смелость появляться в Стамбуле каждый раз от другого европейского властелина, не боясь гнева султанского или даже расправы за неверность.
– Так от кого он? – переспросила Роксолана.
– Не знаю. Он хотел к его величеству султану, но Аяз-паша взял его под стражу в караван-сарае на Аврет-Базаре, и теперь он просится к вам на прием.
– Как же я могу его принять, когда его не выпускают из караван-сарая? Не могу же я поехать к нему сама.
– О нем просит Юнус-бег. Ласского можно привезти в Топкапы под охраной.
Великому драгоману Юнус-бегу она не могла отказать. Верила, что благодаря ему повержен Ибрагим. Никогда не разговаривала с этим человеком, не знала, как относится он к ней (может, и ненавидит, как ненавидел Ибрагима и всех чужеземцев), но была благодарна ему за то, что стал невольным ее сообщником, помог в ее борьбе за свободу.
– Хорошо, привезите этого человека, – сказала она великому евнуху.
Приняла Ласского там, где и всех. Пан Иероним, высокий, стройный, в дорогих мехах и ярких одеяниях, задрав пышную светлую бороду, одарил султаншу изысканной улыбкой, затем опустился перед ней на одно колено, раскинул руки.
– Ваше величество, недостойный слуга ваш припадает к вашим ногам!
– Встаньте.
– Я безгранично благодарен вам, ваше величество, за высокую милость видеть вас и слышать ваш ангельский голос.
– Если вы докажете, что ангелы владеют также и мудростью, тогда я согласна и на такое определение, – засмеялась Роксолана, предложив ему сесть.
– Ваше величество, ангелы – это небесная красота! А что может быть мудрее красоты?
– Убедили. Теперь я вся обращаюсь в слух и внимаю вашим просьбам. Но прежде всего хотела бы знать, от кого вы прибыли на этот раз.
– Ваше величество! Разве вы забыли, что я прибывал в Стамбул чуть ли не каждый раз, когда вы дарили его величеству султану прекрасных деток? Я счастлив, что имел удовольствие преподносить свои скромные подарки в честь рождения принцессы Михримах, шах-заде Абдаллаха и Джихангира.
– И каждый раз от других королей?
– Ваше величество! Я всего лишь простой человек, что я могу? Я пробовал верно служить своему королю Зигмунту. Это благородный король, он мудро правит государством, отличается большой веротерпимостью, покровительствует искусствам и наукам, но он ужасно нерешителен и боязлив, ваше величество. Он боится султана, московского князя, татарского хана. Когда боится король, тогда подданные не боятся короля. А это плохо. Страх скрепляет намного крепче, чем любовь. Вы только посмотрите, до чего доводит отсутствие страха перед властелином. За год до похода его величества султана Сулеймана против Петра Рареша король Зигмунт созвал шляхту, чтобы со своей стороны ударить по молдавскому господарю, засвидетельствовать верность своему великому союзнику падишаху. Но собранная под Львовом и Глинянами шляхта стала препираться и разглагольствовать, а ее челядь тем временем вылавливала кур по селам, оттого всю затею так и прозвали «куриной войной». Что это за король, который не умеет взять в руки своих подданных? И мог ли я со своими способностями, которые признала вся Европа, отдать свою жизнь такому нерешительному властелину? Рыба ищет, где глубже, птица – где выше, а человек – где лучше.
– Мы оба с вами предали свой народ, – утешила его Роксолана.
– Но вы на свободе, ваше величество, а я в заточении.
– Неизвестно еще, кто на свободе, а кто в заточении.
– Я бы не отказался поменяться с вами, ваше величество.
– Для этого вам нужно сначала стать женщиной.
– Простите, я упустил это из виду.
– Вы хотели меня о чем-то просить, – напомнила ему Роксолана.
– Да, ваше величество. У меня важные вести для его величества султана, а великий визирь запер меня в караван-сарае и не выпускает. Я должен немедленно добраться до Эдирне и предстать перед его величеством. Вся надежда на вас.
– Но что я могу?
– Ваше величество, вы все можете! Разве Европа не знает об этом? Султан управляет империей, а вы – султаном.
– Преувеличение. Но меньше об этом. Если уж просить, то я должна знать, о чем идет речь.
– Речь идет о Венгрии, ваше величество.
– Так вы снова от Яноша Запольи?
– Собственно, я оттуда, но если быть точным, то на этот раз я словно бы от самого себя, хотя вполне вероятно, что до некоторой степени и от короля Фердинанда, но только в интересах его величества султана. Хотел предупредить. Чрезвычайно важная весть. Никогда еще ни к кому мне не приходилось прибывать с вестью такого чрезвычайного значения.
– Что же это за весть? Раз уж мне хлопотать о вас перед его величеством падишахом, я должна знать. Или как вы считаете?
– Ваше величество! Какие могут быть тайны от вас! Именно поэтому я просился к вам. Не могу же я доверять новости мирового значения этому безъязыкому Аяз-паше, который, по моему мнению, существует на свете лишь для того, чтобы здесь не переводились глупцы. Дело в том, что король польский Зигмунт собирается выдать за Яноша Заполью дочь Изабеллу.
– Но ведь Заполья безнадежно стар! Сколько ему лет? Наверное, шестьдесят? Стар и толст.
– Ваше величество, у королей нет возраста. А Заполья король. Изабелла с дорогой душой пойдет за него, чтобы стать королевой. Какая бы женщина отказалась от такой чести! Но у меня есть проверенные сведения, что австрийский двор не признает за Изабеллой прав на венгерскую корону, ибо она дитя побочного ложа – родилась всего лишь через шесть месяцев после брака Боны Сфорцы с королем Зигмунтом. Проще говоря, ваше величество, королева Бона приехала из Италии к своему мужу в положении. Золотая корона покрыла ее грех. Собственно, никому до этого не было бы дела, если бы не корона Венгрии. Фердинанд охотно отдал бы за Яноша Заполью одну из своих дочерей. Как говорят, пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, заключай браки.
– Мы защитим бедную Изабеллу, – степенно промолвила Роксолана.
– Я верил в ваше великое сердце, ваше величество! – воскликнул Ласский, вскакивая с диванчика и опускаясь на колено. – Только вы, только ваше благородство!
– Хорошо, я напишу султану и попрошу о вас.
– Как я сожалею, ваше величество, что у меня нет подарков, равных моей благодарности. Я спешил с этой вестью к падишаху, и моя посольская ноша была слишком легкой.
– Нет лучшей ноши в дороге, чем здравый разум, не правда ли?
– О, да, ваше величество, стократно да!
История с Ласским немного развеселила Роксолану. Она передала кизляр-аге, чтобы тот назавтра привел к ней посланца из Венеции. Все равно ведь Ибрагим не отступится, будет напоминать о посланце, ибо тот, наверное, подкупил великого евнуха, надеясь получить от султанши нечто большее. А что он мог получить от нее? И от кого посланец? И почему такой таинственный?
Когда увидела венецианца, отбросила всякие предположения о его таинственности. Ибо таинственность никак не шла этому грубому огромному человеку с черной разбойничьей бородой, с дерзкими глазами, громоподобным голосом, который он тщетно пытался приглушить, отвечая на вопросы султанши.
Сесть он не решился, оставался стоять у двери, где рядом с ним стоял такой же здоровенный кизляр-ага Ибрагим, послание своего хозяина передал Роксолане через служанку, которую султанша вызвала, щелкнув пальцами, кланялся неуклюже и смешно, но колено не преклонил перед властительницей, как ни пригибал его шею Ибрагим.
– Ваше величество, – гудел венецианец, – послан к вам преславным и величественным королем всех поэтов, обладателем золотого бриллиантового пера синьором Пьетро Аретино, именуемым оракулом истины и секретарем мира.
– Я не слыхала о таком, – простодушно призналась Роксолана. – Как зовут вашего повелителя?
– Пьетро Аретино, ваше величество. Его знает весь мир, и мраморные ступеньки его дома в Венеции истерты больше, чем мостовая Капитолия колесами триумфальных колесниц.
– И чего же хочет этот славный человек от меня?
– Он передал вам послание, ваше величество.
– Ты можешь заверить, что в нем нет ничего оскорбительного для его величества султана и для меня?
– Мне велено ждать ответа, следовательно, там не может быть ничего плохого, ваше величество.
Тогда Роксолана щелкнула пальцами, в покое появилась молодая служанка, подлетела к великану, тот из складок своей широченной одежды извлек серебряный, весь в художественной чеканке футляр с подвешенной к нему большой золотой медалью и, поцеловав медаль, передал девушке.
Роксолана взяла футляр, некоторое время рассматривала рельефы на нем на тему о Диане и беззаботном пастухе Актеоне, который засмотрелся на спящую богиню и за это был превращен ею в оленя и затравлен ее псами. Работа в самом деле была исполнена мастерски. Венецианец заметил, что футляр понравился султанше, пробормотал:
– Это работа непревзойденного Бенвенуто Челлини. Медаль тоже.
– Наш друг Луиджи Грити заказывал у маэстро Челлини монеты его величества Сулеймана, – сказала Роксолана. – Уже тогда мы убедились в его непревзойденном мастерстве. Теперь вижу, его рука стала еще увереннее, а глаз острее.
На медали был изображен бородатый, длинноносый человек, чем-то похожий на посланца. Он сидел с книгой в руках на резном стуле, а перед ним стоял вооруженный человек в сопровождении слуг и подавал ему драгоценный сосуд с круговой надписью: «Властелины, собирающие дань с народов, приносят дань своему слуге».
– Кто этот бородатый? – поинтересовалась Роксолана. – Это, наверное, и есть синьор Пьетро Аретино?
– Да, ваше величество, это сам маэстро. Точно такую же медаль, только бронзовую, а не золотую, он послал адмиралу султана Сулеймана, грозе всех морей Хайреддину Барбароссе, и тот отплатил щедрыми дарами.
Роксолана открыла футляр, достала оттуда шелковый свиток, развернула его. Написано было по-итальянски. Начала читать и не смогла удержаться от улыбки.
Аретино писал:
«Я начал издавать свои письма к прославленнейшим личностям мира, уже издал один том, но с огромной душевной скорбью обнаружил, что до сих пор еще не написал письма Вам, несравненная султанша Роксолана. Если бы я не боялся встревожить воздух вашей скромности золотыми облаками почестей, которые вам принадлежат, я не мог бы удержаться от того, чтобы не распространить на окна здания славы тех мировых одеяний, которыми рука хвалы украшает спину имен, дарованных молвой прекрасным созданиям. Ваш непобедимый дух привлекает меня безмерно, ибо, как и вы, я горжусь тем, что всем, чего достиг в жизни, я обязан самому себе и ни в чем не могу считаться чьим-нибудь должником. Я писал императору Карлу и императрице Изабелле, королям Франциску и Генриху Английскому, обо мне говорят при дворе персидского шаха, меня называют божественным и удивительным и бичом властелинов. Джованни Медичи назвал меня чудом природы, Микеланджело синьором братания, герцоги Мантуи, Флоренции и Урбино – сердечным другом. Мои произведения для жизни необходимее проповедей, ибо проповеди приводят на путь праведный людей простых, а мои произведения – людей высокопоставленных. Я принес правду во дворцы властелинов, наполнил ею их слух, несмотря на лесть и вопреки лжи. Мое перо, вооруженное предостережениями, достигло того, что люди могущественные смирились, а острословы признали его с вынужденной вежливостью, которую они ненавидят больше, чем неудобства. Поэтому простые люди должны любить меня, ибо я всегда ценой крови воевал за мужество и лишь благодаря этому оно ныне одето в парчу, пьет из золотых бокалов, украшается драгоценными камнями, имеет деньги, выезжает, как королева, окруженная слугами, как императрица, и почетом, как богиня».
Роксолана посмотрела на венецианца. Тот даже не следил за выражением ее лица – столь был уверен в воздействии послания. Наверное, уже не впервые возил он подобные шелковые свитки, возвращаясь нагруженный царскими подарками. Но ведь она не царица! Почему это Аретино не писал ей тогда, когда она томилась в безвестности султанского гарема? Может, не знал о ней ничего, как не знал и весь мир? Тогда зачем же хвалится своей непревзойденной проницательностью ума?
Аретино писал:
«Какие колоссы из серебра и золота, не говоря уже о колоссах, сделанных из бронзы и мрамора, могут сравниться с теми статуями, которые я воздвиг папе Юлию, императору Карлу, королеве Екатерине, герцогу Франческо? Они вечны, как солнце.
Вершина радости существования – любовь. Вы жрица любви, и я приветствую вас так же, как самых роскошных красавиц земли и неба и как девочек – мессаре, удовлетворяющих все мои желания.
Я живу потом чернил, свет которых не может быть погашен ветром озлобления, не может быть затемнен тучей зависти. К подножию моего трона величайшие властители слагают золото, цепи, чаши, роскошные ткани, богатую одежду для меня и украшения для моих аретинянок, изысканные вина и райские плоды, все, чем богата щедрость. Но для моей неудержимой расточительности не хватило бы монет всего мира. Если бы даже египетские пирамиды служили мне рентой, я пустил бы их в оборот. А потому лишь бы нам жить, а все остальное – шутка.
Я в восторге от вашего непобедимого духа…»
Роксолана свернула шелк, отдала служанке, кивнула посланцу:
– Ответ передаст вам Ибрагим.
Венецианец попятился из покоев, а она смотрела на его широкую черную, как у Аретино на медали, бороду и смеялась в душе. Уже придумала, как отомстить хвастливому венецианцу и его посланнику. Он смеется над всеми властелинами Европы, а она посмеется над ним. Могла бы еще понять и простить лесть, вызванную страхом, но за плату?! Вишь, даже капудан-паша султана Хайреддин поддался на лесть и одарил этого велеречивого хвастуна награбленным золотом. Она никого не грабила и не намерена этого делать. Напрасные надежды. И напрасно послушный посланец Аретино тратил деньги на подкуп кизляр-аги. Роксолане почему-то вспомнился бывший султанский имрахор Рустем с его мрачными остротами. Тот бы сказал: «Еще речки не видно, а он уже штаны подвернул». Рустем из маленького, привезенного из Боснии раба дошел да начальника султанских конюшен, затем был дарован ему титул паши, и уже был бы он, наверное, визирем, если бы Ибрагим во время персидского похода не вспомнил о нем – вспомнил, как любил Рустема султан за его безжалостный юмор и беспощадный язык, и поскорее дал Рустему санджак на крайнем востоке империи где-то возле Армении, в диких горах, среди камней и снегов. Хитрый Ибрагим устранял всех любимцев султана, чтобы самому нераздельно владеть душой падишаха. Если бы сила да воля, он и ее устранил бы и уничтожил. Но как она могла забыть о Рустеме? Вот человек, рожденный для султанского дивана! Гасана уже недостаточно, ей нужны более влиятельные и могущественные помощники, ибо теперь ее помощники – это помощники султана.
Пока не забыла, поскорее написала султану в Эдирне о Рустем-паше, приложив к письму локон своих волос. Затем принялась за письмо к Пьетро Аретино.
«Мы доводим до сведения синьора Аретино, – писала она, – что посланец Ваш прибыл в нашу лучезарную столицу и вручил нам Ваше послание, и всевышний свидетель тому, сколько радости и утехи принесло нашему сердцу Ваше пламенное слово. Мы внимательно изучили Ваше письмо и прониклись уважением к Вашим способностям и к Вашему мужеству, за которое Вы так доблестно сражаетесь. Так вот, это воля бога, которой Вы должны покориться и согласиться с его приговором и повелением. Вот поэтому мы написали Вам это дружеское письмо и посылаем его к подножью золотого трона Вашей славы через слугу Вашего, который прибыл к нам с божьей помощью и отправится с божьим покровительством здоровым и невредимым. В конце концов, я не знаю, что Вам еще сказать такое, что составляло бы тайну для Вашего высокого ума. В знак дружбы и для того, чтобы это письмо не оказалось пустым, принесшим Вам душевное беспокойство, я посылаю Вам две пары штанов, расшитых золотом сзади и спереди, и шесть носовых платков из тончайшего шелка, а также полотенце, все в одном свертке.
На этом желаю Вам здоровья и расцвета Вашего необыкновенного таланта.
Покорнейшая слуга Х а с е к и С у л т а н ш а».
Письмо и пакет для Пьетро Аретино отправила с Ибрагимом, смеясь в душе над «секретарем мира» и представляя, как появится он перед своими мессаре в османских шароварах, расшитых золотом в неприличнейших местах. Посмеяться над своей выдумкой ей не с кем было. Вот если бы в самом деле был здесь Рустем-паша, тот бы сказал: «Пускай носит на здоровье. Благочестие таится в шароварах». Этот человек насмехался над всем миром. Платил миру ненавистью за то, что османский эмин еще ребенком затолкал его в переметную суму и привез в Стамбул, бросив на конюшне, среди лошадей, где мальчишка должен был жить или умереть, где он рос, лишенный всего человеческого. Вырос таким разъяренным, что когда его укусил султанский конь, он укусил коня! Казалось, с уважением относился разве лишь к падишаху да к Роксолане, и не за то, что она султанша, а за ее происхождение. Сам предложил султану, что обучит Роксолану верховой езде. Это было еще в то время, когда у нее не было власти, при жизни валиде и Ибрагима. Какой шум поднялся тогда при дворе! Даже великий муфтий заметил султану, что такой поступок султанской жены не согласуется с шариатом. А что ей за дело до их законов? Может, в крови у нее дикая ярость скифов и мужество амазонок? Может, родилась она, чтобы скакать на коне по степям, а не изнывать за деревянными решетками Топкапы, пусть и позолоченными?
Рустем тогда сказал: «Обычай всех преступников – не спрашивать человека о будущем и никогда не обращать внимания на прошлое. А что такое человек без прошлого? Ободранный и голый, будто нищий возле мечети».
Он должен был приехать и обучить Михримах верховой езде. От общения с такими людьми, как Рустем, ощутимее становится сама суть жизни. Как она могла забыть о нем, как могла?
Рустем
Рустем будто не привык к тому, что о нем всегда забывали. С кем был, те помнили, ибо ненавидели. Исчезал с глаз – выбрасывали из памяти. С ненавистью поступали точно так же, как и с любовью. С той лишь разницей, что одну выбрасывают из памяти, а другую – из сердца. Далекий боснийский род Опуковичей, из которого он происходил, наверное, просто забыл о глазастом пятилетнем мальчике, которого тридцать лет назад схватил султанский эмин, вырвав из рук несчастной матери. Да если кто и помнит о нем, так разве лишь родная мать Ивица. Если не умерла от горя. А так один на свете, как месяц в небе.
Наверное, ему повезло, что бросили его тогда в конюшню. Впоследствии он даже в воспоминаниях не хотел употреблять грубое слово «брошен», заменив его почетным «определен».
Там, среди крепких запахов султанской конюшни, среди фырканья коней и ругани старших конюших, проходило его детство и, кажется, должна была пройти и вся его жизнь. Постепенно он привык к теплому тошнотворному дыханию конюшни. Лишенный свободы и желаний, пропитанный собственным и конским потом, прикованный к этим четвероногим разномастным созданиям, подчиненный их норову. Конюшня угнетала, не давая никогда передышки, но одновременно и спасала от угрожающей власти огромного мира, который лежал за ее кирпичными порогами, отпугивая боснийского мальчугана своей непостижимостью и жестокостью. В конюшне только ты и кони, и ты словно бы ценнее остальных людей благодаря дикой силе коней, и ничего людского для тебя не осталось. Конюшня налагала свои обязанности, но одновременно освобождала от всего, что человека преследовало, раздражало и мучило. Кони были всегда только конями, в то время как люди, как известно, становятся всем на свете и никогда не знаешь, чего от них ждать.
Маленький Рустем (так назвали его, отняв отцовскую веру и материнское имя Драган), внешне неуклюжий, мешковатый, как все боснийские мальчуганы, возле коней словно бы перерождался, становился юрким, умелым, никто на конюшне не мог с ним сравняться, и кони, кажется, почувствовали это его умение, а султан Сулейман, который, вспоминая свою молодость, иногда приходил на конюшню ковать коней, хвалясь, что зарабатывает себе на хлеб, заметил и выделил Рустема, и вскоре тот был определен (теперь уже в самом деле определен) для присмотра за султанским вороным конем. И уже никто так не умел тогда угодить Сулейману, никто не умел так вычистить и оседлать султанского коня и так подвести его к повелителю, как этот хмурый босниец, и Рустема возненавидела конюшня, затем, возненавидел султанский двор, ненависть, как огонь по сухой траве, перекинулась на войско, чуть ли не на весь видимый мир, потому что мир никогда не прощает успеха.
На первых порах Рустем ничего не замечал. Жил среди коней, следил за тем, чтобы они были вовремя расседланы, вычищены, вытерты до блеска, имели увлажненный овес в желобах и свежее сено, выводил вместе с другими своими товарищами коней на прогулку, а по ночам, когда никто не видел, гоняли их, чтобы не застаивались. Кони боялись темноты, раздували животы под подпругами, мелко дрожали, прядали ушами, щерили большие желтые зубы, переступали с ноги на ногу, пугливо всхрапывали. Когда же вырывались из конюшенной духоты, громко и радостно ржали и несли своих всадников в темноту, в безбрежный простор, а те сидели на конях, настороженные, чуткие, дикие от воли, уже и забыв, когда были людьми (потому что оставались ими лишь во сне), и казалось им, что жизнь – это только вот такая неистовая скачка на коне, все остальное – надоедливые обязанности, скука и никчемность. Кони были послушными, верными, они мчались в безвесть в темноте и в лунном сиянии, резкий ветер бил в лицо всадникам, и ветер этот словно бы тоже имел масть этих коней – вороной, как крыло ночной птицы, желтый, как лисий хвост, горячий и смердящий. Конские копыта били о землю глухо и понуро, под такой перестук копыт эти кони будут мчать своих всадников и в бездну. Рустему часто слышался этот перестук даже сквозь сон, но он не боялся, не просыпался, облитый холодным потом, продолжал спать, а если и пробуждался, то лишь для того, чтобы навести порядок в конюшне. Иногда кони неизвестно отчего пугались ночью в своих стойлах, и тогда угомонить их можно было только нечеловеческим криком, бросившись бесстрашно к ним, нанося во все стороны удары с жестокостью, которая царила лишь среди людей. Кони мгновенно затихали и уже не тревожились.
Рустем лучше всех в султанской конюшне мог угомонить разъяренных коней и проявлял при этом столько жестокости, что его невольно остерегались все остальные конюшие, хотя никто из них отнюдь не принадлежал к ангелам – были это люди черствые, злобные, ненавидящие. Среди этих одиноких молчаливых людей Рустем рос еще более одиноким и молчаливым, чем они. Высокий, понурый, кривоногий, с каким-то застывшим лицом, скрытым в жестких черных зарослях, этот человек пользовался таким всеобщим презрением и нелюбовью, что благосклонность к нему султана никто не мог ни истолковать, ни просто понять. Рустем видел, какой ненавистью окружен, но не заискивал ни перед кем, не боялся враждебности окружающего мира. В его непокорной боснийской голове родилась мысль не только отомстить этому миру, но даже уничтожать его всеми доступными ему средствами. Но чем он мог отомстить? Презрением, которое мог выражать, возвысившись над всеми благодаря непостижимой благосклонности Сулеймана? Но достаточно ли молчаливого презрения, когда вокруг торжествует жестокость? К тому же благосклонность и милость падишаха могут пройти так же неожиданно и непостижимо, как и родились, – и тогда ты останешься беспомощным, отданным на расправу и съедение, бессильным и безоружным. Человек в этом мире должен иметь свое оружие. Как хищник – клыки и когти, как змея – яд, как бог – громы и молнии, как женщина – красоту и привлекательность. Не надо думать, что Рустем пришел к этому выводу сознательно. Сопротивление рождалось в нем словно бы само по себе, вызванное самой жизнью, неволей и недолей, а в особенности же окружающей жестокостью. Точно так же, как бесстрашно бросался он навстречу ошалевшим коням, стал Рустем ввязываться в людскую речь, бросая туда изредка злые насмешливые слова, едкую брань, издевательские восклицания. Вскоре ощутил в себе настоящий дар брани. Он бранился почти с гениальной грубостью. Те, кого он ругал, не могли ему этого простить и возненавидели Рустема еще больше, а он разгорался от этого еще сильнее, сыпал свою брань неутомимо и щедро, вызывая восторг у посторонних слушателей и ненависть у тех, кого ругал.
– Аллах против всех, и я тоже против всех. А все против меня, говорил Рустем.
Он был одинок, как аллах.
Быть может, это почувствовал султан Сулейман, который, собственно, тоже был безнадежно одинок на этом свете, и возвысил Рустема, сделав его со временем начальником султанских конюшен – имрахором. Кажется, было только трое людей в безграничной империи, с которыми падишах любил разговаривать: любимая жена его Хасеки, всемогущий Ибрагим и этот хмурый босниец, пропитанный острыми запахами конского пота и конской мочи. Султану нравились мрачный юмор Рустема и его беспощадный язык. Сам принадлежал к людям мрачным, но вынужден был эту мрачность сочетать с величием, ибо этого требовало его положение. Потому охотно слушал человека, не скованного ни долгом, ни положением, человека если и не свободного до конца, зато своевольного. Тридцатилетним Рустем уже имел самое высокое в империи звание паши, хотя не отличился ни в битвах, ни в чем-нибудь другом, а умел только присматривать за конями, седлать их, скакать на них и жить с ними.
Ибрагим, который ревниво убирал всех, кто пытался занять хотя бы малейшее место в сердце султана, оставался бессильным лишь перед двумя: перед Роксоланой, чары которой превышали его хитрость, и перед Рустемом, может, единственным человеком в империи, который говорил все, что думает, и просто убивал своими словами. Про Ибрагима, когда тот стал всемогущим великим визирем, а потом уже и сам себя называл вторым султаном, безжалостно уничтожая своих противников, Рустем сказал: «Если бы сам аллах пришел на землю, то и ему Ибрагим велел бы набросить на шею черный шнурок».
Ибрагим отплатил имрахору, отправившись в поход против персидского шаха. Когда зимовал в Халебе, прислал Рустему в Стамбул фирман, согласно которому Рустему выделялся санджак Диярбакыр, на самом краю империи, возле кызылбашей. Высоченные горы, вечные снега, пустынность, стремительные реки, мечущиеся по равнине, изменяя свои русла, дикие племена, которые никогда не успокаивались. Но раз тебя назвали пашой, поезжай править. Рустем попросил султана, чтобы его оставили в Стамбуле при конюшне, но Сулейман не захотел вмешиваться в действия своего всемогущего любимца. «Вот приедет Ибрагим из похода, тогда скажу, чтобы вернул тебя обратно», – сказал ему султан.
Да, наверное, забыл, а может, и сказал, но Ибрагим вскоре был убит, и некому было выполнять повеление султана, – так Рустем остался в Диярбакыре. Знал, что при дворе целые толпы прихвостней, продраться сквозь которых, чтобы попасть к султану, нечего и думать. Хотя теперь, как санджакбег, Рустем вынужден был иметь дело с людьми, но все равно не мог избавиться от ощущения одиночества, о котором забывал лишь тогда, когда оставался с конями, когда шел на конюшню, где было чисто, как в мечети, а тяжелый запах конской мочи и навоза словно бы отгораживал тебя от суеты и скуки мира.
Снова, как и когда-то, любил Рустем (теперь уже паша с пышным сопровождением) ездить верхом на коне по ночам, скакать по бездорожью, под чужими звездами, неизвестно куда и неизвестно зачем.
Одинокий, как чужая звезда на вечернем небе.
На всю жизнь запомнил последнюю свою ночь в Диярбакыре. Как скакал вечером на коне, а между деревьями гнался за ним узенький, будто ниточка, золотой серпик молодого месяца, скользил по небу неслышно, таинственно, не отставал и не обгонял, но вот дорога сделала поворот, и месяц оказался далеко впереди, и теперь уже он убегал, а Рустем догонял его и не мог догнать. Потом дорога внезапно выскочила на темную округлую вершину, всю в высоких деревьях, и месяц упал вниз и теперь проскальзывал между стволами, чуть ли не у корней, но тут дорога снова пошла в долину (Рустем почувствовал это, сползая под тяжестью собственного тела на переднюю луку седла), конь нес всадника вниз, ниже и ниже, земля под копытами уже не издавала полного звука, как на вершине, а издавала мягкий, приглушенный топот, копыта не стучали, а словно бы ударяли по воде, деревья расступались шире и шире, внизу раскинулась безбрежная голубовато-тусклая равнина и над нею огромное, такое же голубовато-тусклое небо, и где-то на страшной высоте, над самой головой Рустема, висел серпик молодого месяца. Теперь месяц висел неподвижно, – как ни гнал Рустем своего коня, далекое мертвое светило не приближалось, было недостижимым, как судьба.
Рустем придержал коня, пустил его шагом, долго так ехал, как человек, которому некуда спешить. И тут среди ночи, на незнакомой дороге догнал его султанский гонец из Стамбула и вручил фирман от самого падишаха. Гонец с девятью охранниками должен был скакать из Стамбула днем и ночью, делая лишь необходимые передышки в караван-сараях и ханах, чтобы вручить султанский фирман паше там, где и когда его найдет, и фирман должен быть прочитан немедленно, и точно так же немедленно должно было выполняться повеление падишаха.
Чауши присвечивали Рустему зажженными сухими ветками, пока тот ломал печати на драгоценном послании и, громко дыша, медленно читал фирман. Султан вызывал его в столицу, жалуя ему высокое звание визиря, вводя в свой диван и повелевая, бросив все, прибыть как можно скорее к подножию его трона.
Лучина погасла, и никто не видел выражения лица хмурого паши после прочтения фирмана. Рустем вздохнул, подумал про себя: – «Назовут визирем все равно что дадут змею в руки: удержать не сможешь, ибо скользкая, а выпустишь – ужалит». Но смолчал, положил в знак покорности фирман себе на голову, затем поцеловал султанскую тогру, крикнул своим охранникам почти оживленно:
– На Стамбул!
С ненавистью вспоминал потерянные на краю земли несколько лет своей жизни. Лишь теперь открылось, что для его беспощадного ума нет надлежащей поживы там, где одни подчиненные, где все его слова воспринимаются с рабской покорностью. Земля и люди были здесь в его нераздельной власти, впервые в жизни имел под своим началом не одних только коней, но, как ни странно, это не приносило никакой радости, тоска заполняла все дни Рустема, тоска непостижимая и беспричинная, и лишь теперь, прочтя султанский фирман, которым его вызывали в Стамбул, понял: рожден, чтобы насмехаться не над теми, кто ниже, досаждать не мелким и бессильным, а только силе самой великой, самой грозной. Там – настоящая жизнь, потому что там опасность, игра с огнем, и даже если погибнешь из-за своего несдержанного языка, то и тогда это будет радостнее, чем прозябание здесь, у черта за пазухой, ибо погибнешь не окончательно, не безнадежно, останется после тебя память, останутся слова – злые, правдивые, неповторимые.
И самая ужасная судьба может обернуться неожиданным торжеством. Рустем возвращался в Стамбул, охваченный мрачной гордостью. Вспомнили! О нем вспомнили! Коню за все его страдания и терпеливость в походах бросают охапку сена, а человеку что? Коню – сено, а человеку – что?
Он отправился в Стамбул не мешкая, без сожаления и воспоминаний покинул свой санджак, не слезал с коня так долго, что измучились даже привычные к переходам султанские гонцы, а Рустем смеялся: «Кого там за что делают пашами, а меня сделали за то, что люблю на конях ездить!»
В Конье его ждал султанский подарок – породистый конь в драгоценной сбруе и перо с бриллиантом на тюрбан.
– Рая без моего султана я не знаю! – сказал Рустем, но лицо у него при этом было таким мрачным, что никто ему не поверил.
В огромном караван-сарае Султан-хан за Коньей Рустема встретил большой конный отряд, посланный Сулейманом, потому что султанский визирь должен был скакать не в одиночестве, а с войском.
Рустем понял, что его испытывают на расстоянии, еще и не подпуская к столице и к подножию трона. Вынужден был прикусить свой злой язык и провозглашать слова, вовсе не присущие ему.
– Да продлит аллах тень на земле нашего великого султана Сулеймана, – обращаясь к всадникам, пробормотал Рустем. – Восемь букв его имени – будто кровавые звезды, посылающие свои лучи до самых дальних уголков вселенной.
Легче было бы проскакать, не слезая с коня, месяц, а то и три, чем такое сказать, но другого выхода не было. «Вот засяду в султанском диване, – мрачно думал Рустем, – тогда уж скажу им всем. А пока туда пробираешься, нужно наступать себе на хвост. Переходя через мост, и медведя дядей назовешь, а свинью теткой».
Он гнал и гнал коня, не давая передышки своему визирскому войску, ехал через Илгын, Акшехир, Чай, Кютахью, подавляющее большинство караван-сараев миновал не останавливаясь, подтрунивая над теми, кто жадным глазом посматривал на прибежища для путников:
– Натыкано здесь этих караван-сараев, будто грехов людских. Но это все для верблюдов, а не для благородных коней!
Еще раз выехали навстречу ему султанские послы с дарами. Султан жалует с пречистого и честного своего тела шаровары непорочности, халат доблестный и футуввет-наме – грамоту на власть. В знак благодарности Рустем поцеловал копыто коня султанского посланца.
Измучился сам, измучил людей и коней, прискакал в Стамбул в надежде, что его сразу же примет сам султан и торжественно введет в диван; вместо этого ему велено было ждать в том же самом доме, который занимал еще в бытность свою имрахором, а потом появился бывший янычар Гасан-ага и повел Рустема к султанше Роксолане.
Султанский имрахор когда-то учил Роксолану ездить верхом на коне. Наука была недолгой, потому что ученица оказалась ловкой, сметливой. Рустем, кажется, лишь один раз помог султанской жене сесть в седло, никакого воспоминания в нем от прикосновения к этой вельможной женщине не осталось, потому что женщины вообще не оставляли в нем ни воспоминаний, ни впечатлений. Теперь не знал, удивляться или злиться от такой странной встречи: вместо султана – только султанша. И ради этого человек проскакал на коне через всю империю? Может, ради того, чтобы посмотреть на султаншу? Но что в ней увидишь? У женщины, как и у коня, самое главное шея, колени и копыта (последние чтобы не крошились и были высокими). Но у коня все это открыто, а у султанши навеки закрыто от всех посторонних взглядов.
Все же он немного успокоился от своих мыслей и шел за Гасан-агой по запутанным переходам Топкапы, подбадривая себя улыбкой: «Вот взглянем на султаншины копыта…»
Роксолана поразила его такой приветливой неприступностью, что он остолбенел, с трудом согнувшись в поклоне, так и не сумел раскрыть рта.
– Рада видеть тебя, визирь, – ласково промолвила султанша.
Неуклюжий босниец кивнул головой, будучи не в состоянии произнести хотя бы слово.
– Мы с его величеством султаном хотим просить тебя…
Просить? Когда это султаны кого-нибудь просили?
…чтобы ты взялся научить нашу нежную Михримах ездить на коне.
Рустем оцепенел. Его назвали визирем лишь для того, чтобы учил ездить верхом султанскую соплячку? Ну, скажем, это уже не рабыня, как было когда-то с ее матерью, а высокородная принцесса, и подсаживать в седло он будет уже не рабское мясо, а благородную султанскую плоть, но что же изменилось для него? Был простым рабом, конюшим, начальником султанских конюшен, пашой и санджакбегом (дикие племена должны были трепетать от одного упоминания его имени, но что-то он там не заметил этого трепета), теперь имеет высочайшее звание визиря, а продолжает оставаться все тем же простым конюхом. Может, эта маленькая непостижимая женщина шутит? Она славянка, а вреднее славянок в обращении с мужчинами едва ли найдешь на свете. Учить принцессу Михримах ездить верхом? А кого еще учить? И где же диван, в котором должен был засесть визирь Рустем-паша?
Он стоял так долго и с таким глупым выражением лица, что Роксолана засмеялась и махнула рукой.
– Вижу, какая это радость для тебя, визирь. Я передам его величеству султану. А теперь можешь идти. Гасан-ага скажет тебе, когда должен приступить.
Снова вел его Гасан-ага по дворцовым переходам, но теперь уже Рустем потешался в душе над самим собой. Вспоминал, как в Коране сказано о конях: всегда только благородные. А всадники – только верные. Благородство всадникам и не снилось. Вот так и ему. Даже до конского благородства не дорастет никогда. Всегда и вечно будет оставаться только верным.
Вспомнил, как ездил тогда с султаншей. На первых порах бежал рядом с ее конем, не решаясь держаться даже за стремя. Потом она пожелала езды настоящей. Он вынужден был тоже садиться верхом, но должен был держаться всегда только позади, так что комья земли из-под копыт Роксоланиного коня летели на него, били ему в лицо, залепляли губы и глаза, но вселяли в его душу такую надежду, что Рустем смеялся в душе. Теперь его назвали визирем, а комья земли из-под копыт коня султанской дочери снова будут залеплять ему лицо. Что же изменилось? Если подумать, то малая радость стать пашой или даже визирем. За что здесь становятся тем или другим? Один стал пашой за то, что умел свистеть по-птичьи, другой готовил как никто черную фасоль, третий читал султану персидских поэтов перед сном так нудно, что султан засыпал после первого бейта, никогда, собственно, и не слыша чтения. А он сам стал пашой за то, что умел рассмешить мрачного Сулеймана. Кроме того, никогда ничего не просил у султана ни для себя, ни для кого-либо другого, ни во что не вмешивался и не вызывал зависти. Не вызывал, пока не вылезал из конских стойл. А стал пашой, назвали его визирем – и уже все здесь, в столице, смешалось, и пока он доскакал от своего Диярбакыра, уже ему предназначен не диван, а одни лишь комья земли из-под копыт коня султанской дочери. От кого здесь зависит твоя добрая слава? От людей, которые сами ею никогда не отличались?
Пожар
О столице говорили: «Если бы Стамбул не горел, все пороги в нем были бы золотые». Или еще: «В Стамбуле пожаров хоть отбавляй, а в Анатолии податей хоть отбавляй».
Рустем-паша утром был со своей сановной ученицей на Ат-Мейдане. Михримах не похожа была на свою мать. Та сразу поняла науку молодого конюшего, а эта жеманилась и дурила голову новоиспеченному визирю, как будто решила во что бы то ни стало вывести его из терпения. Напрасные надежды! Рустем потихоньку сплевывал в дресву под ноги коню, терпеливо переводил дыхание, следуя рядом со скучающей всадницей, теперь уже твердо зная, что в диван он въедет если и не на собственном коне, то следом за конем, который везет на себе Михримах. Когда подсаживал на коня султанскую дочь и ощущал под твердой рукой своей мягкую царственную плоть, в нем что-то словно бы даже вздрагивало. Удивлялся и ненавидел себя. Замечать чье-то тело означало замечать и тело собственное. А до сих пор, кажется, и не замечал его, оттачивая на бруске ненависти свой непокорный дух. Он сердито сплюнул от неприятного открытия и сделал это так откровенно, что Михримах заметила и стала привередничать сильнее, чем всегда. К счастью, Рустема в то утро спас пожар.
Загорелось далеко, где-то на той стороне Халиджи, на корабельных верфях и в еврейском участке Хаскёй. Но огонь сразу же перекинулся через залив, а еще быстрее понесся по Стамбулу отчаянный крик: – «Янгуйн! Янгуйн!» – «Пожар! Пожар!» – и все живое бежало в ту сторону, где царило пламя, одни бежали подолгу, другие из любопытства, третьи от злорадства. Тушить пожар имели право только янычары. Хотя возле каждого дома должна была стоять большая кадка с водой и хозяин обязан был держать лестницу вышиной в свой дом, который согласно предписаниям не мог превышать двух этажей, лить эту воду на огонь могли только янычары, присматривавшие за городским участком. Они прибегали на пожар первыми, окружали пылающий дом, отгоняя саблями даже хозяев, когда видели, что в доме есть что-то ценное, поскорее вытаскивали из огня, а потом ждали, пока сгорит, зная, что серебро и золото превратятся в слитки, которые легко найти в пепле, а все остальное не имело для них ценности.
Едва услышав крики о пожаре, Рустем понял, что может избавиться от своей привередливой принцессы, и смело придержал коня Михримах.
– Ваше высочество…
– Чего тебе?
– Разрешите сегодня прекратить нашу науку.
Михримах взглянула на него поверх яшмака своими глазищами, в которых собрано было все самое злое и от султана, и от султанши. У Рустема засосало под ложечкой от этого взгляда, на языке у него так и вертелись слова тяжелые, как камни, но он загнал эти слова в такие глубины, откуда они не могли уже выбраться. Стараясь придать покорность своему грубому голосу, хмуро произнес:
– Пожар.
Думал, что этим объяснил все. Но Михримах была иного мнения.
– Пожар? Ну и что же? Погорит и перестанет.
– У себя в Диярбакыре я привык…
– Тут Стамбул. А в Стамбуле есть кадий, который за все отвечает.
Рустем не выдержал:
– Ваше высочество! Вы не знаете этого старого обманщика? Да ему пускай сгорит хоть и весь Стамбул, он будет дуть в одну дудку: «Ничего не видел. Ничего не знаю».
Все это ее не интересовало, как говорят: «И каши не хочет, и по воду не идет».
– Сгорит – ну и пускай себе сгорит.
– Ваше высочество, а хассы?
– А что это такое?
– Участки Стамбула, принадлежащие султану и султанской семье.
Она задумалась на короткое время.
– Принадлежат? А что принадлежит мне, ты можешь сказать?.. Ну ладно. Тебе так хочется на этот пожар?
– Я взял бы своих людей. Все же я визирь его величества.
– Там есть еще несколько визирей. Но если уж так хочешь… Пусть меня проводят в Топкапы.
Так Рустем добыл себе свободу.
С пожаром было труднее, чем с султанской дочерью. Во-первых, потому, что в Стамбуле стоял ужасный июльский зной.
А во-вторых, судя по всему, не обошлось без злоумышленников, ибо как бы иначе пожар переметнулся через Золотой Рог, гигантскими перескоками помчался по столице, захватывая новые и новые участки? Несколько участков выгорело дотла, пожар уничтожил поставленный еще Фатихом дворец Эски-Серай, сгорел наполненный заключенными зиндан, превратился в дым огромный деревянный базар, погибла библиотека Матьяша Корвина, вывезенная Сулейманом из венгерской столицы, огонь добрался даже до каменного Бедестана, на котором расплавилась оловянная крыша.
Следом за пожаром, будто принесенный таинственными злыми силами, вполз в столицу черный мор, и смерть косила людей тысячами, не останавливалась и перед порогами дворцов, – так умер великий визирь Аяз-паша, оставив гарем со ста двадцатью детьми и воспоминания о себе как о самом глупом из всех известных визирей. А поскольку дураки всегда мстительны, то многие вздохнули облегченно, услышав о смерти Аяз-паши. Даже Роксолана не сдержала своей радости перед Сулейманом, хотя и знала, что грех радоваться чужой смерти:
– Может, и лучше, что мор убрал Аяз-пашу, мой султан.
– Он был моим верным слугой, – заметил Сулейман.
– Только и всего! Служить могут и вещи неживые. А паша и при жизни был будто мертвый, потому что не имел в себе слова. Человек же, лишенный слова, хуже зверя. Зачем ему жить?
– Своей саблей он показал, что он сноровистее многих живых.
– Кому же показал? Убитым?
– Когда приходил к тебе, хотел сказать, что это он раскрыл мне глаза на измену Ибрагима. Хотел, но не умел сказать.
– Это и лучше: все равно я не поверила бы. Разве не сам падишах распознал презренного грека? А этот несчастный Аяз-паша принадлежал вроде бы к тем, кому поручено, чтобы глупость не исчерпывалась на этом свете. Хотя, может, глупые тоже нужны, чтобы видно было умных. Кого теперь поставите великим визирем, мой повелитель?
– Самого умного. Лютфи-пашу.
– А разве Рустем не умнее?
– Молод еще. Подождет.
– Вы до сих пор не ввели его в диван.
– Не было повода. Смерть Аяз-паши дает его.
– И пожар тоже… – напомнила Роксолана.
– Мне передали, что Рустем-паша вылавливает злоумышленников. У него не было возможности отличиться на войне, пусть попробует на пожаре.
– Разве нельзя потушить пожар?
– На все воля аллаха. Что горит, должно сгореть.
– А если весь Стамбул?
– Тогда аллах подарит нам еще лучший Стамбул. Как сказано: «Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им – рай».
Диван если и не напугал Рустема, то вконец разочаровал. Издали неведомый, таинственный, угрожающий и неприступный, изнутри диван показался Рустему сборищем напыжившихся баранов. Аяз-паши уже не было, но еще словно бы жил его дух среди этих ковров, приглушенных голосов, гнетущего молчания. Султан молча смотрел каменными глазами на своих визирей, никого не узнавая, никого не допуская ни к произнесению речей, ни к размышлениям, и под таким взглядом человек чувствовал себя вроде бы бараном. Не диван, а кучка баранов. Аяз-паша был глупый, как баран. Лютфи-паша упрямый, как баран. Евнух Сулейман-паша жирный, как баран. А он, Рустем, отощавший, будто баран после снежной зимы. Счастье, что в Стамбуле свирепствовал пожар, и он снова бросился туда, захватив с собой янычар, метался среди пепелищ, кого-то ловил, бросал в зинданы, за кем-то гонялся, кого-то преследовал, падая с ног от усталости и рачительности, весь прокопченный, подобно кюльханбею[12 - К ю л ь х а н б е й – трубочист, истопник.], над которым потешается детвора. Теперь уже не было времени для собственных насмешек, зато насмехались над ним стамбульские бездельники – левенды: «Старается, будто хочет понести два арбуза под мышкой».
А пожар, словно лютый невиданный зверь, угомонившись в великом Стамбуле, неожиданно перелетел ночью через Босфор, поджег Ускюдар, там поднялась беспорядочная стрельба, как будто ворвался туда враг, хотя откуда бы он мог появиться в самом сердце грозной империи?
Рустем с янычарами и конными чаушами немедленно переправился на тот берег и пропал на несколько дней, будто погиб в огне, но родился из пепла живой и здоровый, только еще более прокопченный и совсем охрипший. Пожар наконец отступил, теперь только дотлевало то, что не сгорело окончательно, погорельцы разгребали пепелища, принимались ставить новые дома, каждый при этом мечтал захватить участок больший, чем имел раньше, или же придвинуться поближе к главному пути стамбульской воды, шедшему вдоль Кирк-чешме.
Рустем появился перед Михримах точно таким же послушным, как и раньше, придерживал поводья ее коня, бежал рысцой следом, когда султанская дочь пускала коня вскачь.
– Ну как, погасил пожар? – полюбопытствовала она.
– Само погасло.
– Почему же так долго пропадал там?
– Ловил поджигателей.
– И поймал?
– Малость.
– Кто же они?
– Казаки.
– А что это такое?
– Никто не знает. Прозываются так, вот и все. Приплыли из-за моря на лодках. В Синопе сожгли все, разграбили, захватили коней – и сюда.
– Не побоялись Стамбула?
– А чего им бояться?
Михримах остановила коня, долго смотрела на визиря. Видела многих спокойных людей, среди них самый спокойный – отец ее, султан Сулейман, но такого человека, как этот бывший султанский конюх, найдешь ли еще на свете.
– Почему же не расскажешь о них?
– А что рассказывать? Они вошли в Ускюдар, а я наскочил на них. Нас было больше, мы и одолели. Семьдесят и двоих отвез в Эди-куле. Их вожака тоже. Теперь грызет свои кандалы.
– Как это – грызет?
– Зубами. Лютый человек и силой обладает неистовой.
Михримах пришло на ум: это с Украины, с материнской земли! Рассказать ей! Немедленно! Ведь была она не просто девушкой, а султанской дочерью, настроения у нее менялись с такой скоростью, что даже сама не успевала удивляться. А уже в следующее мгновение воскликнула:
– Поведи меня туда!
– Куда, ваше высочество?
– О аллах, какой ты недотепа! К тому казаку! Я хочу его видеть!
– Казак – пока на свободе. А в Эди-куле ни казака, ни человека.
– Хочу его видеть!
– Ваше высочество, даже имам не поможет повешенному.
– Сказано тебе! Пойди скажи моим евнухам, они проведут туда и без тебя.
Евнухи торчали на Ат-Мейдане, не спуская глаз с Рустема-паши и Михримах, так, будто визирь был котом, а принцесса птичкой или мышью.
– Эти проведут, – пробормотал Рустем. – Эти проведут и заведут куда хочешь. А вам бы, ваше высочество, не следовало идти в то паскудное место.
– Не твое дело!
– Я только к тому, что когда воз разбился, то всегда найдутся охотники указать дорогу, да только ведь ехать не на чем.
У Михримах снова сменилось настроение.
– Не хочу я туда ехать. Это, наверное, так страшно. И этот казак… Как его зовут?
– Казак, да и все.
– Имя?!
– Что имя? Для мертвых все равно. Сегодня он еще зовется Байдой, а велит его величество султан…
– Байда? Что это такое?
– А кто может знать? Наверное, человек, который любит пить и гулять, ну, и от нечего делать помахивает сабелькой.
– Я пошлю ему сладостей.
– Ваше высочество! Какие же сладости для человека, которому завтра отрубят голову? Уж если посылать, то меду и водки.
– Что это такое?
– Напитки, которые употребляют христиане, чтобы поднять дух.
– Разве не поднимает духа молитва?
– Молитва – для правоверных. От нее они даже пьянеют, точно так же, как от крови.
– Как ты смеешь? Правоверные пьют только воду.
– Ваше высочество, водой они уже запивают. А пьют кровь. От нее и пьяны. Как сказано: «Купайтесь в их крови».
– Пошли тому казаку то, что нужно. И скажешь мне завтра.
А самой снова не давала покоя мысль: «Рассказать ее величеству султанше! Немедленно рассказать матери! Ведь это же с ее земли! Все ли там такие?»
К Рустему снова обратилась придирчиво:
– Разве никогда раньше не было казаков в Эди-куле? Почему я не знала?
Он был спокоен:
– Ваше высочество, они не добирались до Эди-куле. Слишком далеко. А этот добрался. Забыл о мудрости: прежде чем украсть минарет, подумай, как его спрятать.
Байда
Что начинается несчастьем, заканчивается тоже несчастьем. Всегда о самом главном узнаешь слишком поздно. И хотя весть о казаках в Эди-куле, словно бы состязаясь, принесли ей Гасан-ага, Михримах, даже сам султан, Роксолана знала, что уже поздно, что ничем не поможешь, да еще и этот неповоротливый и неуклюжий Рустем на этот раз проявил неуместную резвость и дал Сулейману прекрасный повод выставить перед всем Стамбулом виновников ужасного пожара, сожравшего чуть ли не половину столицы, обвинив этих несчастных, не спрашивая их провинности, ибо побежденный всегда виноват и всегда платит самую высокую цену.
Гасан приходил к ней каждый день, она допытывалась:
– Как они там? Что делает тот, которого ты называешь Байдой?
– Ваше величество, он поет.
– О боже! Что же он поет?
– Песни. Сам слагает их для себя. Последняя такая: «Ой, п’е Байда мед-горiлочку, та не день не нiчку, та й не в одиночку!..»
– Это Михримах послала ему еду и питье. Мое дитя!
Гасан-ага печально улыбнулся одними глазами. Если бы султанша могла видеть, как ест и пьет Байда в подземельях первого палача империи Джюзел-аги…
Но женщине не всегда надо знать, видеть, она наделена непостижимым умением чувствовать. Неожиданно весь мир для Роксоланы замкнулся на этом странном Байде с его казаками, жила теперь в каком-то лихорадочном напряжении, ждала каждый день вестей из Эди-куле, гоняла туда Гасана, дважды вызывала к себе Рустема-пашу и оба раза прогоняла с не присущей ей злостью, ибо ничего иного не мог вызвать в ней этот неуклюжий и так по-глупому предупредительный босняк, пожелавший превзойти всех султанских визирей на чужом горе. И это она возвратила этого нелюдя из забвения, призвала в столицу!
Она мучилась от затаенных мыслей, тревожных желаний, невысказанных просьб, которые готовила для султана. Что придумать, как подойти к Сулейману, о чем просить? Ей почему-то казалось, что она не сможет жить в этих дворцах, если не воспользуется на этот раз своей властью, чтобы помочь людям, в жилах которых течет родная кровь, голоса которых стонут где-то в подземельях точно так же, как стонал здесь в рабстве ее голос, в глазах которых те же самые вишневые звезды, что и в ее глазах.
Султан, словно бы почуяв посягательство на свою власть, в эти тревожные дни избегал Роксоланы. Может, встревожился, когда увидел, как засверкали ее глаза от известий о заточенных казаках, может, донесли ему, что Михримах посылала этим разбойникам напитки и еду, – он допустил к себе Рустем-пашу, расспросил, как тот управился с такими дерзкими налетчиками, одарил его кафтанами, затем ввел в диван и велел рассказать о своем геройстве во время пожара визирям, чтобы те смогли надлежащим образом оценить его преданность султану, которую сами они не сумели проявить в такое смутное время. Визири возненавидели Рустема сразу и единодушно, но его это не очень беспокоило, он лишь посмеивался в свой жесткий ус: «У кого целые штаны, тот садится где хочет». Считал, что совесть его чиста, потому что выполнил свой долг перед султаном. Если бы ему сказали, что султаном назван вороной жеребец из его конюшни, он точно так же старался бы и для жеребца, ибо, если подумать, жеребец такой же правоверный, как и султан.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pavel-zagrebelnyy/roksolana-strast-suleymana-velikolepnogo/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Г о с п о д а р ь – титул правителей (князей) Молдавии и Валахии XIV–XIX вв.
2
Ч е ш м а – источник, фонтан.
3
Перевод Ю.Саенко.
4
П и р к е л а б – начальник округа, уезда (молд., истор.).
5
Х а р а д ж – налог, который турецкие завоеватели брали у иноверцев.
6
Б а р д а х – сосуд для питья, стакан.
7
Ч и ф т л и к – феодальное поместье (турецк.).
8
К а с ы д ы – жанр восточной поэзии, стихотворения преимущественно панегирического содержания (араб.).
9
С а н д ж а к – в султанской Турции объединение военных ленов.
10
М о р е я – турецкое название северных областей Греции.
11
Х у т б а – у мусульман пятничное богослужение в мечети, во время которого соборный имам читает молитву за «власть предержащую» и за всю мусульманскую общину.
12
К ю л ь х а н б е й – трубочист, истопник.
Павел Архипович Загребельный
Роксолана #2
Перед вами один из лучших романов о великолепном веке расцвета Османской империи, о Роксолане, украинской девушке и первой рабыне, которая смогла стать официальной женой султана Сулеймана Великолепного.
В книге рассказывается о самых ярких, интересных и драматичных годах жизни гарема, о женщине, которую многие историки представляют властной, жестокой и коварной обольстительницей!
Павел Загребельный
Роксолана. Страсть Сулеймана Великолепного
Сулейман I Великолепный (6 ноября 1494 – 5/6 сентября 1566) – десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года, при нем Оттоманская Порта достигла апогея своего развития.
Четвертой наложницей и первой законной женой Сулеймана Великолепного стала Анастасия (в других источниках – Александра) Лисовская, которую называли Хюррем Султан, а в Европе знали как Роксолану. По традиции, заложенной востоковедом Хаммер-Пургшталем, считается, что Настя (Александра) Лисовская была полькой из городка Рогатин (ныне Западная Украина).
Обольстительная красавица Роксолана подарила султану пятерых детей.
Книга вторая
Страсти
Кровь
От Ибрагима не осталось ничего, даже его любимых зеркал. Хатиджа не захотела взять ни одного, ибо каждое из них как бы хранило в своих таинственных глубинах бледное отражение того, кто опозорил ее царский род. Султанские эмины, которым велено было забрать имущество бывшего великого визиря в государственную сокровищницу, проявили интерес только к драгоценным оправам. Даже янычары, расположившись во дворце Ибрагима, вопреки своим привычкам, не стали бить зеркал, правда, не из суеверия, а скорее из трезвого расчета, потому что все это добро можно было отправить на Бедестан и распродать там хотя и за полцены, но все же получить при этом пользу большую, чем от вдребезги разбитого стекла.
Неожиданно из-за моря приплыло еще одно зеркало для Ибрагима. Уже для мертвого. У стамбульских причалов всегда было много зевак, которые встречали каждое судно так, будто надеялись, что оно принесет им счастливую судьбу. Посылал туда своих людей и Гасан-ага, желая без промедления получать вести, прилетающие с морскими ветрами. Вот так один из его Гасанов и узнал: на только что прибывшем венецианском барке привезено в дар Ибрагиму огромное зеркало. На этом барке приплыл в Стамбул посланный самим дожем Венеции Андреа Грити прославленный художник Вечеллио с несколькими своими учениками. Дож прислал своего любимого художника по просьбе сына Луиджи Грити, еще не зная о том, что сын его уже мертв, точно так же, как не знал о смерти великого визиря Ибрагима тот, кто посылал ему в дар редкостное зеркало.
Собственно, об этом зеркале и о художнике Гасан-ага немедленно известил свою повелительницу, опережая даже вездесущих султанских улаков доносчиков. Он переслал Роксолане краткое письмо и уже в тот же день получил от султанши повеление взять с барка зеркало и передать гаремным евнухам, чтобы те поставили его в кьёшк Гюльхане, обновленный Сулейманом для своей любимой жены во время ее последней болезни. О художнике Роксолана не упоминала, не интересовалась и тем, кто прислал Ибрагиму зеркало, но Гасан-ага и так знал, что когда-нибудь она может спросить и поинтересоваться, ибо была не только султаншей, а прежде всего женщиной капризной, непонятной и загадочной. Потому он должен был собирать сведения и об этом.
Зеркало было роскошное. Огромное, на полстены, в тяжелой золоченой раме, вверху у нее был вид стрельчатой арки, на которой летели два улыбающихся золотых ангелочка с оливковыми ветвями в руках. Кому принесут они желанный мир и принесут ли?
Зеркало украсило зал приемов в Гюльхане. Оно понравилось самому султану, но и Сулейман проявил сдержанность, достойную властелина, не спросив даже, откуда оно. Роксолана сказала ему о художнике, присланном дожем Венеции.
– Я уже знаю. Это Луиджи Грити попросил своего отца. Хотел, чтобы было как при великом Мехмеде Фатихе, когда Венеция тоже присылала в Стамбул своего самого знаменитого художника. Даже мертвый Грити оказывает мне услуги. Я обязан отомстить за его смерть, подобающим образом наказав венгров и этого коварного молдавского воеводу Рареша.
– Вы снова пойдете в поход, мой падишах? Ради какого-то мертвого купца-иноверца?
– Он был моим другом.
– Кажется, он был еще большим другом Ибрагима.
– Грити убит, когда он исполнял нашу высокую волю. Это преступление не может оставаться безнаказанным.
– Снова наказания и снова кровь? Мой повелитель, мне страшно. Не падет ли когда-нибудь эта кровь на наших детей?
– Это кровь неверных.
– Но все равно она красная. Людская кровь. Сколько ее уже пролито на земле! Целые моря. А все мало? Только и мыслей – как пролить еще больше? Ваше величество, не оставляйте меня одну в Стамбуле! Приостановите свой поход. Возьмите цветок в руки, как это сделал когда-то Фатих, и пусть этот венецианец нарисует вас, как нарисовал когда-то Фатиха его предшественник.
– Обычай запрещает изображать живые существа, – напомнил султан.
– Измените обычай, мой повелитель! Запрещать живое – не делает ли это людей кровожадными, преступно равнодушными к живой жизни?
– Чего стоит человеческая жизнь, когда имеешь намерение изменить мир? – торжественно промолвил Сулейман. – Виновен не тот, кто убивает, а тот, кто умирает. Враг врагу не читает Коран.
Роксолана смотрела на этого загадочного человека, не зная, любить или ненавидеть его за это упрямство, а он утомленно опускал веки, боясь посмотреть в глаза своей Хасеки, глаза такого непостижимого и недостижимого цвета, как и ее сердце.
– Прими этого живописца, – милостиво улыбнулся он, – для него это будет невероятно высокая честь.
– Он рисовал римского папу, императора, королей.
– Но никогда не имел чести разговаривать с всемогущей султаншей.
Роксолана засмеялась.
– Мой султан, эта почтенность меня просто убивает! Я больше хотела бы остаться беззаботной девчонкой, чем быть всемогущей султаншей.
Он тоже попытался сбросить с себя чрезмерную величавость, которая граничила с угрозой окаменения.
– И моему сердцу всегда милее смеющаяся и поющая Хуррем. Почему бы ей теперь не смеяться и не петь? Нет ни преград, ни запретов.
– А может, человек смеется и поет только тогда, когда есть преграды и запреты? Хочешь их пересмеять и перепеть, ибо как же иначе устранишь их? Радостью одолеть все злое.
– Я хочу, чтобы у тебя всегда была радость. Чтобы ты воспринимала радость как дар аллаха. И никто не смеет встать у тебя на пути. Ты должна принять венецианского живописца, может, тебе стоит принять и посла Пресветлой Республики, пусть увидят, в каком счастье и богатстве ты живешь.
– Баилы пишут об этом уже десять лет. Сколько же их сюда присылала Венеция. И все они одинаковы. Живут сплетнями, как женщины в гареме.
– Ты принадлежишь отныне к миру мужскому, – самодовольно заметил Сулейман.
– Слабое утешение, – горько улыбнулась Роксолана. – В этом суровом мире нет счастья, есть только пустые слова: слава, богатство, положение, власть.
Он нахмурился:
– А величие?
Она вспомнила слова: «И он упал, и падение его было великим», но промолчала. Только удивилась, что султан забыл сослаться на спасительный Коран, как это делал каждый раз.
– Вспомни, как мы принимали польского посла, – сказал Сулейман, – и как он был поражен, увидев тебя рядом со мною на троне, а еще больше когда ты обратилась к нему по-латыни и по-польски.
Роксолана засмеялась, вспомнив, как был обескуражен пан Опалинский.
– Я передал польскому королю письмо, где было сказано: «В каком счастье видел твой посол Опалинский твою сестру, а мою жену, пусть сам тебе скажет…»
– Нет пределов моей благодарности, – прошептала Роксолана.
– И моей любви к тебе, – тихо промолвил султан, – каждое воспоминание о тебе светится для меня в кромешной тьме, будто золотая заря. Я пришлю тебе свои стихи об этом.
– Это будет бесценный подарок, – ответила она шепотом, будто окутала шелком.
Прежде чем встретиться с венецианцем, Роксолана позвала к себе Гасана. Несмотря на свое видимое могущество, у нее не было другого места для таких встреч, кроме покоев Фатиха в Большом дворце, очень тесных среди этой роскоши, а теперь еще и запятнанных зловещей славой после той ночи таинственного убийства Ибрагима, которое свершилось здесь. Правда, было в этих покоях и то, что привлекало Роксолану, как бы возвращая ее в навеки утраченный мир. Рисунки Джентиле Беллини на стенах. Контуры далеких городов, фигуры людей, пестрая одежда, голые тела, невинность и греховность, роскошь и суета. В рисунках венецианского художника нашла отражение вся человеческая жизнь с ее долей и недолей. Чудо рождения, первый взгляд на мир, первый крик и первый шаг, робость и дерзость, радость и отчаяние, уныние будничности и шепоты восторга, а затем внезапно настигшее горе, падение, почти гибель, и все начинается заново, ты хочешь снова прийти на свет, который тебя жестоко отбросил, но не просто прийти, а победить, одолеть, покорить, добиться господства; теперь преграды уже не мелочные и никчемные, ты бросаешь вызов самой судьбе, судьба покорно стелется к твоим ногам, возносит тебя к вершинам, к небесам, – и все лишь для того, чтобы с высоты увидела ты юдоли скорби и темные бездны неминуемой гибели, которая суждена тебе с момента рождения, услышала проклятия, которые темным хором окружают каждый твой поступок. И восторг твой, выходит, не настоящий, а мнимый, и мир, которым ты овладела, при всей его видимой пестроте, на самом деле серый и невыразительный, и вокруг тьма, западни и вечная безысходность. Как сказано: «Где бы вы ни были, настигнет вас смерть, если бы вы даже были в воздвигнутых башнях».
Но это было в дни, когда она еще задыхалась от отчаяния, когда безнадежное одиночество и сиротство терзали ее душу, и она лихорадочно всматривалась в эти рисунки, будто в собственную судьбу, и, возможно, видела в них даже то, чего там не было, и только ее болезненная фантазия населяла этот разноцветный мир беззаботного венецианца химерами и ужасами.
Теперь проходила мимо них, не поворачивая головы. Могла разрешить себе такую роскошь невнимания, величавой скуки, уже не было пугливо раскрытых глаз – нависали над ними отяжелевшие веки, жемчужно твердые веки султанши над ее глазами. Ничто для нее не представляет никакой ценности, кроме самой жизни.
Сидела на шелковом диванчике, поджав под себя ноги, с небрежной изысканностью окутавшись широким ярким одеянием, терпеливо ждала, пока прислуга расставляла на восьмигранных столиках сладости и плоды, надменно следила, как нахально слоняются евнухи, на которых могла бы прикрикнуть, чтобы исчезли с глаз, хотя все равно знала, что они спрячутся вокруг покоев Фатиха, чтобы оберегать ее, следить, подсматривать, не доверять. Унизительная очевидность рабства, пусть даже и позолоченного. Гасана, как всегда, привел высоченный кизляр-ага, поклонился султанше до самой земли, не сводя с нее рабского взгляда, но из комнаты не уходил, торчал у дверей, хотя и знал, что будет с позором изгнан одним лишь взмахом пальчика Роксоланы. Но сегодня Роксолана была более милостива к боснийцу, подарив ему даже два слова.
– Иди прочь! – сказала ему ласково.
Ибрагим, кланяясь, попятился за дверь, чтобы притаиться там со всеми своими прислужниками, которых время от времени будет вталкивать в покои, чтобы те сновали там, напоминая ей о неутомимой слежке, о неволе в золотой клетке.
– Что в мире? – спросила Роксолана своего поверенного, кивая Гасану, чтобы сел и угощался султанскими лакомствами.
– Суетятся смертные, – беззаботно промолвил Гасан.
– Это видно даже из гарема. Расскажи о том, чего я не вижу.
Пока не хотела говорить ни о каких делах, искала отдыха в беседе, играла голосом, прихотливостью, беззаботностью.
– Почему же ты молчишь? – удивилась, не услышав Гасановой речи.
Хотя он был самым близким для нее после султана (а может, еще более близким и родным!), но Гасан никогда не забывал, что она повелительница, а он только слуга, потому его молчание не столько удивило, сколько встревожило Роксолану.
– Гасан-ага, что с вами? Почему не отвечаете?
А он продолжал молчать и смотрел через ее плечо, смотрел упорно, немигающими глазами, встревоженно или взволнованно, смотрел, забыв о почтительности, дерзко, будто, как и прежде, оставался наглым янычаром, а не был самым надежным доверенным человеком этой повелительницы.
Проще всего было бы, проследив направление его взгляда, самой оглянуться, увидеть то, что встревожило Гасана, посмеяться над ним, пошутить. Но простые поступки уже не подобали Роксолане. Если бы она была Настасей, тогда… Но Настаси не было. Исчезла, улетела с птицами в теплые края, и не вернулась, и никогда не вернется. И матуся не вернется, и родной батюшка-отец, и отцовский дом на рогатинском холме: «Закричали янголи на небi, iзбудили батечка во гробi. Вставай, вставай, батечку, до суду, ведуть твое дитятко до шлюбу».
Оглянуться или не оглянуться? Нет! Сидела, словно окаменела, на губах царственная улыбка, а в душе ужас.
– Гасан!
– Ваше величество, – прошептал он, – кровь… На стене…
– Разве янычара поразишь кровью?
– Это кровь Ибрагима, ваше величество, – сказал Гасан.
– Боишься, что эта кровь упадет на меня? Но ведь сказано: «Не вы их убивали, но Аллах убивал их…»
– Они нарочно посадили вас под этой стеной.
– Кто они?
Он совсем растерялся:
– Разве я знаю? Они все хотят взвалить на вас, ваше величество. И смерть валиде, и убийство Ибрагима, и смерть великого муфтия Кемаль-заде. Вы уже слыхали о его смерти?
Она снова привела слова из Корана – неизвестно, всерьез или хотела прикрыться шуткой:
– «…чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности».
А сама слышала, как в душе что-то скулит жалобно и отвратительно. Все здесь в крови – руки, стены, сердца, мысли.
– Ибрагим должен был убить султана, султан его опередил, а теперь они хотят взвалить все на вас, ваше величество, – упорно продолжал Гасан-ага.
– Мне надоели гаремные сплетни.
– Даже смерть Грити…
– Еще и Грити? И этого тоже убила я?
– Они говорят, что на молдавский престол Рареша поставили вы, а уже Рареш…
– …выдал венграм Грити, исполняя мою волю? Все только то и делают, что исполняют мою волю. И Петр Рареш точно так же. Этот байстрюк Стефана Великого. Он прислал подарок для моей дочери Михримах, для султанской дочери! Драгоценную мелочь, на которую только и способен был один из многочисленных байстрюков великого господаря[1 - Г о с п о д а р ь – титул правителей (князей) Молдавии и Валахии XIV–XIX вв.]. А знает ли кто-нибудь, что этот господарь Стефан когда-то был в моем родном Рогатине с войском и ограбил церковь моего отца-батюшки? И мог бы кто-нибудь в этой земле сказать мне, где моя матуся, и где мой отец, и где мой дом, и где мое детство? И на чьих руках их кровь?
Гасан молчал. Он проникался ее мукой, напрягался, страдая душой, готов был взять на себя все отчаяние Роксоланы, всю ее скорбь – так хотел бы помочь ей чем-то. Но чем и как?
– Ваше величество, я со своими людьми делаю все, чтобы…
– Зачем? Мои руки чисты! Пойди и скажи об этом всем. Я сама скажу.
Она вскочила на ноги, заметалась по коврам. Гасан тоже мгновенно вскочил с места, прижался к стене – кажется, в полуоткрытой двери промелькнула тяжелая фигура кизляр-аги. Дохнуло кислым запахом евнухов, невидимых, но ощутимых и присутствующих. Роксолана отбежала от стены с пятнами Ибрагимовой крови, остановилась, смотрела на эти коричневые следы смерти ненавистного человека, ощущала, как призраки обступают ее со всех сторон, недвижимые, будто окаменелые символы корыстолюбия и несчастий: валиде с темными резными устами; два великих муфтия с постными лицами и глазами фанатиков; пышнотелая Гульфем, набитая глупостью даже после смерти; Грити, который и мертвыми руками гребет к себе драгоценные камни; Ибрагим, который, щеря острые зубы, ядовито шепчет ей: «А что ты сказала султану? Что ты сказала?» Тень падает на тебя, хотя ты и безвинна. Достигла величия – и теперь падает тень.
– Я нашел того, кто прислал из-за моря зеркало Ибрагиму, – неожиданно сказал Гасан-ага.
Простые слова помогли Роксолане стряхнуть с себя наваждение. Призраки отступили, кровавые пятна на рисунках Джентиле Беллини утратили свой зловещий вид, казались следом небрежности художника, случайным мазком сонной кисти, непостижимым капризом веселого, а то и хмельного венецианца.
– Зеркало? – Она с радостью ухватилась за это спасение от призраков, терзавших ее и на вершине величия с еще большей яростью, чем в рабской униженности, которую познала в ту ночь, когда была приведена в султанский гарем. – Кто же этот благодетель?
Успокоившаяся, она возвратилась к своему шелковому диванчику, удобно расположилась, даже протянула руку, чтобы налить себе шербета из серебряного кувшина. Будто сойдя со стены, появилась неизвестно как и откуда служанка в прозрачной одежде, а за нею тенями подкрадывались евнухи и на самом деле казались бы тенями, если бы не было у них грязных, липких от сладостей пальцев, которые старались как можно скорее вытереть – один о шаровары, другой о тюрбан.
– Убирайтесь вон! – прикрикнула на них султанша.
Служанку удалила незаметным движением бровей, так, что даже Гасан-ага поразился ее умению.
– В том-то и дело, что он не является благодетелем, – сказал Гасан, отвечая на вопрос Роксоланы. – Это скорее любимец. Точно так же, как Ибрагим был душой и сердцем своего повелителя.
– Ты говоришь – был? Неужели его тоже нет, как и нашего грека? Мертвый послал зеркало мертвому, а я оказалась между ними. Велю убрать его из Гюльхане.
– Ваше величество, этот человек жив. И, кажется, плывет сюда, чтобы найти убежище, обещанное ему Ибрагимом.
– Объясни, – утомленно откинулась она на подушку.
– Его зовут Лоренцано. Он из рода Медичи, но не из тех, что обладают влиянием и властью в Италии, а из незнатных. Стал душой и сердцем флорентийского правителя Алессандро Медичи. Услышал, какой властью обладает Ибрагим над султаном, начал переписываться с греком, спрашивал советов, оказался способным учеником. Далее они уже состязались – кто достигнет большей власти над своим благодетелем. Потом стали следить, кто первым избавится от своего благодетеля, потому что любимцами становятся лишь для того, чтобы покончить – рано или поздно – с покровителями, устранить их и занять их место. На случай неудачи они договорились спасать друг друга. Когда же захватят власть, быть и дальше сообщниками во всем, пока не покорится им весь многолюдный мир – одному исламский, другому христианский.
– Говоришь страшное. Как мог узнать об этом?
– Ваше величество, письма. Я купил все письма, которые писал этот Лоренцано Ибрагиму. Грек не знал итальянского, давал читать своему драгоману, потом приказывал уничтожать письма. А тот продавал их великому драгоману Юнус-бегу, потому что Юнус-бег поклялся низвергнуть Ибрагима. Может, это он и открыл глаза султану. Теперь Ибрагим мертв, и Юнус-бег охотно продал мне письма. В последнем из них Лоренцано сообщает, что убил своего благодетеля во время охоты, но из Флоренции вынужден бежать, потому что власть захватить не сумел. Надеется на прибежище в Стамбуле. Еще не знает, что Ибрагим мертв.
– Где эти письма?
Он передал ей тоненький сверток в шелковом платочке.
– Так мало?
– Ваше величество, разве глубина подлости зависит от количества слов?
– Прими этого Лоренцано, и пусть живет здесь, сколько нужно.
– Его могут убить флорентийцы.
– Спрячь от них. А тех венецианцев, которые прибыли к Грити, приведи ко мне. Я приму художника. Где он живет? Во дворце Грити?
– Все имущество Грити забрало государство.
– А разве государство – это не я? Пусть откроют для художника дом Грити и обеспечат всем необходимым. Скажи, что это веление падишаха.
– Ваше величество, вы примете венецианца здесь?
– Нет у меня для этого другого места.
Гасан снова молча смотрел на стену за ее спиной.
– Боишься этой крови? Мертвых врагов не надо бояться. Их надо любить и всячески возвеличивать, ибо тогда наши победы над ними обретают большую цену. Пусть увидит этот заморский художник кровь. У жестокого султана султанша тоже должна быть жестокой!
– Ваше величество, зачем вы это делаете? Мир жесток, он не прощает ничего.
– А чем я должна платить этому миру? Смехом и песнями? Не довольно ли? Уже устала. Полетела бы туда, где родилась моя душа, но где крылья? Султан собирается в поход на молдавского господаря. Иди с ним. И дойди до Рогатина. Посмотри и расскажи. Ибо я уже туда попаду разве лишь мертвой или в молве. Султаншей не могу. Султанша ступает только по своей земле. А моя земля теперь там, где мои дети.
– Ваше величество, поверьте, что мое сердце разрывается от боли при этих словах.
– Ладно. Чересчур много слышишь от меня слов. Иди.
Пробыла в покоях Фатиха до наступления сумерек. Велела принести туда ужин. Ужин с ужасами и кровью. Содрогалась от непонятного предчувствия. Плакала, не скрывая слез. «Лишаю слiдоньки по двору, а слiзоньки по столу». Вслушивалась в голоса неведомые, незримые, таинственные, далекие, то едва ощутимые, словно шелест крови в жилах, то угрожающие, как кара небесная. Ждала отмщения за грехопадение, за чьи-то страдания, ибо ее страданий теперь уже никто не увидит – они исчезли, забылись, вокруг воцарились зависть и ненависть. И никому нет дела до ее болезненно обнаженной души, неведомые голоса, которые с ярой жестокостью добивались мести и кары, считали, будто по ее вине рушатся царства и по ее вине преступление расползается по земле, заполняя просторы, огнем и кровью покоряя времена.
Но разве не она восседает в центре этого преступного мироздания и разве не падает на нее кровавая тень величественного султана, на ложе которого она прорастала, будто молодая беззаботная трава?
Хотела бы в тот же день, в ту же ночь, не дожидаясь утра, привести сюда художника, схватить его за руку, притянуть к этой стене со следами убийства, крикнуть: «На крови нарисуй султана Сулеймана, нарисуй его на крови! Моей, моих детей и моего народа!»
Но встретила художника на следующий день сдержанно, в величавом спокойствии, вся унизанная драгоценностями, окруженная прислугой, евнухами, толпившимися в тесных покоях Фатиха.
Художник оказался человеком старым, утомленным и каким-то словно бы даже равнодушным, не присутствующим при деяниях мира сего. Никакого любопытства ни в глазах, ни в голосе, ни во всем виде. Быть может, весь уже воплотился в свои картины и ничего не оставил для себя?
Роксолана, смело идя на преступное нарушение обычая, приоткрыла тонкий яшмак, чтобы показать венецианцу лицо. Но и это не подействовало на художника, не нарушило его спокойствия. Тогда она, снова опустив на лицо яшмак, сказала почти со злорадством:
– Я не видела ваших картин. Ничего не видела. Не слышала также вашего имени, хотя мне и говорили, что вы довольно известный художник. Но наша вера запрещает изображать живые существа, поэтому ваша слава в этой земле не существует.
Он спокойно выслушал эти жестоко-презрительные слова. Казалось, ничто его не тронуло и не удивило, даже то, что султанша свободно владела его родным языком.
Роксолана слишком поздно поняла, что допустила ошибку. Если хочешь унизить достоинство художника, не обращайся к нему на его родном языке. Она должна была бы обратиться к венецианцу по-турецки, прибегая к услугам драгомана-евнуха. Но теперь поздно об этом говорить. Да и нужно ли было вообще унижать этого человека? Потом присмотрелась к его глазам и увидела: то, что казалось равнодушием, на самом деле было мудростью и глубоко скрытым страданием. Может, только художники острее всего ощущают несовершенство мира и потому больше всех страдают?
– Я сказала вам неправду, – внезапно промолвила Роксолана, – я знаю о вас много, хотя и не видела ваших картин, ибо мир, в котором я живу, не может ни понять, ни воспринять их. Более всего заинтересовало меня ваше знаменитое «Вознесение». Почему-то представляется оно мне все в золотом сиянии, и Мария возносится на небо в золотой радости.
– К сожалению, радости всегда сопутствует печаль, – заметил художник.
– Это я знаю. В церкви моего отца иконы «Вознесение» и «Страсти» висели рядом. Тогда я еще была слишком мала, чтобы понять неминуемость этого сочетания.
– Шесть лет тому назад умерла моя любимая жена Чечилия, – неожиданно сказал художник. – И теперь я не могу успокоить свое старое сердце. Рисовал дожей, пап, императоров, святых, работал тяжело, ожесточенно, искал спасения и утешения, искал того, что превосходит все страсти, искал вечное.
– А что вечное? Душа? Мысль?
– Это субстанции неуловимые. Я привык видеть все воплощенным. Вечным все становится лишь тогда, когда одевается в красоту.
– А бог? – почти испуганно спросила Роксолана. И тихо добавила: – А дьявол?
– Ни боги, ни дьяволы не вечны, вечен только человек на земле, хотя он и смертен, – спокойно промолвил художник. Сказал без страха, так, будто провидел сквозь годы и знал, что переживет всех: несколько венецианских дожей и римских пап, императора Карла и четырех французских королей, пятерых турецких султанов и эту молодую, похожую на тоненькую девчушку султаншу, потому что сам умрет только в день своего столетнего юбилея, оставив после себя множество бессмертных творений.
– Ваши слова противоречивы. Как может быть вечным то, что умирает?
– Умирает человек, но живет красота. Красота природы. Красота женщины. Красота творения. Если от меня останется для потомков хотя бы один удар кисти о полотно, то будет он посвящен женской красоте.
Впервые за все время их беседы загорелся взгляд у старого человека, и огонь его глаз был таким, что обжигал всю душу Роксоланы.
– Но сюда вы прибыли, чтобы нарисовать султана.
– И султаншу, – улыбнулся художник.
– Я еще не думала над этим. Моя вечность не во мне, а в моих детях.
– Я буду просить разрешения написать также вашу дочь.
– Только Михримах? А сыновей?
Художник не ответил. Снова спрятался за спокойное равнодушие. Роксолане почему-то захотелось поверить в это спокойствие. Может, в самом деле этот человек подарит величие и вечность хотя бы на то время, пока будет присутствовать здесь и рисовать султана, ее и маленькую Михримах.
Венецианец писал портрет Сулеймана в Тронном зале. Султан позировал художнику весь в золоте, на фоне тяжелых бархатных занавесей, а Роксолане хотелось бы затолкать Сулеймана в небольшую комнатку, разрисованную холодной рукой Беллини, который смотрел бы на мир словно сквозь светлые волны Адриатики, и поставить у стены, забрызганной кровью. «На крови нарисуйте его! – снова хотелось крикнуть Роксолане. – На крови! Моей, и моих детей, и моего народа!»
И венецианец, будто услышал этот безмолвный крик загадочно мудрой султанши, писал султана не в золотой чешуе, как это делал исламский миниатюрист, которого посадили рядом с неверным, чтобы не допустить осквернения особы падишаха джавуром, а в страшном полыхании крови: тонкий шелковый кафтан, бархатная безрукавка, острый рог колпака – все кроваво-красное, и отблески этого зловещего цвета ложились на острое лицо султана, на правую руку, державшую парчовый платок, на высокий белый тюрбан, даже на ряд золотых пуговиц на кафтане. Фигура султана четко вырисовывалась на темно-зеленом фоне тяжелых занавесей, она стояла как бы отдельно, в стороне от этого фона, вся в багровых отблесках, хищная и острая, как исламский меч. И Сулейман был весьма доволен работой художника.
Творение портрета султана принадлежало к торжественным государственным актам, поэтому в Тронном зале в течение всего времени, которое нужно было венецианцу для его работы, присутствовали Роксолана, новый великий визирь, безмолвный Аяз-паша, члены дивана, вельможи, челядь – нишанджии, хаваши, чухраи и дильсизы.
Когда же художник приступил к портрету султанши, то за его спиной не торчал даже кизляр-ага, лишь непрерывно слонялись евнухи, то принося что-то, то унося, так что порой Роксолане хотелось кшикнуть на них, как на кур, отгоняя будто мух, назойливых и настырных. Знала, что это напрасно. Евнухи всегда триумфуют. Жестоко окромсанные сами, они немилосердно и безудержно кромсают и чужую жизнь.
Словно бы понимая душевное состояние султанши, художник набросал на полотне очертание ее лица. Несколько едва заметных прикосновений угольком к туго натянутому холсту – и уже проглянуло с белого поля капризное личико, выпячивая вперед дерзкий подбородок, одаривая мир неуловимо-таинственной улыбкой, в которой обещание и угроза, хвала и проклятие, и не знаешь, радоваться ему или бояться его.
Этот рисунок стал словно бы свидетельством какого-то единодушия между ними. Он объединял их, хотя и неизвестно в чем. Еще не осознавали они этого, но чувствовали, что этот рисунок навсегда соединяет молодую всевластную женщину и стареющего художника с глазами, полными сосредоточенности и скрытой грусти.
Султан изъявил желание, чтобы Роксолана оделась в подаренное им после Родоса платье и украсила себя всеми драгоценностями. Быть может, он подсознательно почувствовал, что венецианец нарисовал его не в ореоле огней славы и побед, а в тяжелом полыхании крови, и теперь хотел отомстить художнику, заставив его изображать не живую султаншу, а ее драгоценности, сверкание бриллиантов, сочность рубинов, зеленоватую грусть изумрудов и розовую белизну жемчугов? Он и дочь Михримах тоже велел украсить драгоценностями так, что они сплошь затмили ее нежное личико. Чрезмерное богатство или бессмысленная прихоть восточного деспота? Но художник был слишком опытным, чтобы растеряться. Гений, как истина, сильнее деспотов. Художник пробился сквозь все драгоценности, обрел за ними лицо Роксоланы, проник в его тайны, раскрыл в нем глубоко затаенное страдание, горечь, боль и показал все в ее улыбке, в розовом оттенке щек, в трепете прозрачных ноздрей, в упрямом подбородке. В этом маленьком лице можно было прочесть жестокую беспощадность нынешних времен, стыдливую нерешительность будущего, горькую боль по навеки утраченному прошлому, которое не вернется никогда-никогда и потому так болезненно и так прекрасно! Поэт бы сказал: «Художник бровь нарисовал и замер…»
Так и придет Роксолана к далеким потомкам со своей горькой улыбкой, но не с картины прославленного венецианца, существование которой засвидетельствует в своих «Жизнеописаниях» лишь Вазари, а с гравюры неизвестного художника, который сделал ее с той картины. Портрет Михримах затеряется навеки, а портрет Сулеймана окажется в Будапештской национальной портретной галерее под инвентарным номером 438, точно султан уже после смерти возжаждал получить прибежище на той земле, которой причинил при жизни так много зла.
Барабаны
Султан снова был вдали от Роксоланы со своими дикими вояками, ошалелыми конями, смердящими верблюдами, с барабанами и знаменами.
Грохот барабанов заглушал живые голоса. Грохот холодный и мертвый, как железо. Трескучее эхо от красных султанских барабанов стояло над миром, оно впитывалось в землю, входило в ее могучее тело навсегда, навеки, чтобы снова и снова подыматься, рассеяться горьким туманом невинно пролитой крови, красной мглой пожаров, метанием зловещих теней убийц и захватчиков. В человека этот звук не проникал никогда, человеческим тоже не становился никогда – удары извне, истязания, истязания без надежды на спасение.
А барабаны, быть может, единственные в том мире чувствовали себя счастливыми. Бесстрашно и бодро бросали они призывы людям и векам, не зная ни старения, ни усталости. Они гремели в темноте и при солнце безжалостно, никого не жалея, никого не страшась, шли навстречу смерти.
Умереть, побеждая! Вперед! Вперед! Вперед!
Геройством можно превзойти все на свете. Это и есть наивысший пример не щадить себя. Чувство самозащиты чуждо и враждебно мне. Ибо я только барабан. Бей меня безжалостно, бей изо всех сил, бей яростно! Чем сильнее бьешь меня, тем больше я живу. Что должно погибнуть, уже погибло, и я родился из смерти животного, с которого содрали шкуру, чтобы я стал духом бесстрашия и храбрости. Возвещаю чью-то смерть, множество смертей, мой темный голос не знает жалости, ему чужды сомнения, торжественно и зловеще, понуро и страшно пусть звучит мой голос, гремит и гремит моя душа!
Роксолане хотелось кричать со стамбульских холмов в те дальние дали, куда снова пошел султан, на этот раз взяв с собой сыновей – Мехмеда и Селима: «Не верьте барабанам и знаменам! Не слушайте их мертвый голос! Их призыв – это кровь и пожары!»
Султан пошел через Эдирне и Скопле до самого побережья Адриатического моря, чтобы напугать Венецию. Как ни медленно распространялись тогда вести, но страшная весть об убийстве Луиджи Грити все же дошла наконец до венецианского дожа Андреа Грити. Тот тут же отозвал из Стамбула своего художника, не дав ему возможности написать сыновей султана, а теперь из чувства мести к Сулейману намеревался присоединиться к Священной лиге, возглавляемой императором Карлом, самым яростным врагом турецкого падишаха. Младших сыновей, Баязида и Джихангира, Роксолана не пустила в поход. Сменила воспитателя Баязида – сделала им Гасан-агу. Может, не без тайной мысли о том, чтобы хоть один из ее сыновей перенял что-то дорогое ее сердцу, ибо заметила, что прислушивался он больше к ее песням, чем к султанским барабанам. Да и были ли эти барабаны только султанскими? Еще недавно они хмуро молчали при появлении Роксоланы, но когда она вознеслась над гаремом и родила Сулейману четверых сыновей, встречали ее боем, хотя и тогда барабанщики – дюмбекчи – упрямо держали колотушки лишь в левой руке, словно подчеркивая непрочность положения султанши, иллюзорность ее власти. Теперь, когда она стала всемогущей и единственной, без соперников и врагов, дюмбекчи и тамбурджи били в барабаны обеими руками, толпы стамбульцев ревели от восторга, увидев раззолоченную карету Роксоланы, запряженную белыми могучими золоторогими волами. Так чьи же ныне барабаны, неужели только султана, а не ее тоже?
И должны ли прислушиваться к этим барабанам ее дети?
Пятерица
Одиночества еще не было, оно лишь маячило на горизонтах снов, еще только угрожающе, по-тигриному, подкрадывалось к молодой женщине, то и дело хищно ощериваясь, когда отбирали у Роксоланы сыновей и передавали их воспитателям, которых назначал сам султан. На первых порах не знала она одиночества даже во время затяжных походов Сулеймана, не замечала их за хлопотами и детьми. Но дети росли, постепенно отходя от нее все дальше и дальше, как отдаляются ветви от ствола, и тогда она поняла, что не может воспрепятствовать этому отчуждению, как не могла бы, скажем, насильственно остановить рост деревьев. Ведь и деревьям тоже больно… Видела, как в садах Топкапы садовники-евнухи подстригали кусты и деревья, как возились в зеленом кипении, неуклюжие и неповоротливые, будто старые огромные птицы, лязгали безжалостным железом с равнодушным наслаждением (какое непостижимое сопоставление!), с мрачной радостью оттого, что если и не лишают жизни вовсе, то уж укорачивают ее где только возможно. Подстригают ли деревья в райских садах? И есть ли на самом деле где-нибудь рай? Если нет его, то нужно выдумать, иначе не вынесешь тяжести этой проклятой жизни. Но если будет рай, то совершенно необходим и ад. Для сравнения. И для спора. Ибо все на свете имеет свою противоположность. Если есть повелители, должны быть и подчиненные. Рядом с властелинами должны жить бедняки. А она была и повелительницей, и страждущей одновременно. Ибо чем она завладела безраздельно и уверенно? Разве что неволей и этими садами над Босфором, окруженными непробиваемыми стенами, охраняемыми бессонными бостанджиями.
Султан снова был в походе, а она томилась в садах гарема, в глазах у нее залегла тяжкая тоска бездомности, жило в них отчаяние человека, брошенного на безлюдный остров. Но кто же мог заглянуть в эти глаза? Покорные служанки улавливали трепет ресниц, поднятие брови, движение уголков губ – все как когда-то у всемогущей Махидевран, все произошло, как мечталось когда-то маленькой рабыне Хуррем, все желания сбылись, даже самые дерзкие. Но стала ли она счастливее и свободнее?
Птицы трепетали на ветвях и перелетали в воздухе пестрыми лоскутами, легкие и нежные мотыльки, как муслиновые платочки, выпущенные из небрежных рук падишаха, тешили глаз повелительницы, красные букашки суетились, будто султанское войско перед вражеской крепостью, ящерицы грелись на солнце, извиваясь подобно молодым джари – одалискам, – для нее это все или для евнухов? Ведь всюду, куда ни глянь, евнухи, евнухи, евнухи: поправляют стены, подстригают деревья, чистят чешмы[2 - Ч е ш м а – источник, фонтан.], посыпают песком дорожки, срезают розы. Пока дети были маленькими, Роксолане казалось, что вокруг в самом деле райские сады – ведь их красота приносила столько радости этим нежным и беззащитным существам. Но дети росли и обгоняли свою мать, покидали ее в этих садах, а сами рвались на простор, тянулись к небесам, к этим чужим для нее, но родным для них османским небесам. В самом ли деле небо разделено между державами, как и земля, и есть небо родное, а есть чужое? И каждое государство имеет свое солнце, свою луну, свои звезды, облака, дожди, туманы и ветры? Дети отгораживали ее от прошлого навсегда, навеки, и уже никогда не вернется она домой, не сможет проникнуть туда даже ее неугасимая любовь к маме и сочувствие к отцу, ничто, ничто, останется она распятой между печалью и отчаянием, между сутью и проявлением, между вечностью и повседневностью. Когда беспомощной рабыней попала она в страшный гарем, были у нее тогда беспредельные запасы мужества, но не владела силой. Теперь была у нее сила, но мужество отобрали дети. Дрожала за них почти по-звериному, прикрывала собой, своим будущим, своей жизнью, пожертвовала для них душу, поменяла богов – одного отдала и забыла, другого взяла, пытаясь сделать своим (но сделала ли и сделает ли?), – и все ради детей. Дети рождались, и первое, что они видели, – это небо и море. Земля приходила к ним погодя, и была она безграничной. А жизнь? Бесконечна ли и она для них?
А какие же дети! Сыновья стройные, как кипарисы. Михримах в двенадцать лет ростом такая, как ее мать. Самый старший – Мехмед – почти султан, перенял от своего отца всю величавость, всю властность, всю надменность, так будто уже с колыбели готовился к власти. К власти или к смерти? Пока жив Мустафа, самый старший сын Сулеймана, сын хищной черкешенки, над сыновьями Роксоланы нависает угроза истребления. Султаном становится самый старший, а все младшие… От жестокого закона Фатиха не было спасения. Может, и дети чувствовали это уже чуть ли не с колыбели, и детство их заканчивалось в комнате их матери, ибо как только они переходили к своим воспитателям, становились как бы маленькими султанами, обучались торжественным жестам, величественной походке и словам, кичливости и высокомерию. Не знали настоящего детства, детских игр, друзей. Не могли поиграть в прятки, в херле-терле с деревянной палочкой, в длинного осла – узун ешек, не знали шутливых присказок «калач-малач», «кишмиш-мишмиш», «чатал-матал». Все вокруг них были только подданными и слугами, поэтому маленький Селим никак не мог поверить, что у него, как у обычного, простого мальчика, десять пальцев на руках, а для Мехмеда его воспитатель Шемси-эфенди нанимал за одну акча бедных мальчиков, чтобы султанский сын бил их, воспитывая в себе силу, мужество, ненависть к врагу. Для матери все они были неодинаковы, как и в годы их рождений. У Мехмеда после рождения на лобике появились волосы, приметы указывали, что будет с норовом, как конь, и будет придирчив к людям. У Селима были желтоватые глаза – должен быть хитрым, как шайтан. У Баязида родинка над пупком указывала на большое будущее мальчика. Джихангир родился крупноголовым, что говорило об уме. Михримах смеялась во сне, – очевидно, видела себя в раю, а Баязид по ночам плакал, может, видя кого-то из близких в аду.
Пятеро детей. Шестого, Абдаллаха, взяли к себе высшие силы сразу же после рождения, может, именно для того, чтобы утвердилось великое число пять: Мехмед, Селим, Баязид, Джихангир, Михримах. Пятеро детей, как пять сил, направляющих человеческую жизнь: властелин и народ, то есть власть и покорность; отец и сын – то есть отцы и дети; муж и жена – то есть мужчина и женщина; старшие и младшие братья – то есть поколения людские; наконец, друзья – то есть люди как таковые. В числе пять наиболее полно воплощена идея цельности как высшего проявления разнородности. Все распадается на части, но над ним слияние рек и морей – человеческая жизнь, единая и неповторимая.
Но видела она, что ее дети растут без друзей, и ничего не могла поделать. Замечала, что нет между ними братской любви, есть только соперничество и вражда, в конце которой маячила насильственная смерть, и не могла предотвратить этого. Ведь и сама она жила в этом ненадежном мире, где все было призрачным, таинственным и угрожающим: пышная торжественность, упорные моления, роскошь, золото, Коран, крики муэдзинов, грохот орудий, вопли янычар, страх, звон цепей, рев зверей, шепоты, суета и топот евнухов, загадочные слова, подслушивания, поклепы, затаенная вражда, предательство и насилие, насилие. Не потому ли у великого Навои первая поэма из его «Пятерицы» называется «Смятение праведных», в ней есть слова: «О ты, чью руку укрепляет власть, ведь путь твой ведет к насилию, насилие твое над людьми не уменьшается, но ты творишь его и над самим собою». Как это горько и как справедливо…
Пять, десять, пятнадцать лет жизни в гареме. Боролась за себя, затем думала только о маленьких своих детях, дни и ночи съедались бессонницей и хлопотами, ее время уничтожалось без остатка, теперь наконец могла оглянуться, распрямиться, вздохнуть свободнее, подумать о будущем своем и своих детей, снова появилось у нее время для совершенствования своего разума, время для книг, может, и для властвования. Появилось время? Ее удивлению не было пределов, когда обнаружила, что теперь времени еще меньше, чем тогда, когда заботилась о маленьких детях. Тогда события поторапливали, ветры подгоняли, какие-то незримые силы толкали вперед и вперед, и словно бы сами дьяволы подхлестывали тебя, решив во что бы то ни стало либо покончить с тобою, либо стать свидетелями твоего вознесения над душами низкими и ничтожными. Наверное, время обладает способностью уплотняться в самые напряженные периоды твоей жизни, когда же наступает расслабление, тогда невидимая пружина (а может, рука бога, – только ж какого бога?), которая с умной жестокостью сжимала все – и время, и события, и всю жизнь, – тоже расслабляется, и уже ветры не дуют, не поторапливают события, унимаются даже дьяволы непокоя, наступает тишина, ленивая разнеженность, никчемность, чуть ли не угасание. А поэтому для настоящего человека спасение только в напряжении, в вечном неудовлетворении достигнутым и сделанным.
Пятнадцать лет отдала своим детям, а чего достигла, чего добилась для них? Страх и неопределенность сопровождали рождение каждого из них, страх и неопределенность и далее нависали над ними. Пока над сыновьями Роксоланы возвышался их старший брат от черкешенки Мустафа, у Роксоланы не могло быть покоя. «В степу брестиму, як голубка густиму».
Султан не выражал своей воли. Держал всех сыновей в столице, не посылал никого в провинции на самостоятельное управление, не называл своего наследника, хотя от него ждали этого решения каждый день и каждый час. Ждала валиде, ждал великий муфтий, ждали янычары, ждали визири, ждала вся империя, и прежде всего ждали две жены: бывшая любимица Махидевран, отброшенная в неизвестность и унижение, и нынешняя властительница Хасеки, которая завладела сердцем Сулеймана, но отчетливо видела свое полнейшее бессилие перед жестокой судьбой. Что принесет судьба ее детям?
Перед смертью валиде вырвала у Сулеймана обещание послать своего старшего сына в Манису, в ту самую провинцию Сарухан, куда когда-то его самого посылал его отец, султан Селим, который был хотя и жестоким, но, как известно, справедливым, ибо оставил для своего сына трон. Маниса с тех пор стала первой ступенькой к трону для будущего падишаха. Провинция Сарухан не подчинялась анатолийскому беглербегу, она считалась как бы частицей султанского двора до тех пор, пока не сядет в ней будущий преемник высочайшей власти.
Сулейман пообещал матери послать Мустафу в Манису, но не успел выполнить свое обещание, валиде умерла, Мустафа сидел в Стамбуле, а Роксолана молила всех богов, чтобы султан изменил свое решение, но вмешался великий муфтий Кемаль-паша-заде, уже на смертном одре добился того, чтобы султан поклялся на Коране выполнить свой обет перед покойной матерью. И наконец свершилось: Мустафа со своими янычарами, с небольшим гаремом, с матерью, которая уже, наверное, предвкушала, как она станет когда-нибудь всемогущей валиде, торжественно выехал из Стамбула, чтобы сесть в Манисе, откуда его отец когда-то отправлялся к Золотому султанскому трону, таков обычай: откуда Османы пришли, туда и посылают своих наследников, чтобы они снова приходили только оттуда. Сорок тысяч дукатов годового дохода, самостоятельность и надежда получить престол вот что вывозил из Стамбула Мустафа, роскошный и чванливый, как его мать, длинношеий и солидный, как его великий отец. Если бы это произошло еще при жизни валиде, неизвестно, что было бы с Роксоланой, как перенесла бы это она и пережила, несмотря на всю ее твердость. Но теперь над Сулейманом не тяготела непостижимая власть султанской матери, он был свободен в поступках, мог позволить себе все, что может позволить правитель, вот и повел он свою Хуррем Хасеки к стамбульскому кадию в Айя-Софию и торжественно провозгласил ее своей законной женой. Старшего сына Роксоланы Мехмеда почти одновременно с Мустафой послали наместником султана в Эдирне, что не могло, разумеется, равняться с самостоятельным правлением в Манисе, но в то же время не лишало Мехмеда больших надежд, в особенности если учесть, что султан так до сих пор еще и не назвал своего преемника. Выжидал ли, который из сыновей окажется более ловким и смелым? Ведь только такие пробиваются к власти. Но как бы там ни было, Роксолана лишь теперь поняла, что самые большие ее страхи и терзания только начинаются. Смогла бы успокоиться лишь только тогда, когда бы ее первенец, ее любимец, ее Мемиш, принесший когда-то ей освобождение из рабства, спокойно сел в Манисе вместо Мустафы, пусть и не названный преемником трона, пусть и не возвеличенный перед всей империей, но все равно в надежде на возвеличение, ибо только из того далекого и загадочного города, в котором никогда не была, почему-то ждала счастья для себя и для своего сына. Но в Манисе в то время сидел Мустафа, а чтобы сместить его, нужна целая вечность, потому что в этом огромном государстве все делалось вопреки здравому смыслу: то, что нужно сделать немедленно, растягивалось на неопределенное время, а то, что могло быть даже преступным, исполнялось немедленно.
Пятерых детей родила она Сулейману. Пятерица. Будто пять внешних чувств человеческих: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание; будто пять чувств душевных: радость, гнев, желание, страх, горе; будто пять предназначений государства: законодательство, исполнение, суд, воспитание, проверка.
А будет ли счастье у ее детей? И была бы она счастливее, если бы родила султану десять или даже пятнадцать детей – по ребенку каждый год? Так, рассказывают, в Адильджеваге одна курдянка родила одновременно сорок детей – двадцать мальчиков и двадцать девочек, султан даже велел внести это выдуманное событие в летопись своего царства. Но если бы даже такое могло быть правдой, то разве счастье зависит от количества?
Снова и снова возникал перед глазами Роксоланы пик той вершины в Родопах, на который они взбирались с султаном и на котором не оказалось места для двоих.
Лишь теперь изведала Роксолана, что такое настоящее отчаяние. Ей не с кем было посоветоваться, не знала, у кого просить помощи. Пока была маленькой рабыней в гареме, ей могли и сочувствовать, теперь – разве что ненавидеть. Достигнув наивысшей власти, увидела, что достигла лишь вершины бессилия. Предназначение человека на земле – дать продолжение своему роду. Все остальное суета и выдумки. А она только того и достигла, что поставила своих детей под смертельную угрозу, и чем выше поднималась, тем большей была угроза для ее детей, ибо на этих высотах оставалась только власть, а власть не знает жалости.
Роксолана пришла в ужас, узнав о том, что Сулейман чуть было не погиб в походе. В Валоне, на берегу моря, куда пришел султан со своим войском (а шел туда лишь для того, чтобы испытать достоинства сераскера – своего нового зятя Лютфи-паши – мужа ненавистной Хатиджи), ночью в османский лагерь проник сербский гайдук Дамян, который хотел убить султана в его шатре. Гайдука выдал треск сухой ветки, на которую он неосторожно наступил. Серба изрубили янычары, султан уцелел, уцелела и Роксолана со своими детьми, в противном случае Мустафа первым прискакал бы из Манисы в Стамбул, сел бы на трон, и тогда – закон Фатиха, и месть осатаневшей черкешенки, и ее торжество. А какая женщина вынесет торжество соперницы? Уж лучше смерть!
Роксолана поскорее написала Сулейману полную отчаяния газель, которую хотела бы послать уже и не с гонцом, а с перелетными птицами, как Меджнун к своей возлюбленной Лейли:
Как трудно верить, что ко мне вернешься ты. Спасенья!
Дождусь ли я, чтоб голос твой услышать вновь? Спасенья!
Ища тебя, идя к тебе, я одолеть смогла бы
И даль глухих степных дорог, и черствость душ. Спасенья!
Миры немые страшно так в мой сон тревожный рвутся,
И, просыпаясь, я кричу в отчаянье: «Спасенья!»
Никто мне в дверь не постучит, лишь ветер зорькой ранней,
И стоном горестным к тебе взываю я: «Спасенья!»
Когда ж ревнивица-война тебя ко мне отпустит,
Прекрасного, как мир, как свет и тень? Спасенья!
Иль терпеливою мне стать, и твердою, как камень,
Или корой дерев сухих, бесчувственных? Спасенья!
Нет сил у Хасеки взывать, и призывать, и плакать,
И ждать, отчаявшись, тебя, о, мой султан, – Спасенья![3 - Перевод Ю.Саенко.]
Страх не за себя, а за детей своих водил ее рукою, когда ночью слагала эту газель для султана. Любила или ненавидела этого человека – не знала и сама, но молила всех богов, чтобы дарили ему жизнь, чтобы он был живой, и не столько для нее, сколько для ее детей.
Истинно: «Знайте, что ваши богатства и ваши дети – испытание…»
Столпы
Здания держатся на столпах, царство – на верных людях. У Османов никто не знал, кто кем будет, какая высокая (или, наоборот, никчемная) судьба его ждет, – и в этом была вся заманчивость жизни, ее открытость и доступность. Возможно, и это государство стало таким могучим из-за неведения людьми своего назначения. Ибо у каждого неограниченные возможности, каждый мог дойти даже до звания великого визиря, лишь бы только сумел первым крикнуть: «Велик аллах!», первым взмахнуть саблей и оказаться на стене вражеской крепости. Надежда и отчаяние, наслаждение успехом и предчувствие катастрофы, голос здравого смысла и почти дикое неистовство страстей, трезвый ум и фантастические капризы судьбы – все это, казалось, было незнакомым и чуждым османцам, которые жили только войной, не зная никаких отклонений, ни единого шага за ее пределы, будто имели шоры уже не только на глазах, но и в сознании. О войне вспоминали, жили ею, она наполняла все их существование и мысли, разговоры, сны и бессонницу. Знали, что для войны прежде всего необходима неудержимость, отчаянная, безрассудная храбрость. И каждый раз проявляли ее с таким исступлением, что могло показаться, будто это уже и не человеческое мужество, а звериное безрассудство.
Но при этом знали, что всегда над ними стоит султан и все видит и по достоинству вознаградит храбрых, поставив самых отчаянных на место ленивых, ибо всех можно заменить, кроме самого себя. К власти пробирались не умелые и опытные, и даже не богатые, а смелые, ловкие и дерзкие.
После Ибрагима великим визирем был назван арбанас Аяз-паша, человек, который не мог связать двух слов, зато в битвах был всегда первым, громче всех выкрикивал «Аллах великий!», а саблей мог перерубить надвое коня со всадником на нем и самую толстую пуховую перину. Этот человек состоял, собственно, из одного лишь туловища. Это впечатление усиливалось оттого, что Аяз-паша носил широкие шаровары, в которых полностью утопали его коротенькие ножки. В мощном, как каменный столб, туловище Аяз-паши было столько звериной силы, что он растрачивал ее на все стороны с неутомимостью просто зловещей: в походах не слезал с коня, в битвах не знал передышки, в диване мог заседать месяцами, так, будто не ел, не спал; гарем у него был самый большой в империи, и детей от наложниц и жен насчитывалось у него свыше сотни. Став великим визирем, он попросился на прием к султанше, и она милостиво приняла его в новом кёшке Гюльхане на белых коврах, усадила великого визиря напротив себя, велела принести даже вина. Сев, Аяз-паша почти не уменьшился, торчал перед ней столбом, тупо смотрел на нее, что-то говорил, но что именно, Роксолана не могла понять.
Она сказала Аяз-паше что-то ласковое, попросила его говорить спокойнее, но он забормотал еще неразборчивее, и тогда султанша велела слугам принести письменные принадлежности для великого визиря. Пусть он напишет все, что хотел сказать, чтобы она могла прочесть, и не одна, а с его величеством падишахом, да продлит аллах его тень на земле.
Арбанас схватил перо и, разбрызгивая голубые чернила, прорывая дорогую шелковую бумагу, стал царапать свои каракули так же быстро, как говорил, и когда протянул лист султанше, то она не увидела там ни букв, ни письма, а одни лишь извилистые гадючки, которые ползли наискось по бумаге, цеплялись одна за другую, стараясь проглотить одна другую или хотя бы откусить хвост.
– Хорошо, – улыбнулась Роксолана растерянному Аяз-паше, – мы прочтем это с его величеством. Как сказано: «Аллах дает знать человеку через писчий тростник то, чего он не знал».
Когда она рассказывала Сулейману о великом визире и показала его мазню, султан сказал:
– Я знаю о нем все. Может, именно такой человек и нужен для царства. Он и на самом деле дурак, зато верный и неподкупный. А сказать тебе хотел, что именно он с великим драгоманом Юнус-бегом свалил Ибрагима, разоблачив его подлое нутро.
– Разве это не вы, мой повелитель, без чьей-либо помощи вовремя раскрыли преступные намерения Ибрагима?
– На меня нашло ослепление. Но мне открыли глаза.
– Вы просто слишком долго терпели подле своей справедливой и светлой особы этого темного человека, напоминавшего фракийского царя Диомеда, который кормил коней человеческим мясом. У Аяз-паши нет никаких особых заслуг. Разве можно в государстве, где много умных людей, допускать, чтобы великими визирями становились негодяи или глупцы?
– А как найти умных, как? – понуро спросил султан.
Старого Касим-пашу султан все же отпустил на отдых, а вторым визирем взял румелийского беглербега Лютфи-пашу, которого женил на сестре Хатидже, чтобы не печалилась по Ибрагиму. Лютфи-паша, в противовес Аяз-паше, был человеком знающим, это был воин и дипломат, обладал безудержным нравом как в битвах, так и в пороках, любил мальчиков, ненавидел женщин, когда впоследствии стал великим визирем (Аяз-паша умер от мора), велел вылавливать в Стамбуле неверных жен и вырезать им бритвой то, о чем стыдно и говорить. Хатиджа назвала мужа бесстыдником, и он избил ее. Узнав об этом, султан нагим посадил Лютфи-пашу на осла и велел вывезти за ворота Стамбула. Много лет проведет он в изгнании в приморском городе Димотике и напишет там Османскую историю и «Асафнаме» – книгу о должности великого визиря.
Место Лютфи-паши займет евнух Сулейман-паша, которого султан вызовет из Египта. Сулейману-паше к тому времени было уже восемьдесят лет, был он мал ростом, но отличался большой храбростью и еще большей тучностью. Был таким толстым, что самостоятельно не мог встать с постели – его снимали четверо слуг. Сулейман-паша был лют, как все евнухи, с его появлением в диване все забурлило и заклокотало, как в котле с шурпой, евнух покрикивал на всех визирей и чуть ли не на самого султана. А султан лишь загадочно улыбался, слушая перебранку в диване. Визири дополняли в нем то, чего он был лишен от природы. Считал, что наделен только всем высоким, а лишен низкого. Был главой царства, которая всегда в небесах и в облаках. Визири же должны быть ногами, которые глубоко погрязли в повседневности. Было уже когда-то, когда одного из них попытался поднять до своей высоты, а что из этого получилось? Ибрагим замахнулся на самую высшую власть, и его пришлось убрать. Ибрагиму боялись перечить, поэтому все дела решались иногда с излишней торопливостью, отчего постепенно исчезало необходимое спокойствие в государстве и над всем нависала какая-то непостижимая угроза. Ибрагим набрался наглости говорить и писать: «Я сказал», «Я решил», «Я считаю», тогда как такое право имел только султан, ибо лишь он один является личностью, все остальные безликая толпа, подчиненные, подданные, рабы. Никто не имеет права говорить: «Я думаю», «Я требую», «Я прошу», «Мне нужно». Можно говорить: «Есть мнение», «Мы просим», «Нужно». Только тогда человек может быть спокойным, потому что никто не обвинит его в случае неудачи. Виновны будут все, следовательно, никто. Также никогда не нужно торопиться с решениями, и чем больше грызутся в диване визири, тем лучше для империи, ибо все в конце концов должно зависеть от султана. Решительность нужна лишь при штурме вражеских крепостей и могильщикам, которые должны точно знать, где рыть ваши могилы, ибо у могильщиков и у тех, кто проливает кровь, единый покровитель – Каин, который, как известно, без колебаний убил родного брата.
Из жизни была устранена какая бы то ни было возможность личного существования. Империя – это Топкапы, и Топкапы – это империя, а над ними султан с неограниченной властью, которая исключала даже мысль о частной жизни подданных. Никто не принадлежал себе ни в постели, ни в могиле. Султанский диван не составлял исключения, потому что визири были подняты лишь над простым народом, а не над султаном, были столпами, на которых держался Золотой трон падишаха, мертвым деревом, мертвым камнем. Вот и все. Леность, тупость и страх наполняли души визирей, и они трепетали перед султаном. Но ведь мог же султан взять себе и умного помощника, чтобы еще больше напугать глупцов?
Никто этого не знал.
Руины
Султан снова перемеривал просторы со своим гигантским войском, наполнял недра небес грохотом барабанов, славы и власти, величием своим, повергал в ужас врагов и самого Марса. Он брал просторы, как женщину, он насиловал их, весь мир вокруг него должен был служить лишь орудием кары или наслаждений. Женщины не составляли исключения: «Дай нам от наших жен и потомства прохладу глаз…»
Маленькая Хуррем была такой сильной личностью, что он поневоле вынужден был признать существование рядом с собой еще кого-то. Первым желанием было – устранить, уничтожить. После первой ночи, проведенной с маленькой рабыней, попытался не думать о ней, забыть, но с ужасом, а затем и со сладким удовольствием убедился в тщетности своих усилий, пронеся голос удивительной девушки по безбрежным просторам славянских земель, которые отныне должны были стать османскими. Теперь уже не был единственным и одиноким на этом свете, где все должно было служить лишь удовлетворению его прихотей, желаний и надежд. Был еще человек, – это потрясло, удивило, вызвало раздражение, а потом наступила какая-то расслабленность и даже растроганность, так, будто отныне он тоже принадлежал не к заоблачным небожителям, а к обыкновенным людям. Люди еще не рождаются настоящими людьми, ими они могут или не могут стать. Это великая наука, постичь которую удается далеко не всем. Если бы кто-нибудь сказал Сулейману, что эта женщина переменила его, хотя бы в мелочах, султан лишь мрачно улыбнулся бы. Изменять мир и людей мог только он, сам упрямо оставаясь в своей высокой неприступности. В его крови жил голос сельджуков, извечных кочевников, которые со своими отарами и табунами прошли полмира, и этот голос, голос крови, гнал его дальше и дальше, и он не мог усидеть даже в своей огромной столице, в своем роскошном дворце, возле жены, ставшей самым дорогим существом на свете, потому что она внесла в его жизнь то, чего он сам не имел, – сердце, душу, страсть и даже – страшно и странно промолвить – любовь. Он, который знал только силу, испытал радость любви, и не того животного чувства, которое замыкается в темных океанах плоти, а неуловимого и незримого, будто сотканного из небесных золотых нитей, навеки привязавших его к этой непостижимой женщине, к ее голосу, к ее глазам, к ее рубиновой улыбке. Когда после покушения на его жизнь получил от Хуррем полную тревоги газель, он написал ей в ответ свою газель, начинавшуюся словами: «Пусть твой рубин от бед меня спасает». Он имел в виду не тот рубин, который носил на своем тюрбане, а рубин ее бессмертной улыбки. Верил, что будет жить, пока живет на ее устах таинственная улыбка. Еще писал своей султанше: «Не дождусь, чтобы увидеть тебя, прекрасную, как божья мудрость».
Но сам был тем временем далеко и возвратился с войском, так ничего и не завоевав, уже поздней осенью, чтобы сразу же объявить новый поход против молдавского господаря Петра Рареша. Куда, зачем? Снова аисты в болотах и войско на дорогах? Чем больше захватывал султан земель, тем больше изнурял государство, так как война всегда стоит дороже, чем предполагаемая добыча от нее. Его слух полнился дурными вестями, которым не было ни счета, ни конца: то засуха, то ливни, то чума, то недород, то падеж скота, то кто-то убит, то кто-то где-то взбунтовался, то восстали племена, то изменил какой-то паша. Но какое до всего этого дело султану, над которым – целое государство! И он снова и снова отправлялся в походы, спасался в этих походах от всех мыслимых бед, страдал каждый раз от разлуки с Хуррем, но в то же время испытывал от этого необъяснимое удовольствие, потому что разлуки были подобны горькому дыму от опиума, они опьяняли, одурманивали и каждый раз обещали непостижимую сладость встречи, когда Хуррем шла к нему, играя своей рубиновой улыбкой, а под тонким шелком ее сорочки круглилась грудь, будто два больших теплых голубя. Вот так начинался когда-то мир, и так будет начинаться он вечно!
Роксолана знала, что султан снова и снова будет ходить в походы, ведь он принадлежал не самому себе, а лишь какой-то темной и дикой силе, называвшейся Османским государством, но почему же так быстро он покидает столицу, только что вернувшись из похода? Задержать его она не могла, бессильными были тут все газели, сложенные величайшими поэтами мира, потому спела султану ночью, когда остались вдвоем, свою песню, поймет или не поймет, зато услышит: «Привикайте, чорнi очi, сами ночувати: нема ж мого миленького, нi з ким розмовляти. Нема ж мого миленького, рожевого цвiту, ой, нема з ким размовляти до бiлого свiту».
Он почему-то считал, что ее пение осталось где-то позади, в их первых ночах, к которым теперь не мог пробиться даже памятью. А она неожиданно преобразилась, стала такой же юной, как тогда, когда пела ему и припевала, согревала его взглядом, словами, обещаниями, капризами, нежностью, вздохами, приглушенным голосом. Время было бессильно против нее. Казалось, будто маленькие женщины вовсе не стареют, время и стихия не властны над ними. Маленькая песчинка всегда остается песчинкой, тогда как даже самые высокие горы разрушаются под действием стихий, и чем выше они, тем более тяжкие и ужасающие разрушения на их исполинском теле.
– Ты как грех, у которого никогда нет возраста, – шептал ей Сулейман.
– За грехи приходится расплачиваться, – точно так же шепотом ответила ему Роксолана.
– Я готов заплатить самую высокую цену. Я брошу тебе под ноги весь мир.
Она промолчала. Что ей мир, что ей рай и ад? Сама была целым миром, рай и ад носила в своей душе. Родилась доброй, теперь ее хотели сделать злой. Кровь этого человека падала на нее и ее детей, и не было спасения.
Роксолана тяжко застонала. Сулейман встревоженно обнял ее. Непостижимая женщина, сотканная из пения и стонов.
– Что с тобой? Ты нездорова? Почему не сказала?
– У меня изранена душа.
– Назови мне виновных. Они будут немедленно наказаны.
– А если виновных нет?
– Такого не может быть.
– Мне страшно за своих детей.
– Пока я жив, они все будут счастливы.
– Я буду молить аллаха, чтобы вы жили вечно, мой повелитель.
– Но только вместе с тобой.
– А вы снова пойдете в поход. И там, где рос хлеб, будет подниматься лишь пыль от султанских войск.
– Щедрые плоды и храбрые воины не рождаются на одной и той же земле.
– Малое утешение. Мне страшно жить среди руин, ваше величество.
– Среди руин? Моя Хасеки! Ты живешь в самой роскошной столице мира! Величайший зодчий всех времен Коджа Синан сооружает джамии, превосходящие все ранее известное, строит медресе, которые соперничают своими сводами с небесным куполом, ставит минареты, стройные, как божья мысль. А наши базары – чаршии, наши дворцы, наши мосты – где еще в мире есть нечто подобное?
– Но и руин таких, как здесь, наверное, нет нигде на свете. Без вас мне было так тоскливо и тяжко, я нередко выезжала за стены Топкапы и смотрела на Стамбул. И что же я там видела?
– Тебя кто-нибудь обидел? Унизил твое султанское достоинство?
Она тихо засмеялась. Если бы так! Какая это мелочь – оскорбление достоинства или величия. А если что-то другое? Если перед твоими глазами рушится таинственное равновесие между духом и материальными массами, силы природы высвобождаются и в своем неудержимом буйстве погребают все бесплодные усилия людей? Природа словно мстит за насилие духа, который заковал ее в свои формы красоты и разума, – и вражда, вражда повсюду, будто пропасть бездонная. Да, она видела все: и мечети, и медресе, и фонтаны, и акведуки, дворцы и античные стены. Но в то же время видела и бездомных, ютящихся под стенами, и казалось ей, что и сама она живет на руинах, с такой же разбитой душой.
– Кто осмелился сделать это? – снова не вытерпел султан, хотя уже понимал всю бессмысленность своих вопросов.
Почему бы она должна была ему отвечать? Говорила о своем, не думая, слышит ее Сулейман или нет, будто говорила сама с собой, прислушиваясь к собственным словам, может, и не соглашаясь с ними.
Нелепая хаотичность руин и всей ее жизни. Только творение – дело человека, разрушение – это злые дьявольские силы. Одно возносится ввысь, другое тяготеет книзу и неминуемо ведет к падению духа. Мир больше никогда не расцветет в руинах – там только дьявольские гримасы заточенных демонов природы, царство духов, непрочное, бесплотное, без мягких покровов красоты, жестоко обнаженное в мертвых изломах. Но, с другой стороны, возможно, руины необходимы для более обостренного ощущения силы и бессмертия жизни? Ведь в конце концов всякое бытие должно прийти в упадок, чтобы стать доступным тем силам, которые способны его возродить. И, собственно, весь смысл жизни сосредоточен в том мгновении отчаяния и боли, после которого должно наступить новое рождение. Потому, быть может, вечный мир только в руинах, и их состояние покоя смирило ее с рабским положением…
Он снова не выдержал и почти грубо напомнил ей, что она уже давно не рабыня, а всемогущая султанша.
– Султанша над чем? Повелительница чего? Разбитых зеркал Ибрагима? Или садов гарема, подстриженных евнухами с еще большей жестокостью, чем они сами были искалечены жизнью? Мне кажется, что счастье человека только в его детстве. Возвратиться туда хотя бы краешком души – и уже был бы самым счастливым на свете.
– К сожалению, это невозможно, – глухо промолвил Сулейман. – Никто этого не в состоянии сделать, и чем выше стоит человек, тем меньше у него такой возможности.
– Боже, я знаю это. А детство снится золотыми снами, после которых просыпаешься в холоде и страхе, и в душе какие-то трепеты. Ваше величество, помогите мне, спасите меня!
Он тяжело и неуклюже шевельнулся возле нее на широком ложе, коснулся ее волос, гладил долго и нежно, даже удивительно было, откуда столько нежности могло взяться у этого мрачного человека. Не замечали, чтобы он когда-нибудь погладил по голове кого-то из сыновей. Когда умерла валиде, он не пошел в последний раз посмотреть на мать, закрыть ей глаза, поцеловать в лоб, велел похоронить с надлежащей торжественностью – и все. Роксолана пришла тогда в ужас. Неужели она могла любить этого нелюдя? Государство, закон, война. А жизнь? Или он берег всю нежность только для своей Хасеки? Грех было бы не воспользоваться этим, тем более что не для себя лично, а для добра своей земли.
– Ваше величество, я хотела бы попросить вас.
– Нет ничего, чего бы я не сделал для тебя, если бог будет милосердным к нам.
– Когда пойдете на Молдавию, возьмите с собой маленького Баязида.
– Я готов взять всех своих сыновей, чтобы они учились великому делу войны.
– Нет, одного лишь Баязида с его воспитателем Гасан-агой, и разрешите им обоим побывать в моем родном Рогатине.
– В Рогатине? А что это такое?
– Ваше величество! Это город, где я родилась.
– Ты до сих пор не забыла его?
– Как можно забыть? У меня душа разрывается от одного этого слова. Но я султанша и не могу никуда выехать с этой земли. Пусть поедет мой сын. Вы дадите ему сопровождающих для защиты. Там совсем недалеко от Сучавы. Два или три конных перехода. А какая там земля! Вся зеленая-зеленая, как знамя пророка, и потоки текут чистые, как благословение, и леса шумят, как небесные ветры. Если бы могла, я спала бы, как те леса, и жила бы, как те леса. Пусть наш сын увидит эту землю, ваше величество.
Он хотел спросить, почему именно Баязид, а не самый старший их сын Мехмед или не Селим, самый подвижный из всех детей, но решил, что это ниже султанского достоинства. Сказал только: «Я подумаю над этим» – и жадно вдохнул запах ее тела. Это тело озаряло темный круг его жизни, и хотя он каждый раз упорно бежал от Хуррем, но, наверное, делал это лишь для того, чтобы возвращаться к ней снова и снова, испытывая с каждым разом все большее счастье встречи и познания, кроме того, пребывание вдали друг от друга давало возможность для высоких наслаждений духа, а здесь уже не было духа – одна только плоть, пылающая, умопомрачительная, сладкая, как смерть.
Нагая, как плод в сонных садах, она падала в его цепкие, жадные объятия, отдавала тело почти без сожаления, а душу прятала, как правду от тиранов. Настоящая правда никогда до конца не бывает высказана вслух, в особенности между мужчиной и женщиной. Хотела бы она стать мужчиной? Никогда и ни за что! Может, в самом деле испытывала унижения от этого человека, вымаливая у него все в постели и только в постели, зато чувствовала превосходство над мрачным мужским миром, который не знает счастья нежности, которому чуждо благодеяние терпеливости. Почему-то думала, что женщины излучают свет, а мужчины лишь поглощают его, они темны сами, и темнота царит вокруг них, а женщины озаряют их, будто лампадки. Могла ли она озарить этого великого султана и на самом ли деле тоже была великой султаншей или была маленькой девочкой, сотканной из болезненных снов, которая оплакивает свою маму, простирает в безнадежности руки к своему детству и не может дотянуться до него? Одно только слово «Рогатин» терзает сердце. Как когда-то проклинала работу в свинарнике, учение у викария Скарбского, пьяную похвальбу отца Лисовского, а теперь все это вспоминалось словно утраченный рай. Мир напоминал разрезанное яблоко: выпуклый, объемный только с одной стороны, а с другой – несуществующий. И хотя султан ходил со своим ужасающим войском то в одну, то в другую сторону, но ей казалось, будто он проваливается каждый раз в небытие. Потому что жизнь существовала лишь там, где когда-то была она, откуда пришла сюда. Там жизнь, память, будущее, туда летела душа. «Ой, пиймо ми мед-горiлку, а ви, гуси, – воду, плиньте, плиньте, бiлi гуси, до мойого роду. Ой, не кажiть, бiлi гуси, що я тут злидую, ой, но кажiть, бiлi гуси, що я розкошую! Або пошлю бiлу утку по Дунаю хутко: «Пливи, пливи, бiла утко, до родини хутко! Ой, не кажи, сива утко, що я тут горюю, ой, но кажи, сива утко, що я тут паную!»
Неужели и своего младшего сына посылала в родную землю, чтобы сказал там, как роскошествует его мать? Разве она знала? Для тринадцатилетнего Баязида это казалось беззаботной прогулкой возле своего великого, сверкающего золотом отца-султана. Гасан-агу никто не спрашивал о его чувствах, он должен был выполнять веление султана и султанши, поехать и возвратиться и привезти невредимым юного шах-заде. Ох, как это все просто! А Роксолана не смела даже заплакать по сыну или по своему детству, ибо суждена ей только торжественная степенность, обречена она была на величавую надменность и этим платит за свое так называемое счастье называться султаншей. Теперь уже твердо знала, что счастливым можно быть лишь за чей-то счет. Сумма счастья на земле точно так же постоянна, как количество воздуха или воды. Если тебе досталось больше, так и знай: кто-то обделен, обижен, унижен и наказан.
– Да будет над тобой благословение аллаха, – прошептала Роксолана, прощаясь с Баязидом, который нетерпеливо рвался от матери, потому что чувствовал себя не ребенком, а воином, мужчиной, может, и будущим султаном.
Она только вздохнула. Какой удивительный мир! В нем возможен даже аллах.
Султан пошел со своим железным войском, со своими дикими конями, слонами и верблюдами, с устрашающими пушками на маленькую Молдавию, чтобы покарать Петра Рареша, которого сам же сделал господарем и который еще недавно прикидывался верным вассалом, посылая ежегодно в Стамбул десять тысяч дукатов подати и подарки золотом, мехами, конями и соколами. За верность Сулейман дважды награждал Рареша тугами – бунчуками из конского хвоста, которые давались только беглербегам.
И вот – измена. Маленькая Молдавия осмелилась восстать против могучей империи. Рареш выдал восставшим венграм султанского посланца Луиджи Грити, из-за чего поссорил Сулеймана с Венецией, теперь заключил тайный договор с австрийским королем Фердинандом, вел переговоры даже с далекой Москвой, ища поддержки и опоры на случай войны с Османами. Хотя Рареш был всего лишь незаконным сыном Стефана Великого, славного господаря Молдавии, которого когда-то боялись все враги, народ любил Петра, и по его зову со всех концов собирались все, кто мог носить какое-нибудь оружие (в большинстве своем, правда, самодельное), под державное знамя этой гордой земли: на полотнище голова зубра и звезда с одной стороны и крест – с другой. Защитить три святыни, провозглашенные еще Стефаном Великим: крест, родину и знамя.
Хотинский пиркелаб[4 - П и р к е л а б – начальник округа, уезда (молд., истор.).] привел свой липканский корпус, из Орхея прибыли всадники, с гор спустились лесорубы со своими топорами на длинных рукоятях, мелкие дворяне и знатные бояре выступали с хорошо вооруженными собственными дружинами, а ко всему прибавлялось целое море крестьянского войска, насчитывавшего свыше двадцати тысяч, и личная гвардия господаря наемники, боярские сыновья и пажи, – все верхом, в кольчугах, с дорогим оружием, в бархатных кафтанах с серебряными пуговицами, в шляпах с дорогим пером.
В Буджацких степях произошла короткая и кровавая битва. С грозным криком: «Убей! Убей!», будто древние римляне, которые, идя в атаку, кричали: «Фери! Фери!», бросились молдаване на железную стену султанского войска, но слишком неравными были силы, и мужество разбилось о многочисленность, потому что Сулейман привел триста тысяч спахиев (на каждого молдавского воина приходилось чуть ли не по сотне нападающих). Оставив казну опустошенной, войско разбитым, землю расчлененной, народ изнеможенным, Рареш вынужден был бежать в Эрдель, где его укрыли венгры. Сулейман занял Аккерман и Килию, превратив Черное море в османское озеро. Крымскому хану Сахиб-Гирею он велел привести татар в Яссы, и 9 сентября султан и хан встретились там, в разрушенном и сожженном городе. Через неделю султан без сопротивления вошел в молдавскую столицу Сучаву. Поставил воеводой брата Рареша – Стефана – с условием дважды в год лично привозить в Стамбул дань – харадж[5 - Х а р а д ж – налог, который турецкие завоеватели брали у иноверцев.]. Прославленную крепость на Днестре Хотин, которую, по преданиям, якобы основали еще при жизни Иисуса Христа, перед этим захватил польский король Зигмунт, договорившись тайно с Рарешом, и Сулейман не стал отвоевывать Хотин у дружественного ему короля, перешел Прут и в славе и почестях стал спускаться по Днестру. Часто останавливался, ходил по лагерю в сопровождении визирей и янычар, беседовал с воинами, попивая шербет из их бардахов[6 - Б а р д а х – сосуд для питья, стакан.], прощаясь, каждый раз говорил: «До встречи в Кызыл-Элме». Кызыл-Элмом, то есть Красным Яблоком, Османы называли Рим, о взятии которого мечтал каждый – от султана до самого последнего воина. Потому что на свете должна господствовать лишь одна вера, попросту говоря, двум верам всегда тесно, даже в самом просторном дворце.
В Сороках султан осмотрел крепость, поставленную когда-то генуэзскими купцами, оставил там гарнизон, пошел дальше по холмистой молдавской равнине вдоль Днестра.
Возле Тягина снова остановился. Раздавал кафтаны, коней, золото и чифтлики[7 - Ч и ф т л и к – феодальное поместье (турецк.).] вельможам, потом издал фирман о расширении крепости.
В том месте, где Днестр делал изгиб, насыпал широкую песчаную косу под крутым правым берегом, что облегчало переправу через своенравную речку. Еще с седой древности, когда жили в этих краях тиверцы и уличи, уже существовал здесь город, у которого перетягивались через Днестр. Город так и назывался – Тягин. Со временем генуэзцы, оседая на торговых путях, ведших в безбрежные земли над Черным морем, поставили в Тягине восьмибашенную каменную крепость, которая замыкала дорогу из Сучавы через Яссы и Лапушну на Очаков.
Слушая янычарских поэтов, распевавших касыды[8 - К а с ы д ы – жанр восточной поэзии, стихотворения преимущественно панегирического содержания (араб.).] в честь победного похода, попивая из серебряных чаш одобештское и котнарское вино, Сулейман медленно диктовал нишанджию слова фирмана о превращении Тягина и восемнадцати окрестных сел в османский санджак[9 - С а н д ж а к – в султанской Турции объединение военных ленов.], который должен был утверждать здесь мощь великой империи точно так же, как очаковский санджак на Днепре. Крепость велено было расширить вдвое, удлинив ограду, добавив к восьми генуэзским башням еще восемь, опустив крыло вниз, до самой реки, где устроены водяные ворота для гарнизона, окружив крепость высокими валами с глубоким рвом перед ними, обложенным камнем, чтоб не осыпался и не заиливался.
Через сто лет прославленный турецкий путешественник Эвлия Челеби напишет о сооружении крепости Бендеры: «Когда главный зодчий Сулеймана-хана Синан-ага ибн Абдульменан-ага строил эту крепость, он применил все свое искусство. В соответствии с разными законами геометрии он соорудил такие продуманные бастионы, замысловатые угловые башни и стены, что в описании их качеств язык бессилен».
Все это требовало времени, но султан не торопился назад в Стамбул, так, словно ждал чего-то, устраивал охоту в окрестных лесах, награждал кафтанами, золотом и конями своих воевод, рассылал гонцов, слагал стихи, отсылал султанше в столицу подарки. Сын Мехмед, которого оставил в Стамбуле своим наместником на время похода, писал отцу: «Если вы изволите спрашивать о моей маменьке, то она внешне словно бы и спокойна, а внутри из-за разлуки с вами – нет в ней живого места. Заполонена тоской по вас, вздыхает днем и ночью и стоит на краю гибели».
Но и это полное отчаяния письмо не сдвинуло султана с места, ибо Сулейман знал, что Хасеки тревожится не столько о нем, сколько о младшем сыне, которого они, нарушая все известные обычаи, отпустили за пределы своей земли, не зная, что из этого будет. Теперь султан раскаивался, что так легко удовлетворил прихоть любимой жены, но уже состоялось, никто об этом не знал и не должен был знать. Баязид с Гасан-агой в сопровождении отряда сорвиголов поскакал из Сучавы невесть куда, оттуда мог и не вернуться; потому нужно было терпеливо и спокойно ждать на этой чужой своенравной реке, тем временем надежно заковав ее в османский камень.
На сооружение невиданной в этих краях твердыни сгоняли людей, везли камень – из криковских карьеров, из Милешт и Микауцев, пилили дерево в Кодрах люди волошского воеводы Влада, который добровольно подчинился султану, везли на строительство харчи, прокладывали дороги и мосты.
Мрачное строительство было закончено чуть ли не в тот день, когда из дальних странствий по славянским землям возвратился султанский сын Баязид, возвратился ночью, уставший он был удивлен, что не нашел там ничего из тех чудес, о которых ему чуть ли не с колыбели нашептывала и напевала мама-султанша; немало обрадовался, добравшись наконец в огромный султанский лагерь, и еще больше обрадовался, когда через великого визиря Аяз-пашу ему было прислано султанское приглашение быть завтра на торжестве открытия крепости Бендеры, что означало – портовый город. Наверное, ни одна из османских твердынь не сооружалась в такое короткое время ни в Болгарии и Морее[10 - М о р е я – турецкое название северных областей Греции.], ни в Сербии и Боснии, что, разумеется, не сказалось ни на мрачности, ни на неприступности крепости, отпугивавшей своим серым камнем (Эвлия Челеби напишет об этом: «Каждый камень ее стены величиной с тело менглусского слона, а куски мрамора имеют размеры желудка коровы или лошади»), непробивными стенами, зловещими, тяжелыми, как проклятия, башнями. Но Сулейману было мало быстроты, с какой он строил эту твердыню, он велел выбить на ее стене памятную надпись – тарих, которая своей пышностью могла соперничать даже с надписями древних персидских царей: «Я, раб божий, султан этой земли, милостью божией глава Мухаммедовой общины, божье могущество, и Мухаммедовы чудеса мои сообщники, помощники и соратники, я, Сулейман, в честь которого читают хутбу[11 - Х у т б а – у мусульман пятничное богослужение в мечети, во время которого соборный имам читает молитву за «власть предержащую» и за всю мусульманскую общину.] в Мекке и Медине, шах в Багдаде, царь в Византии, султан в Египте, шлю свои корабли на европейские моря, в Магриб и Индию, султан, овладевший короной и престолом Венгрии, а ее подданных превративший в униженных рабов. Воевода Петр Рареш имел наглость взбунтоваться, так я сам копытами своего коня затоптал его в прах и завладел его землей Молдавией».
Новый великий муфтий Абусууд сотворил краткую молитву, воскликнул: «Велик аллах!», провел ладонями по лицу, и все вместе с султаном упали на разостланные прямо на холодной земле ковры и надолго застыли, уткнувшись лбами, обращены в ту сторону, где должна была быть Мекка. Только мелкие грабители бывают безбожными, великие всегда богомольны.
В столицу султан не возвратился. На целую зиму засел в Эдирне, устраивал охоту, запирался в дворцовых покоях с великим муфтием Абусуудом, думал над законами для своей безграничной империи. Сына Баязида отослал к Роксолане еще из Бендер, словно бы в знак того, что удовлетворил ее прихоть, но недоволен тем, что вынужден был нарушать извечный обычай, отпуская младшего шах-заде за пределы государства, да еще и теряя потом свое драгоценное время на ожидание у чужой реки. Может, впервые за все годы любви к Хасеки в сердце Сулеймана пробрался гнев на эту удивительную женщину, и потому, чтобы унять этот неожиданный гнев, султан удержался от искушения привезти Баязида в Стамбул самому и первым увидеть, как будут сиять глаза Хуррем. Пусть время и расстояние излечат его от гнева, а султаншу от причуд. Говорят же: «Наслаждения мира проходят, грядущая жизнь есть истинное благо для тех, кто боится бога».
Когда Роксолана увидела Баязида, она не выдержала, расплакалась. Стоял перед ней в дорогом одеянии, стройный, смуглый, хищнолицый, как султан, а глазами играл, как она, и улыбка была ее собственная, может, и душа у него была такая же, как у матери. Возвратился оттуда, где было ее сердце. Что там видел, чему научился, что скажет матери своей, владычице, и почему молчит? Спросить? Но не знала, о чем спрашивать. Зачем посылала его в Рогатин? Тогда и сама не знала. Лишь теперь, увидев младшего сына перед собой, чуть не закричала: «Почему вернулся? Почему не остался там? Почему?» Испуганно закрыла себе уста ладонью, чтобы не вырвался этот крик, чтобы не выдал ее сокровеннейших мыслей. Подсознательно хотела спасти хотя бы одного из сыновей. Ведь все они неминуемо должны погибнуть, кроме того, кто станет когда-то султаном. Всех задушат вместе с их собственными детьми, если те родятся у них. А этот избежал бы насильственной смерти. Почему именно Баязид, а не Мемиш, Селим или Джихангир? Сама не знала. О Мехмеде еще теплилась надежда, что станет султаном, каким-то образом убрав с дороги Мустафу. А Селим и Джихангир? Разве она знала? Может, Баязид потом спас бы и этих двоих?
Усадила Баязида рядом с собою, Гасана напротив. Долго молчала, борясь с безумством, кипевшим у нее в мозгу, потом спросила, сама не зная о чем:
– Доехали?
И не понятно, куда – то ли в Рогатин, то ли назад в Стамбул.
Баязид по-взрослому пожал костлявыми плечами:
– А что? С коня на коня перескакивая, с седла в седло переметываясь…
– Видел Рогатин? Был там? Все увидел?
– А разве я знаю! Пускай Гасан-ага скажет.
– Долго ехали, – сказал Гасан. – Долго и далеко, ваше величество.
Будто она и сама не знала. По прошлогодней траве, по старым мхам, по молодой траве, под елями и яворами, вброд преодолевая потоки, минуя реки и туманы, топча росы и цветы, ехали они туда, куда она уже никогда не вернется, не долетит ни мыслями, ни воспоминаниями, где хмель по лугам, а пшеница по полям…
– И что там видели? Какой теперь Рогатин? – чуть было не вскрикнула она нетерпеливо, забыв о султанской степенности.
– А никакой, – нахмурился Гасан-ага, – сплошное пожарище и руины. Нет ничего.
– Как это ничего? А стены, ворота, башни?
– Все в проломах, зазубринах, позарастало лопухами.
– А церкви?
– Ободраны и разрушены. Одна огорожена оборонной стеной, но не спасла ее и стена.
– Пепел тебе на голову! А мое золото? Разве не восстановили церковь и город за золото, которое я передавала с королевским послом?
– Ваше величество, золото надо посылать с войском, чтобы оно его оберегало.
– Разве войско может что-нибудь оберегать? Оно ведь только грабит.
– Ну да. Потому не нужно ни золота, ни войска. Люди как-нибудь проживут и так. Пробовали отстраивать Рогатин и его церкви, и дома, и стены, и ворота, но налетели татары и снова все разрушили. Там вся земля ограблена и осквернена так, что по ней страшно ехать.
– Почему я ничего не знаю? Почему ничего не говорил мне об этом?
– Ваше величество, вы не спрашивали.
Он быстрым движением извлек из широкого рукава узкую полоску бумаги, начал читать:
– «В пятьсот двадцать первом году татары Бельжскую, Любельскую, Холминскую земли завоевали, разбили поляков под Сокалем, вывели плен неисчислимый. В пятьсот двадцать третьем году турки и татары Львовскую, Слуцкую, Бельжскую, Подольскую земли жестоко разрушили, с великим пленом пошли назад. В пятьсот двадцать шестом году по велению султана Сулеймана, занятого войной с венграми, опустошили Волынь, Бельжскую и Любельскую земли. Зимой двадцать седьмого года снова кинулись на Украину, пошли на Полесье до самого Пинска по замерзшим рекам и болотам, проникали в самые неприступные места, вывели восемьдесят тысяч пленных, но при возвращении под Ольшаницей догнал их великий гетман литовский князь киевский Константин Острожский, побил татар двадцать четыре тысячи, среди них турок десять тысяч, два литвина поймали татарского мурзу Малая. Острожский велел повесить царевича на сосне и нашпиговать стрелами. Но в году пятьсот двадцать восьмом снова налетели татары на Подолию, забрали ясырь. В пятьсот тридцатом году крымчаки дошли до Вильно и сожгли его. В году…»
Роксолана подняла руку. Довольно. От этого жуткого перечня можно сойти с ума. Пока она здесь рожала султану сыновей и примеряла драгоценности, за которые можно купить полмира, ее земля стонала и истекала кровью. Знала ли она об этом? Разве не говорила ей об этом со злорадством черногубая валиде, разве сам Сулейман не вспоминал о своей провинности перед нею за действия крымских ханов? Все знала. Но была занята только собой. Спасала собственную жизнь. Потом принялась спасать душу, боролась, чтобы не потерять человеческого облика, сберечь свою личность. Потом захотелось вознесения над всей ничтожностью этого мира, над прислужниками султанского трона, может, и над самим султаном, ибо никто и ничто несоизмеримо здесь с ним, кроме нее. На первых порах, может, кто и сочувствовал ей, может, жалели ее, теперь только удивляются, завидуют и ненавидят. Пускай удивляются!
Но как могла она забыть о родной земле? Помнила только свое собственное, отцовский дом стоял перед глазами в солнечном сиянии, будто золотой сон, да мамин голос напевал ей детские колыбельные и пинькала в густых зарослях ольхи на отцовском дворе маленькая птичка, называемая «прилинь», а вся ее большая земля словно бы была забыта, окутана туманом, отошла куда-то в небытие, погибла, пропала для нее навеки, навеки.
– И что там, не осталось уже и людей? – тихо спросила Роксолана то ли Баязида, то ли Гасана. Потом повернулась все же к сыну. – Слыхал ты хотя бы одну нашу песню там?
Баязид пожал плечами.
– Гасан-ага скажет. Он все видел.
– Люд тянется к городам, там его и заграбастывают крымчаки, – сказал Гасан. – А настоящие казаки идут в степи, подстерегают врага там, чтобы при случае ударить как следует.
– Казаки? Что это за люди?
– Непокорившиеся. Свободные, как ветер. Рыцари. Бывают над ними и воеводы порой, как тот же князь Острожский, или воевода Претвич, или какой-то Дашкевич, который сам, говорят, похож на татарина и знает язык татарский и османский, день тут, день там, неуловимый, как чародей. Чаще всего казаки собираются в небольшие ватаги с безымянными вожаками. Каждый сам себе пан, сам себе свинья. Добираются уже и сюда. Не раз уже поджигали Синоп. И до Стамбула добирались.
– Почему же я ничего не знаю?
– Ваше величество, вы не спрашивали, я не говорил.
– И вы видели этих… казаков?
– Видеть не видели, а слышать слышали. Нас тоже принимали за казаков: какие же османцы отважились бы так углубиться в чужую землю?
– Разве вас было мало?
– Два десятка – вот и все!
– Боже милостивый! Баязид, и ты не боялся?
Шах-заде хмыкнул. Еще бы ему бояться, когда он султанский сын!
– Что же я могу сделать для своей земли, Гасан? – заволновалась Роксолана, растерявшись от недобрых вестей, которые так неожиданно обрушились на нее. – Чем тут можно помочь?
– А что можно сделать? Оставить в покое – это было бы лучше всего. Но кто же на этом свете даст покой земле или человеку? Ваше величество спрашивают царевича, слыхал ли он песни на Украине. Может, мало мы там были, может, слишком быстро скакали, что не услышали песен. Но услышать их можно и здесь, даже мы, янычары, слагали каждый свою песню, хотя это песни такие, что их негоже и повторять. А невольники? Вы слыхали их песни, ваше величество?
Она хотела сказать: «Я сама невольница и сама тужу и пою, пою и тужу». Но промолчала, лишь поддержала Гасана самим взглядом. «Ну-ка, что это за песни, хочу их слышать и знать, если сын мой услышит, может, пригодятся ему в будущем». Взглянула искоса на Баязида, – тот скучающе изучал украшенную драгоценными самоцветами рукоять кинжала, подаренного султаном. Гасан отпил немного из чаши, кашлянул, прочищая горло, грустной скороговоркой начал пересказывать страшную песню невольников:
– «Не ясный сокол тужит-рыдает, как сын отцу и матери из тяжкой неволи в города христианские поклон посылает, сокола ясного родным братом называет: «Сокол ясный, брат мой родной! Ты высоко летаешь, почему же у моих отца-матери никогда в гостях не бываешь? Полети же, сокол ясный, родной брат мой, в города христианские, сядь-упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно пропой, моему отцу и матери большую печаль причини. Пусть отец мой добро наживает, землю, большие имения сбывает, сокровища собирает, пусть сыновей своих из тяжкой неволи турецкой выкупает!» Услышав это, брат-товарищ к брату-товарищу обращается: «Товарищ, брат мой родной! Не нужно нам в города христианские поклоны посылать, своему отцу и матери большое горе причинять: хотя наши отец и мать будут добро наживать, землю, большие имения сбывать, сокровища собирать, но не будут знать, где, в какой тяжкой неволе, сыновей своих искать; сюда никто не заходит, и люд крещеный не приезжает, только соколы ясные летают, на темницы садятся, жалобно покрикивают, нас всех, бедных невольников, в тяжкой неволе турецкой добрым здоровьем навещают».
Роксолана снова взглянула на сына. Понял ли он хотя бы одно слово? Сын продолжал играть драгоценным оружием, а ей показалось – играет ее сердцем. Обессиленно прикрыла глаза веками. Отпустила обоих. В дверях сразу же возникла могучая фигура кизляр-аги Ибрагима, промелькнули вспугнутые тени евнухов, она гневно взметнула бровями: прочь!
Ибрагим переступал с ноги на ногу, не уходил.
– Чего тебе? – неприветливо спросила Роксолана.
– Ваше величество, к вам посланец из-за моря. С письмом.
– Пускай ждет! Завтра или через неделю, может, через месяц. Сколько там этих посланцев еще!
Кизляр-ага склонился в молчаливом поклоне.
– И позови Гасана-агу. Да поскорее!
Гасана вернули, он не успел еще выйти из длинного дворцового перехода. Роксолана ждала его, стоя среди покоев.
– Возьмешь золото, сколько будет нужно, – сказала торопливо, – и выкупай из неволи всех наших людей, каких найдешь в Стамбуле. Найди всех и отпусти на волю.
Он молча кивнул.
– Если нужна будет бочка золота, я дам бочку. Султан хвалится, что годовой доход его составляет целых шестьдесят бочек золота. Не обеднеет. И никому ничего не говори. Мне тоже.
– Ваше величество, они отпускают невольников, а потом снова ловят, не давая им добраться домой.
– Позаботься об охранных грамотах. В диване нужно иметь умного визиря для этого. Там сейчас одни глупцы. Подумаю и об этом. Там еще какой-то заморский посланец. Узнай, что ему надо. А теперь иди.
Вспомнились слова из книги, которая теперь преследовала ее каждый миг и на каждом шагу: «Но тот, кто давал, и страшился, и считал истиной прекраснейшее, тому мы облегчим путь к легчайшему».
Должна была пережить одинокую зиму. Черный ветер караель будет прилетать с Балкан, бить в ворота Топкапы, может заморозить даже Босфор, будет морозить ей душу, хотя какой холод может быть больше холода одиночества? Бродила по гарему. Холод, сквозняки, сырость. Окна застеклены только в покоях валиде и ее собственных, а у невольниц-джарие – прикрыты кое-как, и несчастные девушки тщетно пытаются согреться у мангалов с углем. Подавленность, зависть, ненависть, сплетни, темная похотливость, извращенность. Только теперь по-настоящему поняла всю низость и грязь гарема, поняла, ужаснулась, переполнилась отвращением. Спасалась в султанских книгохранилищах, но все равно должна была снова возвращаться в гаремлык – в гигантскую проклятую клетку для людей, в пожизненную тюрьму даже для нее, для султанши, ибо она жена падишаха, а муж, как сказано в священных исламских предписаниях, должен содержать жену точно так же, как государство содержит преступников в тюрьме. Наверное, женщин запирают здесь в гаремы так же, как по всему миру запирают правду, прячут и скрывают. Выпустить на свободу женщину – все равно что выпустить правду. Потому их и держат в заточении, боясь их разрушительной силы, их неутоленной жажды к свободе. Как сказано: страх охраняет виноградники. Может, и Сулейман упорно убегает от нее, приближаясь лишь на короткое время, чтобы меньше слышать горькой правды, меньше просьб и прихотей, прилетает, будто пчела к цветку, чтобы выпить нектар, и поскорее летит дальше и дальше. Он никогда не пытался понять ее, подумать о ней как о равном ему человеке, думал только о себе, брал от нее все, что хотел, пользовался ею, как вещью, как орудием, даже к своему боевому коню относился внимательнее. Тяжело быть человеком, а женщиной еще тяжелее. А она чем дальше шла и чем выше поднималась, тем больше ощущала себя женщиной. «Не предай зверям душу горлицы твоей». Искать спасения в любви? Хотела ли она, чтобы ее любили? А кто этого не хочет? Но чего стоит любовь пусть даже могущественнейшего человека, если вокруг царит сплошная ненависть и льется кровь реками и морями? Кровь не может быть прощена никогда, а только отмщена или искуплена. Чем она искупит все кривды, которые претерпевает ее родная земля? Ледяной купелью исповеди, раскаянием и муками? Как хотелось бы не знать ни душевного смятения, ни мук почти адских. Но праведным суждено смятение. Разве мы не временные гости на этом свете? И разве не боимся прошлого лишь тогда, когда оно угрожает нашему будущему? Даже уплатив дань всем преисподним, не обретешь спокойствия. Искупление, искупление. А у нее дети, и в них – будущее, истина и вечность.
Чужеземцы
Великий евнух Ибрагим снова надоедал Роксолане. Теперь он уже хлопотал не о венецианском посланце с письмом, а об Иерониме Ласском. Сопровождал султаншу в медресе, где учились ее сыновья. Она хотела убедиться, что там не холодно. Быстро шла длинным темным коридором, ведшим в устланное красными коврами помещение кизляр-аги в медресе для шах-заде. На широких мраморных ступеньках огромный Ибрагим мог бы догнать укутанную в мягкие меха султаншу, но не отважился, брел позади, большой и неуклюжий, за спиной показывал евнухам, чтобы позаботились о порядке в зале для занятий, хотя сделать уже что-либо было поздно. Роксолана быстро осмотрела несколько крошечных комнат, предназначенных для уединения вельможных учеников, затем перешла в зал для занятий, представлявший собой большое, просторное помещение в форме нескольких широких террас. Стены зала были украшены желто-золотистыми фаянсами с изображением цветущих деревьев, напротив входа картина – Мекка с черным камнем Каабы и стройными белыми минаретами. Посредине зала лоснящаяся пузатая жаровня, излучавшая тепло, огромный светильник в форме зари, на нем шкатулка, в которую прятали Коран после чтения. Всюду персидские столики, длинные низкие диваны, обтянутые шелком, на столиках синие кувшины с цветами, высокие окна с разноцветными стеклами с изображениями полумесяца и звезд.
– Здесь тепло и уютно, – милостиво промолвила Ибрагиму султанша.
Здесь ее сыновья постигали самую первую мусульманскую мудрость Коран, самую первую и, по мнению улемов, самую главную, здесь изучали буквы, начиная с элифа, похожего на тонкий длинный дубок, а дубок, как известно, пришел из рая. Каждая буква, как человек, имела свой нрав и свой лик: у «ба» запали подвздошья, «сад» имел губы, как у верблюда, у «та» уши, как у зайца. Суры Корана имели свое особое значение и назначение. Первая сура Фатиха читалась перед началом каждого важного дела, а также за упокой души. Тридцать шестую суру «Ясын» читали во всех случаях, когда в медресе ученики доходили до «Ясын», хором кричали: «Ясын, ягли берек гелсын» – «Ясын, масляный коржик неси!» Большим праздником было, когда доходили до семидесятого стиха восемнадцатой суры – почти половины Корана, но наибольшее разочарование ждало малышей в конце занятий, когда ходжа говорил им, что сто двенадцатая сура Ихляс стоит всего Корана. Если так, тогда зачем было изучать эту огромную запутанную книгу – ведь стоит запомнить лишь несколько стихотворений Ихляса.
Ее сыновья изучали Коран с пятилетнего возраста. Уже даже самый младший, Джихангир, заканчивал эту тяжелую и неблагодарную науку, чтобы высвободить время для знаний, необходимых властелину, хотя и не было никаких надежд на то, что он станет султаном: ведь над ним стояли по праву первородства еще четыре брата. Даже Селим, второй после Мехмеда, не возлагал особых надежд на престол, учиться не хотел упорно, почти воинственно, на упреки матери дерзко отвечал:
– Пускай обучается всем премудростям тот, кто станет султаном! А нам лишь бы жить! Не сушить голову, не корпеть над книгами, быть вольным, под небом и ветрами, с конями, псами, соколами, охотиться на зверя, раздирать теплое мясо, пить свежую кровь!
Когда Селим, рыжеволосый и зеленоглазый, как она сама, отчеканил ей это, Роксолана ничем не выдала себя, лишь окаменело ее лицо и побледнели уста. Селима возненавидела с тех пор и уже не могла тянуться к нему сердцем, хотя внешне никогда этого не показывала. Не могла простить ему преждевременного пророчества страшной судьбы, собственной и его младших братьев, и часто ловила себя на том, что сама думает точно так же. Может, и к своему самому младшему относилась со странным равнодушием, не веря в его будущее, а Джихангир, будто ощущая материнскую холодность к нему, надоедал ей, просился спать в ее покои, канючил сладости, игрушки, одеяния, не давал покоя ни днем, ни ночью, так, будто мать была его рабыней. С рабами и детьми разговаривают однозначно: пойди, встань, принеси, дай, не трогай. Джихангир не признавал такого способа обращения, он требовал у матери, чтобы она рассказывала ему сказки и поэмы, чтобы не умолкала ни на миг. Он рано постиг тайны человеческого поведения, будучи еще не в состоянии осознать это, все же как-то сумел почувствовать, что Роксолана должна вознаградить своего последнего сына, эту жертву судьбы, это возмездие или проклятие за все зло, накопленное Османами, отплатить если и не нежностью, то вниманием и покорностью, и потому сумел захватить власть над матерью и стал настоящим деспотом. А маленький деспот намного страшнее большого, потому что он мелочен, назойлив и не дает передышки ни на миг, от него не спрячешься и не избавишься.
Но как бы там ни было, Джихангир был дорог ее сердцу так же, как Мехмед, Селим, Баязид и Михримах, и сегодня утром она подумала, что ему здесь, может, холодно, как холодно всюду в просторном неуютном султанском дворце, и пришла сюда, чтобы развеять свои опасения.
– Хорошо, – сказала она кизляр-аге. – Мне здесь нравится.
– Может, позвать шах-заде Джихангира, ваше величество?
– Не надо. Ты свободен.
Тогда Ибрагим и сказал об Иерониме Ласском.
– От кого он на этот раз? – улыбнулась Роксолана, вспомнив сладкоречивого тихоню, льстивого дипломата, о котором французский король Франциск сказал: «Никогда не служит одному, не обслуживая одновременно другого». Богатый краковский вельможа, прекрасно образованный и воспитанный, Иероним Ласский от службы у польского короля переметнулся к королю венгерскому, затем перешел к Яношу Заполье, оказывал бесконечные услуги императору Карлу, королю Франциску, Фердинанду Австрийскому. Непостоянный и продажный, он без колебаний переходил на сторону того, кто платил больше. Самое же странное: имел смелость появляться в Стамбуле каждый раз от другого европейского властелина, не боясь гнева султанского или даже расправы за неверность.
– Так от кого он? – переспросила Роксолана.
– Не знаю. Он хотел к его величеству султану, но Аяз-паша взял его под стражу в караван-сарае на Аврет-Базаре, и теперь он просится к вам на прием.
– Как же я могу его принять, когда его не выпускают из караван-сарая? Не могу же я поехать к нему сама.
– О нем просит Юнус-бег. Ласского можно привезти в Топкапы под охраной.
Великому драгоману Юнус-бегу она не могла отказать. Верила, что благодаря ему повержен Ибрагим. Никогда не разговаривала с этим человеком, не знала, как относится он к ней (может, и ненавидит, как ненавидел Ибрагима и всех чужеземцев), но была благодарна ему за то, что стал невольным ее сообщником, помог в ее борьбе за свободу.
– Хорошо, привезите этого человека, – сказала она великому евнуху.
Приняла Ласского там, где и всех. Пан Иероним, высокий, стройный, в дорогих мехах и ярких одеяниях, задрав пышную светлую бороду, одарил султаншу изысканной улыбкой, затем опустился перед ней на одно колено, раскинул руки.
– Ваше величество, недостойный слуга ваш припадает к вашим ногам!
– Встаньте.
– Я безгранично благодарен вам, ваше величество, за высокую милость видеть вас и слышать ваш ангельский голос.
– Если вы докажете, что ангелы владеют также и мудростью, тогда я согласна и на такое определение, – засмеялась Роксолана, предложив ему сесть.
– Ваше величество, ангелы – это небесная красота! А что может быть мудрее красоты?
– Убедили. Теперь я вся обращаюсь в слух и внимаю вашим просьбам. Но прежде всего хотела бы знать, от кого вы прибыли на этот раз.
– Ваше величество! Разве вы забыли, что я прибывал в Стамбул чуть ли не каждый раз, когда вы дарили его величеству султану прекрасных деток? Я счастлив, что имел удовольствие преподносить свои скромные подарки в честь рождения принцессы Михримах, шах-заде Абдаллаха и Джихангира.
– И каждый раз от других королей?
– Ваше величество! Я всего лишь простой человек, что я могу? Я пробовал верно служить своему королю Зигмунту. Это благородный король, он мудро правит государством, отличается большой веротерпимостью, покровительствует искусствам и наукам, но он ужасно нерешителен и боязлив, ваше величество. Он боится султана, московского князя, татарского хана. Когда боится король, тогда подданные не боятся короля. А это плохо. Страх скрепляет намного крепче, чем любовь. Вы только посмотрите, до чего доводит отсутствие страха перед властелином. За год до похода его величества султана Сулеймана против Петра Рареша король Зигмунт созвал шляхту, чтобы со своей стороны ударить по молдавскому господарю, засвидетельствовать верность своему великому союзнику падишаху. Но собранная под Львовом и Глинянами шляхта стала препираться и разглагольствовать, а ее челядь тем временем вылавливала кур по селам, оттого всю затею так и прозвали «куриной войной». Что это за король, который не умеет взять в руки своих подданных? И мог ли я со своими способностями, которые признала вся Европа, отдать свою жизнь такому нерешительному властелину? Рыба ищет, где глубже, птица – где выше, а человек – где лучше.
– Мы оба с вами предали свой народ, – утешила его Роксолана.
– Но вы на свободе, ваше величество, а я в заточении.
– Неизвестно еще, кто на свободе, а кто в заточении.
– Я бы не отказался поменяться с вами, ваше величество.
– Для этого вам нужно сначала стать женщиной.
– Простите, я упустил это из виду.
– Вы хотели меня о чем-то просить, – напомнила ему Роксолана.
– Да, ваше величество. У меня важные вести для его величества султана, а великий визирь запер меня в караван-сарае и не выпускает. Я должен немедленно добраться до Эдирне и предстать перед его величеством. Вся надежда на вас.
– Но что я могу?
– Ваше величество, вы все можете! Разве Европа не знает об этом? Султан управляет империей, а вы – султаном.
– Преувеличение. Но меньше об этом. Если уж просить, то я должна знать, о чем идет речь.
– Речь идет о Венгрии, ваше величество.
– Так вы снова от Яноша Запольи?
– Собственно, я оттуда, но если быть точным, то на этот раз я словно бы от самого себя, хотя вполне вероятно, что до некоторой степени и от короля Фердинанда, но только в интересах его величества султана. Хотел предупредить. Чрезвычайно важная весть. Никогда еще ни к кому мне не приходилось прибывать с вестью такого чрезвычайного значения.
– Что же это за весть? Раз уж мне хлопотать о вас перед его величеством падишахом, я должна знать. Или как вы считаете?
– Ваше величество! Какие могут быть тайны от вас! Именно поэтому я просился к вам. Не могу же я доверять новости мирового значения этому безъязыкому Аяз-паше, который, по моему мнению, существует на свете лишь для того, чтобы здесь не переводились глупцы. Дело в том, что король польский Зигмунт собирается выдать за Яноша Заполью дочь Изабеллу.
– Но ведь Заполья безнадежно стар! Сколько ему лет? Наверное, шестьдесят? Стар и толст.
– Ваше величество, у королей нет возраста. А Заполья король. Изабелла с дорогой душой пойдет за него, чтобы стать королевой. Какая бы женщина отказалась от такой чести! Но у меня есть проверенные сведения, что австрийский двор не признает за Изабеллой прав на венгерскую корону, ибо она дитя побочного ложа – родилась всего лишь через шесть месяцев после брака Боны Сфорцы с королем Зигмунтом. Проще говоря, ваше величество, королева Бона приехала из Италии к своему мужу в положении. Золотая корона покрыла ее грех. Собственно, никому до этого не было бы дела, если бы не корона Венгрии. Фердинанд охотно отдал бы за Яноша Заполью одну из своих дочерей. Как говорят, пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, заключай браки.
– Мы защитим бедную Изабеллу, – степенно промолвила Роксолана.
– Я верил в ваше великое сердце, ваше величество! – воскликнул Ласский, вскакивая с диванчика и опускаясь на колено. – Только вы, только ваше благородство!
– Хорошо, я напишу султану и попрошу о вас.
– Как я сожалею, ваше величество, что у меня нет подарков, равных моей благодарности. Я спешил с этой вестью к падишаху, и моя посольская ноша была слишком легкой.
– Нет лучшей ноши в дороге, чем здравый разум, не правда ли?
– О, да, ваше величество, стократно да!
История с Ласским немного развеселила Роксолану. Она передала кизляр-аге, чтобы тот назавтра привел к ней посланца из Венеции. Все равно ведь Ибрагим не отступится, будет напоминать о посланце, ибо тот, наверное, подкупил великого евнуха, надеясь получить от султанши нечто большее. А что он мог получить от нее? И от кого посланец? И почему такой таинственный?
Когда увидела венецианца, отбросила всякие предположения о его таинственности. Ибо таинственность никак не шла этому грубому огромному человеку с черной разбойничьей бородой, с дерзкими глазами, громоподобным голосом, который он тщетно пытался приглушить, отвечая на вопросы султанши.
Сесть он не решился, оставался стоять у двери, где рядом с ним стоял такой же здоровенный кизляр-ага Ибрагим, послание своего хозяина передал Роксолане через служанку, которую султанша вызвала, щелкнув пальцами, кланялся неуклюже и смешно, но колено не преклонил перед властительницей, как ни пригибал его шею Ибрагим.
– Ваше величество, – гудел венецианец, – послан к вам преславным и величественным королем всех поэтов, обладателем золотого бриллиантового пера синьором Пьетро Аретино, именуемым оракулом истины и секретарем мира.
– Я не слыхала о таком, – простодушно призналась Роксолана. – Как зовут вашего повелителя?
– Пьетро Аретино, ваше величество. Его знает весь мир, и мраморные ступеньки его дома в Венеции истерты больше, чем мостовая Капитолия колесами триумфальных колесниц.
– И чего же хочет этот славный человек от меня?
– Он передал вам послание, ваше величество.
– Ты можешь заверить, что в нем нет ничего оскорбительного для его величества султана и для меня?
– Мне велено ждать ответа, следовательно, там не может быть ничего плохого, ваше величество.
Тогда Роксолана щелкнула пальцами, в покое появилась молодая служанка, подлетела к великану, тот из складок своей широченной одежды извлек серебряный, весь в художественной чеканке футляр с подвешенной к нему большой золотой медалью и, поцеловав медаль, передал девушке.
Роксолана взяла футляр, некоторое время рассматривала рельефы на нем на тему о Диане и беззаботном пастухе Актеоне, который засмотрелся на спящую богиню и за это был превращен ею в оленя и затравлен ее псами. Работа в самом деле была исполнена мастерски. Венецианец заметил, что футляр понравился султанше, пробормотал:
– Это работа непревзойденного Бенвенуто Челлини. Медаль тоже.
– Наш друг Луиджи Грити заказывал у маэстро Челлини монеты его величества Сулеймана, – сказала Роксолана. – Уже тогда мы убедились в его непревзойденном мастерстве. Теперь вижу, его рука стала еще увереннее, а глаз острее.
На медали был изображен бородатый, длинноносый человек, чем-то похожий на посланца. Он сидел с книгой в руках на резном стуле, а перед ним стоял вооруженный человек в сопровождении слуг и подавал ему драгоценный сосуд с круговой надписью: «Властелины, собирающие дань с народов, приносят дань своему слуге».
– Кто этот бородатый? – поинтересовалась Роксолана. – Это, наверное, и есть синьор Пьетро Аретино?
– Да, ваше величество, это сам маэстро. Точно такую же медаль, только бронзовую, а не золотую, он послал адмиралу султана Сулеймана, грозе всех морей Хайреддину Барбароссе, и тот отплатил щедрыми дарами.
Роксолана открыла футляр, достала оттуда шелковый свиток, развернула его. Написано было по-итальянски. Начала читать и не смогла удержаться от улыбки.
Аретино писал:
«Я начал издавать свои письма к прославленнейшим личностям мира, уже издал один том, но с огромной душевной скорбью обнаружил, что до сих пор еще не написал письма Вам, несравненная султанша Роксолана. Если бы я не боялся встревожить воздух вашей скромности золотыми облаками почестей, которые вам принадлежат, я не мог бы удержаться от того, чтобы не распространить на окна здания славы тех мировых одеяний, которыми рука хвалы украшает спину имен, дарованных молвой прекрасным созданиям. Ваш непобедимый дух привлекает меня безмерно, ибо, как и вы, я горжусь тем, что всем, чего достиг в жизни, я обязан самому себе и ни в чем не могу считаться чьим-нибудь должником. Я писал императору Карлу и императрице Изабелле, королям Франциску и Генриху Английскому, обо мне говорят при дворе персидского шаха, меня называют божественным и удивительным и бичом властелинов. Джованни Медичи назвал меня чудом природы, Микеланджело синьором братания, герцоги Мантуи, Флоренции и Урбино – сердечным другом. Мои произведения для жизни необходимее проповедей, ибо проповеди приводят на путь праведный людей простых, а мои произведения – людей высокопоставленных. Я принес правду во дворцы властелинов, наполнил ею их слух, несмотря на лесть и вопреки лжи. Мое перо, вооруженное предостережениями, достигло того, что люди могущественные смирились, а острословы признали его с вынужденной вежливостью, которую они ненавидят больше, чем неудобства. Поэтому простые люди должны любить меня, ибо я всегда ценой крови воевал за мужество и лишь благодаря этому оно ныне одето в парчу, пьет из золотых бокалов, украшается драгоценными камнями, имеет деньги, выезжает, как королева, окруженная слугами, как императрица, и почетом, как богиня».
Роксолана посмотрела на венецианца. Тот даже не следил за выражением ее лица – столь был уверен в воздействии послания. Наверное, уже не впервые возил он подобные шелковые свитки, возвращаясь нагруженный царскими подарками. Но ведь она не царица! Почему это Аретино не писал ей тогда, когда она томилась в безвестности султанского гарема? Может, не знал о ней ничего, как не знал и весь мир? Тогда зачем же хвалится своей непревзойденной проницательностью ума?
Аретино писал:
«Какие колоссы из серебра и золота, не говоря уже о колоссах, сделанных из бронзы и мрамора, могут сравниться с теми статуями, которые я воздвиг папе Юлию, императору Карлу, королеве Екатерине, герцогу Франческо? Они вечны, как солнце.
Вершина радости существования – любовь. Вы жрица любви, и я приветствую вас так же, как самых роскошных красавиц земли и неба и как девочек – мессаре, удовлетворяющих все мои желания.
Я живу потом чернил, свет которых не может быть погашен ветром озлобления, не может быть затемнен тучей зависти. К подножию моего трона величайшие властители слагают золото, цепи, чаши, роскошные ткани, богатую одежду для меня и украшения для моих аретинянок, изысканные вина и райские плоды, все, чем богата щедрость. Но для моей неудержимой расточительности не хватило бы монет всего мира. Если бы даже египетские пирамиды служили мне рентой, я пустил бы их в оборот. А потому лишь бы нам жить, а все остальное – шутка.
Я в восторге от вашего непобедимого духа…»
Роксолана свернула шелк, отдала служанке, кивнула посланцу:
– Ответ передаст вам Ибрагим.
Венецианец попятился из покоев, а она смотрела на его широкую черную, как у Аретино на медали, бороду и смеялась в душе. Уже придумала, как отомстить хвастливому венецианцу и его посланнику. Он смеется над всеми властелинами Европы, а она посмеется над ним. Могла бы еще понять и простить лесть, вызванную страхом, но за плату?! Вишь, даже капудан-паша султана Хайреддин поддался на лесть и одарил этого велеречивого хвастуна награбленным золотом. Она никого не грабила и не намерена этого делать. Напрасные надежды. И напрасно послушный посланец Аретино тратил деньги на подкуп кизляр-аги. Роксолане почему-то вспомнился бывший султанский имрахор Рустем с его мрачными остротами. Тот бы сказал: «Еще речки не видно, а он уже штаны подвернул». Рустем из маленького, привезенного из Боснии раба дошел да начальника султанских конюшен, затем был дарован ему титул паши, и уже был бы он, наверное, визирем, если бы Ибрагим во время персидского похода не вспомнил о нем – вспомнил, как любил Рустема султан за его безжалостный юмор и беспощадный язык, и поскорее дал Рустему санджак на крайнем востоке империи где-то возле Армении, в диких горах, среди камней и снегов. Хитрый Ибрагим устранял всех любимцев султана, чтобы самому нераздельно владеть душой падишаха. Если бы сила да воля, он и ее устранил бы и уничтожил. Но как она могла забыть о Рустеме? Вот человек, рожденный для султанского дивана! Гасана уже недостаточно, ей нужны более влиятельные и могущественные помощники, ибо теперь ее помощники – это помощники султана.
Пока не забыла, поскорее написала султану в Эдирне о Рустем-паше, приложив к письму локон своих волос. Затем принялась за письмо к Пьетро Аретино.
«Мы доводим до сведения синьора Аретино, – писала она, – что посланец Ваш прибыл в нашу лучезарную столицу и вручил нам Ваше послание, и всевышний свидетель тому, сколько радости и утехи принесло нашему сердцу Ваше пламенное слово. Мы внимательно изучили Ваше письмо и прониклись уважением к Вашим способностям и к Вашему мужеству, за которое Вы так доблестно сражаетесь. Так вот, это воля бога, которой Вы должны покориться и согласиться с его приговором и повелением. Вот поэтому мы написали Вам это дружеское письмо и посылаем его к подножью золотого трона Вашей славы через слугу Вашего, который прибыл к нам с божьей помощью и отправится с божьим покровительством здоровым и невредимым. В конце концов, я не знаю, что Вам еще сказать такое, что составляло бы тайну для Вашего высокого ума. В знак дружбы и для того, чтобы это письмо не оказалось пустым, принесшим Вам душевное беспокойство, я посылаю Вам две пары штанов, расшитых золотом сзади и спереди, и шесть носовых платков из тончайшего шелка, а также полотенце, все в одном свертке.
На этом желаю Вам здоровья и расцвета Вашего необыкновенного таланта.
Покорнейшая слуга Х а с е к и С у л т а н ш а».
Письмо и пакет для Пьетро Аретино отправила с Ибрагимом, смеясь в душе над «секретарем мира» и представляя, как появится он перед своими мессаре в османских шароварах, расшитых золотом в неприличнейших местах. Посмеяться над своей выдумкой ей не с кем было. Вот если бы в самом деле был здесь Рустем-паша, тот бы сказал: «Пускай носит на здоровье. Благочестие таится в шароварах». Этот человек насмехался над всем миром. Платил миру ненавистью за то, что османский эмин еще ребенком затолкал его в переметную суму и привез в Стамбул, бросив на конюшне, среди лошадей, где мальчишка должен был жить или умереть, где он рос, лишенный всего человеческого. Вырос таким разъяренным, что когда его укусил султанский конь, он укусил коня! Казалось, с уважением относился разве лишь к падишаху да к Роксолане, и не за то, что она султанша, а за ее происхождение. Сам предложил султану, что обучит Роксолану верховой езде. Это было еще в то время, когда у нее не было власти, при жизни валиде и Ибрагима. Какой шум поднялся тогда при дворе! Даже великий муфтий заметил султану, что такой поступок султанской жены не согласуется с шариатом. А что ей за дело до их законов? Может, в крови у нее дикая ярость скифов и мужество амазонок? Может, родилась она, чтобы скакать на коне по степям, а не изнывать за деревянными решетками Топкапы, пусть и позолоченными?
Рустем тогда сказал: «Обычай всех преступников – не спрашивать человека о будущем и никогда не обращать внимания на прошлое. А что такое человек без прошлого? Ободранный и голый, будто нищий возле мечети».
Он должен был приехать и обучить Михримах верховой езде. От общения с такими людьми, как Рустем, ощутимее становится сама суть жизни. Как она могла забыть о нем, как могла?
Рустем
Рустем будто не привык к тому, что о нем всегда забывали. С кем был, те помнили, ибо ненавидели. Исчезал с глаз – выбрасывали из памяти. С ненавистью поступали точно так же, как и с любовью. С той лишь разницей, что одну выбрасывают из памяти, а другую – из сердца. Далекий боснийский род Опуковичей, из которого он происходил, наверное, просто забыл о глазастом пятилетнем мальчике, которого тридцать лет назад схватил султанский эмин, вырвав из рук несчастной матери. Да если кто и помнит о нем, так разве лишь родная мать Ивица. Если не умерла от горя. А так один на свете, как месяц в небе.
Наверное, ему повезло, что бросили его тогда в конюшню. Впоследствии он даже в воспоминаниях не хотел употреблять грубое слово «брошен», заменив его почетным «определен».
Там, среди крепких запахов султанской конюшни, среди фырканья коней и ругани старших конюших, проходило его детство и, кажется, должна была пройти и вся его жизнь. Постепенно он привык к теплому тошнотворному дыханию конюшни. Лишенный свободы и желаний, пропитанный собственным и конским потом, прикованный к этим четвероногим разномастным созданиям, подчиненный их норову. Конюшня угнетала, не давая никогда передышки, но одновременно и спасала от угрожающей власти огромного мира, который лежал за ее кирпичными порогами, отпугивая боснийского мальчугана своей непостижимостью и жестокостью. В конюшне только ты и кони, и ты словно бы ценнее остальных людей благодаря дикой силе коней, и ничего людского для тебя не осталось. Конюшня налагала свои обязанности, но одновременно освобождала от всего, что человека преследовало, раздражало и мучило. Кони были всегда только конями, в то время как люди, как известно, становятся всем на свете и никогда не знаешь, чего от них ждать.
Маленький Рустем (так назвали его, отняв отцовскую веру и материнское имя Драган), внешне неуклюжий, мешковатый, как все боснийские мальчуганы, возле коней словно бы перерождался, становился юрким, умелым, никто на конюшне не мог с ним сравняться, и кони, кажется, почувствовали это его умение, а султан Сулейман, который, вспоминая свою молодость, иногда приходил на конюшню ковать коней, хвалясь, что зарабатывает себе на хлеб, заметил и выделил Рустема, и вскоре тот был определен (теперь уже в самом деле определен) для присмотра за султанским вороным конем. И уже никто так не умел тогда угодить Сулейману, никто не умел так вычистить и оседлать султанского коня и так подвести его к повелителю, как этот хмурый босниец, и Рустема возненавидела конюшня, затем, возненавидел султанский двор, ненависть, как огонь по сухой траве, перекинулась на войско, чуть ли не на весь видимый мир, потому что мир никогда не прощает успеха.
На первых порах Рустем ничего не замечал. Жил среди коней, следил за тем, чтобы они были вовремя расседланы, вычищены, вытерты до блеска, имели увлажненный овес в желобах и свежее сено, выводил вместе с другими своими товарищами коней на прогулку, а по ночам, когда никто не видел, гоняли их, чтобы не застаивались. Кони боялись темноты, раздували животы под подпругами, мелко дрожали, прядали ушами, щерили большие желтые зубы, переступали с ноги на ногу, пугливо всхрапывали. Когда же вырывались из конюшенной духоты, громко и радостно ржали и несли своих всадников в темноту, в безбрежный простор, а те сидели на конях, настороженные, чуткие, дикие от воли, уже и забыв, когда были людьми (потому что оставались ими лишь во сне), и казалось им, что жизнь – это только вот такая неистовая скачка на коне, все остальное – надоедливые обязанности, скука и никчемность. Кони были послушными, верными, они мчались в безвесть в темноте и в лунном сиянии, резкий ветер бил в лицо всадникам, и ветер этот словно бы тоже имел масть этих коней – вороной, как крыло ночной птицы, желтый, как лисий хвост, горячий и смердящий. Конские копыта били о землю глухо и понуро, под такой перестук копыт эти кони будут мчать своих всадников и в бездну. Рустему часто слышался этот перестук даже сквозь сон, но он не боялся, не просыпался, облитый холодным потом, продолжал спать, а если и пробуждался, то лишь для того, чтобы навести порядок в конюшне. Иногда кони неизвестно отчего пугались ночью в своих стойлах, и тогда угомонить их можно было только нечеловеческим криком, бросившись бесстрашно к ним, нанося во все стороны удары с жестокостью, которая царила лишь среди людей. Кони мгновенно затихали и уже не тревожились.
Рустем лучше всех в султанской конюшне мог угомонить разъяренных коней и проявлял при этом столько жестокости, что его невольно остерегались все остальные конюшие, хотя никто из них отнюдь не принадлежал к ангелам – были это люди черствые, злобные, ненавидящие. Среди этих одиноких молчаливых людей Рустем рос еще более одиноким и молчаливым, чем они. Высокий, понурый, кривоногий, с каким-то застывшим лицом, скрытым в жестких черных зарослях, этот человек пользовался таким всеобщим презрением и нелюбовью, что благосклонность к нему султана никто не мог ни истолковать, ни просто понять. Рустем видел, какой ненавистью окружен, но не заискивал ни перед кем, не боялся враждебности окружающего мира. В его непокорной боснийской голове родилась мысль не только отомстить этому миру, но даже уничтожать его всеми доступными ему средствами. Но чем он мог отомстить? Презрением, которое мог выражать, возвысившись над всеми благодаря непостижимой благосклонности Сулеймана? Но достаточно ли молчаливого презрения, когда вокруг торжествует жестокость? К тому же благосклонность и милость падишаха могут пройти так же неожиданно и непостижимо, как и родились, – и тогда ты останешься беспомощным, отданным на расправу и съедение, бессильным и безоружным. Человек в этом мире должен иметь свое оружие. Как хищник – клыки и когти, как змея – яд, как бог – громы и молнии, как женщина – красоту и привлекательность. Не надо думать, что Рустем пришел к этому выводу сознательно. Сопротивление рождалось в нем словно бы само по себе, вызванное самой жизнью, неволей и недолей, а в особенности же окружающей жестокостью. Точно так же, как бесстрашно бросался он навстречу ошалевшим коням, стал Рустем ввязываться в людскую речь, бросая туда изредка злые насмешливые слова, едкую брань, издевательские восклицания. Вскоре ощутил в себе настоящий дар брани. Он бранился почти с гениальной грубостью. Те, кого он ругал, не могли ему этого простить и возненавидели Рустема еще больше, а он разгорался от этого еще сильнее, сыпал свою брань неутомимо и щедро, вызывая восторг у посторонних слушателей и ненависть у тех, кого ругал.
– Аллах против всех, и я тоже против всех. А все против меня, говорил Рустем.
Он был одинок, как аллах.
Быть может, это почувствовал султан Сулейман, который, собственно, тоже был безнадежно одинок на этом свете, и возвысил Рустема, сделав его со временем начальником султанских конюшен – имрахором. Кажется, было только трое людей в безграничной империи, с которыми падишах любил разговаривать: любимая жена его Хасеки, всемогущий Ибрагим и этот хмурый босниец, пропитанный острыми запахами конского пота и конской мочи. Султану нравились мрачный юмор Рустема и его беспощадный язык. Сам принадлежал к людям мрачным, но вынужден был эту мрачность сочетать с величием, ибо этого требовало его положение. Потому охотно слушал человека, не скованного ни долгом, ни положением, человека если и не свободного до конца, зато своевольного. Тридцатилетним Рустем уже имел самое высокое в империи звание паши, хотя не отличился ни в битвах, ни в чем-нибудь другом, а умел только присматривать за конями, седлать их, скакать на них и жить с ними.
Ибрагим, который ревниво убирал всех, кто пытался занять хотя бы малейшее место в сердце султана, оставался бессильным лишь перед двумя: перед Роксоланой, чары которой превышали его хитрость, и перед Рустемом, может, единственным человеком в империи, который говорил все, что думает, и просто убивал своими словами. Про Ибрагима, когда тот стал всемогущим великим визирем, а потом уже и сам себя называл вторым султаном, безжалостно уничтожая своих противников, Рустем сказал: «Если бы сам аллах пришел на землю, то и ему Ибрагим велел бы набросить на шею черный шнурок».
Ибрагим отплатил имрахору, отправившись в поход против персидского шаха. Когда зимовал в Халебе, прислал Рустему в Стамбул фирман, согласно которому Рустему выделялся санджак Диярбакыр, на самом краю империи, возле кызылбашей. Высоченные горы, вечные снега, пустынность, стремительные реки, мечущиеся по равнине, изменяя свои русла, дикие племена, которые никогда не успокаивались. Но раз тебя назвали пашой, поезжай править. Рустем попросил султана, чтобы его оставили в Стамбуле при конюшне, но Сулейман не захотел вмешиваться в действия своего всемогущего любимца. «Вот приедет Ибрагим из похода, тогда скажу, чтобы вернул тебя обратно», – сказал ему султан.
Да, наверное, забыл, а может, и сказал, но Ибрагим вскоре был убит, и некому было выполнять повеление султана, – так Рустем остался в Диярбакыре. Знал, что при дворе целые толпы прихвостней, продраться сквозь которых, чтобы попасть к султану, нечего и думать. Хотя теперь, как санджакбег, Рустем вынужден был иметь дело с людьми, но все равно не мог избавиться от ощущения одиночества, о котором забывал лишь тогда, когда оставался с конями, когда шел на конюшню, где было чисто, как в мечети, а тяжелый запах конской мочи и навоза словно бы отгораживал тебя от суеты и скуки мира.
Снова, как и когда-то, любил Рустем (теперь уже паша с пышным сопровождением) ездить верхом на коне по ночам, скакать по бездорожью, под чужими звездами, неизвестно куда и неизвестно зачем.
Одинокий, как чужая звезда на вечернем небе.
На всю жизнь запомнил последнюю свою ночь в Диярбакыре. Как скакал вечером на коне, а между деревьями гнался за ним узенький, будто ниточка, золотой серпик молодого месяца, скользил по небу неслышно, таинственно, не отставал и не обгонял, но вот дорога сделала поворот, и месяц оказался далеко впереди, и теперь уже он убегал, а Рустем догонял его и не мог догнать. Потом дорога внезапно выскочила на темную округлую вершину, всю в высоких деревьях, и месяц упал вниз и теперь проскальзывал между стволами, чуть ли не у корней, но тут дорога снова пошла в долину (Рустем почувствовал это, сползая под тяжестью собственного тела на переднюю луку седла), конь нес всадника вниз, ниже и ниже, земля под копытами уже не издавала полного звука, как на вершине, а издавала мягкий, приглушенный топот, копыта не стучали, а словно бы ударяли по воде, деревья расступались шире и шире, внизу раскинулась безбрежная голубовато-тусклая равнина и над нею огромное, такое же голубовато-тусклое небо, и где-то на страшной высоте, над самой головой Рустема, висел серпик молодого месяца. Теперь месяц висел неподвижно, – как ни гнал Рустем своего коня, далекое мертвое светило не приближалось, было недостижимым, как судьба.
Рустем придержал коня, пустил его шагом, долго так ехал, как человек, которому некуда спешить. И тут среди ночи, на незнакомой дороге догнал его султанский гонец из Стамбула и вручил фирман от самого падишаха. Гонец с девятью охранниками должен был скакать из Стамбула днем и ночью, делая лишь необходимые передышки в караван-сараях и ханах, чтобы вручить султанский фирман паше там, где и когда его найдет, и фирман должен быть прочитан немедленно, и точно так же немедленно должно было выполняться повеление падишаха.
Чауши присвечивали Рустему зажженными сухими ветками, пока тот ломал печати на драгоценном послании и, громко дыша, медленно читал фирман. Султан вызывал его в столицу, жалуя ему высокое звание визиря, вводя в свой диван и повелевая, бросив все, прибыть как можно скорее к подножию его трона.
Лучина погасла, и никто не видел выражения лица хмурого паши после прочтения фирмана. Рустем вздохнул, подумал про себя: – «Назовут визирем все равно что дадут змею в руки: удержать не сможешь, ибо скользкая, а выпустишь – ужалит». Но смолчал, положил в знак покорности фирман себе на голову, затем поцеловал султанскую тогру, крикнул своим охранникам почти оживленно:
– На Стамбул!
С ненавистью вспоминал потерянные на краю земли несколько лет своей жизни. Лишь теперь открылось, что для его беспощадного ума нет надлежащей поживы там, где одни подчиненные, где все его слова воспринимаются с рабской покорностью. Земля и люди были здесь в его нераздельной власти, впервые в жизни имел под своим началом не одних только коней, но, как ни странно, это не приносило никакой радости, тоска заполняла все дни Рустема, тоска непостижимая и беспричинная, и лишь теперь, прочтя султанский фирман, которым его вызывали в Стамбул, понял: рожден, чтобы насмехаться не над теми, кто ниже, досаждать не мелким и бессильным, а только силе самой великой, самой грозной. Там – настоящая жизнь, потому что там опасность, игра с огнем, и даже если погибнешь из-за своего несдержанного языка, то и тогда это будет радостнее, чем прозябание здесь, у черта за пазухой, ибо погибнешь не окончательно, не безнадежно, останется после тебя память, останутся слова – злые, правдивые, неповторимые.
И самая ужасная судьба может обернуться неожиданным торжеством. Рустем возвращался в Стамбул, охваченный мрачной гордостью. Вспомнили! О нем вспомнили! Коню за все его страдания и терпеливость в походах бросают охапку сена, а человеку что? Коню – сено, а человеку – что?
Он отправился в Стамбул не мешкая, без сожаления и воспоминаний покинул свой санджак, не слезал с коня так долго, что измучились даже привычные к переходам султанские гонцы, а Рустем смеялся: «Кого там за что делают пашами, а меня сделали за то, что люблю на конях ездить!»
В Конье его ждал султанский подарок – породистый конь в драгоценной сбруе и перо с бриллиантом на тюрбан.
– Рая без моего султана я не знаю! – сказал Рустем, но лицо у него при этом было таким мрачным, что никто ему не поверил.
В огромном караван-сарае Султан-хан за Коньей Рустема встретил большой конный отряд, посланный Сулейманом, потому что султанский визирь должен был скакать не в одиночестве, а с войском.
Рустем понял, что его испытывают на расстоянии, еще и не подпуская к столице и к подножию трона. Вынужден был прикусить свой злой язык и провозглашать слова, вовсе не присущие ему.
– Да продлит аллах тень на земле нашего великого султана Сулеймана, – обращаясь к всадникам, пробормотал Рустем. – Восемь букв его имени – будто кровавые звезды, посылающие свои лучи до самых дальних уголков вселенной.
Легче было бы проскакать, не слезая с коня, месяц, а то и три, чем такое сказать, но другого выхода не было. «Вот засяду в султанском диване, – мрачно думал Рустем, – тогда уж скажу им всем. А пока туда пробираешься, нужно наступать себе на хвост. Переходя через мост, и медведя дядей назовешь, а свинью теткой».
Он гнал и гнал коня, не давая передышки своему визирскому войску, ехал через Илгын, Акшехир, Чай, Кютахью, подавляющее большинство караван-сараев миновал не останавливаясь, подтрунивая над теми, кто жадным глазом посматривал на прибежища для путников:
– Натыкано здесь этих караван-сараев, будто грехов людских. Но это все для верблюдов, а не для благородных коней!
Еще раз выехали навстречу ему султанские послы с дарами. Султан жалует с пречистого и честного своего тела шаровары непорочности, халат доблестный и футуввет-наме – грамоту на власть. В знак благодарности Рустем поцеловал копыто коня султанского посланца.
Измучился сам, измучил людей и коней, прискакал в Стамбул в надежде, что его сразу же примет сам султан и торжественно введет в диван; вместо этого ему велено было ждать в том же самом доме, который занимал еще в бытность свою имрахором, а потом появился бывший янычар Гасан-ага и повел Рустема к султанше Роксолане.
Султанский имрахор когда-то учил Роксолану ездить верхом на коне. Наука была недолгой, потому что ученица оказалась ловкой, сметливой. Рустем, кажется, лишь один раз помог султанской жене сесть в седло, никакого воспоминания в нем от прикосновения к этой вельможной женщине не осталось, потому что женщины вообще не оставляли в нем ни воспоминаний, ни впечатлений. Теперь не знал, удивляться или злиться от такой странной встречи: вместо султана – только султанша. И ради этого человек проскакал на коне через всю империю? Может, ради того, чтобы посмотреть на султаншу? Но что в ней увидишь? У женщины, как и у коня, самое главное шея, колени и копыта (последние чтобы не крошились и были высокими). Но у коня все это открыто, а у султанши навеки закрыто от всех посторонних взглядов.
Все же он немного успокоился от своих мыслей и шел за Гасан-агой по запутанным переходам Топкапы, подбадривая себя улыбкой: «Вот взглянем на султаншины копыта…»
Роксолана поразила его такой приветливой неприступностью, что он остолбенел, с трудом согнувшись в поклоне, так и не сумел раскрыть рта.
– Рада видеть тебя, визирь, – ласково промолвила султанша.
Неуклюжий босниец кивнул головой, будучи не в состоянии произнести хотя бы слово.
– Мы с его величеством султаном хотим просить тебя…
Просить? Когда это султаны кого-нибудь просили?
…чтобы ты взялся научить нашу нежную Михримах ездить на коне.
Рустем оцепенел. Его назвали визирем лишь для того, чтобы учил ездить верхом султанскую соплячку? Ну, скажем, это уже не рабыня, как было когда-то с ее матерью, а высокородная принцесса, и подсаживать в седло он будет уже не рабское мясо, а благородную султанскую плоть, но что же изменилось для него? Был простым рабом, конюшим, начальником султанских конюшен, пашой и санджакбегом (дикие племена должны были трепетать от одного упоминания его имени, но что-то он там не заметил этого трепета), теперь имеет высочайшее звание визиря, а продолжает оставаться все тем же простым конюхом. Может, эта маленькая непостижимая женщина шутит? Она славянка, а вреднее славянок в обращении с мужчинами едва ли найдешь на свете. Учить принцессу Михримах ездить верхом? А кого еще учить? И где же диван, в котором должен был засесть визирь Рустем-паша?
Он стоял так долго и с таким глупым выражением лица, что Роксолана засмеялась и махнула рукой.
– Вижу, какая это радость для тебя, визирь. Я передам его величеству султану. А теперь можешь идти. Гасан-ага скажет тебе, когда должен приступить.
Снова вел его Гасан-ага по дворцовым переходам, но теперь уже Рустем потешался в душе над самим собой. Вспоминал, как в Коране сказано о конях: всегда только благородные. А всадники – только верные. Благородство всадникам и не снилось. Вот так и ему. Даже до конского благородства не дорастет никогда. Всегда и вечно будет оставаться только верным.
Вспомнил, как ездил тогда с султаншей. На первых порах бежал рядом с ее конем, не решаясь держаться даже за стремя. Потом она пожелала езды настоящей. Он вынужден был тоже садиться верхом, но должен был держаться всегда только позади, так что комья земли из-под копыт Роксоланиного коня летели на него, били ему в лицо, залепляли губы и глаза, но вселяли в его душу такую надежду, что Рустем смеялся в душе. Теперь его назвали визирем, а комья земли из-под копыт коня султанской дочери снова будут залеплять ему лицо. Что же изменилось? Если подумать, то малая радость стать пашой или даже визирем. За что здесь становятся тем или другим? Один стал пашой за то, что умел свистеть по-птичьи, другой готовил как никто черную фасоль, третий читал султану персидских поэтов перед сном так нудно, что султан засыпал после первого бейта, никогда, собственно, и не слыша чтения. А он сам стал пашой за то, что умел рассмешить мрачного Сулеймана. Кроме того, никогда ничего не просил у султана ни для себя, ни для кого-либо другого, ни во что не вмешивался и не вызывал зависти. Не вызывал, пока не вылезал из конских стойл. А стал пашой, назвали его визирем – и уже все здесь, в столице, смешалось, и пока он доскакал от своего Диярбакыра, уже ему предназначен не диван, а одни лишь комья земли из-под копыт коня султанской дочери. От кого здесь зависит твоя добрая слава? От людей, которые сами ею никогда не отличались?
Пожар
О столице говорили: «Если бы Стамбул не горел, все пороги в нем были бы золотые». Или еще: «В Стамбуле пожаров хоть отбавляй, а в Анатолии податей хоть отбавляй».
Рустем-паша утром был со своей сановной ученицей на Ат-Мейдане. Михримах не похожа была на свою мать. Та сразу поняла науку молодого конюшего, а эта жеманилась и дурила голову новоиспеченному визирю, как будто решила во что бы то ни стало вывести его из терпения. Напрасные надежды! Рустем потихоньку сплевывал в дресву под ноги коню, терпеливо переводил дыхание, следуя рядом со скучающей всадницей, теперь уже твердо зная, что в диван он въедет если и не на собственном коне, то следом за конем, который везет на себе Михримах. Когда подсаживал на коня султанскую дочь и ощущал под твердой рукой своей мягкую царственную плоть, в нем что-то словно бы даже вздрагивало. Удивлялся и ненавидел себя. Замечать чье-то тело означало замечать и тело собственное. А до сих пор, кажется, и не замечал его, оттачивая на бруске ненависти свой непокорный дух. Он сердито сплюнул от неприятного открытия и сделал это так откровенно, что Михримах заметила и стала привередничать сильнее, чем всегда. К счастью, Рустема в то утро спас пожар.
Загорелось далеко, где-то на той стороне Халиджи, на корабельных верфях и в еврейском участке Хаскёй. Но огонь сразу же перекинулся через залив, а еще быстрее понесся по Стамбулу отчаянный крик: – «Янгуйн! Янгуйн!» – «Пожар! Пожар!» – и все живое бежало в ту сторону, где царило пламя, одни бежали подолгу, другие из любопытства, третьи от злорадства. Тушить пожар имели право только янычары. Хотя возле каждого дома должна была стоять большая кадка с водой и хозяин обязан был держать лестницу вышиной в свой дом, который согласно предписаниям не мог превышать двух этажей, лить эту воду на огонь могли только янычары, присматривавшие за городским участком. Они прибегали на пожар первыми, окружали пылающий дом, отгоняя саблями даже хозяев, когда видели, что в доме есть что-то ценное, поскорее вытаскивали из огня, а потом ждали, пока сгорит, зная, что серебро и золото превратятся в слитки, которые легко найти в пепле, а все остальное не имело для них ценности.
Едва услышав крики о пожаре, Рустем понял, что может избавиться от своей привередливой принцессы, и смело придержал коня Михримах.
– Ваше высочество…
– Чего тебе?
– Разрешите сегодня прекратить нашу науку.
Михримах взглянула на него поверх яшмака своими глазищами, в которых собрано было все самое злое и от султана, и от султанши. У Рустема засосало под ложечкой от этого взгляда, на языке у него так и вертелись слова тяжелые, как камни, но он загнал эти слова в такие глубины, откуда они не могли уже выбраться. Стараясь придать покорность своему грубому голосу, хмуро произнес:
– Пожар.
Думал, что этим объяснил все. Но Михримах была иного мнения.
– Пожар? Ну и что же? Погорит и перестанет.
– У себя в Диярбакыре я привык…
– Тут Стамбул. А в Стамбуле есть кадий, который за все отвечает.
Рустем не выдержал:
– Ваше высочество! Вы не знаете этого старого обманщика? Да ему пускай сгорит хоть и весь Стамбул, он будет дуть в одну дудку: «Ничего не видел. Ничего не знаю».
Все это ее не интересовало, как говорят: «И каши не хочет, и по воду не идет».
– Сгорит – ну и пускай себе сгорит.
– Ваше высочество, а хассы?
– А что это такое?
– Участки Стамбула, принадлежащие султану и султанской семье.
Она задумалась на короткое время.
– Принадлежат? А что принадлежит мне, ты можешь сказать?.. Ну ладно. Тебе так хочется на этот пожар?
– Я взял бы своих людей. Все же я визирь его величества.
– Там есть еще несколько визирей. Но если уж так хочешь… Пусть меня проводят в Топкапы.
Так Рустем добыл себе свободу.
С пожаром было труднее, чем с султанской дочерью. Во-первых, потому, что в Стамбуле стоял ужасный июльский зной.
А во-вторых, судя по всему, не обошлось без злоумышленников, ибо как бы иначе пожар переметнулся через Золотой Рог, гигантскими перескоками помчался по столице, захватывая новые и новые участки? Несколько участков выгорело дотла, пожар уничтожил поставленный еще Фатихом дворец Эски-Серай, сгорел наполненный заключенными зиндан, превратился в дым огромный деревянный базар, погибла библиотека Матьяша Корвина, вывезенная Сулейманом из венгерской столицы, огонь добрался даже до каменного Бедестана, на котором расплавилась оловянная крыша.
Следом за пожаром, будто принесенный таинственными злыми силами, вполз в столицу черный мор, и смерть косила людей тысячами, не останавливалась и перед порогами дворцов, – так умер великий визирь Аяз-паша, оставив гарем со ста двадцатью детьми и воспоминания о себе как о самом глупом из всех известных визирей. А поскольку дураки всегда мстительны, то многие вздохнули облегченно, услышав о смерти Аяз-паши. Даже Роксолана не сдержала своей радости перед Сулейманом, хотя и знала, что грех радоваться чужой смерти:
– Может, и лучше, что мор убрал Аяз-пашу, мой султан.
– Он был моим верным слугой, – заметил Сулейман.
– Только и всего! Служить могут и вещи неживые. А паша и при жизни был будто мертвый, потому что не имел в себе слова. Человек же, лишенный слова, хуже зверя. Зачем ему жить?
– Своей саблей он показал, что он сноровистее многих живых.
– Кому же показал? Убитым?
– Когда приходил к тебе, хотел сказать, что это он раскрыл мне глаза на измену Ибрагима. Хотел, но не умел сказать.
– Это и лучше: все равно я не поверила бы. Разве не сам падишах распознал презренного грека? А этот несчастный Аяз-паша принадлежал вроде бы к тем, кому поручено, чтобы глупость не исчерпывалась на этом свете. Хотя, может, глупые тоже нужны, чтобы видно было умных. Кого теперь поставите великим визирем, мой повелитель?
– Самого умного. Лютфи-пашу.
– А разве Рустем не умнее?
– Молод еще. Подождет.
– Вы до сих пор не ввели его в диван.
– Не было повода. Смерть Аяз-паши дает его.
– И пожар тоже… – напомнила Роксолана.
– Мне передали, что Рустем-паша вылавливает злоумышленников. У него не было возможности отличиться на войне, пусть попробует на пожаре.
– Разве нельзя потушить пожар?
– На все воля аллаха. Что горит, должно сгореть.
– А если весь Стамбул?
– Тогда аллах подарит нам еще лучший Стамбул. Как сказано: «Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им – рай».
Диван если и не напугал Рустема, то вконец разочаровал. Издали неведомый, таинственный, угрожающий и неприступный, изнутри диван показался Рустему сборищем напыжившихся баранов. Аяз-паши уже не было, но еще словно бы жил его дух среди этих ковров, приглушенных голосов, гнетущего молчания. Султан молча смотрел каменными глазами на своих визирей, никого не узнавая, никого не допуская ни к произнесению речей, ни к размышлениям, и под таким взглядом человек чувствовал себя вроде бы бараном. Не диван, а кучка баранов. Аяз-паша был глупый, как баран. Лютфи-паша упрямый, как баран. Евнух Сулейман-паша жирный, как баран. А он, Рустем, отощавший, будто баран после снежной зимы. Счастье, что в Стамбуле свирепствовал пожар, и он снова бросился туда, захватив с собой янычар, метался среди пепелищ, кого-то ловил, бросал в зинданы, за кем-то гонялся, кого-то преследовал, падая с ног от усталости и рачительности, весь прокопченный, подобно кюльханбею[12 - К ю л ь х а н б е й – трубочист, истопник.], над которым потешается детвора. Теперь уже не было времени для собственных насмешек, зато насмехались над ним стамбульские бездельники – левенды: «Старается, будто хочет понести два арбуза под мышкой».
А пожар, словно лютый невиданный зверь, угомонившись в великом Стамбуле, неожиданно перелетел ночью через Босфор, поджег Ускюдар, там поднялась беспорядочная стрельба, как будто ворвался туда враг, хотя откуда бы он мог появиться в самом сердце грозной империи?
Рустем с янычарами и конными чаушами немедленно переправился на тот берег и пропал на несколько дней, будто погиб в огне, но родился из пепла живой и здоровый, только еще более прокопченный и совсем охрипший. Пожар наконец отступил, теперь только дотлевало то, что не сгорело окончательно, погорельцы разгребали пепелища, принимались ставить новые дома, каждый при этом мечтал захватить участок больший, чем имел раньше, или же придвинуться поближе к главному пути стамбульской воды, шедшему вдоль Кирк-чешме.
Рустем появился перед Михримах точно таким же послушным, как и раньше, придерживал поводья ее коня, бежал рысцой следом, когда султанская дочь пускала коня вскачь.
– Ну как, погасил пожар? – полюбопытствовала она.
– Само погасло.
– Почему же так долго пропадал там?
– Ловил поджигателей.
– И поймал?
– Малость.
– Кто же они?
– Казаки.
– А что это такое?
– Никто не знает. Прозываются так, вот и все. Приплыли из-за моря на лодках. В Синопе сожгли все, разграбили, захватили коней – и сюда.
– Не побоялись Стамбула?
– А чего им бояться?
Михримах остановила коня, долго смотрела на визиря. Видела многих спокойных людей, среди них самый спокойный – отец ее, султан Сулейман, но такого человека, как этот бывший султанский конюх, найдешь ли еще на свете.
– Почему же не расскажешь о них?
– А что рассказывать? Они вошли в Ускюдар, а я наскочил на них. Нас было больше, мы и одолели. Семьдесят и двоих отвез в Эди-куле. Их вожака тоже. Теперь грызет свои кандалы.
– Как это – грызет?
– Зубами. Лютый человек и силой обладает неистовой.
Михримах пришло на ум: это с Украины, с материнской земли! Рассказать ей! Немедленно! Ведь была она не просто девушкой, а султанской дочерью, настроения у нее менялись с такой скоростью, что даже сама не успевала удивляться. А уже в следующее мгновение воскликнула:
– Поведи меня туда!
– Куда, ваше высочество?
– О аллах, какой ты недотепа! К тому казаку! Я хочу его видеть!
– Казак – пока на свободе. А в Эди-куле ни казака, ни человека.
– Хочу его видеть!
– Ваше высочество, даже имам не поможет повешенному.
– Сказано тебе! Пойди скажи моим евнухам, они проведут туда и без тебя.
Евнухи торчали на Ат-Мейдане, не спуская глаз с Рустема-паши и Михримах, так, будто визирь был котом, а принцесса птичкой или мышью.
– Эти проведут, – пробормотал Рустем. – Эти проведут и заведут куда хочешь. А вам бы, ваше высочество, не следовало идти в то паскудное место.
– Не твое дело!
– Я только к тому, что когда воз разбился, то всегда найдутся охотники указать дорогу, да только ведь ехать не на чем.
У Михримах снова сменилось настроение.
– Не хочу я туда ехать. Это, наверное, так страшно. И этот казак… Как его зовут?
– Казак, да и все.
– Имя?!
– Что имя? Для мертвых все равно. Сегодня он еще зовется Байдой, а велит его величество султан…
– Байда? Что это такое?
– А кто может знать? Наверное, человек, который любит пить и гулять, ну, и от нечего делать помахивает сабелькой.
– Я пошлю ему сладостей.
– Ваше высочество! Какие же сладости для человека, которому завтра отрубят голову? Уж если посылать, то меду и водки.
– Что это такое?
– Напитки, которые употребляют христиане, чтобы поднять дух.
– Разве не поднимает духа молитва?
– Молитва – для правоверных. От нее они даже пьянеют, точно так же, как от крови.
– Как ты смеешь? Правоверные пьют только воду.
– Ваше высочество, водой они уже запивают. А пьют кровь. От нее и пьяны. Как сказано: «Купайтесь в их крови».
– Пошли тому казаку то, что нужно. И скажешь мне завтра.
А самой снова не давала покоя мысль: «Рассказать ее величеству султанше! Немедленно рассказать матери! Ведь это же с ее земли! Все ли там такие?»
К Рустему снова обратилась придирчиво:
– Разве никогда раньше не было казаков в Эди-куле? Почему я не знала?
Он был спокоен:
– Ваше высочество, они не добирались до Эди-куле. Слишком далеко. А этот добрался. Забыл о мудрости: прежде чем украсть минарет, подумай, как его спрятать.
Байда
Что начинается несчастьем, заканчивается тоже несчастьем. Всегда о самом главном узнаешь слишком поздно. И хотя весть о казаках в Эди-куле, словно бы состязаясь, принесли ей Гасан-ага, Михримах, даже сам султан, Роксолана знала, что уже поздно, что ничем не поможешь, да еще и этот неповоротливый и неуклюжий Рустем на этот раз проявил неуместную резвость и дал Сулейману прекрасный повод выставить перед всем Стамбулом виновников ужасного пожара, сожравшего чуть ли не половину столицы, обвинив этих несчастных, не спрашивая их провинности, ибо побежденный всегда виноват и всегда платит самую высокую цену.
Гасан приходил к ней каждый день, она допытывалась:
– Как они там? Что делает тот, которого ты называешь Байдой?
– Ваше величество, он поет.
– О боже! Что же он поет?
– Песни. Сам слагает их для себя. Последняя такая: «Ой, п’е Байда мед-горiлочку, та не день не нiчку, та й не в одиночку!..»
– Это Михримах послала ему еду и питье. Мое дитя!
Гасан-ага печально улыбнулся одними глазами. Если бы султанша могла видеть, как ест и пьет Байда в подземельях первого палача империи Джюзел-аги…
Но женщине не всегда надо знать, видеть, она наделена непостижимым умением чувствовать. Неожиданно весь мир для Роксоланы замкнулся на этом странном Байде с его казаками, жила теперь в каком-то лихорадочном напряжении, ждала каждый день вестей из Эди-куле, гоняла туда Гасана, дважды вызывала к себе Рустема-пашу и оба раза прогоняла с не присущей ей злостью, ибо ничего иного не мог вызвать в ней этот неуклюжий и так по-глупому предупредительный босняк, пожелавший превзойти всех султанских визирей на чужом горе. И это она возвратила этого нелюдя из забвения, призвала в столицу!
Она мучилась от затаенных мыслей, тревожных желаний, невысказанных просьб, которые готовила для султана. Что придумать, как подойти к Сулейману, о чем просить? Ей почему-то казалось, что она не сможет жить в этих дворцах, если не воспользуется на этот раз своей властью, чтобы помочь людям, в жилах которых течет родная кровь, голоса которых стонут где-то в подземельях точно так же, как стонал здесь в рабстве ее голос, в глазах которых те же самые вишневые звезды, что и в ее глазах.
Султан, словно бы почуяв посягательство на свою власть, в эти тревожные дни избегал Роксоланы. Может, встревожился, когда увидел, как засверкали ее глаза от известий о заточенных казаках, может, донесли ему, что Михримах посылала этим разбойникам напитки и еду, – он допустил к себе Рустем-пашу, расспросил, как тот управился с такими дерзкими налетчиками, одарил его кафтанами, затем ввел в диван и велел рассказать о своем геройстве во время пожара визирям, чтобы те смогли надлежащим образом оценить его преданность султану, которую сами они не сумели проявить в такое смутное время. Визири возненавидели Рустема сразу и единодушно, но его это не очень беспокоило, он лишь посмеивался в свой жесткий ус: «У кого целые штаны, тот садится где хочет». Считал, что совесть его чиста, потому что выполнил свой долг перед султаном. Если бы ему сказали, что султаном назван вороной жеребец из его конюшни, он точно так же старался бы и для жеребца, ибо, если подумать, жеребец такой же правоверный, как и султан.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pavel-zagrebelnyy/roksolana-strast-suleymana-velikolepnogo/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Г о с п о д а р ь – титул правителей (князей) Молдавии и Валахии XIV–XIX вв.
2
Ч е ш м а – источник, фонтан.
3
Перевод Ю.Саенко.
4
П и р к е л а б – начальник округа, уезда (молд., истор.).
5
Х а р а д ж – налог, который турецкие завоеватели брали у иноверцев.
6
Б а р д а х – сосуд для питья, стакан.
7
Ч и ф т л и к – феодальное поместье (турецк.).
8
К а с ы д ы – жанр восточной поэзии, стихотворения преимущественно панегирического содержания (араб.).
9
С а н д ж а к – в султанской Турции объединение военных ленов.
10
М о р е я – турецкое название северных областей Греции.
11
Х у т б а – у мусульман пятничное богослужение в мечети, во время которого соборный имам читает молитву за «власть предержащую» и за всю мусульманскую общину.
12
К ю л ь х а н б е й – трубочист, истопник.
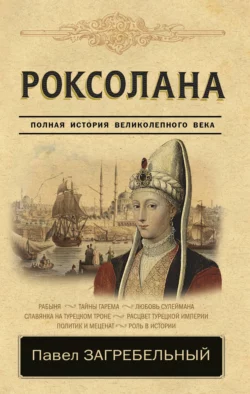
Павел Загребельный
Тип: электронная книга
Жанр: Литература 20 века
Язык: на русском языке
Стоимость: 349.00 ₽
Издательство: АСТ
Дата публикации: 01.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Перед вами один из лучших романов о великолепном веке расцвета Османской империи, о Роксолане, украинской девушке и первой рабыне, которая смогла стать официальной женой султана Сулеймана Великолепного.