Политические сочинения. Том III. История политических институтов
Герберт Спенсер
Политические сочинения #3
В томе III «История политических институтов» публикуются главы из части V «Оснований социологии». Здесь Г. Спенсер исследует закономерности постепенного становления институтов цивилизованного человеческого общества. Он развивает свою знаменитую теорию двух типов общества (и соответствующих им культур) – воинственного и промышленного. По его мнению, благотворные результаты войн и конфликтов остались в далеком прошлом, а в Европе и Северной Америке завершился эпохальный переход от «военизированных» форм общественной организации (режим статуса) к «промышленным» формам (режим договора). «Принудительное сотрудничество», характерное для воинственных обществ, в целом заменено «добровольным сотрудничеством» промышленных обществ. И когда ближе к концу жизни Спенсер наблюдал откат к воинственным формам общества, он назвал эту вызывающую беспокойство тенденцию «поворотом Европы к варварству» (см. т. IV настоящего пятитомного собрания «Политических сочинений» Герберта Спенсера).
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Герберт Спенсер
История политических институтов
Политические сочинения в 5 т. Т. 3.
Печатается по изданию: Спенсер Г. Развитие политических учреждений. СПб.: журн. «Мысль», 1882.
Комментарии, глоссарий и указатель имен, предметный указатель составлены Татьяной Даниловой.
© ООО «ИД «Социум», 2015
* * *
Субъективные и объективные методы в социологии и их относительное значение
Прежде чем говорить о субъективном и объективном методе в социологии, скажем два слова об этих методах в психологии.
Когда мы наблюдаем отдельный человеческий, т. е. сознательный, организм, нам кажется с первого взгляда, что в нем происходят два рода совершенно отдельных и особенных процессов, из которых одни мы называем физиологическими, а также физическими, химическими и механическими, – а другие мы называем психическими, а также субъективными; последнее название дается в отличие от первых, т. е. физиологических, химических, физических и механических процессов, часто объединяемых одним термином – объективных.
Однако убеждение, что эти два процесса, т. е. процессы объективные и субъективные, или процессы физико-химические, механические и физиологические и процессы психические, т. е. идеи, чувства, ощущения, сознание, стоят независимо друг от друга, – такое убеждение падало с каждым шагом развития науки. Это разрушительное действие произвела в особенности физиология, и в частности нервная физиология, указавшая рядом самых точных опытов связь психических, или субъективных, явлений с процессами, происходящими в мозгу и нервах. В самое последнее время такие изобретения, как, например, аппарат известного итальянского физиолога Моссо, довели нас до возможности непосредственно, так сказать, собственными глазами видеть эту связь. Аппарат Моссо приспособлен к тому, чтобы показывать немедленно и точно малейшее увеличение объема какого-либо органа, например руки. Оказалось, что при всякой умственной работе объем руки уменьшается, что зависит от оттока от нее крови к мозгу. Наблюдая с этим аппаратом спящего человека, мы видим, как аппарат своей стрелкой отмечает даже его сновидения, не говоря уже о том, что малейший шум или стук, тревожащие спящего, тотчас сказываются и на аппарате.
Но эта связь давно известна науке.
На ней основано лечение психических больных, она открывается нам также патологоанатомическими вскрытиями мозга умалишенных и вообще страдающих душевными болезнями, и пр., и пр. Но даже и человеку, не обладающему научными знаниями, известно, что его расположение духа, его настроение зависят весьма часто от состояния его тела, от здоровья или нездоровья какого-либо органа и пр., и пр.
Соображаясь со всеми этими фактами, психология, которая в прежние времена ограничивалась наблюдением человека только с субъективной стороны, должна была радикально изменить свой метод: ей пришлось начать исследования о связи субъективных психических явлений с явлениями объективными, или физиологическими. Отсюда в конце концов новейшая психология приняла совсем иной вид, чем прежде, она стала наукой, изучающей законы связи и последовательности не только явлений, субъективных в их соотношении с внешним миром, но и в их соотношении с физиологическими или объективными процессами организма. Когда в этой области набралась достаточная масса фактов и наблюдений, масса, обязанная главным образом исследованиям физиологов, а также невропатологов, когда эта масса фактов убедила в самом неизбежном и неизменном соответствии почти каждого субъективного явления с каким-нибудь объективным явлением в организме или рядом таких явлений, тогда явилась психологическая гипотеза, состоявшая в том, что объективные процессы организма и субъективные процессы нашего сознания суть одно и то же и различаются друг от друга только способом, каким они достигают до нашего сознания. Если какой-либо процесс в нашем организме достигает до нашего сознания путем наших же собственных нервов или мозга, он кажется нам субъективным, т. е. является нашему сознанию в форме ощущений, чувств, идей, мыслей, желаний, воли; когда же этот самый процесс мы наблюдаем в другом организме или даже и в нашем собственном, но извне, посредством внешнего исследования органических явлений, – то он нам является как процесс физиологический.
Но и наблюдая других, мы можем останавливать свое внимание или на физиологической, или на психической стороне одного и того же процесса. Так, в обыкновенных сношениях с людьми нам обыкновенно важно понимать не то, какие физиологические процессы совершаются в человеке, а то, какие идеи, чувства, желания относительно нас и окружающих явлений имеет этот человек. Хотя при этом мы не можем знать непосредственно того, что он мыслит и чувствует, но по его мимике, по его речи и движениям мы делаем заключения о его субъективных состояниях, которые нам известны по нашим собственным, привычным, обыкновенным субъективным состояниям. Таким образом, в обыденной жизни каждый невольно является психологом старой школы, т. е. понимает другого и наблюдает за ним только субъективным методом, т. е. переводя внешние движения и выражения другого на привычный ему субъективный язык чувств и идей. Так как этот способ понимания других людей каждым практикуется с самого рождения, то весьма естественно родилась иллюзия, вследствие которой кажется, что мы непосредственно сознаем идеи и чувства, т. е. субъективные состояния, других людей. Конечно, это ошибка. Мы непосредственно сознаем только их движения, движения исключительно мышечные, движения мышц лица и глаз, производящие выражения чувства, движения мышц грудной клетки, гортани и рта, производящие звуки речи, и пр. И только за этим переводим эти движения, дошедшие до нашего сознания, в те чувства и идеи, которые ассоциируются с ними. Стало быть, даже и этот способ наблюдения других есть способ отчасти объективный (хотя еще и не физиологический), и если его приходится назвать субъективным, то это потому, что подобное наблюдение ровно ничего не дало бы нам, если бы мы не знали по нашему личному, субъективному опыту постоянной связи между нашими собственными субъективными состояниями и их мышечным выражением.
Таким образом:
1) С самого начала человек знал (хотя и не отчетливо-сознательно), что каждое чувство и движение его и других людей имеет связь с мышечными движениями.
2) Он из этого всегда заключал, что мышечные движения (или выражения, речь и пр.) других суть лишь отражения их психических внутренних состояний, так что последние он может узнавать по первым.
3) Затем он узнал научно, что кроме мышечных движений в его организме происходит масса процессов физико-химически-механических, соответствующих каждому его субъективному, психическому движению. Эти более тонкие процессы часто неуловимы извне и простым глазом, без помощи сложных научных исследований и утонченных научных аппаратов.
4) Он отсюда естественно заключил первоначально, как и во втором случае, что эти физиологические процессы суть только выражения субъективных состояний, как и мышечные сокращения, т. е. что хотя они и находятся в связи с психическими явлениями, но составляют нечто отдельное и только вызываются ими, как сокращение мышцы только вызывается психическим состоянием.
5) Увидев более тесную связь между физиологическими, т. е. физико-химически-механическими процессами организма и процессами психическими, он пришел к выводу – о котором мы уже упомянули, – имеющему до сих пор характер гипотезы, что и те и другие процессы не отдельны, как отделен психический процесс и соответствующее ему мышечное сокращение, а что они одно и то же, только рассматриваемое с двух противоположных сторон. Это особенно наглядно выразил Тэн, сказав, что субъективную и объективную сторону психических явлений можно сравнить с одной и той же плоскостью, рассматриваемой с двух сторон.
Подтвердится ли эта гипотеза, или новые исследования покажут ее несоответствие с новыми фактами, этот вопрос решительно не имеет пока научного значения, а есть вопрос пока метафизический. Важно не это, а то, что доказано, т. е. связь и соотношение между объективными и субъективными процессами. Раз эта тесная связь установлена, для науки открывается новое широкое поле исследования, помимо всяких метафизических гипотез о тождестве или не тождестве субъективного и объективного процесса. Принимая пока как доказанный факт только неоспоримую связь и зависимость этих процессов, новейшая психология устанавливает эту связь, где это возможно, опытным и научно-гипотетическим путем, а затем работает дальше, прямо уже объективным методом, т. е. исследуя объективную сторону процесса. Это развязывает ей руки, так как этим путем она может идти вполне научно и опытно. Этим же путем удалось открыть уже в области психических явлений тот самый великий закон эволюции или развития, который первоначально был открыт в развитии внешних форм или типов животного царства, а затем распространяется и на все области человеческого знания. Открытие его в области психических явлений, принадлежащее, бесспорно, Герберту Спенсеру, внесло громадный переворот во все науки, тесно связанные с психологией. Уже плодом этого переворота явились «Данные науки о нравственности» Спенсера, распространяющие этот закон на явления нравственной области, а затем целый ряд социологических исследований, как самого Спенсера, так и других эволюционистов, перенесших закон эволюции на явления общественные.
Общественные явления, так же как и психологические, имеют сторону объективную и субъективную: сторона субъективная есть сторона, выражающаяся общественными и вообще историческими стремлениями, идеями, чувствами, идеалами. К этому числу необходимо отнести все чисто субъективные создания человеческого творчества, имеющие общественный, а не личный только характер, каковы: метафизика, религия, искусства, и в том числе самая идея прогресса как вера в постоянное улучшение физического, умственного, нравственного и общественного положения человека – улучшение, сообразное с идеалами, имеющими более или менее общее распространение. Объективная сторона общественных явлений так же двойственна, как и объективная сторона психических явлений. Как в психических явлениях первая ступень объективного выражения есть мимика, так и в общественных явлениях первая ступень есть выражение речью, мимикой и письменностью. Это первый простейший способ, которым мы узнаем о существовании субъективного процесса в обществе и человечестве. Но есть и дальнейшая ступень. Как в психических явлениях каждому субъективному состоянию соответствуют процессы физико-химически-механические, так в общественных явлениях должно существовать такое же соответствие. Как в психологии истинный прогресс науки начался с момента отыскания таких главнейших соответствий и затем с возникшей отсюда возможности продолжать исследование законов субъективных явлений путем исследования законов объективных явлений, так и в социологии истинный прогресс науки начался лишь с того момента, когда исследование с чисто субъективной почвы перенесено было и на объективные процессы, с приложением к исследованию данных, уже открытых науками физико-химически-механическими и биологическими.
Например, прогресс в области общественных явлений замечался давно. Можно сказать, что здесь не биология помогла социологии, а, наоборот, изучение общественных явлений, их развивающейся, прогрессивной смены дало мысль биологам и естествоиспытателям, что тот же закон развития совершается в природе. Однако та постановка закона развития, какую мы видели прежде в общественных науках, а в частности в истории и в философии истории, была вовсе не та, какою ее сделали теперь работы Спенсера, Мэна, Бетжгота, и массы других эволюционистов в области языка, религии, эстетики и пр., и пр. Прежде эволюционисты-историки, или социологи, или философы-историки шли исключительно субъективным путем исследования, т. е. тем самым путем, каким мы идем в наших обыденных отношениях к отдельным людям. Они изучали антропологические выражения субъективных процессов, совершавшихся в человечестве, как они сохранились в сказаниях, летописях, памятниках литературы, религии и права, переводили эти выражения на субъективный язык своих современных чувств, идей и понятий, и этим путем каждый, с своей точки зрения, старался проследить и указать постепенное развитие в человечестве своих собственных заветных идей, чувств и стремлений.
Для поклонника свободы эволюция человечества оказывалась эволюцией свободы, для христианина она казалась постепенным подготовлением и торжеством христианской идеи, для демократа – постепенным выступлением вперед народных масс, для мирного социалиста – постепенным наступлением экономического равенства; кроме того, поклонники постепенного развития видели в ней постепенное развитие дорогих им идей и форм; более страстные и нетерпеливые поклонники быстрых взрывов и катаклизмов видели в ней, наоборот, успехи или прогресс достижимыми только путем таких катаклизмов, обязанных личной человеческой энергии и успехам: для одних умственным, для других – успехам развития чувств, для третьих – религий… Таким образом, сколько было умов, столько же было и эволюций человечества. Многообразная масса фактов давала каждому возможность извлечь доводы в пользу своего любимого верования или чаяния. Люди, смотревшие на мир пессимистически, как, например, Шопенгауэр, Гартман, имели возможность из тех же фактов сделать совсем противоположные выводы о постепенном торжестве зла, насилий и страдания, т. е. имели возможность доказывать, что не только человечество не испытывает прогресса, но оно идет назад, т. е. путем регресса. Наконец, были и такие мыслители, которые говорили, что прогресс совершается кругообразно, что человечество, как белка в колесе, бежит сперва вперед, а потом возвращается назад и к тому же месту. Находились и более снисходительные, которые полагали, что это круговращение напоминает не круг, а спираль, которая хотя приближается каждый раз снова к прежнему месту или точке исхода, но уж каждый последующий круг шире, полнее.
Из этого читатель, к удивлению своему, заметит, что человечество передумало относительно своей истории решительно все, что можно было передумать, руководясь самой пламенной фантазией. И каждая из этих противоположных гипотез имела своих горячих поклонников и последователей. Мы еще не упомянули о целом ряде других воззрений вроде, например, таких, что, по одним, история есть развивающаяся идея, по другим – она осуществляющееся божество, по третьим – механический процесс, по четвертым – разумное развитие, совершаемое коллективной мыслью, по пятым – ее ведет демон, злобный и враждебный жизни, по шестым – вселюбящий, всеблагий Бог, по седьмым – Бог строгий и карающий, по восьмым… но и этого довольно.
Спрашиваем читателя, могла ли такая история или социология назваться наукой? Не была ли она делом исключительно субъективного творчества, смелых полетов фантазии, управлявшихся чувством, характером, настроением, идеалом или предрассудком тех, которые являются творцами?
Это был период чисто метафизического состояния истории и общественной науки вообще – период, когда законы не открывались путем исследования, а изобретались путем подбора фактов к господствующим чувствам, идеалам, настроениям или предрассудкам.
Как все науки пережили этот период, так и науке общественной пришлось его пережить. Но в области других наук этот период прошел скорее. Природа не вселяет в нас таких страстей, в силу которых факты могли бы извращаться в наших глазах или одни факты могли бы предпочитаться, а другие наоборот, смотря по владеющей нами страсти. Если в области исследования природы и были «партии», т. е. люди, враждующие из-за того, а не иного понимания природы, то они были лишь до тех пор, пока наука, т. е. опытное исследование природы, и метафизика, т. е. вопросы о сущности природы и ее сил, о Боге природы и пр., были нераздельны: тогда, естественно, то или иное толкование явления встречало или покровительство, или отпор, смотря по тому, согласовалось ли оно или противоречило метафизическим и религиозным воззрениям партии. Но науки о природе скоро ушли от такого состояния: они отделились от метафизики, поставив в свое основание два-три положения или несколько наглядных фактов без всякого их метафизического толкования.
Взяв этот багаж, науки о природе двинулись далее путем кропотливого наблюдения связи и последовательности явлений, не заботясь об их метафизической сущности и дальнейших вопросах и выводах, которые из этого последуют для метафизики: они отбросили вопросы о конечных причинах, об общемировых законах, а стали открывать частные законы связи и последовательности явлений. Работа закипела и уже не встречала себе препятствий ни в чьем предубеждении, ибо с наукой в этом состоянии могли уживаться рядом всякие метафизики и всевозможные религии. Исключение составляли лишь отдельные случаи, когда какая-нибудь новая научная гипотеза или теория, вроде теории Галилея или Дарвина, противоречили или установившимся научным теориям, или метафизическим и религиозным представлениям о природе. Но и тут скоро наступало примирение. К новой теории привыкали, или она сама подлаживалась в своих конечных выводах к господствующим традициям и метафизике, или же она совершала частный переворот в умах – и наука шла дальше.
Не то было с общественной наукой, даже после того, когда, увидев свою ошибку, она захотела идти новым методом, методом научным, захотела, отрешившись от конечных, метафизических вопросов о целях человечества, о его грядущем и пр. или от своих предвзятых идей и идеалов, как традиционных, так и метафизических, идти путем исследования фактов и явлений – хотя бы в их обыкновенном антропологическом выражении, – отыскивая лишь связь и последовательность между ними, исследуя, иными словами, условия явлений.
Здесь в наблюдение явлений, даже по поводу каждого частного вопроса, вмешивается субъективное состояние наблюдателя, его чувство, его страсть, его симпатии или антипатии, его предубеждение как члена партии, сословия, учреждения. Значит, здесь даже каждый частный вопрос постоянно стоит на метафизической почве личного субъективного творчества или подбора фактов, руководимого идеалом, желанием, настроением. Таким образом, с первого взгляда наука общественных явлений невозможна, а придется ограничиться лишь общественной метафизикой. Многие так и порешили. Есть и в нашей русской литературе нечто вроде школы социологов (если их так можно назвать), которые прямо отрицают возможность объективной общественной науки, или по меньшей мере истории, и называют себя субъективистами. Из ее рядов немало было сделано полемических выстрелов, например в Спенсера, с целью доказать во-первых, что и он, несмотря на свой видимый объективизм, субъективен и даже буржуазен, а во-вторых, с целью подорвать некоторые из его выводов и положений. Однако нам кажется, что эта школа сбита с толку некоторым недоразумением. Один из наиболее глубоких ее представителей, автор «Исторических писем»[1 - Лавров П. Л. Исторические письма. С.-Петербург, 1870. С. 13–29.], отделяет историю от социологии следующим образом.
Он говорит, что, например, Бокль «открыл не законы истории, а лишь с помощью истории устанавливал некоторые законы социологии». Что же такое законы социологии и в чем их отличие от законов истории? Законы социологии, по этому автору, суть определения, «при пособии исторического элемента действуют на развитие общества вообще и как всегда будут действовать, если повторится это преобладание». «Но это не законы истории, как понимали их Вико, Боссюэ, Гегель, Конт, Бюшэ, – продолжает автор, – история представляет процесс, в котором требуется определить последовательную связь явлений, один лишь раз представляющихся историку в данной совокупности в каждый данный момент процесса. Закон же исторической последовательности в ее целом (?) еще не найден». Итак, допускает ли автор возможность отыскания социологических законов? Очевидно допускает – иначе он не называл бы законов, указанным Боклем, социологическими, но в отличие от исторических. Затем, что же он называет законами истории, «как их понимали Вико, Боссюэ, Гегель, Конт, Бюшэ»? «Последовательную связь явлений, один раз представляющихся историку в данной совокупности», или «закон исторической последовательности в его целом»? Этого почтенный автор не объясняет нигде. Он приступает прямо к указанию того, что естествознание имеет объективный критериум для отделения важных явлений от неважных, тогда как история его не имеет. Для естествоиспытателя, говорит он, «более важным является то, что повторяется в неизменной связи». Исторические же факты не повторяются, а потому и объективного критериума их важности не существует, ибо если мы, например, критериумом такой важности возьмем количество людей, охватываемых событием, то окажется, что для нас вовсе не это важно в истории. Война китайцев с японцами кажется для нас менее важной, чем какое-либо столкновение Швейцарии с Габсбургами, и т. д.».
«Если Спенсер думает, что он открыл объективную сторону прогресса в переходе от простого к сложному, то, по мнению автора, это только заблуждение, ибо если бы оказалось, что такой процесс ведет к тому, что каждый человек станет говорить на особом языке, то сам Спенсер не назовет этого прогрессом. Если он назвал этот процесс прогрессом, то потому, что заметил предварительное совпадение с этим процессом дифференциации того развития, какое ему кажется наилучшим и прогрессивным. Итак, всякая формула прогресса является всегда субъективной или выводом из субъективной формулы, определяемой нашими идеалами, вкусами и пр.»
Разберемся во всем этом довольно смутном сцеплении идей, которое для многих служит до сих пор катехизисом.
История, если ее понимать как ряд фактов не повторяющихся, конечно, имеет право на существование, если такой историей будет интересоваться человечество. Но что такое значит «факты истории не повторяются»? Это значит только, что не повторяются факты во всей их детальной сложности. Так, во второй раз не повторится Александр Македонский со всей окружающей его обстановкой. Но, спрашивается, какой же естественнонаучный факт повторится когда-либо со всей его сложной обстановкой? Возьмем падение тела: если я его наблюдаю сегодня и завтра, то уже его обстановка не та, потому что состояние погоды, температуры, барометрического давления, ветра едва ли может повториться в один и тот же час, минуту и секунду в известном месте два раза. В чем-нибудь да будет изменение. Не говоря уже про другую обстановку, не могущую прямо влиять на падение. Но как же освобождается естествоиспытатель от этих, так сказать, индивидуальностей факта; он их или игнорирует, или, в свою очередь, подводит под общий закон. Могут сказать, что в истории все дело, наоборот, в этой индивидуальности факта – что, теряя индивидуальность, Александр Македонский становится типом, а не явлением неповторяющимся. Пусть так. И пусть все чисто индивидуальные, неповторяющиеся особенности явления так же дороги человечеству, как и то, что в них общего, типичного; пусть, наконец, эти чисто индивидуальные особенности составят предмет особой научной области, которую мы называем историей, хотя вернее ее назвать описательной историей, в отличие от истории в более широком смысле, т. е. от такой истории, которая путем совокупности наших общих знаний: социологических, психологических и естественнонаучных – будет стараться уяснить нам условия и причины каждого такого отдельного индивидуального явления и их взаимной связи между собою. Но вот ведь и все, что останется в истории, раз мы ее определим как науку об индивидуальных неповторяющихся явлениях. Самое явление прогресса не будет уже поэтому принадлежать к области истории, ибо прогресс есть понятие, относящееся ко всей цепи исторических явлений; в нем нет уже ничего индивидуального, неповторяющегося, и он прямо отойдет в область социологии. Поясним это еще.
По определению автора «Исторических писем», история имеет дело с неповторяющимися, так сказать, индивидуальными явлениями. Прогресс есть общий закон для всего человечества во времени, а стало быть, он, как известная совокупность признаков, отличающих прогресс вообще, должен так или иначе повторяться в цепи индивидуальных или неповторяющихся явлений. Он именно есть, между прочим, то, что связывает собою в одно целое индивидуальные явления, – он то, что в них есть общего. Но то, что в явлениях есть общего, может подлежать, по определению самого автора, исследованию естественнонаучному, т. е. такому, где критерием важности явления может служить повторение его в неизменной связи с другими явлениями. Еще иными словами: в исторических событиях есть элемент неповторяющийся, индивидуальный, составляющий предмет собственно истории, и есть элемент, общий всем явлениям истории – прогресс, т. е. элемент повторяющийся и, стало быть, не подлежащий истории, а подлежащий естествознанию или социологии. Т. е. если он подлежит социологии, то ввиду того, что социология, очевидно, относится автором к естествознанию, именно этим и отличаясь от истории, автор на основании собственного же определения должен признать, что определение прогресса возможно по естественноисторическому, т. е. научному методу, методу объективному, а не субъективному, т. е. по методу отделения важных фактов от неважных в силу их повторяемости в неизменной связи.
Ошибка автора, очевидно, состояла в том, что он упустил из виду двойственность событий истории. Факты истории, конечно, неповторяемы в их сложной индивидуальности, но в каждом таком сложном факте, кроме этого, есть элементы, которые повторяются. Нам могут возразить, что стадии прогресса также не повторяются, ибо вчерашняя стадия прогресса не есть нынешняя. Это совершенно справедливо, и отдельные стадии прогресса могут и должны быть предметом истории прогресса. Но и в этих стадиях должны быть элементы двух сортов: во-первых, элементы, отличающие одну стадию от другой, и, во-вторых, элементы, позволяющие нам утверждать, что эти стадии суть именно стадии прогресса, т. е. элементы, общие всякой стадии прогресса, а стало быть, повторяющиеся, т. е. не подлежащие истории, а подлежащие социологии. Таков, например, элемент дифференциации, или перехода от простого к сложному, открытый Спенсером.
Если таким образом мы отнесем к истории определение условий возникновения каждой отдельной статьи прогресса, то и в таком случае общий закон прогресса, а стало быть, и истории в ее целом, не будет предметом истории, а будет предметом социологии, т. е. естественнонаучного исследования. Возьмем сравнение. История есть как бы биография одного, единого существа, человечества. В этом смысле отдельные фазисы его развития вполне индивидуальны, ибо нет другого человечества. Они и не могут повториться во всей своей индивидуальности, как не повторяются факты биографии одного и того же человека. Но, во-первых, уже между отдельными фазисами биографии одного и того же человека есть, кроме различий, и сходства. Эти сходства вносятся общим характером этого человека, выясняющимся в отдельных фактах, а этот общий характер определяет и общий характер развития этого человека; этот общий характер развития и будет закон прогресса этого человека. Конечно, если взять изолированного человека и не сравнивать его ни с кем другим, то и об отличительных особенностях его характера говорить невозможно, ибо различение возможно только путем сравнения; поэтому-то и кажется, что и при исследовании человечества в его целом нельзя говорить об отличительных особенностях его прогресса. Но это вовсе не значит, что нельзя говорить вообще о его прогрессе и о законе этого прогресса из сравнения отдельных стадий его в том, что в них есть общего.
И во-вторых, человечество разбивается на отдельные группы или общества. Если прогресс всего человечества в целом не подлежит сравнению с прогрессом другого человечества, потому что другого нет, то история отдельных обществ не имеет уже и такой оговорки. Здесь возможно такое же сравнение и такое же нахождение общего и повторяющегося в отдельных историях, как и в изучении развития отдельных организмов естественными науками. А определив закон развития нескольких обществ, мы его вправе распространить, с оговорками, на все общества, как физиолог распространяет свое изучение законов развития десятков и сотен организмов на все организмы. Таким образом, и здесь возможен естественнонаучный объективный критерий. Наконец, закон прогресса человечества, если этот прогресс не имеет себе ничего близко подобного, может быть сравниваем с отдаленным подобием прогресса в других областях природы. Тут-то и подвертывается человечеству сперва мысль об аналогии или сходстве общественных процессов с биологическими и даже космическими (Керри) явлениями природы, а затем и гипотеза, тождественная с вышеуказанной психологической гипотезой, относительно корелятивности физико-химически-механических и биологических процессов с субъективными процессами общества. Но в оценку этого воззрения мы войдем далее.
Таким образом, закон человеческого прогресса, представляющийся автору «Исторических писем» стоящим в исключительном положении, оказывается с этой точки зрения в самом обыкновенном положении всех естественнонаучных вопросов. Впрочем, этого и следовало ожидать, ибо если мы можем изучать совершенно научно общества пчел, муравьев, законы эволюции всего животного царства, которое также одно, то нет причин делать исключения для естественнонаучного изучения прогресса человечества.
Возникает, однако, другое, более крупное возражение. То, что может при таком объективном изучении социальных явлений и прогресса показаться важным, может быть вовсе не важным с субъективной точки зрения, т. е. для человечества, а в этом-то и вопрос, говорят многие. Исследуя прогресс с субъективной точки зрения, мы отыскиваем в истории человечества условия, создавшие тот прогресс, который нам нужен и важен, а исследуя развитие человечества с объективной точки зрения, мы можем открыть такие законы, которые никому не нужны. В первом случае мы делаем открытия действительно полезные и важные для человечества; мы узнаем, что именно содействовало важному для нас прогрессу, а через это мы отыскиваем орудия, которыми следует добиваться и в грядущем подобных же результатов.
Ввиду этого положения и самая объективная социология, если бы она была даже возможна (а ее возможность, как видели и еще увидим, отрицается), представляла бы бесполезную и ненужную трату времени, тогда как социология субъективная, т. е. ставящая себе идеал и исследующая явления с точки зрения этого идеала, ведет нас прямым и быстрым путем к знанию условий прогресса.
С первого взгляда кажется, что ничего не может быть проще и вернее этих положений. Тем более что они, по-видимому, совершенно совпадают с утверждаемой некоторыми невозможностью отрешиться при исследовании общественных явлений от страстных, субъективных и партиозных точек зрения. Когда Герберт Спенсер в своей книге «Об изучении социологии» пытается отрешить исследователя социологии от субъективных и партиозных точек зрения, то субъективистам это представляется каким-то невероятным сальто-мортале, а один наш русский критик заметил даже, что Спенсер хочет перепрыгнуть через свою собственную голову.
Таким образом, перед нами два возражения: 1) невозможность отрешиться от субъективной точки зрения, 2) бесполезность и даже зловредность такого отрешения в социологических исследованиях.
Мысль человеческая имеет замечательное свойство, замеченное еще и Гегелем, ударяться в крайности и только затем, исчерпав эти крайности, отыскивать между ними примирение, в котором по большей части и оказывается истина. Мы видели, что с психологией происходила та же история. Она сперва держалась чисто субъективного метода, затем ей пришлось обратиться почти исключительно к объективному методу, к методу аналогий, неизменных механических законов общества, причем совершенно игнорировался субъект и его влияние на жизнь и среду при известном обратном влиянии на него среды. Теперь социологию ожидает неизбежно примирение этих двух крайностей. В этом примирении только и может лежать полная истина.
То есть социология была прежде исключительно субъективной наукой, как и прежняя психология, затем она ударилась в противоположную сторону. Теперь уже намечается возможность и необходимость примирения этих крайностей. По нашему мнению, истина лежит и здесь только в таком примирении ввиду следующих соображений.
Хотя с первого взгляда кажется, что субъективный метод скорее ведет к цели изучения условий прогресса, нужного для нас, однако факты доказывают противное. Как мы видели, относясь к явлениям истории с чисто субъективной точки зрения, можно одинаково хорошо доказать какой угодно исход для человечества. Ясно, что это доказывает. Это доказывает, что каждый субъективист, ставящий свой идеал критерием для исследования условий прогресса, всегда найдет такие условия, и всякий другой исследователь, с другим идеалом, найдет свои. В конце концов, где же критерий того, что они не ошибаются? Где критерий того, что, выхватывая из сложной исторической массы нужные им факты, они не игнорировали при этом таких фактов, которые в корне изменяют их вывод? Когда естествоиспытатель исследует явления, у него есть критерий важности явлений, это их постоянно повторяющаяся связь. У субъективиста есть один только критерий – его идеал, а потому он может отбросить весьма существенные явления и условия, имеющие решающее значение в вопросе. От этого-то мы и видим, что в практической области субъективисты почти всегда попадают впросак.
Они, задавшись идеалом, видят его прогресс то в развитии разума, то в развитии науки, то в развитии исключительно одних чувств, то в религиозном процессе, положительном или отрицательном, то в общественных катаклизмах и насильственных переворотах, то еще в чем-нибудь. Одним словом, тут открывается широкое поле для решений, не основанных на строгом изучении фактов в их бесконечной сложности, а основанных на чисто гипотетическом или рациональном умозаключении, выводимом из тех или других человеческих свойств. А раз такое гипотетическое решение найдено, стоит лишь подыскать в истории ряд фактов – и исследование готово. Возьмем пример: Ж.-Ж. Руссо под влиянием недовольства окружающей средой, стеснительными формами быта создал себе идеал общественного строя чисто отрицательным путем, т. е. отбрасывая одни за другими ненавистные формы, он пришел к идеалу почти первобытного человека. Из этого идеала путем чисто отвлеченных силлогизмов он дошел до учения о природном человеке, а затем до соответственного представления о человеке таком, каким ему хотелось его видеть. Сообразно с этим явилась чисто гипотетическая постройка и человеческого прогресса, и его условий. Обращаясь затем к истории, ему уж ничего не стоило подыскать факты – и теория была готова, а из теории возникало общественное искусство. При столкновении с действительностью должно было получиться и получилось следующее: хотя в людях и в условиях прогресса и были, быть может, некоторые элементы, взятые Руссо, а именно были субъективные элементы, т. е. стремления, одушевлявшие большинство людей в эпоху Руссо, но, однако, целое было гораздо сложнее, и целая масса самых существенных условий была упущена из виду. В конце концов и теория, и искусство, как и всякая метафизика, овладевши временно умами (почему – это мы сейчас объясним), потерпели полное фиаско и отошли в область красивой, но бесплодной поэзии.
Овладели же они временно умами потому, что их создала та же самая потребность, какая была и в массе, и тот же недостаток метода, тот же недостаток исследования. Толпа этими свойствами, общими с автором, была подготовлена именно к таким идеям, а не к другим, а страстное напряжение ее нужд и потребностей, давно наболевших, усилило популярность теории, обещающей быстрое и легкое спасение.
Еще лучший пример мы видим на теориях мистических социалистов Германии в XVI веке. Мюнцер понял, что в его воззрениях на историю был громадный пробел знания условий прогресса (насколько эти условия лежат и в человеческой дряблости, своекорыстии, эгоизме), лишь перед последней битвой, решившей его участь в 1525 г.
Мы достаточно видим, таким образом, что если субъективный метод в социологии имеет, по-видимому, свои достоинства, он имеет и свои громадные недостатки. Его достоинства в том, что он действительно направляет исследования на вопросы, самые дорогие человечеству, а его удобство заключается в том, что им может пользоваться почти каждый без предварительного труда, серьезного и кропотливого изучения. Можно, не выходя из кабинета и не прикасаясь ни к одной книжке, построить идеал, развить гипотетические последствия из гипотетически же созданного отвлеченного человека, нацепить на это несколько фактов и цифр – и социология готова. От этого социологи-субъективисты всегда находят массу почитателей и обожателей, ибо масса строит именно так свои социологические теории и утопии. Но, однако, не масса простонародная. Социологи-субъективисты имеют популярность среди массы так называемой интеллигентной, поверхностно образованной, оторванной от жизни и страстно возбужденной всякими невзгодами и лишениями. Решения субъективистов скоры, просты, легко усваиваются и обещают скорое исцеление. Но если такие решения и имеют в этом смысле свою относительную цену, если они и приятны для своих избирателей, давая им быструю и легкую популярность, они, в смысле историческом, дают всегда больше вреда, чем пользы, хотя, очевидно, обрушиваться на них с нравственной точки зрения невозможно, ибо эти теории, эти системы чаще всего просто рефлексы наболевшей страсти, вызванные условиями жизни. Живется плохо, ум ищет выхода, находит, по-видимому, самый ближайший и идет. Если перед ним и перед теми, кто идет за ним, оказываются пропасти, разве можно их обвинять строго? Конечно, если бы они могли мыслить иначе, они первые не захотели бы мыслить так, чтобы это привело их к пропасти. Если они не мыслили так, значит, не могли.
Но можно ли на этом успокаиваться? Конечно, нет. Человечество заблуждается, но оно и сознает свои ошибки, умеет и исправлять их. Для этого одним из средств служит опыт, а другим – живое слово. Как бы ни было естественно стремление к субъективному методу в социологии, необходимо употреблять все силы, чтобы убедить возможно большее количество людей не идти этим методом. Как бы ни было медленно распространение такого убеждения, но оно будет постепенно делать свое дело, внося все в больший круг людей стремления к положительным социологическим знаниям.
Теперь остается решить вопрос, поставленный у нас первым: каким образом возможно и возможно ли вообще отрешиться от тех субъективных настроений, чувств и предубеждений, которые мы выставили вначале как препятствие к освобождению социологии из области метафизики, т. е. субъективного творчества?
А главное, насколько это полезно и как устранить тот вред от такого устранения, который, как показано выше, видят в объективной социологии субъективисты. Мы уже упомянули, что Спенсер, прежде чем приступить к своему сочинению «Основания социологии», издал книгу «Об изучении социологии», где со свойственной ему простотой и ясностью старается подготовить читателя к объективному социологическому методу. Для этого лучшим средством он нашел постепенное перечисление и разбор тех страстных чувств, настроений и предубеждений, с которыми различные касты, сословия, профессии и вообще различные типы людей смотрят на общественные явления. Эту-то попытку один из русских критиков и нашел стремлением перескочить через свою голову. Однако едва ли можно согласиться с таким взглядом. Как бы человечество ни было косно в своих страстях, традиционных чувствах и предрассудках, Спенсер более чем кто-либо имел это в виду. В той же книге «Об изучении социологии» он говорит, что люди даже в обыденной жизни ленятся шевельнуть лишний раз мыслью, чтобы устроить свою жизнь лучше: так, он указывает, что даже какие-нибудь каминные щипцы, аптечные склянки, кресла устраиваются по раз заведенному образцу, крайне неудобному: из аптечной склянки вы никогда не накапаете должного числа капель, не испачкав себе рук; из каминных щипцов скользят угли; устройство спинки кресла не соответствует гигиеническим требованиям положения корпуса и пр., и пр. Между тем, весьма небольшого усилия мысли требовалось бы для устранения этих недостатков, но, увы, человечество даже в таких мелочах предпочитает лучше терпеть неудобство, чем сделать новый шаг. Чего же ожидать от явлений, требующих более важных усилий мысли и энергии действия? Замечательно, что тот же упомянутый нами критик посмеялся над этой тирадой Спенсера, совершенно не поняв ее цели и приняв ее за брюзжанье на житейские мелочи пресыщенного богатого буржуа. А между тем из этих же слов он мог бы понять, что Спенсер не надеется на быстрое и окончательное рассеяние препятствий к здравому изучению социологии. Он делает, однако, все что может, чтобы их рассеять, а мы знаем, что многие человеческие предрассудки, гораздо более прочные, рассеиваются при свете критической мысли и науки. Разве не труднее было отрешиться от понятия, создаваемого даже непосредственным представлением, что земля вращается вокруг солнца? А между тем никто не назовет этого «скаканием через собственную голову», хотя к этому факту подобный эпитет скорее мог бы быть приложен, ибо здесь мы должны убеждать себя прямо против непосредственной очевидности. И таких примеров можно привести не один. А если даже такие предубеждения в силах разрушить наука и критика, то предрассудки общественные она и подавно может разрушить. Масса почитателей у самого Спенсера во всех странах света нам служит лучшим доказательством.
Но самое главное состоит в том, что объективистам помогает отрешиться от субъективных настроений самый их метод, и вот тут-то уясняется особенное значение объективного метода в более тесном смысле, метода сходств или аналогий, метода сопоставления биологических и физико-химических процессов, метода средних чисел и пр., и пр. В самом деле, какую пользу принес социологии столько раз проклятый субъективистами метод аналогий? Несмотря на полнейшую несостоятельность этого метода, если им действуют без посредства других методов и без поправок, мы должны, однако, сказать, что только аналогии обязана современная социология тем, что она увидела жизнь. Аналогия ей помогла отрешиться от субъективности. Аналогия позволила ей открыть в массе запутанных социальных явлений некоторые обобщения, остов или скелет общих законов, помимо субъективных увлечений. Это было уже великим шагом вперед. С этого момента и началось, собственно, объективное исследование, и оно пойдет все дальше. Аналогия была первым критерием, чуждым субъективности и пристрастного отношения к фактам. То же значение должны иметь и всякие другие объективные приемы.
Но, однако, не вредно ли такое подавление в себе чувств и предубеждений? Спенсер, в первой главе своей книги «Развитие политических учреждений», говорит, что он не только не отвергает необходимости субъективного метода или, вернее, субъективного отношения к явлениям, но даже признает его необходимым; надо лишь знать, когда его уместно употреблять. Мы можем задаваться различными целями при исследовании общественных явлений, говорит он; или мы хотим оценить значение этих явлений относительно человеческого блага и счастья, или же мы желаем только исследовать условия происхождения и развития явлений, т. е., говоря иначе, их законы. В первом случае нравственный критериум и субъективная оценка необходимы, во втором случае они прямо вредят точности исследования и наблюдения. Это до такой степени ясно и просто, что едва ли можно что бы то ни было возразить против этого. Спенсера, за его объективный метод, старались представить чуть не извергом, стремящимся в своих исследованиях игнорировать людские чувства и страдания, подавлять в себе естественное негодование против порока и пр., и пр. Но он этого никогда не проповедовал как условия всяких социологических исследований. Наоборот, когда дело касается оценки явлений по отношению их к человеческому благу, тогда он признает полноправие субъективного метода. Он устраняет его только при исследовании законов связи явлений. И в самом деле, только благодаря этому уменью и возможности отрешиться от своих естественных чувств мы в силах понять, например, относительную благодетельность рабства, сменившего людоедство или избивание пленных и т. д. Это нисколько не должно мешать при оценке тех же явлений с нравственной точки зрения в современном состоянии человечества. Но только первым путем мы можем понять значение явлений во всей его сложности, а судя о современных нам формах общества, можем сказать уже с уверенностью, насколько те или другие из них соответствуют современным потребностям человечества. Кроме идеала, как у субъективистов, у нас является и положительный критерий значения многих из этих форм при известных условиях, а это вносит уже совсем иную точку зрения на все общественные явления, точку зрения относительной оценки каждого явления, а не оценки абсолютной. Последняя оценка является в высшей степени ошибочной, ибо с точки зрения абсолютной может казаться вредным то, что при данных условиях в высшей степени полезно и необходимо, и, наоборот, то, что с абсолютной точки зрения может казаться прекрасным, при известных условиях может быть никуда не годно.
Таким образом, например, у Спенсера мы видим уже примирение субъективных требований от социологии и объективного метода. Достиг он этого более или менее точным разделением областей, подлежащих ведению того и другого приема исследований.
В его «Развитии политических учреждений» мы видим наглядный пример применения этого метода. Задавшись целью исследовать развитие существующих политических учреждений, Спенсер прежде всего постарался освободиться от тех чувств, симпатий или антипатий, которые могли только помешать его покойному и точному наблюдению условий развития этих учреждений. Кроме этого предварительного самообуздания, ему на помощь явилась биологическая аналогия трех первичных элементов политической структуры с тремя элементами живой клеточки, состоящей из оболочки, содержимого и ядра. Кроме аналогии, его ум направлялся заранее открытым, объективным законом развития, а именно – законом дифференциации. Три таких руководителя были его ариадниной нитью среди лабиринта исторических фактов. Результаты у вас перед глазами. Шаг за шагом он прослеживает условия явлений, не боясь замечать и выставлять такие связи и соотношения, против которых могло бы протестовать его чувство. От этого мы и получаем действительное исследование, а не субъективную фантазию, продиктованную страстью или заблуждением. Мы получаем знание, а знание есть сила.
Еще одна черта, на которую мы должны обратить особенное внимание, отличает субъективное исследование от объективного. Мы уже видели, что в психологии, с открытием связи объективного процесса с субъективным, явилась возможность сосредоточиться на объективном процессе, и таким образом представилось для психологии широкое поле обширного опытного исследования. В социологии опыт немыслим, или, по крайней мере, если он и возможен, то в самых ничтожных размерах. Опыт заменяется здесь наблюдением и наблюдением не столько текущих явлений, сколько явлений прошедших, но записанных в истории человечества, а также исследованием нравов, обычаев, форм жизни и пр., и пр. И вот здесь-то нам особенно уясняется значение громадной разницы между субъективными и объективными исследованиями.
Возьмем пример: субъективист находит в обществе моду. Для него в ее основании лежит совокупность наличных чувств субъекта, которые он наблюдает в своих знакомых, в себе самом и проч. Исследуя причины или условия происхождения моды, он и в древности будет искать только тех явлений, которые имели ту же субъективную подкладку, т. е. те же чувства, как и современная мода, и в конце концов разразится против нее гневом. Объективисту сперва нет дела до чувств; он исследует генезис объективных проявлений, руководясь чисто объективными критериями. Потом он может для пополнения исследования прибегнуть к синтезу и перевести объективные проявления на чувства. Он знает, что субъективный процесс иногда совсем не точно выражает действительные объективные побуждения. Так, чувство озноба или жара не всегда доказывает, что снаружи холодно или тепло. С этим критерием он идет уже совсем иным путем, чем объективист.
Вернемся к моде.
Итак, социолог-объективист начинает с исследования объективных условий происхождения и развития моды. Он указывает на тот ряд первобытных условий жизни, который ее породил, он указывает, что в числе этих условий было, например, стремление к равенству и что развитие моды имело немалую связь с развитием более нормальных отношений между общественными классами. Вывод, конечно, совершенно неожиданный для субъективиста, но заметьте, что такое исследование не мешает примирить и первый, и второй вывод. Несмотря на значение моды в прежнее время, она может быть вредна теперь и пр., и пр. К нравственной проповеди субъективиста прибавляется положительное знание открытых объективистом чувств, мотивов и условий, породивших моду, а этим делается уже сила для борьбы с модой тому, кто бы хотел задаться такой целью. Таким образом, ясно, что в то время как субъективизм служит в социологии лишь общим средством оценки явлений относительно нашего блага и счастья, объективная социология, указывая законы и условия этих явлений, дает средства и орудия для воздействия на явления в целях нашего счастья.
Как в отдельном организме, так и в целом обществе субъективное состояние не всегда точно передает объективный процесс. Так, субъективное чувство, заставляющее модничать, не может еще сказать нам обо всех тех условиях, которые обусловили моду. Это может открыть только объективное исследование. У отдельного человека горло может болеть и от простой простуды, и от жабы, и от дифтерита, и от скарлатины, и от крупа. Субъективно будет все одно и то же – горловая боль. Врач должен прибегнуть к объективному исследованию, чтобы узнать болезнь, а чтобы понять ее причины, например причины дифтерита, ему приходится иногда рыться с микроскопом, посещать статистические архивы и пр., и пр., т. е. производить чисто объективные исследования. Так же и в обществе. Одни и те же чувства, одни и те же стремления могут вызываться сотнями и тысячами различных объективных причин, и, чтобы удовлетворить им, надо знать эти объективные причины, а также причины и условия этих причин. Но даже и в области оценки явлений относительно нашего блага и счастья субъективный метод односторонен. Он дает только абсолютную оценку, а относительную оценку дает даже и здесь только объективный метод.
Ничего этого не дает субъективный метод. Он может только сострадать, негодовать, вопиять, страстно настраивать или повергать в отчаяние, возбуждать энергию или подавлять ее. Средство, орудия, знания для борьбы с недугом, точное определение недуга и его условий дает только объективное исследование. Отрицать объективную социологию и уповать на одну субъективную значит отрицать научные орудия и полагаться на допотопные. Объективная социология не уничтожает высоких стремлений, как железные дороги не уничтожают желания отправиться на богомолье или на свидание с дальними друзьями. Железные дороги суть лишь научное орудие передвижения, доставляющее к цели скорее и дешевле, чем первобытное; хотя тому, кто страстно хочет увидеть своих близких, и может захотеться в первую минуту бежать или даже лететь к ним.
Субъективный метод в социологических исследованиях есть такой же рефлекс, как и желание бежать или лететь за тысячу верст, вместо того чтобы проехать до станции железной дороги и сесть на поезд. В последнем случае, т. е. когда вы садитесь на поезд, является синтез вашего субъективного стремления и научного орудия в виде железной дороги. Научная объективная социология сама по себе так же бесстрастна, как поезд железной дороги, но она, как и всякая наука, есть в то же время могучая сила. Каждый из нас подавляет свой рефлекс, заставляющий его бежать немедленно на свидание за тысячу верст, зная, что по железной дороге доедешь скорее. Так же точно каждый, кто сознает необходимость объективной социологии, сумеет сдержать в себе субъективные порывы к немедленному решению всех общественных вопросов, и направится по более верному, научному пути.
Конечно, эти истины не уничтожат еще субъективистов-социологов, как железные дороги не прекратили путешествий пешком на богомолье из усердия, как они не прекратили и вообще путешествий пешком для всех тех, у кого нет средств ехать по железной дороге. Народ еще долго останется субъективистом, помогая себе житейским опытом. Останутся субъективистами еще долго все чересчур возбужденные партии, особенно в периоды страстных настроений.
Заслуги Спенсера и его социологических работ видны из этого очерка яснее, чем если бы мы даже стали специально говорить только о них. Поэтому можно кончить.
Л. Оболенский
Обрядовые учреждения
Печатая перевод нового сочинения Герберта Спенсера, мы считаем нужным познакомить читателя в изложении с предыдущей работой этого замечательного мыслителя. Эта предыдущая работа пояснит и дополнит многое в его теперешнем труде.
Прежде чем явилось правительство, в том смысле, в каком мы понимаем его теперь, отношения людей в обществе регулировались разного рода и вида обычаями, обрядностями. Этот вид контроля над поведением можно поэтому считать одним из первобытных зачатков правительственного элемента в обществе. Что ограничение лица, вытекающее из обычая, нравов и т. п. контроля, предшествует религиозным и политическим ограничениям, доказывается уж тем одним, что этот род отношений существует даже у животных. У них есть известные приемы умилостивления, подчинения, выражающиеся в соответственных движениях. У дикарей, не знающих никакого правительства, кроме вождя на время войны, как, например, у тасманийцев, имеются определенные правила для выражения мира или вражды. Расспросы, поздравления, соболезнования, которыми обмениваются арауканцы при встрече, столь выработаны, что на исполнение этой формальности требуется не менее 10 или 15 минут. В то же время ограничения этого рода самые распространенные. Каждый из нас постоянно соблюдает в общественных отношениях с людьми сумму формальностей, нарушить которые почти никто не решится открыто.
Другим доказательством того, что обрядовые учреждения предшествовали всяким другим, служит интересный факт, который можно наблюдать до сих пор в странах застоя, как, например, в Китае: «несоблюдение форм обращения, предписываемых относительно каждого особого класса чиновников, считается равносильным отрицанию их власти». То же мы видим и во многих переходных стадиях государственного развития, как, например, в Европе в Средние века. Теперь на островах Тонга, хотя еще не имеется ни твердо установленного закона, ни прочного контроля со стороны власти, но внешние знаки почтения к власти считаются до того обязательными, что нарушение их есть преступление. Столь же строго карается нарушение религиозных церемоний. Так, на Сандвичевых островах в день праздника Табу (буквально: «посвященный богам») всякий, произведший какой-нибудь шум, подвергается смертной казни. Источник религиозных церемоний лежит первоначально в умилостивлении умершего предка, в воспоминании о нем и его приказаниях, в покаянии, если их не исполняют. Египтяне и евреи до Моисея видели тоже наибольшую важность в соблюдении обрядов умилостивления; количество быков, принесенных Рамзесом в жертву отцу его Аммону, служит основанием для Рамзеса просить отца помочь в битве.
По мнению Кюнена, «величайшая и важнейшая заслуга» Моисея заключается в том, что он дал в религии преобладание нравственному элементу. «В религии, преобразованной Моисеем, Иегова отличается от других богов тем, что он желает, дабы ему служили не только посредством жертв и празднеств, но также, или, скорее, главным образом посредством соблюдения его нравственных заповедей». В христианстве религиозно-нравственный элемент вначале развивался даже в ущерб обрядовому, но когда потом христианство разрослось всюду, то нравственный его элемент в средневековой Европе до того был сужен, что, например, в правилах св. Бенедикта к нравственным и общим обязанностям братии относятся девять, а к обрядам – 13. Что даже невольное несоблюдение обряда считалось преступлением, видно из правил св. Колумбина, которые назначают 10–20-дневное наказание тому, у кого вследствие расстройства желудка или болезни будет выкинута невольно просфора, и до 12 ударов плети за непроизнесение вовремя amen, за разговор во время еды и т. п.
Если мы теперь припомним, что с дальнейшим развитием религии обрядовая форма утрачивает свое значение, уступая нравственному элементу, как, например, в европейском протестантизме, то мы поймем, что преобладание обрядности характеризует религию на ее низшей ступени, т. е. и здесь обряды являются предшествующим началом. Если, как мы видели, христианство в Средние века временно ушло в обрядность, то это надо приписать влиянию языческой обрядности и вообще низкому развитию той среды, в которую попала высшая религиозная идея.
Мы видим, что подобно тому, как в зоологии общие признаки нескольких близких типов надо считать более древними, чем те признаки, которые их различают, потому что эти последние, т. е. различия, должны образоваться позднее, – так же точно и в общественных формах: обрядовый контроль мы находим и в политических, и в религиозных формах, значит, как общий элемент он должен быть древнее и религиозного, и политического контроля. Это различие должно было образоваться впоследствии. Это доказывается и тем, что формы выражения почтительности, подчиненности, вообще умилостивления почти всегда более или менее одинаковы по отношению как божества, так и светской власти, и частных лиц или родителей: например, у нас снимание шапки, падение ниц и т. п.
Но откуда явились эти формы? Обыкновенно думают, что они были выдуманы сознательно. Но это мнение так же ошибочно и вытекает из того же заблуждения, из которого вытекает мнение, что первобытные дикари имели сознательный общественный договор, сознательно выдумали символы, составляющие язык и буквы азбуки. Это мнение есть плод ошибочного перенесения цивилизованных развитых идей в неразвитую среду. Если мы выдумываем знаки для стенографии по своему произволу – мы полагаем, что и первобытный человек следовал по тому же пути.
Исследуя различные формы и символы отношений, как, например, поцелуй, аплодисменты и т. п., Спенсер полагает, что они вовсе не были выдуманы искусственно, а явились сперва естественным выражением или рефлекса, или эмоциональных движений. Так, поцелуй появился из обнюхивания, которое и до сих пор практикуется среди многих народов, как знающих, так и не знающих поцелуя (у монголов, у племен читтагонга, у бурмезов, эскимосов, новозеландцев). Обнюхивание же и лизание было результатом развитого обоняния и вкусовых ощущений: оно постоянно практикуется животными. Аплодисменты представляют рефлекс, который можно постоянно наблюдать в естественном состоянии у детей, которые, чувствуя радость, делают «ладушки». Обычай носить зеленые ветви в знак мира вызван, вероятно, необходимостью показать неприятелю, приближаясь к нему издали, что в руках нет оружия, и т. п. Только впоследствии, когда причина, породившая обычай, забылась, они сделались символами, знаками.
Спенсер утверждает, что обрядовое правительство имело и во многих местах имеет до сих пор свою организацию, но мы ее мало замечаем, потому что в наиболее цивилизованных государствах она отошла на задний план, уступив место организации политической и религиозной. Лица, заведовавшие обрядами, выражавшими политическую субординацию, занимали первоначально второе место после управлявших религиозными обрядами, но тем не менее они были совершенно однородны с жрецами религиозными. Это объясняется тем, что первоначально люди почти не разделяли живого политического владыку от мертвого, которому они поклонялись как богу. Те же самые обряды, благоговение и церемонии совершались и совершаются до сих пор во многих странах и тому и другому. У многих народов и теперь простой смертный приговор с владыкой не иначе как при посредстве других лиц, совершенно подобных в этом случае жрецам, передающим молитвы Богу.
В иных местах за один взгляд на монарха следовала смерть и т. д. При многих властителях у диких народов имеются постоянные ораторы и даже целые хоры, поющие им гимны и восхваления. В недавнее время в Англии герольды, говорившие от имени короля, надевали короны, королевские одежды и говорили о себе «мы»; до какой степени имело силу это правительство обрядов, видно из того, что одно время в Англии нельзя было похоронить дворянина без согласия герольда. Почему умилостивление живых политических владык постепенно вырождалось, а умерших, наоборот, развивалось, Спенсер объясняет тем, что живой владыка, хотя и имел своих представителей в разных пунктах страны, тем не менее был локализован, тогда как после смерти страх перед его привидением-двойником распространялся по всей стране и потребность умилостивления умножала повсюду жрецов религиозного характера, служащих посредниками между народом и духом умершего. С развитием политической жизни герольды, эти жрецы светской власти, исполняли роль судей над преступлениями, совершаемыми между дворянами (Франция); в Англии они до 1688 г. посещали и ведали те дела, которые теперь перешли к судам, в том числе записи рождений, браков, смерти дворян.
Мы видим, таким образом, что обряды предшествуют закону и правительствам, что они вырастают из личного (индивидуального) поведения ранее, чем создаются общественные порядки, контролирующие это поведение. С появлением политического вождя он сперва сам является своим церемониймейстером, а затем это отправление его дифференцируется в особую организацию чиновников, заведующих политическими церемониями, которая затем мало-помалу вырождается с развитием организаций, усиливающих гражданские законы и провозглашающих нравственные правила. Прежде этот класс чиновников был вполне сходен с тем, который руководил делами умилостивления усопших и божественных правителей и был одним из важнейших элементов общественного строения.
Перейдем теперь к частным проявлениям обрядового правительства и начнем с происхождения трофеев. Они, собственно, не относятся прямо к обрядам, но тесно связаны с другим классом явлений, понимание которого невозможно без их обозрения. Трофеи возникли из потребности иметь наглядные доказательства своей храбрости и военных подвигов. Когда человечество было обставлено постоянной нуждой в кровавой борьбе с окружающими, то наглядное доказательство храбрости и силы в военном деле, естественно, должно было служить источником страха для окружающих и до известной степени ограждало личность храбреца и, кроме того, возвышая его в глазах своего племени, давало ему некоторые преимущества; например, у мундруков обладание десятью черепами неприятелей дает человеку право быть избранным в вожди, и т. п. В более развитых обществах, где уже установилась власть, обилие воинственных трофеев служило точно тем же целям: оно устрашало врагов, как, например, пирамиды и башни из голов, воздвигнутые Тимуром в Багдаде и Алеппо; с другой стороны, оно внушало самим подданным владыки больший ужас перед его особой, окруженной такими трофеями. Так, например, опочивальня драгомейского короля вымощена черепами соседних вождей и князей с той целью, чтобы король мог попирать их ногами. Так как очевидно, что подобные трофеи составляют естественное выражение могущества и силы по понятиям окружающей среды, то нет ничего удивительного, что могилы умерших вождей и царей украшались ими, а где не было голов или других членов тела неприятелей, там их рубили у рабов (на Целебесе и у дайнаков). Для того, чтобы эти трофеи было легко носить с собой, а в то же время, чтобы и обмана не могло быть, головы заменялись рукой, правой или левой, челюстями или ртом врага, и из таких ртов делались браслеты (Южная Америка), из зубов делались ожерелья, волосами покрывали целые щиты и одежды; нос, как вещь довольно поместительная и не допускающая обмана, был всегда в большом ходу. Известно, что Чингисхан наполнил ушами в Польше девять мешков. Черногорцы и до сих пор приносят домой носы убитых турок. При Константине V поднесение кому-либо блюда с носами считалось большой любезностью. Кожа побежденных служила также трофеем, а так как с нею было много возни, то достаточно было иметь кожу с волосами с темени врага для доказательства убийства. И вот откуда развилось скальпирование.
Кроме этой главной причины, трофеи имели еще и другую, побочную: дикари верят, что свойства человека разлиты в нем и даже в его палате в виде особой силы, так что если человек храбр, то, поевши его мяса, можно и самому сделаться храбрецом; то же самое бывает, если обладать какой-нибудь частью тела этого лица. Сверх того, они верят, что обладание частью тела дает силу над таким человеком по смерти, в будущей жизни. На этом основании стали предавать смерти жен, лошадей и собак известного лица, так как они должны ему служить в будущей жизни. Мы уже видели, что поднесение трофеев начальнику выражает покорность. Отсюда понятно, почему трофеи стали приносить также и умершим начальникам и, наконец, богам. Не только у дикарей, как, например, хондов, существует такое приношение, но и у греков и римлян трофеи складывались в храмах. Фламандцы, после победы над французами при Куртрэ, сняли сотни шпор с враждебных рыцарей и отдали их в местный храм. У французов и многих других цивилизованных народов трофеи до сих пор хранятся в храмах. Что этот обычай имеет источником старину и язычество, Спенсер доказывает тем, что такие жертвы не имеют отношения к «богу любви и милосердия», но, наоборот, языческие боги-людоеды могли служить источником подобных приношений. В первобытные времена люди не отделяют раба от врага, врага от преступника. Мщение за какую-нибудь обиду распространяется не только на виновного, но и на невинных членов его семьи и даже племени. Теперь это странное понимание вещей осталось только в военных отношениях наций. Этим можно объяснить, что вместо врагов при смерти какого-нибудь вождя приносили в жертву рабов. Этим же объясняет Спенсер выставление голов и трупов казненных преступников.
Итак, трофеи во всяком случае имели важное значение в человечестве: будучи, как мы сказали, наглядным выражением силы, храбрости и прочих достоинств, они послужили средством для выделения своего рода военной аристократии и закрепления власти; как в наше промышленное время изобилие бриллиантов на дочери или жене банкира свидетельствует о промышленной силе главы семьи, так в то время ожерелье из зубов или украшение из скальпов на жене какого-нибудь героя служило источником уважения, сообразного понятиям того времени. Значение военных трофеев, теряющееся в наше промышленное время, имело связь с другим явлением – изувечением живых людей, к которому мы и перейдем теперь.
Во многих странах существует и теперь обычай, передавая во владение другого лица какой-нибудь предмет, который нельзя вручить в целом составе, например землю, – отдавать в виде символа часть этого предмета. Отсюда понятен и обряд изувечения людей. На о. Фиджи данники, приближаясь к своему владыке, должны были обрезать свои tobe (локоны волос, висящие сзади наподобие хвостов). Может казаться, что это просто символическая церемония, придуманная искусственно для выражения подчиненности. Но Спенсер доказывает, наоборот, что обряд этот только со временем обратился в церемонию, выражающую символически подчинение, а первоначально он был вызван потребностью: с одной стороны, отметить чем-либо людей, взятых в рабство, для чего их скальпировали, а с другой стороны, иметь при себе вещественные доказательства своего могущества, для чего скальпы носятся при себе вождем. Эти явления мы и теперь видим у чичимеков. В истории евреев мы находим повествование, что когда Наас осадил Иавис и жители согласились ему подчиниться, он предложил им выколоть у каждого один глаз. Одним словом, это было то же, что клеймо или тавро у современных коннозаводчиков.
Понятно, что наложение клейма для отметки рабов и вообще изувечения с целью отметки переживают то время, когда из отнятых членов или частей вожди делали себе трофеи, точно так же, как изувечение с целью иметь трофеи пережило убивание пленных и отрезывание у них таких трофеев. Изувечение, значит, есть уже прогресс, когда побежденных стали ценить как рабов и потому перестали убивать их, а напротив, старались сохранить. Этим же принципом руководилось человечество, смягчая самые изувечения. Так, на некоторых памятниках и теперь можно видеть изображение пленных с отрубленными руками, но это было невыгодно; стали отрубать пальцы, примеры чему видим в «Книге судей». У фиджийцев же находим уже этот обычай поднесения отрубленных пальцев разгневанному владыке – в качестве умилостивительного обряда, смягчающего как живых владык, так и умерших. Этот обряд умилостивления умерших посредством членоповреждения (отрубания пальца или его части) находим, кроме фиджийцев, у чарруасов, манданов, у дакотов и разных американских племен. Пальцы же приносили в жертву умершему духу, для чего, например, у манданов предварительно произносится речь Великому духу, с поднятым вверх мизинцем, а затем мизинец отрубали. У австралийцев, готтентотов этот обычай практикуется над женщинами. У древних евреев, в Египте и Японии преступники лишались одной или обеих рук; тут, очевидно, не принимались в расчет их полезность как рабов, а потому более ранний и грубый обычай сохранился. В некоторых восточных государствах, а также у некоторых древних племен Центральной Америки отмечали побежденных, отрезая им носы, в других местах – уши и даже губы, что в древней Мексике и у гондурасов служило также формой наказания за ложь, воровство, прелюбодеяние. На Востоке был обычай отмечать рабов, только прокалывая им уши, что интересно сопоставить с обычаем хондов хватать себя за уши в знак покорности и с обычаем бурмезов, которые, все без исключения, прокалывают себе уши, празднуя этот день с особой торжественностью. Читателю известно, что у многих народов есть обычай продевать кольцо в нос, а на ассирийских скульптурных памятниках мы видим, что пленники изображены так, как будто их ведут на веревках, привязанных к кольцам, продетым сквозь ноздри[2 - Интересно сопоставить с этими фактами верование нашего народа в целебную силу ношения серьги, а также вообще ношение серег женщинами. Не было ли это теперешнее украшение также символом рабства и подчинения, аналогичным с приведенными выше?].
Подобное же смягчение мы видим в замене человеческой челюсти, как такого трофея, который можно взять, только убив врага, трофеем менее зверским, а именно зубами, выбивание которых служит сразу и знаком рабства, и дает их новому обладателю вещественное доказательство победы и власти. Обычай, сохранившийся и у нас, обрезывать локоны был прежде видом наиболее безвредного изувечения, причем локоны или вообще волосы приносятся в жертву вождю, например, в древней Британии. С этими изувечениями интересно сравнить также наш давний русский обряд отрезать косу у согрешившей женщины и девушки, а также вырывание ноздрей, наложение клейма и бритье головы у преступников.
У дакотов мужчины бреют головы, оставляя клочок на макушке, совершенно подобный локону скальпов (чуб у наших малороссов?), а евреи делали искусственную плешь на голове, что играло у них роль похоронного обряда. Бритье головы у еврейских женщин, которые и доныне считаются чем-то низшим у мужчины и даже не допускаются в то место храма, где молятся мужчины, указывает, очевидно, на переживание того же обычая – обрезать волосы в знак порабощения. Это даже прямо осталось обычаем на Самоа, где мужчины носят длинные волосы, а женщины короткие – в знак порабощения. То же у танна, лифу, тасманийцев и некоторых других. Во многих местностях России крестьяне выстригают макушку (в Костромской губернии это делают, кажется, только раскольники). Некоторые места у Эврипида показывают ясно, что обрезание волос женщинами совершалось ради умилостивления духа какого-нибудь умершего лица или предка, а отсюда понятно, что где предки эти обратились в божество, там обрезание волос превратилось в форму поклонения или жертвы божеству. Это и было у греков, не говоря уже о том, что у них в случае смерти популярного лица, например главнокомандующего, целая армия стригла себе волосы. У евреев и арабов отрезание волос составляло богослужебный обряд. В Перу этот обычай явился в форме вырывания ресниц и бровей и сдувания их с своих пальцев по направлению к идолу, или солнцу, или вообще к предмету, который они хотели почтить, а при входе в храм они просто подносили руки к бровям и затем дули на них. Образчик того, как переродился обычай в церемонию. Итак, когда вы дарили волосы своей возлюбленной, думали ли вы, что этот обычай выродился из скальпирования? А это происхождение весьма вероятно.
Необходимо еще упомянуть о кастрировании. Перуанцы кастрировали пленных. У фригийцев кастрация юношей служила жертвой богине Аммо (Агдистис). У финикиян кастрировались жрецы, у готтентотов и австралийцев – дети. Отсюда произошла более мягкая форма того же изувечения – обрезание, практикующееся во всех частях света, на Таити, на Тонга, Мадагаскаре, среди африканских и американских народов и т. д. То же и в древности. Спенсер полагает, что вовсе не потребности гигиены произвели этот обычай, как думают некоторые, а именно то, о чем мы уже говорили ранее, т. е. что некогда эти обрезанные части у пленных и убитых, например, в Абиссинии, подносились вождю, как трофей. Это могло перейти затем в отметку для порабощенных, оставленных в живых, потом просто в форму умилостивления живого владыки, а затем умерших и, наконец, в жертвоприношение и религиозный, умилостивительный обряд. Это весьма ясно подтверждается тем, что у многих племен, где нет обрезания, хотя они принадлежат к расам, употребляющим его, не было и правительства. Спенсер перечисляет несколько таких племен. Затем этот обычай становится выражением религиозного подчинения. Это подтверждается фактами. Обрезание у евреев было выражением подчинения Иегове, на что указывают многие библейские рассказы. Старый духовный вождь тонга не подвергается обрезанию, тогда как все остальные туземцы подвергаются. Замечательно также, что именно у евреев был обычай из этих же обрезанных частей делать трофеи.
Особенно интересен обряд кровопускания, происшедший, вероятно, от обыкновения, имеющегося и теперь у кафров аманонда, лакомиться кровью врага. У евреев, гуннов, турок пускали кровь при похоронах. Известен обычай, бывший еще недавно даже в Европе, – меняться кровью для установления особой взаимной таинственной связи. Отсюда понятен обряд нанесения себе ран и увечий для выражения верноподданничества и печали (гунны на похоронах Аттилы, турки на похоронах султана). Македоняне после смерти царя сходились толпой и при помощи игл или булавок вырывали взаимно друг у друга кусочки мяса со лба для умилостивления духа умершего. В иных местах такие насечки становятся национальными знаками. Весьма вероятно, что отсюда произошла и татуировка, которая, начинаясь с простых надрезов и шрамов без всяких красок, как, например, у жителей Танна, доходит потом до способа украшения и щегольства рисунками, узором, красками.
Весьма важен и интересен по связи с современными формами жизни и отношений обычай «подарков». Спенсер находит, что этот обычай стоит в связи с изувечениями. Как прежде подчинение выражалось поднесением владыке какой-нибудь части своего тела, не имеющей, конечно, никакой ценности, кроме символической, выражающей подчиненность, так в подарках, иногда совершенно бесценных, выражается подчинение, почтение. Но подарки могут быть и ценные, и в таком случае они сразу удовлетворяют и жадность, и властолюбие. Спенсер указывает факты, поясняющие это символическое значение подарков, там, например, где за неимением другого, приносятся в подарок не только волосы, но даже кусочки дерева, соломинки, камешки, из которых иногда образуются целые кучи (приношения богу Пачакамак). Подарки обращаются со временем в обязательные дани и контрибуции, приносимые единовременно или периодически, а затем из них же вырабатываются подати и повинности. Этого мало: обычай принимать подарки от низших влечет другой обычай – часть этих подарков раздаривать обратно своим подчиненным, выказывая тем свою щедрость и прикрепляя к себе сильнее своих приближенных. Множество фактов доказывает, что этот обычай предшествовал тому, что в наше время является как определенная рабочая плата или жалованье. Впрочем, и теперь награда к праздникам и подарки прислуге, а также за различные мелкие услуги «на водку» или «на чаек», указывают на переживание этого обычая.
Но наряду с развитием этого обычая в области политических отношений подданных к владыке он должен был развиваться и в области религиозных отношений. Так как первоначальные религиозные поклонения обращались к духам умерших предков и вождей, то им считалось нужным приносить такие же подарки и съестные материалы, как и живым. За исключением того, что потреблялось на жертвоприношения, остальное шло жрецу или жрицам, делившим эти приношения между своими сотрудниками. Тут точно так же мало-помалу из приношений развилось обязательное содержание религиозных служителей.
Надо еще прибавить один важный факт: многие народы еще и до сего времени не имеют ни малейшего понятия о торговле, и у них можно получить что-либо в обмен только посредством взаимного дарения. Белль, говоря об остяках, снабжавших его в «изобилии рыбой и дичью», замечает: «Дайте им маленькую щепотку табаку и рюмку водки, и они не спросят у вас ничего более, так как они не имеют ни малейшего понятия об употреблении денег».
В глубине далеких губерний России еще недавно трудно было «купить» хлеба или молока: вас просто «угощали», конечно, иногда, быть может, и не ожидая подарка, если вы человек видимо бедный; но в большинстве случаев даже странники и странницы считают своим долгом что-либо подарить за это: образок, крестик и т. п.
Здесь, по-видимому, подарки указывают и на иной источник своего происхождения: на первобытный, безденежный обмен услуг.
Однако следует заметить важный факт: у дикарей, не знавших подчинения, почти не замечается и обычая подарков.
Во всяком случае вероятнее допустить, что обряд подарков возник ранее власти, просто из желания приобрести расположение, почему-либо нужное или интересное. Так что обряд предшествовал и здесь политическому или религиозному контролю. При установлении же этих последних он был сильнее там, где страх, внушаемый владыкой или божеством, был сильнее. Это доказывается даже современными обществами: типы и формы правления, равно как и характер религиозных воззрений на божество, чрезвычайно влияют на объем этого обряда: лучшим доказательством последнего положения может быть сравнение огромного количества церковных пожертвований, например у католиков, с незначительными жертвоприношениями англиканской церкви и еще меньшим числом или полным их отсутствием с давнего времени у квакеров и диссидентов.
Спенсер находит, что даже в среде общественных отношений у современных европейских народов обычай подарков сильнее там, где была более сильная воинственная организация. Так, у немцев подарки друг другу и родственникам очень распространены, у французов они даже разорительны, а у англичан, наоборот, этот обычай развит очень мало.
Таким образом, подарки, столь услаждающие наше современное сердце, вытекли из желания или задобрить высшего и сильного, или подчинить себе низшего и слабого. Подкупы лиц служащих не были прежде преступными, а считались и теперь считаются в неразвитых обществах естественным способом вознаграждения, так что, например, во многих местах судьи получали подарки или вознаграждение от обеих сторон. Теперь часто нас возмущает обычай угощения крестьянами своих судей, но это, после того, что сказано, является весьма понятным переживанием древнего обычая, когда еще не было понятия об определенном вознаграждении или жалованье должностным лицам.
В тесной связи с подарками стоит обычай визитов. Обязательное принесение подарка или дани требовало и обязательного посещения. Затем это посещение обращается уже в самостоятельный обычай, в известную, довольно тяжелую нравственную дань: так, некоторые береговые негры, например иолаффы, являются ежедневно на поклон к своим старшинам. В сложном обществе, состоящем из подчиненных одному лицу завоеванных племен, является обряд периодического выражения верноподданнических чувств. Это требуется не одним честолюбием, но и необходимостью удостовериться, не составляется ли вождями покоренных племен заговор и т. п. Такие обязательные обычаи мы видим в Перу, Мексике и мн. др. Наоборот, визит правителя даже важнейшему сановнику, например в Дагомее, считается, как и следовало ожидать, позорным. В империи Великого Могола все придворные должны были под страхом наказания два раза в день являться на поклонение.
В монархической Франции, особенно в XVII в., этот обычай послужил средством удерживать дворянство при дворе и отделить его от народа, способствуя этим устранению возможной непокорности властителям. Как непоявление с визитом, так и удаление от дворов в таких случаях есть знак неповиновения.
Визиты к живым тесно связаны с визитами к умершим. И здесь отправляются первоначально с дарами; в Японии в дни праздников визиты делаются не только важным лицам, но и божествам в их храмах. Японцы верят, что умершие kamis, или боги страны, обязательно посещают в известный месяц живущего kami, т. е. микадо, и прислуживают ему невидимо. Посещение кладбищ в Европе, пилигримства, например, столь далекие, как в Палестину, имеют связь с этими обычаями. В основе религиозных визитов лежит, очевидно, верование, что божество присутствует преимущественно в том месте, куда ему приходят поклоняться.
Этот общий обычай, как и предыдущие, спускается постепенно из сферы высших отношений, религиозных и политических, в сферу обыденных отношений между равными. Но и здесь младший должен сделать первый визит старшему, а более важные лица даже вовсе не делают визитов низшим лицам, ожидая их у себя дома (у ваггабитов, персов, унианиемби, у нас в Европе – во многих странах и т. д.). Спенсер замечает, что и здесь обязательность визитов имеет связь с политическими формами. Визиты преобладают в странах сложных, составленных из подчиненных групп и с преобладающей военной организацией.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/gerbert-spenser/politicheskie-sochineniya-tom-iii-istoriya-politicheskih-i-54963549/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Лавров П. Л. Исторические письма. С.-Петербург, 1870. С. 13–29.
2
Интересно сопоставить с этими фактами верование нашего народа в целебную силу ношения серьги, а также вообще ношение серег женщинами. Не было ли это теперешнее украшение также символом рабства и подчинения, аналогичным с приведенными выше?
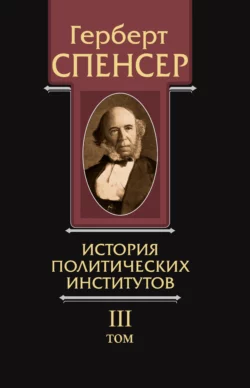
Герберт Спенсер
Тип: электронная книга
Жанр: Социология
Язык: на русском языке
Стоимость: 249.00 ₽
Издательство: Интермедиатор
Дата публикации: 08.05.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В томе III «История политических институтов» публикуются главы из части V «Оснований социологии». Здесь Г. Спенсер исследует закономерности постепенного становления институтов цивилизованного человеческого общества. Он развивает свою знаменитую теорию двух типов общества (и соответствующих им культур) – воинственного и промышленного. По его мнению, благотворные результаты войн и конфликтов остались в далеком прошлом, а в Европе и Северной Америке завершился эпохальный переход от «военизированных» форм общественной организации (режим статуса) к «промышленным» формам (режим договора). «Принудительное сотрудничество», характерное для воинственных обществ, в целом заменено «добровольным сотрудничеством» промышленных обществ. И когда ближе к концу жизни Спенсер наблюдал откат к воинственным формам общества, он назвал эту вызывающую беспокойство тенденцию «поворотом Европы к варварству» (см. т. IV настоящего пятитомного собрания «Политических сочинений» Герберта Спенсера).