Бесов нос. Волки Одина
Юрий Павлович Вяземский
Бесов нос: Юрий Вяземский #1
Однажды в начале лета на рыболовную базу, расположенную на Ладоге, приехали трое мужчин. Попали они сюда, казалось, случайно, но вероятно, по определенному умыслу Провидения. Один – профессор истории, средних лет; второй – телеведущий, звезда эфиров, за тридцать; третий – пожилой, очень образованный человек, непонятной профессии. Мужчины не только ловят рыбу, а еще и активно беседуют, обсуждая то, что происходит в их жизни, в их стране. И еще они переживают различные и малопонятные события. То одному снится странный сон – волчица с волчонком; то на дороге постоянно встречаются умершие животные… Кроме того, они ходят смотреть на петроглифы – поднимаются в гору и изучают рисунок на скале, оставленный там древними скандинавами…
Юрий Вяземский
Бесов нос. Волки Одина
© Вяземский Ю., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
«Палыч! Мне все время кажется, что сейчас из-за какого-нибудь мыса выплывет драккар викингов!»
С сыном Сережей во время рыбалки на озере
Глава первая
Прибыли
Первым на рыболовную базу «Ладога-клуб» прибыл высокий широкоплечий человек средних лет.
За спиной у него был давно вышедший из моды рюкзак, который в прежние времена называли абалаковским.
Лицо широкоплечего украшали ухоженная борода а ля Джузеппе Верди и почти такие же усы, которые можно видеть на портретах знаменитого итальянского композитора. И борода, и усы были благородного сочного черного цвета, но в середине бороды имелась неширокая проседь, а усы смотрелись чернее бороды и даже немного отдавали в синеву. Такая же чисто-белая проседь виднелась у прибывшего на голове среди густых и чуть вьющихся темных волос. Она располагалась почти точно над проседью в бороде, как будто он эти пряди себе выкрасил, хотя при пристальном рассмотрении видно было, что седина – от природы и естественная. Чертами лица мужчина также походил на итальянского композитора и, пожалуй, еще больше на русского писателя Ивана Тургенева. Однако глаза у него были не светло-карие, как у Верди, и не темно-серые, как у Тургенева, а какого-то редкого, сочного, кофейного, почти шоколадного цвета.
Прибывший принялся сначала разглядывать ворота, а потом шарить по ним рукой, судя по всему, разыскивая кнопку звонка или какое-то другое устройство, с помощью которого можно было бы заявить о своем прибытии и желании проникнуть за ограду. Но ничего подобно не обнаружив, он сердитым рывком скинул со своей мощной спины рюкзак, чуть отошел в сторону, и тут же невесть откуда раздавшийся, какой-то хрипло-металлический голос велел:
– Представьтесь, пожалуйста.
Лицо широкоплечего стало обиженным, и четко выговаривая каждое слово, слегка картавя, прибывший ответил:
– Я, знаете ли, не приучен представляться непонятно кому! Это хотя бы рыболовная база?
– А вы господин Си… щас… Синявин вы? – спросил тот же металлический голос.
– Извольте сначала ответить на мой вопрос! А потом будем разбираться, я Си или не Си! – сердито ответил широкоплечий.
– Щас к вам выйду, – пообещал голос.
– Черт знает что! – громко произнес широкоплечий и снова надел рюкзак.
Почти тут же одна из створок ворот приоткрылась и из-за нее вышел странного вида человек: небольшого росточка, коротконогий, коренастый, в рыболовном комбинезоне. Лицо у него было смуглым, а нос и рот у него будто украли: рот был маленьким и почти безгубым, а маленький нос сплющен и словно размазан, как иногда бывает у боксеров самых легких весовых категорий.
Глядя на этого коротышку, широкоплечий еще сильнее обиделся лицом и строго спросил:
– Неужели нельзя было сделать нормальный вход, человеческий звонок?!
– Позвольте, приму у вас рюкзак, – предложил безносый.
– Пришел человек, и как ему сообщить, что он пришел? Это у вас явно не продумано, – продолжал пришедший.
– Не вопрос, – ответил безгубый. – Так и было вначале. Но местные стали безобразить. Не только пацаны, но и взрослые. Тогда хозяин установил хитрое оборудование. Как только подходишь, мы видим и открываем… Вас разве не предупредили?
– Никто меня ни о чем… – начал было широкоплечий, но, не договорив, с досадой махнул рукой и объявил: – Во-первых, здравствуйте. – Лицо его вдруг перестало быть обиженным. – Во-вторых, не Си, а Се. То есть не Синявин, а Сенявин – вторая буква «е», с вашего позволения. – Тут лицо Сенявина снова приобрело недовольное выражение. – В-третьих, не господин Сенявин, а профессор Сенявин. – Лицо профессора стало теперь непроницаемым. – А вы можете обращаться ко мне «Андрей Владимирович».
– Не вопрос, – поспешил согласиться смуглолицый.
На этот повторный «не вопрос» Профессор поморщился и спросил:
– А вас как прикажете величать?
– Петрович.
– Не пойдет, – покачал головой Профессор, не теряя непроницаемости лица. – Я, мил человек, не привык называть людей только по отчеству. Чай, не у Гоголя в «Шинели».
Андрей Владимирович пристально глянул в лицо коротконогому, но не смог определить, понял ли тот, при чем тут Гоголь с его «Шинелью». Зато обнаружил, что глаза у Петровича неожиданно зеленые. И не просто непривычно зеленые, а с еще более непривычно белыми белками, как у рыбы.
– Ну, так имя у вас имеется?
– Оно у меня, это самое, карельское. Вернее, финское, – сообщил зеленоглазый. – Поэтому и предлагаю: Петрович. Меня так все называют. Для простоты, так сказать. – Он попытался улыбнуться безгубым ртом, но из-за его небольших размеров получилась лишь полуулыбка.
– И все-таки, будьте любезны, как вас по имени?
– Пусть будет Толя. Меня так тоже иногда зовут.
– Тогда действительно «не вопрос», Анатолий… Анатолий Петрович. Тогда будем считать, что друг другу представились, – усмехнулся Профессор и, не отдавая рюкзака, первым шагнул в ворота.
За воротами метрах в пятидесяти от входа располагалось длинное одноэтажное строение, похожее на ангар или на конюшню. Стены его были темно-дощатыми, крыша – вроде соломенная, но из какой-то странной соломы. Со стороны входа ни одного окна в этом строении не было.
Петрович провел Профессора к ближайшему торцу здания и отворил дверь, больше похожую на ворота. Они сначала оказались в какой-то мастерской со множеством разнообразных плотницких, столярных, токарных, слесарных и прочих инструментов и приспособлений, а затем вступили в просторный, метров в двести, а то и в триста, зал. Вместо потолка – продольные и поперечные балки и стропила, уходящие под самую крышу. Вместо стен – полированные срубные бревна, по которым были во множестве развешены спиннинги и удилища всевозможных видов, а также гарпуны, багры, подсаки, садки всех мастей и прочая рыболовная утварь. В центре зала в открытом очаге игриво потрескивали и ароматно дымили березовые поленья. С двух сторон от очага стояли длинные дощатые столы, а за ними – деревянные лавки, на которых лежали вышитые круглые подушки.
– Вот тут будем жить, – сообщил Петрович.
– Не понял! – объявил Профессор. Лицо его нахмурилось еще до того, как они вошли в дом.
– Летом наши гости обычно здесь проживают. А весной и осенью – в других помещениях. Здесь они только столуются.
– Не понял, – повторил Профессор. – Вы мне на этих лавках прикажете спать?
– Зачем на лавках? – удивился Петрович. – Выбирайте любой, так сказать, из альковов.
– Каких еще альковов?!
– Хозяин нас так приучил, и мы их так называем, наши спальни.
На левой стене, противоположной той, которая выходила на ворота и на озеро, Петрович отдернул одну из темных занавесей. За занавесью открылась комната, небольшая, но с просторной кроватью и светлым евроокном, глядящим во двор.
Профессор вошел в «альков», подошел к кровати, приподнял светло-синее расшитое покрывало и обнаружил под ним тканое одеяло и дорогое постельное белье.
За окном на разном удалении виднелись многочисленные крытые дерном хозяйственные строения, среди которых особенно выделялись сеновал и мельница.
– А мельница вам зачем? – глядя в окно, поинтересовался Профессор.
– Она только с виду мельница, а внутри, так сказать, – коттедж для гостей, – пояснил Петрович. – У нас, это самое, каждый коттедж имеет свою форму: мельница, амбар, пекарня, рига, сеновал и так дальше. Как-то так.
– А мне их нельзя осмотреть?
– Не-а, – быстро ответил Петрович и шмыгнул отсутствующим носом.
– Почему, собственно, не-а?
– Там вчера и сегодня крыли лаком полы.
– Во всех без исключения?
– Во всех, – вздохнул Петрович и сморщил лицо.
Профессор вновь обратился к кровати, опять приподнял расшитое покрывало и спросил, не глядя на Петровича:
– А где у вас… в этом вашем… – Он замолчал, подыскивая, судя по его обиженному лицу, резкое и тоже обидное слово. Но Петрович пришел ему на помощь:
– Не вопрос. Туалеты и душевые в дальнем торце.
– Я, честно говоря, не понимаю… – начал Сенявин.
– И на территории базы у нас имеются, значит, две бани: одна типа русская и одна сауна, – перебил его Петрович.
– Я, честно говоря, не понимаю, – продолжил свою мысль Андрей Владимирович, – зачем вместо нормального помещения, в котором можно, не натыкаясь на других людей, привести себя в порядок и отдохнуть после рыбалки, понадобилось строить это… этот сарай!
– Хозяин решил, что будет душевно, – возразил Петрович.
– Душевно?!
– Хозяин часто рыбачит в Норвегии. А там во многих местах построили, так сказать, длинные дома. В них викинги как бы жили. Вот он и решил, когда впервые скатал в Норвегию…
– Погодите, мил человек! – Профессор с высоты своего роста презрительно глянул на коротышку-карела. – Я, между прочим, историк и весьма неплохо знаком с историей средневековой Скандинавии. Вы эти байки о викингах и их домах приберегите для каких-нибудь других ваших посетителей. Во-первых, настоящие викинги очень редко жили в тех домах, которые сейчас показывают в Норвегии. Они жили на своих кораблях и где попало, когда им изредка приходилось сходить на берег. Во-вторых, лонгхаузы, то есть длинные дома, были устроены совсем не так, как ваше… архитектурное чудище…
Тут одна бровь Профессора поползла вверх, захватив с собой одну из поперечных складок на переносице.
– Кстати, профессор Годин еще не приехал? – вдруг спросил Сенявин.
– Какой такой Годин?
– Не какой-такой, а профессор Годин, Николай Иванович, – повторил Андрей Владимирович, подчеркивая слово «профессор».
– Не знаю, о ком вы, – покачал головой Петрович и попытался улыбнуться своим маленький ртом.
– Тот самый профессор Годин, который часто гостит на вашей базе, который пригласил меня сюда порыбачить вместе с ним и который забронировал для меня место, – судя по тому, что вам стала известна моя фамилия.
– Ах Годин! Тот самый! Иваныч! – радостно воскликнул Петрович и тем же тоном сообщил: – Не-а, не приехал. И не приедет! Он вчера позвонил и сказал, что из-за каких-то печалей он, типа, никак не может.
– Печалей? – удивленно переспросил Профессор, но бровь у него опустилась и складка на переносице вернулась на свое место.
– Ну не склалось у него что-то, – пояснил Петрович.
– Не склалось? – уже растерянно повторил Профессор, но тут же с раздражением объявил:
– Сейчас позвоню ему и проверю.
Сенявин не успел еще достать из кармана мобильный телефон, как Петрович воскликнул, опять-таки радостно:
– Связи-то нету! Бесполезно!
Глянув на экран телефона, Профессор убедился, что карел его не обманывает, и, оставив рюкзак в комнате, вышел в зал и направился к выходу из дома. А Петрович крикнул ему вдогонку:
– Нигде нету связи! С утра нету! Молния, говорят, шибанула. Андрей Владимирович все-таки вышел из длинного дома. Но убедившись в том, что надпись «нет доступа к сети» не исчезла с экрана, вернулся обратно.
Для размещения Профессор выбрал самый дальний от входа «альков». Он находился ближе к душевым и туалетам, а также, помимо занавеси, имел выдвижную дверь, отделявшую спальню от зала.
Однако, едва Сенявин начал развешивать и раскладывать свои вещи, где-то поблизости загудело вентиляционное устройство. Так что Профессор решил оставить это шумное обиталище и перебраться в соседнее, где, хоть и не имелось выдвижной двери, но гула от вентиляции не было слышно.
Переселившись и полностью расположившись, Сенявин отправился осмотреться и разыскать Петровича, дабы задать ему несколько возникших у него бытовых вопросов.
Когда же он вышел из длинного дома, на парковке возле ворот уже стоял и светился яркими и резкими огнями черный Lexus LX 570 последней модели.
Стройный молодой человек в голубых джинсах и кожаной куртке выгружал из багажника поклажу: два пластиковых чемодана, оба с выдвижной ручкой и на четырех колесиках, один большой и другой средних размеров, три вместительных ящика, в которых рыболовы хранят блесны и воблеры, а также три тубуса для спиннингов. Приезжий вручал свой багаж Петровичу, а тот проворно и услужливо относил его к входу в длинный дом и ставил почти у ног Профессора, который, остановившись у порога, рассматривал не столько нового прибывшего, сколько его шикарную машину.
Когда Петрович стал заносить вещи внутрь дома, молодой человек аккуратно закрыл багажник, запер машину и легкой стремительной походкой двинулся к дому.
Проходя мимо Профессора, он приветствовал его тем коротким кивком, каким кивают хорошо знакомым и недавно уже встреченным людям, и так быстро прошел мимо Сенявина, что тому не только не успелось должным образом ответить на этот кивок, но и разглядеть приезжего не удалось. Однако показалось Андрею Владимировичу, что он этого молодого человека как будто уже видел и, похоже, видел неоднократно.
Пожав плечами и огладив бороду, Сенявин направился было к ближайшему «амбару», но сделав несколько шагов, развернулся и приблизился к «Лексусу».
Профессор обошел автомобиль, разглядывая его никак не завистливо, а скорее презрительно. Затем снова двинулся к коттеджу-«амбару» и уже миновал вход в длинный дом, но резко сменил направление, вернулся и вошел в лонгхаус.
Еще в «мастерской»-прихожей Сенявин услышал голос молодого человека, который говорил:
«Мы позавчера, нет, в пятницу, с ним общались по телефону и договорились, что я сегодня приеду».
Ему отвечал голос Петровича:
«Не вопрос. Олег Виталич мне о вас говорил. Но вчера ему срочно пришлось уехать».
«Как уехать? Мы ведь договорились. И не только с ним», – настаивал молодой человек.
«Как-то так выходит. Так сказать, не случилось».
«Что значит «не случилось»? Они с губернатором два года уговаривали меня приехать сюда. Я наконец-то выкроил время».
«Вот я и говорю: не склалось, – скороговоркой твердил Петрович. – Ему, то есть Олегу Виталичу, это самое, позвонили и говорят, что у них имеет место заседание в Архангельске. Они, то есть хозяин и наш управляющий, вчера туда укатили, а всех драйверов, кроме меня, отпустили отдохнуть. Потому что как только сошел лед и несколько недель с того у нас была тьма гостей и работа по ним. А на этой неделе только два человека записаны. И еще один отказался. Но вместо него вчера другой выплыл. Но точно еще не известно, приедет или не приедет».
– А вот и второй ваш напарник, – объявил карел, когда Сенявин вошел в зал.
Молодой человек стоял спиной к двери и на замечание Петровича даже не обернулся.
– А губернатор? – спросил он.
– Какой губернатор?
– Ваш, областной. Он как бы давно мечтал со мной порыбачить.
Петрович задумчиво погладил пальцем то место, где у обычных людей бывает нос, и радостно объявил:
– Его теперь сняли!
– Сняли? Угрюмина?! Когда?!
– Вчера, говорят. Или на прошлой неделе. Но однозначно – сняли.
– Засада! – воскликнул молодой человек.
А Петрович принялся его успокаивать:
– Вы только, это самое, не волнуйтесь. Олег Виталич велел мне выполнять все ваши желания. Все у нас будет, как доктор прописал. Так скажем.
– Тебя как зовут? – переходя на ты, но ласковым тоном спросил второй приезжий.
– Петрович.
– Ты кто здесь?
– Я драйвер. Но теперь я один на базе. Так что буду, типа того, за разных.
Молодой человек повернулся в сторону Профессора.
Сенявин уже имел возможность разглядеть его со спины, постепенно убеждаясь в том, что одет бойкий молодой человек вроде бы просто, но крайне дорого. Одни его кроссовки стоили не меньше всей месячной зарплаты профессора. Похожие кроссовки Андрей Владимирович недавно видел в витрине на Невском проспекте и обратил внимание на их цену.
Теперь же, когда владелец кроссовок повернулся к нему лицом, Профессор окончательно составил для себя его портрет: высокий, стройный, спортивного вида человек лет тридцати пяти с золотистыми волосами, зачесанными в обе стороны от широкого пробора; причем, с правой стороны волосы были короче и не закрывали уха, а с левой – прикрывали и ухо, и щеку, но не падали на глаза, как это теперь модно. Глаза серые, лучистые, и когда он улыбался, такой же лучистой становилась улыбка.
Как только Сенявину удалось разглядеть лицо своего визави и сопоставить его с голосом приехавшего, уже не одна, а две брови Андрея Владимировича поползли вверх от удивления.
Тут молодой человек наконец заметил Профессора, одарил его лучезарной улыбкой и сказал:
– Добрый вечер.
Профессор от удивления не нашелся с ответом.
– Ради бога, извините меня, – продолжал приезжий, придавая улыбке виноватый оттенок. – Наш драйвер совершенно вынес мне мозги своими сообщениями, и я не успел с вами поздороваться. Еще раз: добрый вечер. И еще раз приношу свои извинения.
– Добрый вечер, – выдавил из себя Сенявин и зачем-то несколько раз кивнул головой.
– Позвольте вам представиться – Александр Трулль, – произнес молодой человек, и виноватый оттенок исчез из его улыбки.
Профессор же, успев совладать с удивлением, укоризненным тоном заметил:
– Вам нет нужды представляться. Разве найдется в России человек, который бы вас не знал?
Молодой человек мгновенно отреагировал на это заявление, сделав свою улыбку одновременно смущенной и лукавой:
– Представьте себе, меня иногда путают.
– С кем?! – словно испугался Профессор.
– Чаще всего с Арвидом Таммом.
– Но вы совершенно другой! И ваша передача другая! – возмущенно воскликнул Сенявин.
– Спасибо вам за «совершенно другого»! – поблагодарил молодой человек и, глядя в лицо Профессору, прямо-таки окутал Сенявина своим ласковым взглядом.
– Никогда бы не мог предположить, что вы… что вы тоже рыбак, – в некотором замешательстве проговорил Андрей Владимирович.
– Я не рыбак – я рыболов, – поправил его молодой человек.
– А в чем, простите, разница?
– Разница в том, что рыбак – это профессия, а рыболов – увлечение. Рыбак ловит для еды и для денег, а рыболов – для развлечения и для отдыха.
Опять помолчали. Тут только Сенявин сообразил, что еще не представился, и стал исправлять оплошность, заявляя себя профессором и с особой четкостью выговаривая вторую букву в своей фамилии: «е», «Сенявин», при ударении, однако, на букве «я». Руки Труллю Андрей Владимирович не подал, ибо и тот, когда представлялся Профессору, руки не протянул.
Трулль, одарив Профессора благодарной улыбкой, тут же повернулся к нему спиной и удалился в один из «альковов»; он занял комнату ближайшую к душевым и туалетам – ту, из которой переместился Сенявин.
Лицо Андрея Владимировича вновь приобрело обиженное выражение, и с этим обиженным лицом он принялся прогуливаться взад и вперед вдоль скамеек у очага.
Когда же из занятой теперь Труллем комнаты вышел Петрович (он помогал молодому человеку вносить и размещать багаж), Сенявин на него сердито и громко напустился:
– Что ж вы, дорогуша, не предупредили, что на вашей богом забытой базе должны объявиться такие знаменитости?!
– Какие знаменитости? – спросил Петрович и часто заморгал. Только сейчас Профессор заметил, что у корела почти не видно ресниц.
– Только не надо прикидываться! – еще сердитее воскликнул Андрей Владимирович.
– Я не прикидываюсь! Эн юмэрре… Я не понимаю, – ответил Петрович и перестал моргать.
– Вы что, не поняли, что человек, которому вы так услужливо помогаете, – как сейчас говорят, мега-звезда отечественного телевидения, Александр Трулль собственной персоной?!
– Я… я вам тоже… готов помочь, – грустно ответил Петрович.
– Да я не об этом! – с досадой сразу двумя руками взмахнул Профессор. – Вы хотите сказать, что никогда не смотрели «Тру-ля-ля»? Была такая очень популярная юмористическая телепередача в нулевых годах. А сейчас он ведет «Как на духу» – ток-шоу, прайм-тайм, рейтинг, говорят, зашкаливает… И этой не видели?
– Я не смотрю телевизор. У меня его нет, – так же грустно ответил карел и хотел уйти. Но Сенявин остановил его властным окриком:
– Стойте! Куда вы?! Я не кончил с вами разговаривать!
– Виноват! – Петрович остановился и покорно повернулся к Андрею Владимировичу. А тот продолжал:
– Я слышал, как в разговоре с этим телеведущим, которого вы якобы не знаете и никогда не видели, вы назвали себя драйвером. А это что такое, позвольте полюбопытствовать?
– Это… моя работа. Так скажем.
– А по-русски нельзя?
– По-русски сложнее… Ну, типа: завтра я буду управлять лодкой и помогать вам ловить рыбу.
– То есть, если не обезьянничать и не засорять наш язык разной иностранщиной, вы – егерь?
– Можно и так сказать. Но будет неточно… И егерь ведь тоже нерусское слово.
– Русское. Давно уже русское, – строго возразил профессор. – И на других базах таких людей, как вы, представьте себе, называют именно егерями. А драйвер в переводе с английского означает «водитель, шофер». Вы разве шофер?
– Я здесь, если по-русски, и лодочник, и егерь, и шофер, если понадобится. Короче, драйвер.
– Дурацкое слово, – вздохнул Профессор.
– Я у вас и на кухне драйвер, – тоже вздохнул Петрович и попросил: – Вы меня не отпустите ужин готовить?
Андрей Владимирович глянул коротышке в лицо, и ему показалось теперь, что рот у Петровича вовсе не маленький и улыбается он им широко и свободно; и ресницы у карела густые и длинные, но очень светлые и потому иногда незаметные; и глаза у него теперь не зеленые, а какие-то желтоватые.
– Ну, раз вы такой у нас драйвер…! – патетически начал Профессор и не окончил, картинно воздев руки.
Петрович тут же исчез.
Телеведущий, переодевшись в дорогой спортивный костюм, едва вышел за ворота и отправился на прогулку, когда привезли третьего клиента.
Такси подкатило почти вплотную к длинному дому. Задняя дверь приоткрылась, и оттуда сначала раздался надсадный кашель. Потом высунулась нога в потертых темных брюках и в зимнем мокасине на толстой подошве, старом и грязном. Затем кашель прекратился и дверь захлопнулась. Выбежавший встречать гостя Петрович поспешил вновь открыть дверь. Но из машины раздался крик: «Ради бога! Я сам! Только сам!». После этого – снова кашель. Наконец из машины, держась сперва за дверь, потом – за крышу, стал выбираться, нет, выползать пожилой человек среднего роста.
Стоявший у входа в лонгхауз Сенявин успел его достаточно разглядеть, потому как тот долго себя извлекал, оказываясь к Профессору то лицом, то тылом; выбравшись и распрямившись, он прижался спиной к машине и некоторое время передыхал, осторожно дыша, чтобы вновь не закашляться. На нем был старый в мелкую клетку пиджак с налокотниками, под пиджаком – в крупную клетку байковая рубашка; при этом пиджак был какого-то неприятного желто-зеленого цвета, а клетки на рубашке – красные и белые. На вид приехавшему было лет шестьдесят.
Отдышавшись, он тут же затараторил:
– Ради бога простите. Когда ехал из Москвы в Ленинград (он именно так выразился), все было в порядке. Только кашлял, конечно. Но у меня это давно. И в Питер приехал (он теперь так сказал) – ничего подобного. Нормально сел в электричку. А когда выходил здесь на станции, тут, видимо, платформа чуть ниже, чем обычно бывает, и меня дернуло вниз, потому что шагнул не глядя. И сразу будто током ударило по спине. И я сначала надеялся, что потерплю и пройдет. Но с каждым шагом – все больней и больней. Слава богу, у перрона стоял этот замечательный человек… – Несчастный указал на водителя такси и снова надсадно закашлялся, вздрагивая от боли и хватаясь руками за поясницу.
Сенявин сделал два шага назад.
Перетерпев приступ, приезжий жалко улыбнулся Петровичу и Профессору и продолжал тараторить:
– Простите меня. И не волнуйтесь. Я совершенно не заразный. Вот только с поясницей обидно. У меня никогда не было радикулита. А тут лишь немного промазал ногой. Подумаешь! И как огнем… Надо же! Ну, ничего. Надеюсь, завтра отпустит.
Говоривший был коротко стрижен, если можно назвать стрижкой пегие волосики, обрамлявшие его круглую правильной формы лысину, похожую на тонзуру католических монахов. Лоб высокий, но он его морщил, особенно когда кашлял. Глаза – светлые, оттенка неясного. Шея собралась складками, какие заводятся у людей его возраста, самая большая – под подбородком. В остальном же черты лица болезного были мало чем примечательны.
Его старый матерчатый чемодан грязного цвета Петрович вынул из машины и держал в руке. Карел не сводил глаз с нового своего клиента и пребывал то ли в растерянности, то ли в другом каком-то напряжении, похожем на сострадание.
Стыдливо покосившись на чемодан, а затем виновато – на Петровича, приезжий горестно воскликнул:
– И теплых вещей у меня нет! Я на рыбалку не собирался! Только в Ленинграде решилось. А у меня ни куртки, ни теплых штанов!
От этого восклицания он вновь закашлялся.
– Мы вам все предоставим. Не вопрос. Вы, это самое, не переживайте, – успокоил его Петрович, когда кашель затих.
– Правда? – благодарно, но тихо, чтобы вновь не закашляться, спросил лысоватый. И, вытянув руку, сделал несколько шагов в сторону Профессора. Но тот на столько же шагов отпрянул назад. Так что приезжий свою протянутую руку подал не ему, а Драйверу, и представился:
– Митя.
– Петрович. Меня здесь так называют, – радостно приветствовал приезжего карел и несколько раз сотряс ему ладонь, так что тот поморщился и свободную руку прижал к пояснице. А потом шагнул к Профессору, протянул ему руку и повторил:
– Митя.
Сенявину уже некуда было отступать – за его спиной находилась стена длинного дома. А посему он резко взмахнул обеими руками и в наигранном изумлении воскликнул:
– Ну я же не могу так обращаться к почтенному человеку, который старше меня! У вас ведь, наверное, и отчество имеется. Митя, как я догадываюсь, это – Дмитрий?
Своего Сенявин добился: «Митя» остановился в нескольких шагах от него и протянутую руку опустил.
– Мы, как я понял, будем вместе рыбачить, – заговорил он. – А мне и моей маме никогда не нравилось имя Дмитрий. Меня и в детстве и потом звали Митей. Даже отец стал меня так называть. Хотя поначалу ему, как и вам, больше нравилось имя Дмитрий.
– Очень приятно, что мы хотя бы некоторое время совпадали в… в предпочтениях с вашим батюшкой, – игриво продолжал Сенявин. – А как его величали, вы нам не подскажете?
– Аркадий Николаевич Сокольцев, – просто ответил больной, то ли не чувствуя, что над ним подшучивают, то ли не обращая внимания на это обстоятельство.
– Вот и славно! – обрадовался Профессор. – Стало быть, мы теперь можем полностью восстановить картину. И вы, если только не носите фамилию вашей матушки, должны быть Дмитрием Аркадьевичем Сокольцевым. Я не ошибся?
– Не ошиблись. Я ношу фамилию отца, – сказал Дмитрий Аркадьевич и так широко улыбнулся, что лоб его весь покрылся морщинами.
– И я, представьте себе, тоже ношу фамилию своего отца, – с напускной торжественностью объявил Сенявин и представился, непременно с «профессором», но на этот раз не уточняя, как правильно произносить вторую букву в его фамилии.
– Мне не повезло в электричке. Но, я вижу, очень теперь повезло, – объявил великовозрастный Митя и пояснил: – Вы такой веселый и остроумный человек.
Судя по тому, что Профессор выставил вперед правую ногу и правая его рука начала подниматься, он таки решился протянуть руку Дмитрию Аркадьевичу. Но как раз в это время Сокольцев снова закашлялся, и рукопожатия не состоялось.
Все вошли в дом, миновали мастерскую. Дмитрий Аркадьевич передвигался почти без затруднений и только на ступеньках и перед порогами морщился, хватался за поясницу и осторожничал с постановкой ног. Когда же оказались в центральном зале, Сокольцев вдруг будто испуганно воскликнул: «Это что, лонгхюс?!» – причем, слово это было произнесено не на английском, а, скорее всего, на одном из скандинавских языков. И далее принялся разглядывать помещение, совсем не интересуясь висящим на южной стене разнообразным рыболовным инструментарием, но внимательно изучая скамьи, лежавшие на них подушки, устройство очага и дымоход над ним. Причем видно было, что этот неожиданный интерес обходится Сокольцеву достаточно болезненно. Так, когда Митя наклонился к одной из подушек, чтобы ее поближе исследовать, то потом с трудом мог разогнуться. А когда задрал голову, дабы разглядеть нечто привлекшее его внимание под крышей зала, вновь закашлялся.
Петрович с прежним напряженным вниманием следил за каждым движением нового гостя, не выпуская из руки его чемодана.
Профессор же сначала выразил на своем величавом лице недоумение, а затем, стараясь придать голосу давешнее игривое настроение, спросил:
– А вы кем будете по профессии, Дмитрий… э-э… Аркадьевич?
– Конечно, стилизация… Но неплохая, – через некоторое время произнес Сокольцев, изучая одну из подушек и, похоже, не слыша к нему обращенного вопроса.
Тогда Сенявин спросил громко и требовательно, уже с откровенно насмешливой ухмылкой на лице:
– Вы, часом, не историк, коллега?
Этот вопрос Митя расслышал, обернулся и сказал:
– Нет, боже упаси.
– Почему «боже упаси»? – заинтересовался Профессор.
– Я их боюсь.
– Боитесь историков? Интересно, почему? – Андрей Владимирович перестал улыбаться.
– У них, у историков, строгий взгляд, – тихо объяснил Сокольцев. – Вот как у вас теперь. Вы ведь историк?
– Да, я историк. По крайней мере, был им лет тридцать, – строго произнес Сенявин и, стараясь смягчить тон, добавил: – Вы, однако, на мой вопрос не ответили.
– Какой вопрос?
– Вы-то кто будете по профессии?
Митя виновато улыбнулся и некоторое время молчал, а потом заметил:
– Это сложный вопрос.
– Не понял вас.
– Если честно, я тоже. Видите ли… – начал было Сокольцев и умолк, глядя куда-то мимо Профессора.
– Не хотите говорить – не надо, – через некоторое время тихо и как будто обиженно резюмировал Сенявин.
Митя хотел ему возразить, но закашлялся. А Петрович воспользовался его кашлем для того, чтобы отобрать у гостя подушку, взять его под руку и проводить в комнату.
Митю разместили в первом «алькове» со стороны мастерской.
Профессор ушел в свою комнату и больше из нее не выходил.
Телеведущий с прогулки не возвращался.
…Минут через десять или через двадцать, покинув свой «альков» и сделав несколько кругов по залу, Митя вышел из лонгхауза и, прижав обе руки к пояснице, направился в сторону ворот.
Шел он довольно резво, но почти той же походкой, какой ходит Эркюль Пуаро в известном телесериале с Дэвидом Сюше в главной роли.
Как только Сокольцев приблизился к воротам, они стали медленно раскрываться.
Митя обернулся, будто искал того, кто эти ворота для него раскрыл, но никого не увидел.
Митя вышел с территории и через несколько шагов остановился.
Белые ночи были в самом разгаре.
Метрах в ста от ворот виднелся причал, у которого стояли три рыболовных катера.
В полукилометре от берега высился туман. Он именно высился, а не стлался, так как соединял озеро с небом и гигантской белой стеной медленно надвигался на берег. Чем ближе он наплывал, тем становился плотнее.
Митя смотрел на туман и не сходил с места.
Когда же стена из тумана подошла к берегу и скрыла причал, Митя закашлялся.
Дальше туман не пошел и через некоторое время стал отступать. Вернее, стал опадать сверху и расползаться по сторонам.
И вот в середине этой стены или занавеса образовался просвет, в котором открылось озеро. Но не у берега – берег еще плотнее прикрыла разорвавшаяся и медленно оседавшая холстина тумана. В просвете развернулась и расплылась серо-багряная водная рябь, подсвеченная закатившимся северным солнцем.
На ряби возник, будто нарисовался, корабль.
Носовой его штевень украшала золоченая волчья голова.
На носу, обитом толстыми железными листами, стояли Берси Сильный, Бьерн Краснощекий, Торлак Ревун, Глам Серый, Грим Копченый, Свейн Рыло, Кетиль Немытый и Рэв Косой.
Возле мачты, на верхушке которой сидели позолоченные вороны, стояли Отар Служанка, Бадвар Зашитый Рот, Коткель Одним Ударом, Халльдор Павлин, Храфн Злой Глаз, Эрлинг Добрый, Торгрим Умник и Ульв Однорукий.
На высокой кормовой надстройке возле черного шатра стоял Эйнар сын Квельдэйнара, владелец корабля и хевдинг в своей команде, а рядом с ним Логи Финн, Торир Длинный Кеннинг и Гейр Брюхотряс.
Рулевым был Сигват Обидчивый.
Гребцами командовал Флоки Олень.
Корабль назывался «Волк», и его нос, как уже было сказано, украшала волчья голова.
За Волком как будто шел еще один корабль. Но он был слишком далеко, чтобы его можно было разглядеть, и туман от него пока не отступился.
Митя, однако, и первого корабля не видел. Закашлявшись, Сокольцев тут же вернулся на базу. И ворота за ним закрылись еще до того, как в тумане образовался просвет.
Глава вторая
Сага об Эйнаре
I
Жил человек по имени Эйнар, по прозвищу Квельдэйнар. Отцом его был Храпп, дедом Хрут, прадедом Хрольв.
Хрольв, прадед Эйнара, был человеком громадного роста и поразительной силы. У него был широкий лоб, густые сросшиеся брови и огромная нижняя часть лица, подбородок и скулы – широченные. При этом лицо его было на редкость бледным. Он был задумчивым и молчаливым, не любил домашних животных, но дружил с дикими зверями и никогда на них не охотился. Когда случалось ему глубоко задуматься, как рассказывают, одна бровь у него опускалась до скулы, а другая поднималась до корней черных волос.
Рассказывают также, что однажды летом, на праздник Бальдра Светлого, на закате солнца Хрольв решил прогуляться по берегу моря на мысе Свартнес. А там есть большой камень. И вот, идет он мимо того камня, и видит: камень как будто раскрылся, и перед входом в него стоит карлик. Карлик этот позвал Хрольва, предлагая тому войти, если он хочет встретиться с Одином. Хрольв вошел в камень, а тот сразу закрылся, и Хрольв из него так никогда и не вышел.
II
У Хрольва было двое сыновей, Эйвинд и Хрут. Про первого в саге больше ничего не говорится. А про Хрута надо сказать, что внешне он был безобразен. Роста среднего, голова маленькая и узкая, а плечи могучие и руки толстые и волосатые, как у медведя. Шеи у него почти не было. Ноги короткие и словно дубовые пеньки. Одни люди прозвали его Медведем, а другие называли его Полутроллем, потому что отца его, Хрольва, особенно после того, как он исчез в камне, стали считать не человеком, а троллем. Ну а сынок его, стало быть, Полутролль, так как ростом он был вполовину своего отца. При этом у Хрута Полутролля, Хрута Медведя, волосы были цвета волчьей шерсти.
Мало того что урод – Хрут был задирист, вспыльчив и в гневе свиреп. Люди терпели от него немало обид, но связываться с ним боялись. При внешней неповоротливости он был ловок и быстр.
На пирах он всегда напивался до рвоты и безобразничал. Но в трезвом виде слыл большим мастером в работах по железу и дереву.
Богов никаких не чтил, и однажды во время осеннего жертвоприношения вместо того, чтобы принести на холме рядом с усадьбой жертвы альвам, справил там нужду, заявив, что альвы ему надоели и он хочет прогнать их. Альвы, разумеется, покинули холм, но с той поры на Хрута посыпались разного рода неприятности.
Рассказывают, что перед смертью Хрут собрал своих домочадцев и объявил:
– Когда я умру, то такова моя воля, чтобы мне вырыли могилу в дверях дома и чтобы я был погребен стоя под порогом. Так я смогу лучше следить за моим хозяйством.
Волю его не выполнили, благоразумно решив, что если с ним худо было иметь дело, когда он был жив, то еще хуже будет с покойником. Похоронили его у камня, в котором исчез его отец. Но Хрут часто вставал из могилы и безобразничал на крыше дома, в хлеву и на конюшне, пугая людей и калеча скот. После того, как он до смерти изломал одного из пастухов, тело Хрута выкопали из могилы и отнесли в такое место, где реже всего проходили скот или люди. Хрут некоторое время не появлялся, но потом снова стал наведываться на хутор и в деревню, хотя и реже чем прежде. Так что люди из деревни возмутились, пришли на Свартнес и пригрозили, что если родственники обнаглевшего покойника не примут должных мер, они сожгут его на костре, а его пепел бросят в море. Тогда родичи Хрута снова вырыли его, связали ему большие пальцы ног, отрубили голову и приложили ее к ляжкам, вырезали на могильном камне руны, могилу же обнесли каменной стеной, такой, чтобы мертвец не мог через нее перелезть, вырыли вокруг ров и напустили туда воду. Тогда наконец Хрут угомонился.
III
Два сына остались после Хрута, Эйрик и Храпп. Эйрик, когда даны впервые отправились грабить фризов и франков, примкнул к викингам и назад не вернулся. Храпп же остался вести хозяйство на Свартнесе.
Храпп был на редкость красив, и лицом, и статью. На своего отца он совершенно не походил и красоту унаследовал от матери, о которой в сагах ничего не говорится. Лишь черные волосы, как считали многие, его портили. А также то, что взгляд его прекрасных глаз был слишком острым, и страшно было смотреть ему в глаза, когда он гневался.
Рассказывают, что однажды во время охоты он повстречался с двумя валькириями. Они резвились в реке, оставив на берегу свое лебяжье оперенье. Заметив охотника, одна валькирия успела подхватить крылья и улетела, другая же замешкалась, как говорят, пораженная красотой молодого человека, и тот не дал ей улизнуть, забрал оперенье и заставил деву остаться на земле и стать его женой. Звали красавицу не то Эльрун, не то Эльвит, не то Гендуль – люди по-разному рассказывали. И многие верили, что такое действительно могло произойти.
Жена родила Храппу двух сыновей. А через девять лет бесследно исчезла. Когда Храппа спрашивали, куда он спрятал свою красавицу-жену, он обычно загадочно улыбался и укоризненно качал головой. А однажды, остро глянув в лицо назойливому соседу, так что у того затряслись поджилки, сурово ответил:
– Она отрастила крылья и улетела. Ты лучше о своей жене любопытствуй.
Храпп был не менее искусным кузнецом, чем его отец. Но после смерти Хрута он ни разу не переступил порога его кузни. Он велел построить новую кузню на берегу залива, на опушке леса, неподалеку от камня, в котором, по преданию, исчез его дед.
Рассказывают, что однажды вечером, когда другие люди легли спать, Храпп вышел на берег, столкнул в море лодку с шестью скамьями для гребцов и поплыл на ней к острову посредине залива. Там опустил за борт якорный камень, а сам бросился в воду, нырнул, поднял со дна большой валун и положил его в лодку. Затем вернулся на берег и перенес камень в новую кузницу. На нем он стал ковать.
Все это случилось вскоре после того, как исчезла его жена. И надо сказать, что камень этот огромный, и теперь его не поднять и вчетвером. А Храпп, насколько известно, никогда не отличался особой силой.
IV
Вот какими были прадед, дед и отец Квельдэйнара, Вечернего Эйнара. Все – темноволосые. Все предпочитали носить черные одежды, даже по праздникам. И поговаривали, что мыс, на котором стоял их хутор, именно поэтому назывался Свартнес, Черный Мыс.
Некоторые соседи и хутор называли Черным, но в народе он был больше известен как Хутор Дымов. В этих местах ветер чаще всего дует со стороны моря, и тогда над хутором стелется дым от кузни. А ведь и Храпп, и отец его Хрут были кузнецами и очень любили свою работу.
Хутор Дымов находится на Черном Мысе, в трех днях пути от города Рибе, в стране, которая называлась и теперь называется Данией.
Эйнар был старшим сыном Храппа. После смерти отца он взял в свои руки хозяйство и с гордостью стал называть себя одальбондоном, йорд-дроттом и лавардером, то есть хозяином усадьбы, землевладельцем и господином своих рабов. У него было с десяток рабов и столько же разного рода наемных работников. У него были быки и коровы, козы и овцы, гуси и утки.
Особой заботой хозяина пользовались кони. Он разводил разных коней: боевых, для игр и для повседневья. Все они приносили Эйнару неплохой доход: боевые кони были непугливы, игровые чаще других одерживали победы, а путевые лошади никогда не подводили в дороге.
И все же главным делом Квельдэйнара было кузнечное ремесло. Большую часть времени он отдавал этому занятию и любил повторять, что великий герой Сигурд был кузнецом и гордился этой тяжелой работой.
Серебро у Эйнара было свое, бронзу ему привозили из Хедебю, а железо – из Смоланда.
Пожалуй, в кузнечном мастерстве Эйнар превзошел и своего деда Хрута, и своего отца Храппа. Многие называли его мечи лучшими в Дании. Квельдэйнар обычно соглашался с этим утверждением, но иногда прибавлял, что многие фризы и франки делают мечи не хуже, а некоторые и лучше его мечей.
Он был не только знаменитым оружейником. Его обручья и запястья, кольца и перстни, фибулы и пряжки на рынке в Рибе продавались по самой высокой цене. Все, к чему прикасались его руки, становилось драгоценностью. Однажды простой бронзовый пинцет он украсил головой Одина и двумя обращенными друг к другу птичьими головами. Работа была так искусно выполнена, что у воронов были видны отдельные перья, а у бога левый глаз вроде как заплыл и ослеп.
В другой раз он всех поразил своей прозорливостью. Кто-то хвалился золотым кольцом, которое он за большие деньги купил на рынке. Все восторгались и щелкали языками. А Эйнар, покрутив кольцо на ладони, сказал, что в кольце есть обман. И точно: когда наконец решили проверить и кольцо разломили, оказалось, что внутри него медь.
К тому же Квельдэйнар был скальдом, и многие его стихи помнят до сих пор, а некоторые даже приписывают себе более поздние поэты. Например, вот эти:
Кузнецу подняться
Надо утром рано.
К пламени мехами
Ветер будет позван.
Звонко по железу
Молот мой грохочет,
А мехи, как волки,
Воя, кличут бурю.
Казалось бы, рачительный и зажиточный хозяин, умелый мастер и достойный человек. Но доброй славе Эйнара сына Храппа мешало не одно, а сразу несколько обстоятельств.
Начать стоит, пожалуй, с того, что волосы и борода у него были черными, как смола, а черноволосых людей всегда опасаются и не доверяют им.
Добавить к этому надо, что своего младшего брата Хорика Эйнар выжил с хутора, и тот вынужден был отправиться служить конунгу Годфреду.
С соседями Эйнар старался не ссориться, но в гости к себе никогда не приглашал, в деревенских жертвенных пирах участвовал очень редко, а когда садился за общинный стол, то не пил ни пива, ни браги, что, понятное дело, вызывает в сотрапезниках неудовольствие и подозрения.
На рынке в Рибе Эйнар часто затевал ссоры с другими торговцами, как правило, с фризами, которых, как мы помним, хвалил, но с каждой похвалой, похоже, все сильнее их недолюбливал, и стоило ему увидеть мечевщика-фриза, как он сразу затевал ссору, перераставшую в драку. До смертоубийства дело ни разу не дошло, но несколько раз Эйнару пришлось платить виру за членовредительство. Рассказы об этих проделках распространялись по всей округе, как огонь по сухой траве.
Но больше всего доброй славе кузнеца вредило то, что утром и днем он был одним человеком, а к вечеру становился другим. Днем, когда он обычно принимал заказы, Эйнар был насмешливым, но разговорчивым. К вечеру же суровел лицом и будто еще сильнее чернел волосами и бородой. Взгляд становился мутным, движения то слишком медленными, то чересчур резкими. У него было два помощника в кузнечном деле. С одним он работал только днем, с другим – вечером и часто за полночь. Именно вечером и ночью Эйнар делал свои лучшие работы. И ночной его напарник человеком был не менее зловещим, чем его хозяин-кузнец, каким он становился по вечерам. Никто из соседей не знал в точности, кем этот напарник приходился Эйнару: рабом, вольноотпущенником, наемным работником, дальним родственником. Никто не знал его имени. Никому толком не удавалось рассмотреть его лица, потому что он появлялся на хуторе только в сумерках и лицо его всегда было скрыто под серым капюшоном.
Потому и прозвали его Серым, а Эйнара сына Храппа – Квельдэйнаром, Вечерним Эйнаром. И тут же припомнили Эйнару и его деда Полутролля, живого мертвеца, и прадеда, ушедшего в камень, а также исчезнувшую мать, якобы валькирию. Тем более, что сам Эйнар всегда поминал свою мать недобрым словом, когда наступали засушливые дни; ведь даже детям известно, что за дожди и утреннюю росу отвечают валькирии.
VI
Про жену Эйнара тоже ходили недобрые слухи. Поговаривали, что ее бабушку по отцу изнасиловал медведь. Через девять месяцев после того случая она родила сына, которого нарекли Бьерном. А от него родилась девочка, которую Бьерн назвал Берой, дескать, потому что и сам он происходил от медведя, и его дочери дедом приходился медведь.
На этой самой Бере и женился Эйнар сын Храппа.
Правду сказать, ничего медвежьего в Бере не было. Росту она была невысокого. Волосы у нее были светлые, очень красивые и такие длинные, что могли закрыть ее всю. Тихая, молчаливая, она никогда не перечила мужу, была предана ему и в большом, и в малом.
Бера родила Эйнару троих детей – двух мальчиков и одну девочку. Но все они умерли в младенчестве. И это несмотря на то, что перед каждым рождением Бере, по ее рассказам, во сне являлись норны из светлых альвов, выпрядали красивые нити и пророчили долгие годы жизни ее детям.
Три раза сны обманывали бедную женщину. Первый мальчик умер почти сразу, девочка умерла через три дня, второй сын – через девять дней.
Люди жалели Беру, и после смерти третьего ребенка даже самые злоречивые не вспоминали больше ни про медведя, ни про проделки Квельдэйнара, отца ребенка. Лишь грустно вздыхали, качали головой, и кто-то сказал:
– Что ж, видно, ничего не поделаешь. От судьбы не уйдешь.
VII
Перед рождением четвертого ребенка к Бере во сне снова пришли светлые норны, стали выпрядать длинные нити. Но следом явилась черная женщина, из рода темных альвов, прогнала светлых, объявив их обманщицами, нити их разорвала и унесла с собой.
На следующий день Бера родила мальчика.
Рассказывали, что в тот день на море был необычайный туман – он будто стена воздвигся от моря до самого неба и то надвигался на берег, то отступал.
Новорожденного, как положено, положили на пол и пошли искать отца.
Тот пришел, взглянул на младенца и говорит:
– Зачем оторвали меня от работы? Этот тоже умрет.
Бера открыла глаза и тихо сказала:
– Надо дать ему имя.
– Я уже трижды давал. Надоело, – сказал Эйнар и вышел из дома.
Но Бера, с трудом поднявшись с ложа, взяла младенца и пошла за мужем. Догнав его по дороге в кузню, снова тихо и ласково попросила, чтобы отец нарек сына. Эйнар остановился, отодвинул край пеленки, взглянул на спящего.
– Прежние были светлыми. Этот черный. Даже если выживет, едва ли из него выйдет что-нибудь путное, – проворчал Эйнар и зашагал дальше.
Еще раз надо сказать, что Бера всегда беспрекословно слушалась мужа.
Но тут она увязалась за ним, вошла в кузницу и встала у двери с младенцем на руках.
Уже наступил вечер, и в кузне раздувал горн тот самый работник, которого в народе прозвали Серым.
Эйнар, будто не замечая жены, принялся за работу.
Прошло немало времени. И Бера вдруг говорит, как обычно, тихо и ласково:
– Если ты не дашь мальчику имя, ты никогда больше не ляжешь в мою постель и придется тебе спать вот с этим Серым.
Дело, как сказано, было вечером, и Эйнар уже стал Вечерним Эйнаром. Мутным взглядом посмотрел он на жену, отшвырнул лезвие меча, над которым работал, взял маленькую заготовку и скоро сделал из нее молоточек Тора. Остудив изделие, он зачерпнул воды, облил голову младенца и сказал:
– Я, Эйнар сын Храппа, признаю этого младенца своим сыном и нарекаю его Эйнаром.
Тут помощник Эйнара, Серый, решил подать голос и сказал:
– По отцу называют, если отца уже нет в живых.
– Моего отца Храппа нет в живых и его именем я нарек своего первого сына. Его тоже не стало в живых. Хрутом, именем деда, я назвал второго своего сына. И он скоро умер… Эйнар сын Эйнара. Что тебе тут не понравилось?
– Смотри, как бы этот новый Эйнар не свел тебя в могилу, – сказал Серый.
– Смотри, как бы я не выгнал тебя из кузницы за глупые речи, – ответил Квельдэйнар, и одна бровь у него поползла вверх к волосам, а другая стала спускаться на скулу, как это, по рассказам, случалось с его прадедом Хрольвом, а у Эйнара редко бывало, очень редко.
Никакого пира по случаю рождения сына отец не устроил.
VIII
Соврал сон. Крепким ребенком рос младший Эйнар. В три года он был таким же рослым и сильным, как другие мальчишки в шесть-семь лет. Он рано стал говорить и говорил складно, но когда играл с другими детьми, был необуздан. Он постоянно дрался. Люди стали говорить, что из-за его характера с ним будет трудно сладить.
С каждым годом он становился все более похож на отца, но волосы у него светлели.
До трех лет отец не обращал на него никакого внимания. А мать души в нем не чаяла, прощала ему все проказы и чуть ли не гордилась ими. Ребенок же, судя по всему, не испытывал к своей матери никаких нежных чувств и кричал на нее, когда ему что-то было нужно, а ему не давали.
Привязан он был только к одному человеку, к своей кормилице.
Она появилась на хуторе на следующий день после рождения младшего Эйнара и как раз тогда, когда мать ребенка, Бера, поняла, что боги не дали ей молока и ей нечем кормить младенца. Как только она это поняла, в дом вошла незнакомая женщина сурового вида, рослая и сильная, как мужчина, и спросила, не нужна ли новорожденному кормилица. И так случилось, что в это время ни на хуторе, ни в соседней деревне не оказалось ни одной женщины, у которой было бы молоко. Пришлось брать эту незваную, хотя Бере она не приглянулась.
Назвалась пришедшая Дагед. Очень древнее имя. Так звали когда-то дочь конунга Дага Могучего. Но уже давно этим именем никого не называли.
Больше всего эта неизвестно откуда явившаяся Дагед была похожа на колдунью. Но не с голоду же помирать ребенку. Решили: пусть кормит, пока не подыщут другую кормилицу. А когда наконец отыскали женщину с молоком, младенец наотрез отказался брать ее грудь. Кричал, синел и не ел, ни капельки. А из груди Дагед сосал жадно.
Дагед оставили на хуторе, и она кормила мальчика до трех лет. А тот рос, как растут герои в древних сагах.
Надо сказать, что Дагед не только кормила его своим молоком. Она вырезала на его колыбели древние руны, которых никто на хуторе не мог прочитать. Втайне от матери и других домочадцев она обливала ребенка холодной водой. Она часто гадала по медвежьей лапе, чтобы выбрать благоприятное время для того или иного занятия.
IX
Эйнару исполнилось три года, когда отец его, Квельдэйнар, впервые пристально глянул на сына и сказал:
– Сдается мне, что он вовсе не собирается умирать. Всех нас, пойди, переживет этот крепыш.
Когда Эйнару было четыре года, отец отвел его в кузницу и велел там сидеть и следить за работой. Но мальчик видом и поведением показывал, что все ему не по душе. Дня три Квельдэйнар заставлял его, а на четвертый обругал и выгнал из кузницы.
В пять лет Эйнар выглядел на все восемь. Однажды отец призвал его и сказал:
– Ты будешь пасти наших гусей.
Эйнар в ответ говорит:
– Презренная и рабья работа!
Отец отвечает:
– Ты с ней сначала справься. А потом решим, на что ты способен.
Эйнар стал пасти гусей. Было там десять гусей и с ними много гусят. Немного спустя прохожие нашли на дороге, ведущей к деревне, десять мертвых гусят, а у четырех взрослых гусей в птичнике были сломаны крылья.
Когда старшему Эйнару доложили о происшедшем, он бросил работу и пошел искать сына. Он нашел его в сарае. Рядом с ним, гадая по медвежьей лапе, сидела кормилица Дагед.
– Что ты сделал с гусями? – спросил отец.
– Гуси слишком непослушные, а гусята – неповоротливые. Надоело мне с ними возиться, – ответил сынок.
Увидев, что отец снимает с себя широкий кожаный ремень, мальчик спокойно прибавил:
– Не по мне оказалась работа. Найди мне другую.
– Сейчас найду, – сказал отец и двинулся в сторону сына.
Но тут Дагед отложила в сторону медвежью лапу, подняла с земли топор и, заслонив своим рослым телом воспитанника, шагнула навстречу Квельдэйнару.
Оба остановились в двух шагах друг от друга.
Женщина не проронила ни слова. А мужчина, разведя брови вверх и вниз, после долгого молчания сказал:
– Никогда не связывался с женщинами. И сейчас не стану.
Тем дело и окончилось.
X
Эйнару было шесть лет, когда деревенские мальчишки затеяли игру в мяч. Был среди игравших парень двенадцати лет по имени Магни. Он так сильно толкнул Эйнара, что тот упал. А Магни, вместо того чтобы извиниться, когда Эйнар поднялся, снова толкнул его на землю. И так несколько раз делал, а другие мальчишки смеялись.
Плача Эйнар прибежал на хутор, и там его увидела Дагед.
– От чего плачешь? От боли? От обиды? – спросила она.
– От обиды, – ответил Эйнар.
– Мужчина может плакать только от ненависти. Но лучше вообще не плакать, – сказала кормилица.
Потом она куда-то ушла, и до вечера ее не было на хуторе.
А когда Эйнар шел ужинать, Дагед остановила его у входа в большой дом, протянула кусок мяса и велела съесть перед едой. Эйнар съел.
На следующий день деревенские снова играли в мяч. Эйнар пришел на поле и, подойдя к Магни, сказал:
– Вчера ты сильно огорчил меня. Не хочешь ли извиниться?
Магни сначала удивился, а потом засмеялся. Следом засмеялись другие.
– Ну, как знаешь, – сказал Эйнар, выхватил из-за пазухи камень и ударил им обидчика по голове. Тот упал и лежал без движения.
Дети смеяться перестали. А Эйнар спросил их:
– Стало не весело? Хотите и вас рассмешу?
Мальчишки убежали. Эйнар же отправился домой.
Увидев кормилицу, Эйнар заговорил с ней и спросил:
– Что ты мне дала вчера?
– Почему спрашиваешь?
– Сегодня утром я почувствовал под каждым ребром ненависть. Я пошел и убил его, – сказал Эйнар.
А Дагед в ответ:
– Нет, не убил. Он поправится. Убийства тебе еще предстоят. Много убийств.
Маленький Эйнар нахмурился. Дагед сказала:
– Я изжарила на вертеле сердце волка и дала тебе съесть. Ты ведь рожден для большой жизни и должен уметь за себя постоять.
Это случилось осенью. И той же осенью Дагед стала заставлять Эйнара плавать в холодной воде залива. Она плавала вместе с ним, с каждым разом увеличивая расстояние.
Эйнар во всем подчинялся своей кормилице. Он только ее слушался.
XI
С шести лет Эйнар стал ухаживать за лошадьми. В семь лет Дагед посадила его на коня. Когда старший Эйнар увидел сына на лошади, он запретил ему ездить верхом, чтобы не покалечиться, а если ему нравятся кони, пусть он продолжает за ними ухаживать.
Эйнар перестал ухаживать за лошадьми, но стоило отцу куда-нибудь отлучиться, садился на коня, и на всякого: обычного и боевого, пугливого и смирного.
Однажды отец раньше обычного вернулся на хутор и увидел, как сын на коне прыгает через невысокую плетеную ограду. Старшему Эйнару понравилось, как сын сидит в седле и как управляет лошадью, он отменил свой запрет и разрешил ездить на лошадях. И с той поры Эйнар перестал садиться верхом и даже на конюшню не заходил.
Эйнару было восемь лет, когда он однажды попросил отца взять его с собой на ярмарку в Рибе.
– Не возьму, – говорит Квельдэйнар. – Ты пока не умеешь держать себя на людях.
Конюха на хуторе тогда не было, и Квельдэйнар велел сыну оседлать ему коня. Тот пошел в хлев, выбрал самого большого козла, одел на него седло, подвел к дому и сказал, что конь оседлан. Старший Эйнар вышел, увидел и сказал:
– По всему видно, что ты на меня в обиде. Не пойму, однако, за что?
– Ты для меня как бог, – ответил младший Эйнар. – А Тор, как рассказывает Дагед, ездит на козлах, Тангниостре и Тангриснире.
– Тор ездит не на козлах, а на колеснице, запряженной козлами. А ведьма твоя стала чересчур разговорчивой, – усмехнулся отец, распряг козла и ушел на конюшню.
Надо заметить, что эту шутку с козлом Эйнар Эйнарссон датчанин первым проделал. А Эгиль Скаллагримссон, норвежец из известной саги, эту проделку лишь повторил.
Квельдэйнар на ярмарке в Рибе рассказывал своим знакомым, что сын его не только научился безобразничать, но умеет так оправдать свои проказы, что они и безобразием не кажутся.
С тех пор старший Эйнар стал приглашать младшего играть с ним в мяч. Ведь никто из деревенских после того случая с Магни не желал иметь дело с Эйнаром сыном Квельдэйнара.
XII
Эйнару только исполнилось десять лет, когда произошло вот что. Играли в мяч на берегу залива. Отец – в одной команде, сын – в другой. Сначала выигрывала команда, в которой играл Эйнар младший. Вечером же, после захода солнца, стала выигрывать другая команда. Отец сделался таким сильным, что схватил одного игрока, поднял его и так швырнул оземь, что сломал ему руку и ногу. Младший Эйнар попытался помочь бедняге, и тогда отец кинулся на него.
Дагед при этом присутствовала и сказала:
– Совсем озверел волчара! На родного сына бросается!
Отец отпустил Эйнара и бросился на кормилицу. Она увернулась и побежала, Квельдэйнар – за ней. Они добежали до края мыса, и женщина прыгнула в воду. Квельдэйнар бросил ей вслед большой камень и попал ей между лопаток. Она исчезла под водой и не всплыла.
Поздно вечером люди сели за столы. Младший Эйнар не занял своего места. Он подошел к ночному помощнику, которого звали Серым, и ударил его ножом. Серый тут же упал со скамьи. А Эйнар вышел во двор. Он был в таком волнении, что лицо его делалось то красным, как кровь, то бледным, как трава, то синим, как смерть. Никто за ним не пошел.
XIII
На следующее утро стали искать младшего Эйнара, но нигде не нашли.
Когда через три дня он не объявился, старший Эйнар под вечер велел оседлать и привести ему лошадь. Собравшись, он вышел из дома со своими сундуками с серебром, сел на лошадь и уехал в противоположную сторону от залива. А утром, когда люди встали, они увидели, что к усадьбе с восточной стороны бредет Квельдэйнар и тянет за собой коня. Но сундуков больше никто не видел, и о том, куда он спрятал свое серебро, было много догадок.
Жене своей Бере Квельдэйнар так сказал:
– Ничего не достанется твоему выродку. А мне будет с чем отправиться в Вальгаллу.
XIV
Теперь надо сказать, куда делся Эйнар сын Квельдэйнара. Тем же вечером, когда он ударил ножом Серого, он ушел из дома и двинулся на север. Он дошел до Рибе и там остался.
В Рибе он прожил то ли два, то ли три года. О его жизни там мало что известно.
Известно, однако, что он больше не называл себя Эйнаром, а назвался Храппом, по имени своего деда. Но мы продолжим называть его Эйнаром, чтобы не возникло путаницы.
Рассказывают также, что он обосновался у сюслуманна Асгейра, управителя округа, человека богатого и влиятельного. И вот как он к нему попал.
Он вошел в дом Асгейра, когда тот и его люди сидели за вечерней трапезой, растолкал слуг, прыгнул на колени к Асгейру и так крепко ухватил его за шею, что никто не мог оторвать мальчишку от хозяина дома. А потом, все еще сидя на коленях, заявил, что он сидел на коленях у Асгейра и тот теперь должен быть его воспитателем, если уважает обычаи и соблюдает законы.
Асгейра выходка Храппа-Эйнара весьма удивила. Но он был человеком дерзким, служил Харальду, сыну умершего конунга Годфреда, и дерзость мальчишки пришлась ему по душе. Такой пригодится в хозяйстве, решил Асгейр и оставил парня у себя.
Эйнар вел себя достойно, помогал конюху ухаживать за лошадьми, старательно выполнял различные поручения хозяина, но когда в город съезжались торговцы и устраивались ярмарки, сказывался больным и не выходил из дома. И нам должно быть понятно, почему он так поступал. Ведь именно в Рибе чаще всего отправлялся по торговым делам отец Эйнара, Квельдэйнар.
У Асгейра было два сына и одна дочь. Сыновья сначала недоверчиво и высокомерно отнеслись к Эйнару. Но когда он один раз защитил их от компании разнузданных юнцов, изменили к нему отношение. Эйнар в свои десять лет выглядел на четырнадцать, мог оказать достойный отпор даже взрослому и с ним не хотели связываться.
Дочери Асгейра Эйнар сначала очень нравился. Но потом она его невзлюбила, наверное, потому, что он совсем не уделял ей внимания. И тогда она стала подначивать братьев, говоря, что отец их привечает Эйнара больше, чем своих сыновей, что когда дело дойдет до дележа наследства, этот чужак может отнять у них большую долю. И много другого недоброго говорила про него. Так что братья снова перестали доверять Эйнару.
Они стали задевать его и подсмеиваться над ним. И чем терпеливее он сносил их насмешки, тем сильнее они верили в наговоры сестры и тем злее и обиднее становились их издевки.
И вот наступил день, когда Эйнар понял, что больше он не должен оставаться у Асгейра, потому как может не сдержаться, а калечить детей своего гостеприимца и тем более совершить еще одно убийство не входило в его планы.
Эйнар тогда еще не знал, что ночного помощника своего отца, Серого, он не убил, а лишь тяжело ранил.
Ушел Эйнар из Рибе, ни с кем не попрощавшись, и отправился дальше на север.
XV
На севере Ютландии на холме, с которого, если смотреть на запад, виден Лимфьорд, а если смотреть на восток – Каттегат, находится большая деревня под названием Алебу. Там уже тогда было много добротных домов, окруженных частоколом, а вокруг – хутора владетельных бондов, которые не только возделывали пашни, растили скот, но также занимались торговлей, пользуясь водным путем, который через Лимфьорд соединял два пролива, Каттегат со Скагерраком.
До этой деревни дошел и там остался Храпп-Эйнар, а о том, как он туда добрался, ничего не рассказывается.
Он поселился в деревне у человека по имени Гальб и стал ухаживать за его лошадьми, что, как мы знаем, он уже хорошо умел делать.
В Алебу Эйнар прожил два или три года.
Там были в моде бои молодых коней. Много народу собиралось на них; иногда приезжали даже с дальних концов Лимфьорда. Гальб иногда выставлял своих коней, но его кони редко выигрывали. Чаще всего выигрывали кони богатого и влиятельного бонда, который жил на хуторе в двух милях на восток от Алебу. Звали этого человека Герлон.
Эйнар не пропускал ни одного боя и хорошо изучил правила и приемы, коней и людей.
Однажды случилось так, что натравщик хозяина в одном из боев сломал ногу и не мог ходить. И тут вызвался Эйнар:
– Хочешь, я буду натравливать твоего коня, Гальб?
– Куда тебе, мальчишке?! – Гальб ответил. – Против тебя будут натравщики Герлона, известные ловкачи.
Эйнару тогда было лет пятнадцать. И он ответил:
– Я тоже не люблю проигрывать.
Долго спорили, но в конце концов решили, что можно попробовать.
Натравщика Герлона звали Орм. Он вышел на поле в красной одежде и серебряном поясе. На его шесте был серебряный наконечник. Эйнар же выглядел скромно.
Кони неплохо кусались. Но Орму показалось, что конь его сдает, и он незаметно для зрителей, но сильно ударил по морде коня, которого натравливал Эйнар. Увидев это, Эйнар также незаметно ударил коня Орма, еще сильнее, и конь Орма пустился бежать, а зрители заулюлюкали. Тогда Орм стукнул Эйнара шестом, и удар пришелся в бровь, так что глаз весь заплыл. Это уже все люди видели и кричали, что Орма надо наказать, а победу присудить коню Гальба. Судья объявил Гальба победителем, а Орма не стал наказывать, побоявшись его хозяина Герлона, властного и сурового. Эйнар же оторвал лоскут от полы рубахи и завязал бровь.
Гальб широко отпраздновал победу, которой у него давно не было. Но объявил, что на следующий день не будет выставлять коня, так как боится за Эйнара, которому Герлон и его молодцы не простят поражения.
– Я никогда не считал себя трусом, – сказал Эйнар и спросил: – А ты кем себя считаешь, Гальб?
На этот раз они спорили дольше, чем накануне, но гости все же уговорили Гальба рискнуть и показать Герлону, что не только его кони могут все время выигрывать.
Назавтра со стороны Герлона вышли целых два натравщика: тот же Орм и некто Бэгсиг. Эйнар был один и бровь у него была перевязана. И вот кони сшиблись и стали так яростно кусать друг друга, что их и не нужно было натравливать. Все были очень довольны. Тут Бэгсиг и Орм решили ударить своего коня так, чтобы тот толкнул коня Эйнара, и посмотреть, не упадет ли Эйнар. Кони сшиблись, Бэгсиг и Орм тут же подскочили сзади к своему коню. Но Эйнар заставил своего коня рвануться навстречу, и Орм и Бэгсиг упали навзничь, а их конь поверх них. Они сразу же вскочили и бросились на Эйнара. Тот увернулся, схватил Бэгсига и швырнул его на землю так, что тот больше не поднялся. Тогда Орм ударил посохом Эйнарова коня и вышиб ему глаз. А Эйнар своим посохом ударил Орма в переносицу, и тот лишился чувств.
Судья велел прекратить состязания. Победу никому не присудили. Гальб в тот вечер никого в гости не приглашал.
Рано утром, едва начало светать, он разбудил Эйнара и сообщил, что ночью умер от раны Орм, любимый натравщик Герлона, что, скорее всего, Герлон и его слуги сейчас седлают лошадей, чтобы заявиться в Алебу и расправиться с Эйнаром.
– Они тебя убьют! – шептал испуганный Гальб. – Тебе лучше скрыться. И мне лучше, чтобы ты бежал, Храпп!
– Надоело мне бегать, – спокойно ответил Эйнар, называвший себя Храппом. – Но, похоже, такую нитку выплели мне милые девы.
Эйнар вышел из дома, набросил уздечку на одного из коней. Гальб закричал, чтобы Эйнар не трогал его имущества.
– Тебе же будет лучше, если ты скажешь Герлону, что сам пострадал от меня, лишившись двух коней, – возразил ему Эйнар и ускакал.
Он поехал на запад вдоль Лимфьорда. В середине дня он бросил коня и пошел через лес на север. Погоня его не настигла.
XVI
На самом севере Ютландии есть место, где встречаются два пролива, так что волны одного накатываются на волны другого, как на скалы. Там дуют очень сильные ветры, и зимой, и летом. Там есть лишь одна деревня, которая называется Скаген. Леса там мало, он плохой, и поэтому дома строят из камня, глины и дерна. Только три дома были там деревянными, из привозного леса. В одном из них жил человек по имени Глум. Он был хозяином зажиточным и по тамошним меркам даже богатым. У него было стадо в пятьдесят овец и человек с дюжину рабов и поденщиков. К этому Глуму и нанялся работником Эйнар, который теперь назвался Хрутом, по имени своего прадеда.
Эйнару было шестнадцать лет, но выглядел он как зрелый мужчина. У него уже выросли усы и борода, которые были черными, как смола, а волосы на голове оставались по-прежнему очень светлыми. Глум велел ему пасти овец и собирать хворост, обещая за это кормить его круглый год.
Голос у Эйнара-Хрута стал зычным и грубым, и, едва он начинал кричать, скот сбивался в кучу. Так что пасти овец ему было легко. И хворосту за один раз он мог принести так много, что не приходилось часто ходить.
Хозяин это скоро приметил и велел ему вместе с другими работниками также ловить рыбу, во время ловли оставляя овец на двух служанок. Эйнар согласился при том условии, что за эту дополнительную работу Глум ему будет платить, ведь во время найма о ней не договаривались. Глум нехотя согласился, но деньги обещал заплатить на Йоль, а когда Йоль наступил, сказал, что заплатит летом, на праздник Бальдра Светлого. Глум был человеком прижимистым.
Эйнар, однако, не возражал. Он быстро научился ловить сельдь, а потом оставил других рыболовов и стал рыбачить в одиночку. Он придумал рыть глубокие ямы там, где суша и море встречались, и когда море отступало, в этих ямах задерживался палтус и некоторые другие рыбы. Скоро Эйнар один ловил не меньше рыбы, чем Глумовы слуги на лодке с сетями.
Эйнар был умелым работником, и у него всегда оставалось много свободного времени. Он его тратил на то, что наблюдал за птицами и за рыбами. Он ведь, как мы помним, с малых лет научился плавать и нырять в морской воде. Он подружился с одним осьминогом, и они чуть ли не каждый день встречались под водой; осьминог протягивал ему свои щупальца, а Эйнар гладил их рукой. У осьминога он учился прятаться и нападать из засады, а у чаек обучался дерзости, внезапности нападения, безжалостности, настойчивости и терпению. Так он сам потом рассказывал, когда вспоминал о своей жизни в Скагене.
XVII
Эйнар прожил у Глума без малого год, когда Глум после праздника Бальдра отправился на юг, а вернувшись, позвал Эйнара и имел с ним такую беседу наедине.
– Был я в Алебу на Лимфьорде, – сказал Глум. – Там прошлой весной совершены были убийство и кража коня. Человека, который это сделал, звали Храпп. Он был примерно твоего роста и возраста. Что ты мне скажешь?
– Скажу, что Храпп и Хрут – разные имена, – ответил Эйнар.
– Разные-то разные, – продолжал хозяин. – Но у того Храппа, как и у тебя, волосы были очень светлые, а на лице пробивалась черная щетина. Таких молодцов я что-то не встречал в округе. Что ты на это мне скажешь?
– Мало ли разноцветных, – усмехнулся Эйнар и добавил: – Если тебе не нравится, я сбрею усы и бороду.
– Мне не понравится, если эти люди из Алебу явятся сюда и обвинят меня в том, что я скрываю преступника. Они за твою поимку назначили хорошую цену, – сообщил Глум.
– Сколько?
– Десять марок серебром. Деньги немалые.
– Ты хочешь прогнать меня? – спросил Эйнар.
– Я не бросаю людей в беде, – сказал Глум. – Но я хочу перезаключить с тобой договор. Я ведь сильно рискую, помогая тебе.
– Давай попробуем снова договориться, – отвечал Эйнар.
И они договорились о том, что Хрут, он же Эйнар, остается у Глума, но жить будет не в доме, а в корабельном сарае на берегу пролива. Глум также выставил условие, что он больше не будет платить Эйнару за дополнительную работу и деньги, которые он ему задолжал, тоже оставит себе в качестве платы за опасность, которой он себя подвергает. Пришлось Эйнару согласиться. Другого выхода он не нашел.
Осенью к этим условиям хозяин добавил новые. Эйнару было велено не только пасти овец, приносить хворост и ловить рыбу, но также собирать камни и дерн для строительства.
Потом добавилось новое занятие – жечь уголь и резать торф на топливо. Рабы и слуги стали за глаза называть Эйнара кто Уголь-Хрутом, а кто – Торф-Хрутом.
У Эйнара теперь не оставалось времени на отдых, ему приходилось трудиться с раннего утра до позднего вечера, а ночью кутаться в плащ в холодном корабельном сарае. Ревел Скагеррак, рычал ветер в кровле.
Прошла зима, наступила весна. Весна в Скагене очень холодная. И Глум однажды велел Эйнару по вечерам тереть ему спину возле огня.
– Ну, это уже совсем рабья работа, – заметил Эйнар.
– Надо трудиться, чтобы заработать ту еду, которую я тебе даю. Ты ешь больше, чем два моих раба, – ответил Глум.
– А работаю я за трех рабов, – сказал Эйнар.
– Если тебя поймают, тебе придется намного хуже, – усмехнулся Глум.
XVIII
Наступило лето. И тогда вот что случилось.
Как-то раз поздно вечером Эйнар тер у огня Глуму спину и неожиданно связал тому сзади руки.
– Это зачем? – спросил Глум, и больше уже ничего не смог спросить, потому что Эйнар заткнул ему рот тряпкой.
– Что-то мне перестал нравиться наш новый договор, – признался Эйнар. – Давай вернемся к первому. Заплати мне за работу.
Глум покраснел, как кровь, но сидел без движения.
Тогда Эйнар взял ветку, зажег ее в очаге и сказал:
– Похоже, мне придется сильнее погреть тебе спину.
Глум побледнел, как трава, вскочил со скамьи и бросился к выходу. Но Эйнар опрокинул его ударом кулака.
– Ты и вправду кормил меня хорошо. Сил у меня не убивалось, – усмехнулся Эйнар и поднес горящую ветку к лицу Глума.
Тот посинел, как смерть, и замычал из-под тряпки. А Эйнар сказал:
– Покажи, где ты прячешь деньги. Тогда греться не будем.
Глум с руками за спиной и с тряпкой во рту вышел во двор. Эйнар за ним, поддерживая хозяина. Было темно, и люди, которые еще не спали, ничего подозрительного не заметили. Возле сеновала было большое и удобное отхожее место, в которое только Глум заходил, а другим запрещено было пользоваться. В этом нужнике было потайное углубление, а в нем сундук, в котором хозяин прятал свое богатство.
Эйнар отсчитал десять марок серебром.
– Вот я и получил за свою голову, – сказал он, поясом связал Глуму еще и ноги, запер снаружи дверь нужника и вышел со двора.
XIX
Утром хозяина сначала хватились, затем обнаружили, и тот сразу организовал погоню за Эйнаром.
Но Эйнара они не настигли. Он шел по ночам. А утром вырезал в дюнах полоску дерна и заползал под нее до вечера.
В семи морских милях от Скагена, на берегу другого пролива есть место под названием Каттен. Там часто останавливаются корабли, плывущие из одного моря в другое.
Там через несколько дней после событий, о которых было рассказано, объявился под вечер наголо обритый человек. Разузнав, какой из кораблей плывет на север, он отыскал корабельщика и попросил отвезти его в Северные Страны.
Тут надо сказать, что тогда еще не было названия «Норвегия» (Северный путь), и люди называли отдельные местности: Эстфольд, Вестфольд, Агдир, Страна Рогов, Страна Хердов и так далее на север, а когда надо было назвать все местности разом, говорили «Северные Страны» или попросту «Север».
Корабельщика звали Ламбертом. Он был фризом и люди его были из Страны Фризов. Между фризом и пришедшим состоялся такой разговор.
– Как твое имя? – спросил фриз.
– Мое имя Хрольв, – ответил бритоголовый.
– Сколько платишь за путешествие?
– Десять марок.
Ламберт нахмурился и велел:
– Покажи деньги.
Бритоголовый показал. А корабельщик еще сильнее нахмурился, подумал и спросил:
– Почему так много платишь?
– Чтобы ты больше не задавал вопросов, – ответил тот, кто назвал себя Хрольвом, и спрятал деньги в пояс.
Фриз кивнул и ответил:
– Договорились. Спрашивать не буду. Но должен сказать, что вчера ко мне приходили люди из местных. У них бежал раб по имени то ли Хрут, то ли Храпп. Они обещали мне денег, если я помогу им найти беглеца.
– Сколько? – спросил бритоголовый.
– Три марки, – ответил корабельщик. И его собеседник сказал:
– Повторяю: мое имя Хрольв. Я никогда не был рабом и никогда не жалел денег для тех, кто мне помогает. Заметил разницу?
Фриз усмехнулся и ничего больше не спрашивал.
На следующее утро подул попутный ветер, и фризский корабль как раз собирался отчалить, когда к нему подъехали две лодки и в них дюжины две вооруженных людей. Не спрашивая разрешения, они обыскали корабль, во все мешки и во все бочки заглянули, но никого не нашли. Ни с чем вернулись на берег.
Корабль же вышел на веслах в пролив. И когда уже далеко было до берега, корабельщик велел спустить парус. В свернутом на рее парусе фриз велел на всякий случай спрятать Хрольва-Хрута-Храппа-Эйнара.
Бывалым и ловким был Ламберт, знал разницу в ценах и выгоды старался не упускать.
Глава третья
Утро Профессора
Бессонную ночь провел несчастный Профессор.
Он всегда трудно засыпал на новом месте и часто просыпался. А тут еще этот чертов Митя! («Чертов» было самым, как сейчас говорят, политкорректным эпитетом, которым Сенявин награждал своего соседа.)
Митя кашлял то коротко и часто, то изредка, но подолгу. И долго он начинал кашлять именно в те моменты, когда к Андрею Владимировичу подступал сон и, казалось, вот-вот должен был его окутать. Когда в третий или в четвертый раз Профессор, как можно глубже запихнув беруши, уже приготовился забыться и из соседнего алькова раздался надрывный, какой-то скрежещущий кашель, как будто в соседнем помещении не человек хрипел и давился, а долбили асфальт, Профессор вспомнил вдруг Достоевского.
Есть у великого русского писателя сочинение под названием «Записки из подполья». И в нем, в этом сочинении, герой заявляет, что хотя он никакой пользы не принесет себе стонами, однако непременно будет стонать, с руладами и с вывертами: да, дескать, всем в доме спать не даю, так вот не спите, чувствуйте каждую минуту, что у меня зубы болят. И хотя Андрей Владимирович прекрасно понимал, что кашель и стоны, тем более «со злостью и сладострастием», как у Достоевского, суть совершенно разные физиологические проявления страдающего организма, все же чем далее, тем более ему представлялось, что этот… пусть будет чертов… Митя кашляет и хрипит именно для того, чтобы досадить ему, Андрею Сенявину.
Разные мысли вспыхивали и копошились в сознании Профессора. Он, например, принимался ненавидеть себя за то, что по собственной же воле отказался от комнаты возле туалета и душевой, в которой теперь, наверняка, сладко дремал Телеведущий, потому как в той комнате была дверь и там было значительно дальше от Мити с его кашлем.
Несколько раз Андрея Владимировича подмывало встать с постели, разыскать Драйвера, разбудить его и сначала наорать, а затем гневно объявить, что он, Сенявин, сейчас же уедет с… пусть будет треклятой… базы, если ему не обеспечат нормального ночного отдыха.
Один раз, дабы унять охватившую его нервную дрожь, Профессор даже сел и спустил ноги на пол, но тут у него в мозгу вскипела следующая мысль: «Где я теперь найду безносого карлика? Не проще ли пойти в соседнюю комнату и прикрыть подушкой голову этому чахоточному? Слегка придавить, чтобы он затих. Ведь мучается человек и меня мучает!» Мысль эта тут же показалась Андрею Владимировичу такой, с одной стороны, логичной, а с другой, дикой и ужасной, что Профессор испуганно откинулся на постель и стал ожидать нового приступа кашля из соседнего алькова.
Кашель долго не повторялся. А Профессор теперь ждал его, не совсем понимая, зачем он его ожидает, но где-то глубоко внутри себя чувствуя, что с каждым кашлем к нему приходит новая мысль, и мысль эту можно обсасывать, как леденец, и развлекаться среди бессонницы.
И точно: после того, как сосед пробухал (он теперь мерно бухал, как будто сваи забивали), к Сенявину прикатился целый клубок мыслей, в сердцевине которого находился профессор Годин.
Николай Иванович Годин заведовал кафедрой психологии в университете, и у него с Сенявиным были не то чтобы дружеские (Профессор по-настоящему ни с кем не дружил), а, как говорят дипломаты, конструктивные и взаимовыгодные отношения. И когда после разговора Сенявина с ректором и вследствие молвы, мгновенно разлетевшейся по университету, многие стали избегать Андрея Владимировича, а некоторые при встрече перестали с ним здороваться (в их числе даже некоторые сотрудники кафедры истории, с которыми вместе служили), профессор Годин не только не примкнул к их трусливой когорте, а на следующий день после вызова к ректору, встретившись с Сенявиным в университетском коридоре, демонстративно обнял коллегу (в коридоре при этом было много народу, не только студентов, но и преподавателей), дружески беседовал с ним на нарочито посторонние темы, а в конце разговора предложил съездить на рыбалку, «дабы перезагрузиться» – так он выразился. Уже на следующий день он позвонил Сенявину и сообщил, что забронировал для себя и для него два места и отдельную лодку на элитной рыболовной базе «Ладога-клуб». Своими научными исследованиями завкафедрой Годин отнюдь не блистал, однако был почти всероссийски известен рыболовными достижениями: он неоднократно становился чемпионом каких-то соревнований.
И вот нате вам, здрасте! Не только не приехал, но и не предупредил о том, что манкирует. Как сие следует интерпретировать? – размышлял теперь бессонный Профессор. Какие такие «печали» возникли у «того самого Иваныча», как выразился драйвер Петрович? Что-то действительно серьезное в последний момент задержало Николая Ивановича в Петербурге? Но он к рыбалке относился не менее серьезно, чем к борьбе с административно-научными конкурентами. И почему не позвонил? Неужто в последний момент испугался, что спутался с опальным Сенявиным? Но он, Годин, никого не боялся, потому, что был в самых доверительных и деловых отношениях с ректором. Хотя бы предупредить по телефону можно было, наверное, в любом случае! Или он, Андрей Владимирович, теперь так низко пал в глазах общественности, что и утруждать себя с ним не стоило? Такие являвшиеся ему мысли Профессор обсасывал в перерывах между Митиным кашлем. И старался распределять под каждый перерыв отдельную мысль.
Однако на последней мысли очередной перерыв затянулся. Ожидая нового приступа, Профессор, похоже, на некоторое время расслабился, перестал злиться на соседа и сетовать на свою бессонницу.
И тут в комнату вбежала волчица. Она с ненавистью глянула на Профессора желтыми глазами, угрожающе оскалила пасть, а потом сдернула с Андрея Владимировича одеяло и оттащила его в угол комнаты. На это одеяло тут же улегся волчонок, невесть откуда взявшийся. Волчица то облизывала его, то подходила к Профессору, скалясь и угрожая, а потом снова отходила к волчонку, чтобы облизать и приголубить.
Ни удивления, ни тем более страха Профессор не испытал, а лишь одну щемящую досаду. Без одеяла ему сделалось зябко, и он решил подняться с постели. Но когда он привстал и попытался спустить на пол ноги, то увидел, что ног у него нет, а вместо них – две когтистые волчьи лапы. И самое удивительное, что он по-прежнему не удивился этой произошедшей с ним трансформации. И лишь еще тоскливее и досаднее ему стало. И тут в соседней комнате залился, закашлялся Митя.
Профессор посмотрел на часы. Было половина четвертого. Стало быть, сон длился не более получаса, потому как, когда Андрей Владимирович обсасывал свою последнюю мысль, про Година и ректора, он тоже посмотрел на часы, и на них было без пяти минут три.
Откашлявшись, Митя затих. Профессор же, подняв с пола соскользнувшее одеяло, укрылся им и в ожидании следующего приступа лежал, ни о чем конкретно не думая…
Через полчаса Профессор снова проснулся.
Он встал, потеплее оделся и вышел из спальни.
Проходя мимо Митиной спальни, Профессор как бы случайно толкнул одну из скамеек; при этом в глубине души он заранее и наверное знал, что он ее случайно толкнет. Скамья, отлетая в сторону, зацарапала и загрохотала ножками по полу. Профессор выждал, не раздастся ли какого-нибудь звука из ненавистного алькова. Но все было тихо. И тогда Сенявин, уже не обманывая себя, что, дескать, случайно, с шумом и скрежетом вернул скамейку на место и вышел из зала в прихожую, а оттуда – на улицу.
…Направляясь к воротам, Профессор пребывал в полной уверенности, что они заперты и никто их ему не откроет. Но стоило ему к ним подойти, как одна створка тут же медленно поползла в сторону. Сенявин шагнул в образовавшийся проем, и створка ворот тут же вернулась на место.
Асфальтовая дорога, на которой оказался Андрей Владимирович, шла вправо и влево по берегу озера. Налево она чуть поднималась в гору и вдалеке упиралась то ли в большую скалу, то ли в плотное нагромождение камней. Направо дорога вела в сторону населенного пункта, незнакомого Профессору, потому как накануне он не проходил через него, а пришел с железнодорожной станции по другой дороге.
Профессор пошел налево.
Сделав с десяток шагов, он увидел, что на середине дороги лежит кошка. «Сейчас вскочит и перебежит мне дорогу», – подумал Профессор и нахмурился.
Однако, подойдя ближе, Сенявин увидел, что кошка дохлая – вытянув лапы, она лежала на боку, и рот у нее был оскален.
Профессор передернул плечами, повернулся и пошел в обратном направлении.
Проходя мимо ворот «Ладога-клуба», Профессор с досадой подумал: «Начинать утро с дохлой кошки. Как неудачно!»
Дойдя до того места, где в береговую дорогу упиралась дорога, ведшая на станцию, Сенявин подумал: «Ее раздавили? Или она сдохла в другом месте? А какой-то хулиган принес и положил ее на середину дороги?»
Профессор остановился и некоторое время стоял, как бы задумчиво оглаживая бороду, но на самом деле ни о чем определенном не думая. Затем двинулся дальше.
Перед въездом в селение стоял выцветший от времени дорожный знак, возвещавший: «д. ТУПИКОВО». Эта состарившаяся фабричная надпись была перечеркнута и поверх красной масляной краской кто-то начертал: «НЬЮ ЙОРК», без дефиса. Под знаком же, на том же ветхом, покосившемся столбике, красовалась новенькая металлическая табличка, на которой чисто-белым по ярко-синему было напечатано: «ПОСЕЛОК НАХОДИТСЯ ПОД ОХРАНОЙ АГЕНТСТВА ЛАРК-БЕЗОПАСНОСТЬ», на сей раз с дефисом, но без кавычек.
Сразу же за знаком асфальт заканчивался, и дорога становилась грунтовой. «Если здесь нет асфальта, – тут же подумалось Профессору, – а на той дороге, которая ведет к скале, он есть, то, похоже, по той, асфальтовой, чаще ездят. И кошку могут не заметить и раздавить, несмотря на белые ночи. Размажут по асфальту…»
Но скоро Профессор перестал думать о кошке, потому что все его внимание захватили дома в Тупиково. Две или три избы были полностью развалившимися: крыши в них рухнули внутрь, обнажив гнилые стропила. Другие дома еще не утратили целостности, но окна в них были заколочены, а на участках росли сорняки в человеческий рост. Поблизости же от них (иногда напротив через дорогу, а иногда на той же стороне, забор в забор) располагались весьма ухоженные пятистенки с разноцветными резными наличниками и затейливой резьбой на коньках и фронтонах. На одном из торцов красовалась новейшая спутниковая антенна, размерами в половину фронтона.
И совсем уже странно среди этого, с позволения сказать, архитектурно-исторического разнообразия смотрелись кирпичные коттеджи под яркими металлочерепичными крышами, упрятанные за строго-коричневые или мрачно-синие стальные заборы и своими тяжеловесными объемами подавлявшие земельный участок.
Весьма странной была и нумерация домов. В начале деревни (если верить дорожному знаку) или поселка (если довериться охранному агентству) стояла изба под номером 1, а рядом с ней, за высоким забором – коттедж номер 43, за которым следовал еще один коттедж под номером 1А. С другой же стороны улицы номера были исключительно с дробями, и на одном доме даже значилось «13/2а».
И надписи, объявления, печатные и от руки, чуть ли не на каждом фонарном столбе, на каждом более или менее представительном дереве: «СТРОИМ Дома Дачи Бани», «Реконструкция и ремонт Заборы и крыши», «Удалим Деревья и пни Обрезка сада», «Дизтопливо Доставка от 1000 л», «Бурим на воду», «Котлованы Рытье Засыпка» и тому подобное. На развалившемся заборе, за которым кроме бурьяна вообще ничего не было, – «Монтаж Сантехники Электрики Отопления». На дереве возле избы с провалившейся крышей – «Усиление сотовой связи» и рядом «Кроты, крысы, комары». И везде номера телефонов, почти всегда мобильные и лишь однажды питерский городской.
На одном объявлении были сразу три мобильных номера и надпись, которую, не веря своим глазам, Профессор прочел несколько раз, прежде чем развести руками и покачать головой. Надпись гласила: «МИСС ЗАНЯТОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Возраст: 20–30 лет. Заявки принимаются до 1 июля 2012 года». «Это по каким же профессиям занятость?» – естественно спросилось Андрею Владимировичу, и он даже стал озираться по сторонам, словно надеясь в сей ранний час увидеть хоть какого-нибудь другого человека, к которому можно было бы подойти и уже озвучить этот игривый вопросец.
Но, как у всеми любимого классика, «пуста была аллейка». И Сенявин пошел дальше, несколько раз вслух коротко хихикнув дискантом и один раз почти басом страдальчески воскликнув: «Бедная страна!»
Скоро, однако, в этот ранний час (было начало шестого) Профессор увидел первых людей. Когда нагромождение домов со стороны озера прервалось, в образовавшемся просвете Сенявин разглядел недалеко от берега небольшой плотик, на нем – стул, а на стуле – старика в телогрейке, шапке-ушанке, с длинной жердиной в руках, которая, судя по всему, служила удилищем. В утреннем обманчивом освещении и в туманной испарине озера плотик, казалось, завис над водой, не касаясь ее поверхности, а дед в ушанке являл собой странное изваяние, потому как ни он сам, ни его удочка-жердь совершенно не двигались.
Далее прогуливавшегося Профессора снова с обеих сторон обступили дома, среди которых коттеджей становилось все меньше. А ближе к центру селения с правой стороны питерский гость увидел березовый бурелом, который когда-то, наверное, был березовой рощицей. Перед буреломом стояла полуразвалившаяся кирпичная арка, поверх которой известью было выведено «Парк Победы». А ежели встать внутрь этой арки (Андрей Владимирович так и поступил) и попытаться пробиться взглядом сквозь ветки и сучья бурелома, то в глубине зарослей можно было угадать крашенный серебрянкой памятник солдату; именно угадать благодаря надписи на арке, потому как без нее белевший в чащобе силуэт запросто можно было принять за что угодно.
Напротив «Парка Победы» со стороны озера на нешироком лужке паслись три коровы. Профессор обратил внимание на то, что все они были, как сказано в Писании, «дурные видом и тощие плотию». Перед коровами на пеньке сидела женщина непонятного возраста. На голове у нее была светлая косынка, на плечах ватник, из-под ватника до самых ступней спускалась черная юбка, прикрывавшая то ли резиновые сапоги, то ли боты, которые носили еще бабушки тех, которые уже сами давно стали бабушками. Женщина была в очках и читала большую книгу, лежавшую у нее на коленях.
Профессор направился к пастушке. Приблизившись к ней, он хотел спросить: «Вы, я надеюсь, уже подали заявление на конкурс «Мисс Занятость»?» Но вместо этого объявил, придав своему голосу восторженную интонацию:
– Представьте себе, впервые вижу пастуха, который читает книги!
Женщина, однако, не оценила общительное радушие незнакомца, еще ниже склонилась к книге и ответила укоризненно, тщательно выговаривая каждое слово:
– А что, по-вашему, в деревне не могут читать книги?
У Профессора сразу же пропала охота общаться и он отошел от женщины, на ходу произнося:
– Хэ! Могут… Хм. Конечно, могут… Х-хм. Только в деревне, пожалуй, и могут… «Пока не произойдет очередное усиление сотовой связи», – уже мысленно закончил Профессор.
Дальше снова потянулись дома и избы с обеих сторон дороги, а в дальнем конце поселка виднелись колокольня и церковь.
Именно «колокольня и церковь», потому как, судя по кирпичным обломкам, между колокольней и церковью когда-то был крытый проход, и главный вход в церковь вел через колокольню. Но теперь они стояли разобщенно, и вход в колокольню закрывала массивная чугунная дверь, а входной проем храма перегораживала ржавая решетка, сквозь которую можно было обозреть и притвор, и центральную часть, и даже часть алтаря. На ржавой решетке висел еще более ржавый амбарный замок. И тут в тяжелую от пережитой бессонницы голову Профессора вплыли строки, которые он знал наизусть, потому что часто цитировал своим студентам: «Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения».
Церковь, к которой подошел Профессор, была, впрочем, из кирпича и купол на ней был единственный и круглый. Но лучше бы ее «убирал» зеленый мох, потому как в своей щербатой и грязной облупленности она, пожалуй, выглядела еще более вопиюще запущенной, чем у Гоголя.
Профессор с досадой ударил кончиками пальцев по замку – тот сразу же разомкнулся и шумно упал на остатки каменного настила, а решетчатая дверь, из-за сильного перекоса, с угрожающим скрипом стала надвигаться на Сенявина, так что ему пришлось выставить вперед руку, чтобы ржавая створка его не ударила.
Профессор вошел в церковь, вернее, в то, что от нее осталось. И снова ему вплыло в память из «Вия»: «Отдельные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость… лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся».
Профессор тоже «обсмотрелся» и увидел, что иконостас едва ли можно назвать иконостасом, ибо лишь один его ряд заполнен пестрыми безыскусными иконами, а другие ряды зияют пустыми квадратами и прямоугольниками и пахнут свежеструганной древесиной. В абсиде вроде бы есть нечто похожее на престол, покрытый чуть ли не кухонной клеенкой. Правая стена храма наспех побелена и на ней красуются одинокие и еще более убогие иконы, две из них – определенно бумажные. А левую стену еще не успели побелить, и на ней можно различить надписи, которые, похоже, пытались стереть, но до конца не сподобились. Эти надписи одну за другой, страдая лицом, Сенявин прочел. Над правым окном, за которым виднелось озеро, красной краской было крупно написано: «У НАС НЕ КУРЯТ». Над левым окном, подступ к которому преграждал отопительный котел, зеленой краской было еще крупнее начертано: «СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ». А сбоку от окон виднелись менее крупные и наполовину уничтоженные черные надписи: справа от правого – «Лучше быть углом, чем поклонником NIRVANA»; слева от него же – «Лучше жрать колбасу, чем…», далее неразборчиво; и слева от левого окна – «Здесь были Вар…», окончание фразы было густо замазано известкой, так что виднелись три последовательных слоя замазки.
Все это обозрев, Профессор, как он это всегда делал, войдя в церковь, тихо прочел шесть молитв, в том порядке, который он сам для себя установил.
Прочтя «Отче наш», Сенявин вдруг подумал: «Надо было убрать кошку с дороги».
После короткой Иисусовой молитвы Андрей Владимирович ни о чем подумать не успел.
Но во время молитвы Святому Духу, на словах «и очисти ны от всякия скверны», Профессору подумалось: «А как я ее мог убрать? Чем мне ее было взять? Не руками же!» Мысль эта настолько неурочно и бесцеремонно вторглась в сознание Андрея Владимировича, что Сенявин переврал заключительные слова молитвы и вместо «спаси, Блаже, души наша» прочел «спаси, Боже, души наша», но вовремя заметил ошибку, рассердился на себя и повторно прочел молитву от начала, как он это всегда делал, когда ошибался в чтении или ловил себя на том, что думает о посторонних вещах.
Чтение триптиха «Святый Боже…» совершилось без изъянов. И благополучно произнеслась молитва к Пресвятой Троице. Однако только собрался Сенявин завершить молитвенный цикл Песнью Пресвятой Богородице, как снова полезло в голову: «Ногой… или палкой… или как-то еще. Надо было что-то придумать!.. А ты побрезговал… Ее уже, наверное, раздавили… Бедное животное!»
Обычно Профессор читал только вторую часть Песни, со слов «Достойно есть…». А тут, как бы снова себя наказывая, прочел и первую, и вторую, прочел старательно, напористо, почти в полный голос. И когда кончил читать, облегченно подумалось: «Выкинь ты эту чертову кошку из головы!.. И потом все остальное начинай выкидывать… постепенно, одно за другим… Помилуй меня, Господи!»
С этими мыслями Профессор вышел из церкви, водворил на место ржавый замок и решительным шагом тронулся в обратном направлении, к базе и в сторону восходящего солнца.
Но Сенявина почти сразу окликнули:
– Батюшка! Погодите! Да погодите же!
К Профессору через дорогу вприпрыжку спешила пожилая женщина в ярко-красной поролоновой куртке с иероглифами.
Сенявин остановился и обернулся. А женщина, подбежав, радостно спросила:
– Вы когда будете исповедовать и причащать: в субботу или в воскресенье?
Лицо Профессора приобрело благодушное выражение, которое можно видеть на портрете Тургенева кисти художника Маковского. – Нравилось Андрею Владимировичу, когда его принимали за священника.
– Ни в субботу, ни в воскресенье, голубушка, – ласково ответил Сенявин.
– А когда?
– Никогда не буду.
– А почему?
– Потому что я не священнослужитель, милочка.
– Разе вы не отец Андрей?
– Андрей, золотце, и, если верить моей жене, наверно, отец. Но не ваш я отец, – улыбнулся Сенявин.
– Вот те раз!.. А как же люди говорят, что вчера вечером видели на станции нашего нового священника, отца Андрея… Это разве не вас видели?.. И Валька мне еще вчера говорит: слава Богу, приехал батюшка и исповедовать будет то ли в субботу, то ль в воскресенье!.. Значится, наврала? – женщина была так разочарована, что не могла успокоиться.
Профессор развел руки, чинно, широким, неторопливым крестом перекрестился сам, одной кистью, мелким крестиком осенил женщину и, не отвечая, продолжил свой путь. Собеседница его в китайской куртке хотя и не последовала за ним, но продолжала что-то говорить, однако неразборчиво.
Проходя мимо «Парка Победы», Профессор бросил взгляд направо. В свете восходящего над озером солнца, которое в первые минуты после восхода все вокруг делает каким-то прекрасно-нереальным и незнакомо-преображенным, показалось Сенявину, что три давешние коровы теперь не худы и не тощи, а, как сказано там же, «тучны плотию и хороши видом». Они уже не щипали траву, а выходили из воды.
Профессор едва не столкнулся с суровой пастушкой. Она вышла на дорогу с лужка, а Сенявин ее не заметил, ослепленный искрящейся дымкой.
– Что же вы нами пренебрегаете-то? – укоризненно спросила женщина. – Я все понимаю. В Федякине хорошая церковь, большая паства… Но мы ведь тоже народ православный. И в Федякине-то вы только сослужите отцу Михаилу. А здесь вы отец-настоятель!
Профессор молчал, и селянка с еще большей укоризной прибавила:
– И антиминс у вас есть, чтобы совершать литургии… Мы выклянчили деньги и купили котел, чтобы и зимой можно было служить…
Лицо у Профессора теперь стало как на репинском портрете Ивана Сергеевича, уже без тени улыбки.
– Вы обознались, любезная. Я не тот, за кого вы меня принимаете.
– Кто ж вы тогда? – строго спросила пастушка.
– Я и тогда, и теперь ученый, а не священник.
– А что вы делали в храме?
«Вам-то какое дело», – собирался ответить Профессор, но вместо этого спросил:
– Вы, часом, не матушка в этой церкви?
– Староста я.
– Тогда, матушка-староста, позвольте спросить: почему в вашей деревне такая странная нумерация на домах: скажем, дом номер один и за ним сразу дом сорок три?
Профессор был уверен, что женщина смешается от его неожиданного вопроса. Но она не смешалась и сразу ответила, еще укоризненнее:
– Так понаехали разные в нашу деревню. Склепы свои стали строить. У них свои номера, у нас – свои, прежние.
– Вот и храни вас Господь с вашей удивительной нумерацией! – воскликнул Профессор и пошел дальше.
Дед на плоту по-прежнему недвижимо сидел с удочкой. Но колдовское солнце так подсветило озеро и его туманную испарину, что теперь и плотика не было видно. И почудилось Профессору, что стул с рыболовом стоит прямо на водной глади, и что гладь эта будто асфальтовая; и тут же подумалось, что на нее можно бросить мертвую кошку и тогда ее никто не раздавит.
От этих более чем странных мыслей Сенявина отвлек другой человек.
Его присутствие Профессор обнаружил сначала по запаху перегара и лишь затем, обернувшись на запах, увидел у себя за спиной мужика, тоже в ватнике, но без ушанки, без удочки и явно не старика.
– Слышь, отец, я вот что хотел у тебя поинтересоваться. Позволишь? – спросил подошедший.
– Давай, интересуйся, – миролюбиво ответил Профессор; он любил разговаривать с «народом», но на всякий случай расправил широкие плечи.
– Ты мне скажи, зачем вашему патриарху такие дорогие часы? Говорят, они тысяч тридцать стоят.
Сенявин опешил. Мужик же продолжал наседать:
– Долларов, а не рублей! И если даже, как они нам объясняют, ему эти часы подарили, то зачем их, скажи, всем показывать и злить людей? Вот как ты, интересно, на этот вопрос людям ответишь?
Лицо Профессора теперь стало как на портрете Тургенева, писанном художником Алексеем Алексеевичем Харламовым. То есть суровым и умным стало лицо.
– А ты видел эти часы? – спросил Андрей Владимирович.
– Да у нас вся деревня о них говорит!
– А сам-то ты видел?
– Ну, видел… по телевизору, – кивнул головой мужик, но было заметно, что врет и не видел.
– И видя патриарха по телевизору, ты только на часы его смотрел? – прищурившись, спрашивал Профессор.
– Ну да… То есть нет… Еще люди говорят, что он для какого-то своего что ли родственника…
– А ты не знаешь, что люди про тебя говорят? – перебивая, спросил Сенявин.
– Я-то здесь с какого боку? – удивился мужик.
– С того самого, что ты уже все мозги свои пропил. Так люди про тебя говорят, – почти ласково объявил Профессор, но еще шире раздвинул плечи, опять-таки на всякий случай, хотя мужичонка с виду был неказистый.
Тот, однако, совсем не обиделся и весело воскликнул:
– Ну так правду говорят! И что мне еще пропивать, кроме мозгов? У меня ни часов таких, ни родственников с квартирами!
Профессор растерялся от этого быстрого и радостного согласия. А мужичонка этим воспользовался и сказал:
– Ты на меня, отец, не сердись. И за патриарха не обижайся. Я ведь это так только, чтобы с тобой разговор наладить. Ты, я вижу, правильный человек и народом не брезгуешь. А мне сейчас… мне, сам видишь, очень нужно поправиться. Как у вас говорится, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа… Не поможешь?
Несколько бранных ответов рвалось из сердца Профессора, но он их все подавил разом, и дабы они снова не высовывали свои кусачие головы, отвернулся от собеседника и решительным шагом направился к выходу из поселка.
И у себя за спиной услышал вроде бы злое, но каким-то почти душевным тоном произнесенное:
– Ясное дело. Зачем ему, бороде картавой, тратиться на таких, как я? Он лучше своему патриарху снесет, на часы, на хоромы…
К базе Профессор подошел с гневным лицом, держа в руке палку, которую разглядел на обочине и подобрал в том месте, где начинался асфальт.
Помахивая этой палкой, Сенявин прошел мимо ворот и направился к тому месту, где час назад видел дохлую кошку.
Но кошки там больше не было. На ее месте лежал старый стоптанный тапок.
Сенявин с силой ударил по тапку палкой. Сухая палка разломилась, конец ее подскочил и ударил бы Профессора по лицу, если бы Андрей Владимирович вовремя не увернулся. А тапок даже не сдвинулся с места, будто прилип к асфальту.
Профессор же вернулся на базу.
В длинном доме уже начался завтрак.
Телеведущий первым пожелал Профессору доброго утра, одарил быстрой лучезарной улыбкой и сразу же как бы перестал его видеть, причем еще до того, как Сенявин успел завершить встречное приветствие.
Митя, казалось, вообще не заметил вошедшего. Он ел пшенную кашу. Каша была горячей, а Митя отправлял в рот слишком большие порции, которые, судя по страдающему Митиному лицу, обжигали губы и небо.
Следуя правилам приличия, а также исходя из того, что этот болезный был, по меньшей мере, лет на десять старше него, Сенявина, Профессор соблаговолил первым приветствовать соседа. Но тот Андрею Владимировичу не ответил и даже никаким движением не показал, что слышал приветствие.
С трудом сдерживая не утихавшее в нем раздражение, Профессор обошел стол, чтобы стать точно напротив Мити, и вежливо произнес:
– Я тут, когда выходил на прогулку, случайно задел скамейку и произвел некоторый шум. Я вас, наверное, потревожил, Дмитрий…? – Профессор запамятовал отчество, и это еще больше ожесточило Сенявина.
Тут только Митя заметил Профессора, вперил в него задумчивый взгляд и не сводил глаз, пока не удалось ему остудить во рту и проглотить кашу, а потом радостно откликнулся:
– Не беспокойтесь! Я сплю как убитый. Меня трудно разбудить.
Этого признания Профессор уже не стерпел. Он подошел к Драйверу, который стоял возле стола, наблюдая за едоками. На голове у него была круглая красная шапочка.
Сенявин велел ему выйти за собой в прихожую.
И там, в прихожей, уже не сдерживаясь, зло объявил:
– Всю ночь напролет этот говнюк кашлял и не давал мне спать! Вторую такую ночь я не выдержу.
– Понял. Попробую, – пообещал Петрович, оглаживая пальцем красную шапочку у себя на макушке.
– Что значит «попробую»?! – возмутился Профессор. – Я требую, слышите, требую, чтобы вы меня отселили от этого чахоточного! Если вы этого не сделаете, я с первой же электричкой уеду от вас к чертовой матери! И, будьте уверены, печали я вам обещаю. Я и профессору Годину расскажу, и в Интернет выложу, как вы чутко заботитесь о ваших клиентах!
– Что-нибудь придумаем, – вновь пообещал Драйвер и, глянув на Профессора, торопливо добавил: – Не вопрос. К вечеру организуем. Хоть к гадалке не ходи!
– Ну раз «не вопрос» и к гадалке ходить не надо, тогда с добрым утром! – сказал Сенявин.
Он быстро раздражался и так же быстро отходил.
Глава четвертая
Эйнарсага (продолжение)
XX
На фризском корабле Эйнар плыл на север. Ветер был благоприятным и они плыли без затруднений. Эйнар устроил себе под лодкой местечко и почти все время спал, отсыпаясь после тяжелых дней и ночей.
После отплытия он заплатил Ламберту-корабельщику пять марок, а остальные пять они договорились, что Эйнар заплатит перед тем, как сойти на берег.
Покинув пролив, корабль вошел в Широкий фьорд и пристал в Тунсберге. Эйнар не захотел сходить на берег, потому что, по слухам, Вестфольд в те времена подчинялся одному из сыновей Годфреда, датского конунга.
День проторговав в Тунсберге, фризы вечером сели на корабль и поплыли курсом на Каупанг.
Ночью Эйнару приснился сон. На берегу залива к нему подошла медведица, небольшая и совсем не страшная. Она лизала ему руки и говорила:
– Спи спокойно, сынок. Все будет хорошо у тебя.
Но тут сзади кто-то больно укусил Эйнара за ногу. Эйнар обернулся и увидел большую, свирепого вида волчицу. Волчица схватила Эйнара за рукав и потянула в залив, а с шерсти ее струями капала вода. Эйнар попытался оттолкнуть волчицу. И проснулся.
Проснувшись, Эйнар подумал, что голос медведицы весьма похож на голос его матери, волчица же чем-то напомнила ему Дагед, кормилицу, которая утонула в заливе.
Эйнар вылез из-под лодки. Еще не рассвело. На корме корабля ярко тлели угли в жаровне, и возле нее Эйнар разглядел несколько темных фигур. Эйнар свесился за борт и, перебирая руками, добрался до кормовой надстройки. Там у жаровни сидели Ламберт и еще четыре фриза. Корабельщик шепотом давал им указания и говорил:
– Осторожно приподняв лодку, вы двое сперва свяжите ему ноги, пока он не проснулся. А вы…
Тут с берега потянул предрассветный ветер и отнес в сторону дальнейшие слова. А когда ветер утих, Эйнар услышал, как один из фризов сказал:
– Ну и ловкач ты, Ламберт. Взял с него десять марок за проезд. И еще собираешься выручить за него марки три или четыре.
– Марок за пять продам, – возразил Ламберт. – Я его объявлю рожденным дома рабом. И парень он крепкий. Так что еще раз повторяю…
Тут снова подул ветер и отнес остатки слов.
А Эйнар, перебирая руками, вернулся по борту к мачте, но не стал ложиться под лодку, а лег рядом с ней. И только начало светать, перелез через борт и тихо спустился в воду.
До берега было недалеко. Плавать Эйнар умел.
XXI
Каупанг Вестфольдский уже тогда был известным всем морякам рынком, в котором торговля прекращалась только зимой.
Придя в Каупанг, Эйнар прежде всего купил себе рыбачий плащ с большим капюшоном и меч-скрамасакс. На меч он не пожалел оставшихся у него денег. Меч был короткий, отточенный только с одной стороны, гибкий, с удобной витой рукоятью отличной франкской работы.
Фризский корабль из Каупанга уже ушел. И Эйнар стал ждать, припомнив, что торговцы собирались заехать сначала в Агдир, затем в Рогаланд, потом в Хордаланд, но дальше на север плыть не собирались, а намеревались тем же путем вернуться назад.
Ламбертов корабль вновь причалил в Каупанге лишь в начале осени. Оставив на борту небольшую охрану, фризы сошли на берег и принялись торговать.
Ближе к вечеру с юго-запада налетел буйный ветер. Корабельная охрана сошла на берег, оставив на борту одного моряка.
К ночи буря еще сильнее разыгралась. В ночной темноте Эйнар поднялся на фризский корабль, столкнул в воду стражника, потом сбежал по сходням, столкнул их и обрубил швартовые. Корабль понесло от берега. Как только Ламберт и его люди заметили, что корабль уносит, они бросились в лодку, но ветер все крепчал, и им ничего не удалось сделать. Корабль вынесло на середину фьорда, а затем развернуло в сторону левого берега и так сильно ударило о прибрежные скалы, что он раскололся пополам, и все товары посыпались в воду.
– Вот это называется ловко поторговали! – сказал себе Эйнар, спешно покидая Каупанг.
XXII
В Вестфольде Эйнару нельзя было оставаться, и он вдоль побережья направился в Агдир.
Надо сказать, что Агдир никогда не принадлежал Дании, и мало кто из его жителей умел выращивать лошадей так, как это умели делать даны. На Эйнара скоро обратили внимание, и один из местных любителей лошадей за хорошую плату взял его к себе конюхом. Ухаживая за конями, Эйнар безбедно прожил у него зиму, лето и еще одну зиму.
Эйнар уже давно чувствовал себя в безопасности. Но на всякий случай теперь назывался не Хрольвом, а Храппом, как звали его деда.
XXIII
Однажды случилось Эйнару по каким-то делам быть в Харальдстадире. И там к нему привязались молодые щеголи в дорогих красных нарядах. Сперва они насмехались над его простой и черной одеждой. Эйнар стерпел, хотя в черной одежде ходили его предки и у него самого черный цвет был любимым. Затем, опознав в нем датчанина, они стали ругать Данию и обзывать ее жителей. Эйнар и это снес, не питая к данам добрых чувств. Когда же они принялись вышучивать его черные бороду и усы, Эйнар не выдержал, и самому наглому задире пообещал выбить глаз, если все они не уймутся. А тот в ответ обозвал Эйнара «стродинн». Так называют мужчину, использованного в качестве женщины. Жестокое оскорбление! Тут Эйнар уже не стерпел и ударил обидчика. И было похоже, что одним ударом кулака он выполнил свое обещание.
На Эйнара с разных сторон накинулись, повалили, скрутили, но бить не стали, а повели к конунгу. Конунгом в Агдире тогда стали считать Хальвдана Черного. Ему было лет восемнадцать.
На беду Эйнара оказалось, что над ним насмехались так называемые «дети мужа», которые с детства окружали Хальвдана, а теперь стали младшими воинами в его дружине. Узнав о том, как Эйнар искалечил его любимца, Хальвдан велел своей старшей страже вывести обидчика в хлев и выколоть ему оба глаза. Связанного Эйнара уже потащили к дверям, когда в зал вошла Аса дочь Харальда Рыжебородого.
Аса была женщиной знаменитой. Гудред Охотник когда-то насильно сделал ее своей женой, убив ее отца и брата. Она родила ему Хальвдана и готовилась родить Олава, когда слуга Асы убил ее мужа, Гудреда, ударив того в темноте копьем. Аса вернулась в Агдир и стала там править во владениях, которые раньше принадлежали ее отцу. Об этом рассказывается в саге о Хальвдане Черном и других сагах. Но в них не говорится вот о чем:
Эйнара, как было сказано, потащили к дверям, чтобы ослепить на скотном дворе. Но тут вошла Аса и спрашивает:
– Кто разрешил хозяйничать в моем доме?
Сын объяснил матери, что дан этот затеял драку, повредил глаз его дружиннику, и за это он, Хальвдан, велел его наказать, лишив зрения. В ответ Аса сказала:
– Скоро отправишься во владения своего отца и там станешь конунгом. А здесь я судья и хозяйка и здесь я решаю, кому быть с глазами, а кому – без глаз. Развяжите его. Я с ним сама разберусь.
С Асой в Агдире никто не спорил. Эйнара тут же развязали, и Аса увела его в свой дом. У них с Хальвданом были разные дома. У матери – раза в два больше и в три раза богаче, чем у сына.
В доме Аса усадила Эйнара на скамью, села напротив и стала молча разглядывать. Не зная, как себя вести, Эйнар принялся благодарить Асу за заступничество.
– Так не благодарят, – сказала женщина.
– А как мне тебя отблагодарить? – спросил Эйнар.
Аса долго молчала, прямо-таки сверля глазами Эйнара. А потом говорит:
– Здесь тебе нельзя оставаться. Мой сын не простит тебе своего любимчика. Ты поедешь в Гейрстадир. Там ты найдешь Альва сына Гудреда. Если после вашей встречи он останется жить, я буду считать, что ты самый неблагодарный из данов.
Теперь молчал Эйнар.
– Я дам тебе в помощь трех крепких молодцов. Больше тебе не понадобится. Альва плохо охраняют, – продолжала Аса.
Эйнар молчал.
– Когда ты все сделаешь, я с тобой рассчитаюсь. Я щедрая на подарки. Спроси у людей, – говорила вдова старого и мать юного конунга. И Эйнар впервые ответил ей, сказав:
– Не стану я ни у кого спрашивать. И трех молодцов мне не надо. Как-нибудь сам справлюсь. А ты лучше заплати мне за четверых.
Аса нахмурилась и сказала:
– Будем считать, что договорились. Но не советую меня обманывать. У меня руки длинные.
– Я об этом наслышан, – сказал Эйнар. – Но сейчас понял, что они у тебя длиннее, чем многие думают.
В тот же вечер на выданной ему лошади Эйнар уехал из Харальдстадира. За ним до Вестфольда следовали трое конных. Но после то ли отстали, то ли нарочно увеличили расстояние. Как бы то ни было, Эйнар за собой слежки не видел, хотя иногда ему казалось, что не один он едет по дороге в Гейрстадир.
XXIV
Эйнар знал от людей, что Альв был сыном Гудреда от первой жены. Ему было двадцать два года, и в Вестфольде его считали за конунга. Асе ее пасынок был явно ни к чему, если она хотела посадить в Вестфольде своего родного сына Хальвдана Черного.
Вопреки утверждениям Асы, дом Альва хорошо охраняли. Но через день после того, как Эйнар прибыл в Гейрстадир, по чьему-то указанию сняли охрану у ворот и у восточной, так называемой женской двери, оставив стражу у западного, мужского входа.
С восточной стороны к дому был пристроен хлев. Ночью Эйнар проник в этот хлев. Там стояли коровы, не менее дюжины с каждой стороны. Эйнар сначала связал им попарно хвосты, а потом пошел в жилую часть дома. Засовов на дверях не было.
Прислушавшись и убедившись, что все в доме спят, Эйнар шагнул в зал. Приблизился к нише, где спали Альв и его жена. Дверка спальной ниши была не заперта. Эйнар пошарил в темноте и коснулся рукой груди Альва, который спал с краю. Альв сказал:
– Почему у тебя такая холодная рука, Астрид?
Астрид тоже проснулась и спросила:
– Тебе не спится? Хочешь, я повернусь к тебе?
– Не хочу. Не надо меня трогать, – проворчал Альв.
Эйнар подождал, пока они снова засопели.
А потом опять тихонько коснулся Альва, чтобы не убивать его во сне.
– Ну что тебе от меня надо? – сердито прошептал Альв и отвернулся от Астрид, поворачиваясь лицом к Эйнару.
– Не мне – твоей мачехе, – тихо ответил Эйнар, одной рукой сорвал одеяло, а другой насквозь пронзил Альва, так что острие ножа засело в дереве.
И тут же в темноте несколько голосов закричало:
– Убийство! Держите убийцу!
Эйнар бросился назад к хлеву, перепрыгнул через веревки, которые привязал к коровьим хвостам, а люди, которые бежали за ним и про веревки не знали, все попадали.
Прежде чем прыгнуть в седло, Эйнар с силой рванул его на себя, и оно тут же упало на землю, потому что подпруга была перерезана. Но Эйнар без седла ездил не хуже. Ворота теперь были заперты и там стояла стража. Но Эйнар на коне перемахнул через забор и скрылся в темноте.
Эйнар эту хитрость с коровьими хвостами первым придумал. А другие потом ею воспользовались: один норвежец и кто-то еще из исландцев. Об этом в других сагах рассказывается.
К Асе в Харальдстадир за наградой Эйнар не поехал. Не по душе ему пришлось многое из того, с чем он столкнулся в Гейрстадире. А тут еще, когда он лег отдохнуть, приснилась ему медведица. У ее лап лежали сокровища: серебряные кубки, золотые обручья и гривны, кожаный чулок с монетами. Ласково смотрела на Эйнара эта медведица, а где-то поблизости выла волчица. Как ни старался Эйнар, не удалось ему увидеть волчицу. Но вой ее был на редкость тоскливым.
Проснувшись, Эйнар отправился не на юг, а на запад, с севера огибая Агдир.
Аса же, когда ей доложили, что нигде не могут найти чернобородого убийцу, так сказала:
– Хитрым оказался датчанин. Хотела с ним еще в хлеву расплатиться. Если отыщите его, в долгу не останусь.
XXV
К западу от Агдира лежит Рогаланд. Не рассказывается, как Эйнар добрался до него, но деньги у него закончились и надо было искать работу.
Роги – народ небогатый. Лошадей не разводят. Работы там мало. Эйнар никак не мог найти для себя пристанище.
Есть в Рогаланде местность под названием Хаугесунд. Сейчас она знаменита благодаря Харальду Прекрасноволосому. Но тогда там даже деревни не было, корабли не приставали, а люди жили на хуторах, разбросанных вдоль залива.
Начал Эйнар с самого зажиточного с виду хутора. Но ему отказали в работе, и сделали это грубо. На других хуторах в работниках тоже не нуждались. В дальнем конце Хаугесунда, когда Эйнар спросил хозяина, из дома вышла женщина с тремя крепкими слугами. Эйнар махнул рукой и собирался уйти, но хозяйка спросила:
– Что ты тут размахался?
– Увидел твоих молодцов и понял, что работы мне не найдется.
– А тебя как зовут?
– Храпп, – ответил Эйнар. Он ведь был теперь Храппом.
Тут женщина засмеялась. И Храппу-Эйнару этот смех сразу не понравился. Ему как-то тяжко стало на душе.
А женщина, кончив смеяться, сказала:
– Для Храппа у меня непременно найдется работа.
Отослав слуг, хозяйка сказала:
– Возьму тебя, если обещаешь выполнять любые мои поручения.
– Разные бывают поручения, – нахмурился Эйнар.
– Я ставлю условия, какие хочу, – возразила женщина.
Эйнар уже несколько дней ничего не ел и ответил:
– Ладно, я согласен.
XXVI
Женщину, у которой Эйнар стал работником, звали Йорунн. Она была вдовой. У нее было семеро рабов, из которых пятеро были мужчинами.
Целую зиму Йорунн кормила и поила Эйнара, не поручая никакой серьезной работы. Когда он пытался помочь кому-нибудь из слуг, хозяйка сердилась и говорила, что не его это дело.
Слуги у Йорунн были мрачными и немногословными. У них ничего нельзя было выведать. Лишь ключница однажды проговорилась, сообщив Эйнару, что хозяйка, когда овдовела, хотела выйти замуж за хозяина дальнего хутора, с Каменного мыса. Но тот взял себе жену из Авальдснеса, а Йорунн отказал, надсмеявшись над ней. Звали этого человека Храпп.
– Мы все удивлены, что она наняла тебя. Имя Храпп для нее так же ненавистно, как для Тора имя Мирового Змея.
Однажды весной Йорунн позвала Эйнара и сказала:
– У меня семь работников. А у моего дальнего соседа, который носит твое имя, их целых десять. Ты меня понял?
Эйнар признался, что не понял. А Йорунн улыбнулась и сказала, что будет теперь размышлять, действительно Эйнар не понял или прикидывается.
Через несколько дней, встретив Эйнара на дворе, Йорунн засмеялась тем самым недобрым смехом, которым смеялась осенью, когда нанимала Эйнара на работу. А кончив смеяться, сказала:
– Хватит бездельничать. Есть у меня теперь для тебя работа. Пойдешь и убьешь одного из рабов Храппа.
– Разве я похож на убийцу? – спросил Эйнар.
– Волосы у тебя, действительно, светлые. Но усы и борода-то чернющие! – так ответила Йорунн.
– Подобные дела за одни харчи не делаются, – сказал Эйнар.
– Конечно. За работу получишь награду.
Эйнар вспомнил про Асу из Агдира и сказал:
– Заплатишь вперед.
А Йорунн, вновь засмеявшись:
– Говоришь, не похож на убийцу! – И тут же рассчиталась с Эйнаром, хорошо ему заплатив.
– Тебе все равно, кого я убью? – спросил Эйнар.
– Только хозяина не трогай. Он хоть и нагрубил тебе осенью, когда ты к нему нанимался, но негоже, чтобы Храпп убивал Храппа.
Той же ночью Эйнар отправился на Каменный мыс и там на выгоне убил Храппова пастуха, сначала проломив ему череп дубиной, а потом разодрав ему в нескольких местах тело концом топора. Труп он ничем не прикрыл.
Когда раба обнаружили, стали говорить, что, судя по всему, его изломал медведь.
XXVII
В начале лета на поле, на котором паслись овцы Йорунн, нашли мертвым одного из ее рабов. Те же следы, похожие на лапы медведя.
– Здесь отродясь не было медведей, – сказала Йорунн и ходила грустной. А через несколько дней засмеялась и сказала Эйнару:
– Пойдешь на луг Сторольва. Там обычно работает Осгейр, работник Храппа. Это он убил моего раба.
– Что я должен с ним сделать? – спросил Эйнар.
– Такой злодей, а еще спрашиваешь, – ответила Йорунн и продолжала смеяться.
– Эта услуга тебе обойдется дороже, – сказала Эйнар. – Храпп теперь вооружил своих рабов и они ходят по двое.
Не успел он это сказать, как Йорунн надела ему на руку серебряное обручье весом в полмарки.
– Я сделаю то, что ты мне велишь. Но учти: этой веревочке у вас с Храппом теперь виться и виться, – сказал Эйнар.
– Для этого я и наняла плетельщика веревок, другого Храппа, – ответила Йорунн.
Той же ночью Эйнар отправился на Сторольвстадур и нашел там Осгейра и с ним молодого работника. Оба спали на поле. Эйнар растолкал Осгейра древком копья. Тот вскакивает и только хочет схватиться за меч, как Эйнар наносит ему удар копьем и убивает. Тут просыпается молодой работник, видит Эйнара, становится бледным, как трава, и говорит:
– Не убивай меня. Я ведь ничего плохого тебе не сделал.
– Не сделал, так сделаешь, – отвечает Эйнар.
– Я никому не скажу. Обещаю.
– Конечно, не скажешь, – говорит Эйнар и протыкает его копьем, так что тот сразу испускает дух.
Вернувшись к себе на хутор, Эйнар лег спать. Во сне его как будто кто-то душил. Эйнар сперва не мог понять, кто его душит. А потом изловчился, скинул с шеи чужие руки, и увидел перед собой молодого работника, которого он убил в поле. И мертвец ему говорит:
– Меня звали Эйнар, как и тебя. А ты взял и убил меня. Я не могу отнять у тебя жизнь, как ты ее у меня отнял. Но в моей власти сделать так, что отныне твоим уделом будут скитания и убийства. Тебя объявят вне закона, и одиноким ты будешь жить на чужбине.
Тут Эйнар проснулся. Он наскоро оделся, собрал и связал в узел свои пожитки. Из вещей Йорунн он взял копье и длинный нож, привесив его на короткой цепочке к поясу. Своего оружия у него не было.
Утро только начиналось. С хозяйкой Эйнар попрощаться не захотел.
XXVIII
К концу лета Эйнар пришел в Хордаланд. Там правил Эйрик, отец Гюды, той самой, которая отказала Харальду сыну Хальвдана, прозванному Прекрасноволосым. Но Гюда и Харальд тогда еще не родились.
Конунг Эйрик жил в Арне. А самым большим поселением в Хордаланде был тогда не Бьергюн, а место под названием Осейр на берегу Медвежьего фьорда. Туда часто заходили корабли, плывшие с юга на север и с севера на юг. В этом селении и поселился Эйнар. Не зная, чем кончилось дело в Хаугесунде и опасаясь, что его могли объявить вне закона на тинге в Рогаланде, он вновь изменил имя и стал называть себя Хрутом, по имени прадеда.
В доме, который сразу приглянулся Эйнару, потому что стоял он на берегу в стороне от других домов и оттуда открывался красивый вид на фьорд и его острова, в том доме жил человек по имени Торгрим. Жену его звали Хильдигунн. Оба были рачительными хозяевами и благожелательными людьми.
Эйнар нанялся к ним работником и старательно выполнял все, что ему поручали.
Когда следующим летом он наловил так много трески, что все в Осейре дивились его удаче, Торгрим сделал его своим компаньоном, отвел ему отдельное помещение в длинном доме и поручил управлять всеми своими рабами и слугами.
XXIX
У Торгрима была лошадь по кличке Дура. Ее запрягали в повозку и возили разные грузы. Для верховой езды она была непригодна. Но Эйнар разыскал в дальней округе жеребца, спарил его с Дурой, и когда кобыла разродилась, решил растить жеребенка так, чтобы на нем можно было ездить верхом.
Нужна была сбруя. И Эйнар, когда в Осейр прибыл с юга торговый корабль, отправился на пристань.
Один моряк с корабля предложил ему очень хорошую сбрую. Бронзовые скрепления сбруи были украшены медвежьими головами, телами и масками других животных. Эйнар поинтересовался, из каких краев это изделие. Моряк ответил: из Дании. Эйнар спросил, не знает ли торговец имени мастера. И услышал в ответ:
– Как мне не знать, когда я его брат! Звали его Вечерний Эйнар сын Храппа. Знаменитым был кузнецом.
Эйнар, ясное дело, обмер. А торговец спрашивает:
– Так берешь или не берешь? Похоже, упряжь тебе понравилась. – И назвал цену.
Эйнар молчал. Лицо его ничего не выражало.
– Вижу, цена тебе не под силу. Но дешевле не могу уступить.
Тут к Эйнару вернулся дар речи и он сказал:
– Мое имя Эйнар. Квельдэйнар был мне родным отцом. А ты мне, выходит, дядя. Мы с тобой никогда не встречались. Тебя Хорик зовут?
Теперь обмер и не мог вымолвить ни слова торговец.
А когда пришел в себя, позвал Эйнара на корабль, пригласил в шатер и велел принести еды и браги. На корабле Хорик был главным.
Дядя и племянник пили и ели до самого вечера. И вот что Эйнар узнал о смерти отца.
За день до своей кончины Квельдэйнар с работником возвращались из кузницы. Там по лугу обычно расхаживал старый козел.
– Странно, – сказал Квельдэйнар.
– Что странно? – спросил работник.
– Мне кажется, что козел лежит на пригорке и весь в крови. Работник сказал, что никакого козла там нет.
Когда вошли во двор, Квельдэйнар сказал:
– Верно, я видел своего духа-двойника, и жить мне осталось немного.
Работник стал убеждать его в обратном, но Эйнар ударил его в ухо и прогнал.
Ночью штормило и во дворе не стихал собачий лай.
Утром Квельдэйнар сказал своей жене Бере:
– Когда я умру, проткните меня копьем. Чтобы я мог попасть в чертоги Одина.
До полудня Квельдэйнар не покидал постели, ему нездоровилось. А потом ему полегчало, он поел и пошел на работу в кузницу. Там он мастерил наконечник копья. Он никак не мог удовлетвориться своей работой, несколько раз переделывал наконечник. И вдруг как закричит:
– Не сделаете! Знаю я вас! Вы не люди, а суки. Пусть тролли вас заберут! Я сам! Сам!
С этими словами он попытался воткнуть наконечник копья себе в грудь. Но металл еще не остыл, обжег и выпал из рук. Кузнец же сначала схватился руками за горло, захрипел, а после упал навзничь и умер.
Умершего положили в главном доме.
Ночью слуга слышал, как труп приподнялся на постели и сказал:
– Позовите Беру.
Он повторил это три раза. После третьего раза слуга разбудил Беру и рассказал ей о том, что видел и слышал.
Бера пришла, подошла к скамье, на которой лежал покойник, села на стул и спросила:
– Чего ты хочешь?
Труп лежал недвижно и безмолвно, как положено трупу. Но когда Бера собиралась уйти, она услышала:
Дров не жалейте.
Пусть дым поднимается выше.
В чертогах Гримнира
Место достойное
Должен занять я.
Такую вису, по словам вдовы, произнес напоследок умерший Квельдэйнар.
Когда его хоронили, дров не жалели. Но дул сильный ветер, и дым от костра полз по земле в сторону кузницы. Бера так огорчилась, что, приготовив поминальный пир, оставила гостей за столами, а сама ушла и легла в постель.
Ночью она умерла.
Когда хоронили Беру, погода была безветренной, и дым от костра поднимался так высоко, что конца его не было видно.
Так рассказывал Хорик, который хоронил брата, а потом его жену.
Когда он кончил свой рассказ, Эйнар сказал:
– Волком жил. Волком и умер.
Хорик согласился, что Квельдэйнар человеком был тяжелым. Но жену его, Беру, стал хвалить за доброту и терпение. Эйнар слушал дядю и молча пил брагу.
Тогда Хорик стал расспрашивать племянника о том, как он жил все эти годы. Но Эйнар ничего путного о себе ему не поведал.
После этого Хорик предложил Эйнару вместе с ним вернуться в Данию. Дядя сообщил племяннику, что хутор, на котором оба они когда-то появились на свет, теперь принадлежит ему, Хорику, как брату владельца, но если вернется Эйнар, сын покойного, Хорик уступит ему половину, а может и весь хутор отдать, так как у него, у Хорика, есть два других владения, одно неподалеку от Хедебю, другое в Роскилле на острове Зеландия.
Эйнар поблагодарил Хорика, но сказал, что сейчас у него много работы у хердов. Чем он тут занят, Эйнар, однако, не сообщил, как ни старался об этом проведать Хорик.
На прощание дядя подарил племяннику упряжь, которую изготовил Квельдэйнар.
XXX
На следующее утро Эйнар взял лодку, переправился на один из небольших островов посреди Медвежьего фьорда, отыскал среди деревьев широкий плоский камень и принес на нем поминальную жертву своей матери, Бере.
После этого он вернулся к лодке и уже собирался отплыть, но передумал, нашел на берегу другой плоский камень и принес на нем жертву отцу, Квельдэйнару.
Когда потом он поплыл обратно, показалось ему, что посреди фьорда прямо на воде стоит стул, на нем сидит пожилой человек с длинными белыми волосами и играет на арфе.
Вернувшись домой и встретив во дворе Торгрима, Эйнар сказал:
Горькие дни потянулись
Под пологом гор
Для Эйнара сына.
– Никак стихами заговорил? – удивился хозяин.
– Разве это стихи? – ответил Эйнар.
Как-то раз осенью, когда еще не выпал снег, поднялась вьюга. Эйнар вышел из дома и сказал:
Снежит среди лета.
Мы, как финны, ланей,
Лакомых до лыка,
Оставили в стойлах.
Хильдигунн, хозяйка, которая это слышала, воскликнула:
– Как красиво!
– Вот отец мой – тот действительно красиво слагал, – ответил Эйнар.
Торгрим и Хильдигунн еще сильнее привязались к Эйнару, узнав, что их управляющий еще и скальд.
XXXI
Эйнар прожил в Осейре еще одну зиму и одну весну.
А летом ему от рыбаков стало известно, что прошедшей зимой в Арне какие-то агдирцы разыскивали чернобородого и светловолосого человека по имени Храпп. И, судя по всему, такого же человека ищут теперь в Бьергюне люди из Рогаланда.
Как только Эйнар об этом узнал, он покинул Осейр. Меньше всего ему хотелось подвергать опасности Торгрима и Хильдигунн.
XXXII
На корабле трендов Эйнар отправился в Трандхейм.
Ветер им благоприятствовал, ночи были светлыми, и они плыли на север вдоль берега днем и ночью, редко причаливая на стоянки.
Лишь один раз поднялась буря, и корабль стал давать течь. Тогда на морских кораблях не было желобов для откачки воды и воду черпали бадьями или кадками. Эйнар спустился на днище и черпал воду бадьей, а двое моряков поднимали и сливали воду. За этим занятием Эйнар сказал такую вису:
Весело бывает
Спорить с бурей в море,
Ветры парус вздутый,
Разъярясь, терзают.
И тут же сверху услышал в ответ:
Мчится конь кормила.
Пусть кипят под килем
Волны. Пенным этим долом
Мы ладью гоняем.
Эйнар поднял голову и увидел, что бадью тянет молодой человек, которого все звали Торбьерн.
– Я не знал, что ты умеешь слагать стихи, – сказал Эйнар.
– А я не знал, что ты тоже скальд, – сказал Торбьерн.
С тех пор они делились пищей и иногда, чтобы скоротать время и развлечь спутников, обменивались стихами: обычно Эйнар начинал вису, а Торбьерн ловко подхватывал и искусно завершал.
XXXIII
Ярлом в Трандхейме был тогда Грьотгард сын Хакона. Усадьба его была в Ирьяре. У Грьотгарда был сын по имени Хакон. В ту пору ему было семнадцать лет. Через некоторое время у него родится дочь по имени Аса, та самая, которая станет потом женой Харальда Прекрасноволосого.
Когда Эйнар и Торбьерн приплыли в Трандхейм, Торбьерн предложил:
– Ты – скальд и я – скальд. Наймемся на службу к ярлу Грьотгарду. Мне говорили, что у него в дружине нет скальдов.
– Я уже был однажды на службе у конунга. С меня хватит, – ответил Эйнар.
На прощание Торбьерн произнес такую вису:
Светлые завидят
Из окон нас жены,
Как, пыля, протопчем
К Грьотгарду дорогу.
Скакунов ретивых
Пустим вскачь, пусть слуха
Дев их бег достигнет
В дальних домах, добрых.
Эйнар усмехнулся и сказал:
– Здесь и лошади не найдешь.
– У настоящего скальда всегда есть лошади, – ответил Торбьерн.
Пройдет время, и этот попутчик Эйнара станет любимым скальдом Харальда Прекрасноволосого, Торбьерном Хорнклови. Саги о нем будут рассказывать.
XXXIV
Эйнар обошел восточное побережье Трандфьорда, от Ирьяра до окрестностей Стиклестадира. Ему приглянулось место под названием Винге, и он там решил поселиться. Он теперь жил под своим настоящим именем.
В Винге жил человек по имени Асбьерн. У него было хорошее хозяйство. Эйнар арендовал у него луг с хижиной. Хижина была тесной, ее крыша держалась на одной только балке, которая лежала на стенах, и концы балки выдавались наружу. Крыша состояла из одного слоя дерна, и он еще не сросся.
Эйнар приобрел телят и козлят и стал за ними ухаживать. Он так хорошо за ними смотрел, что все животные пережили зиму, и можно был подумать, что, как говорится, у каждого прямо по две головы. У других жителей Винге, однако, тогда погибло много скота, у Асбьерна в том числе. Зима выдалась суровой.
Жену Асбьерна звали Асгерд. Она была женщиной красивой, сладкоречивой, но завистливой и капризной. Она беспрестанно требовала от мужа то, что случалось ей видеть у соседей.
Однажды – это было до приезда Эйнара в Трандхейм – Асгерд попросила Асбьерна купить ей какие-то украшения. Асбьерн ответил, что она давно уже не знает меры. Асгерд обругала мужа, а тот не сдержался и ударил жену по щеке. Он был человеком вспыльчивым. Тогда Асгерд сказала Асбьерну:
– Ты дал мне то, чем мы, женщины, считаем очень важным обладать, а именно хороший цвет лица.
Асбьерн тяжело переживал свой поступок и купил жене вдвое больше украшений, чем она просила.
Теперь же, узнав об удаче Эйнара, Асгерд сшила рубашку с глубоким вырезом и преподнесла ее Асбьерну.
– Это женская рубашка, – сказал Асбьерн. – И вырез у нее такой, что, если я стану носить ее, тебе будет достаточно объявить о разводе со мной. Ты этого добиваешься?
– Не все ли равно, что ты носишь, – ответила Асгерд. – Твой новый арендатор одет намного скромнее тебя. Но ему сопутствует удача, потому что он, в отличие от тебя, настоящий мужчина.
Тут Асбьерн снова вспылил и ударил жену по лицу так, что потекла кровь.
– Второй раз ударил. И на этот раз для моего лица неудачно, – сказала Асгерд.
На следующий день Асгерд пришла к Эйнару и говорит:
– Я назвала тебя настоящим мужчиной и за это муж мне разбил лицо. Видишь?
– Как тут не увидеть, – соглашается Эйнар.
– Лицом я пока нехороша, – продолжает Асгерд, – но тело у меня белое и молодое. Не хочешь меня утешить?
Эйнар отвечает ей висой:
Черен ворон Хугин,
Но он ворон Грима
И несет удачу.
Белый лебедь Скегуль
Видом лишь прекрасен,
Нить нам обрывает.
Асгерд стихи не понравились. Она нахмурилась и сказала:
– Я из-за тебя пострадала. Неужели за меня не заступишься?
– Кто ты мне такая, чтобы за тебя заступаться? Разбирайся сама со своим мужем, – сказала Эйнар.
– Не ожидала я такого ответа, – сказала Асгерд и ушла.
XXXV
Дела у Эйнара шли хорошо, и летом он решил строить себе дом, небольшой, но прочный и удобный.
Он только начал строительство, когда пришел Асбьерн и так повел речь.
– Зря ты это затеял, – сказал Асбьерн. – Я не буду продлевать с тобой аренду. Нехорошие про тебя ходят слухи. Говорят, ты кого-то убил.
– Ты меня с кем-то спутал, – сказал Эйнар.
– Нет. Больно уж ты приметный. Не хочется мне из-за тебя рисковать.
Эйнар нахмурился и ответил:
– Срок аренды еще не истек.
– Не истек, – согласился Асбьерн. – Но я счел своим долгом заранее предупредить тебя, чтобы ты успел распорядиться своим стадом. Потому что, если ко мне придут, я не стану нарушать закон и тебя покрывать.
На следующий день к Эйнару пришла Асгерд и сказала:
– Как только про тебя поползли слухи, мой муж хотел сразу тебя схватить, а твой скот присвоить себе. Но я его припугнула, сказав, что если он так с тобой обойдется, я уйду от него и заберу нашего сына.
Эйнар молчал. И Асгерд прибавила:
– Похоже, ты был неправ, когда не захотел за меня заступиться.
– Чего ты хочешь? – спросил Эйнар.
– Дело, Эйнар, такое ясное, что едва ли стоит раздумывать, – сказала Асгерд.
После этой беседы Эйнар перестал строить дом, а скот начал распродавать по соседям. Люди охотно у него покупали. Все смотрели приветливо. И Эйнар все меньше верил в то, что в Винге стало известно про его похождения в Агдире и Рогаланде. Он перестал торговать скотом и собирался съездить в Ирьяр, чтобы расспросить людей и изучить обстановку.
Но тут к нему снова пришла Асгерд и сообщила:
– Завтра утром Асбьерн поедет на дальний выгон. Он поедет один. Слуги уже уехали.
– Теперь я понимаю, за что Асбьерн тебя ударил, – сказал Эйнар.
– Главное, чтобы ты понимал, что лучшего случая не будет, – сказала Асгерд. – Сам посуди: нынешняя зима принесла нам немало убытков, сельдь в это лето прошла мимо. А тут он и за тебя деньги получит, и скот ты еще не весь продал. Боюсь, не удержится Асбьерн. Он жадный.
XXXVI
На следующий день рано утром Эйнар вышел на дорогу, ведущую на выгон, сел на камень и стал дожидаться Асбьерна. Убивать его он не собирался. Он и меч привесил не к поясу, а сзади, на спину, откуда его труднее достать.
Через некоторое время явился Асбьерн. Асгерд не обманула, он был в одиночестве. В руке он держал копье, на поясе у него висел длинный северный меч.
Помахивая руками и тем самым показывая, что в них нет никакого оружия, Эйнар двинулся ему навстречу и сказал:
– Хочу предупредить тебя, Асбьерн. Твоя жена требует, чтобы я убил тебя. Думается мне…
Асбьерн не дал ему договорить.
– Ну, это тебе не удастся, злодей! – крикнул Асбьерн и хотел ударить Эйнара копьем, но тот подпрыгнул, расставив ноги, так что копье воткнулось в землю, а Эйнар прыгнул на древко и сломал его.
– Погоди! – крикнул Эйнар. – Давай разберемся.
– Я так и разбираюсь с убийцами, – ответил Асбьерн, выхватил из-за пояса меч и попытался ударить им Эйнара по ноге. Тот отдернул ногу и повернулся на пятке, так что Асбьерн промахнулся. Концом своего меча он, однако, порвал Эйнару штанину и до крови поцарапал левую ногу. После этого он снова хотел ударить Эйнара, на этот раз по шее. Но Эйнар успел достать свой меч, встретил удар ударом, меч Асбьерна отскочил, а Эйнар не стал больше испытывать судьбу, взмахнул мечом и рассек Асбьерну голову до самых плеч.
Вернувшись в Винге, Эйнар разыскал Асгерд. Она сидела за пряжей в своей горнице. Глянув на Эйнара, Асгерд спросила:
– Какое теперь время дня?
Эйнар ответил, что уже полдень. Тогда Асгерд ска зала:
– Большие дела мы совершили: я успела напрясть пряжи на двенадцать локтей сукна, а ты, похоже, отучил Асбьерна бить меня по лицу.
Они помолчали. И Эйнар спросил:
– Это ты сказала мужу, что меня ищут за убийство?
Не отрываясь от работы, Асгерд ответила:
– Какая разница?
Еще помолчали. И Эйнар снова спросил:
– Ты это придумала?
Не глядя на него, Асгерд ответила:
– У тебя такая черная борода, что и придумывать не надо.
Опять помолчали.
– До сих пор у меня перед глазами стоял только один покойник, – сказал Эйнар и тяжело вздохнул.
Тут Асгерд наконец посмотрела на него и, улыбнувшись, ответила:
– Спи спокойно. Уж я-то знаю, как решить это дело.
Когда Эйнар шел к себе на луг, лицо у него было багровым, как кровь.
XXXVII
Ночью Эйнару приснилось:
Гонит он скот по дороге и видит, что из леса выходят медведица и волчица. И странное дело: шкура на медведице вроде бы волчья, а на волчице – будто медвежья. Вот и весь сон.
Проснувшись, Эйнар долго не знал, как ему этот сон истолковать. А потом разбудил своего слугу Боси и велел ему собирать скот, чтобы гнать его в Стьордаль, где тогда была ярмарка. Боси ушел и долго где-то возился, а потом вернулся и сказал, что все готово к походу на рынок.
Едва они тронулись в путь, Эйнар сказал:
– Ты мне хорошо служишь, Боси. И я у тебя в долгу.
С этими словами Эйнар скидывает с себя синий плащ и говорит:
– Хочу подарить тебе этот плащ, дружище! И можешь сразу надеть его.
– А ты как же? – спрашивает Боси.
– А я пока в твоем плаще похожу, если не возражаешь, – отвечает Эйнар.
Плащ у Эйнара был новый и дорогой, и Боси, ясное дело, не возражал. Он надевает на себя плащ и очень пыжится, считая, что одет превосходно. Он идет через лес впереди стада в синем плаще, как гордый хозяин, а Эйнар подгоняет сзади коз и скотину и видом похож на раба или на вольноотпущенника.
Тут вдруг из-за деревьев им наперерез выскакивают люди с мечами и копьями, и один из них грозно кричит:
– Попался! От нас не уйдешь!
Завидев их, Боси что есть прыти пускается бежать в противоположную сторону. Они же стремглав бегут за ним и кричат ему во всю глотку. А Боси не откликается и бежит со всех ног. Один из преследователей бросает в него копье. Удар пришелся между лопаток и был такой силы, что Боси упал ничком, смертельно раненный. Те, кто за ним гнался, подходят к нему, откидывают с его лица синий капюшон, и начинают ругаться между собой, видя, что не того убили.
А Эйнара уже и след простыл.
Скот и убитого они забирают и гонят обратно в Винге.
Когда они рассказали о случившемся Асгерд, она сказала:
– Люди говорят, что у раба большое сердце, которое постоянно трепещет от страха. А я добавлю: у раба ум, как вот этот мой палец, – и она показала им свой мизинец. – Я обещала вам свободу и денег, если вы убьете убийцу моего мужа. А вы вместо него убили Боси, который был моим человеком и следил за Эйнаром. Теперь будете работать каждый за двух рабов.
XXXVIII
В это время в Трандхейме у Барда Черного гостил человек по имени Харек, по прозвищу Ищейка. Его так прозвали потому, что лучше его никто в Северных Землях не умел отыскивать объявленных вне закона. Во всех фюльках, от Вестфольда до Финнмарка, у Харека были свои люди.
Прознав про то, что этот Харек Ищейка гостит у Барда Черного, Асгерд послала к нему одного из своих родичей и Торкеля, брата убитого Асбьерна. Они сулят Хареку три сотни чистого серебра, если он не пощадит сил на поиски Эйнара. Тот берет серебро и обещает постараться. С собой у него было человек десять и еще двадцать он нанимает в окрестностях Трандфьорда, в их числе тех, кто был знаком с Эйнаром. Он также посылает некоторых из своих помощников в Северный Трандхейм, чтобы они там расспрашивали и разыскивали.
XXXIX
О том, что за ним гонятся, Эйнар узнал из сна. Но что это был за сон, в саге не говорится.
Эйнар принял разные меры предосторожности. Он сбрил бороду, но усы пожалел и не тронул. Он раздобыл себе серый плащ и завернулся в него поверх одежды. Он ночевал в ямах или в пещерах.
Когда в Северном Трандхейме Эйнар почувствовал, что погоня близка, он повел себя так, как ведут себя некоторые животные: они стараются не упускать из виду хищника, чтобы тот не мог напасть на них их засады. Так и Эйнар с большого расстояния тайно наблюдал за Хареком и его людьми, а потом, ненадолго обнаружив себя, делал вид, что бежит на север, а на самом деле шел на запад или на восток. Или показывал, что поднимается в горы, а когда его закрывал откос, поворачивал вниз и прятался, пережидая погоню.
Так, скрываясь и виляя, Эйнар добрался до земли, которая теперь называется Халогаланд, а тогда называлась Халейгаланд, потому что там жили халейги, и правило там несколько мелких конунгов, из которых самым известным был род Хьельги.
Харек Ищейка, однако, был человеком проворным, зорким и хитрым. В одном из селений он раздобыл собак и с их помощью чуть было не настиг беглеца.
По счастью неподалеку был берег моря. Эйнар снял меч и отломил от древка наконечник копья. Древко он бросил в море, а оружие завернул в плащ и привязал плащ себе за спину. Потом он ступил в воду и поплыл. И только он это сделал, как на берег вышли Харек Ищейка и с ним человек десять. Один из них сказал:
– В такой холодной воде он долго не протянет и скоро утонет.
– Этот, похоже, не утонет, – возразил Харек. – Но даже если утонет, надо искать лодку. Нам платят за голову.
Эйнар не утонул, но почти совсем обессилел, когда добрался до острова.
Лодку преследователи нашли лишь под утро, и Эйнару удалось отдохнуть и обсохнуть возле костра.
Когда лодка подходила к острову, Эйнар спрятался в кустах. Харек с людьми причалили, высадились и отправились на поиски по трое, а три человека остались охранять лодку.
И вот, когда холм заслонил лодку от преследователей, Эйнар встал и направился к ней. Те, которые ее охраняли, заметили его только тогда, когда он подошел совсем близко. Одного из них Эйнар сразу пронзил копьем – древко к наконечнику он успел сделать еще ночью. Второй бросился бежать и стал карабкаться по склону, но Эйнар взмахнул мечом и отсек ему ногу. Третий же прыгнул в лодку и стал багром отталкиваться от берега. Тогда Эйнар за канат притянул лодку к себе и вскочил в нее. После короткой схватки Эйнар убил человека Харека и сбросил его за борт. Он взялся за весла и поплыл прочь от острова.
Он плыл весь день и всю ночь, не останавливаясь, пока не приплыл в Кунну. В Кунне он только переночевал, а потом отправился дальше на север к Соленому фьорду.
XL
Между тем наступила зима. В Халогаланде зимы намного холоднее, чем в Трандхейме.
На северном побережье Соленого фьорда есть селение с названием Бодо. Тогда там было лишь несколько хуторов. В одном из них жил человек по имени Кальв. Он был халейгом, но торговал с финнами, и у него было стадо из двадцати оленей. За этими оленями и подрядился присматривать Эйнар – ему было необходимо у кого-то перезимовать.
Йоль миновал. В середине месяца гои принесли кровавые жертвы. Когда сошел снег, отпраздновали Весеннего Одина.
И тут вдруг в окрестностях Бодо объявляется Харек Ищейка, а с ним много людей и несколько собак.
Эйнар рассказал Кальву, что за ним гонятся, и собирался бежать, но не успел, потому что Харек разделил свой отряд на группы и велел обыскивать все хутора в Бодо. Одна из них окружила двор Кальва.
Эйнар вооружился и приготовился к битве. Но Кальв сказал:
– Даже если ты убьешь этих молодчиков и убежишь, придут остальные и сожгут мой дом. Как будто я не знаю, как это делается.
Сказав это, Кальв повел Эйнара в горницу, где была его жена. Звали ее Скроппа. Она была недурна собой, но уж очень сварливая, сущая ведьма. И Кальв говорит ей:
– Я собираюсь положить к тебе в постель Эйнара.
Скроппа начинает браниться, но Кальв просит ее поберечь силы. Он снимает все постели, велит Эйнару лечь в солому и снова стелет поверх него, а сверху велит лечь Скроппе.
Та ругается пуще прежнего. А Кальв говорит ей, что если она не ляжет на постель поверх Эйнара, то люди, которые скоро войдут, сожгут и ее вещи, и ее дом, и ее самое.
Эти слова на Скроппу подействовали. И едва она успела улечься, как раздался громкий стук в дверь.
– Вот теперь ругайся на чем свет стоит. Наконец-то от твоей ругани будет польза, – говорит жене Кальв и идет открывать дверь.
Входят четверо вооруженных людей. Оттолкнув Кальва, они начинают обыскивать дом, стуча дверями, отшвыривая стулья и скамьи, хлопая крышками сундуков. А в спальной нише лежит Скроппа и спрашивает, что это там за гам и что за болваны не дают людям покоя. Кальв велит ей утихомириться, но она не скупится на ругательства, некоторые очень грязные.
Потеряв терпение, один из пришедших говорит Кальву:
– Если твоя гадюка не замолчит, я ее удавлю. Клянусь Уллем! Кальв ему отвечает:
– А я клянусь всеми богами, что я тебе за это по гроб буду обязан!
Скроппа же, услыхав их разговор, в гневе осыпает их такою бранью, что они надолго запомнят. И пришедшие стараются побыстрее закончить обыск и поскорее уйти от ниши, в которой лежит Скроппа, из зала, в которой находится ниша, из дома, в котором они встретили Кальва с его ведьмой.
XLI
У Кальва в хозяйстве было две лодки: одна небольшая, шестивесельная, другая – побольше, на восемь скамей, с небольшим парусом.
К северо-западу от Бодо в миле от берега лежит небольшой островок, у которого до сих пор нет особого названия, и все называют его просто Островком. К этому Островку, когда стемнело, Кальв послал на двух лодках четырех своих слуг. На двух лодках уплыли, на одной, что поменьше, вернулись. В эту лодку, когда рассвело, уселись Кальв с Эйнаром и поплыли к Островку. Там они сняли с лодки настил, вынули скамьи, весла и все, что там не было закреплено, перевернули лодку и пустили ее по волнам. А сами сели в лодку побольше, которую там оставили слуги, и, подняв парус, направились дальше на северо-запад, в сторону Лофотенских островов. Больше их в Халогаланде не видели.
Кто-то из людей Харека заметил, как ранним утром Кальв и Эйнар отплыли к Островку. Соорудили погоню, но наткнулись на перевернутую и разбитую лодку. Тут многие стали говорить, что Кальв и Эйнар, похоже, утонули. Но Харек Ищейка решил проверить. Он отправился на двор Кальва и зашел в дом.
Скроппа встретила его с топором в руках и с искаженным от злобы лицом. Обрушив на Харека отборную ругань, она стала обвинять его в гибели мужа и обещала самыми страшными заклятьями проклясть и людей Харека, и его самого, и весь его, Хареков, род.
– Я сейчас велю накинуть тебе на голову мешок и забить тебя камнями, – сказал Харек Ищейка, но поспешил выйти из дома, пока Скроппа и вправду не начала его проклинать.
Люди рассказывают, что часть своих людей Харек отправил по домам, а с оставшимися некоторое время ожидал, не всплывет ли труп Эйнара и не прибьет ли его к берегу.
Ни в этой, ни в другой саге не упоминается о том, как Харек отчитался о своей работе перед нанявшими его. Однако в саге о Хальвдане Черном рассказывается, как Харек – у него теперь было другое прозвище, Волк, – по приказу конунга Хальвдана отправился в Хадаланд, отнял у Хаки-берсерка Рагнхильд, дочь Сигурда Оленя, привез ее в Хейдмерк к Хальвдану Черному, а тот на ней женился, и она родила на свет Харальда Прекрасноволосого.
Это произошло всего через несколько лет после того, как Эйнар бежал от Харека на Лофотены.
Глава пятая
Трое в лодке (не считая Тютчева)
Прежде чем отправиться на рыбалку, решили четыре вопроса.
Петрович радостно объявил, что если кто-нибудь из них выпадет из лодки и окажется в воде, то дольше пятнадцати минут не продержится и умрет от переохлаждения, потому как вода в озере еще очень холодная. К этому Драйвер уже не так радостно прибавил, что, учитывая это обстоятельство, все рыболовы должны надеть специальные непромокаемые и «непотопляемые» костюмы, которые он им выдаст. Ведущий заявил, что у него с собой имеется собственное рыболовное обмундирование, ушел к себе в комнату и скоро вернулся облаченный в элегантный черный комбинезон.
На его фоне комбинезоны, которые Петрович предложил Профессору и Мите, выглядели дешево и безвкусно. Линялый и какой-то весь исцарапанный комбинезон хотя бы соответствовал комплекции Андрея Владимировича. А маленький Митя в том, что ему принесли, сначала утонул и потерялся; когда же его нашли и вытащили, закатав рукава и подтянув штанины, стал напоминать одного из персонажей французского народного театра – Профессор так и не вспомнил какого.
Вторым делом определили способ рыбалки. Драйвер предложил троллинг, и его предложение не вызвало возражений ни со стороны Ведущего, ни со стороны Профессора, хотя, если начистоту, Сенявин не любил троллинговую рыбалку из-за ее вынужденной пассивности.
Митя в это время стал осваивать капюшон и совершенно исчез под ним.
Затем стали обсуждать цели рыбалки. Петрович объявил, что цель тут может быть только одна – лосось. Ведущий заметил, что лососевые рыбы представляют собой обширное семейство и среди них наиболее известные – семга, горбуша, кета, нерка, чавыча, кумжа, сиг, хариус… На «хариусе» Трулль остановил перечисление и попросил уточнить: на какой конкретно вид они «нацелились». Петрович на это ответил, что ловить они будут «лосося» – так, с ударением на первый слог, местные жители называют тех рыб, которых они могут поймать.
Наконец, заговорили о приманках, и из их разговора Профессор уяснил, что Ведущий привез с собой целый ящик новейших приманок, которые пока не поступили в продажу и их производители упросили Трулля «обкатать пробники», чтобы выявить среди них самые «музыкальные». Он, Трулль, однако, считает, что начать лучше с «рабочих» приманок, то есть тех, которые используются на базе, и с их помощью найти «места по кайфу».
Ведущий с самого начала избрал для общения с Драйвером некую смесь молодежного и блатного жаргона. К удивлению Профессора карел весьма ловко и привычно владел этой тарабарщиной. Трулль к Петровичу обращался исключительно на «ты», а тот к нему первое время на «вы», пока Трулль не спросил его: «Что ты, блин, как неродной мне выкаешь?», и после этого они уравнялись в местоимениях и глагольных лицах.
Профессор еще больше удивился, когда Петрович вдруг заговорил с ним, Сенявиным, на каком-то непонятном языке. «Я не понимаю по-карельски», – строго заметил Андрей Владимирович. «А по-фински тоже не понимаете?» – почему-то удивился Драйвер. «Представьте себе, не ведаю», – еще строже ответил Сенявин. Петрович же, в следующий раз обращаясь к Профессору, простые русские слова стал произносить с каким-то не то карельским, не то финским, не то даже эстонским акцентом.
С Митей Драйвер вообще не разговаривал, но часто подходил к нему и поправлял ему то рукав, то штанину, а перед самым выходом принес ему зимнюю шапку-ушанку и велел на озере утеплять голову ею, а капюшон оставить в покое.
…У причала их ожидала лодка с металлической рамой посередине. Она возносилась высоким и разлапистым, как раньше говорили, покоем от борта до борта, и в верхней ее части были гнезда, из которых торчали спиннинги. Профессор насчитал восемь удилищ.
Две похожие лодки, но без спиннингов, стояли на якорной растяжке неподалеку от берега.
Когда приближались к причалу, возле лодки со спиннингами Профессор разглядел невысокую фигуру в плаще с капюшоном, которая в равной степени могла принадлежать и мужчине и женщине, вернее, юноше или девушке. Но стоило рыболовам подойти поближе, фигура исчезла, хотя некуда ей было спрятаться на этой открытой местности.
Чтобы сесть в лодку, требовалось для начала уцепиться за боковые поручни и перекинуть ногу через борт. И тут же возник вопрос: как это лучше сделать бедному Мите? Драйвер, страдальчески глядя на радикулитного, вызвался встать на карачки, чтобы, ступив Драйверу на спину, Митя мог взобраться на катер. Ведущий посоветовал «вместо Петровича» установить один ящик на причале и другой – с внутренней стороны лодки.
Митя оба варианта категорически отверг, не глядя ни на Драйвера, ни на Ведущего, а смотря исключительно на Профессора, точнее, куда-то в область его подбородка. И тогда Сенявин взял слово. «Если ты даже в лодку не можешь залезть, то какого хрена ты с нами поперся?!» Нет, он, ясное дело, этого не сказал – ему эдак только сердито подумалось. А вслух Профессор произнес скорбно и предостерегающе:
– Влезть в лодку – это, как говорится, лишь половина печали. Вот когда лодку начнет трясти на волнах… И потом, когда мы вернемся на берег…» – Тут Андрей Владимирович так сильно нахмурился, что обе брови наползли ему на глаза. А Митя изрек:
– Садитесь, садитесь. Когда вы все сядете, у меня ведь не останется выбора.
Профессор предложил первым взойти на катер Ведущему. Но тот, одарив Сенявина ослепительной улыбкой, заявил:
– Увольте! Только после вас, маэстро!
Сенявина это обращение покоробило, и он в раздражении несколько поторопился и перебрался через борт не так уверенно и ловко, как примеривался и планировал.
В следующую секунду рядом с Профессором оказался Ведущий; он, наверное, попросту впрыгнул в лодку, как это умеют акробаты или гимнасты, и Сенявин даже не заметил, как он это проделал.
Митя же… Он вдруг разразился душераздирающим кашлем, и пока кашель раздирал душу Мити и слух Профессора, Митино тело стремительно перекинулось через борт, рухнуло на мягкую скамью внутри лодки и некоторое время там сотрясалось и корчилось, пока не выпрямилось и не устроилось спиной к борту. Кашель прекратился, и Митя радостно затараторил:
– Вот и все. Я же говорил: за вами. Меня так китаец научил. Он велел: ты кашляй, кашляй. Когда сильно кашляешь – не больно. Вернее, не так больно. А я ведь все равно кашляю. Так зачем зря…» – не договорив, Митя замолчал и стал обеими руками вытирать слезы.
«Ненормальный! Ведь так можно…!» – подумалось Профессору, но не додумалось до конца, потому что Сенявину вдруг живо представилось, как больно должно было быть Мите, и по лицу Андрея Владимировича пробежала судорога.
Умело отшвартовав лодку, Петрович сел за руль. Приподняв сзади краешек своей красной шапочки-тюбетейки, он извлек из-под нее резинку и, натянув себе под подбородком, закрепил свой странный головной убор.
– Ну, теперь у нас, это самое, как у Жирома!
– Какого Жирома? – поинтересовался Ведущий.
– Ну, этого… у писателя… английского… или американского… Помнишь? Там у него три мужика решили поплавать на лодке…
– Не Жиром, а Джером Кей Джером, – поправил Профессор. – И книга его называется «Three men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)».
Сенявин огладил бороду и повернулся к Ведущему, словно приглашая того по достоинству оценить его, Андрея Владимировича, английское произношение. Но телезвезда на этот раз даже улыбкой Профессора не удостоила. Трулль сочувственно разглядывал вытиравшего слезы Митю.
– Точно! – радостно откликнулся Петрович, будто понимал по-английски. – «Три человека в лодке, не считая…»
«Трое в лодке», – перебил и поправил его Профессор.
– Я и говорю: трое в лодке, не считая драйвера! – по-прежнему радостно восклицал Петрович.
– «Не считая собаки», – снова уточнил Профессор.
– Неправильно перевели. Трое в лодке, не считая меня, Петровича, – объявил Драйвер и включил мотор.
Драйвер, Ведущий и Профессор надвинули капюшоны. Митя нахлобучил шапку-ушанку.
Лодка рванула от берега, а Профессору подумалось: «Ну ежели так переводить, то ведь еще не известно, кого из нас не считая… Скорее, этого калеку… На него и смотреть-то больно!»
«Yamaha» был мощным, и лодка быстро летела по водной глади.
Скоро они въехали в туман, похожий на… Профессор долго не мог подобрать сравнение для этого странного тумана, пока у него в сознании непонятно откуда не всплыло слово «корпия». Он не сразу вспомнил, что оно означает, но когда вспомнил и даже представил себе, как корпия выглядит, подумал, что сравнение очень удачное и где-то он уже встречал это сравнение или видел такой туман.
Эту растрепанную, растеребленную, местами волокнистую, местами пушистую корпию тумана в некоторых местах пронизывали редкие нити солнечных лучей, отчего на туманной ветоши проступали золотисто-розовые подпалины.
Профессор решил любоваться туманом, то есть почти приказал себе: «это красиво и этим надо любоваться». Но ему помешал Митя. Обернувшись к Профессору, он что-то кричал ему. Его слов было не разобрать из-за ветра и ревущего мотора. Держась за поясницу, Митя стал придвигаться к Сенявину, продолжая выкрикивать. Митя, хотя и не кашлял, но, как говорят герои у Достоевского, брызгался. Профессору же было некуда отодвинуться: он специально устроился за спиной у Петровича, дабы укрыться от встречного ветра. Пришлось Андрею Владимировичу непрерывно оглаживать бороду и усы, чтобы прикрыть рукой рот и нос. А Митя продолжал выкрикивать, и лишь когда он уже вплотную придвинулся к Профессору, тот понял, что Митя хочет ему сообщить: «Как будто среди цветущих яблонь плывем!»
«Яблони» эти разозлили Сенявина. Он вскочил со скамьи и, терзаемый ветром, стал как бы поправлять на раме одно из удилищ. А потом сел на противоположную скамью рядом с Ведущим. Тот не пошевелился. Закрыв глаза, он сидел, подставив лицо ветру.
Профессор же никак не мог успокоиться и думал: «Где он тут яблони увидел?!.. Тем более цветущие!.. Корпия!.. Ее на раны накладывают… Она от них розовеет…» Он долго так гневно размышлял, стараясь не глядеть в сторону Мити, пока ему вдруг не подумалось: «Погоди-ка! Ведь кто-то так написал. Сначала сравнил туман с корпией, а потом – с яблонями, с бескрайними садами цветущих яблонь… Кто-то из древних кинорежиссеров… То ли Эйзенштейн, то ли Пудовкин… Из классиков кто-то… И точно: сначала корпия, а потом яблони… Надо же!»
Профессор удивленно посмотрел на Митю и даже приподнялся со скамьи – не для того ли, чтобы подобраться к нему и что-то ответить по поводу яблонь. Но именно в этот момент Митя закашлялся, и Сенявин подходить передумал.
Тем более что «бескрайние сады» скоро закончились, лодка вынырнула из тумана, и Петрович, сдвинув рычаг на пульте управления, осадил мотор, переведя его, что называется, в режим троллинга.
– Будем раскрываться! – объявил Драйвер.
Этот маневр Профессор видел впервые в жизни. Сначала выпустили по обе стороны два пенопластовых поплавка, соединенные с лодкой металлическими тросами. На тросы один за другим нанизывали карабины, в которые вставляли плетенки от спиннингов. К плетенкам прикрепляли приманки и отпускали за борт, с таким расчетом, чтобы они уходили на разную глубину, чтоб между ними было примерно одинаковое расстояние и лесы не перепутывались.
Митя смотрел на воду, одну руку положив на грудь, а другой подперев поясницу.
Ведущий молча помогал Петровичу. Профессор за ними наблюдал. Как показалось Сенявину, Трулль навешивал приманки едва ли не ловчее, чем это делал Петрович. И только когда все восемь верхних спиннингов были приведены в рабочее состояние, Ведущий позволил себе замечание:
– У вас на базе и воблеры со времен викингов.
– Как-то так. Зато, Сань, уловистые! – весело откликнулся Драйвер.
Потом стали готовить еще три удилища. Два из них расположили с правого борта, одно – с левого.
Когда последнюю приманку отпустили в воду, Профессор, как он всегда это делал в начале рыбалки, прочел первые строки из акафиста святителю Николаю: «Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов…». Сенявин читал молитву про себя, однако шевелил губами и в конце широко перекрестился. Подумалось ему (не нарочито, само по себе подумалось), что хотя бы теперь Ведущий и Драйвер обратят на него внимание. Но с их стороны никакой реакции не последовало.
– Это что у тебя? – спросил Трулль у Петровича.
– Что, что – эхолот, – объяснил Драйвер.
– Не гони, Толь. Это не эхолот. На нем ни хрена не видно.
– Зачем тебе видеть? Я тут и так все знаю.
– Услышал. Но завтра возьмем мой эхолот. Для меня. Я, блин, не такой крутыш, как ты.
– Не вопрос, – согласился Драйвер.
«Я, вроде, никогда не слышал, чтобы у себя на передаче он разговаривал таким языком», – заметилось Профессору.
Митя в прежней позе смотрел на озеро.
– Аркадич, как сами? – спросил Драйвер.
Митя ему не ответил и взгляда от воды не отвел, а лишь убрал из-за спины руку и осторожно уложил ее на колено.
– Что вы там интересного увидели? – снова попробовал Петрович.
Митя сначала убрал вторую руку от груди, с той же осторожностью уложив ее на другое колено, а потом тихо произнес, как будто выдохнул:
– Воду.
– Очень интересное наблюдение! И главное – неожиданное! – не удержался Профессор. И сразу же устыдился своей несдержанности: ведь недавно хотел деликатно заговорить с инвалидом и, нате вам, вырвалось ехидное!
Но Митя благодарно обернулся к Андрею Владимировичу и затараторил, если возможно тараторить, медленно и задумчиво произнося слова, но пауз между фразами не делая и как бы нанизывая их одну на другую:
– Да, да, неожиданно. Неожиданно вдруг подумалось, что все из воды вышло. Вся наша жизнь из нее возникла. И все мы сначала были в воде. Я хочу сказать: в материнской утробе. И во всех религиях, по крайней мере, развитых, во всех культурах сотворение с воды начинается. В христианстве крещение – первое таинство. И четыре главных апостола были рыбаками. И Христос для них по воде ходил. И первым его чудом было воду в вино превратить. И миква у иудеев. И омовение перед молитвой у мусульман. И буддисты говорят о том, что в воде содержится…
Митя не договорил, потому что закашлялся. А Профессор, дождавшись, когда у его визави закончится приступ, позволил себе заметить, на этот раз весьма благожелательным тоном:
– Вы еще не вспомнили о том, что и сами мы на восемьдесят процентов из воды состоим.
Митя снова благодарно улыбнулся, глядя вроде бы в лицо Профессору и одновременно будто чуть в сторону, куда-то мимо его уха.
– Да, наше тело почти полностью из воды состоит. Но душа – только наполовину.
– Любопытно. А другая половина души – из чего? – быстро спросил Профессор, словно опасаясь, что Митя снова медленно затараторит и уже не вставишь вопроса.
– У разных людей по-разному. Все зависит от того, какая часть души у тебя от тела и какая – от духа. И я сказал «половина» в общем условно. Потому что у некоторых эта якобы половина может быть в три четверти, а то и больше. А у других она может быть так сильно охвачена духом, что тела в ней и половины не наберется. Но у всех людей по крайней мере на четверть душа состоит из воды. Вы правы.
«Помилуйте! Я никогда не утверждал, что душа и тем более моя душа состоит из воды!» – хотелось воскликнуть Профессору, но он удержался и возразил, стараясь сохранять прежнюю дружелюбность тона:
– Интересная у вас получается физиология. Однако на мой вопрос вы не ответили: из чего та часть души, которая не из воды?
Митин взгляд, направленный на Профессора, казалось, еще сильнее отдалился от его лица.
– У души нет физиологии. И я условно говорил о душе, когда сказал, что в ней есть вода. Некоторые ученые, правда, пытаются с помощью науки исследовать душу. Но ту часть души, которая связана с духом, наука уж точно не видит и не может видеть. И как же я вам, ученому, могу объяснить, из чего эта, духовная, часть души состоит? Но уверяю вас: воды в ней нет совершенно.
– Да вы прямо философ, Аркадич! – восхищенно воскликнул Петрович и своим восклицанием перебил ту мысль, которая уже почти вызрела у Профессора.
Телеведущий, который до этого смотрел только на спиннинги и на тросы, ведшие к поплавкам-крыльям, теперь с интересом взглянул на Митю и спросил:
– А вы… вы кто по образованию?
Митя, по-прежнему глядя в сторону Профессора и мимо него, вздохнул и грустно ответил:
– Они у меня разные.
«И, поди, все они у тебя неоконченные!» – вдруг злорадно подумалось Сенявину.
А Митя грустно улыбнулся и, впервые посмотрев Профессору прямо в глаза, добавил:
– И все они у меня неоконченные. Если формально судить.
Сказав это, Митя ото всех отвернулся и стал смотреть на воду.
Некоторое время плыли в молчании.
Его нарушил Петрович:
– Пока не клюет, позвольте вам, это самое, предложить.
Он оставил штурвал, шагнул к левому борту и распахнул одну из дверок. В открывшемся шкафчике стояли бутылки, бокалы разных форм и размеров, в целлофановых обертках лежали нарезки и бутерброды.
Вернувшись к штурвалу, Драйвер, глядя на Ведущего, объявил:
– Тут, значит, на разные вкусы: водка, виски, коньяк, закуска самая свежая.
– Спасибо, Петрович. Я не пью на рыбалке, – не улыбаясь, ответил Трулль.
Профессор сурово нахмурился и решительно подумал: «Я тоже откажусь!». Но вслух ничего не произнес.
Петрович же обернулся к Мите и пояснил:
– Все, как говорится, за счет дома. То есть, для гостей – бесплатно, Аркадич.
Митя его слов будто не слышал.
Профессору сначала с раздражением подумалось: «Нашел кому предлагать!», потом с обидой: «Один я пить не буду!». А следом за этим Профессор спросил:
– Виски какой у вас?
– Виски российские… коньяк армянский… водка «Питерская ночь»…, – откликнулся Драйвер, с удивлением глядя на Профессора, будто меньше всего ожидал от него интереса.
«Сам пей эту гадость!» – гневно подумал Сенявин и спросил.
– А поприличнее ничего не найдется?
– Есть этот, как его, «Хеннессу всоп». Его у нас недавно два генерала пили. Но он, это, французский и за него, так сказать, надо платить.
«Если уж пить с утра, то, конечно же, «Hennessy». Черт с ними, с деньгами!» – подумал Сенявин и объявил:
– Грех, говорят, пить в одиночестве. Но я, пожалуй, пропущу одну рюмочку… армянского.
Петрович снова оставил штурвал, метнулся к шкафчику, и в мгновение ока в руке у него оказался наполненный коньяком бокал.
Драйвера, похоже, обрадовала сговорчивость Профессора. Во всяком случае он теперь только к нему обращался.
– Правильно, Профессор! – говорил он, подавая коньяк Сенявину. – Те два генерала, о которых я вспомнил, один из них тоже, как вы, перекрестился, а другой ему говорит: ну, теперь, по уставу, надо запить молитву, а то не подействует… Закусывать чем будем?
Профессор спросил лимон и салями.
Петрович то с правой стороны поправлял руль, то с левой нарезал лимон, разворачивал колбаску и продолжал рассказывать:
– Грех, значит, в сухомятку молиться. Это мне второй генерал сказал. А иначе, говорит, клевать не будет. И сначала они, как и вы, заказали армянского. Быстро убрали бутылку. А потом говорят: теперь можно и по вражескому коньяку ударить беглым огнем. Это когда, значит, пьют не по команде, то есть не тостами, а немедленно по готовности, как первый генерал объяснил, тот, который крестился. Тогда, говорит, еще лучше клевать будет. Когда все очаги сопротивления будут подавлены.
– Ну и как? Клевало? – усмехнулся Сенявин. Он после нескольких глотков коньяка и ввиду проявляемого к нему внимания чувствовал себя все более благодушно и даже игриво.
– Со страшной силой, профессор! – воскликнул Петрович. – Так подействовала, что я сам был не рад. Прикиньте: восемь зачетных рыбин и еще три незачетных. И мне одному и лодкой управлять, и рыбу вываживать, и подсаком работать.
– Почему одному? А доблестные генералы? – удивился Профессор.
– Какие тебе генералы! – махнул рукой Драйвер. – Они после своего беглого огня по французскому не только, это самое, у врага очаги подавили, но и сами вырубились и заснули. А бедный Петрович..! – Тут Драйвер не удержался и произнес короткую, но, судя по всему, грубую фразу на своем угорском наречии и заключил: – Все я вместо них выловил, по двум пакетам разложил, чтобы каждому генералу поровну было. А они, когда мы уже на базу приехали, только проснулись и говорят: ах, жеваный кот, сколько мы рыбы-то надергали!.. Очень были довольны. И хозяину велели премию мне выписать.
– Интересные у вас клиенты, – это Трулль произнес, который внимательно следил за спиннингами, но изредка все же поглядывал на Драйвера.
Петрович сперва подал Профессору блюдечко с ломтиками колбасы и лишь затем обернулся к Ведущему, что тоже понравилось Сенявину.
– У нас гости разные, – сказал карел. – Иногда такие бывают, что нам о них и рассказывать-то нельзя.
– Бандиты что ли? – осведомился Трулль.
– Разные, говорю… Вот в прошлом годе приехали трое банкиров или кто они там, попробуй их теперь разбери. Погода была неклевая, и я их предупредил, что не клевая будет. А они: ты нам, капитан, хотя бы одного лосося поймай, мы тебе скажем спасибо. Ну, говорю, одного-то наверно возьмем.
Драйвер оборвал рассказ, заметив, что у Сенявина бокал опустел.
– Еще не прикажете, профессор?
Андрей Владимирович согласно кивнул, но приказал налить поменьше, чем в прошлый раз.
Драйвер налил столько же и продолжал, радостно глядя теперь на Ведущего:
– Часа два, а то и три, Саш, прикинь, ни на одну палку даже не тюкнула, хотя я все воблеры перепробовал. И вдруг на один, как ты говоришь, со времен викингов, взял красаве?ц килограммчика на три. Хорошо сел. Иначе они бы его и к лодке не подвели. Я сразу понял, что все они лохуны, как у нас называют… Но ты дальше слушай. Один из них, значит, вываживает, а другой стал его снимать на это самое… ну, на видео. Мне дали подсак. И меня тоже снимали. А когда, слава богу, вытащили, и я хотел вынуть крючок, тот, который снимал, говорит: нет, ты его выбрось за борт, теперь я его буду тянуть, а другой меня будет снимать… Как тебе, Сань? Нормал?!
– И ты, конечно, выбросил, – безразлично ответил Трулль и, взявшись за штурвал, выровнял движение лодки, которую стало несколько заносить в сторону от прежнего курса.
– А что ты мне предлагаешь?! – испуганно воскликнул Петрович. – Гости, блин! Их всякое желание для нас закон! Ну, конечно, если это, так сказать, не нарушает безопасности… Тут у нас еще строжее… Выбросил однозначно. Вернее, аккуратно опустил его снова в воду… Короче, второй лохун его стал как бы вываживать, а первый снимать. И снова подняли на борт. И тут, как ты, наверно, догадываешься, третий нарисовался. Давай, говорит, снова ловить, меня еще не снимали. Ну, танцы на этом самом… как там у вас в телевизоре называется, я забыл?!.. И главное вижу, они ему рот надорвали, а он у нашего лосося маленький, с ним надо душевно, а не рывками, как они это делали…
– Ну ясно, – сказал Ведущий, снова поправляя лодку. – На третьем дубле, как я понимаю, – стоп! снято!
– Упустили, конечно, – сокрушенно вздохнул Петрович, отбирая у Трулля штурвал. – И я ведь заранее предупреждал. К гадалке, говорю, не ходи!.. Но куда там! Им все по елке… А когда вернулись на базу, пожаловались Олегу Виталичу, что я, мол, плохо их обслужил и драйвер я никудышный… Бывают же такие люди!
– Бывают, – невозмутимо согласился с ним Ведущий, проверяя фрикцион на одном из спиннингов на борту лодки.
– И у нас так кругом: либо генералы, либо банкиры, либо хохлы приедут и семечки лузгают, всю лодку засрут. И мне, Саша, честно говоря, ты меня попробуй понять, мне, так сказать, пьющие генералы намного как бы роднее, чем эти, скажем, банкиры. Они и не пили почти; мы, говорят, люди спортивные, здоровье свое бережем.
Ведущий, начав проверять фрикцион на втором спиннинге, прекратил это занятие, подошел к Драйверу, похлопал его по плечу и сказал:
– Не грусти, Петрович. Я с тобой обязательно выпью. Но вечером. У меня голова начинает болеть, если я выпью хотя бы одну рюмку утром.
– Да я не о том, Сань! – в сердцах воскликнул Драйвер. – Ты не понял. Я только хотел выразить… Помнишь, мы в школе учили? «Умом Россию не понять…»
Петрович замолчал, будто не находя слов. Но их быстро нашел Ведущий.
– Я, Петрович, другое помню, – заявил он. – Помню, как еще на базе ты назвал свои приманки уловистыми и обещал нам трех или четырех зачетных лососей. Вот и я хочу только выразить: когда же начнет клевать, Толя?!
– Рыбу надо выстрадать, так у нас говорят, – не сразу ответил задумчивый Драйвер.
И снова быстро откликнулся Ведущий:
– А у нас говорят: страдает тот, кто не умеет ловить рыбу. И если бы у нас был нормальный эхолот, если бы я хоть немного знал здешние места…
Они, Ведущий и Драйвер, вновь заговорили об эхолотах, о знании «клевых» мест Петровичем, а также об уловистых воблерах и их правильном заглублении.
Профессор опять ощутил себя забытым и решил о себе напомнить.
– Послушайте, Анатолий! – громко позвал он и еще громче добавил: – Анатолий Петрович, я к вам обращаюсь!
Когда Драйвер к нему наконец обернулся, Профессор спросил:
– А дальше как у Тютчева, вы не помните?
– Утючин?.. Это кто?
– Тютчев, Федор Иванович, – усмехнулся Сенявин. – Великий русский поэт. Вы давеча процитировали первую строку из его четверостишья: «Умом Россию не понять…» А дальше не помните как?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/uriy-vyazemskiy/besov-nos-volki-odina/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
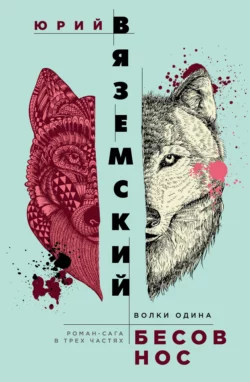
Юрий Вяземский
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Стоимость: 489.00 ₽
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 17.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Однажды в начале лета на рыболовную базу, расположенную на Ладоге, приехали трое мужчин. Попали они сюда, казалось, случайно, но вероятно, по определенному умыслу Провидения. Один – профессор истории, средних лет; второй – телеведущий, звезда эфиров, за тридцать; третий – пожилой, очень образованный человек, непонятной профессии. Мужчины не только ловят рыбу, а еще и активно беседуют, обсуждая то, что происходит в их жизни, в их стране. И еще они переживают различные и малопонятные события. То одному снится странный сон – волчица с волчонком; то на дороге постоянно встречаются умершие животные… Кроме того, они ходят смотреть на петроглифы – поднимаются в гору и изучают рисунок на скале, оставленный там древними скандинавами…