Фавориты Фортуны
Фавориты Фортуны
Колин Маккалоу
The Big Book. Исторический романВладыки Рима #3
«Фавориты Фортуны» – третий роман знаменитого цикла Колин Маккалоу «Владыки Рима» по замыслу автора должен восприниматься не только в качестве продолжения романов «Первый Человек в Риме» и «Битва за Рим», но и как самостоятельное произведение, вполне законченное и независимое.
В переломный момент истории новое поколение честолюбивых римлян вступает в противоборство за власть и величие. Избранные, которым покровительство богов даровано с рождения. Проклятые, изнывающие под тяжким бременем диктата судьбы в пылу яростной схватки за власть, – схватки, в результате которой столь многим из них суждено быть поверженными.
Но есть среди них один, кто величественно возвышается над всеми: юноша, щедро одаренный талантами и красотой, чьи амбиции беспримерны, чья жизнь и любовь стали легендой, чья слава – слава самого Рима. Юноша, которому самой Фортуной суждено было прославить и возвысить свое и без того гордое имя – Цезарь.
Колин Маккалоу
Фавориты Фортуны
Подполковнику преподобной А. Ребекке Уэст, Femina Optima Maxima, величайшей женщине в мире
Colleen McCullough
FORTUNE’S FAVORITES
Copyright © 1993 by Colleen McCullough
All rights reserved
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers.
Перевод с английского Антонины Костровой, Елены Хаецкой, Татьяны Шушлебиной (Глоссарий)
Иллюстрации Колин Маккалоу
Карты выполнены Еленой Ивановой и Вадимом Пожидаевым-мл.
©?А. П. Кострова, перевод, 2019
©?Е. В. Хаецкая, перевод, 2019
©?Т. А. Шушлебина, перевод, 2019
©?Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®
Некоторые события римской истории, предваряющие действия романа «Первый Человек в Риме»
(Все даты относятся ко времени до нашей эры)
Ок. 1100 Покинув Трою, Эней обосновывается в Лации. Его сын Юл становится царем Альбы-Лонги.
753–715 Ромул, первый царь Рима, основывает город на Палатинском холме.
715–673 Нума Помпилий, второй царь Рима, выбранный из числа 100 сенаторов, учреждает ремесленные цехи и религиозные коллегии, проводит реформу календаря, прибавив к десяти месяцам, на которые римляне делили год, еще два.
673–642 Тулл Гостилий, третий царь, строит здание сената.
642–617 Анк Марций, четвертый царь, строит Деревянный мост, возводит крепость на Яникуле, завоевывает соляные копи в Остии.
616–578 Тарквиний Приск, пятый царь, строит Большой цирк, проводит в Риме центральную канализацию, увеличивает сенат до 300 человек, учреждает трибы, классы и цензовый учет.
578–534 Сервий Туллий, шестой царь, строит крепостную стену, раздвигает померий.
534–510 Тарквиний Гордый, седьмой царь, заканчивает строительство храма Юпитера Всеблагого Всесильного на Капитолийском холме, завоевывает Габии.
509 Изгнание Тарквиния Гордого. УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ. Брут и Валерий становятся первыми высшими магистратами (называемыми в ту пору преторами, не консулами).
508 Учреждается высшая жреческая должность великого понтифика, царь священнодействий становится лишь вторым по значимости служителем культа.
500 Тит Ларций назначается первым в истории Рима диктатором.
494 Первая сецессия плебеев: учреждаются должности двух плебейских трибунов и двух плебейских эдилов.
471 Вторая сецессия плебеев: вводится голосование по трибам.
459 Число плебейских трибунов увеличивается с двух до десяти.
456 Третья сецессия плебеев: плебеи получают в собственность землю.
451 Децемвиры (десять человек с консульской властью) кодифицируют законы XII таблиц.
449 Четвертая сецессия плебеев: вступает в силу закон Валерия – Горация (lex Valeria Horatia), утверждающий неприкосновенность народных трибунов.
447 Трибутные комиции получают право избирать квесторов.
445 Законы Канулея (leges Canuleiae): а) вместо двух консулов ежегодно избираются шесть военных трибунов, должность эта становится доступной и для плебеев; б) разрешены браки между патрициями и плебеями.
443 Впервые избираются цензоры.
439 Спурий Мелий, намеревавшийся провозгласить себя царем Рима, убит Сервилием Агалой.
421 Число квесторов увеличивается до четырех, магистратура открыта и для плебеев.
396 Вводится плата за военную службу. Плата эта оставалась неизменной до времен диктатуры Цезаря, увеличившего ее вдвое.
390 Разорение Рима галлами; Капитолий устоял благодаря предупреждению гусей.
367 Восстановление консульства. Учреждение должности двух курульных эдилов.
366 Избирается первый консул из плебеев. Учреждение должности городского претора (praetor urbanus).
356 Первый диктатор из плебеев. Цензорство становится доступным для плебеев.
351 Первый цензор из плебеев.
343–341 Первая Самнитская война. Заключение мирного договора между Римом и Самнием.
342 Законы Генуция (leges Genuciae): а) облегчается долговое бремя; б) одну и ту же должность разрешается занимать второй раз только по истечении десяти лет; в) оба консула могут быть плебеями.
339 Законы Публилия (leges Publiliae): а) один цензор должен быть плебеем; б) законопроекты, выносящиеся на обсуждение в центуриатных комициях, должны быть предварительно утверждены сенатом; в) плебисцит получает силу закона.
337 Первый praetor urbanus из плебеев.
326–304 Вторая Самнитская война (поражение в Кавдинском ущелье, прохождение под ярмом).
300 Законы Огульниев (leges Ogulniae), открывают плебеям доступ в жреческие коллегии.
298–290 Третья Самнитская война. Установление господства Рима.
289 Организация монетного дела, учреждаются должности трех монетариев (tresviri monetales).
287 Закон Гортензия (lex Hortensia), подтверждает, что плебисциты имеют силу законов.
267 Число квесторов увеличивается с шести до восьми.
264 Первый гладиаторский бой в Риме (не в цирке!).
264–241 Первая Пуническая война (с Карфагеном). По условиям мирного договора Рим получает Сицилию, Сардинию и Корсику, которые становятся первыми римскими провинциями.
253 Первый великий понтифик из плебеев.
242 Учреждена должность претора по делам иноземцев (praetor peregrinus), количество преторов увеличивается до двух.
241 Реформы центуриатных комиций до некоторой степени ограничивают власть первого класса. Создаются последние две трибы, их число достигает 35.
227 Число преторов увеличивается с двух до четырех; квесторов – с шести до десяти.
218–201 Вторая Пуническая война. Карфагенскую армию возглавляет Ганнибал.
210–206 Сципион Африканский одерживает победы в Испании.
202 Краткое правление последнего диктатора старого образца.
197 Обе Испании становятся провинциями; число преторов увеличивается до шести, квеcторов – до двенадцати.
180 Закон Виллия (lex Villia annalis), регулирует порядок занятия курульных магистратур.
171 Учреждается первая временная комиссия по делам о государственной измене.
169 Закон Вокония (lex Voconia), запрещает назначать наследницей женщину. Конфликт сената и всаднического сословия; цензоры отстраняют от подрядов тех, кто заключил контракты в предыдущие пять лет. Цензоры едва избегают высылки из Рима.
149 Закон Атиния (lex Atinia) об автоматическом принятии народных трибунов в сенат. Закон Кальпурния (lex Calpurnia) об учреждении постоянного суда по делам о вымогательствах.
149–146 Третья Пуническая война. Африка становится римской провинцией.
147 Завоевана Македония, которая становится римской провинцией.
144 Претор Квинт Марций Рекс строит в Риме новый акведук.
139 Согласно закону Габиния (lex Gabinia), на выборах вводится тайное голосование.
137 Закон Кассия (lex Cassia) о тайном голосовании в судах.
133 Убит народный трибун Тиберий Гракх.
123 Гай Гракх становится народным трибуном.
122 Гай Гракх становится народным трибуном во второй раз.
121 Сенат издает первый декрет о защите Республики, для подавления выступления Гая Гракха. Гракх кончает с собой, его сторонники казнены.
121 Царь Митридат V убит своей женой. Юный Митридат скрывается в горах.
120 Наводнение на землях германских племен. Начинается переселение кимвров и тевтонов.
119 Гай Марий, народный трибун, проводит lex Maria, согласно которому проходы для подачи голосов на выборах делаются более узкими, чтобы затруднить подкуп избирателей.
115 Юный Митридат захватывает власть и становится царем Понта.
113 Германские кимвры наносят поражение Папирию Карбону у Норика.
112 Рим объявляет войну Югурте Нумидийскому.
111 Рим заключает с Югуртой мирный договор.
110 Авл Постумий Альбин самовольно вторгается в Нумидию, не имея на это полномочий: начинается война с Югуртой…
Краткое содержание предыдущих книг
Мне хотелось, чтобы «Фавориты Фортуны» воспринимались как самостоятельное произведение, вполне законченное и независимое от других романов цикла – «Первый Человек в Риме» и «Битва за Рим». Приведенное ниже краткое содержание этих двух книг даст представление о событиях, предшествующих описанным в данном романе. Надеюсь, это позволит читателю получить больше удовольствия от чтения.
Хроника событий романа «Первый человек в Риме»
Год 110-й до н. э. Скорее по воле случая, нежели по чьему-то замыслу, Римская республика начала превращаться в империю. Она вступила в период захватнических войн. Агрессивная внешняя политика Рима все более входила в непримиримое противоречие с древними установлениями, которые изначально были призваны регулировать жизнь небольшого города-государства и защищать интересы господствующего класса, представленные сенатом.
Истинным призванием римлян всегда была война. Этим искусством они владели великолепно. Рим привык считать войну единственным средством экономического процветания. Он держал в повиновении прочие народы, населявшие Апеннинский полуостров (своих италийских союзников). Италики были лишены прав римского гражданства и по положению считались ниже римлян.
Однако постепенно голос народа начал набирать силу. Появились такие политики, как братья Гракхи. Они открыто намеревались лишить сенат его изначальных привилегий, требуя передать власть сословию всадников – римским гражданам, которые занимали более низкую ступень на социальной лестнице по сравнению с сенаторами. Всадники являлись по преимуществу зажиточными торговцами и откупщиками. Требования социальных перемен в Древнем мире никогда не выдвигались от имени бедняков; в данном случае борьба велась между аристократами-землевладельцами и торговцами-плутократами.
В 110 году до н. э. сорокасемилетний Гай Марий еще не обрел всенародной известности, родом он был из небольшого латинского городка Арпин. Благодаря выдающемуся полководческому таланту он смог подняться до положения второго лица в правительстве и получить выборную должность претора. Марий был очень богат. Однако честолюбивый претор мечтал стать консулом – занять высшую военную должность, хотя и знал, что незнатное происхождение никогда не позволит ему взлететь столь высоко. Консулами становились только аристократы, принадлежащие к древним родам, землевладельцы, которые не пачкали рук, сколачивая себе состояние на торговле.
Знакомство с обедневшим патрицием, сенатором Гаем Юлием Цезарем – дедом великого Цезаря, дало Марию шанс. Марий и Цезарь заключили сделку: богатый Гай Марий финансирует карьеру двух сыновей Цезаря и дает приданое младшей его дочери, а в благодарность за это получает в жены старшую – Юлию. Таким образом Марий породнился с одной из самых именитых семей Рима, что значительно приблизило его к заветной цели.
В 109 году Гай Марий, супруг Юлии, и его давний друг, любитель писать длинные, подробные письма, Публий Рутилий Руф отправились воевать с нумидийским царем Югуртой. В то время Марий еще не был консулом и, соответственно, главнокомандующим. На этот пост был избран аристократ Метелл – впоследствии он станет называть себя Метеллом Нумидийским в ознаменование победы над Нумидией; однако Марий именовал его куда менее почетно – Свин (словом «свинка» римские нянюшки иносказательно обозначали половые органы маленьких девочек). С Метеллом Нумидийским был его двадцатилетний сын, Метелл Пий, по заглазному прозванию Свиненок.
Война в Африке затянулась, поскольку Метелл Нумидийский был не слишком талантливым полководцем. В 108 году Марий обратился с просьбой освободить его от должности старшего легата при Метелле, дабы он мог вернуться в Рим и выдвинуть свою кандидатуру на должность одного из двух консулов, избираемых на 107 год. Метелл отказался отпустить Мария. Тогда Марий посредством переписки с друзьями, оставшимися в Риме, положил начало шумной кампании жалоб и критики в адрес бездарного Метелла. В конце концов эти действия увенчались успехом, и Метелл был вынужден освободить Мария от службы в африканских легионах.
Там же, в Нумидии, сирийская прорицательница Марфа предсказала Марию семикратное консульство – небывалый случай! Согласно словам старухи, Гая Мария назовут Третьим основателем Рима. Но она также предрекла, что племянник его жены, носящий то же имя – Гай, станет величайшим римлянином всех времен. Тогда этот ребенок еще не был рожден. Марий безоговорочно поверил Марфе.
По возвращении в Рим Марий был избран младшим консулом 107 года. Он тотчас использовал Плебейское собрание, законодательный орган, чтобы провести закон, по которому Метелл Нумидийский Свин лишался должности главнокомандующего в войне с нумидийским царем Югуртой. Эта должность перешла к Марию.
Главной проблемой оставалась малочисленность римского войска. Те шесть легионов, которыми Метелл командовал в Африке, передали другому консулу. В Италии просто не осталось мужчин, которых можно было вербовать в римскую армию: за последние пятнадцать лет Рим нес слишком большие потери из-за нескольких военачальников, сколь родовитых, столь и бездарных. Влиятельные друзья Метелла Нумидийского, в ярости оттого, что Марий «отобрал» у них войну с Югуртой, объединились, чтобы лишить ненавистного италика войска.
Но Марий, реформатор, умеющий мыслить неординарно, нашел новый источник для рекрутского набора – capite censi, класс неимущих, занимавших самую нижнюю ступень социальной лестницы римских граждан. Он решил набрать себе армию из «отребья» – революционная идея!
Предполагалось, что римский легионер должен иметь землю и достаточно средств, чтобы купить оружие и доспехи. Веками солдат Риму поставлял класс зажиточных крестьян. Теперь же этих людей почти не осталось. Их небольшие земельные наделы постепенно перешли в собственность сенаторов или богатых всадников. Так возникли обширные поместья, именуемые латифундиями, в которых трудились рабы. Таким образом, свободные люди из простолюдинов остались без средств к существованию.
Когда Марий объявил, что собирается набрать войско из неимущих, ярость его противников достигла апогея. Преодолевая на каждом шагу сопротивление сенаторов и всадников, Марий двигался к намеченной цели. Он заручился поддержкой Плебейского собрания, а затем добился принятия закона, обязывающего казначейство финансировать экипировку его новых солдат.
В Африку Марий вернулся с шестью полными легионами, набранными из неимущих граждан, которые сенат ни во что не ставил. С Марием был также квестор – младший чиновник, ответственный за финансы, – по имени Луций Корнелий Сулла. Сулла только что женился на Юлилле, младшей дочери старого Цезаря, и стал свояком Мария.
Сулла представлял собой полную противоположность Гаю Марию. Это был красавец-аристократ из древнего патрицианского рода. Однако доступ в сенат был ему заказан ввиду его чрезвычайной бедности. Сулла жил в полной нищете до тех пор, пока череда коварных убийств не позволила ему стать наследником имущества двух женщин: его любовницы Никополис и его мачехи Клитумны. Амбициозный и безжалостный, Сулла, как и Марий, верил в свою счастливую звезду. Первые тридцать три года жизни Суллы прошли в театральном мире, среди актеров, отнюдь не пользовавшихся уважением в римском обществе, в результате чего в жизни Суллы появилась тщательно скрываемая им постыдная тайна. В Риме гомосексуализм сурово порицался. Когда Сулла начал восхождение по социальной лестнице, ему пришлось расстаться с единственной любовью своей жизни – греком-актером Метробием, в те годы еще подростком.
Марию потребовалось почти три года, чтобы победить Югурту. Пленение царя было осуществлено лично Суллой – одним из легатов Мария, его доверенным лицом и правой рукой. Совершенно различные по натуре и происхождению, эти два человека неплохо ладили между собой. Новая армия Мария, набранная из неимущих, хорошо показала себя в сражениях. Таким образом, Марий сумел заткнуть рот своим противникам-сенаторам.
Пока Сулла и Марий были заняты войной в Африке, возникла новая угроза Риму. Огромные полчища германцев – кимвры, тевтоны, херуски, маркоманы, тигурины – пришли в римскую провинцию Заальпийская Галлия (современная Франция) и нанесли несколько катастрофических поражений римским армиям, во главе которых стояли некомпетентные в военном отношении аристократы. Лучше всего характеризует этих «полководцев» тот факт, что на поле боя они отказывались взаимодействовать с людьми, которых считали ниже себя по положению!
Марий был избран консулом вторично. Избрание произошло в отсутствие кандидата – небывалый случай. Гай Марий возглавил армию в войне против германцев, несмотря на оппозицию в лице Метелла Нумидийского и Марка Эмилия Скавра, принцепса сената. Весь Рим верил, что Марий – единственный, кто способен победить страшного врага, и отсюда это удивительное и совершенно непрошеное второе консульство.
В 104 году, сопровождаемый Суллой и своим семнадцатилетним родственником Квинтом Серторием, Гай Марий повел легионы своих «неимущих» – теперь закаленных ветеранов – в Заальпийскую Галлию и там стал ждать германцев.
Однако германцы не пришли. Тогда Марий занял войска общественными работами (в частности, строительством дорог), чтобы армия не разлагалась в бездействии. А Сулла и Серторий, решив выдать себя за галлов, покинули римский лагерь и отправились к варварам, чтобы выведать их планы. В 103 году Мария снова избрали консулом. Благодаря усилиям плебейского трибуна Луция Аппулея Сатурнина состоялось и четвертое консульство Мария – в 102 году. Вот тогда-то и нагрянули германцы. Это произошло кстати для карьеры Мария, поскольку враждебно настроенные к нему сенаторы уже готовились избавиться от него навсегда.
Благодаря успешно проведенной разведке Суллы и Сертория Марий был предупрежден о планах врага. У германцев был мудрый вождь по имени Бойорикс. Он разделил колоссальную орду варваров на три части и вошел в Италию «трезубцем». Один «зубец» – тевтоны – должен был двинуться вдоль реки Родан и ворваться в Италию через Западные Альпы; другой – кимвры – под предводительством самого Бойорикса направлялся к высокогорному перевалу Бренна, в центральную часть Северной Италии. Третья часть варварской орды, разнородная по составу, должна была перейти Восточные Альпы и дойти до современной Венеции. Затем все три части планировали объединиться, захватить полуостров и свергнуть власть Рима.
В 102 году вторым консулом, помощником Мария, стал один из Цезарей – Квинт Лутаций Катул Цезарь. Это был надменный аристократ, считавший себя превосходным военачальником. Но Марий знал, что в военном деле Катул Цезарь был полным профаном.
Решив остаться на прежнем месте – в районе современного Прованса, чтобы перехватить тевтонов, Марий вынужден был поручить Катулу Цезарю остановить кимвров. Третий отряд германцев, не добравшись до Восточных Альп, принял решение вернуться в Германию. Итак, предоставив Катулу двадцатичетырехтысячную армию, сенат приказал ему идти на север и встретить кимвров. Марий, не доверяя Катулу, послал к нему Суллу в качестве заместителя главнокомандующего. Сулле было приказано сделать все, что в его силах, чтобы сохранить драгоценные войска вопреки грубейшим ошибкам, которые наверняка наделает Катул Цезарь.
В конце лета 102 года тевтоны в количестве свыше ста тысяч человек приблизились к позициям Мария. Его армия насчитывала около тридцати семи тысяч. В последовавшем сражении Марий уничтожил неорганизованных тевтонов. Уцелевшие разбежались. Угрозы Италии с запада больше не существовало.
Почти в то же время Катул Цезарь и Сулла с небольшой армией проникли в альпийскую долину реки Атес. Там они и столкнулись с кимврами, которые появились из-за перевала Бренна. Поскольку для маневра в узкой долине не было места, Сулла настаивал на отступлении. Катул Цезарь категорически отказался. Тогда Сулла подговорил командный состав легиона поднять мятеж и таким образом все же отвел армию в долину реки Пад (ныне По), расквартировав ее в Плаценции, в то время как десять тысяч кимвров вместе с женщинами, детьми и скотом заняли восточную часть долины Пада.
Избранный консулом в пятый раз благодаря славной победе над тевтонами, в 101 году Марий привел основные силы в Северную Италию и соединил их с легионами Катула Цезаря. Теперь в римских войсках насчитывалось пятьдесят четыре тысячи солдат. В середине лета произошло решающее сражение с германцами при Верцеллах, у подножия Альп. Бойорикс погиб, кимвры были уничтожены. Марий спас Италию и Рим от германцев, которые после этого еще пятьдесят лет не могли собраться с силами.
Метелл Нумидийский, принцепс сената Скавр, Катул Цезарь и прочие враги Мария стали еще непримиримее, поскольку Марий был провозглашен Третьим основателем Рима и его вполне могли избрать консулом в шестой раз.
В 100 году сражения перенеслись с полей битв на Римский форум, который стал ареной кровавых разборок и яростных политических споров. Приверженцу Мария Сатурнину удалось пройти в Плебейское собрание вторично. Ради этой цели он и его сообщник Главция прибегли к убийству плебейского трибуна. Собрание, знаменитое своими радикалами и демагогами, приняло земельный закон для ветеранов армии Мария.
Ветераны представляли проблему для Рима: у них не было собственности, а на военной службе они получали мизерное жалованье. И теперь, когда Рим больше в них не нуждался, требовалось чем-то их вознаградить. Марий обещал им земельные наделы, но за пределами Италии. Его целью было распространить римскую культуру и римские обычаи по всем римским провинциям, число которых постоянно увеличивалось. На вновь завоеванных территориях имелись обширные участки общественных земель. Вот на этих-то участках, в новых провинциях, Марий и намеревался поселить своих солдат. Горячо обсуждаемый вопрос о предоставлении общественных земель неимущим ветеранам фактически означал прямой путь к падению Римской республики, ибо сенат, недальновидный и консервативный, упорно отказывался сотрудничать с военачальниками и выделить земли солдатам. Из этого следовало, что по прошествии времени солдаты будут хранить верность своим военачальникам – тем, кто обещает им землю и деньги, – и только потом – сенату и народу Рима.
Оппозиция сената двум законопроектам Сатурнина была ожесточенной, хотя у этого проекта нашлись сторонники и среди высших классов. Первый закон о земле был принят, но второй прошел только после того, как Марий принудил членов сената дать клятву, что они поддержат этот закон. Метелла Нумидийского так и не удалось убедить дать такую клятву, и он добровольно отправился в ссылку, заплатив к тому же огромный штраф.
Однако принцепс сената Скавр, хитрый, опытный старый политик, во время дебатов о втором законопроекте обошел неискушенного в подобных интригах Мария. Он заставил Мария признать, что оба законопроекта Сатурнина несостоятельны. И до сего момента преданный Марию Сатурнин отвернулся от своего покровителя. Он замыслил уничтожить и Мария, и самый сенат.
В это время здоровье Мария резко пошатнулось. Удар принудил его на несколько месяцев уйти с политической сцены. В этот период и начал новую игру Сатурнин.
Осенью в Рим должны были прибыть корабли с зерном, но засуха, охватившая все Средиземноморье, стала причиной неурожая. Четвертый год подряд римляне вынуждены были платить за хлеб очень высокую цену. Этим и воспользовался Сатурнин. Он сам решил стать Первым Человеком в Риме – не как консул, а как плебейский трибун. Он мог манипулировать огромными толпами, которые теперь ежедневно собирались на Римском форуме, желая выразить протест властям, которые ничего не делают, чтобы предотвратить надвигающийся голод. Зима обещала быть суровой. Когда Сатурнин внес свой законопроект о государственном финансировании зерновых поставок, он постарался расположить к себе отнюдь не самые низшие классы. Фактически он действовал в интересах зерноторговцев и предпринимателей, чьи дела были поставлены под угрозу. Голоса низших классов ничего не значили, но голоса торговцев имели большой вес – при их поддержке Сатурнин мог бы уничтожить и сенат, и Гая Мария.
Оправившись от удара, Марий созвал сенат в первый день декабря 100 года, чтобы попытаться остановить Сатурнина. А тот намеревался сделаться плебейским трибуном в третий раз. В то же время друг Сатурнина Главция выдвинул свою кандидатуру на должность консула. Оба этих выдвижения были незаконны. Они вызвали яростные протесты, ибо бросали вызов традиции.
Во время консульских выборов, когда Главция убил своего соперника, обстановка накалилась. Марий еще раз созвал сенат, был издан декрет о защите Республики (наделяющий сенат правом править по законам военного времени). После этого сенаторы разошлись по домам, чтобы вооружиться. И тогда на Римском форуме произошло столкновение. Сатурнин и Главция полагали, что угроза голода заставит низшие классы поднять мятеж, но толпы разошлись по домам. Сулла помог Марию ликвидировать оставшихся сторонников Сатурнина. Сам Сатурнин укрылся в храме Юпитера Всеблагого Всесильного, но вынужден был сдаться, когда Сулла перекрыл водное снабжение храма.
Главция покончил с собой, Сатурнина и его сторонников заперли в здании сената в ожидании суда. Все сенаторы знали, что этот суд сломает и без того уже пошатнувшийся политический порядок. И Сулла решил проблему по-своему. Он тайно привел небольшую группу преданных ему молодых аристократов, которые поднялись на крышу сената, сорвали черепицу и забросали арестованных ею, убив таким образом Сатурнина и его сторонников. Столь же незаметно убийцы скрылись.
Закон Сатурнина о зерне был аннулирован, однако Марий – теперь ему было пятьдесят семь лет – увидел, что его политической карьере настал конец. Шестикратный консул, он уже думал, что предсказание Марфы так никогда и не осуществится. Сулла надеялся через год победить на преторских выборах. Поэтому он решил отойти от Мария, политически одиозной фигуры, чтобы не навредить собственной карьере.
В течение этих десяти лет личная жизнь Мария и Суллы складывалась по-разному.
Брак Мария и Юлии оказался счастливым. В 109 году у них родился сын, их единственный ребенок, Марий-младший. Старый Цезарь умер, однако он успел увидеть двух своих сыновей твердо стоящими на ногах, достигшими высокого положения. Младший сын старого Цезаря, Гай, женился на богатой и красивой девушке из знаменитой семьи Аврелия Котты, Аврелии, и эта молодая пара поселилась в принадлежащем Аврелии многоквартирном доме, инсуле, в Субуре – районе Рима, пользующемся дурной репутацией. У Гая Цезаря и Аврелии родились две дочери и наконец в 100 году на свет появился долгожданный сын (будущий великий Цезарь). Этот ребенок и был, как сразу признал Марий, тем самым Гаем, о котором говорила прорицательница, – величайшим римлянином всех времен, которому суждено было затмить славу Мария. И Марий решил утаить эту часть пророчества.
Брак Суллы с младшей дочерью старого Цезаря, Юлиллой, оказался несчастливым. Юлилла была натурой неуравновешенной и чересчур страстной. Она родила двоих детей, сына и дочь. До безумия любившая Суллу, Юлилла была уверена, что не полностью владеет сердцем супруга, хотя понятия не имела о его истинных сексуальных наклонностях. В результате она пристрастилась к вину и с течением времени стала законченной алкоголичкой.
Трагедия разразилась внезапно. Молодой актер, грек Метробий, пришел навестить Суллу в его доме. При встрече с Метробием Сулла забыл о своем решении навсегда порвать любые отношения с ним. Юлилла оказалась случайной свидетельницей этой любовной сцены. Без раздумий она покончила с собой. Впоследствии Сулла женился на красивой бездетной вдове из хорошей семьи, некоей Элии, чтобы у его малолетних детей была мать.
У Скавра, принцепса сената, имелся сын. К несчастью, это был трус, опозоривший себя в армии Катула Цезаря в Северной Италии. Испытывая отвращение к поступку сына, Скавр отрекся от него, и юноше оставалось только одно – совершить самоубийство. После этого Скавр, которому шел шестой десяток и у которого не осталось наследника, неожиданно женился на невесте покойного сына, семнадцатилетней дочери старшего брата Метелла Нумидийского по имени Далматика. Никого не интересовало мнение девушки об этом союзе.
А молодой аристократ Марк Ливий Друз, сын знаменитого политика, в 105 году организовал двойную свадьбу. Сам он женился на сестре своего лучшего друга, патриция Квинта Сервилия Цепиона, а Цепион, в свою очередь, взял в жены сестру Друза, Ливию Друзу. Брак Друза был бездетным, а Цепион и Ливия родили двух дочерей, старшая из которых, Сервилия, впоследствии станет матерью Брута и любовницей великого Цезаря.
Хроника событий романа «Битва за Рим»
Год 98-й до н. э. Прошло два года после событий, которыми заканчивается роман «Первый Человек в Риме», – два года относительного спокойствия.
Сулле наскучила добропорядочная и красивая Элия. Теперь он одержим страстью сразу к двоим – к молодому Метробию и девятнадцатилетней супруге Марка Эмилия Скавра, принцепса сената, Далматике. Но поскольку амбиции и вера в свое высокое предназначение одержали верх над низменными страстями, Сулла упорно отказывался встречаться с Метробием и заводить отношения с Далматикой.
К несчастью, Далматика не обладала такой же силой характера. Она открыто демонстрировала свою безответную любовь к Сулле. Оскорбленный Скавр потребовал, чтобы Сулла покинул Рим, дабы пресечь сплетни. Считая себя ни в чем не виноватым и находя требование Скавра безосновательным, Сулла наотрез отказался. Он намеревался стать претором, а это означало, что на период выборов он непременно должен оставаться в Риме. Сознавая невиновность Суллы, Скавр тем не менее сделал все, чтобы тот не получил желаемую должность, а Далматике запретил покидать стены дома.
Потерпев поражение на политической сцене, Сулла принял решение уехать в Ближнюю Испанию в качестве легата ее наместника Тита Дидия. Скавр победил. Перед отъездом Сулла попытался соблазнить Аврелию, жену Гая Юлия Цезаря, но был отвергнут. В ярости он решил нанести визит Метеллу Нумидийскому, только что вернувшемуся из ссылки, и отравил его. Метелл Пий Свиненок не заподозрил Суллу в убийстве отца и продолжал оставаться его восторженным приверженцем.
Семья Цезарей процветала. Оба сына старого Цезаря, Секст и Гай, преуспели в карьере, пользуясь покровительством Мария. Однако имелась и оборотная сторона медали: карьерные достижения означали, что Гай большую часть времени проводил вдали от дома и семьи. Его супруга Аврелия умело управляла своим многоквартирным домом и заботливо растила двух дочерей и драгоценного, многообещающего сына, Цезаря-младшего, который с раннего детства демонстрировал поразительные способности. Единственное, что тревожило родственников и друзей Аврелии, – это ее симпатия к Сулле, который навещал ее, восхищаясь этой самостоятельной и энергичной женщиной.
Отстранившись от политической жизни, Гай Марий предпринял путешествие на Восток, в котором его сопровождали жена Юлия и сын Марий-младший.
Прибыв в Тарс, главный город Киликии, Марий узнал, что понтийский царь Митридат вторгся в Каппадокию, убил ее молодого монарха и посадил на трон одного из своих многочисленных сыновей. Оставив жену и сына на попечение дружественных кочевников, Марий – фактически один – направился в столицу Каппадокии, где смело предстал перед Митридатом.
Коварный и ловкий, Митридат являл собою любопытное сочетание смелости и нерешительности, бахвальства и робости. Он командовал огромной армией и увеличил свое царство за счет соседей. Последним и самым опасным врагом Митридата оставался Рим. Заключив удачные браки, Митридат пришел к полному согласию с Тиграном, царем Армении. Два царя решили объединиться, покорить Рим и разделить мир между собою.
Все эти тщеславные планы рухнули после встречи с Марием – единственным человеком, который мог повелеть понтийскому царю покинуть Каппадокию. Вместо того чтобы убить Мария, Митридат поджал хвост и увел свою армию обратно в Понт. Марий же, воссоединившись с женой и сыном, преспокойно продолжил паломничество по храмам Востока.
Тем временем обстановка в Италии накалилась. Рим возглавлял союз различных полунезависимых народов, издавна населявших Апеннинский полуостров. Италийские союзники, как их называли, с давних времен были неравноправными партнерами Рима. Италики отлично сознавали, что римляне считают их ниже себя. Союзники поставляли солдат для римских легионов и оплачивали их экипировку и содержание, а между тем сенат отправлял италиков воевать в далекие страны, за интересы, чуждые Италии. Рим перестал предоставлять союзникам полное римское гражданство (дававшее право голоса), лишил торговых и прочих привилегий. Вожди различных италийских племен теперь с еще большей настойчивостью стали требовать равного статуса с Римом.
Марк Ливий Друз был дружен с Квинтом Поппедием Силоном, знатным италиком. Вождь марсов Силон намеревался сделать своих соплеменников и всех италиков полноправными гражданами. Друз симпатизировал Силону. Влиятельный римский аристократ, очень богатый, обладавший политическим влиянием, Друз был уверен в том, что с его помощью италики законным путем получат долгожданное равноправие.
Тем временем в собственной семье Друза назревал кризис. Сестра Друза Ливия была несчастлива в браке: ее супруг, лучший друг Друза Квинт Сервилий Цепион, жестоко избивал ее. Она же изменяла мужу, влюбившись в Марка Порция Катона. Имея двух дочерей от Цепиона, Ливия Друза забеременела от рыжеволосого Катона и произвела на свет сына с огненными волосами. Она пыталась убедить Цепиона в том, что это его ребенок. Но старшая дочь, Сервилия, обожавшая отца, открыто обвинила мать в прелюбодеянии. Цепион развелся с Ливией и отказался от всех троих детей. Друз и его жена встали на сторону Ливии. Ливия Друза вышла замуж за Катона и родила еще двоих детей – дочь Порцию и сына Катона-младшего (будущего Катона Утического).
Пока развивались события этой семейной драмы, Друз старался убедить сенат в справедливости требований италиков предоставить им полные гражданские права. После скандала с Ливией эта задача осложнилась ожесточенной враждебностью Цепиона.
В 96 году умерла жена Друза. В 93 году скончалась Ливия Друза, и пятеро ее детей перешли под опеку Друза. В 92 году умер Катон. Остались лишь двое врагов – Цепион и Друз.
Будучи значительно старше кандидатов на должность плебейского трибуна, Друз решил занять этот пост, понимая, что это единственная возможность добиться гражданских прав для италиков законным путем вопреки оппозиции сената.
Упорный и умный Друз сумел обеспечить себе поддержку. Хотя некоторые консервативные сенаторы, включая Скавра, Катула Цезаря и Цепиона, не верили в успех. Накануне своей победы Друз был убит в атрии собственного дома. Это произошло в конце 91 года.
Пятеро детей Ливии Друзы и приемный сын самого Друза, Нерон, стали свидетелями его мучительной смерти. Цепион остался их единственным родственником, но отказался принять участие в судьбе детей. Поэтому заботу о них взяли на себя мать Друза и его младший брат Мамерк Эмилий Лепид Ливиан. В 90 году погиб Цепион, а через год умерла мать Друза. Когда жена Мамерка отказалась приютить осиротевших детей, Мамерк вынужден был оставить их в доме Друза на попечение незамужней родственницы и ее матери.
Сулла возвратился из Ближней Испании, чтобы принять участие в выборах и получить должность городского претора на 93 год. В 92 году, пока Друз боролся за предоставление избирательных прав италикам, Суллу отправили на Восток – наместником Киликии. Там он обнаружил, что Митридат, ободренный пятилетним бездействием Рима, снова вторгся в Каппадокию. Сулла повел два своих киликийских легиона в Каппадокию, встал там укрепленным лагерем и заставил Митридата отступить, несмотря на то что царь имел огромное численное преимущество. Митридат вторично вынужден был иметь дело с римлянином и выслушать резкий приказ убираться домой. И во второй раз Митридат трусливо ушел обратно в Понт.
Но зять Митридата, армянский царь Тигран, желал воевать. Сулла со своими легионами направился в Армению. Он стал первым римлянином, перешедшим Евфрат. На Тигре, вблизи Амиды, Сулла встретился с Тиграном и предостерег его от необдуманных поступков. На Евфрате, у Зевгмы, состоялась встреча Суллы с Тиграном и послами парфянского царя. Был заключен договор, согласно которому все земли к востоку от Евфрата оставались владениями парфянского царя, а всё, что к западу, отходило под юрисдикцию Рима. Знаменитый халдейский провидец предсказал Сулле, что он станет величайшим человеком между Атлантическим океаном и рекой Инд и умрет на пике своей славы.
Вместе с Суллой находился его сын от умершей Юлиллы. Этот подросток стал светом жизни Суллы. Но после возвращения Суллы в Рим, где сенат проигнорировал его подвиги и столь значимый договор с парфянами, Сулла-младший внезапно умер. Потеря сына стала ужасным ударом для Суллы. Она оборвала последнюю нить, связывавшую его с Цезарями, – за исключением периодических визитов к Аврелии.
Италийская война началась серией сокрушительных поражений Рима. В начале 90 года консул Луций Цезарь был поставлен во главе южного театра военных действий – в Кампании. Сулла находился при нем в качестве старшего легата. Северным театром войны, в Пицене и Этрурии, командовали поочередно несколько человек. Все они оказались совершенно бездарными.
Гай Марий хотел взять командование северными армиями на себя, но его противники в сенате все еще были слишком сильны. Он вынужден был занимать должность простого легата и сносить унижения от своих командиров. Командиры эти один за другим несли потери и терпели поражения. Марий же упорно продолжал обучать неопытных новобранцев и ждать подходящего случая. Когда такой случай представился, он не замедлил им воспользоваться и вместе с Суллой одержал для Рима первую победу в этой войне. На следующий день у Мария случился второй удар, значительно сильнее первого, и он вынужден был покинуть армию. Сулла обрадовался этому обстоятельству, поскольку Марий не видел в нем одаренного полководца. Да, Сулла одерживал победы на юге, но он постоянно действовал от лица какого-либо из своих начальников.
В 89 году война приняла благоприятный для Рима оборот, особенно на юге. Под городом Нола легионеры Суллы вручили ему венок из трав – высшую воинскую награду. Большая часть Кампании и Апулии была покорена. Судьбы двух консулов 89 года, Помпея Страбона и Катона, сложились по-разному. Консул Катон пал от руки Мария-младшего. Сын Гая Мария видел в убийстве бездарного командира единственный способ избежать поражения. Марий сумел спасти сына, подкупив его командира, Луция Корнелия Цинну. Цинна, будучи человеком чести, всю жизнь оставался сторонником Мария – и врагом Суллы.
У старшего консула 89 года, Помпея Страбона, был семнадцатилетний сын Помпей, который обожал своего отца и сражался рядом с ним. В 90 году они вместе осаждали Аскул, главный город Пицена, где стали свидетелями первых ужасов Италийской войны. Там же находился семнадцатилетний Марк Туллий Цицерон, неумелый, робкий, никудышный солдат. Помпей взял его под свое покровительство, избавив от гнева отца и презрения товарищей. Впоследствии Цицерон всегда помнил доброту Помпея, что в значительной степени определило его политические симпатии. Когда в 89 году Аскул пал, Помпей Страбон казнил всех мужчин и изгнал женщин и детей, запретив им брать что-либо с собой.
К 88 году, когда Суллу наконец избрали консулом вместе с Квинтом Помпеем Руфом, война с италийскими союзниками уже подходила к концу. Рим согласился предоставить им, хотя бы формально, право голоса – как гражданам.
Дочь Суллы от Юлиллы, Корнелия Сулла, была влюблена в своего двоюродного брата Мария-младшего, однако Сулла выдал ее замуж за сына своего коллеги-консула. Она родила тому двоих детей: дочь Помпею (ставшую впоследствии второй женой великого Цезаря) и сына.
Когда Цезарю-младшему исполнилось десять лет, его мать Аврелия направила сына к Марию, чтобы он помог своему великому дяде оправиться от удара. Мальчик старался вызнать у Мария секреты военного искусства. Помня о предсказании Марфы, во время бесед с умным ребенком Марий только укрепился в своем тайном намерении не способствовать будущей военной и политической карьере Цезаря.
Придя в ярость от безобидного замечания постылой жены, Сулла внезапно развелся с Элией. Причиной развода он объявил бездетность Элии. Старый Скавр к тому времени умер, и Сулла женился на его вдове Далматике. Многие в Риме осуждали Суллу, но он проявил к этому полнейшее безразличие.
Зная, что Рим поглощен войной с италиками, понтийский царь Митридат в 88 году вторгся в римскую провинцию Азия и перебил там всех римлян и италиков – мужчин, женщин и детей. Погибло восемьдесят тысяч римлян и италиков и с ними – семьдесят тысяч их рабов.
Когда в Риме стало известно об этом массовом убийстве, собрался сенат – обсудить, кто поведет армию на Восток и покарает Митридата. Считая себя полностью оправившимся от удара, Марий заявил, что командование должно быть поручено ему, и только ему. Сенат пренебрег этим категоричным требованием, уполномочив вести легионы старшего консула Суллу. Этого оскорбления Марий не простил. Теперь Сулла вошел в число его главных врагов.
Считая, что сможет разбить Митридата, Сулла с большим удовлетворением принял командование и стал готовиться к отъезду из Италии. Но в казне не оставалось денег, а личные сбережения Суллы были слишком незначительными. Средств не хватало даже после того, как были проданы общественные земли вокруг Римского форума. В конце концов деньги для финансирования понтийской войны добыли, ограбив храмы Греции и Эпира.
В том же 88 году завоевал широкую популярность плебейский трибун Сульпиций. Будучи консерватором, он стал радикалом после того, как Митридат вырезал население провинции Азия. Сульпиций понял: иноземный царь не видит разницы между римлянами и италиками. Митридат с одинаковой жестокостью истреблял и тех и других. Сульпиций обвинил сенат в безответственном нежелании предоставить полное гражданство всем италикам. Если для Митридата эта разница отсутствует, значит ее действительно не существует. Сульпиций провел через плебейское собрание ряд законов. В результате многие сенаторы лишились своих постов, так что невозможно стало собрать кворум. Лишив сенат дееспособности, Сульпиций поднял вопрос о политических правах новых граждан-италиков. Все это сопровождалось кровавыми стычками на Римском форуме, где был убит молодой муж дочери Суллы.
Добившись успеха, Сульпиций примкнул к партии Мария и провел еще один закон, лишавший Суллу права командовать в войне против Митридата и передававший легионы Марию. Семидесятилетний, больной, Марий не мог никому позволить разбить «понтийского разбойника» – особенно Сулле.
Сулла находился со своей армией в Кампании, когда узнал о принятии нового закона и о том, что лишается командования. И тут же принял решение: он пойдет с войском на Рим. Никогда за все шестьсот лет существования Рима ни один римлянин не делал этого. Но Сулла посмел быть первым. Военные трибуны отказались поддержать его, кроме квестора Луция Лициния Лукулла, но солдаты остались на стороне Суллы.
В Риме никто не верил, что Сулла осмелится пойти войной на родной город, поэтому, когда армия Суллы появилась у стен, возникла паника. За неимением профессиональных солдат Марий и Сульпиций вооружили бывших гладиаторов и рабов. Сулла обратил в бегство это разношерстное воинство и занял Рим. Марий, Сульпиций, Марк Юний Брут и несколько других защитников города вынуждены были бежать. Сульпиция захватили еще до того, как тот покинул Италию, и обезглавили. Марию, после тяжелых испытаний, удалось вместе с Марием-младшим и другими своими сторонниками достичь Африки. Там они обрели убежище среди ветеранов, которых сам Марий когда-то поселил на землях острова Церцина.
Став фактическим властелином Рима, Сулла выставил голову Сульпиция на ростре Римского форума, чтобы устрашить Цинну и добиться повиновения. Он аннулировал все законы Сульпиция и установил свои, ультраконсервативные. Законы Суллы имели целью восстановить дееспособность сената и впредь отбить у плебейских трибунов охоту выдвигать радикальные идеи. Сделав все возможное для восстановления традиционного республиканского правления, в 87 году Сулла наконец отбыл на Восток – на войну с Митридатом. Но перед этим он выдал замуж свою овдовевшую дочь за Мамерка, брата умершего Друза и опекуна его осиротевших детей.
Ссылка Мария, Мария-младшего, старика Брута и их единомышленников длилась около года. Сулла принял последние меры, чтобы упрочить свои наспех проведенные реформы, – он попытался сделать своих сторонников консулами 87 года. Старшим консулом был избран Гней Октавий Рузон. Однако выборщики выдвинули на пост младшего консула Цинну, который оставался верен Марию. Поэтому Сулла попытался обеспечить верность Цинны своей программе, заставив его дать священную клятву соблюдать принятые законы. Для Цинны же эта клятва ничего не значила: он обманул богов, держа в кулаке камень.
Как только весной 87 года Сулла отплыл на Восток, в Риме начался раздор. Цинна отрекся от клятвы и открыто выступил против Гнея Октавия и его ультраконсервативных сторонников, таких как Катул Цезарь, Публий Красс, Луций Цезарь. В результате Цинна был выслан из Рима и объявлен вне закона. Однако в военном отношении консерваторы были не подготовлены. Цинна поднял армию и осадил город. Марий стремительно вернулся из ссылки и высадился в Этрурии, где также собрал войска и маршем двинулся на помощь Цинне и его сторонникам – Квинту Серторию и Гнею Папирию Карбону.
В отчаянии ультраконсерваторы послали сообщение Помпею Страбону в Пицен, умоляя прийти им на выручку, поскольку у него была армия. В сопровождении сына Страбон двинулся к Риму. Но, прибыв туда, Помпей не стал сражаться с Цинной и Марием. Разбив возле римских ворот огромный лагерь, он занял выжидательную позицию. Из-за царившей в лагере антисанитарии была отравлена вода в колодцах, которыми пользовались горожане, жившие на северных холмах. Вспыхнула эпидемия дизентерии.
Осада Рима затянулась. В конце концов между Помпеем Страбоном и Квинтом Серторием произошло сражение. Оно оказалось безрезультатным. Помпей Страбон заболел и вскоре умер. Вместе со своим другом Цицероном молодой Помпей готовил похороны отца, но обозленные жители северных районов выкрали тело, привязали к ослу и протащили по улицам города. После отчаянных поисков Помпей и Цицерон нашли труп Страбона. Разъяренный Помпей покинул Рим и вместе с армией вернулся в Пицен.
Больше Рим не мог сопротивляться – он сдался Цинне и Марию. Цинна сразу вошел в город, но Марий отказался пересечь померий, ссылаясь на то, что все еще находится вне закона. Он решил остаться под защитой своих солдат до тех пор, пока Цинна не отменит закон о ссылке и не добьется избрания Мария консулом – в седьмой раз. Серторий также не стал входить в город, однако по иной причине: родственник Мария понимал, что старик безумен. После второго удара его разум помутился.
Цинна отдавал себе отчет в том, что любой легионер – если он будет поставлен перед выбором, кому служить, Марию или Цинне, – изберет Мария. Поэтому Цинне пришлось настоять на том, чтобы его и Мария «избрали» консулами 86 года. До выборов оставалось несколько дней. И в первый день нового года Марий вошел в Рим – семикратным консулом, как и было предсказано. Пророчество сбылось. С собой он привел пять тысяч бывших рабов, фанатично преданных ему.
Началась кровавая бойня – такого ужаса Рим еще не видел. Лишившись разума, Марий приказал своим людям убить всех его врагов и многих из его друзей. Ростра ощетинилась копьями с отрубленными головами Катула Цезаря, Луция Цезаря, Цезаря Страбона, Публия Красса и Гнея Октавия Рузона.
Гай Юлий Цезарь, отец Цезаря-младшего, возвратился в Рим в самый разгар этой бойни. Марий захотел увидеться с ним на Римском форуме. Там Марий сообщил ему, что его сын, тринадцатилетний Гай Цезарь, должен стать фламином Юпитера – жрецом главного римского божества. Так сумасшедший старик нашел наилучший способ помешать юному Цезарю преуспеть на политическом или военном поприще. Теперь Цезарь-младший никогда не превзойдет Мария в анналах истории. Фламину Юпитера запрещается дотрагиваться до железа, ездить на коне, брать в руки оружие, становиться свидетелем смерти. Он не сможет участвовать в сражениях, выдвигать свою кандидатуру на выборах. Поскольку на момент инаугурации и посвящения фламин Юпитера должен быть женат на патрицианке, Марий приказал Цинне отдать свою семилетнюю младшую дочь Цинниллу в жены молодому Цезарю. Детей немедленно поженили, после чего Цезарь был провозглашен фламином Юпитера.
Прошло всего несколько дней седьмого консульства, и у Мария случился третий, последний удар. Он умер 14 января. Его родственник Серторий уничтожил войско бывших рабов, составлявших свиту безумного Мария. На этом кровавые расправы в Риме прекратились. Вместо Мария вторым консулом стал Валерий Флакк. Нужно было умиротворить потрясенный Рим. А молодой Цезарь, фламин Юпитера, женатый мальчик, видел перед собой ужасное будущее – оставаться пожизненным слугой Юпитера Всеблагого Всесильного.
Хроника событий, произошедших между 86 и 83 годами до Р. Х.
Упрочив свое положение, Цинна взял под контроль сильно поредевший сенат. Были отменены некоторые законы Суллы. Под давлением Цинны сенат лишил отсутствующего Суллу права командования в войне против царя Митридата и поручил Флакку сменить Суллу на посту военачальника. Старшим легатом Флакка в экспедиции на Восток стал Фимбрия, жестокий и коварный человек, пользовавшийся тем не менее популярностью у солдат.
Когда Флакк и Фимбрия добрались до Центральной Македонии, они решили изменить направление. Вместо того чтобы идти на юг, в Грецию, где находился Сулла, они двинулись к Геллеспонту и Малой Азии. Не в состоянии контролировать Фимбрию, Флакк оказался в подчинении у своего же подчиненного. В Византии произошел окончательный разрыв вечно ссорившихся консула и легата. Флакк был убит, а Фимбрия принял командование. Он вторгся в Малую Азию и начал – довольно успешно – войну против царя Митридата.
Сулла же застрял в Греции, где находились большие силы понтийцев. Афины переметнулись к врагам Рима, и Сулла осадил город. После отчаянного сопротивления Афины пали. Затем Сулла одержал две решительные победы у озера Орхомен в Беотии.
Его легат Лукулл собрал флот и также нанес Понту несколько поражений. А Фимбрия загнал Митридата в ловушку в приморском городе Питана и послал сообщение Лукуллу с просьбой помочь ему схватить понтийского царя, заблокировав гавань. Лукулл высокомерно отказался сотрудничать с человеком, самовольно принявшим на себя командование. В результате Митридат спасся бегством через море.
К лету 85 года Сулла изгнал понтийские армии из Европы и вошел в Малую Азию. В пятый день секстилия (августа) того же года Митридат согласился на условия договора, названного Дарданским, согласно которому ему надлежало довольствоваться границами своего царства. Сулла одержал верх и над Фимбрией, которого преследовал до тех пор, пока тот в отчаянии не покончил с собой. Запретив войскам Фимбрии возвращаться в Италию, Сулла ввел их в состав постоянной армии для использования в провинции Азия и в Киликии.
Обязав Митридата вернуться в Понт, Сулла отдавал себе полный отчет в том, что победа не одержана. Однако понимал он и другое: если он промедлит на Востоке, то потеряет все шансы сохранить высокое положение в Риме. Его жена Далматика и дочь Корнелия Сулла вынуждены были бежать из Рима в сопровождении Мамерка; дом Суллы разграбили и сожгли, его имущество было конфисковано (правда, большую часть состояния Мамерку все же удалось спрятать). Теперь Сулла был объявлен вне закона и лишен прав римского гражданства. Такая же судьба постигла и его сторонников. Многие члены сената, не желая жить при правлении Цинны, также бежали из Рима, чтобы присоединиться к Сулле. Среди них были Аппий Клавдий Пульхр, Публий Сервилий Ватия и Марк Лициний Красс.
Таким образом, Сулле поневоле пришлось оставить Митридата и вернуться в Рим. Он намеревался сделать это в 84 году, но серьезная болезнь задержала его в Греции еще на год. У Суллы были основания для беспокойства, поскольку его продолжительное отсутствие давало Цинне время, необходимое для подготовки к войне. А война была неизбежна: Италия недостаточно велика для двух фракций, столь ожесточенно противостоящих друг другу и не желающих ничего забыть и простить во имя мира.
Цинна и весь Рим также понимали: война с вернувшимся Суллой предопределена. Узнав о смерти второго консула, Флакка, Цинна сделал младшим консулом нового и более влиятельного человека, Гнея Папирия Карбона. Вместе с послушным сенатом Цинна решил встретить Суллу до того, как тот ступит на италийскую землю. Желая остановить Суллу в Западной Македонии, прежде чем он пересечет Адриатическое море, Цинна и Карбон начали набирать армию, которую доставили морем в Иллирию.
Вербовка шла туго, особенно в Пицене, владениях умершего Помпея Страбона. Надеясь привлечь добровольцев личным присутствием, Цинна прибыл в Анкону. Там он встретился с сыном Помпея Страбона, якобы намеревавшимся присоединиться к нему. Но желаемого воссоединения не последовало, и вскоре после этого Цинна умер в Анконе при загадочных обстоятельствах. Карбон занял Рим и взял сенат под свой контроль, однако Карбон принял решение все-таки дать Сулле возможность высадиться в Италии. В конце концов, объявил он, воевать с Суллой следует на италийской земле. Войска вернули из Иллирии, и Карбон приступил к осуществлению своего плана. Обеспечив выборы двух послушных ему консулов, Сципиона Азиагена и Гая Норбана, Карбон отправился наместником в Италийскую Галлию и обосновался со своей армией в портовом городе Аримин.
Таковы были предшествующие события. А теперь читайте дальше…
Часть I
Апрель 83 г. до н. э. – декабрь 82 г. до н. э
Управляющий высоко поднял над ложем лампу, в которой горели пять свечей. Он знал, что этого света недостаточно, чтобы разбудить Помпея. Такое дело под силу только его жене. Она шевельнулась, нахмурилась и отвернулась к стене, пытаясь заснуть снова, но за открытой дверью спальни уже слышались голоса. Управляющий окликнул ее:
– Domina! Domina!
Застигнутая врасплох – обычно слуги не заходили в спальню, – она все же не забыла о скромности и закуталась в покрывало, прежде чем сесть в постели.
– Что такое?
– Срочное сообщение для господина. Разбуди его и скажи, чтобы он вышел в атрий! – довольно бесцеремонно проговорил управляющий.
Пламя лампы колыхнулось и зачадило, когда он резко повернулся и быстро ушел. Комната погрузилась в темноту.
Ох этот мерзкий человек! Он сделал это нарочно! Антистия, впрочем, помнила, что оставила тунику в изножье ложа. Одевшись, она крикнула, чтобы принесли свет.
Ничто не могло разбудить Помпея. Когда доставили горящую лампу и теплую накидку, Антистия разглядела супруга: тот, не чувствуя холода, спал на спине, голый по пояс.
Она уже пыталась при других обстоятельствах – и по другим причинам – разбудить его поцелуем, но ей никогда этого не удавалось. Помпея нужно потрясти или ударить.
– Что? – рявкнул он, вскакивая и ероша пальцами густую светло-рыжую шевелюру. Челка торчала надо лбом острым мыском, голубые глаза глядели тревожно. В этом весь Помпей: спит как убитый, а спустя миг – сна ни в одном глазу. Солдатская привычка. – Что? – повторил он.
– Срочное сообщение для тебя. Ждет в атрии.
Не успела она закончить фразу, как он вскочил с кровати. Ноги обуты в сандалии, туника небрежно сползла с рябого плеча. И вот его уже нет – только дверь осталась распахнутой.
Несколько секунд Антистия стояла в нерешительности. Муж не взял с собой лампу – он, как кошка, видел в темноте. Поэтому она могла сама зажечь свет и последовать за ним. Но она знала, что ему это не понравится. Проклятие! Жены должны знать, что это за новости, из-за которых приходится будить хозяина! И она все же отправилась в атрий. Скудный свет маленькой лампы едва освещал ей путь по длинному коридору, пол и стены которого были выложены каменными блоками. Здесь поворот, там несколько ступеней – и вдруг она вышла из грозной галльской крепости и оказалась в цивилизованной римской вилле, оштукатуренной и красиво расписанной.
Помещение было ярко освещено, слуги сновали туда-сюда. Тут же стоял Помпей, одетый в одну тунику и казавшийся воплощением Марса. О, он был прекрасен!
Он уже заметил ее присутствие и теперь мог бы рассказать, что случилось. Но в этот момент торопливо вошел Варрон, и Антистия упустила случай узнать, что же вызвало такой переполох.
– Варрон! Варрон! – вскрикнул Помпей.
И вдруг с его уст сорвался страшный, резкий звук, почти нечеловеческий вопль. Должно быть, так звучал боевой клич древних галлов, когда они спускались с альпийских склонов, завоевывая италийские земли, включая и Пицен – вотчину Помпея, дальнего их потомка.
Антистия даже подскочила от неожиданности. Она заметила, что вздрогнул и Варрон.
– Что случилось?
– Сулла высадился в Брундизии!
– В Брундизии? Но как ты узнал?
– Какое это имеет значение?! – воскликнул Помпей. Он быстро пересек комнату, подскочил к маленькому Варрону, схватил его за плечи и стал трясти. – Вот оно, Варрон! Приключение начинается!
– Приключение! – ахнул Варрон. – Великий Помпей, когда же ты повзрослеешь? Ведь это же не просто приключение, это гражданская война! Новая гражданская война – и опять на италийской земле!
– А мне наплевать! – воскликнул Помпей. – Для меня это приключение. Если б ты знал, как я ждал этой новости, Варрон! Раз Сулла уехал, значит Италия сделалась совершенно ручной, точно собачка весталки.
– А как насчет знаменитой осады Рима? – зевнув, спросил Варрон.
Лицо Помпея стало серьезным, руки повисли. Он отступил от Варрона и мрачно посмотрел на него.
– Я предпочел бы забыть об осаде Рима! – резко ответил он. – Чернь протащила нагое тело моего отца, привязанное к ослу, по своим отвратительным улицам! Нет!
Бедный Варрон покраснел так густо, что окрасилась даже лысина:
– О Помпей, прости меня! Я не… я твой гость, пожалуйста, прости меня!
Но настроение уже было не то. Помпей натянуто засмеялся, хлопнул Варрона по спине:
– Ты не виноват, знаю.
В огромной комнате было очень холодно. Стараясь согреться, Варрон охлопывал себя руками.
– Я бы немедленно отправился в Рим.
Помпей посмотрел на него с удивлением:
– В Рим? Ты не поедешь в Рим, ты останешься со мной! Что, по твоему мнению, творится сейчас в Риме? По Форуму бессмысленно кружит стадо блеющих овец, а в сенате целыми днями бранятся старые бабы. Пойдем лучше со мной, будет веселее!
– И куда же ты собираешься?
– К Сулле, конечно!
– Для того чтобы отправиться к Сулле, я тебе не нужен, Великий Помпей. Садись на коня и скачи. Сулла рад будет подыскать тебе место среди своих младших военных трибунов, я уверен. Ты уже достаточно повоевал.
– О Варрон! – замахал руками Помпей, выдав раздражение. – Я не собираюсь присоединяться к Сулле в качестве младшего военного трибуна! Я собираюсь привести к нему три легиона! Я – в прислужниках у Суллы? Никогда! В этой авантюре я буду его равноправным партнером!
Сие поразительное заявление прозвучало как гром и для жены Помпея, и для его друга и гостя. Осознав, что стоит с открытым ртом, готовая неосмотрительно вмешаться в разговор мужчин, Антистия быстро скрылась с мужниных глаз. Он совсем забыл о ее присутствии, а она хотела услышать все. Ей необходимо было услышать все – до конца.
За те два с половиной года, что она была его женой, Помпей только раз оставлял ее больше чем на день. О, что это было за счастье! Наслаждаться его безраздельным вниманием! Когда тебя щекочут, тискают, доводят до исступления, сжимают в объятиях, кусают до синяков, набрасываются на тебя… Это как сон. Кто бы мог вообразить? Она, дочь сенатора среднего ранга с весьма скромным состоянием, вдруг оказалась женой Гнея Помпея, который сам называл себя Магн – Великий! Достаточно богатый, чтобы жениться по собственному усмотрению, хозяин половины Умбрии и Пицена, светловолосый красавец, которого считали возродившимся Александром Великим, – какого мужа нашел для нее отец! И это после нескольких лет отчаяния, когда она уже разуверилась в том, что когда-нибудь подберет себе подходящего супруга, потому что приданое ее было довольно скромным.
Естественно, она знала, почему Помпей женился на ней. Он нуждался в помощи ее отца, который оказался судьей во время судебного разбирательства, в котором Помпей был ответчиком. Дело было, конечно, сфабриковано – все в Риме знали это. Но Цинне отчаянно нужны были деньги, чтобы набрать армию, а состояние Помпея могло выдержать любой штраф. По этой причине молодого Помпея заставили отвечать за деяния его умершего отца, Помпея Страбона. Тот незаконно присвоил часть военной добычи из города Аскул в Пицене. А именно одну охотничью сеть и несколько корзин книг. Пустяк. Проблема заключалась не в тяжести проступка, а в величине штрафа. Если бы Помпея признали виновным, то приспешники Цинны, включенные в список присяжных, могли присудить выплату в размере целого состояния.
Истинный римлянин выдержал бы сражение в суде и, если надо, дал бы взятку присяжным, но Помпей – а черты его лица выдавали в нем галла – предпочел жениться на дочери судьи. Тогда стоял октябрь. В течение двух месяцев, ноября и декабря, отец Антистии вел процесс, мастерски затягивая его. Фактически суд над зятем ничем не закончился. Он все время откладывался: то неблагоприятные знамения, то обвинение присяжных в коррупции, то заседания сената, то эпидемия лихорадки, а то чума. В результате в январе консул Карбон убедил Цинну поискать денег где-нибудь в другом месте. Состоянию Помпея больше ничто не угрожало.
Антистия, которой едва исполнилось восемнадцать, отправилась вместе со своим блистательным супругом в его поместья, расположенные на северо-востоке Италийского полуострова. И там, в грозном черном каменном замке Помпея, она с головой окунулась в любовные утехи. К счастью, она была привлекательной – небольшого роста, пухленькая, в ямочках, вполне созревшая для брачного ложа, так что довольно долго счастье ее было безмятежным. И когда начали возникать первые огорчения, причиной оказался не ее обожаемый Магн, а его преданные соратники, слуги и мелкие землевладельцы, которые не только смотрели на нее свысока, но, казалось, даже и не пытались скрыть своего презрения. Однако это ее не сильно задевало, поскольку Помпей был рядом и к ночи всегда возвращался домой. Но теперь он заговорил о том, что отправится на войну, о том, что поднимет легионы и станет союзником Суллы! О, что же она будет делать без своего обожаемого Помпея? Кто вступится за нее?
Помпей все еще старался убедить Варрона в том, что единственным правильным решением было бы отправиться с ним, Помпеем, дабы присоединиться к Сулле, но этот чопорный и педантичный коротышка – весьма умудренный для человека, лишь два года прозаседавшего в сенате! – продолжал сопротивляться.
– Сколько войска у Суллы? – осведомился Варрон.
– Пять легионов ветеранов, шесть тысяч кавалерии, немного добровольцев из Македонии и Пелопоннеса и пять когорт испанцев, принадлежавших этому грязному жулику, Марку Крассу. Всего – около тридцати девяти тысяч.
Этот ответ заставил Варрона взвиться.
– Я повторяю, Магн, пора повзрослеть! – выкрикнул он. – Я только что приехал из Аримина, где Карбон засел с восемью легионами и огромной кавалерией, – и это лишь начало! В одной только Кампании еще шестнадцать легионов! За три года Цинна и Карбон набрали войско – сто пятьдесят тысяч в Италии и Италийской Галлии. Как сможет Сулла справиться с такой силой?
– Сулла пожрет их, – равнодушно ответил Помпей. – Кроме того, я собираюсь предоставить ему еще три легиона закаленных ветеранов моего отца. А солдаты Карбона – рекруты-молокососы.
– Ты действительно хочешь иметь собственную армию?
– Конечно.
– Помпей, тебе только двадцать два года! Ты не можешь ожидать, что ветераны отца пойдут за тобой!
– Почему? – недоуменно спросил Помпей.
– Во-первых, ты сможешь войти в сенат лишь через восемь лет. Тебе осталось двадцать лет до консульства. И даже если люди твоего отца пойдут за тобой, просить их об этом абсолютно незаконно. Ты – частное лицо, а частные лица не вербуют себе армии.
– Уже три года в Риме нет законного правительства, – возразил Помпей. – Цинна – четырехкратный консул, Карбон – двукратный, Марк Гратидиан – дважды претор по гражданским делам, почти половина сената объявлена вне закона, Аппий Клавдий лишен империя и изгнан, Фимбрия носится по Малой Азии, заключая сделки с царем Митридатом, – это же посмешище!
Варрон был похож на упрямого мула, что неудивительно для сабина, селянина, жителя Розейских полей, где полным-полно этих животных.
– В любом случае следует действовать законно, – упрямо сказал он.
Помпей захохотал:
– Ох, Варрон! Ты мне нравишься, но ты безнадежный идеалист! Если бы это можно было решить законным путем, почему же тогда в Италии и Италийской Галлии сто пятьдесят тысяч солдат?
Варрон воздел руки в знак того, что сдается:
– Хорошо, хорошо! Я с тобой.
Помпей засиял, обнял Варрона за плечи и повлек его по коридору в свои комнаты.
– Великолепно, великолепно! Ты сможешь написать историю моей первой кампании. У тебя слог куда лучше, чем у твоего друга Сизенны. Я – самый значительный человек нашей эпохи. Я заслуживаю своего историка.
Но последнее слово осталось все же за Варроном:
– Теперь тебе деваться некуда! Раз уж тебе хватило нахальства назвать себя Великим. – Он хмыкнул. – Великий – это в двадцать два-то года! Твоему отцу пришлось довольствоваться прозванием Косоглазый.
Последний выпад Помпей пропустил мимо ушей, засыпая указаниями слуг и оружейного мастера.
И вот наконец ярко расписанный, позолоченный атрий опустел. Остались только Помпей и Антистия. Он подошел к ней.
– Глупый котенок, ты ведь простудишься, – выбранил он ее и ласково поцеловал. – Возвращайся в постель, мой сладкий пирожок.
– Помочь тебе собрать вещи? – спросила Антистия несчастным голосом.
– Мои люди сделают это, но ты можешь проследить за ними.
На этот раз путь им освещал слуга с массивным канделябром в руках. Стараясь держаться рядом с Помпеем, Антистия отправилась с ним в комнату, где хранились все его доспехи. Внушительное собрание. Не менее десяти разных кирас свисали с перекладин на шестах – золотые, серебряные, стальные, кожаные, украшенные фалерами. На крючках, вбитых в стену, – мечи и шлемы, а также птериги из кожаных полос и войлочные поддевки.
– А теперь полезай вот сюда и сиди тихо, как мышка, – велел Помпей и легко, словно перышко, поднял жену и устроил на паре больших сундуков, так что ноги ее болтались, не доставая до пола.
И о ней забыли. Помпей и его слуги осматривали вещь за вещью – будет ли она полезна, стоит ли ее брать с собой? Потом, когда Помпей перебирал сундуки, расставленные по всей кладовой, он бесцеремонно пересадил жену на другой «насест». Отобранные вещи он бросал слугам и разговаривал сам с собой с таким счастливым видом, что у Антистии не осталось никаких иллюзий: этот человек не будет скучать по своей жене, своему дому и комфорту. Конечно, она знала, что прежде всего он считает себя солдатом, что он презирает обычные занятия своих сверстников – риторику, законотворчество, управление, собрания, политические интриги. Сколько раз он говорил, что заслужит курульное кресло консула своим мечом, а не красивыми словами и пустыми фразами! И вот теперь свое хвастовство он претворяет в жизнь. Солдат-сын солдата-отца отправляется на долгожданную войну.
Как только слуги вышли из комнаты, нагруженные снаряжением, Антистия спрыгнула с сундука и подошла к мужу.
– Прежде чем ты покинешь меня, Магн, я должна поговорить с тобой, – сказала она.
Конечно, он считал это напрасной тратой своего драгоценного времени. Тем не менее он остановился:
– Ну, что такое?
– Как долго тебя не будет?
– Не имею ни малейшего представления, – весело ответил он.
– Месяцы? Год?
– Возможно, месяцы. Говорю тебе, Сулла сожрет Карбона.
– Тогда я бы хотела вернуться в Рим и все время твоего отсутствия жить в доме моего отца.
Но Помпей замотал головой, явно удивленный ее просьбой.
– Ни за что! – отрезал он. – Я не хочу, чтобы моя жена бегала по Карбонову Риму, пока я бок о бок с Суллой воюю с этим же Карбоном. Ты останешься здесь.
– Твои слуги и прочие твои люди меня не любят. Без тебя мне здесь будет трудно.
– Ерунда! – бросил он, поворачиваясь, чтобы уйти.
Но она снова преградила ему дорогу:
– Пожалуйста, супруг мой, удели мне несколько минут твоего времени! Я знаю, оно драгоценно для тебя, но ведь я твоя жена!
Он вздохнул:
– Хорошо, хорошо! Но только быстро, Антистия!
– Я не могу оставаться здесь!
– Можешь – и останешься. – Он нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
– Магн, когда тебя нет, пусть всего несколько часов, твои люди плохо обращаются со мной. Я никогда не жаловалась, потому что ты всегда добр ко мне и всегда был здесь, кроме того случая, когда уезжал в Анкону повидаться с Цинной. Но сейчас… в твоем доме нет больше женщин. Я совершенно одна. Право, будет лучше, если я вернусь к отцу, пока не кончится эта война.
– Исключено. Твой отец – человек Карбона.
– Нет, это не так. Он сам по себе.
Никогда прежде не осмеливалась она возражать ему, тем более спорить. Помпей начинал терять терпение.
– Послушай, Антистия, у меня есть более важные дела, чем препираться тут с тобой. Ты – моя жена, а это значит, что ты останешься в моем доме.
– Где твой управляющий ухмыляется мне в лицо и оставляет в темноте. Где у меня нет собственных слуг и никого, кто бы составил мне компанию.
Она старалась казаться спокойной и разумной, однако внутренне начала паниковать.
– Полная ерунда!
– Это не ерунда, Магн. Не ерунда! Я не знаю, почему все смотрят на меня свысока, но это так.
– Ну конечно! – подтвердил он, удивленный ее беспросветной глупостью.
От удивления ее глаза расширились.
– Ты находишь естественным, что они смотрят на меня свысока?
Он пожал плечами:
– Моя мать была из рода Луцилиев, как и моя бабушка. А кто ты?
– Хороший вопрос. И кто же я?
Помпей видел, что она сердится, и это разозлило его. Женщины! Ему предстояла первая большая война, а это ничего не значащее существо намеревается разыграть здесь целую драму! Неужели все женщины такие безмозглые?
– Ты – моя первая жена.
– Первая жена?
– Временная мера.
– О, я понимаю, – с расстановкой сказала она. – Временная мера. Дочь судьи, ты имеешь в виду.
– Ну, ты же всегда это знала.
– Но ведь это было уже давно… Я думала, что это в прошлом, что ты любишь меня. Я – из сенаторской семьи, меня нельзя назвать неподходящей партией.
– Для обычного человека – да. Но для меня ты недостаточно хороша.
– О Магн, откуда у тебя такое самомнение? Так вот почему ты ни разу не излил в меня свое семя? Потому что я недостаточно хороша, чтобы стать матерью твоих детей?
– Да! – рявкнул он, направляясь к двери.
Она последовала за ним со своей жалкой маленькой лампой. Теперь Антистия была слишком разгневана для того, чтобы заботиться о том, что ее могут услышать.
– Но я была достаточно хороша для тебя, когда Цинна охотился за твоими деньгами!
– Мы уже покончили с этим, – торопливо отозвался он.
– Как же удобна для тебя смерть Цинны!
– Она удобна для Рима и для всех римлян!
– Ведь это ты приказал убить Цинну!
Слова эхом отскочили от каменной стены коридора, который был так широк, что по нему могла пройти целая армия. Помпей остановился:
– Цинна погиб в пьяной драке с ленивыми рекрутами.
– В Анконе, в твоем городе, Магн! В твоем городе! И сразу же после того, как ты уехал туда, чтобы повидаться с ним! – выкрикнула она.
Она еще сохраняла самообладание – и вдруг оказалась прижатой к стене. Руки Помпея лежали на ее горле. Не сжимали. Просто лежали.
– Никогда больше не говори этого, женщина, – мягко произнес он.
– Так считает мой отец! – удалось вымолвить ей.
Во рту у нее пересохло. Руки мужа слегка сжали ей горло.
– Твой отец не очень-то жаловал Цинну. Но против Карбона он ничего не имеет, вот поэтому я с радостью убил бы его. Но меня не обрадует, если придется убить тебя. Я не убиваю женщин. Держи язык за зубами, Антистия. К смерти Цинны я непричастен. Это был просто несчастный случай.
– Я хочу уехать к родителям в Рим!
Помпей выпустил ее и оттолкнул от себя:
– Ответ – нет. А теперь оставь меня!
Он ушел, кликнув управляющего. Издалека она слышала, как он отдавал распоряжения тому отвратительному человеку: Антистии воспрещается покидать пределы Помпеевой крепости, когда он уедет на свою войну. Дрожа, Антистия медленно возвратилась в спальню, которую делила с Помпеем два с половиной года как его первая жена – как временное средство для достижения цели. Недостаточно хороша, чтобы быть матерью его детей. И как это она не догадалась об этом раньше, когда вновь и вновь удивлялась, почему он всегда в последний момент выскальзывает из нее, оставляя на ее животе склизкую лужу?
Слезы подступили к глазам. Скоро они потекут, а раз они вырвутся на волю, их будет не остановить часами. Разочароваться в возлюбленном, прежде чем уйдет любовь, – ужасно.
Донесся еще один из тех холодивших душу варварских кличей и наконец голос Помпея:
– Я ухожу на войну, я ухожу на войну! Сулла высадился в Италии, и это – война!
Рассвет едва занялся, когда Помпей, в блестящих серебряных доспехах, сопровождаемый своим восемнадцатилетним младшим братом и Варроном, привел небольшую группу чиновников и писцов на рыночную площадь Авксима. Там, в самом центре, он укрепил штандарт своего отца и стал с плохо скрываемым нетерпением ждать, когда за сборными столами рассядутся секретари, разложат листы бумаги, заострят тростниковые перья, разведут чернила в каменных чернильницах.
К тому времени, как все было готово, собралась такая большая толпа, что площади не хватило, и люди толпились на ближайших улицах и аллеях. Легкий и гибкий, Помпей вскочил на временный помост и встал под штандарт Помпея Страбона с изображением дятла.
– Настала пора! – прокричал он. – Луций Корнелий Сулла высадился в Брундизии, чтобы вернуть себе то, что принадлежит ему по праву, – властные полномочия, триумф, привилегию возложить свои лавры к ногам Юпитера Всеблагого Всесильного на римском Капитолии! В прошлом году, как раз в это время, другой Луций Корнелий, прозванный Цинной, находился недалеко отсюда, пытаясь завербовать ветеранов моего отца. Это ему не удалось. Он умер. Сегодня вы видите меня. И сегодня я вижу многих ветеранов моего отца. Я – наследник Страбона! Его люди – это мои люди. Его прошлое – это мое будущее. Я собираюсь в Брундизий драться на стороне Суллы, ибо его дело правое. Кто из вас пойдет со мной?
Коротко и ясно, с восторгом подумал Варрон. Может быть, молодой человек был прав, когда говорил, что мечом, а не словоблудием завоюет консульское кресло. Казалось, краткость речи Помпея никого не разочаровала в этой толпе. Не успел он закончить свое обращение, как женщины стали расходиться, кудахча о скором отъезде мужей и сыновей. Одни в отчаянии ломали руки, другие уже прикидывали, что положат в вещевые мешки вместе с запасными туниками и носками. Были и такие, что старательно смотрели в землю, скрывая хитрые улыбочки. Шлепками разгоняя стоявших на пути детей, мужчины бросились к столам. Минуту спустя секретари Помпея уже усердно водили перьями по дощечкам.
Сидя на верхних ступенях старого храма Пикуса в Авксиме, Варрон наблюдал за происходящим с удобной позиции. «Неужели они так же охотно записывались в войско косоглазого Помпея Страбона? – думал он. – Наверное, нет. Тот был повелителем, хозяином, трудным человеком, но замечательным командиром. Они, наверное, служили ему преданно, но с тяжелым сердцем. У сына все по-другому. Предо мною – явление, – пришло на ум Варрону. – Охотнее не могли бы идти мирмидоняне за Ахиллом, а македоняне – за Александром Великим. Они любят его! Он – их любимец, их талисман, их дитя и отец».
Кто-то большой уселся рядом с ним на ступеньку. Варрон повернул голову и увидел красное лицо в обрамлении рыжих волос. Два умных голубых глаза оценивающе смотрели на него, единственного незнакомца в этом месте.
– И кто же ты? – вопросил румяный гигант.
– Меня зовут Марк Теренций Варрон, и я сабин.
– Как и мы, да? Во всяком случае, когда-то. – Грубой рукой он махнул в сторону Помпея. – Ты только посмотри на него! Как мы ждали этого дня, Марк Теренций Варрон, сабин! Разве он не соблазн для богини?
Варрон улыбнулся:
– Не уверен, что это подходящее сравнение, но понимаю, что ты имеешь в виду.
– Ах, ты не только господин с тремя именами, ты еще и ученый! Может, ты его друг?
– Может быть.
– И чем же ты зарабатываешь на хлеб, а?
– В Риме я – сенатор, а в Реате развожу племенных кобыл.
– Что? Не мулов?
– Лучше разводить кобыл, чем их отпрысков мулов. Я владею небольшим участком Розейских полей. И еще у меня имеется несколько племенных ослов.
– И сколько же тебе лет?
– Тридцать два, – ответил Варрон, забавляясь разговором.
Но вопросы вдруг иссякли. Собеседник Варрона устроился поудобнее, утвердив локти на ступеньке повыше и раскинув свои геркулесовы лапищи. Маленький Варрон с восхищением смотрел на грязные пальцы его ног, почти такого же размера, как пальцы на руках у самого Варрона.
– А тебя как зовут? – спросил он, легко переходя на местный говор.
– Квинт Скаптий.
– Ты записался?
– Никакие Ганнибаловы слоны не остановили бы меня!
– Наверное, ты ветеран?
– Я служил в армии его отца с семнадцати лет. Это было восемь лет назад. Я участвовал в двенадцати кампаниях, так что могу уже и не воевать, если только сам не захочу, – ответил Квинт Скаптий.
– Но ты захотел.
– Слоны Ганнибала, Марк Теренций, слоны Ганнибала!
– Ты центурион?
– В этой кампании мог бы стать и центурионом.
Разговаривая, Варрон и Скаптий не отрывали глаз от Помпея, который стоял перед средним столом, радостно приветствуя того или другого знакомого в толпе.
– Он говорит, что отправится в поход, прежде чем эта луна закончит свой круг, – заметил Варрон. – Но я не понимаю, как ему это удастся. Допустим, никого из присутствующих здесь учить военному делу не требуется, но откуда он возьмет достаточно оружия и доспехов? Или вьючных животных? Или повозок и быков? Провианта? И где он достанет столько денег, чтобы осуществить это великое предприятие?
Скаптий хрюкнул. Очевидно, это его позабавило.
– Ему можно об этом не беспокоиться! Его отец дал каждому из нас полное вооружение и доспехи еще в начале войны против италиков. Потом, когда отец умер, сын сказал, чтобы мы оставили все себе. Каждый из нас имеет мула, у центурионов есть телеги и волы. Так что к намеченному дню мы будем готовы. Помпеев врасплох не застанешь! В наших амбарах достаточно пшеницы, а на складах полно другой еды. Наши женщины и дети не будут голодать, чтобы мы хорошо питались во время кампании.
– А как насчет денег? – осторожно поинтересовался Варрон.
– Деньги? – презрительно фыркнул Скаптий. – Мы служили его отцу, получая не очень-то много, что правда, то правда. В те дни денег негде было достать. Когда у него будут деньги, он нам заплатит. Не будет денег – обойдемся. Он хороший хозяин.
– Понял.
Замолчав, Варрон с новым интересом стал наблюдать за Помпеем. Все рассказывали о легендарной независимости Помпея Страбона, проявленной тем во время Италийской войны. Вопреки приказу распустить свои легионы он долгое время держал их при себе, чем изменил ход событий в Риме. После смерти Гая Мария Цинна, устроив проверку бухгалтерских книг казначейства, не обнаружил там счетов на огромные суммы. Теперь Варрон знал почему. Помпей Страбон попросту не платил своим войскам. Да и зачем, если, по существу, они являются его собственностью?
В этот момент Помпей покинул свой пост и направился к ступеням храма Пикуса.
– Я иду искать место для лагеря, – сказал он Варрону, потом широко улыбнулся гиганту, сидящему рядом с его другом. – Я вижу, ты рано пришел, Скаптий.
Скаптий тяжело поднялся на ноги:
– Да, Магн. Лучше пойду-ка я домой и раскопаю свое снаряжение.
Так, значит, все называли его Великим! Варрон тоже встал:
– Я с тобой, Магн.
Толпа мужчин расходилась, а женщины стали возвращаться на рыночную площадь. Несколько торговцев, оттесненных прежде, устанавливали свои киоски, рабы торопились их собрать. Груды грязного белья все еще лежали вокруг большого фонтана перед алтарем, посвященным ларам. Несколько девушек подоткнули юбки и вошли в воду. «Какой типичный город! – думал Варрон, шагая чуть позади Помпея. – Солнечный свет и пыль, несколько красивых тенистых деревьев, жужжание насекомых, сморщенные зимние яблоки, занятые люди, знающие друг о друге почти все. Здесь, в Авксиме, секретов нет!»
– Это энергичные, сильные люди, – сказал он Помпею, когда они ушли с площади в поисках своих коней.
– Они сабины, Варрон, такие же, как и ты, – ответил Помпей, – даже если столетия назад пришли с востока Апеннин.
– Не совсем такие, как я! – Варрон позволил одному из конюхов Помпея подсадить себя в седло. – Я сабин, но ни по природе, ни по навыкам я не солдат.
– Ты получил военную подготовку в Италийской войне.
– Да, конечно. И участвовал в десяти кампаниях. Как быстро они сменяли друг друга в том мировом пожаре! Но когда война заканчивалась, я ни разу не вспоминал ни о мече, ни о кольчуге.
Помпей засмеялся:
– Ты говоришь совсем как мой друг Цицерон.
– Марк Туллий Цицерон? Это юридическое чудо?
– Да, он. Ненавидел войну. Не переносил ее, чего мой отец никак не мог понять. Но все равно был хорошим парнем. Ему нравилось делать то, что не нравилось мне. Вдвоем мы со всем управлялись так, чтобы мой отец всегда оставался нами доволен, хотя многого не знал. – Помпей вздохнул. – После падения Аскула Цицерон настоял на том, чтобы уйти от нас и служить под началом Суллы в Кампании. Я скучал по нему!
Спустя два восьмидневных перерыва между рыночными днями Помпей получил свои три легиона ветеранов-добровольцев, стоявших хорошо укрепленным лагерем в пяти милях от Авксима на берегу притока реки Эзис. Чистота в лагере была безупречной, за этим строго следили. Помпей Страбон знал лишь один способ справляться с колодцами, помойными ямами, уборными, мусором, дренажем: когда вонь становилась невыносимой, он переводил лагерь в другое место. Так что умер он от кишечного расстройства за воротами Рима, у Квиринала; а обитатели холмов Квиринал и Виминал надругались над его телом, поскольку источники были отравлены стоками Помпеева лагеря.
Варрон с восхищением наблюдал за тем, как гениально его юный друг создавал свою армию, как организовывал материально-техническое снабжение. Ни одна деталь, как бы ничтожна она ни была, от него не ускользнула. И в то же время масштабные дела проворачивались со скоростью, достижимой только при великолепном умении и сноровке.
«И я допущен в очень узкий, личный круг этого воистину великого явления, – думал он. – Он изменит наш мир, он изменит восприятие этого мира. В нем нет ни грана страха, он полностью уверен в себе. Однако, – напомнил себе Варрон, – остальные тоже неплохо держались, пока не началась эта катавасия. Как он поведет себя, когда придет в действие военная машина, когда враги окружат его со всех сторон, когда он встретится лицом к лицу – нет, не с Карбоном и не с Серторием – с самим Суллой? Вот это будет настоящим испытанием! Вместе или друг против друга, но отношения между старым буйволом и молодым буйволенком решат судьбу буйволенка. Согнется ли он? Может ли он вообще согнуться? Что же готовит грядущее для человека столь молодого, столь уверенного в себе? Найдется ли в мире сила или человек, способные сломать его?»
Определенно Помпей считал, что таковых нет. Хотя юноша вовсе не был склонен к мистике, он окружил себя особым ореолом, создав образ, соответствующий его идеалу. Кое-что он себе присвоил – например, непобедимость, неуязвимость, непоколебимость. Ведь обладание этими качествами не во власти человека. В его вены словно бы влился нетленный ихор, а тело окутали божественные испарения. С самого младенчества Помпей жил в мире своих фантазий. Он командовал в десятках тысяч сражений, сотни раз проезжал по Риму на древних триумфальных колесницах, вновь и вновь стоял, как Юпитер, сошедший к смертным, а Рим склонялся, боготворя его, величайшего человека, когда-либо жившего на земле.
Но Помпей-мечтатель отличался от других таких же мечтателей тем, что не думал прятаться от действительности. Напротив, он зорко вглядывался в реальный мир, упражняя ум размышлениями о великом, словно горы, и о малом, словно капли воды. Таким образом, его героические фантазии служили наковальней, на которой он выковывал настоящее, закаливал и обжигал, вгоняя в рамки суровой действительности.
Итак, Помпей собрал своих людей в центурии, когорты, легионы. Он тренировал их и проверял их личное снаряжение. Он отбраковывал слишком старых вьючных животных, сильными ударами проверял прочность осей, тряс повозки, спускал их на скорости по каменистому склону за лагерем. Все будет в отличном состоянии, потому что ничего непредвиденного не должно случиться, все должно быть совершенным, как совершенен он сам.
Через двенадцать дней после того, как Помпей начал набирать войско, пришло сообщение из Брундизия. Сулла двигался по Аппиевой дороге под приветственные крики, доносившиеся из каждой хижины, деревни, города. Но прежде чем отправиться в путь, рассказал Помпею гонец, Сулла собрал свою армию и попросил ее дать клятву верности – лично ему, Сулле. Если кто-либо в Риме и сомневался в намерении Суллы взять власть, тот факт, что армия поклялась поддержать его – даже в том случае, если Сулла выступит против правительства Рима, – недвусмысленно свидетельствовал: теперь война неизбежна.
А потом, продолжал гонец, солдаты Суллы пришли к нему и предложили ему все свои деньги, чтобы он смог заплатить за каждое зернышко пшеницы, за каждый лист салата, за каждый фрукт, пока они будут идти по Калабрии и Апулии. Никто не станет смотреть на них косо и не спугнет удачу их полководца, они не вытопчут полей, не станут убивать пастухов, насиловать женщин, морить голодом детей. Все будет так, как хочет Сулла. Он вернет им деньги потом, когда станет хозяином всей Италии, всего Рима.
Весть о том, что южная часть полуострова рада приветствовать Суллу, не слишком понравилась Помпею. А он-то надеялся, что к тому времени, как он явится к Сулле со своими тремя легионами закаленных ветеранов, тот будет отчаянно в них нуждаться. Теперь было ясно, что этого не случится. Помпей пожал плечами и пересмотрел свои планы применительно к обстановке.
– Мы пойдем по нашему берегу до Буки, потом направимся внутрь полуострова, к Беневенту, – сказал он своим трем старшим центурионам, которые командовали тремя его легионами.
Совет ему следовало бы держать с высокородными военными трибунами, которых Помпей мог бы найти – при желании. Но высокородные военные трибуны подвергли бы сомнению право Помпея вести армию, так что Помпей предпочел назначить командующих из числа своих людей. И пусть высокородные римляне его осудят, если узнают.
– Когда отправляемся? – спросил Варрон, поскольку никто другой не осмелился задать этот вопрос.
– За восемь дней до конца апреля, – ответил Помпей.
Но тут на сцене появился Карбон, и Помпей снова был вынужден поменять планы.
От Западных Альп прямая нить Эмилиевой дороги тянулась через Италийскую Галлию вплоть до Адриатического моря у Аримина. Из Аримина другая отличная дорога шла вдоль берега до Фан-Фортуны, прибрежного города в Умбрии, где начиналась Фламиниева дорога до Рима. Это делало Аримин стратегически важным пунктом, равным лишь Аррецию, стоявшему на подступах к Риму, к западу от Апеннин.
Поэтому логично, что Гней Папирий Карбон – двукратный римский консул и теперь правитель Италийской Галлии – поставил свои восемь легионов и кавалерию лагерем на окраинах Аримина. Отсюда он мог двигаться в любом из трех направлений: по Эмилиевой дороге через Италийскую Галлию к Западным Альпам, по Адриатическому побережью к Брундизию и по Фламиниевой дороге на Рим.
Вот уже восемнадцать месяцев он ждал возвращения Суллы. И конечно, понимал, что Сулла явится в Брундизий. В Риме пока еще оставалось слишком много людей, которые, когда придет время, встанут на сторону Суллы, хотя сейчас и заявляют о своем нейтралитете. И все они хотели бы свергнуть нынешнее правительство. Это делало Рим главной целью. Знал Карбон и то, что Метелл Пий Свиненок ушел в Лигурию, граничащую с Западными Альпами Италийской Галлии. С Метеллом Пием были два добротных легиона, которые он привез из провинции Африка, после того как сторонники Карбона выгнали его оттуда. Карбон был уверен: как только Свиненок прослышит о высадке Суллы, он пойдет на соединение с мятежником и это сделает уязвимой также Италийскую Галлию.
Конечно, имелись шестнадцать легионов в Кампании, и они были намного ближе к Брундизию, нежели Карбон в Аримине. Но насколько надежны консулы нынешнего года, Норбан и Сципион Азиаген? Карбон не мог быть полностью в них уверен. Он сам, своей волей, ушел из Рима. В конце прошлого года он был убежден в двух вещах: что Сулла нагрянет весной и что Рим с большей вероятностью выступит против Суллы, если самого Карбона там не будет. Так что он обеспечил консульство двух стойких своих сторонников, Норбана и Сципиона Азиагена, а потом сам себя назначил правителем Италийской Галлии, чтобы контролировать происходящее и при необходимости быть в состоянии действовать в любой момент. Выбор консулов был, по крайней мере теоретически, хорош, ибо ни Норбану, ни Сципиону Азиагену не приходилось ждать пощады от Суллы. Норбан был клиентом Гая Мария, а Сципион Азиаген во время Италийской войны переоделся рабом и бежал из Эсернии – поступок, вызвавший у Суллы презрение. И все же достаточно ли они сильны? Используют ли они свои шестнадцать легионов как истинные полководцы или упустят счастливый случай? Этого Карбон не знал.
Но одного он не учел: что наследник Помпея Страбона, совсем мальчишка, будет иметь наглость набрать три полных легиона из ветеранов своего отца и отправиться на соединение с Суллой! Не то чтобы Карбон всерьез воспринимал молодого человека. Карбона беспокоили три легиона ветеранов. Если они попадут к Сулле, он их использует блестяще.
Квестор Гай Веррес сообщил Карбону о предполагаемой экспедиции Помпея.
– Мальчишку следует остановить, прежде чем он двинется в путь, – сказал Карбон, хмурясь. – Какая досада! Мне лишь остается надеяться, что Метелл Пий не уйдет из Лигурии, пока я не расправлюсь с Помпеем-младшим, а консулы смогут совладать с Суллой.
– С Помпеем-младшим справимся быстро, – уверенно заметил Гай Веррес.
– Согласен, и все же это досадно, – сказал Карбон. – Пожалуйста, позови моих легатов.
Легатов Карбона было никак не найти. Веррес бегал из одного конца лагеря в другой – слишком долго, Карбону это не понравится. Пока Веррес разыскивал легатов, много мыслей пронеслось у него в голове, но ни одна из них не была о наследнике Помпея Страбона. Нет, все его думы – о Сулле. Хотя они с Суллой никогда не встречались лично (не было случая, поскольку отец Верреса был заднескамеечником в сенате, а сам он служил во время Италийской войны у Гая Мария, а потом у Цинны), Веррес помнил, как выглядел Сулла, когда шагал в процессии во время вступления в должность консула. Сулла произвел на Верреса огромное впечатление. Поскольку по натуре Веррес не был военным, ему и в голову не приходило отправиться с Суллой на Восток. К тому же Рим Цинны и Карбона не казался ему таким уж отвратительным. Верресу нравилось быть там, где водятся деньги, ибо он обладал тонким художественным вкусом и непомерными амбициями. Но теперь, разыскивая легатов Карбона, он подумал: «А не пора ли сменить лагерь?»
Строго говоря, Гай Веррес являлся скорее проквестором, ведь срок его квесторства истек в конце года. Должность он сохранил только благодаря Карбону. Тот был так доволен своим выдвиженцем, что взял его с собой в Италийскую Галлию. А поскольку в функции квестора входили все финансовые вопросы, Гай Веррес обратился в казначейство и от имени Карбона получил сумму в 2 миллиона 235 тысяч 417 сестерциев. Эти деньги, упакованные до последнего сестерция, должны были покрыть все расходы Карбона – плату легионам, снабжение их продовольствием, обеспечение надлежащих условий для командующего, легатов, слуг, квестора, а также тысячу других мелочей, не входящих в разряд перечисленных.
Хотя еще не кончился апрель, более полутора миллионов сестерциев уже было потрачено, а это означало, что вскоре Карбон должен будет опять обратиться в казначейство. Его легаты жили на широкую ногу, а сам Карбон давно привык считать государственные деньги своей собственностью. Не говоря уже о Гае Верресе. Он тоже обмакивал пальцы в горшок с медом, прежде чем глубоко запустить руку в мешок с деньгами. До сих пор ему удавалось удерживаться от крупных растрат, но, взглянув на свое положение по-новому, он решил: скромничать больше нет смысла! И как только Гай Веррес увидит спину Карбона, уходящего, чтобы расправиться с тремя легионами Помпея, он тоже смоется. Время сменить хозяина.
Так он и поступил. Карбон взял с собой только четыре легиона – без кавалерии – и ушел на рассвете, чтобы встретиться с наследником Помпея Страбона. Солнце еще не поднялось высоко, когда Гай Веррес тоже отбыл. Он ехал совсем один, не считая личных слуг. На юг за Карбоном он не последовал. Дорога вела его в Аримин, где в шкафах местного банкира хранились все финансы Карбона. Только два человека обладали полномочиями изъять их: правитель Карбон и его квестор Веррес. Наняв двенадцать мулов, Веррес забрал в общей сложности сорок семь кожаных мешков, по полталанта Карбоновых денег в каждом. Ему даже не потребовалось давать объяснений. Известие о высадке Суллы достигло Аримина быстрее летней грозы, и банкир знал, что Карбон был на марше с половиной своей пехоты.
Задолго до полудня Гай Веррес исчез с шестьюстами тысячами сестерциев, официально выделенных Карбону, направляясь в противоположную сторону: сначала в свои поместья в долине верхнего Тибра, а потом – с двадцатью семью талантами серебряных монет – туда, где он мог найти Суллу.
Не зная, что его квестор покинул лагерь, сам Карбон двигался по побережью Адриатики навстречу Помпею, расположившемуся неподалеку от реки Эзис. Он был настроен настолько оптимистично, что не торопился и не принимал никаких мер предосторожности, чтобы подойти по возможности незаметно. Это будет неплохая тренировка для его еще не бывавших в бою солдат, ничего более. Как бы грозно ни звучали слова «три легиона ветеранов Помпея Страбона», Карбон был достаточно опытен, чтобы понимать: ни одна армия не способна на большее, чем ее полководец. Этих же ветеранов возглавляет дитя! Поэтому справиться с ними – просто детская игра.
Когда Помпею сообщили о приближении Карбона, он издал радостный возглас и сразу же собрал своих солдат.
– Первое сражение мы дадим на своей земле! – кричал он. – Сам Карбон идет к нам из Аримина, и он уже проиграл! Почему? Потому что он знает, что командую вами я! Вас он уважает. Меня – нет. Разве он понимает, что сын Мясника знает, как рубить кости и резать мясо? Нет, Карбон – дурак! Он думает, сын Мясника слишком изнежен, чтобы пачкать руки кровью, занимаясь отцовским ремеслом. Он не прав! И вы знаете это, и я знаю это. Так давайте же проучим Карбона!!
И они проучили Карбона. Его четыре легиона подошли к Эзису, сохраняя строй, и ожидали, пока разведчики найдут переправу через реку, вздувшуюся после весеннего таяния снегов в Апеннинах. Карбон считал, что Помпей все еще в своем лагере. Ему и в голову не пришло, что презренный мальчишка может находиться совсем близко.
Разделив свои силы и послав половину через Эзис задолго до прихода Карбона, Помпей напал в тот момент, когда два Карбоновых легиона переходили реку, а два готовились к переправе. Помпей взял Карбона в клещи и одновременно атаковал с обоих берегов, неожиданно появившись из-за деревьев. Ветераны сражались, чтобы доказать: сын Мясника знает ремесло даже лучше отца. Вынужденный выполнять роль полководца и оставаться на южном берегу реки, Помпей не мог сделать то, чего хотел больше всего, – встретиться с Карбоном лично. Полководцы, говорил ему отец много раз, никогда не должны покидать базовый лагерь – на случай, если сражение пойдет не по намеченному плану и придется срочно отступить. Так что Помпею пришлось следить за тем, как Карбон и его легат Луций Квинкций собирают два легиона, оставшиеся на их берегу реки Эзис, и стремительно удирают в сторону Аримина. Из тех, кто был на берегу Помпея, не выжил никто. Сын Мясника действительно знал толк в семейном ремесле. Он ликовал.
А теперь настало время идти к Сулле!
Два дня спустя, восседая на своем белом государственном коне, Помпей привел три легиона в земли, несколько лет назад враждовавшие с Римом. Там жили пицены, вестины, марруцины, френтаны – народы полуострова, которые боролись за независимость италийских союзников от Рима. В их поражении повинен был главным образом человек, к которому сейчас направлялся Помпей, – Луций Корнелий Сулла. Тем не менее никто не пытался препятствовать продвижению войска, наоборот, некоторые выражали желание вступить в армию Помпея. Весть о победе над Карбоном опередила Помпея, а италики были военными до мозга костей. Пусть борьба за Италию проиграна, существуют и другие цели. Симпатии италиков были скорее на стороне Суллы, нежели на стороне Карбона.
У всех было приподнятое настроение, когда маленькая армия покидала побережье у Буки и направлялась по очень хорошей дороге на Ларин в Центральной Апулии. Минули два рыночных дня, прежде чем восемнадцатитысячная армия Помпея подошла к Ларину, небольшому процветающему городку в центре богатой сельскохозяйственной и скотоводческой области. Все сколько-нибудь значимые жители Ларина вышли приветствовать Помпея и постараться как можно скорее выпроводить его из города.
Следующее сражение произошло всего в трех милях от Ларина. Карбон не терял времени даром и послал предупреждение в Рим о сыне Мясника и его трех легионах. Рим тоже не мешкал, думая, как предотвратить объединение Помпея и Суллы. Два легиона из Кампании под командованием Гая Альбия Каррины были посланы навстречу неожиданному врагу, чтобы остановить Помпея. Они встретились, когда обе стороны были на марше. Схватка оказалась яростной и решающей. Каррина дрался, пока не понял, что у него нет шанса победить. Он поспешно дал сигнал к отступлению и увел почти не понесшие потерь войска. С собой он уносил возросшее уважение к сыну Мясника.
К этому времени солдаты Помпея обрели уверенность в себе и стали настолько выносливы, что их подбитые гвоздями калиги отмеривали милю за милей, словно это не стоило им никаких усилий. Они шли уже третью сотню этих миль, пропустив лишь пару глотков кислого слабого вина. Добрались до Сепина, городка поменьше, чем Ларин, и тут Помпей узнал, что теперь Сулла недалеко – стоит лагерем под Беневентом на Аппиевой дороге.
Но сначала предстояло еще одно сражение. Луций Юний Брут Дамасипп, брат старого друга Помпея Страбона, попытался устроить Помпею-младшему ловушку между Сепином и Сирпием, где местность была сильно пересеченной. Уверенность Помпея в своих способностях оказалась оправданной. Его разведчики обнаружили, где скрывались Брут Дамасипп и его два легиона. И Помпей напал без предупреждения. Потеряв несколько сот солдат, Брут выбрался из трудного положения и отступил в сторону Бовиана.
Ни разу после сражения Помпей не пытался преследовать противника, однако совсем не по тем причинам, которые предполагали люди вроде Варрона и трех примипилов. Да, он не знал местности, не мог быть уверен, что отступление врага – это не отвлекающий маневр, чтобы напасть большими силами. Однако по- добные обстоятельства даже в голову не приходили Помпею. Ибо все мысли его были направлены на преодоление любых препятствий, стоящих между ним и Луцием Корнелием Суллой.
Перед его внутренним взором, словно пышная процессия, проплывали видения: два богоподобных человека с рыжими, как пламя, волосами и красивыми лицами, отражающими их внутреннюю силу, спешиваются с грацией и мощью гигантских кошек и медленно, размеренным шагом идут навстречу друг другу посередине пустынной дороги, а по обочинам выстроилось все местное население. За плечами каждого из этих величественных полководцев замерла собственная армия. И все взоры устремлены на них. Зевс идет навстречу Юпитеру. Арес встречает Марса. Геркулес и Милон. Ахилл и Гектор. Да, это будет воспето в веках, и так громко, что посрамятся Эней и Турн! Первая встреча двух колоссов этого мира, двух солнц на одном небе, – и хотя вечернее солнце еще жарко греет, его путь уже близится к закату. Ах! Но восходящее солнце! Оно горячее и мощное, и весь небосвод перед ним для взлета, чтобы стать еще жарче, еще сильнее. Помпей с торжеством думал: «Солнце Суллы склоняется к западу. А мое едва виднеется над восточным горизонтом!»
Он послал Варрона вперед, чтобы приветствовать Суллу и дать ему отчет о своем пути из Авксима, о количестве убитых, сообщить имена полководцев, которых он победил. И попросить, чтобы Сулла сам встретился с ним на дороге, чтобы все видели, что Помпей явился с миром предложить себя и свои войска величайшему человеку нынешнего столетия. Он не просил Варрона добавить «а также прошлых и будущих». Этого он не готов был признать даже в таком витиеватом приветствии.
Каждая деталь встречи тысячу раз рисовалась в воображении Помпея, вплоть до того, как он должен быть одет. В первых нескольких сотнях сцен он видел себя с головы до ног облаченным в золотые доспехи. Потом его стало грызть сомнение, и он решил, что золото будет выглядеть слишком вызывающе. Так что в следующих сотнях сцен он зрел свою персону в простой белой тоге, без всяких военных отличий, с узкой пурпурной полосой всадника с правого плеча до низа. Снова сомнения: белая тога будет сливаться с белой мастью коня и получится одно аморфное пятно. В последней сотне сцен встречи он видел себя в серебряных доспехах, которые отец подарил ему после осады Аскула в Пицене. Теперь сомнений не оставалось. Он решил, что в этих доспехах будет выглядеть лучше всего.
И все же, когда конюх помогал ему сесть в седло большого белого коня, на Гнее Помпее (Великом) была лишь простая стальная кираса, кожаные полосы его юбки не украшали ни орнамент, ни бахрома, и шлем был самым обыкновенным, какой полагался ему по рангу. Только конь был украшен, ибо Помпей принадлежал к знатному всадническому сословию и его семья обладала государственным конем на протяжении множества поколений. Поэтому на белом коне Помпея имелись все мыслимые знаки отличия: попона с серебряными бляхами и медальонами, инкрустированная серебром ярко-красная кожаная сбруя, вышитая подкладка под орнаментированным седлом, позвякивающие серебряные подвески. Отправившись в путь посередине пустынной дороги, сопровождаемый своей армией, шагающей строгими рядами, Помпей поздравил себя с тем, что выглядит как настоящий солдат, как серьезный профессионал. Пусть конь возвестит о его славе!
Беневент располагался на дальней стороне реки Калор, на стыке Аппиевой дороги с Минуциевой, ведущей от побережья Апулии и Калабрии. Солнце уже было в зените, когда Помпей и его легионы подошли к подножию небольшого холма. Помпей посмотрел на переправу через реку Калор. И там, на их стороне, ждал Луций Корнелий Сулла, сидя на невообразимо тощем муле, сопровождаемый одним лишь Варроном. Местное население – где оно? Где легаты Суллы, его войска? Где застывшие в восхищении путники?
Инстинкт заставил Помпея повернуть голову и приказать знаменосцу передового легиона, чтобы войско оставалось на месте. Затем, также в полном одиночестве, он стал спускаться по склону навстречу Сулле. Лицо его застыло так, словно он окунулся в раствор штукатурки. Когда Помпей приблизился на сотню шагов, Сулла едва не упал с мула, но удержался и спешился, одной рукой схватив животное за шею, а другой – за забрызганное грязью ухо. Выпрямившись, он зашагал посередине пустой дороги вразвалку, как моряк.
Помпей соскочил со своего звенящего бляхами коня, не уверенный в том, удержится ли сам на ногах. «Пусть хоть один из нас сделает это нормально», – подумал он и пошел.
Даже на расстоянии он понял, что этот Сулла никак не похож на того Суллу, которого он помнил. Приблизившись, Помпей разглядел разрушительное действие времени и ужасной болезни. Он почувствовал не симпатию или жалость, а ошеломляющий ужас. Его физическая реакция оказалась настолько сильной, что он даже испугался, что его вырвет.
Во-первых, Сулла был пьян. Это Помпей еще мог бы простить, если бы Сулла оставался тем самым Суллой, которого он запомнил в день его консульской инаугурации. Но от того прекрасного и пленительного человека не осталось ничего, даже копны прекрасных седеющих волос. У этого Суллы имелся парик, скрывающий его голый череп, – ужасные огненно-рыжие крутые завитки, из-под которых над ушами свисали две прямые седые пряди. У него не было зубов, и их отсутствие удлинило острый подбородок, а рот превратило в сморщенную дыру под хорошо знакомым носом с едва заметной выемкой на кончике. Кроваво-красная кожа на лице выглядела так, словно была сорвана клочьями, и только несколько пятен сохранили белизну. И хотя Сулла исхудал точно скелет, наверное, в недалеком прошлом он был очень толстым, потому что лицо его избороздили глубокие складки, а многочисленные отвисшие подбородки делали похожим на грифа.
«О, как же я сияю на фоне этого покалеченного человеческого обломка!» – мысленно взвыл Помпей, стараясь сдержать жгучие слезы разочарования.
Они чуть не столкнулись. Помпей протянул правую руку – пальцы раздвинуты, ладонь вертикально вверх.
– Император! – приветствовал он.
Сулла хихикнул, сделал над собой неимоверное усилие и протянул руку в приветственном жесте.
– Император! – выкрикнул он одним духом и упал на Помпея.
Его сырая и грязная кожаная кираса отвратительно воняла перегаром и свежим вином. Варрон тут же оказался возле Суллы. Вместе они помогли Луцию Корнелию Сулле сесть на его жалкого мула и поддерживали, пока он не растянулся на грязной спине животного.
– Он настаивал на том, чтобы встретить тебя лично, как ты и просил, – тихо сказал Варрон. – Я не мог его остановить.
Сев на своего роскошного коня, Помпей повернулся и жестом приказал своим войскам следовать за ним, а потом отправился в Беневент. Сулла на своей кляче трясся между молодым Помпеем и Варроном.
– Не могу поверить! – кричал он Варрону, после того как они сдали почти бесчувственного Суллу на руки его слугам.
– Вчера у него была очень тяжелая ночь, – сказал Варрон, не в состоянии понять природу эмоций Помпея, потому что он не был допущен в мир его фантазий.
– Тяжелая ночь? Что ты имеешь в виду?
– Его кожа. Бедняга. Когда он заболел, доктора, боясь за его жизнь, отправили его в Эдепс – местечко, где есть минеральные источники, недалеко от Халкиды в Эвбее. Говорят, тамошние храмовые врачи – лучшие во всей Греции. И они спасли его, это правда! Но ему нельзя есть спелые фрукты, мед, хлеб, пироги, нельзя пить вино. А когда они посадили его в ванну с минеральной водой, что-то случилось с кожей его лица. С тех пор у него ужасные приступы зуда, и он расчесывает лицо до крови. Он больше не ест ни спелых фруктов, ни меда, ни хлеба, ни пирогов. Однако вино он пьет, потому что оно притупляет зуд. – Варрон вздохнул. – И пьет слишком много.
– Но почему именно лицо? Почему не руки или ноги? – спросил Помпей, не совсем поверив рассказу.
– Его лицо жестоко обгорело на солнце. Разве ты не помнишь, что он всегда носил широкополую шляпу? Но там устроили местную церемонию, чтобы приветствовать его. Сулла настоял на своем присутствии, несмотря на болезнь. Тщеславие заставило его надеть вместо шляпы шлем. Думаю, его кожа потрескалась, – сказал Варрон, пораженный всем этим в такой же степени, в какой Помпей был возмущен. – Его голова выглядит как тутовая ягода, посыпанная мукой. Это так необычно!
– Ты изъясняешься как греческий врач, – сказал Помпей, чувствуя наконец, что лицо его перестает быть застывшей маской. – Где мы разместимся? Это далеко? А как же мои люди?
– Полагаю, Метелл Пий ушел показать твоим людям, где находится лагерь. А для нас найдется чудесный дом неподалеку. Если ты сейчас пойдешь и позавтракаешь, то после этого мы сможем отыскать твоих людей и посмотреть, как они разместились.
Варрон доброжелательно положил ладонь на сильную веснушчатую руку Помпея. Он не мог понять, что же не так. Насколько ему было известно, Помпей вовсе не имел склонности кого-либо жалеть. Тогда почему же он горюет?
В тот вечер Сулла дал обед в своем доме в честь приезда двух гостей. Цель обеда – познакомить их с другими легатами. До Беневента долетели слухи о Помпее – о его молодости, красоте, войске, которое обожало его. «А легаты Суллы совсем выдохлись, – весело подумал Варрон, глядя на их лица. – Они все выглядят так, словно няня жестоко вырвала у них изо рта вкусные медовые пряники!» Когда Сулла указал Помпею на locus consularis на своем ложе и никого не разместил между ними, в глазах легатов засверкала дикая злоба. Но Помпею было все равно! Он с явным удовольствием устроился на обеденном ложе и продолжал разговаривать с Суллой, словно в комнате больше никого не было.
Сулла был трезв и, очевидно, не испытывал зуда. За утро лицо его покрылось коркой. Он был спокоен, настроен дружески и явно очарован Помпеем. «Я не могу ошибаться относительно Помпея, если Сулла чувствует то же», – подумал Варрон.
Полагая, что сначала нужно обратить взор на ближайшее окружение, а потом уж по очереди оценить каждого человека в комнате, Варрон улыбнулся своему соседу Аппию Клавдию Пульхру. Этот человек Варрону нравился, он был о нем высокого мнения.
– Способен ли Сулла вести нас? – спросил он.
– Он все такой же блестящий полководец, как и раньше, – ответил Аппий Клавдий. – Если нам удастся удерживать его в трезвом состоянии, он проглотит Карбона, какое бы войско Карбон ни выставил. – Аппий Клавдий вздрогнул и поморщился. – Ты не чувствуешь присутствия злых сил в этой комнате, Варрон?
– Чувствую, – ответил Варрон, хотя вовсе не думал, что связывает тягостную атмосферу на этом пиру со злыми духами.
– Я немного изучал это явление, – пустился в объяснения Аппий Клавдий, – в небольших храмах, вникал в разные дельфийские культы. Вокруг нас повсюду роятся сверхъестественные силы – невидимые, конечно. Большинство людей не подозревают о них, но такие люди, как ты и я, Варрон, сверхчувствительны к эманациям иных мест.
– Каких иных мест? – с изумлением переспросил Варрон.
– Под нами. Над нами. Вокруг нас, – мрачным голосом пояснил Аппий Клавдий. – Знаки силы! Не знаю, как еще объяснить, что я имею в виду. Как описать невидимые пальцы, прикосновение которых дано ощутить лишь сверхчувствительным людям? Я говорю не о богах, не об Олимпе и даже не о numina…
Однако прочие многочисленные участники пира отвлекли внимание Варрона от бедного Аппия Клавдия, который продолжал самозабвенно бубнить, пока Варрон оценивал легатов Суллы.
Филипп и Цетег, великие ренегаты. Всякий раз, когда Фортуна осыпала милостями иных любимцев, Филипп и Цетег выворачивали свои тоги – на левую или на правую сторону, – чтобы с радостью служить новым хозяевам Рима. Каждый из них проделывал это в течение тридцати лет. Филипп шел к цели открыто и после нескольких неудачных попыток даже стал консулом, а при Цинне и Карбоне занял должность цензора – вершина политической карьеры. А Цетег – из патрицианского рода Корнелиев, дальний родственник Суллы – оставался на заднем плане, предпочитая властвовать, манипулируя своими коллегами-заднескамеечниками в сенате. Оба возлежали на обеденном ложе рядом, громко разговаривая и игнорируя присутствующих.
Трое молодых легатов также не обращали ни на кого внимания – чудесное трио! Веррес, Катилина и Офелла. Варрон был уверен, что все они негодяи. Впрочем, Офелла все-таки больше заботился о своем dignitas, чем о будущих выгодах. В отношении Верреса и Катилины сомнений не оставалось. Они были нацелены исключительно на поживу.
На другом ложе расположились трое уважаемых, честных людей – Мамерк, Метелл Пий и Варрон Лукулл (приемный Варрон, в действительности брат Лукулла, самого преданного человека Суллы). Они упорно не одобряли Помпея и даже не скрывали этого.
Мамерк был зятем Суллы, спокойный и верный человек, который спас состояние Суллы и благополучно доставил его семью в Грецию.
Метелл Пий Свиненок и его квестор Варрон Лукулл приплыли из Лигурии в Путеолы в середине апреля, прошли через Кампанию и соединились с Суллой как раз перед тем, как сенат Карбона мобилизовал войска, которые могли бы остановить их. Пока не появился Помпей, они грелись в лучах благодарности Суллы, ибо привели ему два легиона закаленных в боях солдат. Однако больше всего они хотели знать, кто такой Помпей. Именно это занимало их, а не его качества или причины, по которым он пришел. Какой-то Помпей из Северного Пицена? Выскочка! Не-римлянин! Его отец, прозванный Мясником за манеру воевать, хоть и добился консульства и большого политического веса, не внушал уважения ни Метеллу Пию, ни Варрону Лукуллу. К тому же ни один истинный римлянин, будь он в возрасте двадцати двух лет, не возьмет на себя смелость – абсолютно незаконно! – привести великому аристократу-патрицию Луцию Корнелию Сулле легионы и потребовать фактически равного партнерства. Армия, которую Метелл Пий и Варрон Лукулл предоставили Сулле, автоматически стала его армией, и он мог делать с ней то, что сочтет нужным. Если бы Сулла с благодарностью принял солдат и попросил Метелла Пия и Варрона Лукулла удалиться, они, может быть, и рассердились бы, но сразу ушли бы. «Два педанта», – подумал Варрон. А теперь они возлежат на одном ложе и сердито глазеют на Помпея, потому что тот использовал приведенные Сулле войска, чтобы добиться верховного командования, на которое не мог претендовать ни по возрасту, ни по происхождению. Фактически Помпей требовал от Суллы выкупа.
Однако самой интригующей фигурой для Варрона стал Марк Лициний Красс. Осенью прошлого года он прибыл в Грецию, чтобы предложить Сулле две с половиной тысячи превосходных испанских солдат, но встретил довольно холодный прием.
Основной причиной этого был крах системы быстрого обогащения, которую Красс и его друг, молодой Тит Помпоний, изобрели и предложили инвесторам в Риме Цинны. Это случилось в конце первого года консульства Цинны и Карбона, когда деньги стали потихоньку появляться снова. Рим облетела весть о том, что угрозы со стороны царя Митридата больше не существует, что Сулла заключил с ним Дарданский мир. На этой волне оптимизма Красс и Тит Помпоний продали доли в новой азиатской спекуляции. Крах наступил, когда пришло еще одно сообщение: Сулла полностью реорганизовал финансы римской провинции Азия и больше не будет «золотого дна» для сборщиков налогов.
Вместо того чтобы оставаться в Риме и разбираться с ордами разъяренных кредиторов, Красс и Тит Помпоний предпочли унести ноги. Было только одно место, куда они могли пойти, только один человек, дружбой которого можно было заручиться, – Сулла. Тит Помпоний осуществил это немедленно. Он отправился в Афины, сохранив свое огромное состояние. Образованный, с изысканными манерами, обаятельный, литератор-дилетант, при этом увлеченный мальчиками, Тит Помпоний вскоре достиг с Суллой полного понимания. Но, придя в восторг от афинской атмосферы и стиля эллинской жизни, он предпочел остаться там, приняв когномен Аттик.
Красс не был столь уверен в себе и гораздо позднее, чем Аттик, сообразил, что Сулла – единственная альтернатива. Обстоятельства сложились так, что Марк Лициний Красс остался главой семейства без средств к существованию. Единственные имевшиеся у семьи деньги принадлежали Аксии, вдове двух его братьев, старшего и среднего. Размер приданого был далеко не единственным ее достоинством, она оставалась симпатичной, жизнерадостной, добросердечной и любящей женщиной. Как и мать Красса, Венулея, она была сабинкой из Реате и к тому же близкой родственницей Венулеи. Источник ее состояния – плодородная область Rosea rura, лучшие пастбища во всей Италии. Она разводила знаменитых племенных ослов, которые стоили баснословных денег – по шестьдесят тысяч сестерциев, что было обычной ценой за такое животное, потенциального производителя сильных и крепких армейских мулов.
Когда мужа Аксии, старшего сына старого Красса, Публия, убили под Грументом, она осталась вдовой и ждала ребенка. В этой тесно связанной и бережливой семье мог найтись лишь один выход. После полагающихся десяти месяцев траура Аксия вышла замуж за Луция, второго сына Красса. От того у нее детей не было. Когда Фимбрия убил его на улице возле их дома, она опять оказалась вдовой. Красс-отец, увидев своего сына зарезанным и понимая, какая судьба ожидает его самого, тут же покончил с собой.
В то время Марку, младшему сыну Красса, исполнилось двадцать девять лет. Отец (в свое время консул и цензор) держал его дома как последнюю надежду на сохранение имени и рода. Все имущество Крассов было конфисковано, включая и состояние Венулеи. Но семья Аксии была в отличных отношениях с Цинной, так что ее приданое не тронули. И когда ее второй десятимесячный траур закончился, Марк Лициний Красс женился на ней, усыновив маленького Публия, своего племянника. Трижды вышедшая замуж, причем за троих братьев, Аксия получила прозвище Тертулла – «троечка». Она сама предложила поменять свое имя: Аксия – имя, труднопроизносимое для латинян, а «Тертулла» слетало с языка легко.
Потрясающая система, изобретенная Крассом и Аттиком, сулила огромный доход, не сделай Сулла того неожиданного шага в отношении финансов в провинции Азия. Она рухнула как раз тогда, когда Красс стал замечать, что их состояние начинает понемногу расти. Крах заставил его бежать с жалкими грошами в кошельке и погибшими надеждами. Он оставил двух женщин без мужской защиты – свою мать и жену. Через два месяца после его побега Тертулла родила ему сына.
Но куда податься? В Испанию, решил Красс. В Испании находились остатки былого состояния Крассов. За годы до этого отец Красса плавал к Оловянным островам, Касситеридам, и заключил контракт на исключительное право перевозить олово с Касситерид через Северную Испанию к берегам Срединного моря. Гражданская война в Италии все разрушила, но Крассу уже было нечего терять. Он бежал в Ближнюю Испанию, где клиент его отца, некий Вибий Пакциан, прятал его в пещере, пока Красс не уверился, что последствия его стремления к наживе не смогут настигнуть его в Испании. Он вновь всплыл на поверхность и принялся восстанавливать свою оловянную монополию, после чего вложил деньги в серебряно-свинцовые рудники в Южной Испании.
Но для процветания этой деятельности необходимо было взаимодействие с Римом и его финансовыми институтами. А это означало, что он нуждается в политическом союзнике более сильном, чем кто-либо из тех, кого он знал лично. Ему требовался Сулла. Но чтобы заручиться расположением Суллы (поскольку Красс, в отличие от Тита Помпония Аттика, не мог похвастаться ни красотой, ни образованием), он должен преподнести Сулле подарок. А единственный подарок, который он мог преподнести, – это армия. Армию он набрал из клиентов отца. Пять когорт, но хорошо обученных и хорошо вооруженных.
Первым портом, куда он зашел после Испании, стала Утика в провинции Африка, где, как узнал Красс, все еще пытался удержаться в качестве наместника Квинт Цецилий Метелл Пий, которого Гай Марий прозвал Свиненком. Красс прибыл в начале лета прошлого года, но Свиненка – столпа римских незыблемых моральных устоев – не заинтересовала его коммерческая деятельность. Предоставив Свиненку в одиночку сражаться за свои позиции в Африке, Красс отбыл в Грецию, к Сулле, который принял его подарок – пять испанских когорт, но к самому Крассу отнесся прохладно.
И теперь Красс сидел, с болью устремив на Суллу свои маленькие серые глазки и ожидая малейшего знака одобрения. Он был явно разочарован тем, что Суллу интересовал только Помпей. Когномен Красс в знаменитом роде Лициниев существовал уже много поколений, и все эти Крассы соответствовали данному прозванию, заметил Варрон. Прозвище означало «жирный» (а может, первого Лициния, которого прозвали Крассом, хотели назвать Тупицей?). При своем большом росте Красс был похож на быка. Даже его довольно невыразительное лицо отражало истинно бычье безразличие.
Варрон последний раз окинул взглядом присутствующих и вздохнул. Да, он был прав, посвятив большую часть своих мыслей Крассу. Все здесь амбициозны, большинство, может быть, не без таланта, некоторые – и жестоки, и аморальны, но, кроме Помпея и Суллы, только Марк Красс был человеком с будущим.
Возвращаясь пешком в свой дом рядом с совершенно трезвым Помпеем, Варрон вдруг понял, что правильно поступил, поддавшись на уговоры друга принять участие в этой кампании.
– О чем ты говорил с Суллой? – спросил он.
– Ни о чем существенном, – ответил Помпей.
– Вы разговаривали очень тихо.
– Да? Разве? – (Варрон скорее почувствовал, чем увидел ухмылку на губах Помпея.) – Этот Сулла не дурак, даже если он уже не тот, что прежде. Раз остальные из этого угрюмого сборища не могли слышать, о чем мы говорили, как они могут знать, что мы говорили не о них?
– Сулла согласился быть твоим партнером в этой кампании?
– Я буду сам командовать моими легионами. Это все, чего я хотел. Он знает, что я не отдам ему войска, даже на время.
– Это обсуждалось открыто?
– Я же сказал тебе, что Сулла не дурак, – лаконично ответил Помпей. – Ничего особенного сказано не было. Между нами нет никакого соглашения, и он ничем не связан.
– И ты согласен с этим?
– Конечно! И он знает, что я ему нужен, – сказал Помпей.
На следующее утро Сулла встал с рассветом. Час спустя его армия уже шагала в направлении к Капуе. К этому времени им овладел приступ деятельного настроения. Эти перепады зависели от состояния его лица, ибо зуд мучил его только временами. Оправившись от очередного приступа и сопутствующего ему запоя, Сулла знал, что у него в запасе несколько дней отдыха – при условии, что он ничем не спровоцирует новый приступ. Для этого необходимо строго следить за своими руками. От них требовалось ни под каким видом не касаться лица. Только оказавшись в столь трудном положении, человек начинает осознавать, сколько раз его руки непроизвольно тянутся к лицу. А тут влажные пузыри, твердеющие по мере засыхания, и непрерывное щекочущее ощущение, возникающее при малейшем движении кожи лица, – все это входит в процесс заживления. Легче всего в первый день – а это как раз сегодня; но с течением времени он забудет обо всем, рука его потянется к лицу в естественном желании почесать нос или щеку – и все может начаться снова. И начнется. Поэтому Сулла решил строго контролировать себя, чтобы успеть сделать как можно больше, прежде чем появятся расчесы и он опять примется пить до бесчувствия.
Но это так трудно! Столько нужно сделать, а он лишь тень того, прежнего человека. Сулла всего достиг, преодолевая огромные препятствия, но как только год назад, в Греции, его сразил этот недуг, он постоянно удивлялся: почему вообще продолжает бороться? Как правильно заметил Помпей, Сулла был не дурак. Он знал, что жить ему осталось недолго.
В такой день, как сегодня, избавившись от зуда, он сознавал, почему не оставляет своей затеи: потому что он – величайший человек в мире, не желающий мириться с концом. Даже боги не могли ввести в заблуждение халдейского провидца. Быть выше остальных, понял он сегодня, означало и наивысшую степень страдания. Сулла сдержал улыбку (это могло нарушить процесс заживления), думая о своем вчерашнем госте. Вот теперь появился человек, который даже еще не начал понимать природу величия!
Помпей Великий! Сулла уже знал, под каким именем он известен в своем кругу. Молодой человек, который воображает, что величие не должно завоевываться, что величие дано ему от рождения, как нечто само собой разумеющееся. «Всем сердцем я хочу, Помпей Магн, – подумал Сулла, – прожить достаточно, чтобы увидеть, кто и что сокрушит тебя!» Однако это поразительный юноша, настоящее чудо. Подчинение – не для него, это уж точно. Нет, Помпей Великий – соперник. И считает себя таковым. Уже. В двадцать два года. Сулла знал, как использовать тех ветеранов, которых мальчишка привел с собой. Но как лучше всего использовать самого Помпея Великого? Конечно, дать ему полную свободу действий. Проследить, чтобы ему не попадались задачи, которые он не сможет выполнить. Льстить ему, хвалить его, никогда не задевать его непомерного самомнения. Давать ему понять, что это он всех использует, ни в коем случае не наоборот. «Нет, я умру задолго до того, как он рухнет, потому что, пока я жив, я сделаю все, чтобы этого не случилось. Он слишком полезный. Слишком… ценный».
Мул, на котором ехал Сулла, пронзительно закричал, качая головой в знак согласия. Но, постоянно помня о своем лице, Сулла не улыбнулся сообразительности мула. Он ждал. Ждал мази и рецепта ее приготовления. Первый приступ этой кожной болезни случился почти десять лет назад, когда он возвращался с Евфрата. Хорошая была экспедиция!
С ним был его сын, ребенок Юлиллы, который, став юношей, превратился в друга и наперсника Суллы. Раньше у Суллы никогда не было такого друга. Идеальный партнер идеальных отношений. Как они разговаривали! Обо всем на свете. Мальчик так много готов был простить своему отцу из того, что сам Сулла простить себе не мог. О нет, не убийства и не другие вынужденные преступления, на которые толкала его жизнь. Но недостаток здравомыслия, эмоциональные слабости, проистекающие из желаний и наклонностей, когда разум взывал: «Глупо, бесполезно!» Как серьезно слушал Сулла-младший, как он все понимал, несмотря на молодость! Успокаивал. Придумывал оправдания, которые тогда изливались словно бальзам на раны. И мир Суллы, походивший на бесплодную пустыню, начинал сверкать, расширяться, обещать такую глубину и масштабы, которые мог ему придать только этот любимый сын. А потом, благополучно прибыв домой, Сулла-младший умер. Вот так. Все закончилось в два обыкновенных дня, ничем не примечательных. Ушел друг, ушел наперсник. Ушел любимый сын.
Слезы подступили… Нет! Нет! Он не может плакать, не должен плакать! Если только одна слезинка скатится со щеки, начнется пытка. Мазь. Он должен сосредоточиться на мази. Морсим нашел ее в какой-то забытой деревне недалеко от реки Пирам в Киликии-Педии, и эта мазь успокоила, исцелила его.
Шесть месяцев назад он послал человека к Морсиму, теперь этнарху в Тарсе, и просил его найти ту мазь, даже если ему придется обыскать в Киликии каждое поселение. Только бы он отыскал ее! И что еще важнее, рецепт. Кожа Суллы опять стала бы нормальной. А пока он ждал. Страдал. Величие его возрастало. Слышал ты о таком, Помпей Великий?
Он повернулся в седле и кивком позвал едущих за ним Метелла Пия Свиненка и Марка Красса (Помпей Великий ехал сзади во главе своих легионов).
– У меня проблема, – сказал он, когда Метелл Пий и Красс поравнялись с ним.
– Кто? – спросил сообразительный Свиненок.
– О, в самую точку! Наш уважаемый Филипп, – сказал Сулла, и при этом ни один мускул не дрогнул на его лице.
– Ну, даже если бы нам не пришлось разбираться с Аппием Клавдием, Луций Филипп все равно остается проблемой, – сказал Красс, – однако, без сомнения, Аппий Клавдий – худшее из зол. Ведь Аппий Клавдий – дядя Филиппа, и, казалось бы, этот факт должен был помешать племяннику исключить Аппия Клавдия из сената. Так ведь нет же.
– Вероятно, потому, что племянник Филипп на несколько лет старше дяди Аппия Клавдия, – подхватил Сулла.
– И как именно ты хочешь решить проблему? – спросил Метелл Пий, желая отвлечь спутников от хитросплетений родственных связей римской знати.
– Я знаю, что бы хотел сделать, но возможно это или нет – решать тебе, Красс, – сказал Сулла.
Красс моргнул:
– Какое отношение это имеет ко мне?
Сдвинув со лба широкополую соломенную шляпу, Сулла доверительно посмотрел на своего легата. И Красс помимо воли почувствовал, как в груди его что-то дрогнуло. Сулла считается с его мнением!
– Конечно, прекрасно двигаться вперед, покупая зерно и провизию у местных крестьян, – начал Сулла, который теперь шепелявил из-за отсутствия зубов, – но к концу лета мы будем нуждаться в урожае, который я могу доставить морем из одного места. Урожай не обязательно должен быть такой, как сицилийский или африканский, но он должен обеспечить основу рациона моей армии. А я уверен, что моя армия со временем увеличится.
– Но к осени, – осторожно сказал Метелл Пий, – мы, конечно, получим необходимое зерно из Сицилии и Африки. К осени мы захватим Рим.
– Сомневаюсь.
– Но почему? Рим гниет изнутри.
Сулла вздохнул, пошамкал губами.
– Дорогой Свиненок, если я призван помочь Риму исцелиться, то я должен дать Риму шанс решить вопрос в мою пользу мирным путем. А этого к осени не случится. Поэтому я не могу угрожать, я не могу быстрым маршем пройти по Латинской дороге и атаковать Рим, как сделали Цинна и Марий после того, как я отправился на Восток. Когда я первый раз напал на Рим, на моей стороне была неожиданность. Никто не верил, что я это сделаю. Поэтому никто и не сопротивлялся, кроме нескольких рабов и наемников Гая Мария. Но на этот раз все по-другому. Все ждут, что я пойду на Рим. Если я буду слишком торопиться, то никогда не выиграю. О, Рим, конечно же, падет! Но все мятежники, все инакомыслящие будут сопротивляться. У меня нет времени на борьбу с ними. Ни времени, ни сил. Поэтому я буду приближаться к Риму очень медленно.
Метелл Пий обдумал слова Суллы и нашел в них определенный смысл. И не смог скрыть своей радости от бесстрастных глаз в воспаленных глазницах. Метелл Пий вовсе не ожидал от римского нобиля такой мудрости. Римские нобили слишком политизированы, чтобы быть мудрыми. Они мыслят сегодняшним днем, не видят перспективы. Даже Скавр, принцепс сената, несмотря на весь свой опыт и огромный auctoritas, не был мудрым, как и отец Свиненка, Метелл Нумидийский. Храбрый, бесстрашный, решительный, не поступавшийся принципами – но не мудрый. Поэтому Свиненку так льстила мысль: долгий путь до Рима он проделает с мудрым человеком. Ибо Свиненок был Цецилием Метеллом и стоял одной ногой в одном лагере, другой – в другом. Независимо от своего личного выбора. Выбора в пользу Суллы. И если что-либо и заставляло его внутренне содрогаться, так это понимание неизбежного разрыва родовых и супружеских связей. Поэтому он оценил мудрость принятого Суллой решения идти на Рим медленно. Те из Цецилиев Метеллов, которые сейчас поддерживают Карбона, могут осознать ошибочность своего выбора. Они успеют сменить лагерь прежде, чем станет слишком поздно.
Конечно, Сулла знал, что творилось в голове у Свиненка, и позволил тому спокойно размышлять о своем. Сам он, глядя на вислоухого мула, думал совсем о другом: «Я опять в Италии, и скоро покажется Кампания, этот рог изобилия всех земных благ. Вся в зелени, холмистая, с вкусной водой. И если я не буду думать о Риме, то Рим не будет меня мучить подобно зуду. Рим станет моим. И хотя мои преступления многочисленны и я вовсе в них не раскаиваюсь, мне никогда не была близка идея насилия. Нет, будет намного лучше, если Рим примет меня добровольно. Лучше, чем брать его силой».
– Наверное, ты заметил: после высадки в Брундизии я написал письма всем предводителям прежних италийских союзников, обещая им, что лично прослежу за тем, чтобы каждый италик сделался гражданином Рима по закону и согласно договорам, заключенным в конце Италийской войны. Я даже прослежу, чтобы их распределили по всем тридцати пяти трибам. Поверь мне, Свиненок, я прогнусь, как паутина под порывом ветра, прежде чем атаковать Рим!
– Какое отношение италики имеют к Риму? – спросил Метелл Пий, который всегда был против того, чтобы италикам предоставили полное гражданство, и в душе аплодировал Филиппу и его коллеге-цензору Перперне как раз за то, что они избегали записывать италиков римскими гражданами.
– Мы прошли по землям, которые воевали с Римом, и все нас приветствовали здесь с радостью – возможно, в надежде на то, что я изменю ситуацию с гражданством в их пользу. Поддержка италиков поможет мне убедить Рим сдаться мирно.
– Сомневаюсь, – возразил Метелл, – но смею сказать, ты знаешь, что делаешь. Давай вернемся к Филиппу, к твоей проблеме.
– Конечно! – согласился Сулла, и глаза его весело блеснули.
– Филипп? Но при чем здесь я? – спросил Красс, полагая, что пора ему вклиниться в этот дуэт.
– Я должен от него избавиться, Марк Красс. Но как можно безболезненнее, учитывая, что он превратился в воплощение римских добродетелей.
– Это потому, что он стал для всех идеалом убежденного политического акробата, – ухмыляясь, сказал Свиненок.
– Неплохое сравнение, – сказал Сулла, кивком заменив улыбку. – А теперь, мой большой и с виду такой миролюбивый друг Марк Красс, я хочу задать тебе вопрос. И требую честного ответа. Ты, с твоей ужасной репутацией, способен дать мне честный ответ?
Это колкое замечание, казалось, совершенно не поколебало бычьего спокойствия Красса.
– Постараюсь, Луций Корнелий.
– Ты очень привязан к своим испанским солдатам?
– Учитывая, что ты все время заставляешь меня находить для них провизию, – нет, – ответил Красс.
– Хорошо! Ты расстался бы с ними?
– Если ты считаешь, что мы можем обойтись без них, то да.
– Хорошо! Тогда с твоего флегматичного согласия, мой дорогой Марк, одной стрелой я убью много дичи. Я намерен отдать твоих испанцев Филиппу – он сможет занять и удержать для меня Сардинию. Когда хлеб там созреет, Филипп доставит мне весь урожай, – сказал Сулла.
Он протянул руку к кожаной бутыли слабого кислого вина, привязанной к рогу седла, взял ее и умело, тонкой струйкой влил вино в беззубый рот. Ни одна капля не упала на кожу лица.
– Филипп откажется ехать, – ровным голосом сказал Метелл.
– Нет, не откажется. Ему понравятся комиссионные, – ответил Сулла, закрывая свой бурдюк. – Он будет полным властелином всего, и сардинские разбойники встретят его как брата. Он заставит всех до последнего выглядеть добродетельными.
Красса стали одолевать сомнения, ему очень хотелось возразить, но он не сказал ни слова.
– Интересно, что ты будешь делать без войска? – продолжал Сулла.
– Что-нибудь придумаю, – осторожно ответил Красс.
– Ты мог бы быть мне очень полезен, – небрежно заметил Сулла.
– Каким образом?
– Твои мать и жена – обе из знаменитых сабинских семей. А как насчет того, чтобы поехать в Реате и вербовать солдат для меня? Ты мог бы начать там, а закончить среди марсов. – Сулла протянул руку и сжал запястье Красса. – Поверь мне, Марк Красс, весной будущего года у тебя будет очень много военной работы и хорошие войска, которыми ты будешь командовать.
– Это мне подходит, – молвил Красс. – Согласен.
– О, если бы все можно было решить так быстро и так хорошо! – воскликнул Сулла, опять потянувшись к бурдюку.
Красс и Метелл Пий обменялись взглядами над склоненной головой с дурацкими искусственными завитками. Он говорил, что пьет, дабы унять зуд, но правда заключалась в том, что теперь Сулла уже не мог долго обходиться без вина. В какой-то момент страшных физических мучений он прибегнул к вину – испытанному средству временного облегчения – и с тех пор не в силах был с ним расстаться. Но сознавал ли это сам Сулла? Или не сознавал?
Если бы у них хватило смелости спросить об этом Суллу, он ответил бы им сразу. Да, он отдает себе в этом отчет. И ему все равно, кто еще осведомлен о его слабости, а также о том факте, что якобы слабое вино в действительности было очень крепким. При запрете на хлеб, мед, фрукты и сдобу ему мало что нравилось в его рационе. Врачи Эдепса были правы, запретив все эти вкусные вещи, в этом он был уверен. Когда Сулла пришел к ним, он знал, что умирает. Во-первых, он не мог обойтись без сладкого и пищи, содержащей крахмал. И поэтому так прибавил в весе, что даже его мул жаловался, вынужденный нести на себе такой груз. Чуть позже у него появилось ощущение онемения и покалывания в стопах. Со временем стали мучить жар и боли, так что, когда он ложился, его несносные ноги не давали заснуть. Впоследствии такие же ощущения появились в лодыжках и коленях, и уснуть становилось все труднее. И он попробовал добавить к своей обычной диете очень сладкого и крепкого вина – и привык к тому, что вино помогает ему заснуть. До того дня, когда он вдруг стал потеть, у него появилась одышка и он начал худеть так быстро, словно вот-вот совсем исчезнет. Он выпивал жуткое количество воды, и все равно его мучила жажда. Но что самое ужасное, он стал плохо видеть.
Бо`льшая часть симптомов почти исчезла после поездки в Эдепс. О лице он думать не будет, он, кто в юности был так красив, что мужчины теряли голову в его присутствии, а повзрослев и став еще прекраснее, сводил с ума женщин. Единственное, от чего он не избавился, – это пристрастие к вину. Смирившись с неизбежным, жрецы-врачи Эдепса убедили его заменить сладкое крепленое вино на сухое, кислое. И по прошествии месяцев Сулла стал предпочитать такие кислые вина, что лицо его каждый раз искажала гримаса. Когда его не мучил зуд, он еще был в состоянии контролировать количество выпитого, чтобы вино не мешало мыслительному процессу. Он пил просто для того, чтобы стимулировать процесс. По крайней мере, он убеждал себя в этом.
– Я оставлю у себя Офеллу и Катилину, – сказал Сулла Крассу и Метеллу Пию. – Однако Веррес вполне оправдывает свое имя – это ненасытный жадный боров! Думаю отослать его обратно в Беневент, по крайней мере на время. Он может запасти продовольствие и приглядывать за тем, что делается у нас в тылу.
Свиненок хихикнул:
– Ему это может понравиться, душке.
Эти слова вызвали усмешку у Красса.
– А как насчет Цетега? – спросил он.
Свободно свисавшие без стремян его толстые ноги затекли. Он слегка пошевелился в седле.
– Цетега я пока задержу, – ответил Сулла. Рука его потянулась к вину, но он ее отдернул. – Он может приглядеть за порядком в Кампании.
Когда армия готовилась к переправе через реку Вольтурн у города Казилин, Сулла отправил шестерых посланников на переговоры с Гаем Норбаном, наименее бездарным из двух ручных консулов Карбона. Норбан взял восемь легионов и подтянул их для защиты Капуи. Когда посланники Суллы появились с флагом перемирия, он арестовал их, даже не выслушав. Затем вывел восемь легионов на равнину у подножия горы Тифата. Раздраженный обращением с его послами, Сулла решил преподать Норбану урок, которого тот не забудет. Стремительным фланговым броском с горы Тифата Сулла напал на Норбана, который ни о чем не подозревал. Потерпевший поражение еще до того, как началась битва, Норбан отступил в Капую, перестроил своих впавших в панику людей, послал два легиона, чтобы удержать порт Неаполь, и приготовился к предстоящей осаде.
Благодаря сообразительности плебейского трибуна Марка Юния Брута Капуя была настроена поддержать нынешнее римское правительство. В начале года Брут провел закон, дающий Капуе статус римского города, а это – после многочисленных наказаний от Рима за разные мятежи – пришлось Капуе по душе. Поэтому у Норбана не было причин беспокоиться, что Капуя откажет в гостеприимстве ему и его армии. Капуя привыкла принимать римские легионы.
– У нас есть Путеолы, поэтому нам не нужен Неаполь, – сказал Сулла Помпею и Метеллу Пию по дороге в город Теан Сидицийский, – и мы можем обойтись без Капуи, потому что у нас есть Беневент. У меня было предчувствие, когда я оставил там Гая Верреса. – Он помолчал, подумал о чем-то и кивнул, словно отвечая своим мыслям. – У Цетега появится новая работа – быть легатом всех моих вспомогательных войск по снабжению. Вот истинное испытание его дипломатических способностей!
– Это очень медленный способ ведения войны, – раздраженно заметил Помпей. – Почему мы не идем прямо на Рим?
Сулла повернулся к нему и придал своему лицу теплое выражение, стараясь при этом сохранить его неподвижным.
– Терпение, Помпей! Военному делу тебя учить не надо, но в политике ты еще ничего не смыслишь. Если в оставшееся до нового года время ты ничему больше не научишься, то хотя бы получишь урок политического манипулирования. Прежде чем мы решим идти на Рим, мы должны показать Риму, что при его нынешнем правительстве он не может победить. Затем, если у него есть ум, он придет к нам и предложит себя по доброй воле.
– А если не предложит? – спросил Помпей, не зная, что Сулла уже говорил об этом с Метеллом Пием и Крассом.
– Время покажет, – только и ответил Сулла.
Они обошли Капую, словно Норбана в городе и не было, и продолжили путь к армии второго консула Рима, Сципиона Азиагена, и его старшего легата Квинта Сертория. Небольшие процветающие города Кампании не только капитулировали, но и открыто приветствовали Суллу, ибо знали его хорошо. Сулла командовал римскими армиями в этой части Италии почти всю Италийскую войну.
Сципион Азиаген стоял лагерем между городами Теан и Калес, где небольшой приток реки Вольтурн, питаемый родниками, обеспечивал большое количество шипучей воды. Летом, даже тепловатая, она была восхитительна.
– Здесь, – сказал Сулла, – будет отличный зимний лагерь.
И расположился с армией на берегу этого притока. Кавалерию он отослал обратно в Беневент под начало Цетега. Сулла лично давал указания новым послам, наставляя их, как вести переговоры о перемирии со Сципионом Азиагеном.
– Он не является давним клиентом Гая Мария, так что с ним будет намного легче, чем с Норбаном, – сказал Сулла Метеллу Пию и Помпею.
Лицо почти не беспокоило его, и вина он пил меньше, чем на пути из Беневента, а это означало, что настроение у него было хорошее и ум ясный.
– Может, и так, – сказал Свиненок с сомнением. – Если бы дело было только в Сципионе, я бы с легкой душой согласился. Но с ним Квинт Серторий, а ты знаешь, Луций Корнелий, что это значит.
– Неприятности, – равнодушно отозвался Сулла.
– Разве ты не должен продумать, как обезвредить Сертория?
– Это не моя забота, дорогой Свиненок. За меня это сделает Сципион. – Сулла указал палкой на место, где резкий поворот речушки сближал границы его лагеря с границами лагеря Сципиона на другом берегу. – Твои ветераны умеют копать, Гней Помпей?
Помпей моргнул от неожиданного вопроса:
– Еще как!
– Хорошо! В таком случае, пока остальные заканчивают строительство зимнего лагеря, твои люди смогут выкопать ров по ту сторону нашей стены и устроить большой плавательный бассейн, – произнес Сулла будничным тоном.
– Какая потрясающая идея! – так же невозмутимо улыбнулся в ответ Помпей. – Я сейчас же прикажу им приступить к работе. – Он помолчал, взял палку у Суллы и показал ею на противоположный берег. – Если ты согласен, я подрою берег и расширю реку, вместо того чтобы рыть отдельный пруд. Думаю, было бы полезно для наших парней часть речки перекрыть крышей: потом не так холодно будет.
– Хорошо придумал! Так и сделай, – сказал Сулла сердечно.
Он долго глядел, как Помпей решительно шагает прочь.
– О чем это вы? – спросил Метелл Пий, нахмурившись. Ему очень не нравилось, что Сулла так приветлив с этим самодовольным выскочкой.
– Он понял, – загадочно сказал Сулла.
– Но я не понимаю! – раздраженно заметил Свиненок. – Просвети меня.
– Братание, дорогой Свиненок! Ты думаешь, люди Сципиона устоят перед зимним курортом Помпея? Даже летом? В конце концов, наши люди тоже римские солдаты. Ничто так не способствует дружбе, как приятное совместное занятие. Стоит Помпею закончить обустройство купален, людей Сципиона там будет не меньше, чем наших. И все они примутся болтать друг с другом – те же шутки, те же жалобы, тот же образ жизни. Спорю, что сражение не состоится.
– И он понял это из того немногого, что ты сказал?
– В точности.
– Удивляюсь, что он согласился помочь! Ведь он же хочет сражаться.
– Правильно. Но он согласился с моими доводами, Пий, и знает, что этой весной сражения не будет. В планы Помпея не входит досаждать мне, ты же знаешь. Я нужен ему, так же как и он мне, – сказал Сулла и тихо засмеялся, сохраняя лицо неподвижным.
– Мне кажется, что он – человек, который быстро может решить, что не нуждается в тебе.
– Тогда ты ошибаешься в нем.
Три дня спустя Сулла и Сципион Азиаген провели переговоры на дороге между Теаном и Калесом и согласились на перемирие. К этому моменту Помпей закончил свою запруду и – как всегда, методически – после оглашения порядка ее использования, который позволял купаться там и солдатам с другого берега, объявил ее открытой для отдыха легионеров. За следующие два дня между лагерями образовался такой людской поток, что…
– Можно даже не притворяться, будто мы противники, – сказал Квинт Серторий своему командиру.
Сципион Азиаген удивился.
– И что в этом плохого? – мягко спросил он.
Серторий возвел свой единственный глаз к небу. Крупный от природы, к тридцати пяти годам он отяжелел, стал похожим на громадного быка с толстой шеей. Это придавало ему туповатый вид, что совершенно не соответствовало его незаурядному уму. Он был родственником Гая Мария и унаследовал больше великолепных личных и военных качеств Мария, чем, к примеру, родной сын полководца. Глаз он потерял в битве, предшествовавшей осаде Рима. Поскольку глаз был левый, а Серторий был правша, увечье не помешало ему продолжать сражаться. Шрам превратил его некогда приятное лицо в подобие карикатуры: правая сторона оставалась привлекательной, а левая превратилась в уродливую маску.
Вышло так, что Сципион недооценивал его, не уважал и не понимал. И теперь смотрел на Квинта Сертория с удивлением. Серторий попытался возразить:
– Азиаген, посуди сам! Разве будут наши люди сражаться за нас, если им позволили подружиться с неприятелем?
– Будут, если прикажут.
– Не согласен. Почему, ты думаешь, Сулла построил свою плавательную дыру? Разве не для того, чтобы подкупить наших солдат? Он сделал это не для своих! Это ловушка, и ты в нее угодил!
– У нас заключено перемирие, и другая сторона – тоже римляне, как и мы, – упрямо твердил Сципион Азиаген.
– Другую сторону возглавляет человек, которого ты должен бояться, словно он и его армия выросли из зубов дракона! Нельзя отдавать ему ни крохотного клочка этой дороги. Если уступишь хоть пядь, он закончит тем, что проглотит все мили, лежащие между этим местом и Римом.
– Ты преувеличиваешь, – не соглашался Сципион.
– Глупец! – вскричал Серторий, не сдержавшись.
Но на Сципиона это не подействовало. Он зевнул, почесал подбородок, посмотрел на свои ухоженные ногти. Затем поднял взгляд на возвышавшегося над ним Сертория и мило улыбнулся.
– Уйди! – сказал он.
– И уйду! Сейчас же! – огрызнулся Серторий. – Может, Гай Норбан вправит тебе мозги!
– Передай ему привет от меня, – бросил ему вслед Сципион и вновь обратился к своим ногтям.
Квинт Серторий галопом поскакал в Капую и там нашел человека, который был ему больше по вкусу, чем Сципион Азиаген. Один из самых преданных людей Мария, Норбан не был столь же фанатически предан Карбону. После смерти Цинны он объявил о своей лояльности Карбону, потому что ненавидел Суллу.
– Ты хочешь сказать, что наш слабовольный аристократ фактически заключил перемирие с Суллой? – спросил Норбан, взвизгнув при произнесении ненавистного имени.
– Именно. И он разрешает своим людям брататься с противником, – твердо сказал Серторий.
– Ну почему мне достался в напарники такой кретин, как Азиаген? – взмолился Норбан, но потом пожал плечами. – Что ж, вот до чего довели Рим, Квинт Серторий. Я пошлю ему гневное письмо, но он его проигнорирует. А тебе я советую не возвращаться к нему. Мне ненавистна сама мысль, что ты попадешь в плен к Сулле: он выищет возможность убить тебя. Найди способ насолить Сулле.
– Замечательная мысль, – вздохнул Серторий. – Я буду мутить воду в городах Кампании. Горожане все высказались за Суллу, но найдется немало мужчин, которые не одобряют этого. – Он презрительно хмыкнул. – Женщины, Гай Норбан! Женщины! Лишь заслышав имя Суллы, они прыгают от восторга. Это женщины, а не мужчины решили, какую сторону примут города Кампании.
– Значит, им следует взглянуть на него, – с гримасой фыркнул Норбан. – Думаю, в его внешности не осталось ничего человеческого.
– Хуже, чем я?
– Значительно хуже, как говорят.
Серторий нахмурился:
– Я что-то слышал об этом, но Сципион не взял меня на переговоры, поэтому я Суллу не видел, а Сципион ничего не говорил о его внешности. – Серторий неприятно засмеялся. – О, ручаюсь, это сильно огорчает нашего красавчика! Он был такой самовлюбленный! Как женщина!
Норбан усмехнулся:
– Женский пол ты не слишком-то уважаешь, да?
– Все они хороши лишь для одного занятия, но не в качестве жен! Мать – вот та единственная, кто достоин моего внимания. Такой и должна быть женщина. Не сует нос в мужские дела, не пытается верховодить в курятнике и не пользуется своей cunnus, как оружием. – Он поднял шлем, нахлобучил его на голову. – Я пойду, Гай. Счастливо тебе убедить Сципиона в его неправоте. Verpa!
Подумав, Серторий решил поехать из Капуи к побережью, где для начала агитации против Суллы как раз мог сгодиться приятный городок Синуесса, расположенный на границе с Кампанией. Дороги в Кампании были достаточно безопасны. Сулла не пытался перекрыть их – если не считать осады Неаполя. Несомненно, вскоре он обложит и Капую, чтобы не выпустить оттуда Норбана. Однако, когда Серторий был в Капуе, он не видел никаких признаков готовящейся осады. Даже если это так, Серторий чувствовал, что лучше избегать больших дорог. Ему нравилось странствовать. Это расширяло границы реальности и немного напоминало дни, когда он выдавал себя за воина-кельтибера, чтобы шпионить среди германцев. Ах, вот это была жизнь! Никаких тебе слабовольных господинчиков из числа римской аристократии, которых требуется ублажать! Ты постоянно в движении. И женщины знают свое место. У него даже имелись германская жена и сын от нее, и ни разу он не почувствовал, что она или мальчик ему мешают. Они жили сейчас в Ближней Испании, в горной крепости Оска, а мальчик теперь – как быстро летит время! – стал взрослым мужчиной. Не то чтобы Квинт Серторий скучал по ним или хотел увидеть своего единственного ребенка. Нет, он тосковал по той жизни, по свободе, когда мужчина – это прежде всего воин. Да, то были дни…
Он привык путешествовать один, даже без раба. Как и его родственник, старина Гай Марий, Квинт Серторий верил, что солдат должен уметь сам о себе позаботиться. Конечно, его тяжелый вещевой мешок остался в лагере Сципиона Азиагена, но он не вернется за ним… или все же стоит вернуться? Если подумать, там лежит несколько вещей, которых ему будет недоставать. Меч, к которому он привык, кольчуга, которую приобрел в Дальней Галлии, легкая и сделанная столь искусно, что ни одному италийскому мастеру такая работа не под силу. Его зимние сапоги из Лигурии. Да, он вернется. До падения Сципиона есть еще несколько дней.
Итак, он повернул коня и направился на северо-восток, намереваясь обойти лагерь Суллы с дальней стороны. И на некотором расстоянии от лагеря увидел небольшую группу людей, бредущих по изрытой колеями дороге. Четверо мужчин и три женщины. Ох уж эти женщины! Он почти повернул назад, но вдруг решил поехать быстрее и нагнать их. В конце концов, они направлялись к морю, а его путь вел к горам.
Подъехав ближе, он нахмурился. Определенно идущий впереди мужчина был ему знаком. Настоящий гигант, соломенные волосы, массивные мускулы, как у германцев… Бургунд! О боги, это был он, Бургунд! А позади него – Луций Декумий и его два сына!
Бургунд узнал Сертория. Мужчины пришпорили коней и помчались навстречу ему. Маленький Луций Декумий подгонял свое животное, чтобы не отстать. Вероятно, Луций Декумий не хотел упустить ни слова в предстоявшем разговоре.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Серторий, после того как закончились рукопожатия и хлопанье по спине.
– Мы заблудились, вот что, – сказал Луций Декумий, зло глядя на Бургунда. – Эта куча германского дерьма поклялась, что знает дорогу! Но что с того? Ничего он не знает!
Бургунд годами выслушивал нескончаемый поток брани и оскорблений из уст Луция Декумия. Это сделало гиганта невосприимчивым к ругательствам, поэтому он, как всегда, терпеливо пропустил их мимо ушей и просто глядел на малорослого римлянина, как бык глядит на комара.
– Мы пытаемся найти земли Квинта Педия, – сказал Бургунд в своей манере медленно тянуть слова на латыни и улыбнулся Серторию. На свете было не много людей, кому он симпатизировал. – Госпожа Аврелия собирается привезти свою дочь в Рим.
И тут показалась она. Она медленно ехала на крепком муле. Спина прямая, прическа безукоризненна, ни пятнышка грязи на желтовато-коричневом дорожном платье. С нею была ее огромная служанка Кардикса и еще одна, которую Серторий не знал.
– Квинт Серторий! – воскликнула Аврелия, присоединяясь к ним и незаметно беря инициативу в свои руки.
Вот это женщина! Серторий говорил Норбану, что ценит лишь одну родственницу – свою мать, но он совсем забыл об Аврелии. Как ей удается сочетать красоту с благоразумием, он не знал. И все же она оставалась единственной женщиной во всем мире, которая была и умной, и красивой. В дополнение к этому она была благородной, как мужчина, она не лгала, не ныла, не жаловалась, она много работала, она занималась своим делом. Они были почти ровесники – сорок лет – и знали друг друга с тех самых пор, как Аврелия вышла замуж за Гая Юлия Цезаря, двадцать лет назад.
– Ты видела мою мать? – спросил Серторий, когда они отъехали чуть в сторону от остальной группы.
– Не видела с прошлогодних ludi Romani. Так что вы уже встречались после этого. Но на следующие игры она опять приедет к нам. Это уже вошло в привычку.
– Ужасная старуха, не сидится ей в моем доме, – пожаловался он.
– Она одинока, Квинт Серторий, а твой дом – такое одинокое место. У нас она в центре событий, и ей это нравится. Я не говорю, что ей захочется остаться после того, как закончатся игры, но раз в год такая смена обстановки полезна.
С удовольствием поговорив о матери, которую он очень любил, Серторий снова вспомнил об их затруднительном положении.
– Вы действительно заблудились? – спросил он.
Аврелия со вздохом кивнула:
– Боюсь, что да. Стоит только сыну прослышать об этом! Он мне этого не забудет. Но он не мог покинуть Рим, ведь он фламин Юпитера, поэтому я вынуждена довериться Бургунду, – печально объяснила она. – Кардикса утверждает, что он в состоянии заблудиться между Форумом и Субурой, но я, признаюсь, считала, что она на него наговаривает. Теперь вижу, что она нисколько не преувеличивала.
– От Луция Декумия и его сыновей тоже нет проку?
– За пределами города – никакого. Однако, – добавила она, – я не могла бы найти более заботливого и надежного эскорта, а теперь, когда мы встретили тебя, уверена, мы скоро прибудем к Квинту Педию.
– Не так уж и скоро, но определенно я могу указать вам верную дорогу. – Серторий внимательно оглядел ее одним глазом. – Приехала, чтобы забрать своего птенчика домой, Аврелия?
Она покраснела:
– Не совсем так. Квинт Педий написал мне и попросил приехать. Очевидно, и Сципион, и Сулла стоят лагерем на границах его земель, и он чувствует, что Лия будет в большей безопасности в другом месте. Но она отказывается уезжать!
– Типичная представительница рода Цезарей, – улыбаясь, сказал Серторий. – Такая же упрямая.
– Как ты прав! Действительно, нужно было ехать ее брату. Когда он приказывает им сделать то или это, обе его сестры бросаются выполнять! Но Квинт Педий, кажется, считает, что меня будет на сей раз достаточно. Моя задача – не забрать моего цыпленка домой, а уговорить моего цыпленка поехать домой.
– Тебе это удастся. Цезари умеют быть упрямыми, но умение повелевать твой сын унаследовал не от них. Это – от тебя, Аврелия, – сказал Серторий и вдруг оживился. – Ты простишь меня, если я скажу, что тороплюсь? Я проеду с вами немного, но проводить вас до порога дома Квинта Педия, к сожалению, не смогу. За этим вам стоит обратиться к Сулле. Его лагерь как раз между тем местом, где мы сейчас находимся, и домом Квинта Педия.
– А ты едешь к Сципиону, – заметила она, кивнув.
– Я не собирался возвращаться туда, – честно признался он, – но понял, что в лагере остались мои вещи, с которыми мне не хотелось бы расставаться.
Большие фиалковые глаза Аврелии спокойно смотрели на него.
– О, я понимаю! Сципион не выдержал испытания.
– А ты думаешь, он мог бы?
– Никогда.
Они помолчали. Теперь они двигались вместе в обратном направлении. Остальные молча следовали за ними.
– Что ты будешь делать, Квинт Серторий?
– Доставлять Сулле как можно больше неприятностей. Думаю, начну с Синуессы. Но только после того, как заберу пожитки из лагеря Сципиона. – Он прокашлялся. – Я могу проводить тебя до Суллы. Он не посмеет задержать меня, если я приеду лишь с целью показать тебе дорогу.
– Не нужно, просто доведи нас до такого места, откуда мы сможем найти его лагерь, не заблудившись. – Аврелия вздохнула. – Как хорошо будет снова увидеть Луция Корнелия! Прошло четыре года с тех пор, когда он последний раз был в Риме. Он всегда навещал меня по прибытии и перед отъездом. Это стало своего рода традицией. А теперь мне придется нарушить эту традицию. И все из-за упрямства дочери. Но это не важно. Важно то, что мы с Луцием Корнелием снова увидимся. Я ужасно скучала по его визитам.
Серторий открыл было рот, чтобы предупредить ее, но передумал. То, что он слышал о состоянии Суллы, могло оказаться просто слухами, а то, что он знал об Аврелии, – факт: она, несомненно, предпочтет убедиться во всем сама.
Итак, когда на горизонте показались земляные валы лагеря Суллы, Квинт Серторий с грустью попрощался со своей свояченицей, пришпорил коня – и уехал.
Новая дорога, которая вела через поля к крепостным валам, уже была утрамбована подковами, сапогами, многочисленными повозками с фуражом и провиантом. Теперь заблудиться было невозможно.
– Мы, наверное, уже проходили мимо него, – буркнул Луций Декумий. – Эти укрепления загородила твоя задница, Бургунд!
– Ну, ну, – спокойно молвила Аврелия. – Перестаньте же ссориться!
На этом разговор и закончился. Через час маленькая кавалькада остановилась перед воротами. Луций Декумий выразил желание увидеть военачальника, и они вошли в мир, очень странный и новый для Аврелии, которой никогда раньше не случалось приближаться к военному лагерю. Она вызвала всеобщий интерес. Многие провожали взглядами эту женщину, пока они ехали по широкой улице, прямой, как древко копья, ведущей к другим, маленьким воротам, видневшимся вдалеке. Аврелия была поражена, осознав, что расстояние между двумя воротами составляет не менее трех миль.
На полпути они увидели явно искусственно насыпанное возвышение, на котором стоял большой каменный дом. Огромный красный стяг полководца возвышался над домом, возвещая, что тот сейчас находится внутри. Рыжеволосый дежурный офицер, сидевший за столом под навесом, неуклюже поднялся, увидев, что посетитель – женщина. Луций Декумий, его сыновья, Бургунд, Кардикса и вторая служанка остались возле коней, а Аврелия спокойно направилась к дежурному офицеру, рядом с которым стояли часовые.
Поскольку она была полностью закутана в огромную желтовато-коричневую накидку из тонкой шерсти, молодой Марк Валерий Мессала Руф, дежурный офицер, мог видеть лишь ее лицо. Но и этого было вполне достаточно. У него перехватило дыхание. Стоявшая перед ним женщина приходилась ровесницей его матери – но то была самая прекрасная женщина в мире! Троянская Елена тоже не была молодой. Годы не отняли у Аврелии чар. До сих пор стоило ей выйти из своей квартиры, как все головы поворачивались в ее сторону.
– Я бы хотела увидеть Луция Корнелия Суллу.
Мессала Руф не спросил ее имени, он даже не подумал предупредить Суллу о посетителе. Он просто поклонился и жестом показал на открытую дверь. Аврелия вошла, с улыбкой поблагодарив офицера. Хотя ставни были широко раскрыты, чтобы впустить воздух в помещение, в комнате оставалось темно, особенно в дальнем углу, где, склонившись над столом, сидел человек и с занятым видом что-то писал при свете большой лампы.
Раздавшийся в полумраке голос не мог принадлежать никому другому:
– Луций Корнелий?
Что-то случилось. Склоненные плечи напряглись и поднялись, словно желая защититься от страшного удара, а стилос и дощечки отлетели к краю стола. Он повернулся к ней спиной и замер.
Она сделала несколько шагов вперед:
– Луций Корнелий?
Молчание. Но глаза ее уже стали привыкать к мраку. Она разглядела шапку волос, явно не принадлежавших Луцию Корнелию Сулле. Маленькие ярко-рыжие завитушки, довольно смешные.
Он конвульсивно содрогнулся и повернулся к ней. Она сразу поняла, что это был Луций Корнелий Сулла, но только потому, что незнакомый человек смотрел на нее его глазами. Ошибиться она не могла.
«Боги, как же посмела я так поступить с ним? Но я не знала! Если бы я знала, никакие силы не затащили бы меня сюда. Какое у меня сейчас лицо? Что он видит на моем лице?»
– О Луций Корнелий, как я рада тебя видеть! – воскликнула Аврелия вполне естественным тоном.
Она быстро подошла к столу и поцеловала обе щеки, покрытые шрамами. Потом села рядом с ним на складной стул, сжала коленями свои ладони, заглянула ему в глаза и стала ждать.
– Я не предполагал когда-нибудь снова увидеть тебя, Аврелия, – сказал Сулла, не отводя от нее взгляда. – Ты не могла подождать, пока я приду в Рим? Ты нарушила наш обычный ритуал. Не ожидал этого.
– Кажется, путь до Рима непрост для тебя. Тебя сдерживает армия. А возможно, я почувствовала, что впервые ты не придешь навестить меня. Но нет, дорогой Луций Корнелий, я здесь не поэтому. Я здесь потому, что заблудилась.
– Заблудилась?
– Да. Я ищу Квинта Педия. Моя глупая дочь не хочет ехать в Рим, а Квинт Педий – ее второй муж, которого ты не знаешь, – не желает, чтобы она находилась между двумя укрепленными лагерями.
«Получилось очень непринужденно и убедительно, – подумала она. – Он должен поверить».
Но это же был Сулла! Поэтому он сказал:
– А ты шокирована, да?
Она не пыталась уйти от ответа:
– В некотором смысле – да. В основном волосы. Я так думаю, что свои ты потерял.
– Вместе с зубами. – Он показал десны, оскалившись, как обезьяна.
– Ну что ж, все мы их теряем, если живем достаточно долго.
– Сейчас ты не захотела бы, чтобы я тебя поцеловал так, как поцеловал несколько лет назад, да?
Аврелия склонила голову набок и улыбнулась:
– Я и тогда не хотела, чтобы ты меня целовал, хотя мне это и понравилось. Слишком сильное ощущение для меня, столь ценящей покой. Как же ты меня возненавидел!
– А чего ты ждала? Ты отвергла меня. А я не люблю, когда женщины меня отвергают.
– Я помню об этом!
– Я помню тот виноград.
– Я тоже.
Сулла глубоко вздохнул, крепко зажмурился:
– Если бы я мог плакать!
– Я рада, что ты не можешь, дорогой друг, – мягко проговорила она.
– Тогда ты плакала обо мне.
– Да. Но сейчас не буду. Это было бы трауром по исчезнувшему отражению, уплывшему по течению реки. А ты – здесь. И я рада этому.
Наконец он встал, старый, усталый человек:
– Вина?
– Да, пожалуйста.
Он налил вино, как заметила Аврелия, из двух разных бутылок.
– Тебе не понравится та моча, которую мне приходится теперь пить. Такую же сухую и кислую, как я сам.
– Я и сама совершенно сухая и кислая, но не буду настаивать на том, чтобы попробовать твое пойло, если ты не рекомендуешь. – Она взяла протянутую ей простую чашу и с благодарностью отпила. – Благодарю, вкусное. Мы провели целый день в поисках Квинта Педия.
– О чем думает твой муж, заставляя тебя выполнять его работу? Он опять в отъезде? – осведомился Сулла, опустившись на стул с заметным облегчением.
Блестящие глаза Аврелии вдруг стали стеклянными.
– Я уже два года как вдова, Луций Корнелий.
Он удивился:
– Гай Юлий мертв? Он же был совершенно здоров. И к тому же молод! Убит в сражении?
– Нет. Он просто умер – внезапно.
– А я вот на тысячу лет старше Гая Юлия, но все еще цепляюсь за жизнь, – с горечью произнес Сулла.
– Ты – октябрьский конь, а он – простой солдат. Он был мне хорошим мужем. Я никогда не считала его человеком, которому следует цепляться за жизнь, – сказала Аврелия.
– Наверное, он и не цеплялся. Под моей властью в Риме ему было бы несладко. Я думаю, он последовал бы за Карбоном.
– Он был сторонником Цинны из-за Гая Мария. Но Карбон? Не знаю. – Аврелия заговорила о другом. Она уже привыкла к его новому облику, сменившему прекрасный лик Аполлона. – Твоя жена здорова, Луций Корнелий?
– Была здорова, когда я последний раз слышал о ней. Она все еще в Афинах. В прошлом году родила мне двойняшек, мальчика и девочку. – Сулла хихикнул. – Она боится, что они вырастут похожими на их дядю Свина.
– О бедняжки! Хорошо иметь детей. Ты когда-нибудь вспоминаешь о других своих двойняшках – о тех мальчиках, которых тебе родила твоя германская жена? Теперь они совсем взрослые.
– Молодые херуски! Добывают скальпы и заживо сжигают римлян в плетеных клетках.
Все будет хорошо. Он успокоился. Казалось, его уже не мучило ее присутствие. Аврелия придумывала для Луция Корнелия Суллы множество судеб, но в фантазиях она никогда не допускала, что он утратит свою особую, неповторимую привлекательность. И все же это тот самый Сулла. «Его жена, – подумала Аврелия, – наверное, была без ума от него, когда он походил на Аполлона».
Они поговорили еще какое-то время о минувшем, обмениваясь новостями о том о сем. Ему, как она заметила, нравилось говорить о своем выдвиженце Лукулле, а ей, по его наблюдениям, нравилось говорить о своем единственном сыне, которого теперь называли Цезарем.
– Насколько я помню, молодой Цезарь был весьма эрудированным юношей. Должность фламина Юпитера должна подходить ему, – сказал Сулла.
Аврелия колебалась. Казалось, она хотела что-то сказать, но произнесла явно совсем другое:
– Ему пришлось очень постараться, чтобы стать хорошим жрецом, Луций Корнелий.
Нахмурясь, Сулла посмотрел в окно:
– Вижу, солнце склоняется к западу. Вот почему здесь темно. Тебе время отправляться. Тебя проводят мои новобранцы. Квинт Педий живет недалеко от лагеря. Ты можешь сказать своей дочери, что если она останется, то она – дура. Мои солдаты – не звери, но если она истинная Юлия, то будет для них искушением, а воинам нельзя запретить пить вино, когда они безвылазно торчат в лагере в Кампании. Немедленно увози ее в Рим. Послезавтра я дам тебе сопровождающих до Ферентина. Это позволит вам избежать когтей обеих армий, запертых здесь.
Она поднялась:
– Со мной Бургунд и Луций Декумий с сыновьями. Но если ты можешь выделить людей, то благодарю тебя за эскорт. Разве между тобой и Сципионом не будет сражения?
О, как печально никогда больше не видеть чудесной улыбки Суллы! Лучшее, что он мог теперь сделать, – это промычать, что позволяло сохранить неподвижными струпы и шрамы на лице.
– С этим идиотом? Нет, не думаю, что сражение будет, – ответил Сулла, стоя уже на пороге и слегка подталкивая ее. – А теперь ступай, Аврелия. И не жди меня в Риме. Я не приду.
Она ушла, чтобы присоединиться к ожидавшей ее свите, а Сулла принялся инструктировать Мессалу Руфа. Вскоре Аврелия и ее провожатые уже ехали по главной улице, направляясь к воротам огромного лагеря Суллы.
Один взгляд на лицо Аврелии отбивал у ее спутников охоту заговорить с ней. Поэтому все молчали. Аврелия погрузилась в свои мысли:
«Он всегда нравился мне, пусть даже стал нашим врагом. Пусть даже его нельзя назвать хорошим человеком. Мой муж был глубоко порядочен, и я любила его и была верна ему и душой, и телом. И все же – теперь я это знаю, хотя до сих пор не сознавала – какая-то крохотная частица меня всегда принадлежала Луцию Корнелию Сулле. Та частица, которой мой муж не желал, с которой он не знал, что делать. Мы поцеловались с Луцием Корнелием лишь раз. Но это было и блаженство, и ад. Неистовая страсть и засасывающая трясина. Я не сдалась. Но, боги, как я хотела этого! В некотором смысле я одержала победу. Но не проиграла ли я войну?
Всякий раз, когда он вторгался в мой уютный мирок, с ним врывался ураган. Он был Аполлоном, но он был и Эолом. Он управлял вихрями моей души, так что сокрытая во мне лира начинала играть такую мелодию, которой мой муж никогда, никогда не слышал… О, это хуже, чем оплакивать умершего и тосковать в вечной разлуке! Сегодня я смотрела на крах моей мечты, нашей общей мечты, и он знает это, бедный Луций Корнелий. Но какая выдержка! Более слабый человек покончил бы с собой. Его боль, его боль! Почему я это чувствую? Я – деловая, практичная, прозаичная женщина. Жизнь моя налажена, я ею довольна. Но теперь я понимаю, какая именно часть меня всегда принадлежала ему. Она похожа на птицу, которая могла взметнуться вверх и парить, выводя трели, – и гори огнем под тобой земля, которая ничего не значит! Нет, я не жалею, что крепко стояла на земле, что никогда не взмывала ввысь. Уж такая я есть. У нас с ним никогда не было бы ни минуты покоя. О, у меня сердце обливается кровью при мысли о нем! И слезы мои – о нем!»
Поскольку Аврелия ехала впереди своей маленькой свиты, но позади сопровождающих их офицеров, никто не мог видеть ее слез, как не видели они Луция Корнелия Суллы, крушения ее мечты.
Гневное письмо Гая Норбана, посланное Сципиону Азиагену, не помогло избежать поражения, которое тот навлек на себя сам. Сципион Азиаген страшно удивился, когда, решив наконец дать сражение, обнаружил, что войско не хочет выступать на его стороне. Вместо этого все восемь легионов перешли к Сулле.
И даже когда Сулла лишил его консульских полномочий и отправил собирать пожитки в сопровождении отряда конников, Сципион Азиаген так и не понял, что Рим находится в трудном положении. Совершенно спокойно и в хорошем настроении он отправился в Этрурию и начал вербовать себе другую армию среди многочисленных клиентов Гая Мария. Гай Марий мог быть мертв, но память о нем будет жить вечно. В то время как Сципион Азиаген – всего лишь преходящее настоящее.
– Он даже не понимает, что прервал торжественно заключенное перемирие, – сказал Сулла с удивлением. – Я знал, что все Сципионы недоумки, но этот! Он недостоин имени Корнелия Сципиона. Если я возьму Рим, я казню его.
– Тебе следовало убить его, когда он был у тебя в руках, – раздраженно сказал Свиненок. – Он еще доставит нам неприятностей.
– Нет, он – припарка, которую я прикладываю к нарыву Этрурии, – сказал Сулла. – Удаляй яд, Пий, пока имеешь дело с одним гнойником. Не жди, когда назреет карбункул.
Это, конечно, было еще одним проявлением мудрости.
– Прекрасная метафора, – усмехнулся Метелл Пий.
Хотя стоял квинтилий и до конца лета было еще далеко, в тот год Сулла нисколько не продвинулся к Риму. С отъездом Сципиона оба лагеря объединились, и седовласые центурионы Суллы принялись работать с молодыми и неопытными солдатами Карбонова Рима. Страх перед ветеранами Суллы действовал на них сильнее, чем дружеское братание. Всего несколько дней показали им, каким должен быть истинный римский солдат – несгибаемым, закаленным, знатоком военного дела. Ни один рекрут, встретившись с таким на поле сражения, не устоит, лучше и не пытаться. Это еще раз убедило перебежчиков в правильности их поступка.
Отступничество Синуессы под влиянием Квинта Сертория оказалось не больнее булавочного укола. Сулла обложил город, но не для того, чтобы взять его измором или атаковать неприступные крепостные валы, а лишь для того, чтобы использовать осаду в качестве учебного упражнения для армии новобранцев Сципиона. В том году Сулла не был заинтересован в кровопролитии. Наибольшая польза от осады Синуессы заключалась в том, что там оказался заперт умный, талантливый и энергичный Квинт Серторий. Находясь в осадном кольце, он был бесполезен для Карбона, который в любом другом случае мог бы использовать его гораздо эффективнее.
С Сардинии сообщили, что Филипп и его испанские когорты легко захватили власть. Следовательно, Филипп сможет послать Сулле весь собранный там урожай. И корабли с зерном своевременно прибыли в Путеолы, где и разгрузились, не встретив на своем пути ни военных галер, ни пиратов.
Настала ранняя и довольно суровая зима. Чтобы разделить свою армию, увеличившуюся более чем в два раза, Сулла отправил несколько когорт осадить Капую, Синуессу и Неаполь, принудив таким образом прочие регионы Кампании кормить его солдат. Веррес и Цетег оказались неплохими снабженцами, они даже посоветовали хранить рыбу, пойманную в Адриатике, в ямах, набитых снегом. Любители даров моря из войска Суллы, которым никогда не удавалось вдоволь поесть свежей рыбы, наслаждались этим неожиданным угощением, а армейские хирурги то и дело вынимали у солдат застрявшие в горле рыбьи кости.
Все это не имело для Суллы никакого значения. Он расковырял несколько струпов на своем заживающем лице и тем самым вызвал приступ зуда. Все, кто общался с ним, просили, чтобы он дал возможность струпам отвалиться самим, но беспокойная натура Суллы не могла смириться с необходимостью ждать. Когда струпы начинали свисать, он их отковыривал.
Вспышка болезни была очень сильной (может быть, из-за холода, предположил Варрон, ухаживавший за Суллой, поскольку в нем проснулся научный интерес) и длилась без перерыва три полных месяца. Три месяца – пьяный, полубезумный Сулла, который стонет, чешется, кричит и пьет. Один раз Варрон даже привязал его руки к бокам, чтобы он не мог дотянуться до лица. И хотя Сулла очень хотел подчиниться этому вынужденному ограничению – как Улисс, привязанный к мачте, когда пели сирены, – он все-таки умолял освободить его. И конечно, в конце концов ему удалось освободиться. Чтобы снова чесаться.
Перед Новым годом, отчаявшись, Варрон пошел к Метеллу Пию и Помпею – предупредить, что Сулла вряд ли поправится к весне.
– Ему письмо из Тарса, – сказал Метелл Пий, которому было поручено составить компанию Помпею этой зимой: Красс находился среди марсов, а Аппий Клавдий и Мамерк где-то что-то осаждали.
Варрон насторожился:
– Из Тарса?
– Да. От этнарха Морсима.
– С кувшином?
– Нет, только письмо. Он сможет прочитать его?
– Конечно нет.
– Тогда лучше ты сам прочти его, Варрон, – сказал Помпей.
– Ты что, Помпей? – возмутился Метелл Пий.
– Ну же, Свиненок, не будь ханжой! – устало возразил Помпей. – Мы знаем, что он надеется на какую-то волшебную мазь, и мы знаем, что он поручил Морсиму найти ее. Теперь пришло какое-то известие, но он не в состоянии разбирать буквы. Разве будет дурно – ради него же – посмотреть, что хочет сообщить Морсим?
Итак, Варрону разрешили узнать, о чем пишет Морсим.
Вот рецепт – и это все, что я могу для тебя сделать, дорогой Луций Корнелий, друг мой и господин. Мазь должна быть свежей, ее следует приготовлять часто, а путь от Пирама до Рима длинный. Поэтому тебе придется самому найти ингредиенты и изготовить снадобье. К счастью, ингредиенты не экзотические, отыскать их легко, но вот способ приготовления трудоемкий.
Итак, излечивает овца. Надо взять свежее руно и поручить кому-нибудь скоблить шерсть инструментом, достаточно острым, чтобы давить волокна, но недостаточно острым, чтобы их порезать. Ты увидишь, что на острие твоего инструмента скапливается вещество, маслянистое и имеющее консистенцию сычужной закваски. Скреби шерсть до тех пор, пока этого вещества не наберется достаточно много. Как мне сказали, овечьей шерсти потребуется немало. Затем залей это вещество теплой водой – теплой, а не горячей! – но не слишком прохладной. Сунь в воду палец – она должна быть такой, чтобы казалось горячо, но терпимо. Некоторое количество вещества растворится в воде, образовав слой, который всплывет на поверхность. Этот слой и есть то средство, которое тебе потребно. Необходим целый кубок его.
Затем возьми руно, удостоверься, что на коже остался жир (используй только что освежеванное животное), и прокипяти его. Полученный жир протопи дважды. Натопи целый кубок.
К жиру овцы добавь специальное нутряное сало, ибо овечье сало очень плотное, не тает даже в теплой комнате. Мой источник информации – самая вонючая и мерзкая старуха, не говоря уже о том, что и самая жадная из всех! – сказала, что это нутряное сало следует взять с почек овцы и размять. Затем распустить в теплой воде. Снять слой с поверхности воды в количестве двух третей кубка. К этому добавить треть кубка желчи, взятой из желчного пузыря только что зарезанной овцы.
После этого не торопясь, тщательно смешай все ингредиенты. Мазь довольно плотная, но не такая твердая, как сам жир. Смазывай лицо не меньше четырех раз в день. Предупреждаю, дорогой Луций Корнелий, что воняет это ужасно. Но старуха настаивает, что ни в коем случае нельзя добавлять в мазь ни духов, ни специй, ни пахучих смол.
Пожалуйста, сообщи мне, если мазь подействует! Гнусная старуха клянется, что это она приготовила ту мазь, которая тебе помогла в первый раз, хотя я несколько сомневаюсь.
Vale. Морсим.
Варрон немедленно призвал небольшую армию рабов и отправил их искать отару овец. После этого в маленьком домике по соседству с жилищем командующего Варрон нетерпеливо бегал от котлов к трудившимся рабам, осматривая каждую тушу, каждую почку, настаивая на том, чтобы лично проверять температуру воды, скрупулезно измерял количество ингредиентов и своей суетливостью, кудахтаньем и понуканиями довел слуг до озлобления. За час до того, как предприятие по изготовлению мази начало работать, он уже волновался по поводу точного размера кубка. Но вдруг все понял и потом смеялся до слез. Если все его кубки одного размера, то какое это имеет значение?
Зарезали сотню овец (желчь и жир были получены от двух животных, а остальные девяносто восемь были заколоты из-за маленького кусочка сала с поверхности почек и вещества, которое предстояло наскрести с шерсти). В конце концов Варрон получил достаточно большой порфировый кувшин мази. А что касается уставших рабов, они получили сотню почти нетронутых туш очень вкусной баранины и поняли, что стоило потрудиться, чтобы иметь возможность набить живот жареным мясом.
Час был поздний, и Сулла, как прошептал его слуга, спал на ложе в столовой.
– Пьяный, – кивнул Варрон.
– Да, Марк Теренций.
– Ну что ж, думаю, это даже хорошо.
Он на цыпочках вошел в комнату и на миг остановился, глядя на бедное измученное существо, в которое превратился прекрасный Сулла. Парик упал с головы и лежал, демонстрируя марлевую подкладку. Много тысяч волосинок пошло на его изготовление. Каждую следовало закрепить на подкладке. Подумать только, на это требуется куда больше времени, чем на приготовление мази! Варрон вздохнул и покачал головой. Потом очень осторожно приложил свои смазанные мазью пальцы к кровавому месиву на лице Суллы.
Тот вдруг открыл глаза, в затуманенном вином взгляде застыли боль и ужас. Рот открыт, губы растянуты, десны обнажены. Но он не издал ни звука.
– Это мазь, Луций Корнелий, – прошептал Варрон. – Я приготовил ее по тому рецепту. Ты выдержишь, если я попытаюсь нанести ее тебе на лицо?
Слезы скопились в глазницах, потому что Сулла лежал на спине. Прежде чем они вытекли из уголков глаз на кожу лица, Варрон промокнул их кусочком очень мягкой ткани. Но слезы не убывали. А Варрон все промокал их.
– Ты не должен плакать, Луций Корнелий. Мазь необходимо накладывать на сухую кожу. А теперь лежи спокойно и закрой глаза.
Сулла лежал спокойно, глаза его были закрыты. После нескольких непроизвольных рывков при прикосновениях к его лицу он уже не протестовал, и постепенно напряжение спало.
Варрон закончил процедуру, взял пятисвечовую лампу и высоко поднял ее, чтобы посмотреть на результат своего труда. Прозрачная жидкость горошинами выступила там, где кожа потрескалась, но слой мази, казалось, остановил кровотечение.
– Ты должен постараться не расчесывать. Чешется? – спросил Варрон.
– Да, чешется, – ответил Сулла, не открывая глаз. – Но бывало и хуже. Привяжи мне руки.
Варрон выполнил просьбу.
– Я вернусь к рассвету и повторю процедуру. Кто знает, Луций Корнелий? Может быть, к рассвету зуд пройдет.
И он тихо вышел из комнаты.
К рассвету зуд не прошел, но от беспристрастного взгляда Варрона не укрылось, что кожа Суллы выглядела – как бы это выразиться? – спокойнее. Варрон снова наложил мазь. Сулла попросил не развязывать ему руки. Но в полночь, после троекратного наложения мази, он объявил, что, как ему кажется, он сможет сдержаться, если Варрон освободит его. А через четыре дня он сказал Варрону, что зуд прошел.
– Мазь подействовала! – сообщил Варрон Помпею и Свиненку, испытывая удовлетворение врача, хотя врачом он вовсе не был и быть не хотел.
– Он сможет весной командовать армией? – осведомился Помпей.
– Если мазь окажется действенной, сможет еще до наступления весны, – ответил Варрон и поспешил наружу с кувшином мази, чтобы зарыть его в снег. В холоде она дольше не испортится, хотя руки Варрона уже воняли тухлятиной. – Воистину он felix, счастливчик! – вслух подумал Варрон.
Когда ранняя и морозная зима покрыла Рим снегом, многие из его жителей увидели в этом плохой знак. Ни Норбан, ни Сципион Азиаген не возвратились после своих поражений. Не приходило никаких хороших вестей об их последующих действиях. Норбан застрял в осажденной Капуе, а Сципион бродил по Этрурии, вербуя солдат.
К концу года сенат задумал провести дебаты о том, что ждет впереди и сенат, и Рим. Число сторонников Суллы снизилось на треть. Часть ушла к Сулле в Грецию раньше, а часть соединилась с Суллой, когда он вернулся в Италию. Ибо, несмотря на протесты группы сенаторов, заявлявших о своем нейтралитете, все в Риме, от высших до низших, очень хорошо знали, что подведена роковая черта. Вся Италия и Италийская Галлия не были достаточно просторными для мирного сосуществования Суллы и Карбона. У них были прямо противоположные цели, разные взгляды на систему правления, разные идеи относительно того, по какому пути должен идти Рим. Сулла ратовал за mos maiorum, вековые обычаи и традиции, за которыми стояли аристократы-землевладельцы – главные действующие лица и на войне, и во время мира. Карбон же настаивал на превосходстве коммерсантов – сословии всадников и казначейских трибунов. Поскольку ни одна группа не соглашалась на равные права, то кто-то должен был победить, развязав еще одну гражданскую войну.
Узаконив статус римского города за Капуей, плебейский трибун Марк Юний Брут вызвал из Аримина Карбона. Именно возвращение Карбона из Италийской Галлии и навело сенат на мысль собраться и обсудить положение.
Карбон и Брут встретились в доме Брута на Палатине, хорошо знакомом Гнею Папирию Карбону. Уже много лет Карбон и Брут оставались друзьями. Кроме того, крайне неосмотрительно было бы сходиться для серьезного разговора в доме самого Карбона, где (судя по слухам) даже мальчик, приставленный к ночным горшкам, брал плату у любого, кого интересовали планы Карбона.
То, что в доме Брута не водилось продажных слуг, являлось исключительно заслугой жены Брута, Сервилии, которая управляла хозяйством строже, чем Сципион Азиаген своей армией. Она не прощала проступков. Казалось, глаз у нее как у стоокого великана Аргуса и ушей как у целой колонии летучих мышей. Слуги, который мог бы перехитрить ее, просто не существовало. А слуга, который не испытывал перед ней страха, покидал ее дом уже через несколько дней.
Поэтому-то Брут и Карбон могли приступить к конфиденциальной беседе, полагая себя в полной безопасности. Если не считать, конечно, саму Сервилию. Ничто из того, что происходило и говорилось в ее доме, не могло укрыться от ее чуткого слуха. И этот очень личный разговор не стал исключением, уж она-то об этом позаботилась. Мужчины сидели в кабинете Брута, за закрытой дверью, а Сервилия устроилась у колоннады под открытым окном. Было холодно, но Сервилия согласна была мириться с неудобствами ради того, что может прозвучать в той уютной комнате.
Разговор начался с обычных вежливых фраз.
– Как мой отец? – спросил Брут.
– У него все хорошо. Посылает тебе привет.
– Удивляюсь, как ты можешь его терпеть! – взорвался вдруг Брут и замолчал, видимо сам шокированный тем, что только что сказал. – Извини. Я не хотел сердиться. Я действительно не сержусь.
– Ты просто удивлен, что я в состоянии его выносить?
– Да.
– Он твой отец, – спокойно ответил Карбон, – и он старый человек. Я понимаю, почему ты видишь в нем источник неприятностей. Однако я его таковым не считаю. После того как Веррес сбежал с тем, что оставалось от моей наместнической казны, мне пришлось подыскать себе другого квестора. Твой отец и я были друзьями с тех самых пор, как он с Марием вернулся из ссылки.
Карбон помолчал – очевидно, похлопал Брута по руке, подумала Сервилия. Она знала, как Карбон обращался с ее мужем.
Затем Карбон продолжал:
– Когда ты женился, он купил тебе этот дом, чтобы самому не путаться у вас под ногами. Но чего он не предвидел, так это одиночества – как он будет жить один после стольких лет, проведенных бок о бок с тобой. Два неразлучных холостяка! Могу представить, как он надоедал тебе и твоей жене. Так что, когда я написал и попросил его быть моим проквестором, он с готовностью согласился. Не понимаю, почему ты должен чувствовать себя виноватым, Брут. Ему нравится эта должность.
– Спасибо, – вздохнул Брут.
– А теперь – к делу. Что такого случилось? Почему я должен был явиться сюда?
– Выборы. С дезертирством всеобщего друга Филиппа моральный дух в Риме упал. Никто не поведет их за собой, ни у кого не хватит смелости стать предводителем. Вот почему я подумал, что ты должен возвратиться в Рим, по крайней мере до конца выборов. Я не нахожу никого, кто годился бы сейчас на должность консула. Никто не хочет занимать важных постов, – нервно заключил Брут; он вообще был беспокойным человеком.
– А как же Серторий?
– Ты ведь знаешь, он наш сторонник. Я написал ему в Синуессу и просил выставить свою кандидатуру на консульских выборах, но он отказался. По двум причинам, хотя я знал лишь об одной: он все еще претор и должен ждать положенные два года, прежде чем баллотироваться в консулы. Я надеялся уговорить его. И сумел бы, будь то единственная причина. Но вторая причина достаточно веская.
– И какова же она?
– Он сказал, что с Римом покончено, что он отказывается быть консулом в городе, полном трусов и оппортунистов.
– Изящно сформулировано.
– Он заявил, что станет наместником Ближней Испании и уедет немедленно.
– Fellator! – прорычал Карбон.
Брут, не выносивший сквернословия, ничего не ответил. Очевидно, ему больше нечего было сказать. Некоторое время они молчали.
Выведенная из себя Сервилия приложила глаз к затейливой решетке ставни и увидела Карбона и своего мужа сидящими за столом друг против друга. Она подумала, что они могли бы быть братьями: оба темноволосые, у обоих простые черты лица, оба невысокого роста и неидеального сложения.
Сервилия часто спрашивала себя, почему Фортуна не наградила ее мужем с более выразительной внешностью – мужем, который засиял бы на политической арене. Она давно уже отказалась от мысли о военной карьере для Брута. Значит, это должна быть политика. Но лучшее, на что Брут оказался способен, – это дать Капуе статус римского города. Неплохая идея – определенно она спасла его трибунат от банальности! – но о Бруте никогда не будут помнить как об одном из великих народных трибунов, как о его дяде Друзе.
Брута для Сервилии выбрал дядя Мамерк, хотя сам Мамерк был душой и телом предан Сулле и находился в Греции с Суллой, когда назрела необходимость найти мужа для старшей из шести его подопечных, Сервилии. Они все еще жили в Риме под присмотром бедной родственницы Гнеи и ее матери Порции Лицинианы – ужасной женщины! Ни одному опекуну, сколь далеко ни находился бы он от своих подопечных, не стоило беспокоиться о добродетели и моральном облике ребенка, которого железной рукой воспитывала Порция Лициниана! Даже ее дочь Гнея с течением лет становилась все некрасивее и все более походила на старую деву.
Таким образом, именно Порция Лициниана нашла претендентов на руку Сервилии, когда той стукнуло восемнадцать. Порция Лициниана послала соответствующую информацию дяде Мамерку на Восток. Она сообщила о достоинствах, моральном облике, скромности, трезвости и прочих качествах, которые она сама хотела бы видеть в супруге. И хотя Порция Лициниана ни разу не совершила ошибки, открыто выказав предпочтение одному из претендентов, ее замечания засели в голове дяди Мамерка. В конце концов, у Сервилии было огромное приданое и она имела счастье носить имя великолепного старинного патрицианского рода, да и сама, по уверению Порции Лицинианы, была недурна собой.
И дядя Мамерк пошел по пути наименьшего сопротивления. Он выбрал человека, на которого сильнее всего намекала Порция Лициниана. Марк Юний Брут. Поскольку он был сенатором тридцати с небольшим лет, то считалось, что он уже миновал трудный период юношеских глупостей и неблагоразумных поступков. Он станет главой одной из ветвей рода, когда старый Брут умрет (что уже не за горами, как намекала Порция Лициниана). Брут богат, с безупречной (пусть даже плебейской) родословной.
Сама Сервилия не была знакома с суженым. И даже после того, как Порция Лициниана сообщила ей о предстоящем браке, до свадьбы ей не разрешили встретиться с Брутом. В том, что этот древний обычай применили к Сервилии, страшная Порция Лициниана была не виновата. Скорее это стало прямым следствием детского наказания. Поскольку в доме ее дяди Друза еще ребенком Сервилия шпионила для своего отца, жившего отдельно от детей, дядя Друз приговорил ее к домашнему аресту. Сервилии запрещалось иметь свою комнату, она должна была всегда находиться на виду, ей не дозволялось покидать дом без сопровождения верных людей, которые следили за каждым ее шагом, даже за выражением лица. И все это продолжалось годы, пока она не достигла брачного возраста. К тому времени все взрослые в ее семье умерли – мать, отец, тетя, дядя, бабушка, отчим. Но наказание оставалось в силе.
Поэтому не будет преувеличением сказать: Сервилия так стремилась выйти замуж и уйти из дома дяди Друза, что ее едва ли интересовало, кто станет ее мужем. Для нее супруг означал освобождение от ненавистного режима. И тем не менее, узнав его имя, она закрыла глаза, ощутив огромное облегчение. Человек ее класса и происхождения, а не какой-то мелкий сельский землевладелец, чего она боялась, – дядя Друз все грозил дать ей в мужья арендатора средней руки, когда она вырастет. К счастью, дядя Мамерк не видел никакого преимущества в том, чтобы его племянница вышла замуж за человека ниже ее по происхождению. Такого же мнения держалась и Порция Лициниана.
И Сервилия ушла в дом Марка Юния Брута, молодая и очень благодарная жена, а с нею и ее огромное приданое в двести талантов – пять миллионов сестерциев. Более того, приданое должно было остаться за ней. Дядя Мамерк выгодно вложил ее деньги, обеспечив ей приличный доход. Он распорядился, чтобы после ее смерти деньги перешли ее дочерям. Поскольку Брут был достаточно богат, то согласился с условиями брачного договора. А это означало, что он приобрел жену-патрицианку, которая сможет себя содержать и покупать себе все, что угодно, будь то рабы, одежда, драгоценности, дома. Платить она будет за все сама. Его деньги – это его деньги.
Сервилия обрела свободу ходить туда, куда захочет, и видеть тех, кого захочет. Во всем остальном брак Сервилии оказался безрадостным. Ее муж слишком долго оставался холостяком. Не было в доме Брута ни матери, ни какой-то другой женщины. Уклад его жизни был давно определен, жене там места не оставалось. Он ничего с ней не делил – даже своего тела, как она чувствовала. Если он звал друзей на обед, ей не велели появляться в столовой. Его кабинет был всегда закрыт для нее. Брут никогда ничего с ней не обсуждал. Никогда не показывал ей покупок. Никогда не брал с собой, уезжая на одну из своих сельских вилл. Время от времени он посещал ее спальню, но его тело совсем не возбуждало Сервилию. И она вдруг поняла, что сейчас у нее уединения больше, чем ей хотелось все те долгие годы, когда ей не позволяли побыть одной. И теперь общество показалось ей желанным. Так как Брут предпочитал спать один, в ее маленькой комнате не было никого, и тишина приводила ее в ужас.
Получилось, что брак превратился в простую вариацию на тему, которая преследовала ее с раннего детства: всем она была безразлична, ни для кого не имела значения. Единственный способ, которым ей удавалось обратить на себя внимание, – это быть злобной, злопамятной, жестокой. И эти ее свойства каждый слуга испытал на себе. Но мужу она никогда не демонстрировала подобные качества, ибо знала: он ее не любит и поэтому в любую минуту может поднять вопрос о разводе. С Брутом Сервилия была всегда мила. Со слугами – сурова.
Однако Брут выполнил свой супружеский долг. После двух лет замужества Сервилия наконец забеременела. Как и ее мать, она хорошо перенесла беременность. Даже роды не стали тем кошмаром, о котором ей все твердили. Она родила сына холодной мартовской ночью, роды длились семь часов. Когда младенца помыли и принесли Сервилии, она могла полюбоваться им, таким милым и хорошим.
И ничего удивительного, что Брут-младший заполонил всю жизнь матери, лишенной любви. Ни одной женщине она не позволяла его кормить, сама ухаживала за ним, поставила его кроватку в свою спальню, и со дня его появления на свет для нее существовал только он.
Почему же Сервилия подслушивала у кабинета в тот холодный ноябрьский день в том году, когда Сулла высадился в Италии? Конечно, не мужнины карьерные амбиции интересовали ее. Она слушала, потому что он был отцом ее ненаглядного сыночка, а она поклялась, что будет охранять его наследство, репутацию, будущее благополучие. Это значило, что ей следовало знать обо всем. Ничто не должно пройти мимо ее ушей, и особенно политическая деятельность мужа!
Карбон Сервилию не интересовал, хотя она признавала, что он – серьезная фигура. Но она правильно оценила его как человека, который будет думать сначала о собственных интересах, а уж потом об интересах Рима. И она не была уверена, что Брут достаточно проницателен, чтобы видеть недостатки Карбона. Присутствие Суллы в Италии очень ее тревожило, ибо у нее был склад ума настоящего политика. Сервилия умела провидеть будущие события яснее, чем большинство мужчин, которые полжизни провели в сенате. В одном она была уверена: у Карбона недостаточно сил, чтобы сплотить Рим. Государство треснет в зубах такого человека, как Сулла.
Увидела она достаточно, теперь требовалось послушать. Она опустилась на колени на твердый холодный пол и приложила ухо к решетке. Опять пошел снег – благо! Белая пелена скрывала ее от дальнего конца сада в перистиле, где помещались кухни и сновали слуги. Ее беспокоило не то, что ее могут увидеть подслушивающей. Домашние Брута никогда не посмеют сомневаться в ее праве находиться там, где она хочет, и принимать любую позу. Дело в том, что ей очень нравилось появляться перед домашними как высшее существо, а высшие существа не стоят на коленях, подслушивая под окном кабинета мужа.
Вдруг она вся напряглась и приникла ухом к решетке. Карбон и ее муж снова о чем-то заговорили!
– Среди имеющих право избираться есть хорошие кандидатуры на пост претора, – сказал Брут, – например, Каррина и Дамасипп, оба способные и популярные.
Карбон хмыкнул:
– Как и я, они позволили безбородому юнцу побить их в сражении, но в отличие от меня они, по крайней мере, были предупреждены, что Помпей так же жесток, как и его отец, и в десять раз одареннее Мясника. Если бы Помпей выдвинул свою кандидатуру на пост претора, он получил бы больше голосов, чем Каррина и Дамасипп, вместе взятые.
– Это ветераны Помпея одержали победу, – логично заметил Брут. – А не юнец.
– Может быть. Но если так, то Помпей предоставил им полную свободу действий. – Карбону явно не терпелось заглянуть в будущее, и он сменил тему. – Не преторы волнуют меня, Брут. Я беспокоюсь о консулах – из-за твоих мрачных предсказаний! Если необходимо, я сам буду баллотироваться. Но кого мне взять в коллеги? Кто в этом жалком городе способен поддержать меня, кто не постарается свалить? Весной начнется война, я больше чем уверен. Сулла болен, но моя разведка сообщает, что к следующей кампании он будет в прекрасной форме.
– Болезнь – не единственная причина, по которой он воздержался от военных действий в прошедшем году, – сказал Брут. – Ходят слухи, что этим он давал шанс Риму капитулировать без боя.
– Тогда он это сделал напрасно! – в ярости воскликнул Карбон. – Ну, хватит рассуждений! Кого я могу взять вторым консулом?
– Разве у тебя нет идей на этот счет? – спросил Брут.
– Ни одной. Мне нужен человек, способный поднимать дух людей, кто-то, кто заставит молодежь записываться в армию, а стариков – сожалеть, что их не записали. Такой человек, как Серторий. Но ты же прямо сказал, что он не согласится.
– А если Марк Марий Гратидиан?
– Он – Марий не по родству, а это нехорошо. Я хотел бы Сертория, потому что он – Марий по крови.
Молчание. Но не потому, что им нечего было сказать. Услышав, как ее муж набрал в легкие воздуха, словно решался произнести что-то важное, жена замерла под окном с намерением не пропустить ни единого слова.
– Если ты хочешь именно Мария, – медленно проговорил Брут, – тогда почему не Мария-младшего?
Опять молчание, но уже от неожиданности. Затем голос Карбона:
– Невозможно! Edepol, Брут, ему ведь совсем недавно исполнилось двадцать лет!
– Двадцать шесть, если точнее.
– Ему недостает еще четырех лет, чтобы войти в сенат!
– Нет закона, устанавливающего возрастной ценз, несмотря на lex Villia annalis. Это просто традиция. Поэтому я советую тебе добиться, чтобы Перперна немедленно ввел его в сенат.
– Да он не стоит ремня от сандалии своего отца! – в сердцах воскликнул Карбон.
– Какое это имеет значение? А? Гней Папирий, действительно! Я признаю, что в Сертории ты нашел бы идеального представителя рода Мариев: никто в Риме не командует солдатами лучше, в армии никого не уважают так, как его. Но он не согласился. Так кто же еще, кроме Мария-младшего?
– К нему, конечно, валом повалят записываться, – тихо проговорил Карбон.
– И будут драться за него, как спартанцы за Леонида.
– Ты думаешь, он справится?
– Думаю, он захочет попытаться.
– То есть он уже выражал желание быть консулом?
– Нет, Карбон, конечно нет! Хотя он и тщеславен, но не до такой степени. Однако, если ты предложишь ему этот шанс, он ухватится за него. До сих пор у него не было случая последовать по стопам своего отца. И по крайней мере в одном отношении это даст ему возможность превзойти отца. Гай Марий начал политическую карьеру в довольно зрелом возрасте. Марий-младший станет консулом, даже будучи моложе Сципиона Африканского. Не важно, как у него пойдут дела, но для него уже это – определенная слава.
– Если он хотя бы вполовину окажется равен Сципиону Африканскому, то Сулла Риму не страшен.
– Не надейся обрести Сципиона Африканского в Марии-младшем, – предупредил Брут. – Единственный способ, которым тот уберег консула Катона от поражения, – всадил ему нож в спину.
Карбон засмеялся – он был смешливым человеком.
– По крайней мере, для Цинны это была удача! Старый Марий заплатил ему целое состояние за то, чтобы не возбуждать дело об убийстве.
– Да, – согласился Брут, оставаясь серьезным, – но тот эпизод должен показать тебе, с какими трудностями ты встретишься, если Марий-младший будет у тебя вторым консулом.
– Не поворачиваться к нему спиной?
– Не отдавай ему свои лучшие войска сразу. Пусть он докажет сначала, что он может командовать солдатами.
Послышался скрип отодвигаемых кресел. Сервилия поднялась с колен и скрылась в своей рабочей комнате, где молодая девушка, которая стирала пеленки малышу, пользовалась редким случаем подержать на руках маленького Брута.
Дикая ревность вспыхнула в Сервилии. Прежде чем она успела совладать с собой, рука ее взметнулась и с таким треском хлестнула девушку по щеке, что та упала на кроватку, выронив при этом ребенка. Но малыш не долетел до пола – мать рванулась к нему и поймала. Потом, крепко прижав его к груди, Сервилия пинками вытолкала служанку из комнаты.
– Завтра же ты будешь продана! – дико заорала она на всю колоннаду, опоясывающую сад перистиля. Затем позвала: – Дит! Дит!
Управляющий, чье имя на самом деле было Эпафродит, вбежал в комнату:
– Да, госпожа?
– Эта девчонка, та, что из Галлии, которую ты привел стирать пеленки, – высеки ее и продай как никуда не годную рабыню.
Управляющий так и ахнул:
– Но, domina, она отличная служанка! Она не только хорошо стирает, она так предана ребенку!
Сервилия наградила управляющего такой же звонкой пощечиной, как и рабыню, а затем продемонстрировала свое умение пользоваться грязными ругательствами:
– Теперь слушай меня, изнеженный, разжиревший греческий fellator! Когда я приказываю тебе, ты должен подчиняться молча, без возражений. Мне наплевать, чья ты собственность, поэтому не беги жаловаться хозяину, или пожалеешь об этом! Уведи девку к себе и подожди меня. Она тебе нравится, поэтому ты не станешь пороть ее так, как надо, если я не буду присутствовать при этом.
Ладонь хозяйки отпечаталась на щеке управляющего, но пощечина не привела его в такой ужас, как слова. Эпафродит бросился вон.
Сервилия не стала звать другую служанку. Она сама завернула маленького Брута в тонкую шерстяную шаль и пошла с ним в комнаты управляющего. Девушку привязали, и плачущий Эпафродит вынужден был под гипнотическим взглядом госпожи сечь ее до тех пор, пока ее спина не превратилась в ярко-красное месиво. Куски мяса разлетались во все стороны. Непрерывные крики вырывались из комнаты на морозный воздух. Падающий снег не мог заглушить воплей. Но хозяин не появился потребовать объяснений, потому что, как догадывалась Сервилия, ушел с Карбоном к Марию-младшему.
Наконец Сервилия кивнула. Рука управляющего устало опустилась. Хозяйка подошла поближе, чтобы проверить качество работы, и была удовлетворена.
– Хорошо! У нее на спине никогда больше не вырастет новая кожа. Нет смысла выставлять ее на продажу, за нее не дадут ни сестерция. Распни ее. Там, в перистиле. Это будет уроком для вас всех. И не ломай ей ноги! Пусть она умрет медленно.
Сервилия вернулась в свою комнату. Там она развернула сына, поменяла пеленки, а затем усадила ребенка к себе на колени, придерживая вытянутыми руками, и стала любоваться им, иногда наклоняясь, чтобы нежно поцеловать и поговорить с ним тихим, воркующим голосом.
Вместе они представляли довольно приятную картину: маленький смуглый малыш на коленях у своей изящной смуглой матери. Сервилия была привлекательной женщиной с пышными формами. У нее было маленькое лицо с заостренными чертами; плотно сжатые губы и полуприкрытые припухшие веки хранили немало секретов. Но ребенка можно было назвать милым исключительно из-за младенческой невинности, потому что на самом деле он был неказистый и довольно вялый – в народе таких называют «хороший ребенок», в том смысле, что он почти никогда не плакал и не капризничал.
Так Брут и застал их, когда вернулся из дома Мария-младшего. Он равнодушно, без комментариев выслушал рассказанную историю о нерадивой служанке и наказании. Поскольку Брут не смел вмешиваться в то, как его жена ведет хозяйство (его дом раньше никогда не был в таком порядке), он не изменил приговора Сервилии, и, когда позже управляющий пришел к нему по его вызову, Брут ничего не сказал по поводу занесенной снегом фигуры, свисающей с креста в саду.
– Цезарь! Где ты, Цезарь?
Цезарь неторопливо вышел из бывшего кабинета своего отца, босиком, одетый лишь в тонкую тунику, – в одной руке перо, в другой свиток папируса. Молодой человек хмурился, потому что голос матери прервал ход его мыслей.
Аврелия, закутанная в изумительно тонкую домотканую шерстяную материю, раздраженно спросила, больше заботясь о благополучии его тела, чем о результате его мыслительного процесса:
– Почему ты так ходишь в мороз? Да еще босиком! Цезарь, твой гороскоп предрекает, что ты заболеешь ужасной болезнью как раз сейчас, в это время, и ты знаешь об этом. Почему ты искушаешь Фортуну тронуть эту нить твоей судьбы? Гороскопы составляют при рождении, чтобы можно было избежать возможного риска. Ну будь же хорошим!
Ее волнение было совершенно искренним, он понимал это. Поэтому он улыбнулся ей своей знаменитой улыбкой – в знак молчаливого извинения, которое не затрагивало его гордости.
– В чем дело? – смиренно спросил он, как только взглянул на нее и понял, что его работе придется подождать: мать была одета для выхода.
– За нами прислала твоя тетя Юлия.
– В это время? В такую погоду?
– Рада, что ты заметил, какая стоит погода. Но это не заставило тебя одеться надлежащим образом, – проговорила Аврелия.
– В моей комнате стоит жаровня, мама. Даже две.
– Тогда иди к себе и переоденься, – сказала она. – Здесь страшный холод, ветер свистит в световом колодце.
Прежде чем он повернулся, чтобы уйти, она добавила:
– И найди Луция Декумия. Нас всех зовут.
Это означало – обеих его сестер. Цезарь удивился: должно быть, очень важное семейное совещание! Он открыл было рот, чтобы уверить мать, что ему не нужен Луций Декумий, что сотня женщин будет в безопасности под его защитой, но промолчал. Все равно последнее слово будет за ней. Зачем пытаться? Аврелия всегда умела поставить на своем.
Когда Цезарь вновь появился из своих комнат, на нем были пышные одежды фламина Юпитера, хотя в такую погоду под этим одеянием скрывались еще три туники, шерстяные штаны ниже колен, на ногах – толстые чулки и широкие сапоги без ремней или шнурков. Вместо обычной мужской тоги – накидка-laena, верхнее теплое платье жреца. Это неуклюжее двухслойное одеяние было скроено по кругу с отверстием в середине для головы. Его украшали широкие полосы, попеременно ярко-красные и пурпурные. Накидка доходила ему до колен и полностью скрывала руки, что избавляло его от необходимости носить варежки в эту ледяную погоду (он все пытался найти какое-то достоинство в этом противном одеянии). На голову нахлобучен apex – плотный шлем из слоновой кости, заканчивающийся острым шипом, на который насажен толстый диск из шерстяного войлока.
Официально достигший возраста взрослого мужчины, Цезарь, как фламин Юпитера, вынужден был соблюдать разные предписания. Ему запрещалось проходить военную подготовку на Марсовом поле, притрагиваться к железу, носить одежду с узлами или застежками, прикасаться к собаке, ему приходилось носить обувь, сшитую из кожи животного, убитого случайно, и есть только ту пищу, которую позволяло его положение. Брился он бронзовой бритвой. Вместо непрактичных сандалий на деревянной подошве, положенных жрецу, он носил сапоги, сшитые по фасону, который придумал сам. По крайней мере, эту обувь не надо привязывать к лодыжке ремнями.
Даже мать его не знала, как ненавидел Цезарь свой пожизненный приговор быть жрецом Юпитера. В пятнадцать лет Цезарь был посвящен во фламины, безропотно исполнив бессмысленные ритуалы. И Аврелия облегченно вздохнула. Чего она не могла знать, так это истинной причины, почему он подчинился. Молодой Цезарь был римлянином до мозга костей, что означало: он целиком и полностью предан обычаям своей страны. Кроме того, он был очень суеверен. Ему надлежало подчиниться! Если он не подчинится, то Фортуна никогда не будет к нему милостива. Она не улыбнется ему, не станет помогать в делах, тогда удачи ему не видать. Ибо, несмотря на этот страшный пожизненный приговор, он все еще верил, что Фортуна отыщет для него лазейку, если он, Цезарь, как следует постарается служить Юпитеру Всеблагому Всесильному.
Таким образом, подчинение не означало примирения, как думала Аврелия. С каждым днем он все больше ненавидел свою должность. Особенно потому, что по закону освободиться от нее было невозможно. Старому Гаю Марию удалось сковать его навсегда. Только Фортуна может изменить его участь.
Цезарю исполнилось семнадцать лет. До восемнадцати осталось семь месяцев. Но выглядел он старше и держался как консуляр, который побывал еще и цензором. Высокий рост и стройная мускулистая фигура весьма способствовали этому. Прошло уже два с половиной года с тех пор, как умер его отец, а это означало, что Цезарь очень рано стал главой семьи, paterfamilias, и теперь он к этому относился совершенно естественно. Юношеская красота не исчезла, она стала более мужественной. Его нос – хвала всем богам! – удлинился, сделавшись настоящим, крупным римским носом. Этот носище спас Цезаря от той слащавой миловидности, которая была бы большим бременем для человека, страстно желавшего стать настоящим мужчиной, римлянином – солдатом, государственным деятелем, любимцем женщин, которого нельзя даже заподозрить в пристрастии к существам своего же пола.
Члены его семьи собрались в приемной комнате, одетые для долгой прогулки по холоду. Все, кроме его жены Цинниллы. Одиннадцатилетняя, она не считалась достаточно взрослой для участия в редких семейных собраниях. Однако она пришла – маленькая смуглянка. Когда появился Цезарь, ее темно-лиловые глазки, как всегда, устремились к нему. Он обожал ее. Цезарь подошел, поднял ее на руки, поцеловал мягкие розовые щечки, зажмурив глаза, чтобы вдохнуть благоухание ребенка, которого мать купает и умасливает благовониями.
– Тебя бросают дома? – спросил он, снова целуя ее в щеку.
– Придет день – и я буду большая, – сказала она, показывая ямочки в обворожительной улыбке.
– Конечно ты вырастешь! И тогда ты будешь главнее мамы, потому что сделаешься хозяйкой дома.
Цезарь опустил ее на пол, погладил по густым вьющимся черным волосам и подмигнул Аврелии.
– Я не буду хозяйкой этого дома, – с серьезным видом возразила Циннилла. – Я буду фламиникой и хозяйкой государственного дома.
– И правда, – не задумываясь согласился Цезарь. – И как это я забыл?
Он вышел на заснеженную улицу, миновал лавки, расположенные внизу многоквартирного дома Аврелии, и приблизился к закругленному углу этого большого треугольного здания. Здесь находилось что-то вроде таверны, но это была не таверна. В этом помещении собиралось братство перекрестка, нечто среднее между религиозной коллегией и шайкой вымогателей. Официальным их занятием было наблюдать за состоянием алтаря, посвященного ларам, и большого фонтана, который сейчас лениво струился среди нагромождения прозрачных голубых сосулек – такая холодная стояла зима.
Луций Декумий, квартальный начальник, находился в своей резиденции и сидел за столом в темном левом углу огромной чистой комнаты. Поседевший, но по-прежнему моложавый, он недавно принял в братство обоих своих сыновей и теперь знакомил их с разнообразной деятельностью. Сыновья сидели по обе стороны от отца, как два льва, которые всегда стоят по бокам Великой Матери, – серьезные, смуглые, с густыми шевелюрами и светло-карими глазами. Луций Декумий отнюдь не был похож на Великую Мать – маленький, худощавый, незаметный. Его сыновья, напротив, удались в мать, крупную кельтскую женщину. Внешность Луция Декумия была обманчива, по ней нельзя было догадаться, что это храбрый, хитрый, безнравственный, очень умный и верный человек.
Трое Декумиев обрадовались, когда вошел Цезарь, но поднялся только один Луций Декумий. Пробираясь между столами и скамейками, он приблизился к Цезарю, поднялся на цыпочки и поцеловал молодого человека в губы с большим чувством, чем целовал сыновей. Это был отцовский поцелуй, хотя втайне он предназначался кому-то другому.
– Мальчик мой! – радостно воскликнул он, взяв Цезаря за руку.
– Здравствуй, отец, – с улыбкой ответил тот, поднял руку Луция Декумия и приложил его ладонь к своей холодной щеке.
– Посещал дом умершего? – спросил Луций Декумий, показывая на жреческое одеяние Цезаря. – Не хотелось бы умереть в такое ненастье! Выпьешь вина, чтобы согреться?
Цезарь поморщился. Ему не нравилось вино, как ни старался Луций Декумий со своими подручными приучить его.
– Времени нет, отец. Я здесь, чтобы взять у тебя пару братьев. Мне нужно проводить мать и сестер в дом Гая Мария, а она, конечно, мне этого доверить не может.
– Умная женщина твоя мать, – с озорным блеском в глазах сказал Луций Декумий. Он кивнул своим сыновьям, которые сразу поднялись и подошли к нему. – Одевайтесь, ребята! Мы будем сопровождать дам в дом Гая Мария.
– Не ходи, отец, – сказал Цезарь. – Останься, на улице холодно.
Но это не устраивало Луция Декумия, который позволил сыновьям одеть его, как заботливая мать облачает своего отпрыска, идущего гулять.
– Где этот неотесанный болван Бургунд? – спросил Луций Декумий, когда они вышли на улицу, в снежную метель.
Цезарь хмыкнул:
– В данный момент он нам не помощник! Мать отправила его в Бовиллы с Кардиксой, которая, может, и поздно начала рожать детей, но с тех пор, как впервые увидела Бургунда, каждый год производит на свет по гиганту. Это будет уже четвертый, как тебе известно.
– Когда ты сделаешься консулом, недостатка в телохранителях у тебя не будет.
Цезарь вздрогнул, но не от холода.
– Я никогда не буду консулом, – резко ответил он, затем пожал плечами и постарался быть вежливым. – Моя мать говорит, это как кормить целое племя титанов. О боги, они не дураки пожрать!
– Однако хорошие ребята.
– Да, хорошие, – согласился Цезарь.
К этому времени они уже подошли к входной двери квартиры Аврелии и позвали женщин. Другие аристократки предпочли бы ехать в паланкинах, особенно в такую погоду, но только не женщины Юлиев. Они пошли пешком. Путь их по Большой Субуре облегчали сыновья Декумия, которые шагали впереди и прокладывали в снегу дорогу.
Римский форум стоял пустынный и выглядел странно – с занесенными снегом цветными колоннами, стенами, крышами и статуями. Все было мраморно-белым и казалось погруженным в глубокий сон без сновидений. И у внушительной статуи Гая Мария возле ростры лежал на густых бровях снег, смягчая жесткий взгляд.
Они поднялись по спуску Банкиров, прошли через широкие Фонтинальские ворота и приблизились к дому Гая Мария. Так как сад перистиля был расположен за домом, они очутились прямо в вестибюле и там сняли верхние одежды (все, кроме Цезаря, обреченного носить свои регалии). Управляющий Строфант увел Луция Декумия и его сыновей, чтобы угостить их отличной едой и вином, а Цезарь и женщины вошли в атрий.
Если бы погода не была так необычно сурова, они могли бы остаться там, поскольку обеденное время давно миновало. Но открытый комплювий в крыше действовал как вихревое устройство, и бассейн внизу представлял собой мерцающую массу быстро таявших снежинок.
Марий-младший поспешно вышел к гостям, чтобы приветствовать их и проводить в столовую, где было гораздо теплее. Он выглядел, как заметил Цезарь, счастливым, и это красило его. Такой же высокий, как Цезарь, Марий был более крупного телосложения, светловолосый, сероглазый, внушительный, внешне значительно более привлекательный, чем его отец. Но в нем отсутствовало что-то крайне важное, нечто такое, что сделало Гая Мария одним из римских бессмертных героев. Сменится немало поколений, подумал Цезарь, прежде чем школьники перестанут затверживать подвиги Гая Мария. Не такой будет участь его сына, Мария-младшего.
Цезарь не любил посещать этот дом. Слишком много произошло с ним здесь. Пока другие мальчики его возраста беззаботно играли на Марсовом поле, от него требовали, чтобы он ежедневно служил нянькой-компаньоном для стареющего и мстительного Гая Мария. И хотя он, как полагалось фламину Юпитера, после смерти Гая Мария тщательно омел священной метлой помещение, злобное присутствие страшного старика все еще чувствовалось. А может быть, так казалось только Цезарю. Когда-то он восхищался Гаем Марием и любил его. Но потом Гай Марий сделал его жрецом и этим перечеркнул всю грядущую карьеру Цезаря. Никогда юноша Цезарь не сможет соперничать с Гаем Марием в глазах потомков. Ни железа, ни оружия, ни картин смерти – никакой военной карьеры для фламина Юпитера! Членство в сенате без права баллотироваться в магистраты – никакой политической карьеры для фламина Юпитера! Судьба Цезаря определена: ему будут оказывать почести, положенные по сану, но никогда не позволят по-настоящему заслужить людское уважение. Фламин Юпитера – существо, принадлежащее государству. Он должен жить в государственном доме, ему платит государство, его кормит государство, он – узник mos maiorum, установившихся обычаев и традиций.
Но неприятное чувство, конечно, сразу же исчезло, как только Цезарь увидел свою тетю Юлию. Сестру его отца, вдову Гая Мария. И – человека, которого Цезарь любил больше всех на свете. Да, он любил Юлию больше своей матери Аврелии, если говорить об эмоциональной составляющей любви. Мать неразрывно связана с интеллектуальной стороной его жизни, потому что Аврелия – соперник, сторонник, критик, компаньон, равная. А тетя Юлия обнимала его и целовала в губы, глядя на него сияющими серыми глазами, в которых не было и тени осуждения. Жизнь для Цезаря представлялась немыслимой без одной из этих женщин.
Юлия и Аврелия уселись рядышком на одном ложе, чувствуя себя неловко, потому что они были женщинами, а женщинам не полагалось возлежать на ложе. Они должны были сидеть выпрямив спину на высоких стульях, чтобы ноги не доставали до пола.
– Не можешь ли ты дать женщинам стулья? – спросил Цезарь Мария-младшего, подкладывая валики под спины матери и тети.
– Спасибо, племянник, но теперь нам вполне удобно, – сказала Юлия, как всегда старавшаяся всех примирить. – Не думаю, что в доме хватит стульев для всех, ведь это совещание женщин.
Истинная правда, с сожалением подумал Цезарь. Мужская половина семьи была представлена только двумя членами: Марием-младшим и Цезарем. И оба – лишь сыновья умерших отцов.
Женщин больше. Если бы Рим мог видеть Юлию и Аврелию, сидящих рядом, он был бы очарован их красотой. Обе – высокого роста, стройные. Юлия унаследовала врожденную грацию Цезарей, а у Аврелии движения были резкими, ничего лишнего, все по-деловому. У Юлии – слегка вьющиеся светлые волосы, большие серые глаза. Она могла бы служить моделью для статуи Клелии, что стоит в верхней части Римского форума. У Аврелии – блестящие каштановые волосы. В молодые годы Аврелию сравнивали с Еленой Троянской: темные брови и ресницы, глубоко посаженные глаза. Многие мужчины, претендовавшие на ее руку, находили, что глаза у нее фиалковые, а профиль – греческой богини.
Юлии теперь было сорок пять лет. Аврелии – сорок. Обе стали вдовами при печальных, но очень разных обстоятельствах.
Гай Марий скончался от третьего, самого сильного удара. Однако он умер только после настоящей кровавой оргии, которой никто не в силах забыть. Все враги Мария умерли, равно как погибли и некоторые его друзья. Ростра была утыкана копьями с головами, словно подушка булавками. С этим горем Юлия и жила.
Муж Аврелии, после смерти Мария лояльный к Цинне – как полагалось человеку, чей сын женат на младшей дочери Цинны, – уехал в Этрурию вербовать солдат. Однажды летним утром в Пизе он наклонился, чтобы завязать ремень на сандалии, и умер от кровоизлияния в мозг – так было написано в свидетельстве о смерти. Он был сожжен на погребальном костре в отсутствие родных. Прах его доставили жене, которая, принимая от посланца Цинны урну, еще не знала о смерти мужа. Что чувствовала в тот момент Аврелия, о чем думала, осталось тайной. Даже для ее сына, который стал главой семьи за месяц до своего пятнадцатого дня рождения. Никто не видел слезинки в ее глазах, и взгляд ее не изменился. Ибо она оставалась все той же Аврелией, сдержанной и закрытой, явно более расположенной к обязанностям хозяйки инсулы, чем к любому человеческому существу. Кроме, конечно, сына.
У Мария-младшего не было сестер, а у Цезаря имелись две старшие. Обе они были похожи на свою тетю Юлию. Цезарь унаследовал внешность от матери, а в сестрах ничего от Аврелии не было.
Юлии-старшей, которую все звали Лия, исполнился двадцать один год, и выражение ее лица свидетельствовало о том, что она измучена заботами. И не без причины. Своего первого мужа, нищего патриция по имени Луций Пинарий, она любила всем сердцем, поэтому, хотя и неохотно, ей разрешили выйти за него замуж. Меньше чем через год она родила ему сына, а вскоре после этого счастливого события (что, вопреки надеждам, благотворно не отразилось ни на поведении, ни на нраве ее мужа) Луций Пинарий умер при таинственных обстоятельствах. Высказывались мнения о возможном убийстве, но доказательств не нашлось. Так Лия в возрасте девятнадцати лет оказалась вдовой в столь плачевном положении, что вынуждена была возвратиться в дом матери. Но за период между ее кратким браком и вдовством глава семьи, paterfamilias, поменялся, и Лия обнаружила, что младший брат оказался далеко не таким мягкосердечным и уступчивым, как отец. Цезарь объявил, что она должна снова выйти замуж, причем за человека, которого он выберет для нее сам.
– Для меня очевидно, – ровным голосом сказал он, – что, если предоставить тебе право выбора, ты опять выберешь идиота.
Как и где Цезарь нашел Квинта Педия, никто не знал (хотя некоторые подозревали, что помог Луций Декумий, который хоть и был бедным маленьким человеком четвертого класса, но имел замечательные связи). Однажды Цезарь явился в дом с Квинтом Педием и обручил свою старшую овдовевшую сестру с этим флегматичным, добропорядочным всадником из Кампании. Квинт Педий принадлежал к хорошему, но незнатному роду. Он не был красивым и не любил рисоваться. Ему было сорок. Он обладал колоссальным богатством и выказывал трогательную благодарность за возможность жениться на изящной молодой женщине самого знатного патрицианского рода. Лия сдержала первые эмоции, посмотрела на своего пятнадцатилетнего брата и милостиво дала согласие. Даже в столь юном возрасте Цезарь умел взглянуть на человека так, что убивал любой протест в зародыше.
К счастью, второй брак Лии оказался удачным. Луций Пинарий мог быть и красивым, и блестящим, и молодым, но в качестве мужа – разочаровывал. Теперь Лия обнаружила немало преимуществ в том, чтобы быть любимой мужчиной вдвое старше себя. Со временем ей очень понравился ее скучный второй муж. Она родила ему сына и была так довольна жизнью в роскоши поместий неподалеку от Теана в Северной Кампании, что, когда Сципион Азиаген, а затем Сулла устроили по соседству лагеря, наотрез отказалась ехать в дом матери. Лия знала, что мать примется решать, чем ей заниматься и что есть, воспитывать ее сыновей и устраивать все согласно своим жестким представлениям о «правильном». Конечно, Аврелия объявилась сама (кажется, после неожиданной встречи с Суллой – встречи, о которой она лишь упомянула), и Лия вынуждена была быстро собраться и уехать в Рим. Увы, без сыновей. Квинт Педий предпочел остаться с ними в Теане.
Юлия-младшая, которую все звали Ю-ю, только что вышла замуж, едва ей исполнилось восемнадцать лет. У нее не было ни единого шанса выбрать для себя кого-то неподходящего! Этот выбор осуществил Цезарь, хотя Ю-ю и восставала против его своевольства. Она чувствовала в себе силы выдержать все. Но, конечно, брат победил. Домой молодой Цезарь привел еще одного колоссально богатого претендента на руку сестры, на сей раз из старинного сенаторского рода, – заднескамеечника, смирившегося с тем, что в сенате застрял в задних рядах. Он был родом из Ариции, что по Аппиевой дороге, немного дальше земель Цезарей в Бовиллах, и это обстоятельство делало его латинянином, что давало ему некоторые преимущества перед простыми кампанцами. Посмотрев на Марка Атия Бальба, Ю-ю вышла за него без возражений. По сравнению с Квинтом Педием он был вполне сносен, ему исполнилось только тридцать семь, и он еще не утратил привлекательности.
Итак, Марк Атий Бальб был сенатором. У него имелся дом в Риме и огромные поместья в Ариции, так что Ю-ю могла поздравить себя еще с одним преимуществом перед старшей сестрой. Она, по крайней мере, жила в Риме более-менее постоянно! В тот вечер, когда вся семья собралась в доме Гая Мария, Ю-ю была беременна, и ей тяжело было ходить. Но беременность дочери не смягчила Аврелию, которая велела ей явиться.
– Беременные женщины не должны себя баловать, – сказала Аврелия. – Поэтому многие и умирают при родах.
– А мне помнится, ты говорила, что они умирают потому, что ничего не ели, кроме бобов, – возразила Ю-ю, с тоской глядя на носилки, в которых она проделала путь от дома ее мужа в Каринах до дома матери в Субуре.
– И это тоже. Пифагорейские врачи – опасные люди.
Присутствовала еще одна женщина, хотя она не приходилась никому кровной родней. Это была Муция Терция, жена Мария-младшего. Единственная дочь Сцеволы, великого понтифика. Ее именовали Муцией Терцией, чтобы отличать от ее знаменитых кузин, дочерей Сцеволы Авгура.
Не будучи красавицей в классическом понимании этого слова, Муция Терция многих мужчин лишала сна. Ее зеленые глаза были расставлены необычно широко, густые черные ресницы, более длинные у внешних уголков глаз, подчеркивали это расстояние. Муция Терция никому не рассказывала, что намеренно подрезала ресницы во внутренних уголках миниатюрными ножницами из слоновой кости, привезенными из Египта. Эта женщина хорошо знала природу своей необычной привлекательности. Даже длинный прямой нос не стал недостатком. Пусть борцы за чистоту римской породы и считают, что нос должен слегка утолщаться книзу либо обладать горбинкой. Форма ее большого рта тоже далека от римского идеала. Когда Муция Терция улыбалась, казалось, у нее во рту не меньше сотни зубов. Но губы были полными и чувственными, а бархатистая кремовая кожа хорошо сочеталась с темно-рыжими волосами.
Цезарь нашел ее соблазнительной. В семнадцать с половиной лет у него уже имелся весьма богатый опыт. Каждая женщина в Субуре была не прочь помочь такому милому юноше развить свои эротические способности. И мало кого останавливало то обстоятельство, что Цезарь требовал от своих партнерш прежде всего тщательно вымыться. Очень быстро разнесся слух о том, что молодой Цезарь наделен могучим орудием и знает, как им пользоваться.
Муция Терция заинтересовала Цезаря прежде всего своей загадочностью. Как он ни пытался, он не мог ее понять. Она легко улыбалась, демонстрируя сотню идеальных зубов, но необычные глаза ее оставались при этом серьезными. И никогда ни жестом, ни выражением лица она не выдавала своих мыслей.
Брак ее с молодым Марием длился уже четыре года, и между супругами царило полнейшее безразличие. Они вежливо поддерживали ничего не значащую беседу. Никогда не обменивались понимающими взглядами, как любящие супруги. Им не хотелось протянуть руку, чтобы дотронуться до любимого человека, даже если рядом нет никого из посторонних. У них не рождалось детей. Если их союз действительно лишен всякого чувства, то уж Марий-младший от этого не страдал. Его похождения были общеизвестны. Но что же Муция Терция? Ни слова не слышно было о ее нескромности, не говоря уж о неверности! Была ли счастлива Муция Терция? Любила ли она Мария-младшего? Или ненавидела его? Невозможно сказать. И все же… и все же инстинкт Цезаря подсказывал ему, что она крайне несчастна.
Родственники наконец расселись, и все взоры устремились к Марию-младшему, который предпочел, из духа противоречия, занять стул. Не желая уступать, Цезарь тоже уселся на стул, но подальше от того места, где устроился Марий-младший в углублении, образованном тремя обеденными ложами, стоявшими в форме буквы U. Он примостился за плечом своей матери, откуда не мог видеть лиц своих самых любимых женщин. Для него было значительно важнее смотреть на Мария-младшего, Муцию Терцию и управляющего Строфанта, которого пригласили присутствовать при совете и который замер у порога, отказавшись от предложения Мария-младшего сесть.
Облизав губы (необычный признак нервозности!), Марий-младший заговорил:
– Сегодня днем меня посетили Гней Папирий Карбон и Марк Юний Брут.
– Странная пара, – заметил Цезарь.
Он не хотел, чтобы его двоюродный брат получил возможность говорить свободно, никем не прерываемый. Он желал заставить Мария-младшего немного понервничать.
Марий-младший сердито взглянул на него. Но недостаточно сердито, чтобы сбиться с мысли, ведь он только начал. Цезарь понял, что уловка не удалась. Марий-младший продолжил:
– Они пришли просить меня выдвинуть свою кандидатуру на должность консула в паре с Гнеем Карбоном. И я согласился.
Все задвигались. Цезарь увидел удивление на лицах своих сестер, спина его тети внезапно выпрямилась, странное, необъяснимое выражение мелькнуло в удивительных глазах Муции Терции.
– Сын мой, ведь ты даже не член сената, – сказала Юлия.
– Завтра я буду сенатором, Перперна внесет меня в списки.
– Ты не был квестором, не говоря уже о преторской должности.
– Сенат откажется от обычных требований.
– У тебя нет ни опыта, ни знаний, – настаивала Юлия с отчаянием в голосе.
– Мой отец был консулом семь раз. Я вырос в окружении консулов. Кроме того, Карбону опыта не занимать.
– Но зачем здесь мы? – спросила Аврелия.
Марий-младший серьезно и умоляюще посмотрел сначала на мать, потом на тетку.
– Конечно, для того, чтобы обсудить этот вопрос, – беспомощно произнес он.
– Ерунда! – резко возразила Аврелия. – Ты не только сам принял решение, но уже сообщил Карбону, что будешь участвовать в выборах. Мне кажется, ты вытащил нас из теплого дома только для того, чтобы сообщить новость, которую городские слухи донесут до нас уже завтра утром.
– Это не так, тетя Аврелия!
– Конечно так! – отрезала Аврелия.
Залившись краской, Марий-младший повернулся к матери и протянул к ней руку, как бы прося поддержать его.
– Мама, это не так! Да, я сказал Карбону, что выдвину свою кандидатуру. Но все равно я хотел выслушать, что скажет моя семья, правда! Я могу передумать!
– Ха! Ты не передумаешь, – фыркнула Аврелия.
Пальцы Юлии сжали запястье Аврелии.
– Успокойся, Аврелия. Я не хочу, чтобы мы ссорились.
– Ты права, тетя Юлия. Ссоры нам не нужны, – согласился Цезарь, вставая между матерью и тетей, и с этого нового места пристально посмотрел на двоюродного брата. – Почему ты сказал «да» Карбону? – спросил он.
Вопрос, который ни на секунду не обманул Мария-младшего.
– О, Цезарь, думай обо мне немного лучше! – презрительно сказал он. – Я сказал «да» по той же причине, по которой и ты сказал бы «да», если бы на тебе не было laena и жреческого шлема.
– Я понимаю, почему ты думаешь, что я согласился бы. Но я бы этого не сделал. Все в свое время.
– Это противозаконно, – неожиданно подала голос Муция Терция.
– Нет, – возразил Цезарь, прежде чем Марий-младший мог отреагировать. – Это против установившейся традиции и даже против lex Villia annalis, но не противозаконно. Такое решение могло бы стать незаконным на государственном уровне, если бы твой муж занял это положение против воли сенаторов и народа. Однако сенат и народ Рима всегда могут аннулировать lex Villia. А именно это и произойдет. Сенат и народ Рима обеспечат необходимую законность подобных выборов. А это означает, что единственный человек, который объявит консульство Мария незаконным, будет Сулла.
Наступила тишина.
– Вот что хуже всего, – сказала Юлия дрогнувшим голосом. – Ты выступишь против Суллы.
– Я все равно был бы противником Суллы, мама, – сказал Марий-младший.
– Но не как официально введенный в должность представитель сената и народа. Быть консулом – значит принять на себя максимальную ответственность. Ты возглавишь и поведешь за собой армии Рима. – Слеза скатилась по щеке Юлии. – Ты окажешься в центре пристального внимания Суллы, а он самый страшный человек на свете! Я знаю его не так хорошо, как твоя тетя Аврелия, Гай, но – достаточно хорошо. Мне он даже нравился в те дни, когда помогал твоему отцу, а он действительно помогал ему. Бывало, он сглаживал те маленькие неловкости, которые всегда возникали у твоего отца. Сулла – более терпеливый и проницательный человек, чем твой отец. И в каком-то смысле он человек чести. Но твой отец и Луций Корнелий имели одно важное общее качество: когда все рушилось, от законности до народной поддержки, они были способны пойти на все, чтобы достигнуть своей цели. Вот почему оба они в прошлом двинули армии на Рим. И вот почему Луций Корнелий снова пойдет на Рим, если Рим выберет тебя консулом. Сам Рим намерен драться с ним до конца, мирного решения проблемы не будет. – Она вздохнула. – Из-за Суллы я хочу, чтобы ты передумал, дорогой Гай. Будь ты старше и опытнее, ты еще мог бы выиграть. Но ты не такой. Ты не можешь победить Суллу. И я потеряю своего единственного ребенка.
Это была мольба любящего стареющего человека. А Марию-младшему не дано было понять ни того ни другого. Он выслушал прочувствованную речь матери с застывшим лицом. Губы его раскрылись, как будто он хотел что-то сказать.
– А ты, мама, – опять вмешался Цезарь, – как говорит тетя Юлия, ты знаешь Суллу лучше, чем кто-либо из нас. Что ты думаешь по этому поводу?
Взволнованная Аврелия вовсе не собиралась в подробностях рассказывать о своей последней ужасной, трагической встрече с Суллой в его лагере.
– Правда, я хорошо знаю Суллу. Как вам известно, я виделась с ним совсем недавно. Когда-то я была последним человеком, которого он навещал перед очередным отъездом из Рима, и первым человеком, к которому он заглядывал по возвращении. А между его отъездами и приездами я почти ничего о нем не слышала. Это типично для Суллы. В душе он – актер. Он не может жить без драмы. Он умеет драматизировать даже самую безобидную ситуацию. Вот почему он посещал меня в моменты, которые считал переломными. Это придавало нашим встречам яркость и значимость. Вместо простого визита к родственнице, с которой можно поболтать о всякой ерунде, каждый визит становился или прощанием, или встречей. Это было как некое знамение.
Цезарь улыбнулся ей.
– Ты не ответила на мой вопрос, мама, – мягко напомнил он.
– Да, не ответила, – отозвалась эта необыкновенная женщина без всякого смущения или чувства вины. – Сейчас отвечу.
Она в упор посмотрела на Мария-младшего:
– Вот что тебе следует знать. Если ты встретишься с Суллой как официально избранный представитель сената и народа Рима, то есть как консул, он сделает знамение из тебя. Твой возраст и имя твоего отца Сулла использует для того, чтобы придать своей борьбе за власть в Риме особенную драматичность. И все это будет малым утешением для твоей матери, племянник. Ради нее откажись от своей затеи! Встречайся с Суллой лицом к лицу на поле сражения как простой военный трибун.
– А ты что скажешь? – осведомился у Цезаря Марий-младший.
– Я говорю – поступай как хочешь, кузен. Сделайся консулом раньше срока.
– Лия?
Она встревоженно взглянула на тетю Юлию и сказала:
– Пожалуйста, брат, не делай этого!
– Ю-ю?
– Я согласна с сестрой.
– Жена?
– Ты должен следовать своей судьбе.
– Строфант?
– Господин, не делай этого, – вздохнул старик-управляющий.
Кивая, отчего его торс слегка покачивался, Марий-младший опустился на стул, положив руку на его высокую спинку. Сложил губы трубочкой, выдохнул через нос.
– Что ж, в любом случае ничего удивительного, – вымолвил он. – Мои родственницы и управляющий хором призывают меня не выскакивать раньше срока и не подвергать свою жизнь опасности. Вероятно, тетя пытается сказать, что я подвергаю опасности также мою репутацию. Жена моя все отдает в руки Фортуны – пусть Фортуна покажет, стал ли я ее любимцем. А мой двоюродный брат говорит, что я должен попытаться.
Марий встал и принял внушительную позу:
– Я не возьму назад слово, данное Гнею Папирию Карбону и Марку Юнию Бруту. Если Марк Перперна внесет меня в списки сенаторов, а сенат утвердит это, я внесу свою кандидатуру в списки кандидатов на должность консула.
– Ты так и не сказал нам, почему это делаешь, – напомнила Аврелия.
– Я думал, это очевидно. Рим в безвыходном положении. Карбон не может найти подходящего второго консула. И к кому он обратился? К сыну Гая Мария! Рим любит меня! Рим нуждается во мне! Вот почему, – объяснил молодой человек.
Только у самого старого и самого преданного из присутствующих нашлось мужество сказать правду. И управляющий Строфант высказался не только за потрясенную мать молодого Гая Мария, но и за его давно умершего отца:
– Это твоего отца любит Рим, domine. Рим обращается к тебе из-за твоего отца. О тебе Рим не знает ничего, кроме одного: ты – сын человека, который спас его от германцев, который одержал первые победы в войне против италиков, который становился консулом семь раз. Если ты сделаешься консулом, то лишь потому, что ты – сын своего отца, а не потому, что ты – это ты.
Марий-младший любил Строфанта, и управляющий хорошо знал об этом. Несмотря на подтекст, Марий-младший выслушал его спокойно. Он только крепко стиснул губы. Когда Строфант замолчал, сын Гая Мария просто сказал:
– Знаю. И я должен показать Риму, что Марий-младший равен своему любимому отцу.
Цезарь опустил голову, глядя в пол, и промолчал. «Почему, – задавал он себе вопрос, – почему этот сумасшедший старик не отдал кому-нибудь другому накидку и шлем главного жреца Юпитера, flamen Dialis? Я мог бы справиться. Я бы справился. Но Марий-младший – никогда».
Итак, к концу декабря выборщики в своих центуриях встретились на Марсовом поле, в месте, прозванном септой, или овчарней, и проголосовали за Мария-младшего как за первого консула. Гнея Папирия Карбона они выбрали вторым консулом. Сам факт, что Марий-младший стал старшим консулом, свидетельствовал об отчаянии Рима, его страхе и сомнениях. Однако многие голосовавшие искренне верили: что-то от Гая Мария не могло не передаться его сыну. Под командованием Мария-младшего вполне можно победить даже Суллу.
В одном отношении результаты выборов имели положительные последствия: вербовка, особенно в Этрурии и Умбрии, ускорилась. Сыновья и внуки клиентов Гая Мария толпами шли записываться в легионы его сына. Они приходили с легким сердцем, окрыленные верой. И когда Марий-младший посетил огромные поместья своего отца, его встречали как обожаемого спасителя и устраивали праздники в его честь.
Стоило римлянам увидеть новых консулов в первый день января, всех охватило праздничное настроение. И они не были разочарованы: Марий-младший во время церемоний выглядел откровенно счастливым, что тронуло сердца всех присутствующих. Он смотрел величественно, он улыбался, он махал рукой, он громко приветствовал знакомых в толпе. И поскольку все знали, где стояла его мать (возле ростры, у подножия суровой статуи своего покойного мужа), все видели также, как новый старший консул покинул свое место в процессии, чтобы поцеловать ее руки и губы. И вскинуть кулак, отдавая честь великому отцу.
«Вероятно, – не без цинизма подумал Карбон, – народ Рима хочет, чтобы в этот критический момент молодость взяла власть в свои руки». Конечно, много лет прошло с тех пор, как толпа громко приветствовала его, Карбона, в первый день его консульства. Впрочем, сегодня она тоже приветствовала его. «О боги, – подумал Карбон, – надеюсь, Рим не пожалеет об этой сделке!» Ибо Марий-младший вел себя бесцеремонно. Казалось, он принял все происходящее за нечто само собой разумеющееся. Как будто почести так и должны падать ему в руки, словно манна с небес. Можно подумать, ему не предстоит хорошенько потрудиться. Можно подумать, все будущие сражения уже благополучно выиграны.
Знамения были не очень благоприятными, хотя ничего страшного новые консулы не увидели в ночь бдения на Капитолийском холме. Плохим знаком можно было счесть утрату, которая бросалась в глаза каждому. Там, где в течение пятисот лет на самом верху Капитолийского холма стоял огромный храм Юпитера Всеблагого Всесильного, теперь чернели развалины. В шестой день квинтилия прошлого года в доме Великого Бога возник пожар. Он бушевал семь дней. Не уцелело ничего. Ничего. Потому что в этом древнем храме каменным был только фундамент. Массивные цилиндрические секции его простых дорических колонн были деревянные, равно как и стены, и балки, и внутренняя обшивка. Лишь огромный размер и массивность, редкая и дорогостоящая покраска, великолепные настенные росписи и обильная позолота делали его надлежащим жилищем для Юпитера Всеблагого Всесильного, который обитал только в этом месте; идея, что верховный бог Юпитер восседает на вершине самой высокой горы – подобно греческому Зевсу, – была неприемлема для римлянина или италика.
Когда пепел остыл достаточно, чтобы жрецы смогли осмотреть место, всех охватило отчаяние. От гигантской терракотовой статуи бога, сделанной этрусским скульптором Вулкой еще в те времена, когда царем Рима был Тарквиний Древний, не осталось и следа. Статуи богинь из слоновой кости – супруги Юпитера Юноны и его дочери Минервы – тоже исчезли. И незаконно находившиеся там мрачные статуи Термина, римского бога границ и межей, и Ювенты, богини юности, которые отказались покинуть Капитолий, когда царь Тарквиний начал возводить храм Юпитера Всеблагого Всесильного, – все они погибли. Сгинули в пламени бесценные восковые дощечки с записанными на них древними, исконными законами, а также Книги Сивиллы и много других пророческих писаний, к которым Рим обращался за помощью и руководством в тяжелые времена. Бесчисленные сокровища, изготовленные из золота и серебра, расплавились. Погибла даже статуя Победы из цельного золота, подаренная Гиероном Сиракузским после сражения у Тразименского озера, и другая массивная статуя Победы, из позолоченной бронзы в колеснице, запряженной парой коней. Бесформенные комки сплавов, найденные среди развалин, были собраны и отданы кузнецам для переплавки и очистки. Но слитки, которые выплавили кузнецы (и которые отправились в казну, расположенную под храмом Сатурна, до того времени, когда их снова отдадут художникам), не могли заменить бессмертные работы первых скульпторов – греческого ваятеля Праксителя, скульптора и литейщика Мирона, Стронгилиона, Поликлета, Скопаса и Лисиппа. Искусство и история исчезли в пламени вместе с земным домом Юпитера Всеблагого Всесильного.
Соседние храмы тоже подверглись разрушительному действию огня, особенно храм Опы, богини плодородия и урожая, таинственной хранительницы благосостояния Рима, не имеющей обличья. Храм надлежало восстановить и повторно освятить – настолько он обгорел. Храм Фидес тоже сильно пострадал. Жар от близкого огня обуглил все договоры, записанные на его внутренних стенах, а также матерчатую повязку на правой руке статуи, которую считали – только считали! – воплощением Фидес. Другое затронутое пожаром здание было новым, из мрамора, и поэтому предстояло лишь заново покрасить его. Это был храм Чести и Доблести, воздвигнутый Гаем Марием. Туда он поместил свои военные трофеи, награды и подношения Риму. Каждого римлянина тревожил сокровенный для Рима смысл нанесенного ущерба. Юпитер Всеблагой являлся божественным правителем Рима; Опа представляла собой воплощение общественного благополучия; Фидес – дух верности; а Честь и Доблесть – две главные черты воинской славы Рима. Таким образом, всякий римлянин спрашивал себя: был ли пожар знаком того, что дни величия Рима сочтены? Был ли пожар знаком того, что с Римом покончено?
И так получилось, что в первый день этого года консулы впервые вступили в должность не под кровом Юпитера Всеблагого и Всесильного. Временный алтарь был возведен под навесом у подножия почерневшего каменного подиума, на котором раньше высился храм. Здесь новые консулы принесли жертвы и дали положенные клятвы.
Светлые волосы спрятаны под плотно облегающим голову шлемом из слоновой кости, тело скрыто удушающими складками церемониальных одежд – Цезарь, фламин Юпитера, присутствовал при ритуале как должностное лицо, хотя в этой церемонии ему ничего не нужно было делать. Церемонию проводил главный жрец Республики, великий понтифик Квинт Луций Сцевола, тесть Мария-младшего.
Цезарь испытывал двойственное чувство: разрушение большого храма сделало жреца Юпитера в религиозном отношении бездомным – это было нестерпимо, и столь же удручающей казалась мысль, что сам он никогда не будет стоять здесь в тоге с пурпурной полосой, готовясь стать консулом. Но он был научен терпеть и во время ритуала заставлял себя держаться прямо, с каменным лицом.
Заседание сената и последующий пир были перенесены в курию Гостилия, здание сената. Хотя по возрасту Цезарю было запрещено находиться в курии, но, как фламин Юпитера, он автоматически превратился в члена сената, поэтому никто не пытался остановить его, и он присутствовал также на короткой официальной церемонии, которую Марий, новоиспеченный старший консул, провел вполне достойно. Наместники на следующие двенадцать месяцев были избраны по жребию из нынешних преторов и обоих консулов; назначена дата праздника Юпитера Латиария на горе Альбан, а также даты других переходящих общественных и религиозных праздников.
Поскольку фламин Юпитера не многое мог вкушать из обильного и дорогого угощения, предложенного после заседания, Цезарь нашел неприметное место и стал слушать разговоры проходящих мимо людей, пока те искали подходящее обеденное ложе. Место должно было соответствовать рангу магистратов, жрецов, авгуров. Но большинство сенаторов имели право свободно разместиться среди своих друзей и наслаждаться яствами, которые были оплачены из бездонного кошелька Мария-младшего.
Народу собралось не очень много, не больше сотни, потому что немалое число сенаторов переметнулось к Сулле, а из присутствующих на инаугурации далеко не все являлись сторонниками консулов и были причастны к их планам. Например, Квинт Лутаций Катул вовсе не был приверженцем Карбона. Его отец Катул Цезарь погиб во время кровавой бойни, устроенной Марием. Сын Катула Цезаря – плоть от плоти своего отца, хотя не так одарен и образован. Это, отметил Цезарь, потому, что кровь Юлиев со стороны его отца разбавлена материнской кровью Домициев, из семьи Домициев Агенобарбов – знаменитого рода, чьи представители никогда не блистали умом. Цезарю, обращавшему внимание на внешность, Катул не нравился. Он был хилый, маленького роста, у него, как у его матери Домиции, были рыжие волосы и веснушки. Он женился на сестре человека, сидевшего рядом с ним на одном ложе, Квинта Гортензия, а Квинт Гортензий (еще один оставшийся в Риме сенатор, объявивший о своем нейтралитете) был супругом сестры Катула, Лутации. В возрасте тридцати с небольшим Квинт Гортензий стал знаменитым адвокатом при правлении Цинны и Карбона. Некоторые считали его лучшим юристом Рима. Он выглядел симпатичным, правда чувственная нижняя губа выдавала некоторую испорченность, а выражение глаз, устремленных на Цезаря, – склонность к красивым мальчикам. Знающий толк в подобных взглядах, Цезарь в корне пресек любые идеи, какие могли возникнуть у Гортензия, смешно втянув губы и скосив глаза. Гортензий покраснел, сразу отвернулся и уставился на Катула.
В этот момент вошел слуга и прошептал Цезарю, что его кузен просит его занять место в дальнем конце комнаты. Поднявшись с нижней ступени, где он удобно устроился, наблюдая за людьми, Цезарь прошлепал в своих деревянных сандалиях без задников туда, где возлежали Марий-младший и Карбон. Он поцеловал кузена в щеку и устроился на краю курульного подиума позади ложа.
– Ничего не ешь? – спросил Марий-младший.
– Здесь почти нет ничего из того, что мне дозволено.
– Ах да, я забыл, – невнятно проговорил Марий-младший с набитым ртом. Он показал на огромное блюдо перед своим ложем. – Но тебе же не запрещается есть рыбу.
Цезарь равнодушно оглядел наполовину объеденный скелет. Это был тибрский окунь.
– Спасибо, – поблагодарил он, – но я никогда не находил удовольствия в поедании дерьма.
Его слова заставили Мария-младшего захихикать, но не испортили аппетит. Тибрская рыба питалась экскрементами, вытекающими из сточных канав Рима. Карбон, как с удовольствием заметил Цезарь, был не так толстокож, ибо его рука, протянутая, чтобы оторвать кусок рыбы, вдруг вместо этого схватила жареного цыпленка.
Рядом с консулом Цезарь был более заметен, но это давало и некоторое преимущество. Он мог видеть больше лиц. Пока он обменивался шутливыми замечаниями с Марием-младшим, его глаза скользили от одного лица к другому. Может, Рим и доволен выбором двадцатишестилетнего первого консула, думал он, но некоторые из присутствующих на пиру придерживаются совсем другого мнения. Особенно приверженцы Карбона – Брут Дамасипп, Каррина, Марк Фанний, Цензорин, Публий Бурриен, Публий Альбинован из Лукании… Конечно, некоторые даже очень обрадовались – Марк Марий Гратидиан и Сцевола, великий понтифик. Но они оба были свойственниками Мария-младшего и, так сказать, имели свой интерес в том, чтобы новый старший консул справился со своими обязанностями.
За спиной Карбона появился Марк Юний Брут. Цезарь заметил, что его встретили с подчеркнутым энтузиазмом, – обычно Карбон не снисходил до восторженных приветствий. Видя это, Марий-младший отправился искать более веселую компанию, уступив Бруту свое место. Проходя мимо Цезаря, Брут кивнул ему, не выказав никакого интереса. Именно в этом заключалось главное преимущество жреческой должности. Фламин Юпитера никого не интересовал, поскольку не имел никакого политического веса. Карбон и Брут продолжали громко разговаривать.
– Думаю, мы можем поздравить себя с отличным тактическим ходом, – сказал Брут, погружая пальцы в остатки рыбы.
– Хм…
Цыпленок с отвращением был отброшен. Карбон взял хлеб.
– Ну хватит! Ты должен быть доволен.
– Чем? Им? Брут, ведь он пуст, как выеденное яйцо. Я достаточно насмотрелся на него за этот месяц, чтобы знать, что говорю. Уверяю тебя. В январе он может носить фасции, но всю работу придется делать мне.
– Ведь ты и не ожидал, что будет по-другому?
Карбон пожал плечами, отбросил хлеб. После замечания Цезаря о поедании дерьма у него пропал аппетит.
– Не знаю. Может быть, я надеялся, что он немного поумнеет. В конце концов, он сын Мария, а его мать – из Юлиев. Ведь должно же это хоть что-то да значить!
– Ровным счетом ничего.
– Как использованный носовой платок твоей бабушки. Самое большее, что я могу сказать, он – полезный орнамент. Вместе мы неплохо смотримся. К тому же он притягивает рекрутов как магнит.
– Он мог бы хорошо командовать войсками, – заметил Брут, вытирая жирные руки салфеткой, которую подал ему раб.
– Мог бы. Но я думаю, что не сможет. Я намерен последовать твоему совету.
– Какому совету?
– Проследить, чтобы лучших солдат он не получил.
Брут подкинул вверх салфетку, даже не посмотрев, поймал ли ее молчаливый слуга, стоявший около Цезаря.
– Квинта Сертория сегодня здесь нет. Я, вообще-то, надеялся, что он приедет в Рим по такому случаю. В конце концов, Марий-младший – его кузен.
Карбон засмеялся, но как-то невесело:
– Дорогой мой Брут, Серторий нас бросил. Он оставил Синуессу на произвол судьбы, удрал в Теламон, набрал легион этрусских клиентов Гая Мария и отплыл зимой в Тарракон. Другими словами, он стал правителем Ближней Испании раньше срока. Нет сомнения, он надеется, что к тому времени, как окончится его срок, в Италии все решится.
– Он трус! – возмущенно воскликнул Брут.
Карбон издал неприличный звук.
– Только не трус! Я скорее назвал бы его странным. У него нет друзей, ты не заметил? Нет жены. А также нет амбиций Гая Мария, за что мы должны благодарить наши счастливые звезды. Если бы у него были амбиции, он стал бы старшим консулом.
– Жаль, что он оставил нас в трудную минуту. Его присутствие на поле сражения изменило бы ситуацию. Помимо всего прочего, он знает тактику Суллы.
Карбон рыгнул, держась за живот.
– Думаю, мне пора уйти и принять рвотное. Яства на пиру, который закатил этот молокосос, слишком жирны для моего желудка.
Брут помог младшему консулу подняться с ложа и отвел его в отгороженный угол зала позади подиума, где несколько слуг предоставляли горшки и тазы тем, кто в них нуждался.
Бросив вслед Карбону презрительный взгляд, Цезарь решил, что услышал самый важный разговор, который только мог иметь место на этом пиршестве. Он скинул сандалии, подобрал их и тихо удалился.
Луций Декумий, притаившийся у дверей, появился возле Цезаря, едва тот возник на пороге. В руках он держал более практичную одежду – удобные сапоги, плащ с капюшоном, шерстяные штаны. Прочь регалии! За спиной Луция Декумия маячил жуткий персонаж, который принял шлем, накидку и деревянные сандалии и сунул их в кожаный мешок, стянутый ремнем.
– Что, вернулся из Бовилл, Бургунд? – спросил Цезарь, ахнув от холода.
– Да, Цезарь.
– И как дела? У Кардиксы все в порядке?
– У меня еще один сын.
Луций Декумий хихикнул:
– Я говорил тебе! К тому времени, как ты станешь консулом, он снабдит тебя телохранителями!
– Я никогда не буду консулом, – отозвался Цезарь и посмотрел в окутанный тьмой конец Эмилиевой базилики, с трудом сглотнув подступивший к горлу комок.
– Ерунда! Конечно будешь! – сказал Луций Декумий и, протянув свои одетые в рукавицы руки, сжал лицо Цезаря. – А теперь бросай унылую компанию! В мире нет ничего, что остановит тебя, если ты что-то замыслил, слышишь? – Он нетерпеливо накинулся на Бургунда: – Давай, германская глыба! Расчищай дорогу для хозяина!
Зима стояла суровая, и казалось, ей не будет конца. После нескольких лет пребывания Сцеволы великим понтификом сезоны строго соответствовали календарю. Он, как и Метелл Далматик, считал, что даты и времена года должны совпадать, хотя великий понтифик Гней Домиций Агенобарб, который занимал эту должность в период между ними, позволил календарю убежать вперед – календарь был на десять дней короче солнечного года, – потому что, по собственным словам, презирал греческое пристрастие к мелочной точности.
Но в марте снег все-таки стал таять, и Италия начала верить, что тепло вновь вернется на поля и в дома. С октября находясь в бездействии, легионы наконец зашевелились. В начале марта, преодолевая глубокие снежные заносы, Гай Норбан вышел из Капуи с шестью из восьми легионов и направился на соединение с Карбоном, вернувшимся в Аримин. Он миновал лагерь Суллы, который его проигнорировал. По Латинской, а потом по Фламиниевой дороге Норбан мог двигаться, невзирая на снег, и вскоре он достиг Аримина. Объединенные силы Норбана и Карбона насчитывали тридцать легионов и несколько тысяч конников – тяжелое бремя для Рима и Галлии, вынужденных кормить их всех.
Но прежде чем отправиться в Аримин, Карбон решил свою самую неотложную проблему: где взять денег для армии? Вероятно, золото и серебро из сгоревшего храма Юпитера Всеблагого, хранимое в слитках в казне, подсказало ему идею, ибо он начал с того, что забрал эти слитки, оставив вместо них расписку, что Рим должен своему Великому Богу столько-то талантов золота и столько-то талантов серебра. Многие римские храмы были богаты, и, поскольку религия являлась частью государственной политики и управлялась государством, Карбон и Марий-младший взяли на себя смелость одолжить храмовые деньги. Теоретически это не было противозаконно, но на практике выглядело чудовищно. Финансовые кризисы никогда не решались таким способом. А вот теперь из храмовых хранилищ выносили монеты – ящик за ящиком. При рождении каждого римского гражданина – безразлично, мужского или женского пола, – Юноне Луцине жертвовали один сестерций; один денарий – Ювенте, когда римский юноша достигал совершеннолетия; много-много денариев дарили Меркурию, после того как удачливый торговец опускал в священный источник лавровую ветвь; один сестерций приносили Венере Либитине, когда римский гражданин умирал. Сестерции жертвовали Венере Эруцине процветающие куртизанки. Все эти деньги были призваны теперь запустить военную машину Карбона. Слитки были изъяты. Все храмовое золото и серебро, не имеющее художественного значения, переплавлялось.
Заике-претору Квинту Антонию Бальбу – не из знатных Антониев – поручили чеканить новые монеты и сортировать старые. Многие сочли это кощунством, но ценность добычи ошеломляла. Карбон теперь мог поручить Марию-младшему правление Римом и военную кампанию на юге, а сам с легким сердцем отправиться в Аримин.
Ни Сулла, ни Карбон никогда не согласились бы признать, что между ними есть нечто общее. Однако оба, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же решению: нынешняя гражданская война не должна погубить Италию. Весь провиант, весь фураж, все затраты на войну должны быть оплачены наличными. Не будет пахотных земель, порушенных сражениями и маневрами. Страна просто не может себе позволить вторую разрушительную войну на собственной территории почти сразу после предыдущей. Это знали и Сулла, и Карбон.
Знали они и другое. В глазах простых людей у этой войны не было веской причины – в отличие от Союзнической. То была борьба италийских племен, которые не хотели больше зависеть от Рима, и Рима, который желал сохранить господство над полуостровом. Но в чем заключался конфликт на этот раз? В том только, кто будет хозяином Рима. Это была борьба за власть между двумя людьми, Суллой и Карбоном, и никакая пропаганда не могла скрыть столь простого факта. Не обмануло это и население Рима и Италии. Поэтому страну нельзя подвергать экстремальной опасности, нельзя снижать уровень благосостояния римских и италийских общин.
Сулла занимал деньги у своих солдат, а Карбон мог занять только у богов. И в подсознании каждого маячил ужасный вопрос: когда все закончится, как выплатить долг?
Но все это никоим образом не занимало мысли Мария-младшего, сына баснословно богатого человека, не привыкшего заботиться о деньгах, будь то покупка безделушки или выплата жалованья легионам. Если старый Гай Марий и рассказывал кому-либо о финансовой стороне войны, то это был Цезарь в те месяцы, когда юный родственник помогал великому полководцу оправиться после второго удара. Со своим сыном Гай Марий практически не говорил на эту тему, потому что к тому времени, когда он стал нуждаться в сыне, Марий-младший был уже в том возрасте, когда его больше интересовали соблазны Рима, чем престарелый отец. Именно Цезарь, бывший на девять лет младше своего кузена, слушал воспоминания Гая Мария и жадно впитывал то, что впоследствии, когда он стал жрецом, оказалось совершенно бесполезным.
Когда в конце марта сошел снег, Марий-младший и его легаты двинулись из Рима в лагерь возле небольшого города Ад-Пиктас на Лабиканской дороге, дивертикуле, который, обогнув гору Альбан, соединялся с Латинской дорогой в месте под названием Сакрипорт. Здесь, на плоской наносной равнине, с ранней зимы стояли лагерем восемь легионов добровольцев из Этрурии и Умбрии, проходя серьезную и интенсивную военную подготовку – насколько позволял холод. Их центурионами были ветераны Мария – хорошие наставники. Но когда в конце марта прибыл Марий-младший, войска были еще совсем зелеными. Впрочем, Мария-младшего это не беспокоило. Он искренне верил, что самый неопытный рекрут будет драться за него так, как закаленные солдаты сражались за его отца. Он не сомневался, что остановит Суллу.
В его лагере имелись люди, которые намного лучше, чем Марий-младший, понимали невыполнимость стоящей перед ними задачи. Однако никто не пытался открыть глаза своему консулу-командиру. Если бы их спросили, в чем причина такого молчания, каждый, вероятно, ответил бы, что при всем своем бахвальстве Марий-младший не обладает достаточной силой духа, чтобы понять и принять такую истину. Как номинального командующего, Мария-младшего надлежит холить, защищать, не огорчать.
Когда разведка донесла ему, что Сулла готовится покинуть лагерь, Марий-младший очень обрадовался. Одиннадцать из своих восемнадцати легионов почти со всей кавалерией, кроме нескольких эскадронов, Сулла послал под командованием Метелла Пия Свиненка на Адриатическое побережье в Аримин, навстречу Карбону. У Суллы осталось семь легионов, значительно меньше, чем у Мария-младшего.
– Я смогу его побить! – объявил он своему старшему легату Гнею Домицию Агенобарбу.
Женатый на старшей дочери Цинны, Агенобарб стоял за Карбона, несмотря на естественное желание взять сторону Суллы. Он очень любил свою красивую рыжеволосую жену, фактически находился у нее под каблуком и делал то, что захочет она. То обстоятельство, что большинство его близких родственников сохраняли строгий нейтралитет или ушли с Суллой, он ухитрился проигнорировать.
Теперь он слушал воодушевленного Мария-младшего и чувствовал себя неловко. Вероятно, ему следовало продумать, как и куда бежать, если Марий-младший не выполнит своих хвастливых обещаний и не побьет этого старого рыжего лиса.
В первый день апреля Марий-младший в прекрасном настроении вывел армию из лагеря и через древние пилоны Сакрипорта вышел на Латинскую дорогу, направляясь на юго-восток, в Кампанию, к Сулле. Он не тратил времени даром, ибо предстояло пройти два моста, расположенные на расстоянии пяти миль друг от друга, а он хотел миновать их до встречи с противником. Никто не указал ему на то, что двигаться навстречу Сулле неблагоразумно, и не посоветовал остаться на прежнем месте. И хотя Марий-младший десятки раз ходил по Латинской дороге, он не имел склонности запоминать местность, не говоря уже о том, чтобы оценивать ее с военной точки зрения.
Шагая позади войск по первому мосту через реку Верегис, он вдруг понял, что лучше сражаться у пилонов Сакрипорта, чем там, куда они шли. Но не остановился. На втором мосту – через более широкую и бурную реку Толер – он наконец осознал, что упорно движется туда, где его легионам будет трудно маневрировать. Разведчики донесли ему, что Сулла уже в десяти милях по дороге и быстро обходит город Ферентин. После этого Марий-младший запаниковал.
– Думаю, нам лучше возвратиться в Сакрипорт, – сказал он Агенобарбу. – Вероятно, я не смогу развернуть войско на этой местности так, как хочу. Я не могу обойти Суллу, чтобы дать сражение на более открытой местности. Поэтому мы встретимся с ним у Сакрипорта. Ты согласен, что так будет лучше всего?
– Если ты так думаешь, – отозвался Агенобарб, который очень хорошо понимал, какое впечатление произведет на неопытных солдат приказ сначала идти вперед, а потом назад. – Я дам команду. Возвращаемся в Сакрипорт.
– Бегом! – выкрикнул Марий-младший.
Его уверенность таяла с каждой минутой, а паника усиливалась.
Агенобарб посмотрел на него удивленно, но снова предпочел промолчать. Если Марий-младший хотел вымотать своих солдат, заставив их несколько миль бежать, почему он, Агенобарб, должен возражать? Все равно им не победить.
Так что в Сакрипорт восемь легионов вернулись почти бегом. Тысячи молодых солдат даже не скрывали недоумения, когда центурионы приказали им взять ноги в руки и – бежать! Марий-младший, охваченный этой отчаянной спешкой, ехал среди рядов, понукая солдат. И ни разу ему не пришло в голову сказать им, что они вовсе не отступают, а просто меняют дислокацию, чтобы выйти на позиции, где будет удобнее сражаться. В результате и войска, и командир прибыли на позицию в таком психическом и физическом состоянии, что ни на что уже не годились.
Как и все его сверстники, Марий-младший обучался военному делу, но до сих пор он считал, что острота ума и мастерство отца перейдут к нему по наследству. В Сакрипорте, когда легаты и военные трибуны окружили его в ожидании приказов, у него в голове не появилось ни одной мысли.
– Ну, – сказал он наконец, – расставьте легионы клетками восемь на восемь человек, а два легиона оставьте сзади для подкрепления.
Это был плохой план, но никто не попытался заставить его придумать лучший, более эффективный. Марий-младший не обратился с краткой речью к своим мучимым жаждой, задыхающимся солдатам. Вместо того чтобы попытаться поговорить с ними, он отъехал на другую сторону поля и сидел на своем коне, сгорбившись, глубоко погруженный в решение непростой задачи.
Оценив с вершины хребта между рекой Толер и Сакрипортом неразумный план сражения Мария-младшего, Сулла вздохнул, пожал плечами и послал пять легионов ветеранов под командованием старшего Долабеллы и Сервилия Ватии. Два лучших легиона из старой армии Сципиона Азиагена он оставил в резерве под командованием Луция Манлия Торквата, а сам остался с эскадроном кавалерии. Конники помогут быстро доставить на поле сражения новые распоряжения командующего, если потребуется срочно менять тактику боя. С Суллой был только старый Луций Валерий Флакк, принцепс сената. В самый разгар зимы, в середине февраля, Флакк решился и, оставив Рим, ушел к Сулле.
Когда Марий-младший увидел приближавшуюся армию Суллы, спокойствие вернулось к нему. Он принял на себя командование левым флангом, не имея ни малейшего представления о том, что он делает или что должен делать. Две армии встретились после полудня, и прежде, чем закончился первый час сражения, сельские парни из Этрурии и Умбрии, которые с таким энтузиазмом записывались в армию Мария-младшего, начали удирать во всех направлениях с поля боя от ветеранов Суллы, которые кромсали их без всяких усилий. Один из двух легионов, которые Марий-младший держал в резерве, в полном составе перешел к Сервилию Ватии и спокойно стоял, пока рядом убивали их товарищей.
Последней каплей для Мария-младшего стал вид этих предателей. Вспомнив, что восточнее Сакрипорта находится грозный крепостной город Пренеста, он приказал отступать. Имея теперь перед собой реальную цель, он почувствовал себя лучше, и ему удалось увести свой левый фланг в относительном порядке. Командуя правым флангом Суллы, Офелла стал преследовать Мария-младшего с такой быстротой и напором, что Сулла, видя это с высоты своих позиций, аплодировал ему. На протяжении десяти миль Офелла наскакивал на солдат противника и изматывал их, отрезал отставших и убивал их, пока Марий-младший старался спасти как можно больше своих людей. Но когда наконец огромные ворота Пренесты закрылись за Марием, у того осталось только семь тысяч солдат.
Центральный фронт Мария-младшего был уничтожен почти до последнего человека. Правый фланг, ведомый Агенобарбом, прекратил сражаться и ушел в Норбу. Эта древняя крепость вольсков, фанатично преданных Карбону, располагалась на вершине горы в двадцати милях к юго-западу. Она радостно открыла ворота в своих неприступных стенах, чтобы впустить десять тысяч солдат Агенобарба. Но только не самого Агенобарба! Пожелав своим обессиленным солдатам лучшей доли в будущем, Агенобарб продолжил путь к лежащей на побережье Таррацине и оттуда отплыл в Африку, самое удаленное от Италии место, где он мог спокойно все обдумать.
Не зная, что его старший легат сбежал, Марий-младший был доволен своим убежищем. Сулле будет очень трудно – если вообще возможно – выбить его отсюда. Пренеста раскинулась на высоких отрогах Апеннин. В прошлом, на протяжении уже нескольких столетий, это позволяло городу выдержать многочисленные штурмы. Ни одна армия не могла атаковать его со стороны неприступной горы. И все же с этого направления крепость снабжалась продовольствием, что исключало для осаждающих возможность взять город измором. В самой цитадели имелись родники, а в обширных пустотах под величественным святилищем Фортуны Примигении, которым и славилась Пренеста, хранилось множество медимнов пшеницы, масла, вина и другой непортящейся провизии, например твердые сыры и изюм, а также яблоки и груши прошлогоднего урожая.
Хотя город мог гордиться латинскими корнями и диалектом, который жители считали древнейшей и самой чистой латынью, Пренеста никогда не была союзницей Рима. Она боролась на стороне италийских союзников во время Италийской войны. До сих пор город дерзко считал свое гражданство выше римского – ведь Рим был выскочкой! Поэтому горячая поддержка Мария-младшего была со стороны Пренесты вполне естественной. Жители Пренесты понимали, что у Мария нет шансов устоять против карающей мощи Суллы. К тому же он был сыном великого отца, и его приняли очень тепло. В качестве благодарности он разбил своих солдат на отряды и разослал их по серпантину, вьющемуся позади цитадели, на поиски провизии и фуража. Ведь теперь у Пренесты появилось много лишних ртов.
– К лету Сулла двинется дальше, просто в силу необходимости, и тогда ты сможешь уйти отсюда, – сказал главный магистрат города.
Предсказанию не суждено было сбыться. После сражения при Сакрипорте прошло совсем немного дней, и Марий-младший и жители Пренесты стали свидетелями такой основательной подготовки к осаде, которая могла объясняться только железной решимостью добиться падения города. Притоки, которые стекали с отрога в направлении к Риму, все впадали в реку Анио, а те, что стекали с отрога с противоположной стороны, все впадали в реку Толер: Пренеста была водоразделом. И теперь со скоростью, которую запертые в городе наблюдатели сочли невероятной, началось сооружение огромной стены со рвом от отрога со стороны Анио вокруг города и до реки Толер. Когда эти осадные работы были закончены, единственным входом в Пренесту оставался серпантин по горам позади крепости. То есть при условии, что он не будет охраняться.
Новость о Сакрипорте тайно полетела в Рим, прежде чем солнце село в тот роковой день. Очень быстро молва разнесет весть о поражении по всему городу. Донесение от самого Мария-младшего было послано им лично, ибо, как только он оказался за стенами Пренесты, он продиктовал поспешное письмо претору Рима Луцию Юнию Бруту Дамасиппу. В письме говорилось:
На юге – полное поражение. Нам остается надеяться, что Карбону в Аримине удастся одержать верх, хотя бы потому, что там у Суллы значительно меньше войска. Солдаты Карбона намного опытнее, чем мои. Отсутствие у меня надлежащей подготовки и опыта деморализовало моих солдат до такой степени, что они не могли и часа продержаться против закаленных ветеранов Суллы.
Предлагаю тебе попытаться подготовиться к осаде Рима, хотя, вероятно, это невозможно, учитывая размеры города, где далеко не все преданы нынешнему правительству. Если ты считаешь, что Рим не станет защищаться, тогда тебе следует ожидать Суллу до следующих нундин, ибо нет войска, которое могло бы задержать его между Пренестой и Римом. Не знаю, намерен ли Сулла занять Рим. Могу лишь надеяться, что он хочет обойти его, чтобы атаковать Карбона. От моего отца я слышал, что Сулла предпочитает тактику клещей. И он попытается раздавить Карбона, используя Метелла Пия как свою вторую челюсть. Если бы я знал наверняка! Но у меня нет надежных источников информации. Для Суллы сейчас преждевременно занимать Рим, и я не могу поверить, что Сулла сделает такую ошибку.
Вряд ли я скоро сумею покинуть Пренесту, которая с большим радушием приняла меня, – жители города очень любили Гая Мария и не отказали в поддержке его сыну. Будь уверен, что, как только Сулла двинется навстречу Карбону, я прорвусь и приду на помощь Риму. Может быть, если я сам буду в Риме, горожане и согласятся мириться с тяготами осадного положения.
Далее, мне представляется, что пришло время разорить все гадючьи гнезда сторонников Суллы в нашем любимом городе. Убей их всех, Дамасипп! Не позволяй чувствительности ослабить твою решимость. Приспешники Суллы сделают сопротивление невозможным. Но если те влиятельные лица, которые могут доставить нам такую неприятность, будут к приходу Суллы мертвы, тогда пешки подчинятся нам без возражения. Каждый, кто в военном отношении мог бы быть полезен Карбону, должен покинуть сейчас Рим. Включая и тебя, Дамасипп.
Вот небольшой список имен сторонников Суллы, которые я сейчас могу вспомнить. Знаю, десятки имен я забыл, так что подумай о них сам! Наш великий понтифик. Старший Луций Домиций Агенобарб. Карбон Арвина. Публий Антистий Вет.
Брут Дамасипп выполнил приказ.
Когда Гай Марий незадолго до своей смерти обрушил на Рим волну террора, его жертвой пал и Квинт Луций Сцевола, великий понтифик, хотя никто не понимал почему. Предполагаемый убийца (тот самый Фимбрия, который отправился с Флакком, ставшим консулом-суффектом, на войну с царем Митридатом, чтобы лишить командования Суллу, а затем убил Флакка) не мог придумать в то время лучшего оправдания, чем, смеясь, объявить, что Сцевола заслуживал смерти. Но Сцевола не умер, хотя рана была серьезная. Крепкий и бесстрашный, великий понтифик оправился и еще два месяца исполнял свои обязанности. Теперь, однако, спасения ему не было. Хотя он и являлся тестем Мария-младшего, его попросту зарезали, когда он пытался найти убежище в храме Весты. Он так и не узнал о предательстве Мария-младшего.
Старший Луций Домиций Агенобарб, брат великого понтифика, погиб в собственном доме. И нет сомнения, Помпей Великий был бы очень доволен, если бы узнал, что теперь ему не нужно пачкать руки кровью своего тестя. Публий Антистий тоже пал жертвой, а его жена, потерявшая рассудок от горя, покончила с собой. К тому времени, как Брут Дамасипп разобрался с теми, кого он считал опасными для Карбона, не менее тридцати голов украшали ростру на Нижнем римском форуме. Люди, заявлявшие о своем нейтралитете (такие как Катул, Лепид и Гортензий), заперли двери и отказывались выходить, опасаясь, что кто-нибудь из прихвостней Брута Дамасиппа решит, что они тоже должны быть убиты.
Выполнив грязную работу, Брут Дамасипп ушел из Рима, равно как и его коллега претор Гай Альбий Каррина. Оба присоединились к Карбону. Ответственный за чеканку монет претор Квинт Антоний Бальб тоже покинул Рим, но во главе легиона. Его задачей было отправиться в Сардинию и отвоевать остров у Филиппа.
Однако самый странный поступок совершил трибун Квинт Валерий Соран. Большой ученый и известный гуманист, он не мог смириться с массовым убийством людей, чья связь с Суллой даже не была доказана. Но как выразить протест, чтобы произвести впечатление на целый город? И как одному человеку разрушить огромный Рим? Квинт Валерий Соран пришел к выводу, что мир станет лучше, если Рим вообще перестанет существовать. Поразмыслив, он пришел к следующему решению. Он явился к ростре, поднялся на нее и там, окруженный окровавленными трофеями Брута Дамасиппа, громко выкрикнул тайное имя Рима.
«AMOR!» – кричал он снова и снова.
Те, кто слышал это и понимал значение происходящего, разбегались, закрыв уши руками. Тайное имя Рима никогда не должно произноситься вслух! Рим и все, что он символизирует, рухнет, как ветхое здание при землетрясении. Квинт Валерий Соран сам верил этому безоговорочно. Поэтому, громко сообщив небесам, птицам, объятым ужасом людям тайное имя Рима, Соран удрал в Остию, удивляясь тому, что Рим все еще стоит на своих семи холмах. Из Остии он, человек, известный обеим враждующим сторонам, отплыл на Сицилию.
Оставшийся без правительства город не рухнул и не распался. Люди продолжали заниматься своими обычными делами. Нейтральная знать высунула головы из своих забаррикадированных домов, повела носами, вышла и ничего не сказала. Рим ждал, как поступит Сулла.
Сулла вошел в Рим, но тихо, без армии за спиной.
Не существовало веской причины, которая помешала бы ему войти в Рим. И в то же время накопилось множество веских причин сделать это. Такие детали, как его империй – и должен ли он отказаться от него в тот момент, когда пересечет померий, священную границу города, – мало волновали его. Кто в этом обезглавленном Риме посмеет возражать или обвинять его в беззаконии, кто решится оспаривать его право с религиозной точки зрения? Если Сулла вернулся в Рим, то это возвращение завоевателя Рима, его властелина. Итак, Сулла без всяких сомнений перешел померий и вернул городу некое подобие правительства.
Самым старшим магистратом, оставшимся в Риме, был один из двух братьев Магиев из Эклана, претор. Ему Сулла поручил гражданское управление городом, дав в помощь эдилов Публия Фурия Красипа и Марка Помпония. Когда Сулла услышал о том, что Соран выкрикнул тайное имя Рима, он зловеще нахмурился и содрогнулся, хотя до этого хладнокровно созерцал забор из насаженных на пики голов вокруг ростры. Сулла не выразил никаких эмоций по поводу массовой расправы и только приказал, чтобы головы сняли и совершили над ними погребальный обряд. Он не обратился с речью к народу, не созвал заседание сената. Меньше чем через день Сулла уже снова покинул Рим, чтобы вернуться к Пренесте. Вместо себя он оставил два эскадрона кавалерии под командованием Торквата – чтобы помогать магистратам поддерживать порядок, сказал он вежливо.
Он не попытался увидеться с Аврелией, которая удивилась этому. Когда она услышала, что Сулла снова удалился из города, ее семья ничего не заметила по ее лицу, даже Цезарь, который знал, что встречи матери с Суллой имели для нее очень большое значение. Цезарь также знал, что Аврелия не собирается ничего ему говорить.
Легатом, ответственным за осаду Пренесты, был дезертир Квинт Лукреций Офелла, который выполнял приказ, данный самим Суллой.
– Я хочу, чтобы Марий-младший был заперт в Пренесте до конца своих дней, – сказал Сулла Офелле. – Построй стену в тридцать футов высотой вокруг всего города, от гор со стороны Анио к горам со стороны Толера. В стене через каждые двести шагов возведи шестидесятифутовые укрепленные башни. Между стеной и городом вырой траншею глубиной двадцать футов и шириной двадцать футов, в дно вбей колья, густо, как тростник в мелких водах Фуцинского озера. Когда закончишь работу, устрой лагерь для солдат, которые будут охранять любую тропинку, ведущую из Пренесты через Апеннины. Никто не войдет в город, и никто не выйдет из него. Я хочу, чтобы этот самонадеянный щенок понял, что теперь Пренеста – его дом до конца дней. – Мрачная улыбка искривила рот Суллы – улыбка, которая обнажала жуткие длинные клыки в те дни, когда у него были зубы. Но и сейчас улыбка эта наводила страх. – Я также хочу, чтобы жители Пренесты знали: они заполучили Мария-младшего до конца его жизни. Поэтому ты назначишь глашатаев, чтобы они сообщали народу об этом по шесть раз в день. Одно дело – оказать помощь симпатичному молодому человеку со знаменитым именем, но совсем другое – понять, что симпатичный молодой человек со знаменитым именем принес с собой в Пренесту смерть и страдание.
Когда Сулла пошел дальше, к Вейям, к северу от Рима, он оставил у Пренесты Офеллу с двумя легионами. И они выполнили поручение. Осаждавшим сопутствовала удача: горная порода вокруг города была вулканическим туфом, который резался легко, как сыр, но на воздухе становился твердым. С таким материалом стена росла как грибы, а траншея между стеной и Пренестой с каждым днем становилась все глубже. Земля из траншеи образовала вторую стену, а на широкой нейтральной полосе в пределах этих осадных работ не оставлено было ни одного дерева, которое могло бы послужить тараном. В горах позади Пренесты, между городскими стенами и солдатским лагерем, все деревья были вырублены. Легионеры теперь охраняли серпантины и не позволяли жителям Пренесты добывать продовольствие.
Офелла оказался суровым надсмотрщиком. Он должен был доказать свою верность Сулле. И это был его шанс. Поэтому никто не останавливался, чтобы передохнуть, ни у кого даже времени не находилось, чтобы пожаловаться на больную спину или растянутые мышцы. Выслужиться нужно было не только командиру, но и солдатам, потому что один легион осаждавших дезертировал от Мария-младшего в Сакрипорте, а другой раньше принадлежал Сципиону Азиагену. Их преданность новому хозяину еще оставалась под вопросом, так что добросовестно построенная стена и хорошо вырытая траншея должны были показать Сулле, что они достойны доверия. А единственными их инструментами были рабочие руки и небольшие лопаты. Центурионы научили их отлично строить осадные сооружения. Организовать такие масштабные работы было нетрудно для Офеллы, типичного римлянина в том, что касалось методичного исполнения.
Через два месяца стена и траншея были готовы. Они получились длиной восемь миль и в двух местах перегораживали Пренестинскую и Лабиканскую дороги, тем самым перекрывая движение и делая бесполезными оба этих пути дальше Тускула и Болы. Римские всадники и сенаторы, чьи поместья оказались отрезаны этими фортификациями, не могли ничего поделать – им оставалось только угрюмо ждать, когда осада закончится, и проклинать Мария-младшего. Зато бедняки здешнего региона радовались, глядя на блоки туфа. Когда осада закончится и стена рухнет, у них появится огромный запас материала, чтобы огородить поля, построить дома, амбары, коровники.
В Норбе происходило то же самое, хотя там не было нужды в таких масштабных работах. Мамерк был отправлен туда с легионом рекрутов (присланных от сабинов Марком Крассом), чтобы проследить за работой. Он приступил к выполнению задания рассудительно и неторопливо, с той спокойной деловитостью, которая помогала ему во многих рискованных ситуациях.
Что касается Суллы, в Вейях он разделил пять легионов между собой и Публием Сервилием Ватией. Ватия должен был взять два легиона и идти маршем в прибрежную Этрурию. Тем временем Сулла и старший Долабелла отправились с тремя легионами по Кассиевой дороге к Клузию, вглубь материка. Стояло начало мая, и Сулла был очень доволен достигнутым. Если Метелл Пий и его часть армии покажут себя так же хорошо, к осени у Суллы появится отличный шанс захватить всю Италию и всю Италийскую Галлию.
А как шли дела у Метелла Пия и его армии? Отправляясь к Клузию, Сулла мало слышал об их успехах, но он верил в этого самого преданного из своих приверженцев. Ему также было любопытно, как поживает Помпей Великий. Он намеренно дал Метеллу Пию большую часть армии и велел, чтобы Метелл предоставил Помпею Великому право самостоятельно командовать пятью тысячами кавалерии, которая самому Сулле будет не нужна в его маневрах на гористой местности.
Метелл Пий шел маршем к побережью Адриатики со своими двумя легионами (под командованием своего легата Варрона Лукулла), шестью легионами, которые раньше принадлежали Сципиону, тремя легионами, принадлежавшими Помпею, и теми пятью тысячами кавалерии, которые Сулла отдал Помпею.
Конечно, сабин Варрон находился при Помпее, всегда готовый выслушать (не говоря уже о готовности записать) мысли Магна.
– Я должен наладить отношения с Крассом, – объявил Помпей, когда они шли через Пицен. – Метелл Пий и Варрон Лукулл – с ними проще. К тому же они мне нравятся. Но Красс – грубое животное, он намного страшнее. Его нужно перетянуть на мою сторону.
Сидя верхом на пони, Варрон глядел на Помпея, восседавшего на своем белом государственном коне.
– Я смотрю, за эту зиму, проведенную с Суллой, ты кое-чему научился! – искренне пораженный, сказал он. – Никогда не думал, что услышу, как ты говоришь о налаживании отношений с кем-либо – за исключением Суллы, естественно.
– Да, научился, – великодушно признал Помпей. Его красивые белые зубы блеснули в улыбке. – Не тревожься, Варрон! Я уверен, что скоро стану самым ценным помощником Суллы, но ему ведь нужны и другие люди, кроме меня! Хотя ты, может быть, и прав, – добавил он задумчиво. – Впервые в жизни я имел дело с кем-то из главнокомандующих, помимо отца. Полагаю, мой отец был великим воином. Но он ничем не интересовался, кроме своих земель. Сулла – другой.
– В каком отношении? – полюбопытствовал Варрон.
– Его ничто не занимает, включая всех нас, кого он называет своими легатами или коллегами или любым другим словом, которое посчитает уместным в данный момент. Я не знаю, волнует ли его даже самый Рим. Если и существует что-то, что его интересует, то это, во всяком случае, нечто нематериальное. Деньги, земли, даже степень его auctoritas или его репутация – нет, они ничего не значат для Суллы.
– Тогда что? – спросил Варрон, пораженный этим новым Помпеем, который вдруг научился видеть дальше собственного носа.
– Вероятно, только его dignitas, – ответил Помпей.
Варрон принялся тщательно обдумывать эти слова. Может быть, Помпей прав? Dignitas! Самое неосязаемое из всего, чем обладает знатный римлянин, – это dignitas. Auctoritas – мера его авторитета, способность оказывать влияние на общественное мнение и общественные институты от сената до жрецов и казначейства.
Dignitas – нечто совсем другое. Это набор личных качеств, и все же dignitas охватывало все сферы общественной жизни человека. Так трудно определить, что это такое! Наверное, потому и существовал определенный термин. Dignitas – это… то впечатление, которое оставляет личность… его слава? Dignitas заключает в себе все, что представляет собой человек и как личность, и как общественный деятель. Это и его гордость, и его целостность, а также слова, ум и деяния, способности, сумма знаний, положение – все, чего он стоит. Dignitas остается жить, когда человек умирает. Это единственный способ обессмертить себя. Да, вот лучшее определение. Dignitas – это триумф человека над прекращением его физического бытия. И если посмотреть с этой точки зрения, Помпей был абсолютно прав. Если что и имело значение для Суллы, так это его dignitas. Он говорил, что побьет Митридата. Он говорил, что вернется в Италию и восстановит свое доброе имя. Он говорил, что возродит Республику в ее древней, традиционной форме. И, сказав это, он так и сделает. Если он не выполнит обещанного, его dignitas будет уничтожено. У объявленного вне закона и официально преданного позору не может быть dignitas. Сулла найдет в себе силы сдержать слово. И когда он сдержит слово, только тогда он будет удовлетворен. А до этого Сулла не может отдыхать. И не будет.
– Ты пропел Сулле дифирамб, – произнес Варрон вслух.
Ясные голубые глаза вдруг стали словно слепыми.
– Что?
– Я хочу сказать, – терпеливо пояснил Варрон, – что ты убедил меня, что Сулла не может проиграть. Он борется за что-то, чего не понимает даже Карбон.
– О да! Да, определенно! – радостно воскликнул Помпей.
Они приблизились к реке Эзис, сердцу владений Помпея. Порывистый юноша, каким был Помпей еще в прошлом году, не исчез, но теперь он приобрел новый опыт. Другими словами, Помпей повзрослел. Он взрослел понемногу каждый день. То, что Сулла поставил его командовать кавалерией, вызвало в нем интерес к этому роду войск, к которому раньше он не относился серьезно. И это, конечно, было чисто по-римски. Римляне верили в пехотинца, а конного солдата считали скорее декоративным, нежели полезным элементом, скорее помехой, чем благом. Варрон был убежден: единственной причиной, по которой римляне начали использовать кавалерию, было то обстоятельство, что ее использовал противник.
В древности, когда Римом правили цари, и потом, в первые годы Республики, конные солдаты образовывали военную элиту, они были головным отрядом римской армии. Из этого выросло сословие всадников, как назвал его Гай Гракх. Лошади были очень дорогими. Не многие могли приобрести коня. Поэтому возник обычай дарить всаднику государственного коня, купленного сенатом.
Теперь, по прошествии многих лет, римский воин-всадник перестал существовать. Осталось одно название, напоминающее о древней римской коннице. Всадник превратился в торговца или землевладельца, члена центурий первого класса. И все же вплоть до сегодняшнего дня государство покупает коней для тысячи восьмисот самых высокопоставленных всадников.
Склонный к отвлеченным размышлениям, Варрон понял, что ушел далеко в сторону, и заставил себя вернуться к первоначальной теме. Помпей и его интерес к кавалерии. Кавалеристы не были римлянами. Эту кавалерию Сулла привел с собой из Греции, и поэтому в ней не было галлов. Если бы конников набирали в Италии, почти все они были бы галлами, обитателями холмистых пастбищ с дальней стороны Пада или большой долины Родана в Заальпийской Галлии. Всадники Суллы были в основном фракийцы, с несколькими сотнями галатов. Хорошие воины. Верны, насколько можно ждать верности от неримлян. В римской армии у них статус ауксилариев. Некоторых из них могли наградить в конце трудной победной кампании, сделав полноправными гражданами Рима или наделив землей.
Весь путь от Теана Сидицийского Помпей ехал среди этих людей в кожаных штанах и коротких кожаных куртках, с маленькими круглыми щитами и длинными пиками. Их длинные мечи были удобны для конной атаки.
«По крайней мере, Помпей способен размышлять», – сказал себе Варрон, когда они ехали по направлению к реке Эзис. Помпей узнавал качества конников и обдумывал, как их наилучшим образом использовать. Он составлял план. Прикидывал, можно ли повысить эффективность конницы и стоит ли менять вооружение солдат. Всадники были разбиты на отряды по пять сотен человек, каждый отряд состоял из десяти эскадронов по пятьдесят человек каждый, у них имелись свои офицеры. Единственный римлянин среди их командиров был начальником конницы. В данном случае – Помпей. Очень заинтересованный, очень увлеченный – и твердо решивший, командуя ими, проявить способности и профессионализм, не всегда свойственные римлянину. Если Варрон и полагал, что интерес Помпея к коннице частично объяснялся солидной примесью галльской крови, то был достаточно умен, чтобы никогда об этом не заикаться.
Как удивительно! Вот они пришли сюда, где уже видна река Эзис и старый лагерь Помпея. Вернулись туда, откуда начали свой путь, словно все пройденные мили ничего не значили. Путешествие, проделанное для того, чтобы увидеть лысого беззубого старика, отличившегося лишь парой малозначительных побед и огромным количеством пеших переходов.
– Интересно, – размышлял вслух Варрон, – спросят ли наши люди когда-нибудь, а в чем, собственно говоря, дело?
Помпей заморгал и отвернулся:
– Какой странный подход! Почему они должны задавать вопросы? Все делается для них. Я лично стараюсь ради них! Все, что им нужно, – это выполнять приказы.
Революционная мысль о том, что хотя бы один из ветеранов Помпея Страбона способен думать, заставила его скривиться.
Но Варрона нельзя было просто так сбить с толку.
– Да будет тебе, Магн! Ведь они – люди, такие же, как мы, хотя бы в каком-то отношении. И, будучи людьми, они наделены способностью мыслить. Пусть многие из них не умеют ни читать, ни писать. Одно дело – никогда не оспаривать приказы, и совсем другое – не задаваться вопросом, зачем все это.
– Я не понимаю, – вполне искренне сказал Помпей.
– Магн, я говорю о таком общеизвестном явлении, как человеческое любопытство! Это заложено в природе человека – задавать вопрос «зачем?». Даже если он рядовой солдат из Пицена, который никогда не был в Риме и не понимает разницы между Римом и Италией. Мы только побывали в Теане и вернулись. Вон там наш старый лагерь. Ты не думаешь, что хотя бы некоторые из них должны спросить себя, зачем мы ходили в Теан и почему меньше чем через год мы вернулись?
– Ну, это-то они знают! – нетерпеливо воскликнул Помпей. – Кроме того, они ветераны. Если бы они получали по тысяче сестерциев за каждую пройденную в последние десять лет милю, они смогли бы жить на Палатине и разводить вкусную рыбу. Даже если бы мочились в фонтан и гадили на грядки с пряными травами! Варрон, ты такой оригинал! Ты никогда не перестанешь меня удивлять. Какие мысли тебя занимают!
Помпей ударил коня по ребрам и галопом помчался по склону. Вдруг он захохотал, замахал руками. Хорошо было слышно, как он прокричал:
– Кто отстал, тот слабак!
«Сущий ребенок! – подумал Варрон. – Что я здесь делаю? Какая может быть от меня польза? Это же все игра, большое и великолепное приключение».
Может быть, и так, но в тот же день поздно вечером Метелл Пий созвал совещание со своими тремя легатами. Варрон, как всегда, сопровождал Помпея. Все были возбуждены: пришли новости.
– Карбон недалеко, – сказал Свиненок. Он помолчал, обдумывая сказанное, и поправился: – По крайней мере, Каррина близко, а Цензорин быстро его догоняет. Очевидно, Карбон решил, что восьми легионов будет достаточно, чтобы остановить нас, но потом узнал о численности нашей армии и послал Цензорина и еще четыре легиона. Они подойдут к реке Эзис раньше нас, и там мы должны их встретить.
– А где сам Карбон? – спросил Марк Красс.
– Все еще в Аримине. Думаю, ждет, что предпримет Сулла.
– И как поступит Марий-младший, – добавил Помпей.
– Правильно, – согласился Свиненок, удивленно подняв брови. – Однако не наше дело беспокоиться об этом. Наша задача – заставить Карбона удирать. Помпей, это твои владения. Что лучше: выманить Каррину и заставить перейти через реку или удерживать его на той стороне?
– На самом деле это не имеет значения, – спокойно сказал Помпей. – Берега одинаковые. Много места, чтобы развернуться, есть деревья, хорошая, ровная земля для решительного сражения, если мы навяжем его. – Он принял ангельский вид и мягким голосом добавил: – Тебе решать, Пий. Я только твой легат.
– Ну, поскольку мы направляемся в Аримин, разумнее перевести наших людей на ту сторону, – тоже совершенно спокойно сказал Метелл Пий. – Если мы заставим Каррину отступить, нам не нужно будет переходить Эзис, преследуя его. Разведка говорит, что у нас огромное преимущество в кавалерии. Если земля и река позволят это, я бы хотел, чтобы ты, Помпей, с головным отрядом перешел реку и поставил кавалерию между противником и нашей пехотой. Затем я переведу нашу пехоту на тот берег, ты убираешь с дороги свою кавалерию, и мы атакуем. Нам не удастся их перехитрить. Это будет честный бой. Однако, если ты сможешь завести конницу им в тыл после того, как я нападу на них, мы разгромим и Каррину, и Цензорина.
Никто не возразил против этой стратегии, которая ясно показывала, что у Метелла Пия имелись некоторые способности. Предложение отдать три легиона ветеранов Помпея Варрону Лукуллу, а Помпею оставить кавалерию Помпей принял спокойно.
– Я поведу центр, – в заключение сказал Метелл Пий. – Красс возглавит правый фланг, а Варрон Лукулл – левый.
Поскольку день стоял теплый и земля была не слишком сырой, все шло так, как планировал Метелл Пий. Помпей легко переправился через реку, а пехота, шедшая следом, продемонстрировала большое преимущество бывалых солдат, что всегда приятно полководцу. Хотя легионы Сципиона были недостаточно опытны, Варрон Лукулл и Красс превосходно командовали пятью ветеранскими легионами, уверенность которых хорошо подействовала на людей Сципиона. У Каррины и Цензорина не было ветеранов, поэтому они не нанесли большого урона Метеллу Пию. В конце концов Помпею удалось бы зайти в тыл врага, но когда он объезжал поле боя, то столкнулся с новым обстоятельством: прибыл Карбон с шестью легионами и тремя тысячами кавалерии, которые помешали продвижению Помпея.
Каррине и Цензорину удалось отступить, потеряв не более трех-четырех тысяч человек, а потом разбить лагерь рядом с Карбоном на расстоянии меньше мили от поля боя. Продвижение Метелла Пия и его легионов было остановлено.
– Вернемся в твой первый лагерь к югу от реки, – решительно сказал Метелл Пий. – Пусть они думают, что мы слишком осторожны, чтобы идти дальше. И еще я считаю, что нам надо держаться от них на приличном расстоянии.
Несмотря на скромный результат боя, у всех было приподнятое настроение. С наступлением темноты Помпей, Красс и Варрон Лукулл, очень веселые, собрались в палатке военачальника. Стол был покрыт картами, легкий беспорядок свидетельствовал о том, что Свиненок сосредоточенно работал.
– Так, – начал он, стоя у стола, – я хочу, чтобы вы посмотрели на это и подумали, как нам лучше обойти Карбона с фланга.
Они обступили стол, Варрон Лукулл держал лампу над тщательно расчерченным чернилами пергаментом. Карта изображала побережье Адриатического моря между Анконой и Равенной вместе с частью территории материка, простирающейся за гребень Апеннин.
– Мы – здесь, – сказал Свиненок, ткнув пальцем ниже реки Эзис. – Следующая большая река – Метавр, через которую трудно переправиться. Вся эта земля – Ager Gallicus – здесь и здесь, – и Аримин на ее юго-западном конце. Здесь несколько рек, но все их легко перейти вброд. Пока мы не придем вот к этой, между Аримином и Равенной, видите? Это Рубикон, наша естественная граница с Италийской Галлией. – Все эти детали были слегка подчеркнуты: Метелл Пий отличался методичностью. – Вполне очевидно, почему Карбон остановился в Аримине. Он может двинуться вверх по Эмилиевой дороге в Италийскую Галлию. Он может идти вдоль берега Саписа к Кассиевой дороге и по ней в Арреций и угрожать Риму из верхней долины Тибра. Этим путем он может добраться до Фламиниевой дороги и Рима. И еще он может пройти по берегу Адриатики в Пицен и, если необходимо, в Кампанию через Апулию и Самний.
– Тогда нам нужно заставить его уйти, – произнес Красс, озвучив то, что всем и так было очевидно. – Это нам по силам.
– Но есть препятствие, – нахмурился Метелл Пий. – Кажется, Карбон не ограничился Аримином. Он сделал кое-что очень хитрое: послал восемь легионов под командованием Гая Норбана по Эмилиевой дороге к городу Форум Корнелия – видите, за Фавенцией? Это недалеко от Аримина, может быть, миль сорок.
– И значит, он может привести те восемь легионов обратно в Аримин за один день, если понадобится, – заметил Помпей.
– Да. Или за два-три дня увести их в Арреций или Плаценцию, – сказал Варрон Лукулл, который мог охватить картину в целом. – Сам Карбон сидит на другом берегу Эзиса с Карриной и Цензорином – и восемнадцать легионов плюс три тысячи кавалерии с ними. И еще восемь легионов в Форуме Корнелия с Норбаном и четыре гарнизонных легиона в Аримине с несколькими тысячами конников.
– Я хочу выработать общую стратегию, прежде чем продвинусь хоть на дюйм, – заявил Метелл Пий, глядя на своих легатов.
– Общая стратегия проста, – сказал Красс. – Нам нужно помешать Карбону соединиться с Норбаном, отрезать Карбона от Каррины и Цензорина, а затем Каррину от Цензорина. Не дать каждому из них соединиться с кем-либо. Сделать так, как сказал Сулла. Разделить их.
– Одному из нас, может быть мне, предстоит привести пять легионов в дальний конец Аримина, потом отрезать Норбана и попытаться занять Италийскую Галлию, – хмуро сказал Метелл Пий. – А это непросто.
– Очень даже просто, – нетерпеливо возразил Помпей. – Посмотрите: вот Анкона, вторая по значению гавань на Адриатике. В это время много кораблей находится там в ожидании западного ветра, чтобы плыть на восток для летней торговли. Если ты, Пий, приведешь пять легионов в Анкону, то сможешь погрузить их на корабли и отплыть в Равенну. Это будет приятная морская прогулка, земля останется в пределах видимости, никакие шторма вам не грозят. Всего сотня миль. Потребуется восемь-девять дней, даже если придется грести. А если будет попутный ветер, что возможно в это время года, вам понадобится только четыре дня. – Он хлопнул по карте. – Быстрый марш от Равенны в Фавенцию – и ты отрежешь Норбана от Аримина.
– Это надо будет проделать тайно, – с сияющими глазами сказал Свиненок. – О да, Помпей, это сработает! Они не ожидают движения наших войск между этим местом и Анконой – их разведчики все будут севернее Эзиса. Помпей, Красс, вы останетесь здесь, где мы сейчас находимся, делая вид, что у вас на пять легионов больше, пока Варрон Лукулл и я не отплывем из Анконы. Тогда двинетесь и вы. Попытайтесь добраться до Каррины и притворитесь, будто у вас серьезные намерения. Если возможно, свяжите ему руки – и Цензорину тоже. Карбон сначала будет с ними, а потом, когда услышит, что я высадился в Равенне, отправится туда, чтобы выручить Норбана. Хотя вряд ли. Карбону нужно, чтобы его войско было в центре.
– О, это будет отличная забава! – воскликнул Помпей.
И все в палатке были так довольны, что никто не нашел его заявление легкомысленным. Даже Марк Теренций Варрон, тихо сидевший в углу, делая записи.
Стратегия сработала. Пока Метелл Пий торопился с Варроном Лукуллом и пятью легионами в Анкону, другие шесть легионов плюс кавалерия усердно изображали, что их одиннадцать. Затем Помпей и Красс вышли из лагеря и беспрепятственно форсировали Эзис. Казалось, Карбон решил заманить их в Аримин, несомненно планируя решительное сражение на более знакомой ему территории.
Помпей вел свою кавалерию по пятам Карбона, следом за конниками, которыми командовал Цензорин, и регулярно покусывал его за пятки. Эта тактика раздражала Цензорина, который и так не отличался терпением. Возле городка Сенигаллия он не выдержал, развернулся и ввязался в бой – конница против конницы. Помпей победил. У него проявился талант командовать кавалерией. В Сенигаллии побежденный Цензорин отступил с пехотой и с кавалерией вместе – но остановился ненадолго. Помпей разгромил слабые фортификации.
Затем Цензорин сделал одну разумную вещь. Он пожертвовал конницей и ушел через задние ворота Сенигаллии с восемью легионами пехоты, направляясь к Фламиниевой дороге.
К этому времени Карбон узнал о нежелательном присутствии Свиненка и его армии в Фавенции. Теперь Норбан был отрезан от Аримина. Тогда Карбон пошел на Фавенцию, оставив Каррину следовать за ним еще с восемью легионами. Цензорин, решил он, пусть сам выкручивается.
Но тут появился Брут Дамасипп. Он нашел Карбона на марше и сообщил ему новость о том, что Сулла разбил армию Мария-младшего у Сакрипорта. Сулла теперь направлялся по Кассиевой дороге к границе Италийской Галлии у Арреция, хотя у него было всего три легиона. В ту же секунду Карбон изменил свои планы. Норбану придется самостоятельно удерживать Италийскую Галлию, сражаясь с Метеллом Пием. Карбон и его легаты должны остановить Суллу у Арреция, что будет сделать нетрудно, если у Суллы всего три легиона.
Помпей и Красс узнали о победе Суллы над Марием-младшим почти одновременно с Карбоном и очень этому обрадовались. Они повернули на запад, чтобы преследовать Каррину и Цензорина, которые теперь вели по восемь легионов каждый к Карбону в Арреций на Кассиевой дороге. Помпей и Красс очень торопились, упорно преследуя их. Эта кампания не для кавалерии, решил Помпей, когда они с Крассом направлялись к Фламиниевой дороге. Они поднимались в горы. Помпей отослал конницу обратно к реке Эзис и взял под свое командование отцовских ветеранов. Красс, как он понял, был согласен передать ему полномочия, поскольку то, что предлагал Помпей, совпадало с тем, что созрело в уме практичного Красса.
И опять все решило присутствие большого количества ветеранов. Помпей и Красс догнали Цензорина на дивертикуле Фламиниевой дороги между Фульгином и Сполетием. Сражения даже не понадобилось. Измученные, голодные, напуганные войска Цензорина разбежались. Цензорину удалось сохранить лишь три из восьми легионов, и этих драгоценных солдат он намеревался спасти во что бы то ни стало. Он увел их с дороги и срезал путь через поля к Карбону в Арреций. Другие пять легионов рассеялись так, что солдат потом невозможно было собрать.
Три дня спустя Помпей и Красс нагнали Каррину у большого и хорошо укрепленного города Сполетий. На этот раз сражение состоялось, но Каррина действовал так плохо, что вынужден был запереться в Сполетии с тремя из своих восьми легионов. Три легиона отступили в Тудер и укрылись там. Остальные два просто исчезли – навсегда.
– Прекрасно! – радостно крикнул Помпей Варрону. – Теперь я знаю, как распрощаться с этим старым флегматиком Крассом!
И он сделал это – намекнул Крассу, что тот должен взять свои три легиона в Тудер и осадить его, а он, Помпей, поведет свои легионы на Сполетий. Красс отправился к Тудеру, радуясь возможности командовать самостоятельно. А Помпей в прекрасном настроении устроился у Сполетия, зная, что ему достанется львиная доля славы, потому что именно в Сполетии укрылся Каррина. Увы, все обернулось не так, как рассчитывал Помпей! Хитрый и смелый Каррина выскользнул из Сполетия во время ночной грозы и соединился с Карбоном, сохранив все свои три легиона.
Помпей очень расстроился из-за неудачи. Варрон с удивлением узнал, каким бывает Помпей в минуты крайнего раздражения: льет слезы, кусает костяшки пальцев, рвет на себе волосы, топает ногами, бьет кубки и тарелки, рубит мебель. Но потом гнев Помпея прошел, словно ночная гроза, так благоприятствовавшая Каррине.
– Отправляемся к Сулле в Клузий, – объявил Помпей. – Вставай, Варрон! Не будем мешкать!
Покачав головой, Варрон постарался не мешкать.
Было начало июня, когда Помпей и его ветераны добрались до лагеря Суллы у реки Кланис, где обнаружили командующего слегка потрепанным и раздраженным. Дела обернулись не так хорошо, когда Карбон из Арреция подошел к Клузию, ибо Карбон чуть не победил благодаря фактору внезапности. Сражение нельзя было спланировать заранее. Только решение Суллы прервать военные действия и укрыться в хорошо укрепленном лагере спасло положение.
– Это не имеет большого значения, – весело объявил Сулла. – Теперь ты здесь, Помпей, и Красс недалеко. С вашей помощью все изменится. С Карбоном будет покончено.
– А как дела у Метелла Пия? – спросил Помпей, недовольный тем, что услышал имя Красса вместе со своим.
– Он защищает Италийскую Галлию. Заставил Норбана сражаться у Фавенции, а Варрон Лукулл – ему пришлось отправиться в Плаценцию, чтобы найти убежище, – сразился с Луцием Квинкцием и Публием Альбинованом около Фиденции. Все прошло великолепно: враг рассеян или убит.
– А сам Норбан?
Сулла пожал плечами. Он никогда не интересовался, что произошло с неприятелем после поражения. А Норбан не был его личным врагом.
– Думаю, ушел в Аримин, – сказал он и отвернулся, чтобы отдать распоряжения по поводу лагеря Помпея.
На следующий день из Тудера прибыл Красс во главе трех легионов угрюмых и недовольных солдат. Среди них пронесся слух, что после падения Тудера Красс нашел золото и все заграбастал себе.
– Это правда? – строго спросил Сулла.
Глубокие морщины на лице Красса стали еще глубже, рот сжался так, что губ не видно. Но ничто не могло поколебать бычьего самообладания Красса. Спокойные серые глаза расширились, он казался озадаченным, но не смущенным.
– Нет.
– Ты уверен?
– В Тудере нечего было брать, кроме нескольких старух, но ни одна мне не понравилась.
Сулла взглянул на него с подозрением, не зная, намеренная ли это дерзость или простодушное откровение.
– Ты непостижим, Марк Красс, – сказал он наконец. – Я приму во внимание положение твоей семьи и поверю тебе. Но учти! Если когда-нибудь я узнаю, что ты наживаешься за счет государства, пользуясь мною, не попадайся мне на глаза!
– Вполне справедливо, – кивнул Красс и неторопливо вышел.
Публий Сервилий Ватия слушал этот разговор и теперь улыбнулся Сулле.
– Он никому не нравится, – сказал он.
– И очень мало людей нравятся ему, – сказал Сулла, обнимая Ватию за плечи. – Счастливчик ты, Ватия!
– Почему?
– Потому что ты нравишься мне. Ты хороший парень: никогда не превышаешь своих полномочий, никогда со мной не споришь. Что бы я ни попросил тебя сделать, делаешь. – Он зевнул, да так, что выступили слезы. – Пить хочется. Кубок вина мне сейчас не помешает!
Стройный и привлекательный, со смуглой кожей, Ватия происходил не из патрицианского рода Сервилиев. Но его род был достаточно древним, чтобы пройти самую строгую проверку. А его мать была одной из самых достойных представительниц рода Цецилиев Метеллов – дочь Метелла Македонского; это означало, что Ватия приходился родственником всем сколько-нибудь важным людям. Включая, по браку, и Суллу. Поэтому ему было приятно чувствовать на своих плечах эту тяжелую руку. Он повернулся, не снимая руки Суллы, и пошел рядом с ним в палатку командира. В тот день Сулла много пил и нуждался в поддержке.
– Что мы сделаем со всеми этими людьми, когда Рим станет моим? – спросил Сулла, когда Ватия подал ему полный кубок его особого вина.
Себе Ватия налил из другого кувшина и хорошо разбавил водой.
– С какими людьми? Ты хочешь сказать – с Крассом?
– Да, с Крассом. И с Помпеем Великим. – Сулла скривил губы, обнажив десны. – С ума сойти, Ватия! Великий! Это в его-то возрасте!
Ватия улыбнулся и сел на складной стул.
– Если он слишком молод, то я слишком стар. Я мог бы стать консулом шесть лет назад. Теперь уж, наверное, никогда не буду.
– Если я одержу победу, ты будешь консулом. Не сомневайся. Я – опасный противник, Ватия, но надежный друг.
– Знаю, Луций Корнелий, – нежно ответил Ватия.
– Так что мне с ними делать? – снова спросил Сулла.
– С Помпеем? Могу понять, в чем для тебя трудность. Вряд ли он угомонится и вернется домой, после того как все закончится. И как ты сможешь удержать его от желания прежде времени получить какую-нибудь должность?
Сулла засмеялся:
– Да он и не стремится получить должность! Он жаждет военной славы. И я постараюсь, чтобы он ее получил. Он может оказаться хорошим командующим. – Сулла протянул пустой кубок, чтобы его снова наполнили. – А Красс? Что мне делать с Крассом?
– О, он сам о себе позаботится, – откликнулся Ватия, наливая вино. – И деньги раздобудет. Я его вполне понимаю. Когда его отец и его брат Луций умерли, он, наверное, унаследовал куда больше, чем любая богатая вдова. Состояние Лициния Красса было триста талантов. Но, конечно, оно было конфисковано. Цинна постарался! Он все заграбастал. А у бедного Красса ничего не осталось.
Сулла фыркнул:
– Вот уж в самом деле бедный Красс! Он, разумеется, спер то золото из Тудера. Я знаю, что спер.
– Может, и так, – спокойно сказал Ватия. – Однако в данный момент не следует проводить дознание. Этот человек тебе нужен! И он уверен, что нужен тебе. Мы все участвуем в отчаянном предприятии.
О прибытии Помпея и Красса, чтобы пополнить армию Суллы, сразу же стало известно Карбону. Легаты ничего не заметили по его лицу, которое осталось спокойным. Он также не сказал ничего относительно передислокации войск. И сам никуда не собирался уходить. Численность его войска все еще значительно превышала численность войска Суллы, а значит, Сулла не намерен покидать пределы своего лагеря и вступать в сражение. И пока Карбон ждал, чтобы развитие событий подсказало ему, что делать, пришло первое известие из Италийской Галлии: Норбан и его легаты Квинкций и Альбинован побиты, а Метелл Пий и Варрон Лукулл удерживают Италийскую Галлию для Суллы. Вторая новость оказалась еще хуже: луканский легат Публий Альбинован выманил Норбана и его старших офицеров на совещание в Аримин и там всех их убил, кроме самого Норбана, а потом сдал Аримин Метеллу Пию в обмен на помилование. Поскольку Норбан выразил желание жить в ссылке где-нибудь на Востоке, ему разрешили сесть на корабль. Единственный спасшийся легат был Луций Квинкций, который находился под охраной Варрона Лукулла, когда происходили убийства.
Лагерь Карбона охватило уныние. Беспокойные люди вроде Цензорина места себе не находили – возмущались. Но Сулла все не предлагал сражения. В отчаянии Карбон дал Цензорину задание. Он должен был взять восемь легионов в Пренесту и выручить Мария-младшего. Спустя десять дней после отъезда Цензорин вернулся. «Мария-младшего невозможно освободить, – сообщил он. – Фортификации, которые построил Офелла, непреодолимы». Карбон послал в Пренесту вторую экспедицию, но только потерял две тысячи хороших солдат, которых Сулла заманил в западню. Третий раз направили войско с Брутом Дамасиппом, чтобы найти дорогу в горах и пробраться в Пренесту по серпантину позади города. Это тоже не удалось. Брут Дамасипп осмотрел местность, понял, что все бесполезно, и возвратился в Клузий к Карбону.
Даже новость о том, что парализованный самнитский предводитель Гай Папий Мутил собрал в Эсернии сорок тысяч солдат и решил с их помощью освободить Пренесту, не помогла поднять настроение Карбону. Его депрессия усиливалась с каждым днем. Ничего не изменилось и тогда, когда Мутил прислал ему письмо, в котором сообщал, что у него будет семьдесят тысяч солдат, а не сорок, так как Лукания и Марк Лампоний посылают ему дополнительные двадцать тысяч, а Капуя и Тиберий Гутта – еще десять тысяч.
Был лишь один человек, которому Карбон доверял, – старый Марк Юний Брут, проквестор. И когда настал квинтилий, а у Карбона еще не было никакого решения, он пошел к старому Бруту.
– Если Альбинован опустился до того, чтобы убивать людей, с которыми месяцами веселился и делил трапезу, как я могу быть уверен в любом из моих легатов? – спросил он.
Они медленно шли по via principalis, протянувшейся на три мили, одному из двух главных проходов на территории лагеря, достаточно широкому, чтобы их не подслушивали.
Жмуря глаза от яркого солнца, старик с синими губами не торопился отвечать. Он долго думал над вопросом, и когда наконец заговорил, ответ прозвучал очень серьезно:
– Ты не можешь быть в них уверен, Гней Папирий.
Карбон втянул воздух сквозь сжатые зубы.
– О боги, Марк, и что же мне делать?
– На данный момент – ничего. Но я думаю, ты должен бросить это печальное предприятие, прежде чем убийство станет желаемой альтернативой для одного или нескольких твоих легатов.
– Бросить?
– Да, бросить, – решительно сказал старый Брут.
– Но ведь они не дадут мне уехать! – воскликнул Карбон, охваченный дрожью.
– Скорее всего, не дадут. Но им не нужно об этом знать. Я начну подготовку, а ты делай вид, словно единственное, что тебя беспокоит, – это судьба самнитской армии. – Старый Брут похлопал Карбона по руке. – Не отчаивайся. В конце концов все образуется.
В середине квинтилия старый Брут закончил приготовления. После полуночи он и Карбон очень тихо вышли из лагеря – без вещей, без сопровождения. С ними был мул, нагруженный золотыми слитками, обернутыми в свинцовые листы, и большим мешком денариев, необходимых для путешествия. Они выглядели как пара уставших торговцев. Беглецы направились на побережье Этрурии и там сели на корабль, отплывавший в Африку. Никто не приставал к ним, никого не интересовали трудяга-мул и содержимое его корзин. «Фортуна оказалась милостива», – подумал Карбон, когда корабль поднял якорь.
Самний, Лукания и Капуя поставили Гаю Папию Мутилу войско. Сам он, естественно, не мог возглавить его, поскольку вся нижняя часть его тела была парализована. Тем не менее он с самнитами прошел от их тренировочного лагеря в Эсернии до Теана Сидицийского. Там солдаты заняли старые лагеря Суллы и Сципиона, а Мутил остановился в собственном доме.
Со времен Италийской войны состояние Мутила умножилось. Теперь он владел пятью виллами в Самнии и Кампании. Мутил стал богаче, чем когда бы то ни было. «Хоть какая-то компенсация, – думал он порой, – за потерю чувствительности ниже пояса».
Эсерния и Бовиан были два его любимых города. Однако жена Мутила, Бастия, предпочитала жить в Теане – она была оттуда родом. Из-за своего недуга Мутил не возражал против длительного отсутствия жены. От такого мужа мало толку. И если по вполне понятным причинам его жене требуется физическое утешение, то лучше пусть она найдет это утешение там, где мужа нет. Но никаких скандальных пикантностей о ее поведении к нему в Эсернию не доходило, что могло означать одно из двух: либо она добровольно живет в воздержании, в то время как его воздержание вызвано недугом, либо же ее осторожность может служить примером всем прочим женам. И когда Мутил прибыл домой в Теан, он с нетерпением предвкушал встречу с Бастией.
– Я не ожидала увидеть тебя, – сказала она совершенно спокойно.
– Разумеется, ведь я не писал, что приеду, – согласился он. – Ты хорошо выглядишь.
– Я хорошо себя чувствую.
– Если учесть некоторую ограниченность моей жизни, то я тоже довольно прилично себя чувствую, – продолжал он, понимая, что их встреча произошла совсем не так, как он надеялся: Бастия держалась отчужденно, слишком учтиво.
– Что привело тебя в Теан? – спросила она.
– Моя армия стоит у города. Мы собираемся воевать с Суллой. Вернее, моя армия. А я останусь здесь, с тобой.
– И как долго? – вежливо поинтересовалась она.
– Пока все не кончится – так или иначе.
– Понимаю.
Она откинулась в кресле, великолепная женщина тридцати лет, и посмотрела на него спокойно, без тени того жгучего желания, которое он, бывало, видел в ее глазах, когда они только что поженились и он еще был мужчиной.
– Что я должна сделать, чтобы твое пребывание здесь было удобным для тебя, муж мой? Есть ли что-то особенное, в чем ты нуждаешься?
– У меня есть специальный слуга. Он знает, что делать.
Красиво распределив облако дорогого газа вокруг своего изумительного тела, она продолжала смотреть на него огромными темными глазами, за которые ее прозывали «волоокой».
– Обедать будешь ты один? – спросила она.
– Нет, еще трое. Мои легаты. Тебя это затруднит?
– Конечно нет. Обед в твоем доме сделает тебе честь, Гай Папий.
Действительно, обед оказался превосходным. Бастия была отличной хозяйкой. Она знала двоих из трех гостей, которые пришли отобедать со своим больным командиром, – Понтия Телезина и Марка Лампония. Телезин был самнит из очень древнего рода, слишком молодой, чтобы командовать в Италийской войне. Теперь ему было тридцать два года, он был красив и осмелел настолько, что позволил себе окинуть хозяйку оценивающим взглядом, который заметила только она одна. И хорошо, что она проигнорировала этот взгляд. Телезин был самнитом, а это означало, что он ненавидит римлян больше, чем восхищается женщинами.
Марк Лампоний, вождь луканского племени, был ярым врагом Рима во время Италийской войны. Теперь, в возрасте пятидесяти с лишним лет, он все еще был настроен воинственно и жаждал пролить римскую кровь. «Они никогда не изменятся, эти италики, – подумала Бастия. – Разрушить Рим значит для них больше, чем жизнь, процветание или покой. Даже больше, чем дети».
Третьего гостя Бастия никогда раньше не видела. Он был, как и она, родом из Кампании, известный человек в Капуе. Звали его Тиберий Гутта. Он был толстый, звероподобный, с большим самомнением и, как и прочие, фанатично жаждал крови римлян.
Бастия покинула столовую, как только муж позволил ей удалиться. Ее душил гнев, который она изо всех сил старалась скрыть. Это несправедливо! Все только-только стало приходить в норму. Люди уже решили, что другой Италийской войны не будет. И вот оно! Все начинается заново. Ей хотелось громко крикнуть, что ничего не изменится, Рим опять сотрет их всех в порошок. Но она сдержалась. Даже если бы они и поверили ей, патриотизм и гордость не позволили бы им пойти на попятную.
Но гнев не покидал Бастию. Она ходила взад-вперед по мраморному полу своей гостиной, сгорая от желания наброситься с кулаками на этих тупоголовых дураков. Особенно бесил ее собственный муж, предводитель своего народа, тот, на кого самниты смотрят как на вождя. И куда же он ведет их? На войну с Римом. На верную смерть. Подумал ли он о том, что, когда падет он, все, кто был с ним, тоже погибнут? Конечно нет! Он ведь мужчина, со всеми мужскими идиотскими понятиями о национальной идее, о мщении. Воплощение мужчины, хотя лишь наполовину. И оставшаяся половина Мутила для нее была бесполезна. Эта половина не могла служить ни для воспроизводства потомства, ни для удовольствия.
Бастия остановилась, чувствуя, как ей стало жарко от этого гнева, как все в ней вскипело. Она кусала губы, ощущая вкус крови. Она вся пылала.
Был один раб… Один из тех греков из Самофракии, с волосами такими черными, что на свету они отливали синевой, с бровями, сросшимися на переносице в бесстыдном изобилии, и с глазами цвета горного озера. А кожа у него такая гладкая, что хотелось целовать ее… Бастия хлопнула в ладоши.
Когда вошел управляющий, она посмотрела на него, вскинув подбородок, с покусанными губами, распухшими и красными, как клубника.
– Господа в столовой довольны? – спросила Бастия.
– Да, domina.
– Хорошо. Продолжай прислуживать им. И пришли ко мне сюда Ипполита. Я думаю, он может кое-что сделать для меня, – велела она.
Лицо управляющего осталось неподвижным. Поскольку его хозяин Мутил не пожелал жить в Теане, где обитала его хозяйка Бастия, следовательно, хозяйка для него много значила. Она должна быть счастлива. Он поклонился.
– Я сейчас же отправлю к тебе Ипполита, госпожа, – сказал он и вышел из комнаты, продолжая кланяться.
В триклинии о Бастии забыли, как только она ушла на свою половину.
– Карбон уверяет меня, что связал Суллу в Клузии по рукам и ногам, – сказал Мутил своим легатам.
– Ты этому веришь? – спросил Лампоний.
Мутил нахмурился:
– У меня нет оснований не верить ему, но я, конечно, не могу знать наверняка. А у тебя есть повод думать иначе?
– Нет, кроме того, что Карбон – римлянин.
– Правильно, правильно! – воскликнул Понтий Телезин.
– Фортуна изменчива, – молвил Тиберий Гутта из Капуи. Лицо его лоснилось от жира жареного каплуна с хрустящей масляной корочкой, начиненного каштанами. – На данный момент мы сражаемся на стороне Карбона. После того как побьем Суллу, можем напасть на Карбона и римлян и содрать с них шкуру.
– Точно, – улыбаясь, согласился Мутил.
– Мы должны сейчас же идти на Пренесту, – сказал Лампоний.
– Завтра, – быстро добавил Телезин.
Но Мутил энергично замотал головой:
– Нет. Пусть люди отдохнут здесь еще дней пять. У них был трудный переход, и им предстоит одолеть Латинскую дорогу. Когда они подойдут к фортификациям Офеллы, у них должны быть силы.
Итак, вопрос обсудили с перспективой относительного безделья в следующие пять дней. Обед закончился значительно раньше, чем предполагал управляющий. Занятый на кухне со слугами, он ничего не видел, ничего не слышал. И его не оказалось рядом, когда хозяин дома приказал своему огромному слуге-германцу отнести его в комнату хозяйки.
Бастия голая стояла на коленях на подушках своего ложа, с широко раздвинутыми ногами, а между ее блестящих бедер виднелась мужская голова с сине-черной гривой волос. Плотное, мускулистое тело мужчины распростерлось на ложе так непринужденно, словно принадлежало спящей кошке. Бастия откинулась назад, поддерживая себя руками, ее пальцы впились в подушки.
Дверь тихо отворилась. Слуга-германец застыл с хозяином на руках, словно переносил молодую жену через порог ее нового дома. Он ждал дальнейших приказаний с молчаливой выносливостью человека, находящегося вдали от родины, не знающего ни латыни, ни греческого, постоянно терзаемого болью потерь и не способного выразить эту боль словами.
Глаза мужа и жены встретились. В ее взгляде блеснуло торжество, ликование. В его взгляде – изумление без притупляющего боль шока. Невольно его глаза скользнули по ее потрясающей груди, по глянцу ее живота, и вдруг все заволокло слезами.
Молодой грек, поглощенный своим занятием, уловил какую-то перемену, напряжение в женщине, не связанное с его действиями, и приподнял голову. Ее руки, как две змеи в мгновенном броске, обхватили его голову и прижали к себе, не отпуская.
– Не останавливайся! – выкрикнула она.
Не в состоянии отвести глаз, Мутил смотрел на взбухшие соски, готовые лопнуть. Бедра ее двигались, мужская голова, засунутая между ними, двигалась в такт. А потом на глазах своего мужа Бастия вскрикнула и отчаянно застонала. Мутилу казалось, что это длилось вечно.
Потом она отпустила голову и столкнула молодого грека, который скатился с ложа и остался лежать на спине. Его охватил такой ужас, что он почти перестал дышать.
– Ты ничего не можешь сделать вот этим, – сказала мужу Бастия, показывая на опадающую эрекцию раба, – но язык у тебя имеется, Мутил.
– Ты права, язык имеется, – согласился он, осушив слезы. – Он вполне чувствительный. Но нечистоты ему не по вкусу.
Германец унес его из комнаты Бастии в хозяйскую спальню и осторожно уложил на кровать. Потом, закончив все необходимые дела, оставил Гая Папия Мутила одного. Без слов сочувствия и утешения. «И это проявление самого большого милосердия», – подумал Мутил, зарывшись в подушку. Перед его глазами все еще стояло тело жены, ее груди с набухшими сосками и эта голова – эта голова! Эта голова… Ниже пояса ничто не шевельнулось. Там никогда больше не могло шевельнуться. Но остальная часть его тела знала, что такое пытки и мечты, и жаждала любого проявления любви. Любого проявления!
– Ведь я не умер, – прошептал он в подушку, почувствовав подступившие слезы. – Я не умер! Но, клянусь всеми богами, лучше бы я умер!
В конце июня Сулла покинул Клузий. С собой он взял свои пять легионов и три легиона Сципиона. Помпея он назначил командовать оставшимся войском. Это решение было не слишком благосклонно воспринято другими его легатами. Но поскольку Сулла был Суллой и никто открыто с ним не спорил, старшим остался Помпей.
– Покончи с ними, – сказал он Помпею. – У них людей больше, чем у тебя, но они деморализованы. Однако, когда они обнаружат, что я ушел, они нападут. Следи за Дамасиппом, он самый умный среди них. Красс справится с Марком Цензорином, а Торкват должен разобраться с Карриной.
– А Карбон? – спросил Помпей.
– Карбон – пустое место. Он заставляет своих легатов командовать за него. Но не радуйся, Помпей. У меня для тебя другая работа.
Неудивительно, что Сулла взял с собой легатов старше Помпея. Ни Ватия, ни старший Долабелла не перенесли бы такого унижения – исполнять приказы двадцатитрехлетнего юнца. Уход Суллы последовал сразу же после получения сообщения о самнитах, ему необходимо было немедленно перебросить к Пренесте войска, чтобы успеть занять позиции до прибытия самнитской армии.
Тщательно разведав обстановку во всем регионе со стороны Рима, Сулла точно знал, что делать. Пренестинская и Лабиканская дороги были теперь перекрыты стеной и траншеей, построенными Офеллой. А Латинская и Аппиева дороги оставались открытыми. Они все еще соединяли Рим и север с Кампанией и югом. Если Сулла победит в этой войне, жизненно важно, чтобы сообщение между Римом и югом находилось под его контролем. Этрурия истощена, но в Самнии и Лукании еще достаточно и людей, и продовольствия.
Сельская местность между Римом и Кампанией была сложной. Со стороны побережья тянулись Помптинские болота, через которые из Кампании пролегала прямая Аппиева дорога, кишащая комарами. Вблизи Рима она наконец поднималась и шла отрогами Альбанских холмов. Вообще-то, это были не холмы, а настоящие грозные, труднопроходимые горы, подножиями которых служили вулканические породы. Собственно гора Альбан высилась между Аппиевой дорогой и другой, материковой, Латинской. К югу от Альбанских холмов другой горный хребет отделял Аппиеву дорогу от Латинской, таким образом не позволяя соединиться этим двум главным артериям на всем пути от Кампании почти до самого Рима. Для военных маршей всегда предпочитали Латинскую дорогу. Люди заболевали, если подолгу шли по Аппиевой дороге.
Поэтому Сулле лучше было остановиться на Латинской дороге, но в месте, откуда, если возникнет необходимость, он сможет быстро перебросить войска на Аппиеву. Обе дороги вели по Альбанскому горному массиву, но Латинская дорога проходила через ущелье на восточном откосе кряжа и дальше, до самого Рима, пролегала по более ровному участку между этой возвышенностью и самой горой Альбан. В месте, где ущелье выходило к горе, короткое ответвление дороги огибало с запада эту центральную вершину и соединялось с Аппиевой дорогой недалеко от священного озера Неми и храмовой территории.
Здесь, в ущелье, Сулла расположился и стал строить огромные стены из туфовых блоков с каждого конца ущелья, закрывая боковую дорогу, которая вела к озеру Неми и Аппиевой дороге. Здесь все движение можно было остановить в обоих направлениях. В короткое время завершив работы, Сулла расставил несколько дозоров на Аппиевой дороге, чтобы быть уверенным, что противник не попытается обойти его. Все продовольствие для его войска доставлялось по боковой дороге.
К тому времени, как самнито-лукано-капуанское войско достигло Сакрипорта, все уже называли эту армию «самнитами», несмотря на ее сложный состав (увеличенный за счет остатков легионов, рассеянных Помпеем и Крассом и приставших к этой сильной, хорошо организованной армии). В Сакрипорте войско «самнитов» выбрало Лабиканскую дорогу, но обнаружило, что Офелла находится за второй осадной линией и оттуда его нельзя выманить. Сиявшая с высот мириадами красок Пренеста была от них далека, как сад Гесперид. Проехав вдоль всей стены Офеллы, Понтий Телезин, Марк Лампоний и Тиберий Гутта не нашли ни одного слабого места, а марш семидесяти тысяч человек по пересеченной местности в неизвестном направлении был невозможен. Военный совет изменил стратегию: единственный способ выманить Офеллу – это атаковать Рим. Поэтому самнитская армия направится к Риму по Латинской дороге.
Они возвратились в Сакрипорт и повернули на Латинскую дорогу. Но там за огромными крепостными валами сидел Сулла, полностью контролируя этот путь. Напасть на его позиции казалось намного легче, чем на стены Офеллы, поэтому самниты атаковали Суллу. Когда первая попытка провалилась, они повторили ее. И снова, и снова. Но они слышали только громкий смех Суллы.
Затем поступили новости, как хорошие, так и плохие. Войска, оставленные в Клузии, совершили вылазку и ввязались в бой с Помпеем. То, что они потерпели полное поражение, было, конечно, плохо, но это казалось не таким важным по сравнению с сообщением о том, что приблизительно двадцать тысяч уцелевших солдат идут на юг с Цензорином, Карриной и Брутом Дамасиппом. Сам Карбон исчез, но «борьба, – клялся Брут Дамасипп в своем письме Понтию Телезину, – будет продолжена. Если напасть на позиции Суллы с обеих сторон одновременно, он не выдержит. Должен не выдержать!».
– Ерунда, конечно, – сказал Сулла Помпею, которого вызвал в свое ущелье для совещания, как только узнал о победе Помпея в Клузии. – Они могут, если захотят, взгромоздить Пелион на Оссу, но им не удастся меня выманить. Это место готовилось для обороны! Оно неуязвимо и неприступно.
– Если ты так уверен, для чего тебе я? – спросил молодой человек, чувствуя, как испаряется гордость, вызванная сознанием собственной значимости.
Кампания в Клузии была короткой, беспощадной, решительной. Много противников убито, много взято в плен, а те, кому удалось скрыться, принадлежали к числу людей, которые вообще всегда заранее планируют отступление. В рядах сдавшихся не оказалось старших легатов, что послужило большим разочарованием. Об измене самого Карбона Помпей не знал, пока не кончилось сражение, – только тогда историю о его ночном побеге со слезами на глазах рассказали Помпею трибуны, центурионы и солдаты. Великое предательство!
Сразу же после этого пришел вызов от Суллы, что доставило Помпею огромную радость. От него требовалось привести шесть легионов и две тысячи кавалерии. То, что Варрон последует за Помпеем, само собой разумелось. В то же время Красс и Торкват оставались в Клузии. Но для чего Сулле потребовалось столько солдат в лагере, и без того трещавшем по швам? И действительно, армия Помпея была направлена в лагерь на берегу озера Неми.
– Здесь ты мне не нужен, – объяснил Сулла, облокотившись на парапет наблюдательной башни на стене, он тщетно вглядывался в направлении Рима. Его зрение сильно ухудшилось с тех пор, как он заболел, хотя признаваться в этом ему не хотелось. – Я все ближе, Помпей! Все ближе и ближе.
Обычно не робкий, Помпей не мог высказать вопрос, который так и вертелся у него на языке: что будет делать Сулла, когда война закончится? Как он собирается восстанавливать свою репутацию, как защитит себя от будущих репрессий? Он же не сможет все время держать при себе армию. А как только Сулла распустит ее, любой, кто обладает достаточным авторитетом, будет иметь право призвать его к ответу. И может статься, что этим человеком окажется кто-то из нынешних преданных сторонников Суллы. Кто знает, о чем на самом деле думают такие люди, как Ватия и старший Долабелла? Оба достигли консульского возраста. Как сможет Сулла отгородиться от всех своих врагов? Враги великого человека – как Гидра. Не имеет значения, сколько голов ему удастся отрубить, они всегда будут отрастать снова, и зубы у них каждый раз будут страшнее и острее.
– Если здесь я тебе не нужен, Сулла, то где я нужен тебе? – с недоумением спросил Помпей.
– Сейчас начало секстилия, – сказал Сулла, повернулся и стал спускаться по ступенькам.
Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до дна ущелья под стенами, где люди носили камни и масло, чтобы бросать зажженные факелы на головы тех, кто попытается взобраться на стены, а также снаряды для катапульт, уже ощетинившихся на укреплениях. Солдаты складывали пики, стрелы и щиты.
– Сейчас начало секстилия, – напомнил Помпей, когда они с Суллой остались одни и пошли по боковой дороге к озеру Неми.
– Ну разумеется! – с удивлением сказал Сулла и засмеялся, увидев выражение лица Помпея.
Очевидно, от Помпея ждали, что он тоже засмеется. Помпей засмеялся.
– Да, точно, – сказал он и добавил: – Начало секстилия.
С трудом успокоившись, Сулла решил, что повеселился достаточно. Лучше над этим будущим Александром больше не смеяться и сказать ему все.
– У меня для тебя, Помпей, особое поручение, – отрывисто проговорил Сулла. – Остальные тоже узнают об этом, но не сейчас. Я хочу, чтобы ты был уже далеко, прежде чем поднимется буря протеста – ибо протестовать будут! Видишь ли, я хочу попросить тебя об одной вещи, которую не должен поручать никому, кто не был хотя бы претором.
Заинтригованный, Помпей остановился, взял Суллу за руку и повернул лицом к себе – темно-голубые глаза заглянули в светло-голубые. Они стояли в лощине на обочине открытой дороги, и шум работ, ведущихся впереди и позади, заглушался густыми зарослями куманики, роз и ежевики.
– Тогда почему ты выбрал меня, Луций Корнелий? – спросил Помпей удивленно. – У тебя много легатов, которые отвечают этим требованиям: Ватия, Аппий Клавдий, Долабелла. Даже Мамерк и Красс кажутся более подходящими. Так почему же я?
– Не умри от любопытства, Помпей, я все объясню. Но сначала я должен сообщить тебе, чего именно я от тебя хочу.
– Слушаю, – сказал Помпей, успокаиваясь.
– Я уже приказал тебе, чтобы ты привел шесть легионов и две тысячи кавалерии. Это внушительная армия. Ты возьмешь ее на Сицилию и обеспечишь для меня сохранность нового урожая. Сейчас начало секстилия, и очень скоро урожай созреет. В гавани Путеол находится большая часть флота для перевозки зерна. Сотни и сотни пустых судов. Готовый транспорт, Помпей! Завтра ты выйдешь на Аппиеву дорогу и направишься в Путеолы, пока зерновой флот не отплыл. У тебя будет мандат от меня и достаточно денег, чтобы заплатить за наем кораблей. У тебя будут полномочия пропретора. Отправь кавалерию в Остию, там флот поменьше. Я уже послал гонцов в порты Таррацина и Антий и приказал всем мелким судовладельцам собраться в Путеолах, если они хотят получить деньги за то, что при обычных обстоятельствах было бы пустым рейсом. У тебя будет кораблей более чем достаточно, я это гарантирую.
Не мечтал ли Помпей однажды о своей встрече с этим богоподобным человеком по имени Луций Корнелий Сулла? И не был ли он повергнут в прах, увидев перед собою сатира, а не бога? Но что значит внешность, если этот сатир обеими руками держит все его мечты? Обезображенный рубцами пьяный старик, чьи глаза даже не могли различить видневшийся вдалеке Рим, предлагал ему вести свою войну! Войну, в которую больше никто не вмешается, войну против врага, который будет только его врагом… Помпей ахнул, протянул веснушчатую руку с короткими, немного крючковатыми пальцами и схватил красивую руку Суллы:
– Луций Корнелий, это замечательно! Замечательно! О, ты можешь на меня рассчитывать! Я выгоню Перперну Вейентона из Сицилии и доставлю тебе пшеницы больше, чем смогут съесть десять армий!
– Мне и понадобится больше пшеницы, чем смогут съесть десять армий, – сказал Сулла, высвобождая свою руку. Несмотря на юность и бесспорную привлекательность, Помпей не принадлежал к тому типу, который нравился Сулле. – К концу этого года Рим станет моим. И если я хочу, чтобы Рим мне подчинился, я должен быть уверен, что он не будет голодать. Это означает сицилийское зерно, сардинское зерно и, если возможно, африканское зерно. Так что, когда ты закончишь дела на Сицилии, отправляйся в провинцию Африка и там сделай все, что сможешь. Ты не сумеешь перехватить нагруженный зерном флот из Утики и Гадрумета. Думаю, ты проведешь на Сицилии не один месяц, прежде чем у тебя появится возможность отправиться в Африку. Но Африку следует подчинить до твоего возвращения в Италию. Я слышал, что Фабия Адриана сожгли в наместническом дворце во время восстания в Утике, но что Гней Домиций Агенобарб – бежав из Сакрипорта! – занял его место и сделал Африку нашим врагом. Если ты будешь в Западной Сицилии, от Лилибея морем недалеко до Утики. Ты обязан прибрать Африку к рукам. Во всяком случае, ты не похож на неудачника.
Помпей буквально дрожал от возбуждения. Он улыбался, ему было трудно дышать.
– Я не подведу тебя, Луций Корнелий! Клянусь, я никогда тебя не подведу!
– Я верю тебе, Помпей. – Сулла сел на бревно, облизнул губы. – Что мы здесь делаем? Я хочу вина!
– Здесь хорошее место, нас никто не увидит, никто не услышит, – резонно ответил Помпей. – Подожди, Луций Корнелий, я принесу тебе вина. Сиди здесь и жди.
Поскольку место находилось в тени, Сулла подчинился, улыбаясь каким-то своим тайным мыслям. О, какой чудесный день!
Помпей прибежал обратно, даже не запыхавшись. Сулла схватил бурдюк с вином, умело направил струю в рот, ухитряясь одновременно и глотать, и дышать. Прошло некоторое время, пока он напился и отложил бурдюк.
– Ох, теперь лучше. На чем я остановился?
– Ты можешь обмануть многих, Луций Корнелий, но не меня. Ты точно знаешь, на чем ты остановился, – холодно сказал Помпей и сел на траву напротив Суллы.
– Очень хорошо! Помпей, люди, подобные тебе, такая же редкость, как океанский жемчуг размером с голубиное яйцо. И могу сказать, что я очень рад, что умру задолго до того, как ты станешь головной болью Рима.
Он снова поднял бурдюк с вином, опять отпил.
– Я никогда не буду головной болью Рима, – с невинным видом отозвался Помпей. – Я просто буду Первым Человеком в Риме – и отнюдь не благодаря той претенциозной чепухе, которую принято говорить на Форуме и в сенате.
– Тогда как, мальчик, если не благодаря волнующим речам?
– Сделав то, что ты мне поручил. Победив противников Рима в сражениях.
– Способ не новый, – сказал Сулла. – Таким способом воспользовался и я. И эту же тактику применял Гай Марий.
– Да, но я не собираюсь бросаться своими комиссионными, – молвил Помпей. – Рим отдаст мне все до последнего сестерция, приползет на коленях!
Сулла мог расценить это утверждение как укор или даже как открытую критику. Но он знал Помпея и понимал: большая часть из того, что говорил молодой человек, продиктована самовлюбленностью. Помпей еще не осознавал, как трудно будет воплотить в жизнь эти слова. Поэтому Сулла только вздохнул:
– Строго говоря, я не могу дать тебе никаких полномочий. Я не консул, и у меня за спиной нет ни сената, ни народа Рима, которые провели бы мои законы. Ты просто должен понять: я даю тебе возможность по возвращении получить должность претора.
– Я в этом не сомневаюсь.
– Ты вообще в чем-нибудь сомневаешься?
– Нет, если это касается лично меня. Я могу влиять на события.
– Желаю тебе никогда не меняться! – Сулла подался вперед, стиснул коленями руки. – Хорошо, Помпей, с комплиментами покончим. Слушай меня очень внимательно. Я должен сказать тебе еще две вещи. Первая касается Карбона.
– Слушаю, – сказал Помпей.
– Он отплыл из Теламона со старым Брутом. Теперь, возможно, он направляется в Испанию или даже в Массилию. Но в это время года, скорее всего, его конечной целью является Сицилия или Африка. Пока он на свободе, он – консул. Избранный консул. Это значит, что достоинство его империя выше наместнического. И он может взять на себя командование войском наместника, ополчением или ауксилариями и вообще превратиться для всех нас в источник постоянных неприятностей, пока не кончится срок его консульства. А консулом он останется еще несколько месяцев. Я не собираюсь говорить тебе, что именно я буду делать, когда Рим будет моим, но вот что я тебе скажу: для меня жизненно важно, чтобы Карбон был мертв до того, как кончится срок его полномочий. И я обязательно должен знать, что Карбон мертв! Твоя задача – выследить Карбона и убить его. Очень тихо и не вызывая подозрений. Я бы хотел, чтобы его смерть выглядела несчастным случаем. Ты возьмешься за это?
– Да, – не колеблясь ответил Помпей.
– Хорошо! Хорошо! – Сулла стал рассматривать свои руки, вертя их, словно они принадлежали кому-то другому. – Теперь вторая вещь. Вот причина, по которой я доверяю эту заморскую кампанию тебе, а не любому из моих старших легатов. – Он пристально посмотрел на молодого человека. – Ты можешь сам понять почему, Помпей?
Помпей подумал, пожал плечами:
– У меня есть некоторые соображения, но, поскольку я не знаю твоих дальнейших планов относительно Рима – когда ты получишь власть, – все мои догадки, вероятно, ошибочные. Скажи мне.
– Помпей, ты – единственный, кому я могу доверить это задание! Если я дам шесть легионов и две тысячи кавалерии такому человеку, как Ватия или Долабелла, и пошлю этого человека на Сицилию и в Африку, что ему помешает по возвращении попытаться занять мое место? Ему только потребуется выждать, пока я распущу армию, а потом он возвратится и сместит меня. Сицилия и Африка – это кампания, которую вряд ли можно завершить за полгода, так что вполне вероятно, что я вынужден буду распустить свою армию, прежде чем любой, кого я отправлю за зерном, вернется домой. Я не могу держать в Италии постоянную армию. Для нее нет ни денег, ни места. К тому же сенат и народ никогда на это не пойдут. Мне приходится постоянно следить за каждым, кто занимает достаточно высокий пост, чтобы стать моим соперником. Поэтому я и посылаю тебя обеспечить мне урожай и дать мне возможность кормить неблагодарный Рим.
Помпей сделал глубокий вдох, обхватил руками колени и в упор посмотрел на Суллу:
– А что удержит меня от предательства, Луций Корнелий? Если я успешно завершу кампанию, разве не могу я подумать о том, чтобы сместить тебя?
Сулла даже не вздрогнул. Он только искренне засмеялся:
– Ох, Помпей, да думай об этом сколько хочешь! Но Рим никогда тебе не подчинится! Ни на мгновение! Он подчинится Ватии или Долабелле. Они старше тебя, у них есть родственники, предки, влияние, клиенты. Но двадцатитрехлетний юнец из Пицена, которого Рим не знает? Ни шанса!
И на этом тема была закрыта. Они разошлись в разные стороны. Когда Помпей встретил Варрона, то лишь сообщил этому неутомимому наблюдателю жизни и природы, что он должен поехать на Сицилию и доставить Сулле урожай. О полномочиях, о старших легатах, о порученном ему убийстве Карбона и о многом другом он вообще не упомянул. Помпей попросил Суллу только об одном – чтобы тот разрешил ему взять с собой зятя, Гая Меммия, в качестве старшего легата. Меммий, на несколько лет старше Помпея, но еще не квестор, служил в легионах Суллы.
– Ты абсолютно прав, Помпей, – сказал с улыбкой Сулла. – Отличный выбор! Пусть это будет семейным предприятием.
Одновременная атака на фортификации Суллы с севера и с юга началась через два дня после ухода Помпея с армией в Путеолы за зерновым флотом. Атака велась на обе стены, но захлебнулась, не причинив осаждаемым вреда. Сулла по-прежнему удерживал Латинскую дорогу, и атакующие с севера и с юга не могли соединиться. На рассвете второго дня дозорные на башнях обеих стен не увидели уже никого. Ночью неприятель собрался и тихо ушел. Весь день поступали сообщения о том, что двадцать тысяч, принадлежавших Цензорину, Каррине и Бруту Дамасиппу, идут по Аппиевой дороге в Кампанию и что самниты двигаются по Латинской дороге в том же направлении.
– Пусть топают, – равнодушно отреагировал Сулла. – В конце концов, я думаю, они вернутся – вместе. И когда они вернутся, они придут по Аппиевой дороге. И там я буду их ждать.
К концу секстилия самниты и остатки армии Карбона соединились во Фрегеллах. Там они сошли с Латинской дороги и зашагали на восток через ущелье Мелфы.
– Их путь – в Эсернию, там они будут обдумывать, что им делать дальше, – сказал Сулла, но не приказал преследовать их. – Достаточно выставить дозорных на Латинской дороге в Ферентине и на Аппиевой дороге в местечке Трестаберны. Мне будет довольно получить от них сигнал, я не собираюсь зря посылать своих разведчиков, чтобы они шныряли вокруг самнитов в Эсернии.
Военные действия внезапно начались в Пренесте, где неугомонный Марий-младший, становившийся все более и более непопулярным, вышел из ворот города и вторгся на ничейную полосу. В самой западной точке хребта он стал строить огромную осадную башню, рассудив, что в этом месте стена Офеллы слабее всего. На полосе не росло ни единого деревца. Только дома и храмы могли дать для строительства лес, гвозди, болты, панели и черепицу.
Самой опасной была работа по устройству ровной дороги, чтобы башню можно было продвинуть от места, где она строилась, до края траншеи Офеллы, ибо работники находились на виду у метких стрелков, стоявших на стенах. Марий-младший отобрал для работы самых молодых и расторопных среди своих помощников и сделал для них временный навес, под которым они могли укрыться. Недалеко от них, на безопасном расстоянии, трудилась другая команда – с мелкими кусками дерева, которые нельзя использовать в строительстве башни. Они сооружали мост из деревянных пластин, чтобы перекинуть его через траншею, когда настанет время перемещать башню к стене Офеллы. Поскольку работа двигалась достаточно быстро, строители вскоре укрылись внутри самой башни, и казалось, что она растет сама по себе, становясь все выше и выше.
Через месяц она была готова. Осажденные завершили и мост, по которому тысяча пар рук будут толкать башню вперед. Но Офелла тоже подготовился, у него имелась для этого масса времени. Мост был перекинут через траншею в самое темное время суток, башня катилась, постанывая на стапеле, смазанном овечьим жиром и маслом. На рассвете башня, которая была на двадцать футов выше стены, достигла нужного места. Внизу, внутри ее, висел на веревках, для прочности обмазанных смолой, мощный таран, сделанный из цельной балки, на которой раньше держалась крыша храма Фортуны Примигении, первородной дочери Юпитера, талисмана удачи всякого италика.
Много лет должно пройти, прежде чем туф затвердеет так, что начнет крошиться. Поэтому таран, громивший стену Офеллы, оказался бесполезен. Упругие блоки туфа дрожали и вибрировали, но выдержали удар. А потом катапульты Офеллы стали метать горящие снаряды, которые подожгли башню. Солдаты отогнали атакующих, бросая со стены пики и стрелы, обмотанные горящей шерстью. К ночи башня превратилась в руины, рассыпанные на дне траншеи. А те, кто пытался прорваться, или погибли, или вернулись в Пренесту.
Несколько раз за октябрь Марий-младший пытался использовать мост через траншею, наполненную обломками своей башни. Он навел крышу на секцию между стеной Офеллы и траншеей, чтобы обезопасить своих людей, и попытался сделать подкоп. Потом он хотел проделать дыру в стене и наконец решил перелезть через стену. Ничто не сработало. Вот-вот должна была наступить зима, похоже такая же суровая. В Пренесте кончалось продовольствие, и город проклинал тот день, когда он открыл ворота сыну Гая Мария.
Самнитская армия не пошла на Эсернию. Девяносто тысяч солдат осели в горах к югу от Фуцинского озера и почти два месяца посвятили учениям. Понтий Телезин и Брут Дамасипп отправились на встречу с Мутилом в Теане и уехали от него с планом взять Рим врасплох – так, чтобы Сулла не знал об этом. Мутил сказал, что Мария-младшего следует предоставить самому себе. Единственный шанс, оставшийся для всех здравомыслящих людей, – захватить Рим, а Суллу и Офеллу вовлечь в длительную осаду, полную ужасных сомнений: поддержат ли самнитов жители Рима?
Между ущельем Мелфы и Валериевой дорогой имелся проход, больше похожий на горную тропу. Тропа эта пересекала горы возле Атины позади ущелья Мелфы – в дикой местности; шла до города Сора, расположенного на изгибе реки Лирис, затем к Требе, к городу Сублаквей и наконец выходила на Валериеву дорогу, почти на милю восточнее местечка Вария, у маленькой деревушки под названием Мандела. Тропа немощеная, за ней даже никто не следил, но она существовала там столетия. По этому пути пастухи каждое лето перегоняли свои стада с пастбища на пастбище. По этой дороге стада вели на продажу или на бойню на Овечье поле и в долину Камен, что примыкали к Авентину.
Если бы Сулла вспомнил то время, когда он шел маршем из Фрегелл к Фуцинскому озеру, чтобы помочь Гаю Марию победить Силона и марсов, он вспомнил бы и эту пастушью тропу, потому что тогда он смог пройти по ней от Соры до Требы. Но в Требе он свернул с тропы и не подумал выяснить, куда она ведет севернее Требы. Так что один шанс, который имелся у Суллы, чтобы перехитрить Мутила, он проглядел. Полагая, что единственная открытая самнитам дорога, если те решат атаковать Рим, была Аппиева, Сулла оставался в своем ущелье на Латинской дороге и следил, уверенный, что врасплох его не застанут.
И пока он выжидал, самниты и их союзники с трудом продвигались по горной тропе, проторенной пастухами и скотом. Их путь пролегал по враждебной Риму территории. Самниты думали, что недосягаемы для самых передовых дозоров Суллы. Позади остались Сора, Треба, Сублаквей, и наконец самниты вышли на Валериеву дорогу у Манделы. Теперь они находились на расстоянии одного дня пути от Рима. Тридцать миль по превосходной дороге. Валериева дорога спускалась вниз, шла через Тибур и долину реки Анио и заканчивалась на Эсквилинском холме ниже двойного крепостного вала в Риме.
Но это было не лучшее место для вторжения в город, поэтому, когда большая армия приблизилась к Риму, Понтий Телезин и Брут Дамасипп прошли по дивертикулу, который привел их на Номентанскую дорогу к воротам Рима возле Квиринальского холма. И там, у этих ворот, их ждал укрепленный лагерь, который построил для себя Помпей Страбон во время осады Рима Цинной и Гаем Марием. К ночи последнего дня октября Понтий Телезин, Брут Дамасипп, Марк Лампоний, Тиберий Гутта, Цензорин и Каррина удобно устроились в этом лагере. Утром они атакуют.
Известие, что армия в девяносто тысяч заняла старый лагерь Помпея Страбона за Квиринальскими воротами, пришло Сулле той же ночью. Он был пьян, но еще не спал. Немедленно затрубили рога, забили барабаны, люди соскакивали с постелей, везде горели факелы. Мгновенно протрезвев, Сулла созвал легатов.
– Они нас опередили, – процедил он сквозь сжатые губы. – Как они это сделали, я не знаю, но самниты сейчас у Квиринальских ворот и готовы атаковать Рим. На рассвете мы выступаем. Нам нужно пройти двадцать миль, часть пути по горам, но мы должны явиться к Квиринальским воротам утром, к сражению. – Сулла повернулся к командующему кавалерией Октавию Бальбу. – Сколько лошадей у тебя возле озера Неми, Бальб?
– Семьсот, – ответил Бальб.
– Тогда выступай сейчас же. Выйди на Аппиеву дорогу и лети как ветер. Ты подойдешь к Квиринальским воротам за несколько часов до того, как я, надеюсь, приведу туда пехоту, поэтому тебе придется удерживать их. Не знаю, что ты предпримешь, как ты это сделаешь! Просто приди туда и удерживай их до моего появления.
Октавий Бальб не тратил времени на разговоры. Он вышел от Суллы, кликнул коня и улетел, прежде чем Сулла заговорил с другими легатами.
Их было четверо – Красс, Ватия, Долабелла и Торкват. Потрясенные, но не потерявшие способность соображать.
– У нас здесь восемь легионов, и их должно быть достаточно, – сказал Сулла. – Это значит, что у противника в два раза больше. Я сейчас набросаю план, потому что, когда придем на место, времени для совещаний не будет.
Он замолчал, испытующе глядя на своих людей. Кто из них лучше? Кто способен повести солдат за собой в предстоящем отчаянном столкновении? По праву это должны быть Ватия и Долабелла, но лучшие ли они? Его взгляд остановился на Марке Лицинии Крассе, огромном как скала, непробиваемом, всегда спокойном. Снедаемый алчностью, вор и мошенник, беспринципный, безнравственный и аморальный. И все же из всех четверых ему было что терять в этой войне. Больше, чем всем остальным. Ватия и Долабелла выживут, у них есть влияние. Торкват хороший человек, но не лидер.
Сулла решился.
– Я пойду двумя отрядами по четыре легиона каждый, – сказал он, хлопнув себя по бедрам. – Верховное командование оставляю за собой, но не буду командовать ни одним отрядом. За неимением лучшего способа различать отряды я назову их «левый» и «правый», и, если по прибытии я не изменю решения, они так и будут сражаться – на левом фланге и на правом. Без центра. У меня недостаточно людей. Ватия, ты командуешь левым отрядом, Долабелла будет твоим помощником. Красс, ты поведешь правый отряд, Торкват – твой помощник.
Говоря это, Сулла посмотрел на Долабеллу и увидел гнев и возмущение. Не было нужды смотреть на Марка Красса. По его лицу ничего не узнаешь.
– Вот чего я хочу, – хрипло сказал он, выплевывая слова, потому что из-за отсутствия зубов не мог четко выговаривать их. – У меня нет времени на пререкания. Вы все связали свою судьбу со мной, вы дали мне право принимать окончательное решение. Теперь вы будете выполнять то, что вам говорят. Я хочу от вас одного: сражайтесь так, как я приказал.
Долабелла стоял у двери, пропуская вперед остальных. Затем он вернулся:
– Одно слово наедине, Луций Корнелий.
– Только быстро.
Долабелла был один из Корнелиев и дальний родственник Суллы, однако он происходил не от славной ветви Корнелиев Сципионов и не от ветви Суллы. Если он и имел что-то общее с большинством из Корнелиев, то простоватую внешность: пухлые щеки, хмурое лицо, близко поставленные глаза. Долабелла и его двоюродный брат, младший Долабелла, – оба амбициозные, с репутацией порочных людей – намеревались прославить свою ветвь рода.
– Я мог бы сломать тебя, Сулла, – сказал Долабелла. – Все, что мне нужно для этого, – сделать для тебя невозможной ту победу в утреннем сражении. Думаю, ты понимаешь, что я могу перейти на другую сторону так быстро, что противник решит, будто я все время был с ним.
– Продолжай! – сказал Сулла самым дружелюбным тоном, когда Долабелла замолчал, чтобы посмотреть, как собеседник воспримет его слова.
– Однако я подчинюсь твоему решению выдвинуть Красса через мою голову. На одном условии.
– Каком?
– В следующем году я буду консулом.
– Согласен! – воскликнул Сулла не раздумывая.
Долабелла остолбенел:
– И ты так спокоен?
– Ничто больше не сможет выбить меня из колеи, мой дорогой Долабелла, – сказал Сулла, провожая своего легата к двери. – В данный момент меня не слишком волнует, кто станет консулом на будущий год. Что сейчас главное, так это кто будет командовать на завтрашнем поле боя. И я вижу, что был прав, когда предпочел Марка Красса. Спокойной ночи!
Семьсот всадников Октавия Бальба прибыли к лагерю Помпея Страбона утром первого дня ноября. И если бы в тот момент возникла опасная для него ситуация, Бальб оказался бы бессилен что-либо предпринять. Его лошади были так измотаны, что стояли понурив головы, бока их вздымались, как мехи, все белые от пота, а с губ срывалась пена. Люди тщетно пытались успокоить животных, тихо разговаривая с ними и ослабив подпруги. По этой причине Бальб не стал подходить к противнику близко: пусть там думают, что его армия готова к бою! Он расставил всадников так, что казалось, будто они намереваются атаковать. Заставил их размахивать копьями и делать вид, что передают распоряжения невидимой пехоте, стоявшей за кавалерией.
Было очевидно, что штурм Рима еще не начался. Величественные Квиринальские ворота стояли закрытые, решетка опущена, двойные дубовые двери затворены. Из-за парапетов двух башен по бокам ворот высовывались головы римлян, а на стенах, тянущихся в обе стороны от ворот, собралось очень много народа. Прибытие Бальба спровоцировало внезапную активность во вражеском лагере. Солдаты стали выходить из юго-восточных ворот и строиться, чтобы отразить нападение кавалерии. Конницы противника не было видно, и Бальб мог лишь надеяться, что ее не прятали.
Каждый всадник на марше нес кожаное ведро, привязанное к заднему левому рогу седла, чтобы поить лошадь. Пока передний ряд делал вид, что готовится к атаке, а пехота стоит за ней, другие всадники бегали с ведрами к источникам, имевшимся поблизости. Как только лошадей напоили, Октавий Бальб был готов выполнить поставленную перед ним задачу.
Спектакль под названием «Сейчас нападем!» оказался настолько успешен, что ничего не происходило до самого прихода Суллы с пехотой четыре часа спустя. Легионеры Суллы были почти в таком же состоянии, как лошади Бальба: измотанные, ноги дрожат от многочасового забега на двадцать миль по неровной местности.
– Ну что ж, вероятно, сегодня мы атаковать не сможем, – сказал Ватия после того, как он и Сулла с другими легатами объехали местность и поняли, какая предстоит битва.
– Почему? – спросил Сулла.
Ватия удивленно посмотрел на него:
– Потому что они слишком устали, чтобы сражаться!
– Пусть устают сколько им угодно, но они будут сражаться, – сказал Сулла.
– Ты не можешь так говорить, Луций Корнелий! Ты проиграешь!
– Я могу так говорить, и я не проиграю, – безжалостно возразил Сулла. – Послушай, Ватия, мы должны сразиться сегодня! Эта война закончится здесь и сейчас. Самниты знают, как тяжело дался нам этот переход, самниты знают, что сегодня их шансы больше, чем в любой другой день. Если мы не навяжем им бой именно сегодня, когда они верят в возможность победить, кто знает, что случится завтра? Что помешает самнитам собраться ночью и исчезнуть, чтобы выбрать другое место встречи? Исчезнуть, может быть, на месяцы? До весны или даже до следующего лета, следующей осени? Нет, Ватия, мы будем драться сегодня. Потому что именно сегодня самниты мечтают увидеть нас мертвыми на поле у Квиринальских ворот.
Пока его солдаты отдыхали, ели, пили, Сулла ходил среди них, чтобы поговорить с каждым лично вместо обычной речи с ростры. Сулла хотел убедить их найти в себе силы, чтобы драться. Если они будут ждать, пока достаточно отдохнут, война затянется бесконечно. Большинство из них находились с ним уже несколько лет и, можно с уверенностью сказать, любили его. И даже легионы, раньше принадлежавшие Сципиону Азиагену, достаточно почувствовали на себе руку Суллы, чтобы считаться его людьми. Конечно, Луций Корнелий Сулла уже не выглядел тем прекрасным, богоподобным существом, которому они предложили венец из трав у города Нола несколько кампаний назад, но он все же был их человек. И разве сами они тоже не поседели с тех пор, не покрылись морщинами, не стали скрипеть костями? Поэтому, когда Сулла ходил среди них и просил их сразиться, они просто поднимали руки и отвечали: пусть он не беспокоится, они расправятся с самнитами.
Сражение началось за два часа до наступления темноты. Три легиона, которые принадлежали Сципиону Азиагену, составляли основную часть левого отряда Суллы, и хотя он не командовал левым крылом, но все-таки решил во время боя находиться в его расположении. Вместо своего обычного мула он взял себе белого коня и сказал об этом своим людям. Так они будут знать, где он находится, увидят его, если он появится среди них во время боя. Выбрав холм, с которого хорошо просматривалось все поле, Сулла сидел на белом коне и наблюдал за тем, как развиваются события. Он заметил, что жители Рима подняли решетку Квиринальских ворот, хотя никто не вышел, чтобы принять участие в сражении.
Вражеский отряд напротив его левого фланга был более грозным, потому что целиком состоял из самнитов и командовал им Понтий Телезин. Однако он был меньше численностью. «Что-то вроде компенсации», – подумал Сулла, тронув ногой конюха – сигнал для того вести его коня под уздцы. Сулла не был хорошим наездником и не доверял этой белой силе природы, предпочитая, чтобы коня вели. Да, левый фланг отступал, и полководец должен направиться туда. Находясь в низине, Ватия, вероятно, не видел, что одна из его главных проблем – это открытые ворота в город. Когда самниты наседали, рубя своими короткими мечами, часть людей Ватии проскальзывала в ворота, вместо того чтобы противостоять врагу.
Но прежде чем ринуться в гущу боя, он услышал громкий шлепок конюха по крупу лошади – та бросилась галопом. Сулла сообразил наклониться вперед, обеими руками схватился за гриву. Оглянувшись, он понял причину такого поступка: два копьеносца-самнита метнули в него копья одновременно, и Сулла рухнул бы с коня. То, что этого не случилось, было заслугой конюха, который заставил коня рвануться с места. Затем конюх догнал его и повис на хвосте животного. Сулла остановился, невредимый и все еще в седле.
Улыбка благодарности – и Сулла поскакал на поле сражения с мечом в руке и небольшим щитом, чтобы защитить левый бок. Он увидел нескольких знакомых ему людей и приказал им опустить решетку в воротах, что они и сделали, как он с изумлением заметил, не обратив даже внимания на тех, кто оказался в воротах в момент падения решетки. Не имея теперь возможности отступить, легионы Сципиона сдерживали натиск, пока легион ветеранов не начал медленно и упорно отбрасывать неприятеля.
Как обстояли дела у Красса и правого крыла, Сулла не имел понятия. Они были слишком далеко от него. Даже с холма он не мог ничего увидеть, но знал: если кто и сумеет справиться, то только Красс и четыре легиона ветеранов под его командованием. И еще он знал, что с самого начала левый фланг был его слабым местом.
Настала ночь, но битва продолжалась при свете тысяч факелов, зажженных на стенах Рима. И словно второе дыхание, к левому флангу Суллы вернулось мужество. Сам он все еще находился здесь, подбадривая испуганных людей Сципиона и участвуя в схватке, потому что его конюх, замечательный парень, никогда не позволял лошади быть помехой.
Вероятно, часа два спустя самниты, дравшиеся с левым флангом Суллы, дрогнули и отступили в лагерь Помпея Страбона. Они были слишком измотаны, поэтому Сулла беспрепятственно вошел в лагерь следом за ними. Охрипшие от крика Сулла, Ватия и Долабелла быстро закончили дело. Их солдаты изрубили на куски самнитов, укрывшихся за укреплениями. Понтий Телезин пал с разрубленным пополам лицом, и его люди запаниковали.
– Никаких пленных, – велел Сулла. – Убейте всех стрелами, если они захотят сдаться.
На этой стадии жестокого сражения было бы трудно убедить солдат пощадить врагов, поэтому все самниты погибли.
Только после разгрома Сулла, теперь верхом на надежном муле, нашел время поинтересоваться судьбой Красса. Правого фланга не было видно. Не видно было и неприятеля. Красс и его противники исчезли.
Около полуночи явился гонец. Сулла бродил по старому лагерю Помпея Страбона, удостоверяясь в том, что лежащие повсюду неподвижные воины действительно мертвы. Он остановился, увидев нового человека.
– Тебя послал Марк Красс? – спросил Сулла гонца.
– Да, – ответил гонец.
– Где же Марк Красс?
– В Антемнах.
– В Антемнах?
– Враг дрогнул и отступил туда еще до наступления ночи. В Антемнах произошло еще одно сражение. Мы победили! Марк Красс послал меня спросить еды и вина для его людей.
Широко улыбнувшись, Сулла крикнул, чтобы отыскали все требуемое, а потом, верхом на своем муле, сопроводил караван вьючных животных по Соляной дороге до Антемн, в нескольких милях от места боя. Там Сулла и Ватия увидели город, невольно ставший ареной сражения и в результате разрушенный. Дома горели ярким пламенем, жители старались не дать пожару распространиться. И повсюду лежали мертвые тела, затоптанные охваченными паникой горожанами, старавшимися спасти свои жизни и имущество.
Красс ждал в дальнем конце Антемн, где он собрал уцелевших противников.
– Около шести тысяч, – сказал он Сулле. – Ватия взял самнитов, мне достались луканы, капуанцы и остатки людей Карбона. Тиберий Гутта убит, Марк Лампоний, я думаю, сбежал, у меня среди пленных Брут Дамасипп, Каррина и Цензорин.
– Хорошо поработали! – Сулла широко улыбнулся, демонстрируя десны. – Долабелле это не понравится, а я вынужден был обещать ему консульство на следующий год, чтобы он согласился оставаться на моей стороне. Но я знал, что выбрал правильного человека, назначив тебя, Марк Красс!
Ватия рывком повернул голову и посмотрел на Суллу, изумленный:
– Что? Долабелла потребовал такого? Cunnus! Mentula! Verpa! Fellator!
– Не обращай внимания, Ватия, ты тоже будешь консулом, – успокоил его Сулла, не переставая улыбаться. – Долабелле ничего это не даст. Он превысит полномочия, когда поедет управлять провинцией, и проведет остаток своих дней в ссылке в Массилии вместе с прочими дураками, злоупотребляющими положением. – Он махнул рукой в сторону вьючных животных. – Где ты хочешь перекусить, Марк Красс?
– Если я смогу найти другое место для пленных, то, думаю, здесь, – отозвался флегматичный Красс, по лицу которого совершенно не видно было, что он только что одержал важную победу.
– Я привел с собой кавалерию Бальба, чтобы сопровождать пленных на Виллу Публика, – сказал Сулла. – К тому времени, как они отправятся, уже рассветет.
Пока Октавий Бальб объезжал пленников Антемн, Сулла вызвал к себе Цензорина, Каррину и Брута Дамасиппа. Хотя они и потерпели поражение, побитыми они не выглядели.
– Ага! Думаю, собираетесь сразиться со мной еще когда-нибудь? – спросил Сулла, опять улыбаясь, но уже грустно. – Ну, мои римские друзья, не будет этого. Понтий Телезин мертв, а остальных самнитов я приказал убить стрелами. Поскольку вы связались с самнитами и луканами, я не считаю вас римлянами. Поэтому вас не будут судить за предательство. Вас казнят. Сейчас.
Таким образом, трое самых непримиримых врагов в этой войне были без суда обезглавлены прямо на поле под Антемнами. Тела их были брошены в огромную общую могилу, вырытую для всех мертвых врагов. Но головы Сулла положил в мешок.
– Катилина, друг мой, – обратился Сулла к Луцию Сергию Катилине, который приехал вместе с ним и Ватией, – возьми их, найди голову Тиберия Гутты, присовокупи голову Понтия Телезина, когда вернешься к Квиринальским воротам, а потом поезжай с ними к Офелле. Скажи ему, чтобы он зарядил этими головами свои орудия и по одной выстрелил по Пренесте.
Мрачное красивое лицо Катилины прояснилось, он оживился:
– С радостью, Луций Корнелий. Могу я попросить оказать мне одну услугу?
– Проси, но не обещаю.
– Позволь мне войти в Рим и найти Марка Мария Гратидиана! Я хочу его голову. Если Марий-младший ее увидит, он будет знать, что Рим – твой и его карьера закончилась.
Сулла медленно покачал головой, но это был не отказ.
– Ох, Катилина, ты – одно из моих самых драгоценных приобретений! Как же я тебя люблю! Ведь Гратидиан – твой шурин.
– Был моим шурином, – тихо сказал Катилина и добавил: – Моя жена умерла незадолго до того, как я присоединился к тебе.
Он не сказал, что Гратидиан подозревал его в убийстве: Катилина избавился от жены, чтобы заключить более выгодный брак.
– Ну что ж, Гратидиан все равно когда-нибудь умрет, – сказал Сулла и отвернулся, пожав плечами. – Добавь его голову к твоей коллекции, если думаешь, что это произведет впечатление на Мария-младшего.
Методично завершив все свои дела, Сулла, Ватия и сопровождающие их легаты устроили веселую пирушку с Крассом, Торкватом и людьми правого фланга, пока Антемны горели, а Луций Сергий Катилина с радостью вернулся в Рим осуществить свое страшное намерение.
После пирушки бессонный Сулла отправился в сторону Рима, но в город не вошел. Его гонец, посланный заранее, созвал сенат в храме Беллоны на Марсовом поле. По дороге Сулла остановился, чтобы удостовериться в том, что шесть тысяч пленных собраны рядом с храмом, и отдал необходимые распоряжения. После этого он слез с мула на довольно запущенном пустыре, который издавна называли Вражеской землей.
Конечно, когда звал Сулла, никто не посмел не явиться, поэтому в храме уже ждали около сотни человек. Они все стояли. Было бы неправильным ждать Суллу, сидя на складных стульях. Несколько человек держались спокойно, невозмутимо – Катул, Гортензий, Лепид. Некоторые были напуганы – Флакк, Фимбрия, младший Карбон. Но большинство были похожи на овец, бездумных и готовых идти за кем угодно.
В доспехах, без шлема, Сулла прошел сквозь их ряды, словно этих людей не существовало, и поднялся на подиум статуи Беллоны, которая появилась здесь только после того, как вошло в моду наделять человеческими чертами даже древних, безличных римских богов. Поскольку статуя богини войны тоже была облачена в доспехи, они выглядели под стать друг другу – вплоть до гневного взгляда на слишком уж греческом лице. Но она была наделена своеобразной красотой, в то время как о Сулле сказать такого было нельзя. Большинство присутствующих были потрясены его видом, хотя никто не посмел даже шевельнуться. Парик оранжевых кудрей слегка сбился на сторону, алая туника вся в грязи, пятна на лице алели среди остатков белой, как у альбиноса, кожи, словно озера крови на снегу. Многие из собравшихся были опечалены, но по разным причинам: кто – поскольку знал его хорошо и любил, а кто – поскольку надеялся, что властелин Рима будет хотя бы выглядеть подобающе. А этот человек являл скорее пародию на величие.
Когда Сулла заговорил, шлепая губами, его речь трудно было разобрать. Однако инстинкт самосохранения заставил их внимать каждому произнесенному слову.
– Я вижу, что вернулся как раз вовремя, – сказал он. – Вражеская земля заросла сорняками. Все надо убрать и заново покрасить. Дороги разбиты. Прачки на территории Виллы Публика на Марсовом поле развешивают белье. Славно вы потрудились на благо Рима! Дураки! Подлецы! Ослы!
Его обращение, вероятно, продолжалось бы в том же духе – едкое, саркастичное, злое. Но после того как он выкрикнул «Ослы!», слова его потонули в страшной какофонии, донесшейся со стороны Виллы Публика, – крики, вой, визг. Сначала все делали вид, что внимают речи победителя, но потом шум стал слишком тревожным, слишком жутким. Сенаторы задвигались, раздалось бормотание, все принялись беспокойно переглядываться.
Все стихло так же внезапно, как и началось.
– Что, овечки, испугались? – съязвил Сулла. – Ведь нет причины бояться! Просто мои люди наказали пару преступников.
После этого он спустился со своего места между ступнями Беллоны и вышел вон, казалось ни на кого не глядя.
– Боги! Он действительно в плохом настроении! – сказал Катул своему зятю Гортензию.
– Похоже на то, и я не удивляюсь, – ответил Гортензий.
– Он вытащил нас сюда только для того, чтобы мы послушали это, – заметил Лепид. – И кого же он наказывал, ты знаешь?
– Своих пленных, – объяснил Катул.
Так оно и было. Пока Сулла обращался к сенату, его люди казнили мечами и стрелами шесть тысяч пленных на Марсовом поле.
– Я буду вести себя очень хорошо при любых обстоятельствах, – признался Катул Гортензию.
– И почему же? – полюбопытствовал Гортензий, намного более заносчивый и уверенный в себе.
– Потому что Лепид был прав. Сулла позвал нас сюда только для того, чтобы мы послушали крики умирающих людей, которые посмели противостоять Сулле. То, что он говорит, не имеет никакого значения. Но вот что он делает, имеет огромное значение – для каждого из нас, кто хочет жить. Мы должны быть очень осмотрительны и не раздражать его.
Гортензий пожал плечами:
– Полагаю, ты слишком уж остро реагируешь, дорогой мой Квинт Лутаций. Через несколько недель все сойдет на нет. Он заставит сенат и собрания легализовать его подвиги и вернуть ему полномочия, потом засядет в сенате среди консулов в переднем ряду, и Рим заживет своей обычной жизнью.
– Ты действительно так считаешь? – Катул поежился. – Как он это сделает, понятия не имею, но я считаю, что мы будем жить под неусыпным пристальным взглядом Суллы, который надолго займет высшую ступень власти.
Сулла прибыл в Пренесту на следующий день, в третий день ноября. Офелла радостно приветствовал его, жестом показав на двух печальных солдат, стоявших под стражей неподалеку.
– Знаешь их? – спросил он.
– Возможно, но не припомню имен.
– Два младших трибуна из легионов Сципиона. Они примчались, как пара греческих мошенников, утром после сражения у Квиринальских ворот и пытались убедить меня, что сражение проиграно и ты убит.
– Неужто, Офелла? Ты ведь не поверил?
Офелла весело рассмеялся:
– Я хорошо знаю тебя, Луций Корнелий! Кучка самнитов с тобой бы не справилась.
И жестом фокусника, вынимающего кролика из горшка, Офелла вытащил откуда-то из-за спины голову Мария-младшего.
– А-а! – воскликнул Сулла, рассматривая голову. – Симпатичный был мальчик, правда? Лицом похож на мать, конечно. Не знаю, в кого он пошел умом, но уж определенно не в отца. – Удовлетворенный, он отбросил голову. – Сохрани ее некоторое время. Значит, Пренеста сдалась?
– Почти сразу же. Как только я выстрелил головами, которые принес мне Катилина. Ворота распахнулись, и они хлынули из города, размахивая белыми флагами и колотя себя в грудь.
– И Марий-младший с ними? – удивился Сулла.
– О нет! Он кинулся к сточным канавам, пытаясь сбежать. Но я еще за несколько месяцев до этого приказал перегородить все стоки. Мы нашли его около одной из таких перегородок с мечом в животе. Его слуга-грек плакал рядом, – рассказал Офелла.
– Ну что ж, он – последний, – удовлетворенно молвил Сулла.
Офелла пристально посмотрел на него. Непохоже было, чтобы Луций Корнелий что-то забывал.
– Один еще на свободе, – быстро заметил Офелла и тотчас прикусил себе язык: этому человеку не стоило указывать на недосмотры!
Но Сулла остался спокоен. Он только широко улыбнулся:
– Ты имеешь в виду Карбона?
– Да, Карбона.
– Карбон тоже мертв, дорогой мой Офелла. Молодой Помпей захватил его в плен и казнил за измену на рыночной площади в Лилибее в конце сентября. Замечательный парень этот Помпей! Я-то думал, что у него займет несколько месяцев организовать дела на Сицилии и покончить с Карбоном. Но он все провернул за месяц. И еще нашел время, чтобы отослать мне голову Карбона со специальным гонцом! В горшке с уксусом! Это точно голова Карбона, – хихикнул Сулла.
– А старый Брут?
– Предпочел покончить с собой, лишь бы не выдать Помпею, куда ушел Карбон. Но это не имело значения. Команда его корабля – старик пытался поднять флот на защиту Карбона – поведала Помпею, конечно, все. И мой замечательно расторопный молодой легат послал своего зятя на остров Коссира, куда сбежал Карбон, и привез его в цепях в Лилибей. Но от Помпея я получил три головы, а не две. Карбона, старого Брута и Сорана.
– Сорана? Ты имеешь в виду Квинта Валерия Сорана, ученого, который был народным трибуном?
– Именно его.
– Но почему? Он-то в чем провинился? – в изумлении спросил Офелла.
– Он громко выкрикнул тайное имя Рима с ростры, – сказал Сулла.
Офелла открыл рот и задрожал:
– Юпитер!
– К счастью, – солгал спокойно Сулла, – Великий Бог заткнул уши присутствовавшим на Форуме, и вышло так, что Соран кричал глухим. Все хорошо, мой дорогой Офелла. Рим выстоит.
– О, какое облегчение! – воскликнул Офелла, вытирая пот со лба. – Я слышал о всяких странных поступках, но произнести вслух тайное имя Рима – это уму непостижимо! – Он еще о чем-то подумал и не мог не спросить: – А что Помпей делал на Сицилии, Луций Корнелий?
– Обеспечивал для меня доставку зерна.
– Я что-то слышал об этом, но, признаюсь, не верил. Он же ребенок.
– Ммм… – задумчиво протянул Сулла. – Однако то, чего Марий-младший не унаследовал от своего отца, молодой Помпей определенно и в полной мере взял от Помпея Страбона! И еще многое, кроме этого.
– Значит, ребенок скоро вернется домой, – сказал Офелла, будучи не в восторге от этой новой звезды в созвездии Суллы. Он-то думал, что на этом небосводе у него нет соперника!
– Нет еще, – ответил Сулла не моргнув глазом. – Я послал его в Африку – удержать для меня эту провинцию. Думаю, что в данный момент именно это он и делает. – Он показал на ничейную землю, где большая толпа людей униженно ежилась под негреющим солнцем. – Это те, кто сдался с оружием?
– Да. Двенадцать тысяч. Смешанный состав, – сказал Офелла, радуясь смене темы. – Римляне, служившие под командованием Мария-младшего, очень много пренестинцев, самниты. Хочешь посмотреть на них ближе?
Сулла хотел. Но недолго. Он помиловал римлян, потом приказал казнить на месте пренестинцев и самнитов. После чего заставил прочих граждан Пренесты – стариков, женщин, детей – закопать тела на ничейной земле. Он объехал город, в котором раньше никогда не бывал, и очень прогневался, когда увидел то, во что превратил храм Фортуны Примигении Марий-младший, вздумавший строить свою башню.
– Я – любимец Фортуны, – объявил Сулла тем членам городского совета, которые не погибли на ничейной земле, – и лично прослежу за тем, чтобы внутренняя территория храма вашей Фортуны Примигении стала самой красивой во всей Италии. Но за счет Пренесты.
На четвертый день ноября Сулла поехал в Норбу, хотя он уже знал судьбу этого города.
– Они согласились сдаться, – сказал Мамерк, сжав губы от гнева, – а потом подожгли город, прежде убив всех до последнего. Кого убили воины, кто покончил с собой. Женщины, дети, солдаты Агенобарба, все мужчины-горожане предпочли умереть, но не сдаться. Прости, Луций Корнелий. От Норбы не будет ни добычи, ни пленных.
– Ничего, – равнодушно произнес Сулла. – Пренеста принесла достаточно трофеев. Сомневаюсь, чтобы Норба могла дать что-нибудь стоящее и полезное.
И в пятый день ноября, когда взошедшее солнце отразилось от позолоченных статуй на крышах храмов и этот праздничный свет скрасил обшарпанность городских улиц, Луций Корнелий Сулла торжественно въехал в Рим через Капенские ворота. Его конюх вел под уздцы белого коня, который пронес Суллу невредимым сквозь сражение у Квиринальских ворот. Сулла облачился в свои лучшие доспехи. На его серебряной кирасе был изображен момент, когда армия преподносит ему венец из трав у стен Нолы. В паре с Суллой, одетый в тогу с пурпурной полосой, ехал Луций Валерий Флакк, принцепс сената. Позади него парами следовали его легаты, среди них – Метелл Пий и Варрон Лукулл, который был вызван из Италийской Галлии за четыре дня до этого и очень спешил, чтобы успеть к столь важному событию. Из всех, кто впоследствии будет что-либо значить, отсутствовали только Помпей и сабин Варрон.
Единственным военным эскортом Суллы были семьсот кавалеристов, которые спасли его, обманув самнитов ложными маневрами. Армия вернулась в ущелье, чтобы демонтировать укрепления и восстановить движение по Латинской дороге. После этого предстояло еще разобрать стену Офеллы и разнести на поля большое количество камней. Немало блоков туфа раскололось при разборке, но Сулла знал, что ему делать. Весь материал сгодится для кладки стен opus incertum нового храма Фортуны Примигении в Пренесте. От военных действий не должно остаться и следа.
Народ выглядывал из дверей, чтобы посмотреть, как Луций Корнелий Сулла входит в город. Хотя это могло оказаться опасным, ни один римлянин не мог устоять перед зрелищем, которое принадлежало истории. Многие из тех, кто видел процессию Суллы, искренне верили, что являются свидетелями агонии Республики. Ходил упорный слух, что Сулла намерен провозгласить себя царем Рима. Как еще мог он удержать власть? Разве рискнет он уступить власть после того, что сделал? И скоро заметили специальный эскадрон кавалерии, что ехал за последней парой легатов, держа копья вертикально вверх. На эти копья были насажены головы Карбона и Мария-младшего, Каррины и Цензорина, старого Брута и Мария Гратидиана, Брута Дамасиппа и Понтия Телезина, Гутты из Капуи и Сорана, а также Гая Папия Мутила из Самния.
Мутил узнал о сражении у Квиринальских ворот на следующий же день и так громко рыдал, что Бастия вошла посмотреть, что случилось.
– Пропало, все пропало! – кричал он ей, забыв о том, как она оскорбляла и мучила его, и видя в ней единственную оставшуюся у него родную душу, женщину, с которой он был связан многолетними семейными узами. – У меня больше нет армии! Сулла победил! Сулла будет царем Рима, и Самний перестанет существовать!
Бастия смотрела на поверженного человека, лежавшего на своем ложе. Недолго. Не дольше, чем потребовалось на то, чтобы зажечь все свечи в канделябре. Она не сдвинулась с места, чтобы утешить его, не сказала ни одного доброго слова, а только стояла тихо, не сводя с него взгляда. А потом в ее глазах блеснула решимость, живое лицо стало холодным, каменным. Она хлопнула в ладоши.
– Да, domina? – спросил управляющий с порога, в испуге глядя на своего рыдающего хозяина.
– Найди его германца и приготовь носилки, – приказала Бастия.
– Domina? – переспросил управляющий изумленно.
– Не стой здесь, делай, что говорю! Немедленно!
Управляющий сглотнул и тут же исчез.
Слезы высохли. Мутил в недоумении посмотрел на жену:
– Что это значит?
– Я хочу, чтобы ты уехал отсюда, – ответила она сквозь стиснутые зубы. – Я не желаю быть причастной к этому поражению. Мне нужно сохранить мой дом, мои деньги, мою жизнь! Поэтому уезжай, Гай Папий! Возвращайся в Эcернию, или в Бовиан, или куда-нибудь еще, где у тебя есть дом! Будь где угодно, но только не здесь! Я не собираюсь тонуть с тобой.
– Не верю! – ахнул он.
– Тебе лучше поверить! Убирайся!
– Но я парализован, Бастия! Я твой муж, и я парализован! Неужели в тебе нет хотя бы жалости, если не любви?
– Ни любви, ни жалости к тебе у меня нет, – сурово сказала она. – Это все твои дурацкие, напрасные планы. Борьба с Римом забрала силу у твоих ног, сделала тебя бесполезным для меня, отняла детей, которые у меня могли родиться, погубила наше счастье. Почти семь лет я жила здесь одна, пока ты плел свои интриги в Эсернии. И когда ты снизошел до посещения моего дома, от тебя воняло дерьмом и мочой. И ты помыкал мной… О нет, Гай Папий Мутил, я сыта тобой по горло! Убирайся!
И так как ум еще не мог охватить всю глубину постигшего его краха, Мутил даже не протестовал, когда слуга-германец поднял его с постели и вынес через входную дверь туда, где у лестницы стояли его носилки. Бастия шла следом как воплощение Горгоны, прекрасной и свирепой, с глазами, превращающими человека в камень, и змеями вместо волос. Она так быстро захлопнула дверь, что зажала край плаща германца, и тот резко остановился. Держа своего хозяина на одной руке, другой он принялся дергать плащ, чтобы высвободиться.
На поясе Гай Папий Мутил носил военный кинжал, немое напоминание о днях, когда он был воином. Он схватил кинжал, прижал затылок к двери и быстро перерезал себе горло. Кровь брызнула во все стороны, запачкала дверь, полилась по ступеням, запятнала вопящего германца, чьи крики созвали людей. По узкой улице к ним неслись со всех сторон. Последнее, что увидел Гай Папий Мутил, была его жена-Горгона. Бастия открыла дверь – и кровь брызнула на нее.
– Будь ты проклята, женщина! – пытался он крикнуть.
Но она не услышала. Она даже не испугалась, не удивилась. Вместо этого она широко открыла дверь и дала звонкую пощечину плачущему германцу.
– Вноси его!
Внутри, когда тело ее мужа положили на пол, она распорядилась:
– Отрежь его голову. Я пошлю ее Сулле в подарок.
И Бастия сдержала слово. Она послала голову мужа Сулле с поздравлениями. Но рассказ, услышанный Суллой от несчастного управляющего, которому хозяйка приказала доставить свой дар, был не в пользу Бастии. Сулла передал голову своего старинного врага одному из военных трибунов и прибавил равнодушно:
– Убей ту женщину, которая прислала мне это. Я хочу, чтобы она умерла.
Итак, счеты были сведены. За исключением Марка Лампония из Лукании, все остальные сильные враги, которые противились возвращению Суллы в Италию, были мертвы. Если бы Сулла захотел, он действительно мог бы провозгласить себя царем Рима, и никто не посмел бы оспаривать это.
Но Сулла нашел решение, более подходящее человеку, который твердо верил во все традиции республиканского mos maiorum. И поэтому он ехал по Большому цирку, совершенно не думая о такой возможности.
Он стар и болен и все свои пятьдесят восемь лет вынужден был бороться с бессмысленными обстоятельствами и событиями, которые следовали друг за другом, лишая его справедливого вознаграждения, законного места, которое он должен был занять по праву рождения и способностей. Ему не предлагали выбора, не давали никакой возможности подняться по cursus honorum законным путем, с честью. На каждом повороте дороги кто-то или что-то преграждало путь и делало невозможным следовать прямо. И вот он едет по пустому Большому цирку, пятидесятивосьмилетняя развалина, терзаемая двойственным чувством – торжества и утраты. Властелин Рима. Первый Человек в Риме. Наконец он оправдан и реабилитирован. И все же разочарование – старость, уродство, скорое приближение смерти – отравляло его радость, разрушало удовольствие, причиняло острую боль. Как поздно пришла эта горькая победа, как изувечена она…
Сулла не думал о Риме, который находился сейчас у него в руках, с любовью или с идеализмом. Цена заплачена слишком высокая. Его не прельщала работа, которой, как он знал, ему придется заняться. Больше всего он нуждался в мире и покое, в исполнении тысячи сексуальных фантазий, в головокружительных пьяных кутежах, в полной свободе от забот и ответственности. Так почему же он должен лишать себя всего этого? Из-за Рима, из-за долга. Невыносима сама мысль о том, что он отступится, когда так много еще не сделано. Единственная причина, по которой он ехал по пустому Большому цирку, заключалась в том, что он знал: предстоит море работы. И он должен осушить это море. Ведь никто больше не мог этого сделать.
Он решил собрать сенат и народ на Нижнем форуме и обратиться к ним с ростры. Всей правды он, конечно, не скажет, – кажется, Скавр называл его равнодушным к политике? Сулла не помнил. Нет, в нем слишком много от политика, чтобы быть совершенно правдивым. Поэтому Сулла умно проигнорировал тот факт, что это он прикрепил первую голову к ростре – голову Сульпиция, чтобы напугать Цинну.
– Эта отвратительная практика, которая появилась совсем недавно! Рим еще не знал ее в те дни, когда я был претором по гражданским делам. – И Сулла повернулся, показав на ряд насаженных голов. – Но она не прекратится, если должные традиции mos maiorum не будут полностью восстановлены и старая любимая Республика вновь не поднимется из руин, в которые ее превратили. Я слышал, как говорили, будто я намерен провозгласить себя царем Рима. Нет, квириты, не намерен! Чтобы обречь себя на всю оставшуюся жизнь на интриги и заговоры, мятежи и ответные удары? Нет! Этому не бывать! Я долго и много трудился на службе у Рима и заработал награду. Я желаю провести последние дни свободным от забот, свободным от ответственности – свободным от Рима! Так что одно я вам могу обещать, и сенату, и народу: я не буду царем Рима. Меня не радует ни единая лишняя минута, проведенная у власти – у власти, которую я вынужден не выпускать из рук до тех пор, пока моя работа не будет завершена.
Вероятно, никто в действительности не ожидал этого, даже те, кто был так близок Сулле, как Ватия и Метелл Пий. Но когда Сулла продолжил, некоторые начали понимать, что Сулла поделился секретами с другим человеком, принцепсом сената Луцием Валерием Флакком, который стоял на ростре рядом с ним и не выглядел удивленным.
– Консулы мертвы, – продолжал Сулла, рукой показывая на головы Карбона и Мария-младшего, – и фасции должны вернуться к Отцам, их надо положить на место в храме Венеры Либитины, пока не будут избраны новые консулы. Рим должен иметь интеррекса. На это существует специальный закон. Наш принцепс сената Луций Валерий Флакк – старший патриций сената, своей декурии, своего рода. – Сулла повернулся к Флакку, принцепсу сената. – Ты будешь интеррексом. Пожалуйста, прими эту должность со всеми ее обязанностями на пять дней.
– Пока все хорошо, – прошептал Гортензий Катулу. – Он сделал именно то, что должен был сделать, – назначил интеррекса.
– Помолчи! – буркнул Катул, которому трудно было разбирать невнятную речь Суллы.
– Прежде чем наш принцепс возьмет в свои руки ведение этого собрания, – медленно и тщательно подбирая выражения, проговорил Сулла, – несколько слов еще хотел бы сказать я. Я приложу все силы к тому, чтобы Рим оставался в безопасности, чтобы никто не пострадал. Закон будет для всех. Республика вернет себе славу. Но это все должно явиться результатом решений нашего интеррекса, поэтому я не стану развивать эту тему. А вот о чем я действительно хочу сказать, так это о том, что рядом со мною служили замечательные люди и настало время поблагодарить их. Я начну с тех, кого сегодня здесь нет. Гней Помпей, который обеспечил урожай зерна с Сицилии и тем самым гарантировал, что Рим не будет голодать этой зимой. Луций Марк Филипп, который в прошлом году обеспечивал урожай с Сардинии, а в этом году вынужден был сражаться с человеком, которого послали против него, Квинтом Антонием Бальбом. Он принял вызов Антония – и тот мертв. Сардиния в безопасности. В Азии я оставил троих великолепных воинов, чтобы они позаботились о самой богатой, самой драгоценной провинции Рима, – Луция Лициния Мурену, Луция Лициния Лукулла и Гая Скрибония Куриона. А здесь со мной стоят мои самые преданные сторонники, не покинувшие меня в трудные дни, в дни отчаяния: Квинт Цецилий Метелл Пий и его легат Марк Теренций Варрон, Публий Сервилий Ватия, старший Гней Корнелий Долабелла, Марк Лициний Красс…
– О боги, списку нет конца! – проворчал Гортензий, который любил слушать только себя и особенно ненавидел слушать тех, чьи ораторские способности были столь ужасны, как у Суллы.
– Он закончил, он закончил! – нетерпеливо прервал его Катул. – Пошли, Квинт, он зовет сенат в курию. Больше сладких песен на Форуме не будет. Пошли быстрее!
Курульное кресло занял Луций Валерий Флакк, принцепс сената, в окружении поредевшего состава магистратов, которые еще остались в Риме и не погибли. Сулла уселся справа от курульного возвышения, вероятно там, где и намеревался сидеть впредь, – в переднем ряду консулов, бывших цензоров, пропреторов. Однако он не снял доспехов, а этот факт говорил сенаторам о том, что Сулла ни в коем случае не отказался от полного контроля над происходящим.
– В ноябрьские календы, – начал Флакк своим хриплым голосом, – мы чуть не потеряли Рим. Если бы не мужество и стремительность Луция Корнелия Суллы, его легатов и его армии, Рим находился бы сегодня во власти Самния, а мы проходили бы под ярмом, как делали после проигранной битвы у Кавдинского ущелья. Но не буду больше об этом! Самний повержен, Луций Корнелий победил, и Рим в безопасности.
– Продолжай же! – прошептал Гортензий. – Боги, он с каждым днем все больше дряхлеет.
И Флакк продолжал, ерзая на стуле, потому что чувствовал себя не в своей тарелке.
– Однако и по окончании войны Рим стоит перед лицом многих трудностей. Казна пуста. Храмы ограблены. Улицы словно вымерли. В сенате не хватает людей. Консулы мертвы, и только один претор остался из шести, избранных в начале этого года. – Он помолчал, глубоко вздохнул и, собравшись с духом, произнес то, что велел ему сказать Сулла: – На самом деле, отцы, внесенные в списки, Рим уже переступил ту черту, за которой возможно обычное управление. Римом должна править твердая рука. Единственная, способная поставить Рим на ноги. Мой срок интеррекса – пять дней. Я не имею права проводить выборы. За мной последует второй интеррекс, тоже только на пять дней. Предполагается, что он проведет выборы. Возможно, и он не сумеет этого сделать. В этом случае попытку предпримет третий. И так далее и так далее. Но этого, назначенного наспех управления недостаточно. Время не терпит. Я вижу лишь одного человека, способного принять необходимые меры. Но он не сможет сделать всего, будучи только консулом. Поэтому предлагаю другое решение. Я попрошу народное собрание принять его в своих центуриях, самом авторитетном избирательном органе. Я попрошу народ Рима подготовить и провести lex rogata, согласно которому Луций Корнелий Сулла будет назначен диктатором Рима.
Сенаторы зашевелились, переглядываясь в недоумении.
– Должность диктатора – древняя, – продолжал Флакк, – и обычно диктатор назначался на период ведения войны. В прошлом диктатор принимал командование, когда консулы не справлялись. Более ста лет прошло со времени последнего диктатора. Но сегодня Рим в отчаянном положении. Война закончена, а трудности остались. Я говорю вам, отцы, внесенные в списки, что избранные консулы не смогут поставить Рим на ноги. Лекарства, потребные для исцеления нашей хворобы, не будут сладкими. Да, они вызовут возмущение. В конце срока полномочий от консула могут потребовать отчитаться в своих действиях перед трибутными комициями или Плебейским собранием. Его могут обвинить в измене. Если все обернется против него, его могут выслать, а имущество конфисковать. Заранее зная о своей уязвимости и о возможности подобных обвинений, ни один человек не посмеет проявить всю силу и решимость, в которых Рим нуждается в данный момент. Но диктатор не страшится никакого собрания. Суть его должности гарантирует диктатору защиту от любых грядущих репрессий. Действия диктатора санкционированы на все время. Его нельзя судить ни по какому обвинению. Зная, что обладает неприкосновенностью, что на его решения не распространяется вето плебейских трибунов, что он не может быть осужден ни одним собранием, диктатор в состоянии использовать всю свою силу и решимость, чтобы навести порядок. Только диктатор сумеет поставить на ноги наш любимый Рим.
– Звучит замечательно, принцепс сената! – громко выкрикнул Гортензий. – Но сто двадцать лет, которые минули со времен последнего диктатора, несколько ухудшили твою память. Диктатора выдвигает сенат, но назначают его консулы. У нас же консулов сейчас нет. Фасции отослали в храм Венеры Либитины. Диктатора нельзя назначить.
Флакк вздохнул:
– Ты, наверное, невнимательно меня слушал, Квинт Гортензий. Я сказал вам, как это можно сделать. С помощью lex rogata, принятого центуриями. Когда нет консулов, которые действуют как исполнительная власть, народ в своих центуриях является исполнительной властью. Интеррекс должен обратиться к ним с просьбой выполнить свою единственную функцию: организовать и провести курульные выборы. Трибы – не административный орган. Только центурии.
– Хорошо, очко в твою пользу, – дерзко ответил Гортензий. – Продолжай, принцепс сената.
– Я намерен созвать центуриатные комиции завтра на рассвете. Я попрошу собрание сформулировать закон, согласно которому Луций Корнелий Сулла будет назначен диктатором. Закон не должен быть очень сложным – напротив, чем проще, тем лучше. Как только диктатор будет на законном основании назначен центуриями, все другие законы сможет издавать он. Пусть центурии официально назначат Луция Корнелия Суллу диктатором на такой срок, какой ему понадобится, чтобы осуществить все его планы; чтобы они одобрили все его предыдущие действия; чтобы они отменили приговор к ссылке и официальное объявление вне закона; чтобы они гарантировали ему освобождение от наказания за любые его действия в должности диктатора; чтобы трибуны не могли наложить вето на его решения, а народное собрание – препятствовать его деятельности. Чтобы ни сенат, ни народ не могли отклонить ни одного его решения в любой форме – прибегнув к помощи любого магистрата или обратившись к любому собранию.
– Да это получше, чем быть царем Рима! – выкрикнул Лепид.
– Нет, это просто другое, – упрямо сказал Флакк. Ему понадобилось некоторое время, чтобы правильно понять то, чего добивался от него Сулла. Но теперь его уже нельзя было сбить с толку. – Диктатор не может быть наказан за свои действия, но он правит не один. У него есть сенат и все комиции, народные собрания – в качестве совещательных органов; он может назначить столько магистратов, сколько захочет. Согласно традиции, например, в период диктатуры избираются также консулы.
– Диктатор назначается только на шесть месяцев, – громко сказал Лепид. – Если я правильно тебя расслышал, ты предлагаешь просить центурии, чтобы они назначили диктатора бессрочно. Это незаконно, принцепс сената! Я не против того, чтобы Луция Корнелия Суллу назначили диктатором, но я против того, чтобы он хоть на миг превысил шестимесячный срок.
– За шесть месяцев я не успею даже начать, – сказал Сулла, не поднимаясь со своего стула. – Верь мне, Лепид, я ни одного лишнего дня не желаю заниматься этой неприятной работой, не говоря уже о том, чтобы посвятить ей всю мою жизнь! Когда я посчитаю, что она закончена, я обязательно уйду. Но шесть месяцев? Невозможно.
– Тогда сколько? – спросил Лепид.
– Во-первых, – ответил Сулла, – финансы Рима в плачевном состоянии. Чтобы выправить их, понадобится год, может быть, два. Придется распустить двадцать семь легионов, найти для них землю, заплатить им. Людей, которые поддерживали незаконные режимы Мария, Цинны и Карбона, нужно разыскать, дабы они не избежали справедливого наказания. Законы Рима устарели, особенно в части судопроизводства и наместнического управления провинциями. Гражданские служащие дезорганизованы, бездеятельны и алчны. Из наших храмов украдено столько сокровищ, денег и слитков, что даже после огромных затрат этого года в казне все еще осталось двести восемьдесят талантов золота и сто двадцать талантов серебра. Храм Юпитера Всеблагого Всесильного превратился в кучу углей. – Он громко вздохнул. – Мне продолжать, Лепид?
– Хорошо, я понял, что выполнение твоей задачи потребует больше шести месяцев. Но что помешает тебе получать назначение каждые полгода столько раз, сколько понадобится? – спросил Лепид.
Беззубая усмешка Суллы была все такой же злобной, хоть у него и не осталось знаменитых длинных клыков.
– О да, Лепид! – воскликнул он. – Теперь мне все понятно! Половину каждого шестимесячного периода нужно будет потратить на то, чтобы расположить к себе центурии! Умолять, объяснять, извиняться, рисовать радужные картины, сыпать в кошелек каждого всадника, превращать себя в старую отвратительную проститутку! – Сулла поднялся со стула и потряс сжатыми кулаками в сторону Марка Эмилия Лепида с такой злобой на лице, какой присутствующие не видели с тех пор, как Сулла уехал из Рима воевать с царем Митридатом. – Да, изнеженный домосед Лепид, женатый на дочери изменника, который пытался провозгласить себя царем Рима! Или будет так, как хочу я, или вообще мне ничего не надо! Вы слышите меня, вы, несчастное сборище лицемерных дураков и трусов? Хотите, чтобы Рим вновь поднялся на заслуженную высоту? Но вместе с тем вы жаждете получить незаслуженное право сделать несчастной, невыносимой и зависимой жизнь того человека, который берется за это дело! Ну что ж, отцы, внесенные в списки, вы должны решить этот вопрос здесь и сейчас. Луций Корнелий Сулла вернулся в Рим, и, если он вздумает, он может трясти этот город до тех пор, пока он не рухнет! В Латинской местности у меня осталась армия, которую я мог бы привести в Рим и натравить на ваши жалкие шкуры, как волков на ягнят. Я этого не сделал. С моего первого появления в сенате я действовал в ваших интересах. И сейчас я все еще действую в ваших интересах. Мирно. Деликатно. Но вы испытываете мое терпение, я вас честно предупреждаю. Я буду диктатором так долго, как сам посчитаю нужным. Понятно? Понятно тебе, Лепид?
Долго все молчали. Даже Ватия и Метелл Пий сидели с бледными лицами и, дрожа, глядели на это внезапно появившееся когтистое чудовище, которому впору выть на луну. О, как могли они забыть, кого таил в себе Сулла?
Лепид тоже был бледен и дрожал, но причиной его ужаса был вовсе не монстр, прятавшийся в Сулле. Он думал о своей любимой Аппулее, на которой был женат уже много лет, которая была отрадой его сердца, матерью его сыновей. Она была дочерью Сатурнина – человека, который действительно хотел провозгласить себя царем Рима. Почему Сулла упомянул о ней в этой ужасной вспышке гнева? Что он сделает, когда станет диктатором?
Уставшие до смерти от гражданских войн, экономической депрессии, от многочисленных легионов, без конца марширующих взад-вперед по всей Италии, центуриатные комиции проголосовали за закон, согласно которому Луций Корнелий Сулла назначался диктатором на неопределенный срок. Внесенный на рассмотрение на contio в шестой день ноября, lex Valeria dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae был утвержден в двадцать третий день ноября. За это время никаких уточнений внесено не было. Поскольку он фактически предоставлял Сулле неограниченную власть, а также санкционировал его неприкосновенность, уточнений и не требовалось. Что бы Сулла ни захотел постановить или сделать, он мог все.
Многие в городе ожидали, что он разовьет бурную деятельность, как только его назначение диктатором будет озвучено. Но Сулла не предпринимал ничего, пока назначение не было утверждено спустя три нундины, в соответствии с lex Caecilia Didia.
Остановившись в доме, принадлежавшем Гнею Домицию Агенобарбу, бежавшему в Африку, Сулла, казалось, погрузился в безделье. Он только все время бродил по городу. Его собственный дом был сожжен после того, как Гай Марий и Цинна захватили Рим. Он ходил через Гермал, северо-западный склон Палатинского холма, на оставшееся от его дома пепелище, медленно ворошил палкой кучи камней, смотрел поверх Большого цирка на восхитительные очертания Авентинского холма. В любое время дня, от рассвета до сумерек, его можно было увидеть стоящим одиноко на Римском форуме, смотрящим на Капитолий, или на статую Гая Мария в полный рост возле ростры, или на какую-нибудь другую среди многочисленных статуй Гая Мария меньших размеров, или на здание сената, или на храм Сатурна. Сулла гулял по берегу Тибра от большого рынка в порту Рима до Тригария, где плавали молодые люди. Он доходил от Римского форума до каждых из шестнадцати ворот Рима. Он поднимался по одной улице и спускался по другой.
Ни разу он не продемонстрировал страха за свою жизнь, ни разу не попросил друга сопровождать его, не говоря уже о том, чтобы взять с собой телохранителя. Иногда на нем была тога, но большей частью он просто кутался в просторный удобный плащ: зима началась рано и обещала быть холодной, как и в прошлом году. А один раз, в жаркий не по сезону день, Сулла брел по Риму, одетый лишь в тунику, и можно было видеть, какой же он маленький, хотя люди помнили, что прежде Луций Корнелий был среднего роста и хорошего телосложения. Но он усох, ссутулился и шаркал ногами, как восьмидесятилетний старик. Дурацкий парик был всегда на нем. И теперь, когда он следил за состоянием своего лица, он снова начал красить сурьмой белесые брови и ресницы.
А когда прошли первые восемь дней ожидания ратификации назначения диктатора, свидетели его гневного выпада в сенате начали чувствовать себя получше и уже отзывались об этом гуляющем старике с некоторым презрением – так коротка память…
– Он – пародия! – фыркнув, сказал Гортензий Катулу.
– Кто-нибудь убьет его, – сказал Катул, которому все надоело.
Гортензий хихикнул:
– Или он сам свалится на улице от апоплексического удара! – Он схватил руку зятя, придерживавшую тогу. – Ты знаешь, не могу понять, почему я так испугался тогда! Он здесь, но его здесь нет. В результате, как ни странно, у Рима так-таки и нет хозяина! Он ненормальный, Квинт. У него старческое слабоумие!
Это мнение широко распространилось среди жителей Рима, каждый день видевших, как жалкая фигура ковыляет по городу в косо нахлобученном парике и с обильно наложенной краской. Может быть, эта пудра скрывала багровые шрамы? Вот он что-то шепчет. Качает головой. Вдруг на кого-то кричит, а на кого – не видно. Ненормальный. Дряхлый.
Требовалось большое мужество для такого тщеславного человека, чтобы выставить свое старческое безобразие на всеобщее обозрение. Только Сулла знал, как ненавистна ему эта болезнь, которая сотворила с ним такое. Только Сулла знал, как ему хотелось снова стать тем красавцем-мужчиной, каким он был, когда уходил на войну с царем Митридатом. Но, сказал он себе, избегая смотреться в зеркало, чем скорее он наберется сил продемонстрировать Риму, во что превратился, тем скорее научится забывать, что показало бы ему зеркало, если бы он взглянул в него. И это произошло. Главным образом потому, что его прогулки не были бесцельны, они вовсе не были причудой дряхлого старика. Сулла гулял, чтобы посмотреть, каким стал Рим, в чем Рим нуждался, что он сам должен сделать. И чем больше он бродил, тем больше сердился – и приходил в возбуждение, потому что в его власти было взять в свои руки этот обветшалый город и сделать прекрасным, как прежде.
Еще Сулла ждал прибытия нескольких лиц, которые много значили для него, хотя он вряд ли любил их или в них нуждался: его жены, его близнецов, его взрослой дочери, его внуков… а также Птолемея Александра, наследника египетского трона. Они терпеливо ждали несколько месяцев под присмотром Хрисогона, вольноотпущенника и управляющего Суллы, сначала в Греции, потом в Брундизии, но к концу декабря они будут в Риме. Некоторое время Далматике придется жить в доме Агенобарба, но собственную резиденцию Суллы недавно начали отстраивать. Филипп, загорелый, красивый, прибыл с Сардинии, неофициально созвал сенат и угрозами заставил этот запуганный орган проголосовать за то, чтобы из общественных фондов вернуть Сулле некогда конфискованное государством имущество. Спасибо, Филипп!
На двадцать третий день ноября диктаторство Суллы было официально утверждено. И в тот же день Рим проснулся и не увидел ни одной статуи Гая Мария – ни на Римском форуме, ни на Бычьем и Овощном рынках, ни на перекрестках и площадях – нигде. Исчезли трофеи, развешанные в его храме Чести и Доблести на Капитолии, пострадавшем от огня, но все еще хранившем вражеские доспехи, флаги, штандарты, все личные награды Мария за мужество, кирасы, которые он носил в Африке, при Аквах Секстиевых, в Верцеллах, в Альбе-Фуценции. Статуи других людей тоже исчезли – Цинны, Карбона, старого Брута, Норбана, Сципиона Азиагена. Вероятно, потому, что их было значительно меньше, на их исчезновение отреагировали не так остро, как на исчезновение памятников Гаю Марию. Сулла пробил огромную брешь, он оставил за собой целую аллею пустых цоколей, с которых было стерто имя ненавистного Мария, словно гермы с отбитыми гениталиями.
И в то же время пополз шепоток о других, более серьезных исчезновениях. Исчезали люди! Люди влиятельные, открыто поддерживавшие Мария, Цинну, Карбона или всех троих. В основном это были всадники, достигшие успеха на торговом и финансовом поприще, когда так трудно было это сделать. Всадники, которые получали от государства прибыльные контракты, или ссужали деньги своим сторонникам, или же обогащались другими путями благодаря присоединению к Марию, Цинне, Карбону или ко всем троим. Правда, ни один сенатор не пропал, и все же количество исчезнувших людей было настолько велико, что не заметить этого было невозможно. Несколько здоровых парней, числом десять – пятнадцать, стучали в дверь дома какого-нибудь всадника, их впускали, а через несколько минут они появлялись снова вместе с хозяином дома и уводили его – никто не знал куда!
Рим волновался. Рим стал понимать, что странствования его высохшего властелина представляли собою нечто большее, нежели обыкновенные прогулки. Невинная эксцентричность вчерашнего дня обернулась неуверенностью дня сегодняшнего и ужасом завтрашнего. Сулла никогда ни с кем не разговаривал! Он разговаривал только с собой! Он стоял на одном месте очень подолгу, глядя – куда, неизвестно! Раз или два он кричал! Что же все-таки он делал? И почему он это делал?
На фоне этих растущих опасений странная деятельность безобидно выглядевших групп частных лиц, которые стучали в двери домов, принадлежавших всадникам, сделалась более демонстративной. Их видели то тут, то там. Они что-то записывали или следовали как тени за каким-нибудь богатым банкиром Карбона или процветающим брокером Мария. Исчезновения участились. А однажды неизвестные постучали в дверь одного сенатора-заднескамеечника, который всегда голосовал за Мария, за Цинну, за Карбона. Но сенатора не увели, как других. Когда он появился на улице, взметнулся меч – и его голова упала на землю с глухим стуком и откатилась в сторону. Тело так и осталось лежать, истекая кровью, но голова исчезла.
Люди начали искать предлог, чтобы пройти мимо ростры и пересчитать головы: Карбон, Марий-младший, Каррина, Цензорин, Сципион Азиаген, старый Брут, Марий Гратидиан, Понтий Телезин, Брут Дамасипп, Тиберий Гутта из Капуи, Соран, Мутил… Больше никого! Головы сенатора-заднескамеечника там не оказалось. Как и голов других исчезнувших людей. А Сулла продолжал гулять в своем идиотском парике, всегда криво сидящем, с подкрашенными бровями и ресницами. Но если раньше люди останавливались и улыбались ему – хотя в этих улыбках сквозила жалость, – то теперь они чувствовали неприятный холодок и старались свернуть куда-нибудь в сторону, только бы не встретиться с ним. Или со всего духу убегали, едва завидев диктатора. Теперь там, где был Сулла, больше никого не было. Никто не наблюдал за ним. Никто не улыбался, даже с жалостью. Никто не заговаривал. Никто не приставал. При встрече с ним всех прошибал холодный пот, словно они увидели отверстые врата в подземный мир в несчастливый день.
Никогда прежде не являлась в Риме общественная фигура, которая была бы окутана столь непостижимой тайной. Поведение Суллы выходило за рамки нормы. Он должен был подняться на ростру на Форуме и красноречиво поведать всем о своих планах или пустить риторическую пыль в глаза сената. Намерения, жалобы, цветистые фразы – он должен был высказать это! Кому-нибудь, если не всем. Римляне не склонны держать язык за зубами. Они всегда и все обсуждали. Римом правили слухи. Но от Суллы – ничего. Только одинокие бесцельные прогулки без сопровождения. И все же это исходило от него – отрубленные головы, исчезнувшие люди! Этот молчаливый и необщительный человек был властелином Рима.
В календы декабря Сулла созвал заседание сената, первое со времени выступления Флакка. О, как сенаторы торопились в курию Гостилия! Дрожа больше от страха, чем от холода, с бешеным сердцебиением, задыхаясь, с расширенными зрачками, чувствуя тошноту. Они буквально попадали на свои стулья, словно чайки, побитые бурей, стараясь не смотреть вверх – из страха, что сейчас с крыши на них посыплются обломки черепицы, как на Сатурнина и его сторонников.
Все были объяты безымянным ужасом, даже Флакк, принцепс сената, даже Метелл Пий, даже военные любимцы вроде Офеллы и сообщники вроде Филиппа и Цетега. И все же, когда Сулла вошел, он выглядел таким безобидным! Трогательная фигура! Его сопровождало беспрецедентное количество ликторов – двадцать четыре! Вдвое больше, чем полагалось консулу, и вдвое больше, чем у любого предыдущего диктатора.
– Настало время познакомить вас с моими намерениями, – сказал Сулла, не поднимаясь со своего курульного кресла. Слова вылетали вместе со струйками белого пара – так холодно было в помещении. – Я – законный диктатор, а Луций Валерий, принцепс сената, – мой начальник конницы. Согласно закону, принятому центуриатными комициями, я не обязан назначать других магистратов. Однако Рим всегда вел хронологию по именам ежегодно избираемых консулов, и я не стану нарушать традицию. Я не желаю, чтобы люди называли наступающий год «годом диктатуры Луция Корнелия Суллы». Поэтому я хочу, чтобы были избраны два консула, восемь преторов, два курульных и два плебейских эдила, десять народных трибунов и двенадцать квесторов. А чтобы опыт управления получили и молодые люди, которым впоследствии предстоит войти в сенат, необходимо будет выбрать двадцать четыре военных трибуна. И я назначу трех человек монетариями и трех человек, которые будут следить за тюремными камерами и убежищами.
Катула и Гортензия обуял такой ужас, что оба сидели, силясь не обгадиться и спрятав руки, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Не веря своим ушам, они слушали, как диктатор объявляет, что будет проводить выборы во все магистратуры! Они ожидали, что в них начнут швырять острую черепицу, или выведут и обезглавят, или сошлют в ссылку, а имущество конфискуют. Они ожидали чего угодно, но это… Он что, невиновен? Разве он не знает, что творится в Риме? И если не знает, кто же тогда отвечает за те исчезновения и убийства?
– Конечно, – продолжал диктатор с раздражающей неотчетливой дикцией, – вы понимаете, что, когда я говорю «выборы», я не имею в виду выдвижение кандидатов и предвыборную кампанию. Я назову имена тех, кого вы должны будете выбрать. Свобода выбора сейчас невозможна. Мне нужны помощники в моей работе. Следовательно, это должны быть те люди, которые мне полезны, а не те, кого навяжут мне выборщики. Поэтому я хочу сообщить вам, кто кем будет в следующем году. Писарь, мой список!
Сулла взял листок у служащего сената, чья единственная обязанность была хранить документы. Секретарь, записывавший на восковых табличках все, что произносил Сулла, оторвался от своего занятия.
– Итак, консулы. Старший – Марк Туллий Декула. Младший – Гней Корнелий Долабелла.
Вдруг раздался чей-то голос. Фигура в тоге вскочила со стула – Квинт Лукреций Офелла.
– Нет! Нет, я говорю! Ты отдаешь консульство Декуле? Нет! Кто такой Декула? Ничтожество, которое торчало здесь в полной безопасности, в Риме, пока лучшие люди Рима боролись за тебя, Сулла! Чем таким отличился Декула? Почему он? У него недостанет сил даже подтереть твою задницу своей тогой, Сулла! Это непростительный, злобный, несправедливый обман! Назначение Долабеллы я могу понять – все твои легаты знают о сделке, которую ты с ним заключил! Но кто такой этот Декула? Что такого сделал этот Декула, чтобы стать старшим консулом? Я говорю – нет! Нет, нет, нет!
Офелла остановился, чтобы перевести дух. Заговорил Сулла:
– Мой выбор – старшим консулом будет Марк Туллий Декула. Вопрос закрыт.
– Тогда надо запретить тебе делать выбор, Сулла! У нас будут кандидаты и обычные выборы, и я выдвину свою кандидатуру!
– Не выдвинешь, – тихо сказал Сулла.
– Попробуй остановить меня! – выкрикнул Офелла и выбежал из помещения.
Снаружи роилась толпа, жаждавшая услышать результаты этого собрания сената, первого с тех пор, как Сулла был утвержден в должности диктатора. В толпе не оказалось людей, которые считали, что должны бояться Суллы, – те остались дома. Небольшая толпа, но тем не менее толпа. Расталкивая собравшихся, не обращая внимания на чины и звания тех, кто оказался у него на пути, Офелла кинулся вниз по ступеням сената, по мостовой, к колодцу комиций и – прямо к ростре, встроенной в его стену.
– Римляне! – крикнул он. – Подойдите сюда, послушайте, что я хочу сказать об этом незаконном монархе, которого мы добровольно назначили править нами! Он говорит, что необходимо выбрать консулов. Но кандидатов не будет – просто два человека по его выбору. Два никудышных, некомпетентных идиота, и один из них – Марк Туллий Декула, он даже не из знатного рода! Первый из его семьи сенатор-заднескамеечник, который пробрался в преторы при предательском режиме Цинны и Карбона! И все же он будет старшим консулом, в то время как такие люди, как я, остаются без награды!
Сулла поднялся и медленно прошел по мозаичному полу курии к портику, где постоял, жмурясь от яркого света и делая вид, что равнодушен к происходящему. На самом деле он зорко смотрел, как Офелла кричит с ростры. Не привлекая к себе внимания, примерно пятнадцать человек стали собираться у подножия сенатской лестницы.
Медленно, крадучись, сенаторы вышли из курии посмотреть и послушать, пораженные спокойствием Суллы. Они приободрились, глядя на него: Сулла вовсе не выглядел монстром, как они стали думать. Этот худой, жалкий человек просто не мог быть чудовищем!
– Вот, римляне… – продолжал Офелла громогласно, входя в раж. – Я не тот, кто может спокойно стерпеть подобные оскорбления! Я больше достоин быть консулом, чем такое ничтожество, как Декула! И я считаю, что граждане Рима, если им позволят выбирать, выберут меня, а не подлых ставленников Суллы! В былые времена, когда люди были не согласны с предложенными кандидатами, они выступали перед народом и выдвигали свои кандидатуры!
Взгляды Суллы и вожака небольшой группы, стоявшей внизу, встретились. Сулла кивнул, вздохнул и устало прислонился к колонне.
Ничем не примечательные люди тихо прошли сквозь небольшую толпу, приблизились к ростре, взошли на нее и взяли Офеллу. Мягкость их движений была кажущейся. Офелла яростно отбивался, но безуспешно. Они безжалостно сгибали его, пока он не упал на колени. Потом один из них взял Офеллу за волосы и откинул его голову назад, оголив шею. Взвился клинок. Когда голова отделилась от тела, человек, державший голову за волосы, покачнулся, потом высоко поднял голову, чтобы все могли видеть. В считаные мгновения Форум опустел, остались лишь ошеломленные сенаторы.
– Положите голову на ростру, – сказал Сулла, выпрямился и вошел в помещение.
Двигаясь как неживые, сенаторы последовали за ним.
– Итак, на чем я остановился? – спросил Сулла секретаря, который подался вперед и тихо что-то проговорил. – О да, понял! Спасибо! Я остановился на консулах. Далее я собирался говорить о преторах. Список! – Сулла протянул руку. – Спасибо. Итак, продолжаю… Мамерк Эмилий Лепид Ливиан. Марк Эмилий Лепид. Гай Клавдий Нерон. Гней Корнелий Долабелла-младший. Луций Фуфидий. Квинт Лутаций Катул. Марк Минуций Терм. Секст Ноний Суфенат. Гай Папирий Карбон. Я назначаю младшего Долабеллу городским претором, а Мамерка – претором по делам иноземцев.
Поистине удивительный список! Ясно, что ни Лепида, ни Катула, которые при обычных выборах могли бы рассчитывать на первые места, не должны были предпочесть двум лицам, которые активно сражались за Суллу. И вот они – преторы, в то время как сторонниками Суллы сенаторского статуса и надлежащего возраста пренебрегли! Фуфидий был вообще никто. А Ноний Суфенат – младший сын сестры Суллы. Нерон – некий второстепенный Клавдий, не имеющий никакого влияния. Терм – хороший солдат, но оратор никудышный, над ним всегда смеялись на Форуме. И словно чтобы досадить всем знатным римским родам, последним в списке преторов назван член семьи Карбона, который был сторонником Суллы, но ничем себя не проявил.
– Ты в списке, – шепнул Гортензий Катулу. – Они все еще покажут себя. Сулла не дурак, чтобы дать не ту работу не тому человеку. Меня интересует Декула. Настоящий бюрократ! Вот почему Сулла выбрал его: он должен был его выбрать, если учесть, что Долабелла добился консульства шантажом! Политика нашего диктатора будет проводиться скрупулезно, и Декула станет радоваться каждой казни.
Собрание продолжалось. Одно за другим звучали имена магистратов, и никто больше не возражал. Закончив, Сулла отдал список хранителю и опустил руки на колени.
– Я сказал все, что хотел, кроме того, что я отметил нехватку в Риме жрецов и авгуров и скоро издам закон, чтобы поправить эту ситуацию. А сейчас послушайте вот что! – вдруг заорал он, заставив всех вскочить с мест. – Жрецов больше выбирать не будут! Это верх нечестивости – бросать бюллетени, чтобы определить, кто будет служить богам! Это торжественное и государственное событие превращено в политический цирк, и в результате жреческие должности занимают люди, у которых нет ни традиций, ни уважения к обязанностям жреца. Если богам Рима не служить надлежащим образом, Рим не сможет процветать.
Сулла поднялся на ноги. Послышался чей-то голос. Удивленный, Сулла опять опустился в свое курульное кресло.
– Ты хочешь что-то сказать, дорогой Свиненок? – осведомился он, назвав Метелла Пия старым прозвищем, которое тот унаследовал от своего отца.
Метелл Пий покраснел, но с решительным видом встал. С момента его прибытия в Рим в пятый день ноября его заикание, почти исчезнувшее за последнее время, заметно усилилось. Он знал почему. Все дело в Сулле, которого он любил, но боялся. Однако Метелл Пий все же оставался сыном своего отца, а Метелл Нумидийский Свин дважды терпел ужасные побои на Форуме и один раз даже уехал в ссылку, но своими принципами не поступался. Поэтому сыну надлежало идти по стопам отца и поддержать честь семьи. И свое собственное dignitas.
– Лу-лу-ций Корнелий, т-т-ты ответишь н-н-на один вопрос?
– Ты заикаешься! – воскликнул Сулла почти нараспев.
– Д-д-да. Из-з-вини. Я постараюсь, – сказал Метелл Пий сквозь стиснутые зубы. – Известно ли тебе, Лу-лу-ций Корнелий, что людей убивают, а их имущество конфискуют п-п-по всей Италии и в Риме?
Сенат слушал затаив дыхание, что ответит Сулла: знал ли он? По его ли приказу это делалось?
– Да, я знаю об этом, – сказал Сулла.
Коллективный вздох, общая дрожь, и всех словно вдавило в стулья. Сенат услышал самое худшее. Метелл Пий упрямо продолжал:
– Я п-п-понимаю, что необходимо наказывать виновных, но ни один человек не был судим. Не мог бы ты объяснить м-м-мне ситуацию? Например, с-с-сказать мне, когда ты намерен подвести черту? И вообще, сохранится ли у нас правосудие? И кто решил, что эти люди совершили предательство, если их дело не рассматривалось в суде?
– Это по моему приказу они умерли, дорогой Свиненок, – строго ответствовал диктатор. – Я не намерен зря тратить деньги и время сената на суды для людей, чья вина не вызывает сомнений.
Свиненок не сдавался:
– Тогда… м-м-можешь ли ты мне сказать, от кого ты намерен еще избавиться?
– Боюсь, что не могу, – ответил диктатор.
– Тогда, если ты н-н-не знаешь, от кого будешь избавляться, то хотя бы кого ты намерен наказать?
– Да, дорогой Свиненок, это я могу сделать для тебя.
– В таком случае, Лу-лу-ций Корнелий, пожалуйста, поделись этим с нами, – закончил Метелл Пий с явным облегчением.
– Не сегодня, – сказал Сулла. – Мы снова соберемся завтра.
На следующий день рано утром, с рассветом, все вернулись в курию Гостилия, но мало кто казался выспавшимся.
Сулла уже ждал их в помещении сената, восседая в своем курульном кресле. Один писарь сидел со стилосом и восковыми табличками, другой держал в руках свиток папируса. Как только жертвоприношение и авгурии показали, что знамения благоприятствуют проведению собрания, Сулла протянул руку к свитку. Он посмотрел на бедного Метелла Пия, измученного беспокойством.
– Вот, – сказал Сулла, – список людей, которые или уже умерли как предатели, или скоро умрут как предатели. Их имущество теперь принадлежит государству и будет продано на аукционе. Любой мужчина или женщина, которые увидят человека, чье имя значится в этом списке, могут безнаказанно убить его.
Сулла передал список старшему ликтору.
– Прикрепи это на стену ростры, – велел он. – Пусть все граждане Рима узнают то, о чем один только мой дорогой Свиненок имел смелость спросить.
– Значит, если я увижу кого-то в твоем списке, я могу его убить? – нетерпеливо поинтересовался Катилина, которого Сулла попросил посещать заседания сената, хотя он еще не стал сенатором.
– Да, это так, ты можешь убить любого из этого списка, мой маленький лизоблюд! И кстати, заработаешь на этом два таланта серебром, – объявил Сулла. – Конечно, я узаконю наказания. Я не сделаю ничего, что не будет иметь силу закона! Вознаграждение будет также узаконено, и все выплаты будут записаны, так что последующие поколения не забудут о тех, кто извлек для себя выгоду в эти дни.
Все прошло спокойно, но некоторые, например Метелл Пий, легко разгадали злой умысел Суллы. А таким, как Луций Сергий Катилина, явно было все равно.
Первый список содержал сорок имен сенаторов и шестьдесят пять – всадников. Его возглавляли имена Гая Норбана и Сципиона Азиагена, далее шли Карбон и Марий-младший, Каррина, Цензорин и Брут Дамасипп. Старого Брута не было. Большинство сенаторов, поименованных в списке, были уже мертвы. Однако списки в основном предназначались для того, чтобы информировать Рим о том, чьи поместья конфискованы. Они не сообщали, кто уже мертв, а кто еще жив. Второй список появился на ростре на следующий день: двести всадников. И третий список: двести пятьдесят всадников. Сулла, очевидно, покончил с сенатом. Его настоящей целью было всадническое сословие.
Leges Corneliae, законы Корнелия, утверждавшие списки, и последующие действия, были исчерпывающими. Бо`льшая часть проскрипционных списков появилась в течение двух дней в начале декабря, а к середине декабря все уже находилось во власти бюрократа Декулы, как и предсказывал Катул. Любая случайность была учтена. Все имущество семьи человека, занесенного в список, стало собственностью государства и не могло быть переписано на имя наследника, не виновного ни в каком проступке. Никакое завещание осужденного не действовало. Ни один наследник, упомянутый в завещании, не мог ничего наследовать. Поименованный преступник мог законно быть казнен любым мужчиной или женщиной, будь он или она свободные, вольноотпущенники или рабы. Награда за убийство или за задержание осужденного составляла два таланта серебром, которые выдавались казной из конфискованного имущества и регистрировались в общественных бухгалтерских книгах. Раб, претендующий на награду, должен был быть освобожден, вольноотпущенник – переведен в сельскую трибу. Все мужчины, гражданские или военные, которые, после того как Сципион Азиаген нарушил перемирие, перешли на сторону Карбона или Мария-младшего, объявлялись врагами общества. Любой человек, предлагавший помощь или дружбу осужденному, объявлялся врагом общества. Сыновьям и внукам такового запрещалось занимать курульные должности и перекупать конфискованные имения или вступать во владение ими любыми другими способами. На сыновей и внуков уже умерших закон распространялся так же, как на сыновей и внуков еще живых. Последний закон этого пакета, обнародованного в пятый день декабря, гласил, что полностью процесс оглашения имен завершится в первый день июня следующего года. Еще целых полгода.
Таким образом, Сулла вступил в права диктатора, демонстрируя, что он не только властелин Рима, но также и владыка ужаса. Не все минувшие дни мучительного зуда были проведены в пьяном ступоре. Сулла думал о многих вещах. О том, как ему достичь господства над Римом. Что он будет делать, когда станет хозяином Рима. Как вызвать к себе такое отношение каждого мужчины, женщины, ребенка, которое позволит ему сделать все, что он задумал, не встретив сопротивления. Не солдаты, патрулирующие на улицах, но неизвестность, страх, ведущие и к надежде, и к отчаянию. Его приспешниками станут неизвестные, которые могут быть соседями или друзьями тех, кого они выследили и убрали. Сулла намеревался создать климат, а не погоду. Люди в состоянии справиться с погодой. Но климат? О, климат может оказаться невыносимым.
И он думал, думал, думал, пока расчесывался до кровавых клочьев. Старый, безобразный, разочарованный человек, которому дали для игры самую чудесную игрушку на свете – Рим, его мужчин и женщин, собак и кошек, рабов и вольноотпущенников, низшее сословие, всадников и знать. С затаенной злобой, холодным и мрачным недовольством, терзаемый болью, он тщательно разрабатывал план. Когда наконец подробный план был составлен, Сулле стало легче.
Настало время диктатора.
Диктатор радостно взял в руки свою новую игрушку.
Часть II
Декабрь 82 г. до Р. Х. – май 81 г. до Р. Х
Пока все идет очень хорошо, решил Луций Корнелий Сулла в начале декабря. Многие все еще не решались убить кого-либо оглашенного в списке, но некоторые, такие как Катилина, показывали пример, и количество денег и имущества, конфискованных у поименованных преступников, увеличивалось. Конечно, Сулла шел по этому пути лишь ради денег. Откуда-то должны были поступать огромные суммы, в которых нуждался Рим, чтобы стать платежеспособным. При обычных обстоятельствах деньги поступали бы из провинций, но из-за действий Митридата на востоке и неприятностей, доставляемых Квинтом Серторием в обеих Испаниях, из провинций некоторое время будет не выжать дополнительных доходов. Поэтому отдать деньги должны Рим и Италия. И все же этот груз нельзя взвалить ни на плечи простых людей, ни на тех, кто убедительно продемонстрировал свою лояльность делу Суллы.
Сулла никогда не любил ordo equester – девяносто одну центурию первого класса, в которые входили всадники-коммерсанты, и особенно восемнадцать центурий старших всадников, которые владели государственным конем. Среди них было много таких, кто разжирел при администрации Мария, Цинны, Карбона. Эти-то люди, решил Сулла, и заплатят по счету – ради экономического выздоровления Рима. Диктатор с радостным удовлетворением думал, что нашел идеальное решение: не только казна наполнится, но он еще и уничтожит всех своих врагов.
К тому же он нашел время разобраться с другой занозой – Самнием, причем самым жестким образом, послав в злополучную область двух худших, по его мнению, людей – Цетега и Верреса. И четыре легиона хороших солдат.
– Не оставляйте ничего, – распорядился Сулла. – Я хочу превратить Самний в такое место, чтобы ни один человек не захотел жить там снова, даже старейший и самый патриотичный самнит. Срубите деревья, уничтожьте посевы на полях, сотрите с лица земли города и сады. – Он улыбнулся своей ужасной улыбкой. – И срежьте все высокие маки.
Вот! Это научит самнитов. И избавит его от двух очень вредных человек на будущий год. Они не будут спешить с возвращением! Слишком много денег предстоит добыть сверх того, что они пришлют в казну.
Вероятно, для других частей Италии стало благом, что семья Суллы прибыла в Рим именно в этот момент, чтобы внести в его жизнь какую-то видимость порядка, в котором он нуждался и по которому скучал, сам того не сознавая. Во-первых, он не знал, что вид Далматики сразит его словно удар. Колени его подогнулись, и он почти упал на стул, глядя на нее, как зеленый юнец пялится на недосягаемую женщину, неожиданно снизошедшую до него.
Очень красивая – но это он всегда знал. Со смуглой кожей одного цвета с волосами. И этот взгляд любви, который, казалось, никогда не исчезал, никогда не менялся, не важно, насколько стар и безобразен становился Сулла. И вот она сидит у него на коленях, обвив его тощую шею руками, прижав его лицо к груди, лаская его покрытую струпьями голову, целуя ее, словно это по-прежнему та великолепная голова с волосами оттенка красного золота, которыми он щеголял. Его парик – где его парик? А потом она рывком подняла его голову – и он почувствовал прелесть ее рта, захватившего его сморщенные губы и не отпускавшего их, пока они снова не ожили… К нему стали возвращаться силы. Он поднялся со стула, держа ее на руках, и триумфально прошествовал в их комнату и там разделил с женой нечто большее, чем триумф.
«Вероятно, – думал он, утопая в ней, – все же я способен любить».
– Как же я скучал по тебе! – сказал Сулла.
– Как же я тебя люблю! – ответила Далматика.
– Два года… Прошло два года.
– Словно две тысячи лет.
Когда первый пыл воссоединения прошел, она превратилась в разумную жену и с удовольствием, тщательно всего его осмотрела:
– Кожа твоя стала намного лучше!
– Я получил мазь от Морсима.
– Зуд прекратился?
– Да.
После этого она стала матерью и отказалась отдыхать, пока он не прошел с нею в детскую, чтобы поздороваться с маленькими Фавстом и Фавстой.
– Они не намного старше нашей разлуки, – сказал он и вздохнул. – Они похожи на Метелла Нумидийского.
Далматика еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться.
– Я знаю… Бедняжки.
И этим закончился один из самых счастливых дней в жизни Суллы. Она смеялась вместе с ним!
Не зная, почему мама и смешной старик радостно обнимаются, двойняшки нерешительно улыбались, пока желание присоединиться к этому веселью не оказалось сильнее их. Может быть, в разгар этого веселья Сулла и не вполне полюбил их, но, во всяком случае, он нашел, что они довольно приятные малыши, даже если они и похожи на своего двоюродного дедушку Квинта Цецилия Метелла Нумидийского по прозванию Свин. «Которого их отец убил – какая ирония судьбы! – подумал он. – Может быть, это кара богов? Но чтобы поверить в это, надо быть греком, а я – римлянин. Кроме того, я буду уже давно мертв к тому времени, как эта парочка вырастет достаточно, чтобы сделаться божьим наказанием для кого-то другого».
Остальные вновь прибывшие домочадцы Суллы тоже чувствовали себя хорошо, включая старшую дочь Суллы Корнелию Суллу и ее двоих детей от умершего первого мужа. Маленькой Помпее было уже восемь лет. Она знала, что красива, и была полностью поглощена своей красотой. Шестилетний Квинт Помпей Руф как нельзя более соответствовал своему последнему имени, так как был рыжеволосым, румяным, с розоватыми белками глаз и вспыльчивым характером.
– А как поживает мой гость, который не может пересечь померий, чтобы попасть в Рим? – поинтересовался Сулла у своего управляющего Хрисогона, чьей обязанностью было присматривать за семьей.
Немного похудевший (нелегко угождать такому количеству людей с разными характерами, подумал Сулла) управляющий воздел глаза к потолку и пожал плечами:
– Боюсь, Луций Корнелий, что он не согласится оставаться за пределами померия, если ты лично не посетишь его и не объяснишь, почему так надо. Я пытался! Правда, я пытался! Но он считает меня мелкой сошкой, недостойной даже презрения, не говоря уж о доверии.
«Типично для Птолемея Александра», – подумал Сулла, выходя из города и направляясь к гостинице на Аппиевой дороге около первой вехи, где Хрисогон разместил кичливого, излишне чувствительного египетского царевича, который, хоть и находился под опекой Суллы уже три года, только теперь начал становиться обузой.
Утверждая, что он убежал от понтийского двора, Птолемей Александр появился в Пергаме, умоляя Суллу предоставить ему убежище. Сулла пришел в восхищение. Ведь это был не кто иной, как Птолемей Александр-младший, единственный законный сын фараона, который умер, пытаясь вернуть себе трон, в тот год, когда Митридат пленил его сына, жившего на острове Кос со своими двумя двоюродными незаконнорожденными братьями. Все три царевича были отправлены в Понт, а Египтом завладел старший брат умершего фараона Птолемей Сотер по прозвищу Латир (что означает «бараний горох»), который провозгласил себя фараоном.
Как только Сулла увидел Птолемея Александра-младшего, он понял, почему Египет предпочел старого Латира. Птолемей Александр-младший был до такой степени женоподобен, что одевался, как возрожденная Изида, в развевающиеся драпировки, завязанные узлом и обернутые вокруг тела на манер эллинизированной богини Египта, носил золотую корону на златокудром парике и тщательно разрисовывал лицо. Он жеманничал, строил глазки, говорил с улыбочкой, шепелявил, быстро и суетливо двигался. И все же проницательный Сулла видел, что за этим женоподобным фасадом скрывается нечто стальное.
Птолемей Александр-младший рассказал Сулле о трех отвратительных годах, проведенных при дворе человека, который был самым агрессивным гетеросексуалом. Митридат искренне верил, что женоподобных мужчин можно вразумить. Он подвергал молодого Птолемея Александра бесконечным унижениям, доводил до полного изнеможения с целью излечить беднягу от его наклонностей. Но это не помогало. Когда его заставляли ложиться в постель с понтийскими куртизанками и даже с простыми шлюхами, все заканчивалось одинаково: Птолемей Александр свешивал голову с кровати и его рвало. Когда его заставляли надевать доспехи и маршировать с сотней насмехавшихся над ним солдат, он плакал и валился с ног от усталости. Когда его били кулаками, а потом стегали, он невольно выдавал себя – такое обращение только возбуждало его. Когда его вывели на суд на рыночную площадь в Амисе в его любимой одежде и с краской на лице, в него полетели гнилые фрукты, яйца, овощи и даже камни. Он покорно все вынес, но не раскаялся.
У него появился шанс, когда под натиском Суллы позиции Митридата зашатались и двор распался. Молодой Птолемей Александр сбежал.
– Мои двоюродные братья-ублюдки предпочли, конечно, остаться в Амисе, – прошепелявил он Сулле. – Им-то отлично подходила атмосфера этого гнусного двора! Оба они охотно женились на дочерях Митридата от его жены Антиохиды. Да пусть они забирают и Понт, и всех царских дочерей! Я ненавижу это место!
– И чего же ты хочешь от меня? – спросил тогда Сулла.
– Убежища. Приюта в Риме, когда ты вернешься туда. А когда Латир умрет – египетский трон. У него есть дочь, Береника, которая правит с ним как его царица. Но он не может жениться на ней, конечно. Он может жениться только на тетке, кузине или сестре, а таковых у него нет. Естественно, царица Береника переживет своего отца. Египетский трон наследуется по женской линии, это означает, что царь становится царем через брак с царицей или старшей царевной. Я – единственный законный Птолемей, который еще остался. Александрийцы имеют в этом деле решающее слово с тех пор, как македонские Птолемеи отказались сделать своей столицей Мемфис. И они захотят, чтобы я наследовал Латиру, и согласятся на мой брак с царицей Береникой. Когда Латир умрет, отправь меня в Александрию, чтобы я предъявил права на трон – с благословения Рима.
Некоторое время Сулла размышлял, весело глядя на Птолемея Александра. Потом сказал:
– Ты можешь жениться на царице, но сможешь ли ты иметь от нее детей?
– Наверное, нет, – спокойно ответил царевич.
– Тогда какой резон жениться? – ухмыльнулся Сулла.
Птолемей Александр явно не понял смысла сказанного.
– Я хочу быть фараоном Египта, Луций Корнелий, – торжественно возгласил он. – Трон принадлежит мне по праву. А что с ним случится после моей смерти, мне все равно.
– А кто после тебя еще может претендовать на трон?
– Только мои два ублюдочных кузена, которые сейчас ходят в любимчиках у Митридата и Тиграна. Я смог убежать, когда от Митридата прибыл гонец с приказом отослать нас троих на юг, к Тиграну, который расширял свое царство в Сирии. Думаю, цель этого переезда – избавить нас от римского плена, если Понт падет.
– В таком случае твоих двоюродных братьев может не быть в Амисе.
– Они были там, когда я сбежал. Что случилось после моего побега – не знаю.
Сулла отложил перо и посмотрел глазами старого развратника на строптивого, вырядившегося юношу:
– Очень хорошо, царевич Александр, я предоставлю тебе убежище. Когда я вернусь в Рим, ты будешь сопровождать меня. Что касается твоих притязаний на двойную корону Египта, наверное, лучше обсудить это, когда придет время.
Но время еще не пришло, когда Сулла медленно шел по Аппиевой дороге, направляясь к гостинице у первой вехи. И сейчас он мог предвидеть определенные трудности, связанные с Птолемеем Александром-младшим. Конечно, в голове у Суллы уже созрел план. Если бы эта идея не возникла у него при первой встрече с Птолемеем Александром, он просто отослал бы молодого человека к его дяде Латиру в Александрию и умыл бы руки. Но у него составилась некая схема, и теперь он мог только надеяться, что проживет достаточно, чтобы увидеть плоды своей затеи. Латир был значительно старше его, но явно пребывал в добром здравии. Говорят, в Александрии благоприятный климат.
– Однако, царевич Александр, – заговорил Сулла, когда его провели в лучшую комнату гостиницы, – я не могу содержать тебя за счет Рима все те годы, пока твой дядя не умрет. Даже в таком месте, как это.
Темные глаза гневно блеснули. Птолемей Александр взметнулся, как готовая ужалить змея:
– В таком месте, как это? Да я скорее вернусь в Амис, чем останусь в таком месте, как это!
– В Афинах, – холодно продолжал Сулла, – ты жил по-царски за счет афинян просто благодаря подаркам твоего дяди этому городу. Твой дядя одарил Афины после того, как я был вынужден пограбить их немножко. То была привилегия Афин. Мне ты ничего не стоил. Здесь же ты обходишься слишком дорого. Рим не в состоянии тратить на тебя такие суммы. Поэтому я предлагаю тебе на выбор два варианта. Ты можешь сесть на корабль – за счет Рима, отплыть в Александрию и помириться с твоим дядей Латиром. Или ты можешь сделать заем у одного из банкиров этого города, арендовать дом и слуг на Пинции или в любом другом приемлемом месте за пределами померия и оставаться там, пока не умрет твой дядя.
Трудно сказать, побледнел ли Птолемей Александр, так густо был наложен грим, но Сулле хотелось думать, что царевич все-таки побледнел. Конечно, он сразу поостыл.
– Я не могу поехать в Александрию, мой дядя прикажет меня убить!
– Тогда бери заем.
– Хорошо, возьму. Только скажи мне как.
– Я пришлю к тебе Хрисогона, и он тебя просветит. Он знает все. – Сулла не садился и теперь сразу направился к двери. – Кстати, Александр, ни при каких обстоятельствах ты не можешь пересечь священную границу Рима и войти в город.
– Но я умру от тоски!
Последовала знаменитая усмешка Суллы:
– Сомневаюсь, если станет известно, что у тебя водятся деньги и есть красивый дом. Александрия очень далеко, а ведь ты превратишься в законного царя сразу же, как только Латир умрет. Чего мы с тобой не сможем узнать, пока новость не достигнет Рима. Поскольку Рим не потерпит правящего суверена в своих границах, ты не должен переступать померий. Я говорю серьезно. Не советую тебе пренебрегать моим советом, иначе тебе уже не понадобится плыть в Александрию, чтобы преждевременно умереть.
Птолемей Александр разрыдался:
– Ты отвратительный, страшный человек!
Сулла вышел и направился к Капенским воротам, временами разражаясь смехом, похожим на ржание. Какой отвратительный, страшный человек этот Птолемей Александр! Но каким полезным он может оказаться, если у Латира хватит такта и здравого смысла умереть, пока Сулла еще будет диктатором! Он даже подпрыгнул от удовольствия при мысли о том, что же он сделает, когда услышит, что трон Египта опустел.
Сулла совершенно не думал о том, что его смех и подскок и эта зигзагообразная походка стали предвестием ужаса для каждого, кто случайно видел диктатора. А его мысли уже блуждали по легендарной Александрии.
Однако главное место в мыслях Суллы занимала религия. Как и большинство римлян, он не призывал бога по имени, а закрывая глаза, не представлял себе антропоморфную фигуру – это было слишком по-эллински. В эти дни считалось признаком изысканности изображать Беллону как вооруженную женщину, Цереру – как красивую матрону, несущую сноп пшеницы, Меркурия – в крылатой шапочке и в сандалиях с крылышками, потому что эллинизированное общество стояло выше римского, потому что эллинизированное общество презирало лишенных обличья богов как примитивных, недостойных поклонения со стороны интеллектуалов. Для греков их боги являлись, по существу, такими же людьми, только обладавшими сверхъестественными силами. Рассудок греков не мог вместить веру в существо более сложное, чем человек. Поэтому Зевс, который был главой их пантеона, действовал как римский цензор, обладающий властью, но не всемогущий, и раздавал поручения другим богам, которым нравилось его дурачить, шантажировать – словом, вести себя как народные трибуны.
Но римлянин Сулла знал, что латинские боги не столь телесны, как боги эллинов. Они не были антропоморфными, у них не было глаз, они не вели бесед, не обладали сверхъестественными способностями, не делали умозаключений, подобно людям. Римлянин Сулла знал, что боги – это особые силы, которые управляют явлениями и контролируют другие силы, подвластные им. Боги питаются жизненными соками, поэтому им нужно приносить жертвы. Они нуждаются в том, чтобы в мире живых царили порядок и система – равно как в их таинственном мире, потому что порядок в мире людей помогает поддерживать порядок в мире духовных сил.
Существовали духи, которые охраняли чуланы и амбары, силосные ямы и погреба, любили, чтобы закрома всегда оставались полными, – они назывались пенатами. Были силы, которые охраняли корабли в плавании, перекрестки улиц и все неодушевленные предметы, – они назывались ларами. Имелись и иные силы – они покровительствовали деревьям, чтобы те были высокими, чтобы у них хорошо росли ветви и листья, а корни проникали глубоко в землю. И силы, делавшие воду в реках вкусной и направлявшие текущие с гор реки в моря. В мире действовала могущественная сила, которая избранным людям даровала удачу и богатство, большинству – всего этого понемногу, а некоторым – вообще ничего. Эта сила называлась Фортуной. А сила, которая именовалась Юпитером Всеблагим Всесильным, – это сумма всех других сил, соединительная ткань, которая связывает их всех воедино неким способом, естественным для духов, но непостижимым для людей.
Сулле было ясно, что Рим теряет связь со своими богами, со своими духами. Иначе почему тогда сгорел Большой храм? Почему драгоценные записи ушли в небеса вместе с дымом? Почему погибли пророческие книги? Люди забыли о тайнах, о строгих догматах и принципах, посредством которых действуют божественные силы. Выборы жрецов и авгуров разлаживают деятельность жреческих коллегий, мешают деликатно улаживать все вопросы, что возможно, лишь когда представители одних и тех же семей занимают определенные религиозные посты – с незапамятных времен, из поколения в поколение.
Поэтому, прежде чем обратить свою энергию на выправление пошатнувшихся институтов и утративших силу законов Рима, Сулла должен очистить божественный эфир, гармонизировать его божественные силы, чтобы они могли проявляться свободно. Как мог Рим ожидать чего-то хорошего, когда человек, утративший ценностные ориентиры, дошел до того, чтобы выкрикнуть его тайное имя? Как мог Рим процветать, когда люди грабят свои храмы и убивают своих жрецов? Конечно, Сулла уже забыл, что и сам однажды хотел ограбить римские храмы. Он помнил только, что этого не сделал, хотя ему предстояло биться с реальным врагом. Не помнил он и того, что сам он думал о богах, пока болезнь и вино не разрушили его жизнь.
В пожаре Большого храма заключалось некое послание, Сулла чувствовал это нутром. И его миссия – положить предел хаосу, восстановить божественное равновесие. Если он этого не сделает, то двери, которые следует держать тщательно закрытыми, будут распахнуты настежь, а те двери, которые надлежит отворить, напротив, захлопнутся.
Сулла собрал жрецов и авгуров в старейшем храме Рима – храме Юпитера Феретрия на Капитолии. Храм был таким древним, что считалось, будто его построил сам Ромул – из цельных туфовых блоков, без штукатурки и отделки. Только две колонны поддерживали строгий портик. В этом храме не имелось никаких изображений. На простом квадратном пьедестале покоился жезл из электра длиной в локоть и кремниевый нож, черный и блестящий. Свет поступал в помещение только через дверь, и здесь пахло невероятной древностью – мышиным пометом, плесенью, сыростью, пылью. Единственный зал был площадью всего десять на семь футов, поэтому Сулла был рад тому обстоятельству, что состав коллегии понтификов и коллегии авгуров далеко не полон, иначе все не поместились бы.
Сам Сулла был авгуром. Авгурами были также Марк Антоний, младший Долабелла и Катилина. Из жрецов – Гай Аврелий Котта числился в коллегии дольше всех; за ним следовали Метелл Пий и Флакк, принцепс сената, который являлся также flamen Martiales, фламином Марса. Далее Катул, Мамерк, царь священнодействий Луций Клавдий, родом из той единственной ветви Клавдиев, где давали имя Луций. И еще очень непростой человек – понтифик Брут, сын старого Брута, который все время гадал, попадет ли его имя в проскрипционные списки, и если да, то когда именно.
– У нас нет великого понтифика, – начал Сулла, – и вообще нас очень мало. Я мог бы найти и более удобное место для встречи, но, думаю, можно и потерпеть немного, чтобы умилостивить богов. Мы уже давно привыкли заботиться сначала о себе, а уж потом о наших богах. И боги огорчены. Основанный в том же году, когда была образована наша Республика, храм Юпитера Всесильного сгорел не случайно. Я уверен, это произошло потому, что Юпитер Всеблагой Всесильный чувствует: сенат и народ Рима не желают воздавать ему должное. Мы не так неопытны и легковерны, чтобы согласиться с варварскими верованиями в гнев богов – удары молнии, которые могут нас убить, или падающие колонны, которые могут нас раздавить. Все названное – лишь природные явления, и говорят они только об одном: данному человеку просто не повезло. А вот предзнаменования бывают очень плохие. Пожар нашего Большого храма – ужасное предзнаменование. Если бы у нас все еще оставались Книги Сивилл, мы могли бы больше узнать об этом. Но они сгорели вместе с нашими анналами, древними Двенадцатью таблицами и многим другим.
Присутствовали пятнадцать человек. Места не хватало, чтобы отделить оратора от аудитории. Поэтому Сулла просто стоял в середине и говорил негромким голосом:
– Задача диктатора – вернуть религию Рима в ее древнюю, изначальную форму и заставить вас всех работать на эту цель. Теперь я имею право издавать законы, но ваша задача – выполнять их. В одном я уверен, ибо у меня были сны. Я авгур и знаю: я – прав. Поэтому я отменяю lex Domitia de sacerdotiis, который несколько лет назад навязал нам великий понтифик Гней Домиций Агенобарб, доставив себе большое удовольствие. Почему он это сделал? Потому что чувствовал: его семья оскорблена, а его самого обходят. Вот причины издания этого закона, в основе которого лежала человеческая гордыня, а вовсе не благочестие. Я считаю, что Агенобарб, великий понтифик, огорчил богов, особенно Юпитера Всеблагого Всесильного. Поэтому больше не будет выборов жрецов, даже великого понтифика.
– Но великий понтифик всегда избирался! – удивленно воскликнул Луций Клавдий, rex sacrorum. – Он – верховный жрец Республики! Его назначение должно быть демократичным!
– А я говорю – нет. Отныне его кандидатура тоже будет выдвигаться членами коллегии понтификов, – сказал Сулла тоном, который пресек все возражения. – Я убежден в своей правоте.
– Я не знаю… – начал Флакк и замолчал, встретившись взглядом с Суллой.
– Зато я знаю, так что покончим с этим! – Глаза Суллы скользнули по лицам присутствующих и погасили любые возможные протесты. – Нашим богам наверняка не нравится, что нас так мало, поэтому я принял еще одно решение. В каждой жреческой коллегии, как низшей, так и высшей, будет по пятнадцать членов вместо десяти или двенадцати. Жрецам больше не придется совмещать две обязанности. Кроме того, пятнадцать – счастливое число, вокруг которого стоят несчастливые числа тринадцать и семнадцать. Магия чисел очень важна. Магия создает пути, по которым распространяются божественные силы. Я считаю, что числа обладают великой магией. Поэтому мы заставим магию работать на Рим, на его процветание, и это будет нашим священным долгом.
– Вероятно, – осмелился Метелл Пий, – м-м-мы можем выдвинуть т-т-только одного к-к-кандидата на должность ве-великого понтифика? В таком случае, по крайней мере, будут проведены выборы.
– Выборов не будет! – рявкнул Сулла.
Наступила тишина. Никто не посмел даже шевельнуться.
Помолчав некоторое время, Сулла заговорил снова:
– Один жрец по ряду веских причин вызывает у меня беспокойство. Это наш flamen Dialis, фламин Юпитера, молодой человек по имени Гай Юлий Цезарь. После смерти Луция Корнелия Мерулы Гай Марий и его подкупленный прихвостень Цинна сделали этого юношу фламином Юпитера. Люди, назначившие Цезаря, были нечестивцами. Они нарушили существующий порядок выборов, который должен включать все коллегии. Другая причина моего беспокойства касается моих предков, ибо первый Корнелий, прозванный Суллой, был именно фламином Юпитера. Но то, что сгорел Большой храм, – знамение намного более страшное. Поэтому я стал наводить справки об этом молодом человеке и узнал, что он наотрез отказывался соблюдать правила, предписанные фламину, пока не облачился во взрослую тогу. С тех пор, насколько мне удалось выяснить, его поведение не вызывало нареканий. Все это можно было бы объяснить его юным возрастом. Но мое мнение в данном случае не имеет значения. Что думает по этому поводу Юпитер Всеблагой? Вот что важно. Ибо, мои коллеги жрецы и авгуры, я узнал, что храм Юпитера загорелся за два дня до ид квинтилия. Именно в этот день родился нынешний фламин Юпитера. Знак!
– Это можно истолковать и как хороший знак, – сказал Котта, которого беспокоила судьба фламина Юпитера.
– Да, можно, – согласился Сулла, – но не мне это решать. Как диктатор, я могу определить способ, как назначать наших жрецов и авгуров. Я могу отменить всеобщие выборы. Но случай с фламином Юпитера – особый. Вы все должны решить его судьбу. Все вы! Фециалы, понтифики, авгуры, жрецы священных книг, даже эпулоны и салии. Котта, я назначаю тебя ответственным за расследование, поскольку ты дольше всех служишь понтификом. До декабрьских ид, когда мы снова встретимся в этом храме, чтобы обсудить религиозные взгляды нашего фламина Юпитера. – Сулла пристально посмотрел на Котту. – Пусть все останется в тайне. Ни одного слова не должно просочиться за пределы этого храма. Ничего не должен знать и сам молодой Цезарь.
Сулла шел домой, посмеиваясь и потирая от удовольствия руки. Он придумал самую замечательную шутку! Шутку, которую Юпитер Всеблагой обязательно оценит. Жертвоприношение! Живая жертва за Рим – за Республику, чьим верховным жрецом он являлся! Эту должность придумали, чтобы заменить rex sacrorum, дабы быть уверенными, что Республика избавилась от царей, каждый из которых был и царем священнодействий. «О, идеальная шутка! – воскликнул Сулла про себя, смеясь до слез. – Я принесу Великому Богу жертву, которая охотно пойдет на заклание и будет продолжать приносить себя в жертву до самой смерти! Я подарю Республике и Великому Богу лучшую часть человеческой жизни – его страдания, его печаль, его боль. И все с его согласия. Потому что он никогда не откажется пожертвовать собой!»
На следующий день Сулла опубликовал первые свои законы, целью которых было привести в порядок государственную религию, вывесив их на ростре и на стене регии. Присутствующие у ростры вообразили, что это новый список осужденных изменников, поэтому те, кто жаждал получить награду, устремились к листкам, но скоро отошли, разочарованные: это оказался список лиц, которые теперь являлись членами различных жреческих коллегий – низших и высших. В каждой по пятнадцать человек, как патрициев, так и плебеев (причем плебеев на одного больше), распределенных между лучшими семьями. Ни одного недостойного имени! Никаких Помпеев, или Туллиев, или Дидиев! Лишь Юлии, Сервилии, Юнии, Эмилии, Корнелии, Клавдии, Сульпиции, Валерии, Домиции, Муции, Лицинии, Антонии, Манлии, Цецилии, Теренции. Замечено было также, что Сулла стал теперь не только авгуром, но еще и жрецом и что он был единственным, кто совмещал две должности.
«Я должен быть в обоих лагерях, – сказал он себе, размышляя над списком. – Я – диктатор».
Через день он опубликовал дополнение к списку, содержащее только одно имя. Имя нового великого понтифика – Квинта Цецилия Метелла Пия Свиненка. Заика в роли жреца!
Римляне были вне себя от ужаса, когда увидели это вселяющее страх имя на ростре. Новый великий понтифик – Метелл Пий? Как это может быть? Что случилось с Суллой? Он что, совсем рехнулся?
Дрожавшая от страха депутация явилась к нему в дом Агенобарба. Это были жрецы и авгуры, включая и самого Метелла Пия. По понятным причинам говорил не он. В эти дни он так заикался, что ни у кого не хватало терпения стоять в ожидании, переминаясь с ноги на ногу, пока Свиненок облечет свои пляшущие мысли в слова. От лица всех заговорил Катул.
– Луций Корнелий, почему? – простонал он. – Неужели мы не можем сказать «нет»?
– Я н-н-не хочу эт-т-той раб-б-боты! – жутко заикаясь, проговорил Свиненок, вращая глазами и размахивая руками.
– Луций Корнелий, ты не можешь! – воскликнул Ватия.
– Это немыслимо! – воскликнул Мамерк.
Сулла дал им время выпустить пар. При этом ни один мускул не дрогнул на его лице, в глазах не мелькнуло ни искры эмоций. Сулла не должен показывать им, что это шутка. Они всегда должны видеть его серьезным. Ибо он на самом деле был серьезен. Да! Юпитер явился ему во сне прошлой ночью и сказал, что ему очень понравилась эта замечательная, идеальная шутка.
Наконец они успокоились. Наступило тревожное молчание. Слышно было только, как тихо всхлипывает Свиненок.
– Фактически, – спокойно заговорил Луций Корнелий Сулла, – как диктатор, я могу поступать так, как сочту нужным. Но дело не в этом. Дело в том, что во сне мне явился Юпитер Всеблагой и специально попросил назначить Квинта Цецилия своим великим понтификом. Когда я проснулся, то убедился, что знамения благоприятные. По пути на Форум, куда я шел, чтобы прикрепить два листа на ростру и на регию, я увидел пятнадцать орлов, летящих слева направо. И ни один филин не прокричал, ни одна молния не сверкнула.
Депутаты глянули в лицо Суллы, потом уставились в пол. Сулла был крайне серьезен. Кажется, Юпитер Всеблагой тоже был серьезен.
– Но в ритуалах, совершаемых великим понтификом, не должно быть ошибок! – воскликнул наконец Ватия. – Ни один жест, ни одно действие, ни одно слово не может быть неправильным! Как только будет допущена ошибка, всю церемонию придется начинать сначала!
– Я знаю об этом, – тихо сказал Сулла.
– Луций Корнелий, ты же должен понять! – воскликнул Катул. – Пий заикается почти на каждом слове! И когда он начнет ритуал в качестве великого понтифика, нам придется торчать здесь целую вечность!
– Я все прекрасно понимаю, – очень серьезно сказал Сулла. – Помните, что и я тоже буду с вами. – Он пожал плечами. – Что мне сказать? Вероятно, это какая-то особая жертва, которой требует от нас Великий Бог, потому что в делах, касающихся наших богов, мы ведем себя не так, как должно? – Он повернулся к Метеллу Пию, взял его трясущуюся руку. – Конечно, дорогой Свиненок, ты можешь отказаться. Наши религиозные установления не запрещают тебе этого.
Свиненок схватил край тоги свободной рукой, чтобы вытереть глаза и нос. Он глубоко вдохнул:
– Я сделаю это, Луций Корнелий, если Великий Бог требует этого от м-м-меня.
– Ну вот видишь? – обрадовался Сулла, похлопывая его по руке. – Ты почти преодолел заикание! Практика, дорогой Свиненок! Практика!
Первый приступ смеха грозил превратиться в истерику. Сулла поспешно отпустил депутацию и кинулся в свой кабинет, где и закрылся. Он бросился на ложе, обхватил себя руками и захохотал. Он ржал до слез. Когда у него перехватило дыхание, он скатился на пол и лежал там, крича и дрыгая ногами, до спазмов в животе, таких болезненных, что он едва не умер. Но он продолжал смеяться, уверенный в том, что знаки действительно были благоприятные. И весь день, как только перед его мысленным взором вставал Свиненок с выражением благородного самопожертвования на лице, он сгибался пополам от смеха. Он хохотал каждый раз, когда вспоминал выражение лиц Катула, Ватии и своего зятя Мамерка. Превосходно, превосходно! Идеальная справедливость эта шутка Юпитера. Все получили по заслугам. Включая и Луция Корнелия Суллу.
В декабрьские иды около шестидесяти человек – членов низших и высших жреческих коллегий – пытались втиснуться в храм Юпитера Феретрия.
– Мы засвидетельствовали богу свое уважение, – сказал Сулла. – Не думаю, что он будет против, если мы выйдем на воздух.
Он уселся на низкую стенку, отгораживающую древнее Убежище от сада, поднимающегося вверх по обеим сторонам холма к двойной вершине Капитолия и крепостному валу на Эсквилине, и жестом пригласил остальных опуститься на траву.
«Вот одна из странностей Суллы, – думал несчастный Свиненок. – Он умеет придать важность каждой мелочи и – как сейчас – какое-нибудь очень важное событие свести до обыденности. Праздным посетителям Капитолия, которые, задыхаясь, дошли до верхних ступеней лестницы, ведущей к Убежищу, или поднялись по лестнице Гемоний, срезая путь между Римским форумом и Марсовым полем, собравшиеся жрецы должны сейчас казаться группой учеников странствующего философа или многочисленной родней, окружившей сельского патриарха».
– О чем ты хочешь сообщить, Гай Аврелий? – спросил Сулла Котту, который сидел в середине переднего ряда.
– Во-первых, это задание было очень трудным для меня, Луций Корнелий, – ответил Котта. – Я думаю, ты знаешь, что молодой Цезарь – мой племянник?
– Как и то, что он также мой племянник, хотя по браку, а не по крови, – жестко ответил диктатор.
– Тогда я должен задать тебе еще один вопрос. Намерен ли ты наказать Цезарей, занеся их в свои списки?
Сулла невольно подумал об Аврелии и энергично замотал головой:
– Нет, Котта, не намерен. Цезари, которые были моими шуринами много лет назад, все уже мертвы. Они никогда не совершали преступлений против государства, хотя все они были людьми Мария. Для этого имелись веские причины. Марий помогал семье деньгами, и в основе их лояльности лежала обычная благодарность. Вдова старого Гая Мария – родная тетя мальчика, а ее сестра была моей первой женой.
– Но ты внес в списки семьи Мария и Цинны?
– Да.
– Благодарю, – сказал Котта, довольный. Он прокашлялся. – Молодому Цезарю было всего тринадцать лет, когда его торжественно посвятили в сан жреца Юпитера Всесильного. Он отвечал всем требованиям, кроме одного. Он был патрицием, оба родителя которого были живы, однако еще не вступил в брак. Гай Марий обошел это препятствие, подобрав ему невесту, на которой Цезарь и женился еще до церемонии посвящения. Жена – младшая дочь Цинны.
– Сколько лет ей было? – спросил Сулла, щелкнув пальцами слуге, и тот быстро передал диктатору широкополую шляпу, надев которую Сулла хитро взглянул из-под полей – точно сельский патриарх.
– Ей было семь лет.
– Понимаю. Следовательно, брак детей. Тьфу! Цинна был так жаден?
– Именно, – отозвался Котта, чувствуя себя неловко. – Во всяком случае, мальчик не горел желанием стать жрецом. Он настоял на том, что, пока не наденет тогу взрослого мужчины, он будет вести образ жизни знатного римского юноши. Молодой Цезарь ходил на Марсово поле, где упражнялся с мечом, стрелял из лука, метал копья, – и чем бы он ни занимался, во всем проявлял талант. Мне сказали, что он совершал уж совсем невероятное: брал самого быстрого коня и скакал без седла галопом, держа руки за спиной. Старики на Марсовом поле очень хорошо помнят его и считают это жречество досадным недоразумением ввиду явной склонности мальчика к военной службе. Что касается его поведения в остальном, то, по словам его матери, моей сводной сестры Аврелии, он не придерживался положенного ему рациона, обрезал ногти железным ножом, стриг волосы железной бритвой, завязывал одежду узлом и носил пряжки.
– Что произошло после того, как он надел тогу взрослого мужчины?
– Он радикально изменился, – сказал Котта, и в голосе его прозвучало удивление. – Бунт – если это был бунт – прекратился. Цезарь всегда скрупулезно выполняет свои жреческие обязанности, непременно надевает apex и laena и соблюдает все запреты. Его мать говорит, что ему так и не пришлась по душе его роль, но он с нею смирился.
– Понимаю. – Сулла ударил пятками в стену, потом сказал: – Картина проясняется, Котта. И к какому же выводу ты пришел относительно молодого Цезаря и его жречества?
Котта нахмурился:
– Есть одна трудность. Если бы у нас имелись пророческие книги, мы смогли бы прояснить вопрос. Но у нас их нет. Поэтому окончательный вывод мы сформулировать не можем. Не вызывает сомнений, что по закону мальчик – фламин Юпитера, но с религиозной точки зрения мы в этом не уверены.
– Почему?
– Вопрос в гражданском статусе жены Цезаря. Ее зовут Циннилла. Сейчас ей двенадцать лет. В одном мы абсолютно уверены: у Юпитера должны быть фламин и фламиника, муж и жена. Супруга тоже служит Великому Богу, на нее распространяются те же запреты, у нее имеются свои обязанности. Если она не соответствует определенным требованиям, тогда жречество ее мужа остается под вопросом. И мы пришли к выводу, что Циннилла не отвечает всем религиозным критериям, Луций Корнелий.
– Действительно? И как же ты пришел к такому заключению, Котта? – Сулла с силой двинул по стене и о чем-то подумал. – Брачные отношения были осуществлены?
– Нет. Не были. Циннилла – совсем ребенок, она живет у моей сестры с тех пор, как вышла замуж за молодого Цезаря. А моя сестра – настоящая римлянка, аристократка, – сказал Котта.
Сулла чуть улыбнулся:
– Я знаю, что она настоящая.
– Да…
Котта беспокойно поерзал, вспомнив спор, который разгорелся среди домашних Котты о природе дружбы между Аврелией и Суллой. Он также понимал, что ему придется высказаться чуть ли не критически в адрес одного из новых законов Суллы о проскрипциях. Но храбро решил покончить с этим. – Мы думаем, что Цезарь – фламин Юпитера, но что его жена – не фламиника. По крайней мере, именно так мы поняли твои законы о проскрипциях, поскольку из них не вполне ясно, подпадают ли несовершеннолетние дети осужденных под действие lex Minicia. Сын Цинны был совершеннолетним, когда его отца объявили вне закона, поэтому гражданский статус младшего Цинны не вызывал сомнений. А как быть с несовершеннолетними детьми, особенно с девочками? Распространяется ли потеря гражданства отцом на несовершеннолетнюю дочь? Вот что мы должны были прояснить. И, учитывая строгость твоих законов о проскрипциях в отношении прав детей и других наследников, мы пришли к заключению, что здесь можно применить lex Minicia de liberis.
– Дорогой Свиненок, а ты что хочешь сказать? – спросил диктатор сдержанно, пропустив мимо ушей замечание о юридической неточности его закона. – Не торопись, не торопись! У меня сегодня больше никаких дел нет.
Метелл Пий покраснел:
– Как говорит Гай Котта, здесь можно применить закон о гражданском статусе ребенка осужденного. Если один родитель не гражданин Рима, ребенок не может претендовать на гражданство. Следовательно, жена Цезаря не имеет римского гражданства и потому не может быть фламиникой.
– Блестяще, блестяще! Ты все сказал без единой запинки, Свиненок! – Сулла постучал пятками по стене. – Значит, во всем виноват я, да? Я издал закон, который требует дополнительных разъяснений. Так?
Котта глубоко вдохнул.
– Да, – смело подтвердил он.
– Все так, Луций Корнелий, – вмешался Ватия, решив, что пора внести и свою лепту. – Но мы все понимаем, что можем ошибаться. Потому смиренно просим объяснить нам.
– Ну что же, – сказал Сулла, съезжая со стены, – мне кажется, самый лучший выход из этой ситуации – чтобы Цезарь нашел новую фламинику. Хотя он может быть женат браком confarreatio, с точки зрения и гражданского, и религиозного законов развод в данном случае возможен. Мое мнение таково: Цезарь должен развестись с дочерью Цинны, которая неприемлема для Великого Бога в качестве фламиники.
– Конечно, аннулирование брака, – сказал Котта.
– Развод, – твердо повторил Сулла. – Хотя все без исключения клянутся, что брачных отношений не было, мы можем попросить весталок проверить девственную плеву девушки, ведь мы имеем дело с Юпитером Всеблагим Всесильным. Ты указал мне, что мои законы допускают различное толкование. Фактически ты осмелился истолковать их сам, не придя ко мне посоветоваться, прежде чем выносить решение. В этом твоя ошибка. Ты должен был поговорить со мной. Но поскольку ты этого не сделал, теперь тебе придется смириться с последствиями. Развод diffarreatio.
Котта поморщился:
– Diffarreatio – это ужасная процедура.
– Меня до слез трогает твоя скорбь, Котта.
– Я должен передать это мальчику, – с окаменевшим лицом сказал Котта.
Сулла протянул ему руку.
– Нет! – резко возразил он. – Ничего не говори ему, вообще ничего! Только скажи, чтобы он пришел ко мне домой завтра до обеда. Я предпочитаю сообщить ему сам. Ясно?
– Итак, – сказал Котта Цезарю и Аврелии вскоре после этого, – ты должен увидеться с Суллой, племянник.
Цезарь и его мать были встревожены. Они молча проводили гостя до дверей. После ухода брата Аврелия прошла с сыном в кабинет.
– Сядь, мама, – ласково попросил он.
Аврелия присела на краешек стула.
– Мне это не нравится, – сказала она. – Зачем ты ему понадобился?
– Ты слышала объяснение дяди. Он проводит религиозные реформы и хочет увидеть меня в качестве фламина Юпитера.
– Я не верю этому, – упрямо повторила Аврелия.
Встревоженный, Цезарь подпер рукой подбородок и пытливо посмотрел на мать. Он думал не о себе. Он мог справиться с чем угодно, и знал это. Нет, он волновался за нее и за других женщин своей семьи.
Беды неумолимо преследовали их со времени совещания, которое созвал Марий-младший, чтобы обсудить свое будущее консульство: весь остаток той ужасной зимы с ее наигранной радостью и необоснованной уверенностью, вплоть до зияющей пропасти – поражения при Сакрипорте. О Марии-младшем они практически ничего не знали с тех самых пор, как он стал консулом. Даже его мать и жена. Была еще любовница, красивая римлянка всаднического сословия, по имени Преция. Именно она занимала каждый свободный миг в жизни Мария-младшего. Достаточно богатая, чтобы быть независимой, она залучила в свои сети Мария-младшего, когда ей было уже тридцать семь лет. И замуж она не собиралась. В восемнадцать лет она уже побывала замужем, выполняя волю отца, который умер вскоре после этого. Преция быстро завела нескольких любовников, и ее муж развелся с ней. Это ее вполне устраивало. Она стала вести образ жизни, который нравился ей больше всего. Держала собственный салон и сделалась любовницей интересного аристократа, который приводил к ней своих друзей, доставлял политические интриги к обеду и прямо в постель. И таким образом давал ей возможность соединять политику со страстью – неотразимое сочетание для Преции.
Марий-младший был ее самым крупным уловом. Со временем он ей даже стал нравиться. Ее забавляло его юношеское позерство. Ее притягивала магия имени Гая Мария. И еще ей льстил тот факт, что молодой старший консул предпочитал ее своей матери Юлии и жене Муции. Так что она предоставила свой просторный и со вкусом обставленный дом всем друзьям Мария-младшего, а свою кровать – небольшой, избранной группе политиков, которая являлась узким кругом друзей консула. Когда Карбон (презираемый ею) уехал в Аримин, Преция сделалась главным советником своего любовника во всем и считала, что это она, а вовсе не Марий-младший правит Римом.
Поэтому, когда пришло известие, что Сулла собирается покинуть Теан Сидицийский, и Марий-младший объявил, что уже давно пора ему присоединиться к своей армии, у Преции появилась идея сопровождать командующего на войну. Но этого не получилось. Марий-младший нашел типичное решение проблемы (а Преция тем временем уже становилась для него проблемой): он покинет Рим, когда стемнеет, ничего ей не сказав. Что ж! Преция пожала плечами и постаралась найти себе другую забаву.
Все это означало, что ни его мать, ни его жена не смогли с ним проститься, пожелать удачи, которая ему, безусловно, могла понадобиться. И Марий-младший ушел. Чтобы никогда больше не вернуться. Новость о Сакрипорте достигла Рима после того, как Брут Дамасипп (слишком преданный Карбону, чтобы уважать Прецию) начал бойню. Среди погибших был Квинт Муций Сцевола, великий понтифик, отец жены Мария-младшего и хороший друг матери Мария-младшего.
– Это сделал мой сын, – сказала Юлия Аврелии, когда та пришла предложить свою помощь.
– Ерунда! – возразила Аврелия. – Это был Брут Дамасипп, и больше никто.
– Я видела письмо, которое мой сын написал собственной рукой и прислал из Сакрипорта, – сказала Юлия, втянув в себя воздух, словно ей трудно было дышать. – Он был не в силах смириться с поражением, не попытавшись отомстить. Разве могу я надеяться, что моя невестка захочет со мной разговаривать?
Цезарь тихо сидел в дальнем углу комнаты и пристально наблюдал за лицами женщин. Как мог Марий-младший причинить такую боль тете Юлии? Особенно после того, что натворил в конце своей жизни его сумасшедший старик-отец! Юлия завязла в своем огромном горе, как муха в куске янтаря. Она стала еще красивее, потому что застыла. Боль таилась внутри, никто ее не видел. Даже глаза не выдавали ее.
Вошла Муция. Юлия отпрянула, отвела взгляд.
Аврелия сидела прямо, черты заострились, лицо каменное.
– Муция Терция, ты винишь Юлию за убийство твоего отца? – строго спросила она.
– Конечно нет, – ответила жена Мария-младшего, пододвинула стул к Юлии, села и взяла ее руки в свои. – Пожалуйста, Юлия, посмотри на меня.
– Не могу.
– Посмотри! Я не намерена возвращаться в дом моего отца и жить там с мачехой. Я также не хочу переезжать в дом моей матери с ее отвратительными мальчишками. Я хочу остаться здесь, с моей дорогой и доброй свекровью.
Значит, с этой стороны все обстояло хорошо. Казалось, жизнь продолжалась – для Юлии и Муции Терции, хотя они не получали вестей от Мария-младшего, запертого в Пренесте, а сообщения с разных полей сражений были в пользу Суллы. «Если бы Марий-младший был сыном Аврелии, – размышлял сын Аврелии, – его мало утешили бы мысли о матери, пока тянутся бесконечные дни в Пренесте». Аврелия – не такая мягкосердечная, не такая любящая, не такая всепрощающая, как Юлия. Но если бы она была такой, с улыбкой подумал Цезарь, он мог бы стать похожим на Мария-младшего! Цезарь унаследовал от своей матери отчужденность. И ее жесткость.
Плохие новости громоздились одна на другую. Карбон сбежал ночью. Сулла заставил отступить самнитов. Помпей и Красс разбили армию, которую Карбон бросил в Клузии. Свиненок и Варрон Лукулл контролировали Италийскую Галлию. Сулла вошел в Рим только на несколько часов, назначить временное правительство, – и оставил вместо себя Торквата с фракийской кавалерией, чтобы временное правительство могло успешно функционировать.
Сулла не пришел навестить Аврелию, что очень удивило ее сына. Удивило до такой степени, что он попробовал кое-что разузнать. О той неожиданной встрече недалеко от Теана Сидицийского Аврелия почти ничего не рассказывала. И теперь она сидела невозмутимая. Цезарь решил нарушить это спокойствие.
– Он должен был прийти к тебе! – сказал Цезарь.
– Он больше никогда ко мне не придет, – ответила Аврелия.
– Почему?
– Те посещения остались в прошлом.
– В том прошлом, когда он был достаточно красив, чтобы нравиться? – фыркнул ее сын, внезапно проявив так сурово подавляемый характер.
Аврелия застыла и уничтожающе посмотрела на Цезаря.
– Ты глуп и оскорбляешь меня. Уйди! – приказала она.
Он ушел. И никогда больше не затрагивал эту тему. Что бы Сулла ни значил для Аврелии, это ее дело.
Они слышали об осадной башне, которую соорудил Марий-младший, и о ее бесславном конце; о других его попытках прорваться сквозь стену Офеллы. А потом, в последний день октября, пришло ужасное известие о том, что девяносто тысяч самнитов стоят в лагере Помпея Страбона у Квиринальских ворот.
Следующие два дня были худшими в жизни Цезаря. Задыхаясь в своем жреческом наряде, связанный запретом дотрагиваться до меча и смотреть на умирающих, он закрылся в кабинете и приступил к работе над новой эпической поэмой – на латыни, не на греческом, – выбрав дактилический гекзаметр, чтобы сочинять было труднее. Шум сражения звенел в его ушах, но он постарался отвлечься от него и все продолжал плести этот сводящий с ума спондей и громоздить пустые фразы. Ему до боли хотелось быть там. Он признавался себе, что ему все равно, на чьей стороне драться, лишь бы драться…
И когда ночью звуки замерли, он быстро вышел из кабинета, разыскал мать, склонившуюся над счетами, и встал в дверях, трясясь от гнева.
– Как я могу написать что-то, если ничего не знаю? – выкрикнул он. – О чем слагали стихи великие поэты и писали историки, если не о войне и о воинах? Разве Гомер зря растратил жизнь на трескучие фразы? Разве Фукидид считал искусство пчеловодства подходящей темой для своего пера?
Аврелия знала, как осадить Цезаря, и произнесла холодным тоном:
– Вероятно, нет, – и возобновила свою работу.
В ту ночь миру пришел конец. Сын Юлии был мертв, все они были мертвы, и Рим принадлежал Сулле, который не пришел к Аврелии и не прислал никакого сообщения.
То, что сенат и центуриатные комиции проголосовали за то, чтобы он был диктатором, знали все и без конца об этом говорили. Луций Декумий рассказал Цезарю и молодому Гаю Матию, который жил в другой квартире на первом этаже их дома, о таинственном исчезновении всадников.
– Пропадают все, кто разбогател при Марии, Цинне или Карбоне. И это не несчастные случаи. Тебе повезло, что твой tata уже давно мертв, Прыщ, – сказал Луций Декумий Гаю Матию, который получил это неблагозвучное прозвище, как только научился ходить. – И твой tata тоже, молодой Павлин, – сказал он Цезарю.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Матий, нахмурившись.
– Я имею в виду вот что. Несколько с виду неприметных человек ходят по городу и «крадут» богатых всадников, – сказал квартальный начальник. – Большей частью вольноотпущенники. Но это не обычные болтливые греки-гомики. Все они носят имя Луций Корнелий. Мои братья по коллегии перекрестков и я называем их приспешниками Суллы. Потому что они все его люди. Попомните мои слова, это не сулит ничего хорошего. И я могу предсказать, что они еще много повыщипывают богатых всадников.
– Сулла не может этого делать! – сказал Матий, сжав зубы.
– Сулла может делать все, что захочет, – возразил Цезарь. – Его назначили диктатором. Это даже лучше, чем быть царем. Его эдикты имеют силу законов. Он не ограничен lex Caecilia Didia, из которого следует, что должно пройти семнадцать дней между провозглашением закона и его утверждением. Он даже не обязан обсуждать свои законы в сенате или в комициях. И его нельзя привлечь к суду ни за какие действия, даже за совершенные в прошлом. Однако, – добавил Цезарь задумчиво, – думаю, что Рим погибнет без твердой руки. Поэтому я надеюсь, что для Суллы все сложится удачно. И надеюсь, у него достаточно ума, прозорливости и смелости, чтобы сделать то, что должно.
– У этого человека, – сказал Луций Декумий, – достаточно наглости для всего.
Обитая в самом центре Субуры – беднейшего и самого разноязыкого района Рима, они понимали, что проскрипции Суллы не влияют на них так, как на жителей Карин, Эсквилина, Палатина, верхнего Квиринала и Виминала. Хотя некоторые всадники первого класса были значительно беднее, чем иные субуранцы, не многие из обитающих в Субуре обладали статусом выше казначейского трибуна и почти никто не имел компрометирующих политических связей.
Когда Юлия и Муция Терция увидели, что имя Мария-младшего стоит вторым сверху в первом списке, они пришли к Аврелии. Поскольку обычно Аврелия приходила к ним, их визит оказался сюрпризом. Они принесли весть о проскрипциях, которая еще не дошла до Субуры. Сулла постарался, чтобы Юлия долго не томилась ожиданием решения своей судьбы.
– Я получила уведомление, его принес мне претор по гражданским делам, Долабелла-младший. – Юлия поежилась. – Неприятный человек! Имение моего бедного сына конфисковано. Ничего нельзя спасти.
– И твой дом тоже? – побелев, спросила Аврелия.
– Все. У него имелся подробный список имущества. Все акции рудников в Испании, земли в Этрурии, наша вилла в Кумах, дом здесь, в Риме, еще земли, которые Гай Марий приобрел в Лукании и Умбрии, пшеничные латифундии на реке Баграде в провинции Африка, красильни в Иераполисе, стеклодувные мастерские в Сидоне. Даже ферма в Арпине. Все это принадлежит теперь Риму, и мне сказали, что все будет выставлено на аукцион.
– О, Юлия!
Но Юлия была из рода Юлиев. Она улыбнулась. И даже не одними губами.
– Не все так плохо! Я получила личное письмо от Суллы, в котором он говорит, что мне причитается сто талантов серебром от продажи. В такую сумму он оценивает мое приданое. Боги свидетели, я ведь выходила замуж без единого сестерция! Но я буду иметь сто талантов, потому что, как говорит Сулла, я – сестра Юлиллы. Ради нее, поскольку она была его женой, он не хочет, чтобы я нуждалась. Письмо довольно вежливое.
– Вообще-то, это немало, но после того, что ты имела, это ничто, – со вздохом сказала Аврелия.
– Я смогу купить неплохой домик на Длинной улице, и у меня еще будет приличный доход. Конечно, рабов продадут на аукционе вместе с домом, но Сулла позволил мне оставить Строфанта. Я так рада этому! Бедный старик чуть с ума не сошел от горя. – Юлия замолчала, ее серые глаза наполнились слезами. – Во всяком случае, я смогу устроиться довольно прилично. Жены или матери других поименованных в списке и того лишены. У них ничего не осталось.
– А как же ты, Муция Терция? – спросил Цезарь. – Ты записана как жена Мария или как дочь Муция?
По ней не было заметно, чтобы она горевала по мужу. Вот тетя Юлия – та горевала, хотя и не показывала этого. Но Муция Терция?
– Я записана как жена Мария, – ответила она, – поэтому я теряю свое приданое. Имение моего отца сильно обременено долгами. В его завещании мне ничего не выделено. Если что-то и было, мачеха все приберет к рукам. Моя мать в безопасности: Метелл Непот – сторонник Суллы. Но их два сына должны идти в завещании впереди меня. По пути сюда мы с Юлией обсудили этот вопрос. Я останусь с ней. Сулла запретил мне снова выходить замуж, поскольку я была женой Мария. Да в общем-то, я и не хочу другого мужа.
– Это кошмар! – воскликнула Аврелия. Она взглянула на свои запачканные чернилами пальцы с припухшими суставами. – Мы тоже можем оказаться в списке. Мой муж до конца оставался человеком Гая Мария. А после его смерти – человеком Цинны.
– Но этот дом записан на твое имя, мама. Поскольку все Котты – за Суллу, он должен остаться твоим, – сказал Цезарь. – Я могу потерять свою землю. Но по крайней мере, так как я – flamen Dialis, государство будет платить мне жалованье, а на Форуме у меня государственный дом. Я думаю, Циннилла потеряет свое приданое.
– А родственники Цинны потеряют все, – сказала Юлия и вздохнула. – Сулла хочет покончить с оппозицией.
– А что с Аннией? И старшей дочерью, Корнелией Цинной? – спросила Аврелия. – Мне никогда не нравилась Анния. Она была плохой матерью для моей маленькой Цинниллы. Она неприлично быстро снова вышла замуж после смерти Цинны. Поэтому, смею сказать, она не пропадет.
– Ты права. Она достаточно давно вышла замуж за Пупия Пизона Фруги, чтобы считаться женой именно Пупия, а не Цинны, – сказала Юлия. – Я многое узнала от Долабеллы, он с удовольствием рассказал мне, кто еще пострадает. Бедная Корнелия Цинна приписана к семье Гнея Агенобарба. Конечно, она потеряла свой дом, а Анния отказалась принять ее. Вероятно, она живет со старой теткой-весталкой на Прямой улице.
– Как же я рада, что мужья обеих моих девочек придерживались нейтралитета! – воскликнула Аврелия.
– У меня тоже есть новости, – заговорил Цезарь, чтобы отвлечь внимание женщин от их невзгод.
– Какие?
– Наверное, Лепид это предчувствовал. Вчера он развелся со своей женой, дочерью Сатурнина, Аппулеей.
– О, это ужасно! – воскликнула Юлия. – Я еще могу понять, почему те, кто выступал против Суллы, должны быть теперь наказаны, но для чего должны страдать их дети и дети их детей? Вся эта суматоха с Сатурнином случилась так давно! Сулле наплевать на Сатурнина. Напрасно Лепид так поступил с ней. Она ведь родила ему троих замечательных сыновей!
– Больше она никого не родит, – сказал Цезарь. – Она легла в горячую ванну и перерезала себе вены. Так что теперь Лепид бегает по городу и проливает потоки слез от горя. Тьфу!
– Но ведь он всегда был таким, – презрительно фыркнула Аврелия. – Не отрицаю, в мире должно найтись место и для слабых людей, но беда Марка Эмилия Лепида в том, что он искренне считает себя настоящим мужчиной.
– Бедный Лепид! – вздохнула Юлия.
– Бедная Аппулея, – довольно сухо промолвила Муция Терция.
Теперь, после сообщения Котты, появилось нечто вроде уверенности в том, что Цезари не будут поименованы в списках. При шестистах югерах земли в Бовиллах у Цезаря останется сенаторский ценз. «Нет, меня не беспокоит ценз сенатора», – думал он, с кривой улыбкой наблюдая, как сыплется снег из светового колодца. Flamen dialis автоматически становился членом cената.
Пока он любовался внезапным приходом зимы, его мать следила за ним.
«Такой славный человек, – думала она, – и это – мое произведение, больше ничье. И хотя у него много превосходных качеств, он далеко не идеален. Не такой сострадательный, не такой ласковый, как его отец, несмотря на то что очень похож на отца. Но и на меня тоже. Он так разносторонне талантлив. Пошли его куда угодно в этом доме, он может сразу определить, что где не в порядке: трубы, черепица, штукатурка, ставни, водостоки, покраска, дерево. А как он усовершенствовал тормоза и краны для нашего старого изобретателя! Он ведь умеет писать и на иудейском, и на персидском! Он говорит на десяти языках благодаря нашим разноязычным жильцам. Еще мальчишкой он превратился в легенду на Марсовом поле. В этом клянется мне Луций Декумий. Он плавает, ездит верхом, бегает как ветер. Он пишет поэмы и пьесы – не хуже, чем Плавт и Энний. Впрочем, я его мать и не должна так говорить. А в риторике, как убеждал меня Марк Антоний Гнифон, Цезарю-младшему нет равных. Как это выразился Гнифон? Мой сын может заставить плакать камни и неистовствовать горы. Он изучил законы, он мгновенно прочитывает любой текст, как бы плох ни был почерк. Во всем Риме никто больше не может этого сделать, даже это чудо по имени Марк Туллий Цицерон. А что касается женщин – как они преследуют его! По всей Субуре. Конечно, он воображает, будто я не знаю. Он думает, что я считаю его девственником, ожидающим свою маленькую женушку. Ну что ж, так даже лучше. Мужчины – странные создания, когда дело доходит до той части их бытия, которая делает их мужчинами. Да, мой сын не идеален. Он просто потрясающе одарен. У него вспыльчивый характер, хотя он старается держать себя в руках. Он в чем-то эгоист и не всегда внимателен к чувствам и нуждам других. А что касается его помешательства на чистоте – мне, конечно, нравится видеть его столь разборчивым, но чтобы до такой степени! Это уж точно не от меня. Он даже не посмотрит на женщину, если она не выйдет прямо из ванны. И я подозреваю, что он сначала осмотрит ее с головы до пят, вплоть до состояния кожи между пальцами ног. Это в Субуре-то! Однако он прямо нарасхват. Поэтому местные женщины сделались поразительными чистюлями – как раз с тех пор, как ему исполнилось четырнадцать. Рано созрел! Я надеялась, что мой муж пользовался местными женщинами в те долгие годы, что он проводил вдали от дома, но он всегда говорил мне, что этого не было, что он ждал меня. Если мне что-то в нем и не нравилось, так именно это. Такой груз вины и ответственности он взвалил на меня! Мой сын никогда не поступит так со своей женой. Я надеюсь, она оценит свою удачу. Сулла. Его вызвали к Сулле. Хотела бы я знать зачем. Хотела бы я…»
Внезапно Аврелия очнулась от своих мыслей, увидев, что Цезарь перегнулся через стол и со смехом щелкает пальцами перед ее лицом.
– Где ты была? – спросил он.
– Здесь – и везде, – ответила Аврелия. Встав, она почувствовала, что замерзла. – Я велю Бургунду принести тебе жаровню, Цезарь. В этой комнате очень холодно.
– Беспокойная натура, – любовно промолвил ей вслед Цезарь.
– Я не хочу, чтобы ты предстал перед Суллой, гнусавя и непрерывно чихая, – отозвалась мать.
Но тем утром он не чихал и не гнусавил. Молодой человек появился в доме Гнея Агенобарба за час до назначенного времени, готовый мерзнуть в атрии, только бы не опоздать. Действительно, управляющий, чрезвычайно угодливый грек с масленым взглядом, сообщил посетителю, что он пришел слишком рано, так не угодно ли ему подождать? Чувствуя, как мурашки бегают по коже, Цезарь кивнул и отвернулся от человека, который скоро станет знаменитым, – весь Рим будет знать Хрисогона.
Но Хрисогон не ушел – ему явно приглянулся красивый юноша, и у Цезаря хватило ума не сделать того, что так хотелось, – вбить зубы этого парня ему в горло. Вдруг его осенило. Он быстро вышел на лоджию, а управляющий слишком не любил холод, чтобы последовать за ним.
В этом доме имелись две лоджии, и та, на которой стоял Цезарь, рисуя на снегу полумесяцы носком своей сандалии на деревянной подошве, выходила не на Римский форум, а на Палатинский утес, в направлении спуска Виктории. Прямо над ним располагалась лоджия другого дома, которая буквально нависала над домом Агенобарба.
Цезарь наморщил лоб, вспоминая былых обитателей этого здания. Марк Ливий Друз, убитый в атрии своего дома десять лет назад. Так вот где все эти дети-сироты обитали под строгим надзором… Кого? Правильно, дочери этого Сервилия Цепиона, который утонул, возвращаясь из своей провинции! Гнеи? Да, Гнеи. И ее ужасной матери Порции Лицинианы! Уйма маленьких Сервилиев Цепионов и Порциев Катонов. Неправильных Порциев Катонов из ветви Салонианов, потомков раба. Теперь из них остался один. Вон он стоит, облокотившись на мраморную балюстраду, болезненно худенький мальчик с длинной шеей, что делало его похожим на аиста, и крупным носом, заметным даже на таком расстоянии. Грива прямых рыжих волос. Без сомнения, этот из рода Катона Цензора!
Все эти мысли указывали на одну черту Цезаря, которую при перечислении качеств сына пропустила мать: молодой Цезарь обожал сплетни и ничего не забывал.
– Досточтимый жрец, мой хозяин готов увидеться с тобой.
Цезарь с усмешкой повернулся и весело помахал рукой мальчику, стоящему на балконе Друза. Его очень позабавило то, что мальчик не отреагировал. Маленький Катон, наверное, был слишком изумлен, чтобы махнуть в ответ. Во временном жилище Суллы не было никого, кто бы нашел время подружиться с бедным парнем, похожим на птицу, потомком землевладельца из Тускула и раба-кельтибера.
Хотя Цезарь был подготовлен к виду диктатора Суллы, он все-таки испытал потрясение. Неудивительно, что Сулла не стал навещать Аврелию! «На его месте я тоже не показался бы ей на глаза», – подумал Цезарь и, ступая как можно тише, вошел в комнату.
Первая реакция Суллы: он посмотрел на молодого Цезаря как на незнакомого человека. Но это из-за безобразного пурпурного жреческого плаща и странного шлема из слоновой кости, создававшего впечатление лысины.
– Сними все это, – приказал Сулла и снова обратился к документам, разложенным на столе.
Когда Сулла поднял голову, жречонок исчез. Перед Луцием Корнелием Суллой стоял его давно умерший сын. Волосы у Суллы на руках и на затылке вздыбились. Из его горла вырвался сдавленный звук, и он с трудом поднялся на ноги. Золотистые кудри, большие голубые глаза, удлиненное лицо Цезарей, этот рост… Но потом затуманенное слезами зрение Суллы начало улавливать отличия. Высокие острые скулы Аврелии, впалые щеки, изящный рот со складками в уголках. Юноша старше, чем был Сулла-младший, когда умер. «Ох, Луций Корнелий, сын мой, почему ты умер?»
Диктатор смахнул слезы.
– На миг мне показалось, что передо мной стоит сын, – хрипло признался он и вздрогнул.
– Он был моим двоюродным братом.
– Помню, ты говорил, что он тебе нравится.
– Да.
– Больше, чем Марий-младший, – так ты говорил.
– Да.
– И ты написал поэму на его смерть, но сказал, что она недостаточно хороша, и не показал мне.
– Да, это правда.
Сулла снова опустился в кресло, руки его дрожали.
– Садись, мальчик. Вот сюда, здесь света побольше, и я могу тебя видеть. Глаза мои уже не те, что раньше.
Нужно внимательно слушать его! Он послан Великим Богом, чьим жрецом является.
– Что тебе сказал твой дядя Гай Котта?
– Только то, что я должен с тобой увидеться, Луций Корнелий.
– Зови меня Сулла – так все меня зовут.
– А меня все зовут Цезарь, даже моя мать.
– Ты – фламин Юпитера.
Что-то мелькнуло в тревожно знакомых глазах. Почему они такие знакомые, если глаза его сына были голубее и веселее? В этих глазах – гнев. Или боль? Нет, не боль. Гнев.
– Да, я – фламин Юпитера, – отозвался Цезарь.
– Люди, которые назначили тебя на эту должность, были врагами Рима.
– В то время, когда меня назначали, они не были врагами Рима.
– Это справедливо. – Сулла взял свое камышовое перо в золотой оправе, снова положил. – У тебя есть жена.
– Да.
– Она дочь Цинны.
– Да.
– Ты осуществил брачные отношения?
– Нет.
Встав из-за стола, Сулла подошел к окну, раскрытому настежь, несмотря на жуткий холод. Цезарь улыбнулся про себя, подумав, что бы сказала на это его мать: вот еще один человек, которому наплевать на стихии.
– Я приступил к восстановлению Республики, – заговорил Сулла, глядя из окна на статую Сципиона Африканского, водруженную на высокую колонну. Сейчас он и старый приземистый Сципион Африканский находились на одном уровне. – По причинам, полагаю, тебе понятным я решил начать с религии. Мы растеряли старые ценности и должны их вернуть. Я отменил всеобщие выборы жрецов и авгуров, включая великого понтифика. Политика и религия в Риме переплетены очень сложно, но я не хочу, чтобы религия оставалась служанкой политики, когда должно быть наоборот.
– Понимаю, – сказал Цезарь, не вставая с кресла. – Однако я считаю, что великого понтифика следует выбирать всеобщим голосованием.
– Что ты там считаешь, мальчик, меня не интересует.
– Тогда зачем я здесь?
– Да уж конечно не затем, чтобы делать мне умные замечания.
– Прости.
Сулла резко обернулся, зло посмотрел на жреца Юпитера:
– Ты нисколько меня не боишься, да?
Цезарь улыбнулся – такой похожей улыбкой! – улыбкой, которой радуются и сердце, и ум.
– Я, бывало, прятался в фальшивом потолке над нашей столовой и подглядывал, как ты разговариваешь с Аврелией. Времена изменились, изменились и обстоятельства. Но трудно бояться того, кого ты внезапно полюбил, когда узнал, что он не любовник твоей матери.
Эти слова вызвали такой взрыв хохота, что у Суллы снова появились слезы в глазах.
– Вот уж правда! Не был. Однажды я попытался, но она оказалась мудрее меня. У твоей матери мужской ум. Я не приношу счастья женщинам. Никогда не приносил. – Блеклые беспокойные глаза смотрели на Цезаря сверху вниз. – Ты тоже не принесешь счастья женщинам, хотя их будет очень много.
– Почему ты позвал меня, если не нуждаешься в моих советах?
– Чтобы положить конец нечестию. Говорят, ты родился в тот же самый день, когда сгорел храм Юпитера.
– Да.
– И как ты это понимаешь?
– Как хороший знак.
– К сожалению, коллегия понтификов и коллегия авгуров не согласны с тобой, юный Цезарь. Недавно они обсуждали тебя и твое служение и пришли к выводу, что имеет место некое нарушение традиций, которое и стало причиной разрушения храма Великого Бога.
Радость озарила лицо Цезаря.
– О, как я рад услышать то, что ты сейчас сказал!
– А что я сказал?
– Что я больше не фламин Юпитера.
– Я не говорил этого.
– Ты сказал! Ты сказал!
– Ты меня не так понял, мальчик. Ты определенно фламин Юпитера. Пятнадцать жрецов и пятнадцать авгуров пришли к такому выводу без тени сомнений.
Радость померкла.
– Лучше бы я был солдатом, – угрюмо проговорил Цезарь. – Я больше подхожу для этого.
– Кем бы ты хотел быть, не имеет значения. Значение имеет то, кем ты являешься. И кем является твоя жена.
Цезарь нахмурился, пытливо посмотрел на Суллу:
– Ты уже второй раз упомянул мою жену.
– Ты должен развестись с ней, – прямо сказал Сулла.
– Развестись с ней? Не могу!
– Почему?
– Мы поженились по обряду confarreatio.
– Существует такая вещь, как diffarreatio.
– Но почему я должен с ней разводиться?
– Потому что она – дочь Цинны. Оказывается, в мои законы относительно проскрибированных лиц и членов их семей вкралась небольшая неточность, касающаяся гражданского статуса несовершеннолетних детей. Жрецы и авгуры решили, что здесь вступает в силу lex Minicia. Это означает, что твоя жена – не римлянка и не патрицианка. Поэтому она не может быть фламиникой. Поскольку фламинат предусматривает служение божеству обоих супругов, законность ее положения так же важна, как и твоего. Ты обязан с ней развестись.
– Я не сделаю этого, – сказал Цезарь, вдруг нашедший выход из затруднительного положения.
– Ты сделаешь все, что я тебе прикажу, мальчик.
– Я не сделаю ничего, чего не должен делать.
Сморщенные губы медленно втянулись.
– Я – диктатор, – ровным голосом сказал Сулла. – Ты разведешься с женой.
– Я отказываюсь, – ответил Цезарь.
– Я могу заставить тебя сделать это, если потребуется.
– Как? – презрительно спросил Цезарь. – Ритуал diffarreatio требует моего полного согласия и сотрудничества.
Пора сломать хребет этому несносному мальчишке! Сулла показал Цезарю когтистое чудовище, которое жило в нем и которому впору выть на луну. Но при внезапном проявлении этого чудовища Сулла понял, почему глаза Цезаря так знакомы ему. Они были похожи на его собственные! Глядят на него равнодушно-холодным, пристальным взглядом змеи. И чудовище уползло внутрь. Впервые в жизни Сулла не нашел способа подчинить своей воле другого человека. Гнев, который должен был бы овладеть им, не приходил. Вынужденный смотреть на самого себя в лице кого-то другого, Луций Корнелий Сулла оказался бессилен.
Здесь можно действовать только убеждением.
– Я поклялся восстановить надлежащие этические нормы mos maiorum в религии, – сказал Сулла. – Рим будет чтить своих богов и заботиться о них так, как он это делал на заре Республики. Юпитер Всеблагой Всесильный недоволен. Тобой или, точнее, твоей женой. Ты – его особый жрец, и твоя жена – неотделимая часть твоего служения. Ты должен расстаться со своей женой и взять другую. Ты должен развестись с дочерью Цинны, неримлянкой.
– Нет, – сказал Цезарь.
– Тогда мне придется найти другое решение.
– Могу предложить одно, – тут же сказал Цезарь. – Пусть Юпитер Всесильный сам разведется со мной. Аннулируй мой фламинат.
– Я мог бы это сделать как диктатор, если бы не вовлек жрецов. Я связан их решением.
– В таком случае получается, – спокойно сказал Цезарь, – что мы зашли в тупик, да?
– Нет. Есть еще один выход.
– Убить меня.
– Именно.
– И кровь фламина Юпитера будет на твоих руках, Сулла.
– Нет, если тебя убьет кто-то другой. Я не согласен с греческой метафорой, Гай Юлий Цезарь. И наши римские боги тоже. Вину нельзя переложить на другого.
Цезарь обдумал его слова.
– Похоже, ты прав. Если ты прикажешь убить меня кому-то другому, вина падет на того человека. – Он поднялся с кресла, сразу став выше Суллы. – Тогда наш разговор окончен.
– Окончен. Если ты не передумаешь.
– Я не разведусь с женой.
– Тогда я прикажу убить тебя.
– Если сможешь, – сказал Цезарь и вышел.
– Ты забыл свои laena и apex, жрец! – крикнул ему вслед Сулла.
– Сохрани их для следующего фламина Юпитера.
Цезарь заставил себя идти домой медленно, гадая, как скоро Сулла придет в себя. То, что диктатор выбит из колеи, он увидел сразу. Очевидно, не многие осмеливались бросить вызов Луцию Корнелию Сулле.
Воздух был морозный, стояли холода, хотя и выпал снег. А мальчишеский жест – швырнуть плащ – лишил Цезаря теплого одеяния. А-а, не важно. Не умрет же он, пока идет от Палатина до Субуры. Намного важнее, как поступить дальше. Ибо Сулла прикажет его убить, в этом Цезарь нисколько не сомневался. Он вздохнул. Можно было бы сбежать. Хотя молодой Цезарь знал, что сумеет постоять за себя, он не строил иллюзий относительно того, кто из них победит, если он останется в Риме. Победит, конечно, Сулла. Однако в распоряжении Цезаря был по меньшей мере день. Диктатор, как и любой другой человек, находился во власти медленно работающей бюрократической машины. Он еще должен переговорить с одной из тех групп ничем не приметных людей, а для этого ему придется выкроить время в своем плотном расписании. Его вестибюль, как успел заметить Цезарь, полон клиентов, а не наемных убийц. Жизнь в Риме совсем не похожа на греческую трагедию: никаких пылких речей не произносят перед людьми, рвущимися вперед, точно свора собак с поводка. Когда Сулла найдет время, он отдаст приказ. Но не сейчас.
Цезарь вошел в квартиру матери, посинев от холода.
– Где твоя одежда? – ахнула Аврелия.
– У Суллы, – еле выговорил он онемевшими губами. – Я оставил ее для следующего фламина Юпитера. Мама, он сам показал мне, как можно избавиться от этого!
– Расскажи, – попросила она, усаживая сына возле жаровни.
Он все объяснил.
– О Цезарь, почему? – воскликнула Аврелия, когда он закончил свое повествование.
– Да ладно, мама, ты же сама знаешь почему. Я люблю свою жену. Это прежде всего. Все эти годы она жила с нами и смотрела на меня в ожидании внимания, какого не пожелали ей уделить ни отец, ни мать. Она всегда считала меня самым чудесным, что было в ее маленькой жизни. Как я могу отказаться от нее? Ведь она же дочь Цинны! Нищая! И даже больше не римлянка! Мама, я не хочу умирать. Лучше уж быть фламином Юпитера. Но есть вещи, за которые стоит умереть. Принципы. Долг римлянина-аристократа, о котором ты так настойчиво твердила мне. Я отвечаю за Цинниллу. Я не могу бросить ее! – Цезарь пожал плечами, повеселел. – Кроме того, это для меня выход. Раз я отказываюсь развестись с Цинниллой, следовательно, я неугоден Великому Богу в качестве его жреца. Поэтому я должен продолжать стоять на своем.
– До тех пор, пока Сулла не прикажет тебя убить.
– Это в руках Великого Бога, мама, ты знаешь. Я верю, что Фортуна дала мне случай и что я должен воспользоваться им. Мне просто нужно дожить до того дня, когда Сулла умрет. Как только он умрет, ни у кого не хватит смелости убить фламина Юпитера. И коллегия будет вынуждена снять с меня эти жреческие оковы. Мама, я не верю, будто Юпитер Всесильный хочет, чтобы я оставался его особым жрецом. Я верю, что у него для меня найдется другая работа, которая принесет Риму больше пользы.
Аврелия не стала спорить.
– Деньги. Тебе нужны будут деньги, Цезарь. – Она провела рукой по волосам, как всегда делала, когда пыталась решить финансовые вопросы. – Тебе потребуется более двух талантов серебром, потому что такова цена человека, занесенного в проскрипционные списки. Если тебя найдут там, где ты спрячешься, ты должен будешь заплатить значительно больше двух талантов, чтобы доносчик отпустил тебя. Трех талантов хватит, чтобы откупиться, и еще останется на что жить. Теперь другой вопрос: смогу ли я найти три таланта, не обращаясь к банкирам? Семьдесят пять тысяч сестерциев… Десять тысяч есть у меня в комнате. Сейчас наступил срок уплаты ренты, и я смогу собрать ее. Когда жильцы узнают, зачем мне срочно понадобились деньги, они заплатят. Они любят тебя, хотя почему они должны тебя любить, не знаю. Ты очень трудный ребенок и упрямый! Гай Матий может знать, где достать еще. И думаю, Луций Декумий держит у себя под кроватью горшок со своей неправедной добычей….
И Аврелия ушла, продолжая что-то говорить на ходу. Цезарь вздохнул, встал с кресла. Пора готовиться к бегству. А до этого нужно еще поговорить с Цинниллой, объяснить ей.
Он послал управляющего Евтиха за Луцием Декумием и позвал Бургунда.
Старый Гай Марий завещал Бургунда Цезарю. В то время Цезарь подозревал, что старик сделал это, чтобы навсегда сковать его цепями жреческого служения. Если каким-либо образом Цезарь освободится от своей должности, Бургунд должен будет убить его. Но конечно, Цезарь, обладавший неотразимым обаянием, вскоре сделал Бургунда своим человеком. В этом ему очень помогло то обстоятельство, что рослая служанка матери из племени арвернов, Кардикса, вцепилась в Бургунда мертвой хваткой. Этот германец из племени кимвров в возрасте восемнадцати лет попал в плен после сражения при Верцеллах. Теперь ему было тридцать семь, Кардиксе – сорок пять. Сколько еще она сможет приносить по сыну ежегодно? Это стало семейной шуткой. На данный момент сыновей родилось уже пятеро. Оба, и Бургунд, и Кардикса, были отпущены на волю, когда Цезарь надел тогу взрослого мужчины. Но этот акт освобождения ничего не изменил, кроме статуса супругов, которые теперь стали римскими гражданами (они были занесены в списки городской трибы Субураны, но их голоса практически не имели никакого веса). Аврелия, которая всегда была экономной и скрупулезно справедливой, выплачивала Кардиксе жалованье и считала, что Бургунду тоже полагается вознаграждение за труды. Все думали, что супруги копят эти деньги для своих сыновей, поскольку еда и жилье были им обеспечены.
– Цезарь, ты должен взять наши сбережения, – сказал Бургунд на своей скверной латыни. – Они тебе понадобятся.
Его хозяин был высокого роста для римлянина, шесть футов и два дюйма. Но Бургунд был на четыре дюйма выше и в два раза шире. Его честное лицо, по римским понятиям считавшееся некрасивым из-за слишком короткого и прямого носа и чересчур большого рта, хранило серьезное, даже торжественное выражение, когда он произносил это, но голубые глаза выдавали его любовь и уважение к юноше.
Цезарь улыбнулся Бургунду и покачал головой:
– Спасибо за предложение, но моя мать справится. Если нет – ну что ж, тогда я приму твои деньги и верну их с процентами.
Вошел Луций Декумий, в открытую дверь следом за ним ворвался снежный вихрь. Цезарь поспешил закончить разговор с Бургундом:
– Уложи вещи для нас обоих, Бургунд. Теплые вещи. Можешь взять дубинку. Я возьму отцовский меч.
О, как приятно иметь возможность сказать это! «Я возьму отцовский меч!» Есть вещи похуже, чем быть беглецом.
– Я знал, что этот человек держит на нас зло! – решительно сказал Луций Декумий, не упоминая, однако, о том времени, когда Сулла так напугал его взглядом, что он чуть с ума не сошел. – Я послал своих сыновей за деньгами, так что у тебя будет достаточно средств. – Он впился взглядом в спину уходящего Бургунда. – Послушай, Цезарь, ты не можешь уйти в такую погоду только с этим болваном! Мы с мальчиками тоже с тобой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/kolin-makkalou/favority-fortuny-42226635/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Колин Маккалоу
The Big Book. Исторический романВладыки Рима #3
«Фавориты Фортуны» – третий роман знаменитого цикла Колин Маккалоу «Владыки Рима» по замыслу автора должен восприниматься не только в качестве продолжения романов «Первый Человек в Риме» и «Битва за Рим», но и как самостоятельное произведение, вполне законченное и независимое.
В переломный момент истории новое поколение честолюбивых римлян вступает в противоборство за власть и величие. Избранные, которым покровительство богов даровано с рождения. Проклятые, изнывающие под тяжким бременем диктата судьбы в пылу яростной схватки за власть, – схватки, в результате которой столь многим из них суждено быть поверженными.
Но есть среди них один, кто величественно возвышается над всеми: юноша, щедро одаренный талантами и красотой, чьи амбиции беспримерны, чья жизнь и любовь стали легендой, чья слава – слава самого Рима. Юноша, которому самой Фортуной суждено было прославить и возвысить свое и без того гордое имя – Цезарь.
Колин Маккалоу
Фавориты Фортуны
Подполковнику преподобной А. Ребекке Уэст, Femina Optima Maxima, величайшей женщине в мире
Colleen McCullough
FORTUNE’S FAVORITES
Copyright © 1993 by Colleen McCullough
All rights reserved
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers.
Перевод с английского Антонины Костровой, Елены Хаецкой, Татьяны Шушлебиной (Глоссарий)
Иллюстрации Колин Маккалоу
Карты выполнены Еленой Ивановой и Вадимом Пожидаевым-мл.
©?А. П. Кострова, перевод, 2019
©?Е. В. Хаецкая, перевод, 2019
©?Т. А. Шушлебина, перевод, 2019
©?Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®
Некоторые события римской истории, предваряющие действия романа «Первый Человек в Риме»
(Все даты относятся ко времени до нашей эры)
Ок. 1100 Покинув Трою, Эней обосновывается в Лации. Его сын Юл становится царем Альбы-Лонги.
753–715 Ромул, первый царь Рима, основывает город на Палатинском холме.
715–673 Нума Помпилий, второй царь Рима, выбранный из числа 100 сенаторов, учреждает ремесленные цехи и религиозные коллегии, проводит реформу календаря, прибавив к десяти месяцам, на которые римляне делили год, еще два.
673–642 Тулл Гостилий, третий царь, строит здание сената.
642–617 Анк Марций, четвертый царь, строит Деревянный мост, возводит крепость на Яникуле, завоевывает соляные копи в Остии.
616–578 Тарквиний Приск, пятый царь, строит Большой цирк, проводит в Риме центральную канализацию, увеличивает сенат до 300 человек, учреждает трибы, классы и цензовый учет.
578–534 Сервий Туллий, шестой царь, строит крепостную стену, раздвигает померий.
534–510 Тарквиний Гордый, седьмой царь, заканчивает строительство храма Юпитера Всеблагого Всесильного на Капитолийском холме, завоевывает Габии.
509 Изгнание Тарквиния Гордого. УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ. Брут и Валерий становятся первыми высшими магистратами (называемыми в ту пору преторами, не консулами).
508 Учреждается высшая жреческая должность великого понтифика, царь священнодействий становится лишь вторым по значимости служителем культа.
500 Тит Ларций назначается первым в истории Рима диктатором.
494 Первая сецессия плебеев: учреждаются должности двух плебейских трибунов и двух плебейских эдилов.
471 Вторая сецессия плебеев: вводится голосование по трибам.
459 Число плебейских трибунов увеличивается с двух до десяти.
456 Третья сецессия плебеев: плебеи получают в собственность землю.
451 Децемвиры (десять человек с консульской властью) кодифицируют законы XII таблиц.
449 Четвертая сецессия плебеев: вступает в силу закон Валерия – Горация (lex Valeria Horatia), утверждающий неприкосновенность народных трибунов.
447 Трибутные комиции получают право избирать квесторов.
445 Законы Канулея (leges Canuleiae): а) вместо двух консулов ежегодно избираются шесть военных трибунов, должность эта становится доступной и для плебеев; б) разрешены браки между патрициями и плебеями.
443 Впервые избираются цензоры.
439 Спурий Мелий, намеревавшийся провозгласить себя царем Рима, убит Сервилием Агалой.
421 Число квесторов увеличивается до четырех, магистратура открыта и для плебеев.
396 Вводится плата за военную службу. Плата эта оставалась неизменной до времен диктатуры Цезаря, увеличившего ее вдвое.
390 Разорение Рима галлами; Капитолий устоял благодаря предупреждению гусей.
367 Восстановление консульства. Учреждение должности двух курульных эдилов.
366 Избирается первый консул из плебеев. Учреждение должности городского претора (praetor urbanus).
356 Первый диктатор из плебеев. Цензорство становится доступным для плебеев.
351 Первый цензор из плебеев.
343–341 Первая Самнитская война. Заключение мирного договора между Римом и Самнием.
342 Законы Генуция (leges Genuciae): а) облегчается долговое бремя; б) одну и ту же должность разрешается занимать второй раз только по истечении десяти лет; в) оба консула могут быть плебеями.
339 Законы Публилия (leges Publiliae): а) один цензор должен быть плебеем; б) законопроекты, выносящиеся на обсуждение в центуриатных комициях, должны быть предварительно утверждены сенатом; в) плебисцит получает силу закона.
337 Первый praetor urbanus из плебеев.
326–304 Вторая Самнитская война (поражение в Кавдинском ущелье, прохождение под ярмом).
300 Законы Огульниев (leges Ogulniae), открывают плебеям доступ в жреческие коллегии.
298–290 Третья Самнитская война. Установление господства Рима.
289 Организация монетного дела, учреждаются должности трех монетариев (tresviri monetales).
287 Закон Гортензия (lex Hortensia), подтверждает, что плебисциты имеют силу законов.
267 Число квесторов увеличивается с шести до восьми.
264 Первый гладиаторский бой в Риме (не в цирке!).
264–241 Первая Пуническая война (с Карфагеном). По условиям мирного договора Рим получает Сицилию, Сардинию и Корсику, которые становятся первыми римскими провинциями.
253 Первый великий понтифик из плебеев.
242 Учреждена должность претора по делам иноземцев (praetor peregrinus), количество преторов увеличивается до двух.
241 Реформы центуриатных комиций до некоторой степени ограничивают власть первого класса. Создаются последние две трибы, их число достигает 35.
227 Число преторов увеличивается с двух до четырех; квесторов – с шести до десяти.
218–201 Вторая Пуническая война. Карфагенскую армию возглавляет Ганнибал.
210–206 Сципион Африканский одерживает победы в Испании.
202 Краткое правление последнего диктатора старого образца.
197 Обе Испании становятся провинциями; число преторов увеличивается до шести, квеcторов – до двенадцати.
180 Закон Виллия (lex Villia annalis), регулирует порядок занятия курульных магистратур.
171 Учреждается первая временная комиссия по делам о государственной измене.
169 Закон Вокония (lex Voconia), запрещает назначать наследницей женщину. Конфликт сената и всаднического сословия; цензоры отстраняют от подрядов тех, кто заключил контракты в предыдущие пять лет. Цензоры едва избегают высылки из Рима.
149 Закон Атиния (lex Atinia) об автоматическом принятии народных трибунов в сенат. Закон Кальпурния (lex Calpurnia) об учреждении постоянного суда по делам о вымогательствах.
149–146 Третья Пуническая война. Африка становится римской провинцией.
147 Завоевана Македония, которая становится римской провинцией.
144 Претор Квинт Марций Рекс строит в Риме новый акведук.
139 Согласно закону Габиния (lex Gabinia), на выборах вводится тайное голосование.
137 Закон Кассия (lex Cassia) о тайном голосовании в судах.
133 Убит народный трибун Тиберий Гракх.
123 Гай Гракх становится народным трибуном.
122 Гай Гракх становится народным трибуном во второй раз.
121 Сенат издает первый декрет о защите Республики, для подавления выступления Гая Гракха. Гракх кончает с собой, его сторонники казнены.
121 Царь Митридат V убит своей женой. Юный Митридат скрывается в горах.
120 Наводнение на землях германских племен. Начинается переселение кимвров и тевтонов.
119 Гай Марий, народный трибун, проводит lex Maria, согласно которому проходы для подачи голосов на выборах делаются более узкими, чтобы затруднить подкуп избирателей.
115 Юный Митридат захватывает власть и становится царем Понта.
113 Германские кимвры наносят поражение Папирию Карбону у Норика.
112 Рим объявляет войну Югурте Нумидийскому.
111 Рим заключает с Югуртой мирный договор.
110 Авл Постумий Альбин самовольно вторгается в Нумидию, не имея на это полномочий: начинается война с Югуртой…
Краткое содержание предыдущих книг
Мне хотелось, чтобы «Фавориты Фортуны» воспринимались как самостоятельное произведение, вполне законченное и независимое от других романов цикла – «Первый Человек в Риме» и «Битва за Рим». Приведенное ниже краткое содержание этих двух книг даст представление о событиях, предшествующих описанным в данном романе. Надеюсь, это позволит читателю получить больше удовольствия от чтения.
Хроника событий романа «Первый человек в Риме»
Год 110-й до н. э. Скорее по воле случая, нежели по чьему-то замыслу, Римская республика начала превращаться в империю. Она вступила в период захватнических войн. Агрессивная внешняя политика Рима все более входила в непримиримое противоречие с древними установлениями, которые изначально были призваны регулировать жизнь небольшого города-государства и защищать интересы господствующего класса, представленные сенатом.
Истинным призванием римлян всегда была война. Этим искусством они владели великолепно. Рим привык считать войну единственным средством экономического процветания. Он держал в повиновении прочие народы, населявшие Апеннинский полуостров (своих италийских союзников). Италики были лишены прав римского гражданства и по положению считались ниже римлян.
Однако постепенно голос народа начал набирать силу. Появились такие политики, как братья Гракхи. Они открыто намеревались лишить сенат его изначальных привилегий, требуя передать власть сословию всадников – римским гражданам, которые занимали более низкую ступень на социальной лестнице по сравнению с сенаторами. Всадники являлись по преимуществу зажиточными торговцами и откупщиками. Требования социальных перемен в Древнем мире никогда не выдвигались от имени бедняков; в данном случае борьба велась между аристократами-землевладельцами и торговцами-плутократами.
В 110 году до н. э. сорокасемилетний Гай Марий еще не обрел всенародной известности, родом он был из небольшого латинского городка Арпин. Благодаря выдающемуся полководческому таланту он смог подняться до положения второго лица в правительстве и получить выборную должность претора. Марий был очень богат. Однако честолюбивый претор мечтал стать консулом – занять высшую военную должность, хотя и знал, что незнатное происхождение никогда не позволит ему взлететь столь высоко. Консулами становились только аристократы, принадлежащие к древним родам, землевладельцы, которые не пачкали рук, сколачивая себе состояние на торговле.
Знакомство с обедневшим патрицием, сенатором Гаем Юлием Цезарем – дедом великого Цезаря, дало Марию шанс. Марий и Цезарь заключили сделку: богатый Гай Марий финансирует карьеру двух сыновей Цезаря и дает приданое младшей его дочери, а в благодарность за это получает в жены старшую – Юлию. Таким образом Марий породнился с одной из самых именитых семей Рима, что значительно приблизило его к заветной цели.
В 109 году Гай Марий, супруг Юлии, и его давний друг, любитель писать длинные, подробные письма, Публий Рутилий Руф отправились воевать с нумидийским царем Югуртой. В то время Марий еще не был консулом и, соответственно, главнокомандующим. На этот пост был избран аристократ Метелл – впоследствии он станет называть себя Метеллом Нумидийским в ознаменование победы над Нумидией; однако Марий именовал его куда менее почетно – Свин (словом «свинка» римские нянюшки иносказательно обозначали половые органы маленьких девочек). С Метеллом Нумидийским был его двадцатилетний сын, Метелл Пий, по заглазному прозванию Свиненок.
Война в Африке затянулась, поскольку Метелл Нумидийский был не слишком талантливым полководцем. В 108 году Марий обратился с просьбой освободить его от должности старшего легата при Метелле, дабы он мог вернуться в Рим и выдвинуть свою кандидатуру на должность одного из двух консулов, избираемых на 107 год. Метелл отказался отпустить Мария. Тогда Марий посредством переписки с друзьями, оставшимися в Риме, положил начало шумной кампании жалоб и критики в адрес бездарного Метелла. В конце концов эти действия увенчались успехом, и Метелл был вынужден освободить Мария от службы в африканских легионах.
Там же, в Нумидии, сирийская прорицательница Марфа предсказала Марию семикратное консульство – небывалый случай! Согласно словам старухи, Гая Мария назовут Третьим основателем Рима. Но она также предрекла, что племянник его жены, носящий то же имя – Гай, станет величайшим римлянином всех времен. Тогда этот ребенок еще не был рожден. Марий безоговорочно поверил Марфе.
По возвращении в Рим Марий был избран младшим консулом 107 года. Он тотчас использовал Плебейское собрание, законодательный орган, чтобы провести закон, по которому Метелл Нумидийский Свин лишался должности главнокомандующего в войне с нумидийским царем Югуртой. Эта должность перешла к Марию.
Главной проблемой оставалась малочисленность римского войска. Те шесть легионов, которыми Метелл командовал в Африке, передали другому консулу. В Италии просто не осталось мужчин, которых можно было вербовать в римскую армию: за последние пятнадцать лет Рим нес слишком большие потери из-за нескольких военачальников, сколь родовитых, столь и бездарных. Влиятельные друзья Метелла Нумидийского, в ярости оттого, что Марий «отобрал» у них войну с Югуртой, объединились, чтобы лишить ненавистного италика войска.
Но Марий, реформатор, умеющий мыслить неординарно, нашел новый источник для рекрутского набора – capite censi, класс неимущих, занимавших самую нижнюю ступень социальной лестницы римских граждан. Он решил набрать себе армию из «отребья» – революционная идея!
Предполагалось, что римский легионер должен иметь землю и достаточно средств, чтобы купить оружие и доспехи. Веками солдат Риму поставлял класс зажиточных крестьян. Теперь же этих людей почти не осталось. Их небольшие земельные наделы постепенно перешли в собственность сенаторов или богатых всадников. Так возникли обширные поместья, именуемые латифундиями, в которых трудились рабы. Таким образом, свободные люди из простолюдинов остались без средств к существованию.
Когда Марий объявил, что собирается набрать войско из неимущих, ярость его противников достигла апогея. Преодолевая на каждом шагу сопротивление сенаторов и всадников, Марий двигался к намеченной цели. Он заручился поддержкой Плебейского собрания, а затем добился принятия закона, обязывающего казначейство финансировать экипировку его новых солдат.
В Африку Марий вернулся с шестью полными легионами, набранными из неимущих граждан, которые сенат ни во что не ставил. С Марием был также квестор – младший чиновник, ответственный за финансы, – по имени Луций Корнелий Сулла. Сулла только что женился на Юлилле, младшей дочери старого Цезаря, и стал свояком Мария.
Сулла представлял собой полную противоположность Гаю Марию. Это был красавец-аристократ из древнего патрицианского рода. Однако доступ в сенат был ему заказан ввиду его чрезвычайной бедности. Сулла жил в полной нищете до тех пор, пока череда коварных убийств не позволила ему стать наследником имущества двух женщин: его любовницы Никополис и его мачехи Клитумны. Амбициозный и безжалостный, Сулла, как и Марий, верил в свою счастливую звезду. Первые тридцать три года жизни Суллы прошли в театральном мире, среди актеров, отнюдь не пользовавшихся уважением в римском обществе, в результате чего в жизни Суллы появилась тщательно скрываемая им постыдная тайна. В Риме гомосексуализм сурово порицался. Когда Сулла начал восхождение по социальной лестнице, ему пришлось расстаться с единственной любовью своей жизни – греком-актером Метробием, в те годы еще подростком.
Марию потребовалось почти три года, чтобы победить Югурту. Пленение царя было осуществлено лично Суллой – одним из легатов Мария, его доверенным лицом и правой рукой. Совершенно различные по натуре и происхождению, эти два человека неплохо ладили между собой. Новая армия Мария, набранная из неимущих, хорошо показала себя в сражениях. Таким образом, Марий сумел заткнуть рот своим противникам-сенаторам.
Пока Сулла и Марий были заняты войной в Африке, возникла новая угроза Риму. Огромные полчища германцев – кимвры, тевтоны, херуски, маркоманы, тигурины – пришли в римскую провинцию Заальпийская Галлия (современная Франция) и нанесли несколько катастрофических поражений римским армиям, во главе которых стояли некомпетентные в военном отношении аристократы. Лучше всего характеризует этих «полководцев» тот факт, что на поле боя они отказывались взаимодействовать с людьми, которых считали ниже себя по положению!
Марий был избран консулом вторично. Избрание произошло в отсутствие кандидата – небывалый случай. Гай Марий возглавил армию в войне против германцев, несмотря на оппозицию в лице Метелла Нумидийского и Марка Эмилия Скавра, принцепса сената. Весь Рим верил, что Марий – единственный, кто способен победить страшного врага, и отсюда это удивительное и совершенно непрошеное второе консульство.
В 104 году, сопровождаемый Суллой и своим семнадцатилетним родственником Квинтом Серторием, Гай Марий повел легионы своих «неимущих» – теперь закаленных ветеранов – в Заальпийскую Галлию и там стал ждать германцев.
Однако германцы не пришли. Тогда Марий занял войска общественными работами (в частности, строительством дорог), чтобы армия не разлагалась в бездействии. А Сулла и Серторий, решив выдать себя за галлов, покинули римский лагерь и отправились к варварам, чтобы выведать их планы. В 103 году Мария снова избрали консулом. Благодаря усилиям плебейского трибуна Луция Аппулея Сатурнина состоялось и четвертое консульство Мария – в 102 году. Вот тогда-то и нагрянули германцы. Это произошло кстати для карьеры Мария, поскольку враждебно настроенные к нему сенаторы уже готовились избавиться от него навсегда.
Благодаря успешно проведенной разведке Суллы и Сертория Марий был предупрежден о планах врага. У германцев был мудрый вождь по имени Бойорикс. Он разделил колоссальную орду варваров на три части и вошел в Италию «трезубцем». Один «зубец» – тевтоны – должен был двинуться вдоль реки Родан и ворваться в Италию через Западные Альпы; другой – кимвры – под предводительством самого Бойорикса направлялся к высокогорному перевалу Бренна, в центральную часть Северной Италии. Третья часть варварской орды, разнородная по составу, должна была перейти Восточные Альпы и дойти до современной Венеции. Затем все три части планировали объединиться, захватить полуостров и свергнуть власть Рима.
В 102 году вторым консулом, помощником Мария, стал один из Цезарей – Квинт Лутаций Катул Цезарь. Это был надменный аристократ, считавший себя превосходным военачальником. Но Марий знал, что в военном деле Катул Цезарь был полным профаном.
Решив остаться на прежнем месте – в районе современного Прованса, чтобы перехватить тевтонов, Марий вынужден был поручить Катулу Цезарю остановить кимвров. Третий отряд германцев, не добравшись до Восточных Альп, принял решение вернуться в Германию. Итак, предоставив Катулу двадцатичетырехтысячную армию, сенат приказал ему идти на север и встретить кимвров. Марий, не доверяя Катулу, послал к нему Суллу в качестве заместителя главнокомандующего. Сулле было приказано сделать все, что в его силах, чтобы сохранить драгоценные войска вопреки грубейшим ошибкам, которые наверняка наделает Катул Цезарь.
В конце лета 102 года тевтоны в количестве свыше ста тысяч человек приблизились к позициям Мария. Его армия насчитывала около тридцати семи тысяч. В последовавшем сражении Марий уничтожил неорганизованных тевтонов. Уцелевшие разбежались. Угрозы Италии с запада больше не существовало.
Почти в то же время Катул Цезарь и Сулла с небольшой армией проникли в альпийскую долину реки Атес. Там они и столкнулись с кимврами, которые появились из-за перевала Бренна. Поскольку для маневра в узкой долине не было места, Сулла настаивал на отступлении. Катул Цезарь категорически отказался. Тогда Сулла подговорил командный состав легиона поднять мятеж и таким образом все же отвел армию в долину реки Пад (ныне По), расквартировав ее в Плаценции, в то время как десять тысяч кимвров вместе с женщинами, детьми и скотом заняли восточную часть долины Пада.
Избранный консулом в пятый раз благодаря славной победе над тевтонами, в 101 году Марий привел основные силы в Северную Италию и соединил их с легионами Катула Цезаря. Теперь в римских войсках насчитывалось пятьдесят четыре тысячи солдат. В середине лета произошло решающее сражение с германцами при Верцеллах, у подножия Альп. Бойорикс погиб, кимвры были уничтожены. Марий спас Италию и Рим от германцев, которые после этого еще пятьдесят лет не могли собраться с силами.
Метелл Нумидийский, принцепс сената Скавр, Катул Цезарь и прочие враги Мария стали еще непримиримее, поскольку Марий был провозглашен Третьим основателем Рима и его вполне могли избрать консулом в шестой раз.
В 100 году сражения перенеслись с полей битв на Римский форум, который стал ареной кровавых разборок и яростных политических споров. Приверженцу Мария Сатурнину удалось пройти в Плебейское собрание вторично. Ради этой цели он и его сообщник Главция прибегли к убийству плебейского трибуна. Собрание, знаменитое своими радикалами и демагогами, приняло земельный закон для ветеранов армии Мария.
Ветераны представляли проблему для Рима: у них не было собственности, а на военной службе они получали мизерное жалованье. И теперь, когда Рим больше в них не нуждался, требовалось чем-то их вознаградить. Марий обещал им земельные наделы, но за пределами Италии. Его целью было распространить римскую культуру и римские обычаи по всем римским провинциям, число которых постоянно увеличивалось. На вновь завоеванных территориях имелись обширные участки общественных земель. Вот на этих-то участках, в новых провинциях, Марий и намеревался поселить своих солдат. Горячо обсуждаемый вопрос о предоставлении общественных земель неимущим ветеранам фактически означал прямой путь к падению Римской республики, ибо сенат, недальновидный и консервативный, упорно отказывался сотрудничать с военачальниками и выделить земли солдатам. Из этого следовало, что по прошествии времени солдаты будут хранить верность своим военачальникам – тем, кто обещает им землю и деньги, – и только потом – сенату и народу Рима.
Оппозиция сената двум законопроектам Сатурнина была ожесточенной, хотя у этого проекта нашлись сторонники и среди высших классов. Первый закон о земле был принят, но второй прошел только после того, как Марий принудил членов сената дать клятву, что они поддержат этот закон. Метелла Нумидийского так и не удалось убедить дать такую клятву, и он добровольно отправился в ссылку, заплатив к тому же огромный штраф.
Однако принцепс сената Скавр, хитрый, опытный старый политик, во время дебатов о втором законопроекте обошел неискушенного в подобных интригах Мария. Он заставил Мария признать, что оба законопроекта Сатурнина несостоятельны. И до сего момента преданный Марию Сатурнин отвернулся от своего покровителя. Он замыслил уничтожить и Мария, и самый сенат.
В это время здоровье Мария резко пошатнулось. Удар принудил его на несколько месяцев уйти с политической сцены. В этот период и начал новую игру Сатурнин.
Осенью в Рим должны были прибыть корабли с зерном, но засуха, охватившая все Средиземноморье, стала причиной неурожая. Четвертый год подряд римляне вынуждены были платить за хлеб очень высокую цену. Этим и воспользовался Сатурнин. Он сам решил стать Первым Человеком в Риме – не как консул, а как плебейский трибун. Он мог манипулировать огромными толпами, которые теперь ежедневно собирались на Римском форуме, желая выразить протест властям, которые ничего не делают, чтобы предотвратить надвигающийся голод. Зима обещала быть суровой. Когда Сатурнин внес свой законопроект о государственном финансировании зерновых поставок, он постарался расположить к себе отнюдь не самые низшие классы. Фактически он действовал в интересах зерноторговцев и предпринимателей, чьи дела были поставлены под угрозу. Голоса низших классов ничего не значили, но голоса торговцев имели большой вес – при их поддержке Сатурнин мог бы уничтожить и сенат, и Гая Мария.
Оправившись от удара, Марий созвал сенат в первый день декабря 100 года, чтобы попытаться остановить Сатурнина. А тот намеревался сделаться плебейским трибуном в третий раз. В то же время друг Сатурнина Главция выдвинул свою кандидатуру на должность консула. Оба этих выдвижения были незаконны. Они вызвали яростные протесты, ибо бросали вызов традиции.
Во время консульских выборов, когда Главция убил своего соперника, обстановка накалилась. Марий еще раз созвал сенат, был издан декрет о защите Республики (наделяющий сенат правом править по законам военного времени). После этого сенаторы разошлись по домам, чтобы вооружиться. И тогда на Римском форуме произошло столкновение. Сатурнин и Главция полагали, что угроза голода заставит низшие классы поднять мятеж, но толпы разошлись по домам. Сулла помог Марию ликвидировать оставшихся сторонников Сатурнина. Сам Сатурнин укрылся в храме Юпитера Всеблагого Всесильного, но вынужден был сдаться, когда Сулла перекрыл водное снабжение храма.
Главция покончил с собой, Сатурнина и его сторонников заперли в здании сената в ожидании суда. Все сенаторы знали, что этот суд сломает и без того уже пошатнувшийся политический порядок. И Сулла решил проблему по-своему. Он тайно привел небольшую группу преданных ему молодых аристократов, которые поднялись на крышу сената, сорвали черепицу и забросали арестованных ею, убив таким образом Сатурнина и его сторонников. Столь же незаметно убийцы скрылись.
Закон Сатурнина о зерне был аннулирован, однако Марий – теперь ему было пятьдесят семь лет – увидел, что его политической карьере настал конец. Шестикратный консул, он уже думал, что предсказание Марфы так никогда и не осуществится. Сулла надеялся через год победить на преторских выборах. Поэтому он решил отойти от Мария, политически одиозной фигуры, чтобы не навредить собственной карьере.
В течение этих десяти лет личная жизнь Мария и Суллы складывалась по-разному.
Брак Мария и Юлии оказался счастливым. В 109 году у них родился сын, их единственный ребенок, Марий-младший. Старый Цезарь умер, однако он успел увидеть двух своих сыновей твердо стоящими на ногах, достигшими высокого положения. Младший сын старого Цезаря, Гай, женился на богатой и красивой девушке из знаменитой семьи Аврелия Котты, Аврелии, и эта молодая пара поселилась в принадлежащем Аврелии многоквартирном доме, инсуле, в Субуре – районе Рима, пользующемся дурной репутацией. У Гая Цезаря и Аврелии родились две дочери и наконец в 100 году на свет появился долгожданный сын (будущий великий Цезарь). Этот ребенок и был, как сразу признал Марий, тем самым Гаем, о котором говорила прорицательница, – величайшим римлянином всех времен, которому суждено было затмить славу Мария. И Марий решил утаить эту часть пророчества.
Брак Суллы с младшей дочерью старого Цезаря, Юлиллой, оказался несчастливым. Юлилла была натурой неуравновешенной и чересчур страстной. Она родила двоих детей, сына и дочь. До безумия любившая Суллу, Юлилла была уверена, что не полностью владеет сердцем супруга, хотя понятия не имела о его истинных сексуальных наклонностях. В результате она пристрастилась к вину и с течением времени стала законченной алкоголичкой.
Трагедия разразилась внезапно. Молодой актер, грек Метробий, пришел навестить Суллу в его доме. При встрече с Метробием Сулла забыл о своем решении навсегда порвать любые отношения с ним. Юлилла оказалась случайной свидетельницей этой любовной сцены. Без раздумий она покончила с собой. Впоследствии Сулла женился на красивой бездетной вдове из хорошей семьи, некоей Элии, чтобы у его малолетних детей была мать.
У Скавра, принцепса сената, имелся сын. К несчастью, это был трус, опозоривший себя в армии Катула Цезаря в Северной Италии. Испытывая отвращение к поступку сына, Скавр отрекся от него, и юноше оставалось только одно – совершить самоубийство. После этого Скавр, которому шел шестой десяток и у которого не осталось наследника, неожиданно женился на невесте покойного сына, семнадцатилетней дочери старшего брата Метелла Нумидийского по имени Далматика. Никого не интересовало мнение девушки об этом союзе.
А молодой аристократ Марк Ливий Друз, сын знаменитого политика, в 105 году организовал двойную свадьбу. Сам он женился на сестре своего лучшего друга, патриция Квинта Сервилия Цепиона, а Цепион, в свою очередь, взял в жены сестру Друза, Ливию Друзу. Брак Друза был бездетным, а Цепион и Ливия родили двух дочерей, старшая из которых, Сервилия, впоследствии станет матерью Брута и любовницей великого Цезаря.
Хроника событий романа «Битва за Рим»
Год 98-й до н. э. Прошло два года после событий, которыми заканчивается роман «Первый Человек в Риме», – два года относительного спокойствия.
Сулле наскучила добропорядочная и красивая Элия. Теперь он одержим страстью сразу к двоим – к молодому Метробию и девятнадцатилетней супруге Марка Эмилия Скавра, принцепса сената, Далматике. Но поскольку амбиции и вера в свое высокое предназначение одержали верх над низменными страстями, Сулла упорно отказывался встречаться с Метробием и заводить отношения с Далматикой.
К несчастью, Далматика не обладала такой же силой характера. Она открыто демонстрировала свою безответную любовь к Сулле. Оскорбленный Скавр потребовал, чтобы Сулла покинул Рим, дабы пресечь сплетни. Считая себя ни в чем не виноватым и находя требование Скавра безосновательным, Сулла наотрез отказался. Он намеревался стать претором, а это означало, что на период выборов он непременно должен оставаться в Риме. Сознавая невиновность Суллы, Скавр тем не менее сделал все, чтобы тот не получил желаемую должность, а Далматике запретил покидать стены дома.
Потерпев поражение на политической сцене, Сулла принял решение уехать в Ближнюю Испанию в качестве легата ее наместника Тита Дидия. Скавр победил. Перед отъездом Сулла попытался соблазнить Аврелию, жену Гая Юлия Цезаря, но был отвергнут. В ярости он решил нанести визит Метеллу Нумидийскому, только что вернувшемуся из ссылки, и отравил его. Метелл Пий Свиненок не заподозрил Суллу в убийстве отца и продолжал оставаться его восторженным приверженцем.
Семья Цезарей процветала. Оба сына старого Цезаря, Секст и Гай, преуспели в карьере, пользуясь покровительством Мария. Однако имелась и оборотная сторона медали: карьерные достижения означали, что Гай большую часть времени проводил вдали от дома и семьи. Его супруга Аврелия умело управляла своим многоквартирным домом и заботливо растила двух дочерей и драгоценного, многообещающего сына, Цезаря-младшего, который с раннего детства демонстрировал поразительные способности. Единственное, что тревожило родственников и друзей Аврелии, – это ее симпатия к Сулле, который навещал ее, восхищаясь этой самостоятельной и энергичной женщиной.
Отстранившись от политической жизни, Гай Марий предпринял путешествие на Восток, в котором его сопровождали жена Юлия и сын Марий-младший.
Прибыв в Тарс, главный город Киликии, Марий узнал, что понтийский царь Митридат вторгся в Каппадокию, убил ее молодого монарха и посадил на трон одного из своих многочисленных сыновей. Оставив жену и сына на попечение дружественных кочевников, Марий – фактически один – направился в столицу Каппадокии, где смело предстал перед Митридатом.
Коварный и ловкий, Митридат являл собою любопытное сочетание смелости и нерешительности, бахвальства и робости. Он командовал огромной армией и увеличил свое царство за счет соседей. Последним и самым опасным врагом Митридата оставался Рим. Заключив удачные браки, Митридат пришел к полному согласию с Тиграном, царем Армении. Два царя решили объединиться, покорить Рим и разделить мир между собою.
Все эти тщеславные планы рухнули после встречи с Марием – единственным человеком, который мог повелеть понтийскому царю покинуть Каппадокию. Вместо того чтобы убить Мария, Митридат поджал хвост и увел свою армию обратно в Понт. Марий же, воссоединившись с женой и сыном, преспокойно продолжил паломничество по храмам Востока.
Тем временем обстановка в Италии накалилась. Рим возглавлял союз различных полунезависимых народов, издавна населявших Апеннинский полуостров. Италийские союзники, как их называли, с давних времен были неравноправными партнерами Рима. Италики отлично сознавали, что римляне считают их ниже себя. Союзники поставляли солдат для римских легионов и оплачивали их экипировку и содержание, а между тем сенат отправлял италиков воевать в далекие страны, за интересы, чуждые Италии. Рим перестал предоставлять союзникам полное римское гражданство (дававшее право голоса), лишил торговых и прочих привилегий. Вожди различных италийских племен теперь с еще большей настойчивостью стали требовать равного статуса с Римом.
Марк Ливий Друз был дружен с Квинтом Поппедием Силоном, знатным италиком. Вождь марсов Силон намеревался сделать своих соплеменников и всех италиков полноправными гражданами. Друз симпатизировал Силону. Влиятельный римский аристократ, очень богатый, обладавший политическим влиянием, Друз был уверен в том, что с его помощью италики законным путем получат долгожданное равноправие.
Тем временем в собственной семье Друза назревал кризис. Сестра Друза Ливия была несчастлива в браке: ее супруг, лучший друг Друза Квинт Сервилий Цепион, жестоко избивал ее. Она же изменяла мужу, влюбившись в Марка Порция Катона. Имея двух дочерей от Цепиона, Ливия Друза забеременела от рыжеволосого Катона и произвела на свет сына с огненными волосами. Она пыталась убедить Цепиона в том, что это его ребенок. Но старшая дочь, Сервилия, обожавшая отца, открыто обвинила мать в прелюбодеянии. Цепион развелся с Ливией и отказался от всех троих детей. Друз и его жена встали на сторону Ливии. Ливия Друза вышла замуж за Катона и родила еще двоих детей – дочь Порцию и сына Катона-младшего (будущего Катона Утического).
Пока развивались события этой семейной драмы, Друз старался убедить сенат в справедливости требований италиков предоставить им полные гражданские права. После скандала с Ливией эта задача осложнилась ожесточенной враждебностью Цепиона.
В 96 году умерла жена Друза. В 93 году скончалась Ливия Друза, и пятеро ее детей перешли под опеку Друза. В 92 году умер Катон. Остались лишь двое врагов – Цепион и Друз.
Будучи значительно старше кандидатов на должность плебейского трибуна, Друз решил занять этот пост, понимая, что это единственная возможность добиться гражданских прав для италиков законным путем вопреки оппозиции сената.
Упорный и умный Друз сумел обеспечить себе поддержку. Хотя некоторые консервативные сенаторы, включая Скавра, Катула Цезаря и Цепиона, не верили в успех. Накануне своей победы Друз был убит в атрии собственного дома. Это произошло в конце 91 года.
Пятеро детей Ливии Друзы и приемный сын самого Друза, Нерон, стали свидетелями его мучительной смерти. Цепион остался их единственным родственником, но отказался принять участие в судьбе детей. Поэтому заботу о них взяли на себя мать Друза и его младший брат Мамерк Эмилий Лепид Ливиан. В 90 году погиб Цепион, а через год умерла мать Друза. Когда жена Мамерка отказалась приютить осиротевших детей, Мамерк вынужден был оставить их в доме Друза на попечение незамужней родственницы и ее матери.
Сулла возвратился из Ближней Испании, чтобы принять участие в выборах и получить должность городского претора на 93 год. В 92 году, пока Друз боролся за предоставление избирательных прав италикам, Суллу отправили на Восток – наместником Киликии. Там он обнаружил, что Митридат, ободренный пятилетним бездействием Рима, снова вторгся в Каппадокию. Сулла повел два своих киликийских легиона в Каппадокию, встал там укрепленным лагерем и заставил Митридата отступить, несмотря на то что царь имел огромное численное преимущество. Митридат вторично вынужден был иметь дело с римлянином и выслушать резкий приказ убираться домой. И во второй раз Митридат трусливо ушел обратно в Понт.
Но зять Митридата, армянский царь Тигран, желал воевать. Сулла со своими легионами направился в Армению. Он стал первым римлянином, перешедшим Евфрат. На Тигре, вблизи Амиды, Сулла встретился с Тиграном и предостерег его от необдуманных поступков. На Евфрате, у Зевгмы, состоялась встреча Суллы с Тиграном и послами парфянского царя. Был заключен договор, согласно которому все земли к востоку от Евфрата оставались владениями парфянского царя, а всё, что к западу, отходило под юрисдикцию Рима. Знаменитый халдейский провидец предсказал Сулле, что он станет величайшим человеком между Атлантическим океаном и рекой Инд и умрет на пике своей славы.
Вместе с Суллой находился его сын от умершей Юлиллы. Этот подросток стал светом жизни Суллы. Но после возвращения Суллы в Рим, где сенат проигнорировал его подвиги и столь значимый договор с парфянами, Сулла-младший внезапно умер. Потеря сына стала ужасным ударом для Суллы. Она оборвала последнюю нить, связывавшую его с Цезарями, – за исключением периодических визитов к Аврелии.
Италийская война началась серией сокрушительных поражений Рима. В начале 90 года консул Луций Цезарь был поставлен во главе южного театра военных действий – в Кампании. Сулла находился при нем в качестве старшего легата. Северным театром войны, в Пицене и Этрурии, командовали поочередно несколько человек. Все они оказались совершенно бездарными.
Гай Марий хотел взять командование северными армиями на себя, но его противники в сенате все еще были слишком сильны. Он вынужден был занимать должность простого легата и сносить унижения от своих командиров. Командиры эти один за другим несли потери и терпели поражения. Марий же упорно продолжал обучать неопытных новобранцев и ждать подходящего случая. Когда такой случай представился, он не замедлил им воспользоваться и вместе с Суллой одержал для Рима первую победу в этой войне. На следующий день у Мария случился второй удар, значительно сильнее первого, и он вынужден был покинуть армию. Сулла обрадовался этому обстоятельству, поскольку Марий не видел в нем одаренного полководца. Да, Сулла одерживал победы на юге, но он постоянно действовал от лица какого-либо из своих начальников.
В 89 году война приняла благоприятный для Рима оборот, особенно на юге. Под городом Нола легионеры Суллы вручили ему венок из трав – высшую воинскую награду. Большая часть Кампании и Апулии была покорена. Судьбы двух консулов 89 года, Помпея Страбона и Катона, сложились по-разному. Консул Катон пал от руки Мария-младшего. Сын Гая Мария видел в убийстве бездарного командира единственный способ избежать поражения. Марий сумел спасти сына, подкупив его командира, Луция Корнелия Цинну. Цинна, будучи человеком чести, всю жизнь оставался сторонником Мария – и врагом Суллы.
У старшего консула 89 года, Помпея Страбона, был семнадцатилетний сын Помпей, который обожал своего отца и сражался рядом с ним. В 90 году они вместе осаждали Аскул, главный город Пицена, где стали свидетелями первых ужасов Италийской войны. Там же находился семнадцатилетний Марк Туллий Цицерон, неумелый, робкий, никудышный солдат. Помпей взял его под свое покровительство, избавив от гнева отца и презрения товарищей. Впоследствии Цицерон всегда помнил доброту Помпея, что в значительной степени определило его политические симпатии. Когда в 89 году Аскул пал, Помпей Страбон казнил всех мужчин и изгнал женщин и детей, запретив им брать что-либо с собой.
К 88 году, когда Суллу наконец избрали консулом вместе с Квинтом Помпеем Руфом, война с италийскими союзниками уже подходила к концу. Рим согласился предоставить им, хотя бы формально, право голоса – как гражданам.
Дочь Суллы от Юлиллы, Корнелия Сулла, была влюблена в своего двоюродного брата Мария-младшего, однако Сулла выдал ее замуж за сына своего коллеги-консула. Она родила тому двоих детей: дочь Помпею (ставшую впоследствии второй женой великого Цезаря) и сына.
Когда Цезарю-младшему исполнилось десять лет, его мать Аврелия направила сына к Марию, чтобы он помог своему великому дяде оправиться от удара. Мальчик старался вызнать у Мария секреты военного искусства. Помня о предсказании Марфы, во время бесед с умным ребенком Марий только укрепился в своем тайном намерении не способствовать будущей военной и политической карьере Цезаря.
Придя в ярость от безобидного замечания постылой жены, Сулла внезапно развелся с Элией. Причиной развода он объявил бездетность Элии. Старый Скавр к тому времени умер, и Сулла женился на его вдове Далматике. Многие в Риме осуждали Суллу, но он проявил к этому полнейшее безразличие.
Зная, что Рим поглощен войной с италиками, понтийский царь Митридат в 88 году вторгся в римскую провинцию Азия и перебил там всех римлян и италиков – мужчин, женщин и детей. Погибло восемьдесят тысяч римлян и италиков и с ними – семьдесят тысяч их рабов.
Когда в Риме стало известно об этом массовом убийстве, собрался сенат – обсудить, кто поведет армию на Восток и покарает Митридата. Считая себя полностью оправившимся от удара, Марий заявил, что командование должно быть поручено ему, и только ему. Сенат пренебрег этим категоричным требованием, уполномочив вести легионы старшего консула Суллу. Этого оскорбления Марий не простил. Теперь Сулла вошел в число его главных врагов.
Считая, что сможет разбить Митридата, Сулла с большим удовлетворением принял командование и стал готовиться к отъезду из Италии. Но в казне не оставалось денег, а личные сбережения Суллы были слишком незначительными. Средств не хватало даже после того, как были проданы общественные земли вокруг Римского форума. В конце концов деньги для финансирования понтийской войны добыли, ограбив храмы Греции и Эпира.
В том же 88 году завоевал широкую популярность плебейский трибун Сульпиций. Будучи консерватором, он стал радикалом после того, как Митридат вырезал население провинции Азия. Сульпиций понял: иноземный царь не видит разницы между римлянами и италиками. Митридат с одинаковой жестокостью истреблял и тех и других. Сульпиций обвинил сенат в безответственном нежелании предоставить полное гражданство всем италикам. Если для Митридата эта разница отсутствует, значит ее действительно не существует. Сульпиций провел через плебейское собрание ряд законов. В результате многие сенаторы лишились своих постов, так что невозможно стало собрать кворум. Лишив сенат дееспособности, Сульпиций поднял вопрос о политических правах новых граждан-италиков. Все это сопровождалось кровавыми стычками на Римском форуме, где был убит молодой муж дочери Суллы.
Добившись успеха, Сульпиций примкнул к партии Мария и провел еще один закон, лишавший Суллу права командовать в войне против Митридата и передававший легионы Марию. Семидесятилетний, больной, Марий не мог никому позволить разбить «понтийского разбойника» – особенно Сулле.
Сулла находился со своей армией в Кампании, когда узнал о принятии нового закона и о том, что лишается командования. И тут же принял решение: он пойдет с войском на Рим. Никогда за все шестьсот лет существования Рима ни один римлянин не делал этого. Но Сулла посмел быть первым. Военные трибуны отказались поддержать его, кроме квестора Луция Лициния Лукулла, но солдаты остались на стороне Суллы.
В Риме никто не верил, что Сулла осмелится пойти войной на родной город, поэтому, когда армия Суллы появилась у стен, возникла паника. За неимением профессиональных солдат Марий и Сульпиций вооружили бывших гладиаторов и рабов. Сулла обратил в бегство это разношерстное воинство и занял Рим. Марий, Сульпиций, Марк Юний Брут и несколько других защитников города вынуждены были бежать. Сульпиция захватили еще до того, как тот покинул Италию, и обезглавили. Марию, после тяжелых испытаний, удалось вместе с Марием-младшим и другими своими сторонниками достичь Африки. Там они обрели убежище среди ветеранов, которых сам Марий когда-то поселил на землях острова Церцина.
Став фактическим властелином Рима, Сулла выставил голову Сульпиция на ростре Римского форума, чтобы устрашить Цинну и добиться повиновения. Он аннулировал все законы Сульпиция и установил свои, ультраконсервативные. Законы Суллы имели целью восстановить дееспособность сената и впредь отбить у плебейских трибунов охоту выдвигать радикальные идеи. Сделав все возможное для восстановления традиционного республиканского правления, в 87 году Сулла наконец отбыл на Восток – на войну с Митридатом. Но перед этим он выдал замуж свою овдовевшую дочь за Мамерка, брата умершего Друза и опекуна его осиротевших детей.
Ссылка Мария, Мария-младшего, старика Брута и их единомышленников длилась около года. Сулла принял последние меры, чтобы упрочить свои наспех проведенные реформы, – он попытался сделать своих сторонников консулами 87 года. Старшим консулом был избран Гней Октавий Рузон. Однако выборщики выдвинули на пост младшего консула Цинну, который оставался верен Марию. Поэтому Сулла попытался обеспечить верность Цинны своей программе, заставив его дать священную клятву соблюдать принятые законы. Для Цинны же эта клятва ничего не значила: он обманул богов, держа в кулаке камень.
Как только весной 87 года Сулла отплыл на Восток, в Риме начался раздор. Цинна отрекся от клятвы и открыто выступил против Гнея Октавия и его ультраконсервативных сторонников, таких как Катул Цезарь, Публий Красс, Луций Цезарь. В результате Цинна был выслан из Рима и объявлен вне закона. Однако в военном отношении консерваторы были не подготовлены. Цинна поднял армию и осадил город. Марий стремительно вернулся из ссылки и высадился в Этрурии, где также собрал войска и маршем двинулся на помощь Цинне и его сторонникам – Квинту Серторию и Гнею Папирию Карбону.
В отчаянии ультраконсерваторы послали сообщение Помпею Страбону в Пицен, умоляя прийти им на выручку, поскольку у него была армия. В сопровождении сына Страбон двинулся к Риму. Но, прибыв туда, Помпей не стал сражаться с Цинной и Марием. Разбив возле римских ворот огромный лагерь, он занял выжидательную позицию. Из-за царившей в лагере антисанитарии была отравлена вода в колодцах, которыми пользовались горожане, жившие на северных холмах. Вспыхнула эпидемия дизентерии.
Осада Рима затянулась. В конце концов между Помпеем Страбоном и Квинтом Серторием произошло сражение. Оно оказалось безрезультатным. Помпей Страбон заболел и вскоре умер. Вместе со своим другом Цицероном молодой Помпей готовил похороны отца, но обозленные жители северных районов выкрали тело, привязали к ослу и протащили по улицам города. После отчаянных поисков Помпей и Цицерон нашли труп Страбона. Разъяренный Помпей покинул Рим и вместе с армией вернулся в Пицен.
Больше Рим не мог сопротивляться – он сдался Цинне и Марию. Цинна сразу вошел в город, но Марий отказался пересечь померий, ссылаясь на то, что все еще находится вне закона. Он решил остаться под защитой своих солдат до тех пор, пока Цинна не отменит закон о ссылке и не добьется избрания Мария консулом – в седьмой раз. Серторий также не стал входить в город, однако по иной причине: родственник Мария понимал, что старик безумен. После второго удара его разум помутился.
Цинна отдавал себе отчет в том, что любой легионер – если он будет поставлен перед выбором, кому служить, Марию или Цинне, – изберет Мария. Поэтому Цинне пришлось настоять на том, чтобы его и Мария «избрали» консулами 86 года. До выборов оставалось несколько дней. И в первый день нового года Марий вошел в Рим – семикратным консулом, как и было предсказано. Пророчество сбылось. С собой он привел пять тысяч бывших рабов, фанатично преданных ему.
Началась кровавая бойня – такого ужаса Рим еще не видел. Лишившись разума, Марий приказал своим людям убить всех его врагов и многих из его друзей. Ростра ощетинилась копьями с отрубленными головами Катула Цезаря, Луция Цезаря, Цезаря Страбона, Публия Красса и Гнея Октавия Рузона.
Гай Юлий Цезарь, отец Цезаря-младшего, возвратился в Рим в самый разгар этой бойни. Марий захотел увидеться с ним на Римском форуме. Там Марий сообщил ему, что его сын, тринадцатилетний Гай Цезарь, должен стать фламином Юпитера – жрецом главного римского божества. Так сумасшедший старик нашел наилучший способ помешать юному Цезарю преуспеть на политическом или военном поприще. Теперь Цезарь-младший никогда не превзойдет Мария в анналах истории. Фламину Юпитера запрещается дотрагиваться до железа, ездить на коне, брать в руки оружие, становиться свидетелем смерти. Он не сможет участвовать в сражениях, выдвигать свою кандидатуру на выборах. Поскольку на момент инаугурации и посвящения фламин Юпитера должен быть женат на патрицианке, Марий приказал Цинне отдать свою семилетнюю младшую дочь Цинниллу в жены молодому Цезарю. Детей немедленно поженили, после чего Цезарь был провозглашен фламином Юпитера.
Прошло всего несколько дней седьмого консульства, и у Мария случился третий, последний удар. Он умер 14 января. Его родственник Серторий уничтожил войско бывших рабов, составлявших свиту безумного Мария. На этом кровавые расправы в Риме прекратились. Вместо Мария вторым консулом стал Валерий Флакк. Нужно было умиротворить потрясенный Рим. А молодой Цезарь, фламин Юпитера, женатый мальчик, видел перед собой ужасное будущее – оставаться пожизненным слугой Юпитера Всеблагого Всесильного.
Хроника событий, произошедших между 86 и 83 годами до Р. Х.
Упрочив свое положение, Цинна взял под контроль сильно поредевший сенат. Были отменены некоторые законы Суллы. Под давлением Цинны сенат лишил отсутствующего Суллу права командования в войне против царя Митридата и поручил Флакку сменить Суллу на посту военачальника. Старшим легатом Флакка в экспедиции на Восток стал Фимбрия, жестокий и коварный человек, пользовавшийся тем не менее популярностью у солдат.
Когда Флакк и Фимбрия добрались до Центральной Македонии, они решили изменить направление. Вместо того чтобы идти на юг, в Грецию, где находился Сулла, они двинулись к Геллеспонту и Малой Азии. Не в состоянии контролировать Фимбрию, Флакк оказался в подчинении у своего же подчиненного. В Византии произошел окончательный разрыв вечно ссорившихся консула и легата. Флакк был убит, а Фимбрия принял командование. Он вторгся в Малую Азию и начал – довольно успешно – войну против царя Митридата.
Сулла же застрял в Греции, где находились большие силы понтийцев. Афины переметнулись к врагам Рима, и Сулла осадил город. После отчаянного сопротивления Афины пали. Затем Сулла одержал две решительные победы у озера Орхомен в Беотии.
Его легат Лукулл собрал флот и также нанес Понту несколько поражений. А Фимбрия загнал Митридата в ловушку в приморском городе Питана и послал сообщение Лукуллу с просьбой помочь ему схватить понтийского царя, заблокировав гавань. Лукулл высокомерно отказался сотрудничать с человеком, самовольно принявшим на себя командование. В результате Митридат спасся бегством через море.
К лету 85 года Сулла изгнал понтийские армии из Европы и вошел в Малую Азию. В пятый день секстилия (августа) того же года Митридат согласился на условия договора, названного Дарданским, согласно которому ему надлежало довольствоваться границами своего царства. Сулла одержал верх и над Фимбрией, которого преследовал до тех пор, пока тот в отчаянии не покончил с собой. Запретив войскам Фимбрии возвращаться в Италию, Сулла ввел их в состав постоянной армии для использования в провинции Азия и в Киликии.
Обязав Митридата вернуться в Понт, Сулла отдавал себе полный отчет в том, что победа не одержана. Однако понимал он и другое: если он промедлит на Востоке, то потеряет все шансы сохранить высокое положение в Риме. Его жена Далматика и дочь Корнелия Сулла вынуждены были бежать из Рима в сопровождении Мамерка; дом Суллы разграбили и сожгли, его имущество было конфисковано (правда, большую часть состояния Мамерку все же удалось спрятать). Теперь Сулла был объявлен вне закона и лишен прав римского гражданства. Такая же судьба постигла и его сторонников. Многие члены сената, не желая жить при правлении Цинны, также бежали из Рима, чтобы присоединиться к Сулле. Среди них были Аппий Клавдий Пульхр, Публий Сервилий Ватия и Марк Лициний Красс.
Таким образом, Сулле поневоле пришлось оставить Митридата и вернуться в Рим. Он намеревался сделать это в 84 году, но серьезная болезнь задержала его в Греции еще на год. У Суллы были основания для беспокойства, поскольку его продолжительное отсутствие давало Цинне время, необходимое для подготовки к войне. А война была неизбежна: Италия недостаточно велика для двух фракций, столь ожесточенно противостоящих друг другу и не желающих ничего забыть и простить во имя мира.
Цинна и весь Рим также понимали: война с вернувшимся Суллой предопределена. Узнав о смерти второго консула, Флакка, Цинна сделал младшим консулом нового и более влиятельного человека, Гнея Папирия Карбона. Вместе с послушным сенатом Цинна решил встретить Суллу до того, как тот ступит на италийскую землю. Желая остановить Суллу в Западной Македонии, прежде чем он пересечет Адриатическое море, Цинна и Карбон начали набирать армию, которую доставили морем в Иллирию.
Вербовка шла туго, особенно в Пицене, владениях умершего Помпея Страбона. Надеясь привлечь добровольцев личным присутствием, Цинна прибыл в Анкону. Там он встретился с сыном Помпея Страбона, якобы намеревавшимся присоединиться к нему. Но желаемого воссоединения не последовало, и вскоре после этого Цинна умер в Анконе при загадочных обстоятельствах. Карбон занял Рим и взял сенат под свой контроль, однако Карбон принял решение все-таки дать Сулле возможность высадиться в Италии. В конце концов, объявил он, воевать с Суллой следует на италийской земле. Войска вернули из Иллирии, и Карбон приступил к осуществлению своего плана. Обеспечив выборы двух послушных ему консулов, Сципиона Азиагена и Гая Норбана, Карбон отправился наместником в Италийскую Галлию и обосновался со своей армией в портовом городе Аримин.
Таковы были предшествующие события. А теперь читайте дальше…
Часть I
Апрель 83 г. до н. э. – декабрь 82 г. до н. э
Управляющий высоко поднял над ложем лампу, в которой горели пять свечей. Он знал, что этого света недостаточно, чтобы разбудить Помпея. Такое дело под силу только его жене. Она шевельнулась, нахмурилась и отвернулась к стене, пытаясь заснуть снова, но за открытой дверью спальни уже слышались голоса. Управляющий окликнул ее:
– Domina! Domina!
Застигнутая врасплох – обычно слуги не заходили в спальню, – она все же не забыла о скромности и закуталась в покрывало, прежде чем сесть в постели.
– Что такое?
– Срочное сообщение для господина. Разбуди его и скажи, чтобы он вышел в атрий! – довольно бесцеремонно проговорил управляющий.
Пламя лампы колыхнулось и зачадило, когда он резко повернулся и быстро ушел. Комната погрузилась в темноту.
Ох этот мерзкий человек! Он сделал это нарочно! Антистия, впрочем, помнила, что оставила тунику в изножье ложа. Одевшись, она крикнула, чтобы принесли свет.
Ничто не могло разбудить Помпея. Когда доставили горящую лампу и теплую накидку, Антистия разглядела супруга: тот, не чувствуя холода, спал на спине, голый по пояс.
Она уже пыталась при других обстоятельствах – и по другим причинам – разбудить его поцелуем, но ей никогда этого не удавалось. Помпея нужно потрясти или ударить.
– Что? – рявкнул он, вскакивая и ероша пальцами густую светло-рыжую шевелюру. Челка торчала надо лбом острым мыском, голубые глаза глядели тревожно. В этом весь Помпей: спит как убитый, а спустя миг – сна ни в одном глазу. Солдатская привычка. – Что? – повторил он.
– Срочное сообщение для тебя. Ждет в атрии.
Не успела она закончить фразу, как он вскочил с кровати. Ноги обуты в сандалии, туника небрежно сползла с рябого плеча. И вот его уже нет – только дверь осталась распахнутой.
Несколько секунд Антистия стояла в нерешительности. Муж не взял с собой лампу – он, как кошка, видел в темноте. Поэтому она могла сама зажечь свет и последовать за ним. Но она знала, что ему это не понравится. Проклятие! Жены должны знать, что это за новости, из-за которых приходится будить хозяина! И она все же отправилась в атрий. Скудный свет маленькой лампы едва освещал ей путь по длинному коридору, пол и стены которого были выложены каменными блоками. Здесь поворот, там несколько ступеней – и вдруг она вышла из грозной галльской крепости и оказалась в цивилизованной римской вилле, оштукатуренной и красиво расписанной.
Помещение было ярко освещено, слуги сновали туда-сюда. Тут же стоял Помпей, одетый в одну тунику и казавшийся воплощением Марса. О, он был прекрасен!
Он уже заметил ее присутствие и теперь мог бы рассказать, что случилось. Но в этот момент торопливо вошел Варрон, и Антистия упустила случай узнать, что же вызвало такой переполох.
– Варрон! Варрон! – вскрикнул Помпей.
И вдруг с его уст сорвался страшный, резкий звук, почти нечеловеческий вопль. Должно быть, так звучал боевой клич древних галлов, когда они спускались с альпийских склонов, завоевывая италийские земли, включая и Пицен – вотчину Помпея, дальнего их потомка.
Антистия даже подскочила от неожиданности. Она заметила, что вздрогнул и Варрон.
– Что случилось?
– Сулла высадился в Брундизии!
– В Брундизии? Но как ты узнал?
– Какое это имеет значение?! – воскликнул Помпей. Он быстро пересек комнату, подскочил к маленькому Варрону, схватил его за плечи и стал трясти. – Вот оно, Варрон! Приключение начинается!
– Приключение! – ахнул Варрон. – Великий Помпей, когда же ты повзрослеешь? Ведь это же не просто приключение, это гражданская война! Новая гражданская война – и опять на италийской земле!
– А мне наплевать! – воскликнул Помпей. – Для меня это приключение. Если б ты знал, как я ждал этой новости, Варрон! Раз Сулла уехал, значит Италия сделалась совершенно ручной, точно собачка весталки.
– А как насчет знаменитой осады Рима? – зевнув, спросил Варрон.
Лицо Помпея стало серьезным, руки повисли. Он отступил от Варрона и мрачно посмотрел на него.
– Я предпочел бы забыть об осаде Рима! – резко ответил он. – Чернь протащила нагое тело моего отца, привязанное к ослу, по своим отвратительным улицам! Нет!
Бедный Варрон покраснел так густо, что окрасилась даже лысина:
– О Помпей, прости меня! Я не… я твой гость, пожалуйста, прости меня!
Но настроение уже было не то. Помпей натянуто засмеялся, хлопнул Варрона по спине:
– Ты не виноват, знаю.
В огромной комнате было очень холодно. Стараясь согреться, Варрон охлопывал себя руками.
– Я бы немедленно отправился в Рим.
Помпей посмотрел на него с удивлением:
– В Рим? Ты не поедешь в Рим, ты останешься со мной! Что, по твоему мнению, творится сейчас в Риме? По Форуму бессмысленно кружит стадо блеющих овец, а в сенате целыми днями бранятся старые бабы. Пойдем лучше со мной, будет веселее!
– И куда же ты собираешься?
– К Сулле, конечно!
– Для того чтобы отправиться к Сулле, я тебе не нужен, Великий Помпей. Садись на коня и скачи. Сулла рад будет подыскать тебе место среди своих младших военных трибунов, я уверен. Ты уже достаточно повоевал.
– О Варрон! – замахал руками Помпей, выдав раздражение. – Я не собираюсь присоединяться к Сулле в качестве младшего военного трибуна! Я собираюсь привести к нему три легиона! Я – в прислужниках у Суллы? Никогда! В этой авантюре я буду его равноправным партнером!
Сие поразительное заявление прозвучало как гром и для жены Помпея, и для его друга и гостя. Осознав, что стоит с открытым ртом, готовая неосмотрительно вмешаться в разговор мужчин, Антистия быстро скрылась с мужниных глаз. Он совсем забыл о ее присутствии, а она хотела услышать все. Ей необходимо было услышать все – до конца.
За те два с половиной года, что она была его женой, Помпей только раз оставлял ее больше чем на день. О, что это было за счастье! Наслаждаться его безраздельным вниманием! Когда тебя щекочут, тискают, доводят до исступления, сжимают в объятиях, кусают до синяков, набрасываются на тебя… Это как сон. Кто бы мог вообразить? Она, дочь сенатора среднего ранга с весьма скромным состоянием, вдруг оказалась женой Гнея Помпея, который сам называл себя Магн – Великий! Достаточно богатый, чтобы жениться по собственному усмотрению, хозяин половины Умбрии и Пицена, светловолосый красавец, которого считали возродившимся Александром Великим, – какого мужа нашел для нее отец! И это после нескольких лет отчаяния, когда она уже разуверилась в том, что когда-нибудь подберет себе подходящего супруга, потому что приданое ее было довольно скромным.
Естественно, она знала, почему Помпей женился на ней. Он нуждался в помощи ее отца, который оказался судьей во время судебного разбирательства, в котором Помпей был ответчиком. Дело было, конечно, сфабриковано – все в Риме знали это. Но Цинне отчаянно нужны были деньги, чтобы набрать армию, а состояние Помпея могло выдержать любой штраф. По этой причине молодого Помпея заставили отвечать за деяния его умершего отца, Помпея Страбона. Тот незаконно присвоил часть военной добычи из города Аскул в Пицене. А именно одну охотничью сеть и несколько корзин книг. Пустяк. Проблема заключалась не в тяжести проступка, а в величине штрафа. Если бы Помпея признали виновным, то приспешники Цинны, включенные в список присяжных, могли присудить выплату в размере целого состояния.
Истинный римлянин выдержал бы сражение в суде и, если надо, дал бы взятку присяжным, но Помпей – а черты его лица выдавали в нем галла – предпочел жениться на дочери судьи. Тогда стоял октябрь. В течение двух месяцев, ноября и декабря, отец Антистии вел процесс, мастерски затягивая его. Фактически суд над зятем ничем не закончился. Он все время откладывался: то неблагоприятные знамения, то обвинение присяжных в коррупции, то заседания сената, то эпидемия лихорадки, а то чума. В результате в январе консул Карбон убедил Цинну поискать денег где-нибудь в другом месте. Состоянию Помпея больше ничто не угрожало.
Антистия, которой едва исполнилось восемнадцать, отправилась вместе со своим блистательным супругом в его поместья, расположенные на северо-востоке Италийского полуострова. И там, в грозном черном каменном замке Помпея, она с головой окунулась в любовные утехи. К счастью, она была привлекательной – небольшого роста, пухленькая, в ямочках, вполне созревшая для брачного ложа, так что довольно долго счастье ее было безмятежным. И когда начали возникать первые огорчения, причиной оказался не ее обожаемый Магн, а его преданные соратники, слуги и мелкие землевладельцы, которые не только смотрели на нее свысока, но, казалось, даже и не пытались скрыть своего презрения. Однако это ее не сильно задевало, поскольку Помпей был рядом и к ночи всегда возвращался домой. Но теперь он заговорил о том, что отправится на войну, о том, что поднимет легионы и станет союзником Суллы! О, что же она будет делать без своего обожаемого Помпея? Кто вступится за нее?
Помпей все еще старался убедить Варрона в том, что единственным правильным решением было бы отправиться с ним, Помпеем, дабы присоединиться к Сулле, но этот чопорный и педантичный коротышка – весьма умудренный для человека, лишь два года прозаседавшего в сенате! – продолжал сопротивляться.
– Сколько войска у Суллы? – осведомился Варрон.
– Пять легионов ветеранов, шесть тысяч кавалерии, немного добровольцев из Македонии и Пелопоннеса и пять когорт испанцев, принадлежавших этому грязному жулику, Марку Крассу. Всего – около тридцати девяти тысяч.
Этот ответ заставил Варрона взвиться.
– Я повторяю, Магн, пора повзрослеть! – выкрикнул он. – Я только что приехал из Аримина, где Карбон засел с восемью легионами и огромной кавалерией, – и это лишь начало! В одной только Кампании еще шестнадцать легионов! За три года Цинна и Карбон набрали войско – сто пятьдесят тысяч в Италии и Италийской Галлии. Как сможет Сулла справиться с такой силой?
– Сулла пожрет их, – равнодушно ответил Помпей. – Кроме того, я собираюсь предоставить ему еще три легиона закаленных ветеранов моего отца. А солдаты Карбона – рекруты-молокососы.
– Ты действительно хочешь иметь собственную армию?
– Конечно.
– Помпей, тебе только двадцать два года! Ты не можешь ожидать, что ветераны отца пойдут за тобой!
– Почему? – недоуменно спросил Помпей.
– Во-первых, ты сможешь войти в сенат лишь через восемь лет. Тебе осталось двадцать лет до консульства. И даже если люди твоего отца пойдут за тобой, просить их об этом абсолютно незаконно. Ты – частное лицо, а частные лица не вербуют себе армии.
– Уже три года в Риме нет законного правительства, – возразил Помпей. – Цинна – четырехкратный консул, Карбон – двукратный, Марк Гратидиан – дважды претор по гражданским делам, почти половина сената объявлена вне закона, Аппий Клавдий лишен империя и изгнан, Фимбрия носится по Малой Азии, заключая сделки с царем Митридатом, – это же посмешище!
Варрон был похож на упрямого мула, что неудивительно для сабина, селянина, жителя Розейских полей, где полным-полно этих животных.
– В любом случае следует действовать законно, – упрямо сказал он.
Помпей захохотал:
– Ох, Варрон! Ты мне нравишься, но ты безнадежный идеалист! Если бы это можно было решить законным путем, почему же тогда в Италии и Италийской Галлии сто пятьдесят тысяч солдат?
Варрон воздел руки в знак того, что сдается:
– Хорошо, хорошо! Я с тобой.
Помпей засиял, обнял Варрона за плечи и повлек его по коридору в свои комнаты.
– Великолепно, великолепно! Ты сможешь написать историю моей первой кампании. У тебя слог куда лучше, чем у твоего друга Сизенны. Я – самый значительный человек нашей эпохи. Я заслуживаю своего историка.
Но последнее слово осталось все же за Варроном:
– Теперь тебе деваться некуда! Раз уж тебе хватило нахальства назвать себя Великим. – Он хмыкнул. – Великий – это в двадцать два-то года! Твоему отцу пришлось довольствоваться прозванием Косоглазый.
Последний выпад Помпей пропустил мимо ушей, засыпая указаниями слуг и оружейного мастера.
И вот наконец ярко расписанный, позолоченный атрий опустел. Остались только Помпей и Антистия. Он подошел к ней.
– Глупый котенок, ты ведь простудишься, – выбранил он ее и ласково поцеловал. – Возвращайся в постель, мой сладкий пирожок.
– Помочь тебе собрать вещи? – спросила Антистия несчастным голосом.
– Мои люди сделают это, но ты можешь проследить за ними.
На этот раз путь им освещал слуга с массивным канделябром в руках. Стараясь держаться рядом с Помпеем, Антистия отправилась с ним в комнату, где хранились все его доспехи. Внушительное собрание. Не менее десяти разных кирас свисали с перекладин на шестах – золотые, серебряные, стальные, кожаные, украшенные фалерами. На крючках, вбитых в стену, – мечи и шлемы, а также птериги из кожаных полос и войлочные поддевки.
– А теперь полезай вот сюда и сиди тихо, как мышка, – велел Помпей и легко, словно перышко, поднял жену и устроил на паре больших сундуков, так что ноги ее болтались, не доставая до пола.
И о ней забыли. Помпей и его слуги осматривали вещь за вещью – будет ли она полезна, стоит ли ее брать с собой? Потом, когда Помпей перебирал сундуки, расставленные по всей кладовой, он бесцеремонно пересадил жену на другой «насест». Отобранные вещи он бросал слугам и разговаривал сам с собой с таким счастливым видом, что у Антистии не осталось никаких иллюзий: этот человек не будет скучать по своей жене, своему дому и комфорту. Конечно, она знала, что прежде всего он считает себя солдатом, что он презирает обычные занятия своих сверстников – риторику, законотворчество, управление, собрания, политические интриги. Сколько раз он говорил, что заслужит курульное кресло консула своим мечом, а не красивыми словами и пустыми фразами! И вот теперь свое хвастовство он претворяет в жизнь. Солдат-сын солдата-отца отправляется на долгожданную войну.
Как только слуги вышли из комнаты, нагруженные снаряжением, Антистия спрыгнула с сундука и подошла к мужу.
– Прежде чем ты покинешь меня, Магн, я должна поговорить с тобой, – сказала она.
Конечно, он считал это напрасной тратой своего драгоценного времени. Тем не менее он остановился:
– Ну, что такое?
– Как долго тебя не будет?
– Не имею ни малейшего представления, – весело ответил он.
– Месяцы? Год?
– Возможно, месяцы. Говорю тебе, Сулла сожрет Карбона.
– Тогда я бы хотела вернуться в Рим и все время твоего отсутствия жить в доме моего отца.
Но Помпей замотал головой, явно удивленный ее просьбой.
– Ни за что! – отрезал он. – Я не хочу, чтобы моя жена бегала по Карбонову Риму, пока я бок о бок с Суллой воюю с этим же Карбоном. Ты останешься здесь.
– Твои слуги и прочие твои люди меня не любят. Без тебя мне здесь будет трудно.
– Ерунда! – бросил он, поворачиваясь, чтобы уйти.
Но она снова преградила ему дорогу:
– Пожалуйста, супруг мой, удели мне несколько минут твоего времени! Я знаю, оно драгоценно для тебя, но ведь я твоя жена!
Он вздохнул:
– Хорошо, хорошо! Но только быстро, Антистия!
– Я не могу оставаться здесь!
– Можешь – и останешься. – Он нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
– Магн, когда тебя нет, пусть всего несколько часов, твои люди плохо обращаются со мной. Я никогда не жаловалась, потому что ты всегда добр ко мне и всегда был здесь, кроме того случая, когда уезжал в Анкону повидаться с Цинной. Но сейчас… в твоем доме нет больше женщин. Я совершенно одна. Право, будет лучше, если я вернусь к отцу, пока не кончится эта война.
– Исключено. Твой отец – человек Карбона.
– Нет, это не так. Он сам по себе.
Никогда прежде не осмеливалась она возражать ему, тем более спорить. Помпей начинал терять терпение.
– Послушай, Антистия, у меня есть более важные дела, чем препираться тут с тобой. Ты – моя жена, а это значит, что ты останешься в моем доме.
– Где твой управляющий ухмыляется мне в лицо и оставляет в темноте. Где у меня нет собственных слуг и никого, кто бы составил мне компанию.
Она старалась казаться спокойной и разумной, однако внутренне начала паниковать.
– Полная ерунда!
– Это не ерунда, Магн. Не ерунда! Я не знаю, почему все смотрят на меня свысока, но это так.
– Ну конечно! – подтвердил он, удивленный ее беспросветной глупостью.
От удивления ее глаза расширились.
– Ты находишь естественным, что они смотрят на меня свысока?
Он пожал плечами:
– Моя мать была из рода Луцилиев, как и моя бабушка. А кто ты?
– Хороший вопрос. И кто же я?
Помпей видел, что она сердится, и это разозлило его. Женщины! Ему предстояла первая большая война, а это ничего не значащее существо намеревается разыграть здесь целую драму! Неужели все женщины такие безмозглые?
– Ты – моя первая жена.
– Первая жена?
– Временная мера.
– О, я понимаю, – с расстановкой сказала она. – Временная мера. Дочь судьи, ты имеешь в виду.
– Ну, ты же всегда это знала.
– Но ведь это было уже давно… Я думала, что это в прошлом, что ты любишь меня. Я – из сенаторской семьи, меня нельзя назвать неподходящей партией.
– Для обычного человека – да. Но для меня ты недостаточно хороша.
– О Магн, откуда у тебя такое самомнение? Так вот почему ты ни разу не излил в меня свое семя? Потому что я недостаточно хороша, чтобы стать матерью твоих детей?
– Да! – рявкнул он, направляясь к двери.
Она последовала за ним со своей жалкой маленькой лампой. Теперь Антистия была слишком разгневана для того, чтобы заботиться о том, что ее могут услышать.
– Но я была достаточно хороша для тебя, когда Цинна охотился за твоими деньгами!
– Мы уже покончили с этим, – торопливо отозвался он.
– Как же удобна для тебя смерть Цинны!
– Она удобна для Рима и для всех римлян!
– Ведь это ты приказал убить Цинну!
Слова эхом отскочили от каменной стены коридора, который был так широк, что по нему могла пройти целая армия. Помпей остановился:
– Цинна погиб в пьяной драке с ленивыми рекрутами.
– В Анконе, в твоем городе, Магн! В твоем городе! И сразу же после того, как ты уехал туда, чтобы повидаться с ним! – выкрикнула она.
Она еще сохраняла самообладание – и вдруг оказалась прижатой к стене. Руки Помпея лежали на ее горле. Не сжимали. Просто лежали.
– Никогда больше не говори этого, женщина, – мягко произнес он.
– Так считает мой отец! – удалось вымолвить ей.
Во рту у нее пересохло. Руки мужа слегка сжали ей горло.
– Твой отец не очень-то жаловал Цинну. Но против Карбона он ничего не имеет, вот поэтому я с радостью убил бы его. Но меня не обрадует, если придется убить тебя. Я не убиваю женщин. Держи язык за зубами, Антистия. К смерти Цинны я непричастен. Это был просто несчастный случай.
– Я хочу уехать к родителям в Рим!
Помпей выпустил ее и оттолкнул от себя:
– Ответ – нет. А теперь оставь меня!
Он ушел, кликнув управляющего. Издалека она слышала, как он отдавал распоряжения тому отвратительному человеку: Антистии воспрещается покидать пределы Помпеевой крепости, когда он уедет на свою войну. Дрожа, Антистия медленно возвратилась в спальню, которую делила с Помпеем два с половиной года как его первая жена – как временное средство для достижения цели. Недостаточно хороша, чтобы быть матерью его детей. И как это она не догадалась об этом раньше, когда вновь и вновь удивлялась, почему он всегда в последний момент выскальзывает из нее, оставляя на ее животе склизкую лужу?
Слезы подступили к глазам. Скоро они потекут, а раз они вырвутся на волю, их будет не остановить часами. Разочароваться в возлюбленном, прежде чем уйдет любовь, – ужасно.
Донесся еще один из тех холодивших душу варварских кличей и наконец голос Помпея:
– Я ухожу на войну, я ухожу на войну! Сулла высадился в Италии, и это – война!
Рассвет едва занялся, когда Помпей, в блестящих серебряных доспехах, сопровождаемый своим восемнадцатилетним младшим братом и Варроном, привел небольшую группу чиновников и писцов на рыночную площадь Авксима. Там, в самом центре, он укрепил штандарт своего отца и стал с плохо скрываемым нетерпением ждать, когда за сборными столами рассядутся секретари, разложат листы бумаги, заострят тростниковые перья, разведут чернила в каменных чернильницах.
К тому времени, как все было готово, собралась такая большая толпа, что площади не хватило, и люди толпились на ближайших улицах и аллеях. Легкий и гибкий, Помпей вскочил на временный помост и встал под штандарт Помпея Страбона с изображением дятла.
– Настала пора! – прокричал он. – Луций Корнелий Сулла высадился в Брундизии, чтобы вернуть себе то, что принадлежит ему по праву, – властные полномочия, триумф, привилегию возложить свои лавры к ногам Юпитера Всеблагого Всесильного на римском Капитолии! В прошлом году, как раз в это время, другой Луций Корнелий, прозванный Цинной, находился недалеко отсюда, пытаясь завербовать ветеранов моего отца. Это ему не удалось. Он умер. Сегодня вы видите меня. И сегодня я вижу многих ветеранов моего отца. Я – наследник Страбона! Его люди – это мои люди. Его прошлое – это мое будущее. Я собираюсь в Брундизий драться на стороне Суллы, ибо его дело правое. Кто из вас пойдет со мной?
Коротко и ясно, с восторгом подумал Варрон. Может быть, молодой человек был прав, когда говорил, что мечом, а не словоблудием завоюет консульское кресло. Казалось, краткость речи Помпея никого не разочаровала в этой толпе. Не успел он закончить свое обращение, как женщины стали расходиться, кудахча о скором отъезде мужей и сыновей. Одни в отчаянии ломали руки, другие уже прикидывали, что положат в вещевые мешки вместе с запасными туниками и носками. Были и такие, что старательно смотрели в землю, скрывая хитрые улыбочки. Шлепками разгоняя стоявших на пути детей, мужчины бросились к столам. Минуту спустя секретари Помпея уже усердно водили перьями по дощечкам.
Сидя на верхних ступенях старого храма Пикуса в Авксиме, Варрон наблюдал за происходящим с удобной позиции. «Неужели они так же охотно записывались в войско косоглазого Помпея Страбона? – думал он. – Наверное, нет. Тот был повелителем, хозяином, трудным человеком, но замечательным командиром. Они, наверное, служили ему преданно, но с тяжелым сердцем. У сына все по-другому. Предо мною – явление, – пришло на ум Варрону. – Охотнее не могли бы идти мирмидоняне за Ахиллом, а македоняне – за Александром Великим. Они любят его! Он – их любимец, их талисман, их дитя и отец».
Кто-то большой уселся рядом с ним на ступеньку. Варрон повернул голову и увидел красное лицо в обрамлении рыжих волос. Два умных голубых глаза оценивающе смотрели на него, единственного незнакомца в этом месте.
– И кто же ты? – вопросил румяный гигант.
– Меня зовут Марк Теренций Варрон, и я сабин.
– Как и мы, да? Во всяком случае, когда-то. – Грубой рукой он махнул в сторону Помпея. – Ты только посмотри на него! Как мы ждали этого дня, Марк Теренций Варрон, сабин! Разве он не соблазн для богини?
Варрон улыбнулся:
– Не уверен, что это подходящее сравнение, но понимаю, что ты имеешь в виду.
– Ах, ты не только господин с тремя именами, ты еще и ученый! Может, ты его друг?
– Может быть.
– И чем же ты зарабатываешь на хлеб, а?
– В Риме я – сенатор, а в Реате развожу племенных кобыл.
– Что? Не мулов?
– Лучше разводить кобыл, чем их отпрысков мулов. Я владею небольшим участком Розейских полей. И еще у меня имеется несколько племенных ослов.
– И сколько же тебе лет?
– Тридцать два, – ответил Варрон, забавляясь разговором.
Но вопросы вдруг иссякли. Собеседник Варрона устроился поудобнее, утвердив локти на ступеньке повыше и раскинув свои геркулесовы лапищи. Маленький Варрон с восхищением смотрел на грязные пальцы его ног, почти такого же размера, как пальцы на руках у самого Варрона.
– А тебя как зовут? – спросил он, легко переходя на местный говор.
– Квинт Скаптий.
– Ты записался?
– Никакие Ганнибаловы слоны не остановили бы меня!
– Наверное, ты ветеран?
– Я служил в армии его отца с семнадцати лет. Это было восемь лет назад. Я участвовал в двенадцати кампаниях, так что могу уже и не воевать, если только сам не захочу, – ответил Квинт Скаптий.
– Но ты захотел.
– Слоны Ганнибала, Марк Теренций, слоны Ганнибала!
– Ты центурион?
– В этой кампании мог бы стать и центурионом.
Разговаривая, Варрон и Скаптий не отрывали глаз от Помпея, который стоял перед средним столом, радостно приветствуя того или другого знакомого в толпе.
– Он говорит, что отправится в поход, прежде чем эта луна закончит свой круг, – заметил Варрон. – Но я не понимаю, как ему это удастся. Допустим, никого из присутствующих здесь учить военному делу не требуется, но откуда он возьмет достаточно оружия и доспехов? Или вьючных животных? Или повозок и быков? Провианта? И где он достанет столько денег, чтобы осуществить это великое предприятие?
Скаптий хрюкнул. Очевидно, это его позабавило.
– Ему можно об этом не беспокоиться! Его отец дал каждому из нас полное вооружение и доспехи еще в начале войны против италиков. Потом, когда отец умер, сын сказал, чтобы мы оставили все себе. Каждый из нас имеет мула, у центурионов есть телеги и волы. Так что к намеченному дню мы будем готовы. Помпеев врасплох не застанешь! В наших амбарах достаточно пшеницы, а на складах полно другой еды. Наши женщины и дети не будут голодать, чтобы мы хорошо питались во время кампании.
– А как насчет денег? – осторожно поинтересовался Варрон.
– Деньги? – презрительно фыркнул Скаптий. – Мы служили его отцу, получая не очень-то много, что правда, то правда. В те дни денег негде было достать. Когда у него будут деньги, он нам заплатит. Не будет денег – обойдемся. Он хороший хозяин.
– Понял.
Замолчав, Варрон с новым интересом стал наблюдать за Помпеем. Все рассказывали о легендарной независимости Помпея Страбона, проявленной тем во время Италийской войны. Вопреки приказу распустить свои легионы он долгое время держал их при себе, чем изменил ход событий в Риме. После смерти Гая Мария Цинна, устроив проверку бухгалтерских книг казначейства, не обнаружил там счетов на огромные суммы. Теперь Варрон знал почему. Помпей Страбон попросту не платил своим войскам. Да и зачем, если, по существу, они являются его собственностью?
В этот момент Помпей покинул свой пост и направился к ступеням храма Пикуса.
– Я иду искать место для лагеря, – сказал он Варрону, потом широко улыбнулся гиганту, сидящему рядом с его другом. – Я вижу, ты рано пришел, Скаптий.
Скаптий тяжело поднялся на ноги:
– Да, Магн. Лучше пойду-ка я домой и раскопаю свое снаряжение.
Так, значит, все называли его Великим! Варрон тоже встал:
– Я с тобой, Магн.
Толпа мужчин расходилась, а женщины стали возвращаться на рыночную площадь. Несколько торговцев, оттесненных прежде, устанавливали свои киоски, рабы торопились их собрать. Груды грязного белья все еще лежали вокруг большого фонтана перед алтарем, посвященным ларам. Несколько девушек подоткнули юбки и вошли в воду. «Какой типичный город! – думал Варрон, шагая чуть позади Помпея. – Солнечный свет и пыль, несколько красивых тенистых деревьев, жужжание насекомых, сморщенные зимние яблоки, занятые люди, знающие друг о друге почти все. Здесь, в Авксиме, секретов нет!»
– Это энергичные, сильные люди, – сказал он Помпею, когда они ушли с площади в поисках своих коней.
– Они сабины, Варрон, такие же, как и ты, – ответил Помпей, – даже если столетия назад пришли с востока Апеннин.
– Не совсем такие, как я! – Варрон позволил одному из конюхов Помпея подсадить себя в седло. – Я сабин, но ни по природе, ни по навыкам я не солдат.
– Ты получил военную подготовку в Италийской войне.
– Да, конечно. И участвовал в десяти кампаниях. Как быстро они сменяли друг друга в том мировом пожаре! Но когда война заканчивалась, я ни разу не вспоминал ни о мече, ни о кольчуге.
Помпей засмеялся:
– Ты говоришь совсем как мой друг Цицерон.
– Марк Туллий Цицерон? Это юридическое чудо?
– Да, он. Ненавидел войну. Не переносил ее, чего мой отец никак не мог понять. Но все равно был хорошим парнем. Ему нравилось делать то, что не нравилось мне. Вдвоем мы со всем управлялись так, чтобы мой отец всегда оставался нами доволен, хотя многого не знал. – Помпей вздохнул. – После падения Аскула Цицерон настоял на том, чтобы уйти от нас и служить под началом Суллы в Кампании. Я скучал по нему!
Спустя два восьмидневных перерыва между рыночными днями Помпей получил свои три легиона ветеранов-добровольцев, стоявших хорошо укрепленным лагерем в пяти милях от Авксима на берегу притока реки Эзис. Чистота в лагере была безупречной, за этим строго следили. Помпей Страбон знал лишь один способ справляться с колодцами, помойными ямами, уборными, мусором, дренажем: когда вонь становилась невыносимой, он переводил лагерь в другое место. Так что умер он от кишечного расстройства за воротами Рима, у Квиринала; а обитатели холмов Квиринал и Виминал надругались над его телом, поскольку источники были отравлены стоками Помпеева лагеря.
Варрон с восхищением наблюдал за тем, как гениально его юный друг создавал свою армию, как организовывал материально-техническое снабжение. Ни одна деталь, как бы ничтожна она ни была, от него не ускользнула. И в то же время масштабные дела проворачивались со скоростью, достижимой только при великолепном умении и сноровке.
«И я допущен в очень узкий, личный круг этого воистину великого явления, – думал он. – Он изменит наш мир, он изменит восприятие этого мира. В нем нет ни грана страха, он полностью уверен в себе. Однако, – напомнил себе Варрон, – остальные тоже неплохо держались, пока не началась эта катавасия. Как он поведет себя, когда придет в действие военная машина, когда враги окружат его со всех сторон, когда он встретится лицом к лицу – нет, не с Карбоном и не с Серторием – с самим Суллой? Вот это будет настоящим испытанием! Вместе или друг против друга, но отношения между старым буйволом и молодым буйволенком решат судьбу буйволенка. Согнется ли он? Может ли он вообще согнуться? Что же готовит грядущее для человека столь молодого, столь уверенного в себе? Найдется ли в мире сила или человек, способные сломать его?»
Определенно Помпей считал, что таковых нет. Хотя юноша вовсе не был склонен к мистике, он окружил себя особым ореолом, создав образ, соответствующий его идеалу. Кое-что он себе присвоил – например, непобедимость, неуязвимость, непоколебимость. Ведь обладание этими качествами не во власти человека. В его вены словно бы влился нетленный ихор, а тело окутали божественные испарения. С самого младенчества Помпей жил в мире своих фантазий. Он командовал в десятках тысяч сражений, сотни раз проезжал по Риму на древних триумфальных колесницах, вновь и вновь стоял, как Юпитер, сошедший к смертным, а Рим склонялся, боготворя его, величайшего человека, когда-либо жившего на земле.
Но Помпей-мечтатель отличался от других таких же мечтателей тем, что не думал прятаться от действительности. Напротив, он зорко вглядывался в реальный мир, упражняя ум размышлениями о великом, словно горы, и о малом, словно капли воды. Таким образом, его героические фантазии служили наковальней, на которой он выковывал настоящее, закаливал и обжигал, вгоняя в рамки суровой действительности.
Итак, Помпей собрал своих людей в центурии, когорты, легионы. Он тренировал их и проверял их личное снаряжение. Он отбраковывал слишком старых вьючных животных, сильными ударами проверял прочность осей, тряс повозки, спускал их на скорости по каменистому склону за лагерем. Все будет в отличном состоянии, потому что ничего непредвиденного не должно случиться, все должно быть совершенным, как совершенен он сам.
Через двенадцать дней после того, как Помпей начал набирать войско, пришло сообщение из Брундизия. Сулла двигался по Аппиевой дороге под приветственные крики, доносившиеся из каждой хижины, деревни, города. Но прежде чем отправиться в путь, рассказал Помпею гонец, Сулла собрал свою армию и попросил ее дать клятву верности – лично ему, Сулле. Если кто-либо в Риме и сомневался в намерении Суллы взять власть, тот факт, что армия поклялась поддержать его – даже в том случае, если Сулла выступит против правительства Рима, – недвусмысленно свидетельствовал: теперь война неизбежна.
А потом, продолжал гонец, солдаты Суллы пришли к нему и предложили ему все свои деньги, чтобы он смог заплатить за каждое зернышко пшеницы, за каждый лист салата, за каждый фрукт, пока они будут идти по Калабрии и Апулии. Никто не станет смотреть на них косо и не спугнет удачу их полководца, они не вытопчут полей, не станут убивать пастухов, насиловать женщин, морить голодом детей. Все будет так, как хочет Сулла. Он вернет им деньги потом, когда станет хозяином всей Италии, всего Рима.
Весть о том, что южная часть полуострова рада приветствовать Суллу, не слишком понравилась Помпею. А он-то надеялся, что к тому времени, как он явится к Сулле со своими тремя легионами закаленных ветеранов, тот будет отчаянно в них нуждаться. Теперь было ясно, что этого не случится. Помпей пожал плечами и пересмотрел свои планы применительно к обстановке.
– Мы пойдем по нашему берегу до Буки, потом направимся внутрь полуострова, к Беневенту, – сказал он своим трем старшим центурионам, которые командовали тремя его легионами.
Совет ему следовало бы держать с высокородными военными трибунами, которых Помпей мог бы найти – при желании. Но высокородные военные трибуны подвергли бы сомнению право Помпея вести армию, так что Помпей предпочел назначить командующих из числа своих людей. И пусть высокородные римляне его осудят, если узнают.
– Когда отправляемся? – спросил Варрон, поскольку никто другой не осмелился задать этот вопрос.
– За восемь дней до конца апреля, – ответил Помпей.
Но тут на сцене появился Карбон, и Помпей снова был вынужден поменять планы.
От Западных Альп прямая нить Эмилиевой дороги тянулась через Италийскую Галлию вплоть до Адриатического моря у Аримина. Из Аримина другая отличная дорога шла вдоль берега до Фан-Фортуны, прибрежного города в Умбрии, где начиналась Фламиниева дорога до Рима. Это делало Аримин стратегически важным пунктом, равным лишь Аррецию, стоявшему на подступах к Риму, к западу от Апеннин.
Поэтому логично, что Гней Папирий Карбон – двукратный римский консул и теперь правитель Италийской Галлии – поставил свои восемь легионов и кавалерию лагерем на окраинах Аримина. Отсюда он мог двигаться в любом из трех направлений: по Эмилиевой дороге через Италийскую Галлию к Западным Альпам, по Адриатическому побережью к Брундизию и по Фламиниевой дороге на Рим.
Вот уже восемнадцать месяцев он ждал возвращения Суллы. И конечно, понимал, что Сулла явится в Брундизий. В Риме пока еще оставалось слишком много людей, которые, когда придет время, встанут на сторону Суллы, хотя сейчас и заявляют о своем нейтралитете. И все они хотели бы свергнуть нынешнее правительство. Это делало Рим главной целью. Знал Карбон и то, что Метелл Пий Свиненок ушел в Лигурию, граничащую с Западными Альпами Италийской Галлии. С Метеллом Пием были два добротных легиона, которые он привез из провинции Африка, после того как сторонники Карбона выгнали его оттуда. Карбон был уверен: как только Свиненок прослышит о высадке Суллы, он пойдет на соединение с мятежником и это сделает уязвимой также Италийскую Галлию.
Конечно, имелись шестнадцать легионов в Кампании, и они были намного ближе к Брундизию, нежели Карбон в Аримине. Но насколько надежны консулы нынешнего года, Норбан и Сципион Азиаген? Карбон не мог быть полностью в них уверен. Он сам, своей волей, ушел из Рима. В конце прошлого года он был убежден в двух вещах: что Сулла нагрянет весной и что Рим с большей вероятностью выступит против Суллы, если самого Карбона там не будет. Так что он обеспечил консульство двух стойких своих сторонников, Норбана и Сципиона Азиагена, а потом сам себя назначил правителем Италийской Галлии, чтобы контролировать происходящее и при необходимости быть в состоянии действовать в любой момент. Выбор консулов был, по крайней мере теоретически, хорош, ибо ни Норбану, ни Сципиону Азиагену не приходилось ждать пощады от Суллы. Норбан был клиентом Гая Мария, а Сципион Азиаген во время Италийской войны переоделся рабом и бежал из Эсернии – поступок, вызвавший у Суллы презрение. И все же достаточно ли они сильны? Используют ли они свои шестнадцать легионов как истинные полководцы или упустят счастливый случай? Этого Карбон не знал.
Но одного он не учел: что наследник Помпея Страбона, совсем мальчишка, будет иметь наглость набрать три полных легиона из ветеранов своего отца и отправиться на соединение с Суллой! Не то чтобы Карбон всерьез воспринимал молодого человека. Карбона беспокоили три легиона ветеранов. Если они попадут к Сулле, он их использует блестяще.
Квестор Гай Веррес сообщил Карбону о предполагаемой экспедиции Помпея.
– Мальчишку следует остановить, прежде чем он двинется в путь, – сказал Карбон, хмурясь. – Какая досада! Мне лишь остается надеяться, что Метелл Пий не уйдет из Лигурии, пока я не расправлюсь с Помпеем-младшим, а консулы смогут совладать с Суллой.
– С Помпеем-младшим справимся быстро, – уверенно заметил Гай Веррес.
– Согласен, и все же это досадно, – сказал Карбон. – Пожалуйста, позови моих легатов.
Легатов Карбона было никак не найти. Веррес бегал из одного конца лагеря в другой – слишком долго, Карбону это не понравится. Пока Веррес разыскивал легатов, много мыслей пронеслось у него в голове, но ни одна из них не была о наследнике Помпея Страбона. Нет, все его думы – о Сулле. Хотя они с Суллой никогда не встречались лично (не было случая, поскольку отец Верреса был заднескамеечником в сенате, а сам он служил во время Италийской войны у Гая Мария, а потом у Цинны), Веррес помнил, как выглядел Сулла, когда шагал в процессии во время вступления в должность консула. Сулла произвел на Верреса огромное впечатление. Поскольку по натуре Веррес не был военным, ему и в голову не приходило отправиться с Суллой на Восток. К тому же Рим Цинны и Карбона не казался ему таким уж отвратительным. Верресу нравилось быть там, где водятся деньги, ибо он обладал тонким художественным вкусом и непомерными амбициями. Но теперь, разыскивая легатов Карбона, он подумал: «А не пора ли сменить лагерь?»
Строго говоря, Гай Веррес являлся скорее проквестором, ведь срок его квесторства истек в конце года. Должность он сохранил только благодаря Карбону. Тот был так доволен своим выдвиженцем, что взял его с собой в Италийскую Галлию. А поскольку в функции квестора входили все финансовые вопросы, Гай Веррес обратился в казначейство и от имени Карбона получил сумму в 2 миллиона 235 тысяч 417 сестерциев. Эти деньги, упакованные до последнего сестерция, должны были покрыть все расходы Карбона – плату легионам, снабжение их продовольствием, обеспечение надлежащих условий для командующего, легатов, слуг, квестора, а также тысячу других мелочей, не входящих в разряд перечисленных.
Хотя еще не кончился апрель, более полутора миллионов сестерциев уже было потрачено, а это означало, что вскоре Карбон должен будет опять обратиться в казначейство. Его легаты жили на широкую ногу, а сам Карбон давно привык считать государственные деньги своей собственностью. Не говоря уже о Гае Верресе. Он тоже обмакивал пальцы в горшок с медом, прежде чем глубоко запустить руку в мешок с деньгами. До сих пор ему удавалось удерживаться от крупных растрат, но, взглянув на свое положение по-новому, он решил: скромничать больше нет смысла! И как только Гай Веррес увидит спину Карбона, уходящего, чтобы расправиться с тремя легионами Помпея, он тоже смоется. Время сменить хозяина.
Так он и поступил. Карбон взял с собой только четыре легиона – без кавалерии – и ушел на рассвете, чтобы встретиться с наследником Помпея Страбона. Солнце еще не поднялось высоко, когда Гай Веррес тоже отбыл. Он ехал совсем один, не считая личных слуг. На юг за Карбоном он не последовал. Дорога вела его в Аримин, где в шкафах местного банкира хранились все финансы Карбона. Только два человека обладали полномочиями изъять их: правитель Карбон и его квестор Веррес. Наняв двенадцать мулов, Веррес забрал в общей сложности сорок семь кожаных мешков, по полталанта Карбоновых денег в каждом. Ему даже не потребовалось давать объяснений. Известие о высадке Суллы достигло Аримина быстрее летней грозы, и банкир знал, что Карбон был на марше с половиной своей пехоты.
Задолго до полудня Гай Веррес исчез с шестьюстами тысячами сестерциев, официально выделенных Карбону, направляясь в противоположную сторону: сначала в свои поместья в долине верхнего Тибра, а потом – с двадцатью семью талантами серебряных монет – туда, где он мог найти Суллу.
Не зная, что его квестор покинул лагерь, сам Карбон двигался по побережью Адриатики навстречу Помпею, расположившемуся неподалеку от реки Эзис. Он был настроен настолько оптимистично, что не торопился и не принимал никаких мер предосторожности, чтобы подойти по возможности незаметно. Это будет неплохая тренировка для его еще не бывавших в бою солдат, ничего более. Как бы грозно ни звучали слова «три легиона ветеранов Помпея Страбона», Карбон был достаточно опытен, чтобы понимать: ни одна армия не способна на большее, чем ее полководец. Этих же ветеранов возглавляет дитя! Поэтому справиться с ними – просто детская игра.
Когда Помпею сообщили о приближении Карбона, он издал радостный возглас и сразу же собрал своих солдат.
– Первое сражение мы дадим на своей земле! – кричал он. – Сам Карбон идет к нам из Аримина, и он уже проиграл! Почему? Потому что он знает, что командую вами я! Вас он уважает. Меня – нет. Разве он понимает, что сын Мясника знает, как рубить кости и резать мясо? Нет, Карбон – дурак! Он думает, сын Мясника слишком изнежен, чтобы пачкать руки кровью, занимаясь отцовским ремеслом. Он не прав! И вы знаете это, и я знаю это. Так давайте же проучим Карбона!!
И они проучили Карбона. Его четыре легиона подошли к Эзису, сохраняя строй, и ожидали, пока разведчики найдут переправу через реку, вздувшуюся после весеннего таяния снегов в Апеннинах. Карбон считал, что Помпей все еще в своем лагере. Ему и в голову не пришло, что презренный мальчишка может находиться совсем близко.
Разделив свои силы и послав половину через Эзис задолго до прихода Карбона, Помпей напал в тот момент, когда два Карбоновых легиона переходили реку, а два готовились к переправе. Помпей взял Карбона в клещи и одновременно атаковал с обоих берегов, неожиданно появившись из-за деревьев. Ветераны сражались, чтобы доказать: сын Мясника знает ремесло даже лучше отца. Вынужденный выполнять роль полководца и оставаться на южном берегу реки, Помпей не мог сделать то, чего хотел больше всего, – встретиться с Карбоном лично. Полководцы, говорил ему отец много раз, никогда не должны покидать базовый лагерь – на случай, если сражение пойдет не по намеченному плану и придется срочно отступить. Так что Помпею пришлось следить за тем, как Карбон и его легат Луций Квинкций собирают два легиона, оставшиеся на их берегу реки Эзис, и стремительно удирают в сторону Аримина. Из тех, кто был на берегу Помпея, не выжил никто. Сын Мясника действительно знал толк в семейном ремесле. Он ликовал.
А теперь настало время идти к Сулле!
Два дня спустя, восседая на своем белом государственном коне, Помпей привел три легиона в земли, несколько лет назад враждовавшие с Римом. Там жили пицены, вестины, марруцины, френтаны – народы полуострова, которые боролись за независимость италийских союзников от Рима. В их поражении повинен был главным образом человек, к которому сейчас направлялся Помпей, – Луций Корнелий Сулла. Тем не менее никто не пытался препятствовать продвижению войска, наоборот, некоторые выражали желание вступить в армию Помпея. Весть о победе над Карбоном опередила Помпея, а италики были военными до мозга костей. Пусть борьба за Италию проиграна, существуют и другие цели. Симпатии италиков были скорее на стороне Суллы, нежели на стороне Карбона.
У всех было приподнятое настроение, когда маленькая армия покидала побережье у Буки и направлялась по очень хорошей дороге на Ларин в Центральной Апулии. Минули два рыночных дня, прежде чем восемнадцатитысячная армия Помпея подошла к Ларину, небольшому процветающему городку в центре богатой сельскохозяйственной и скотоводческой области. Все сколько-нибудь значимые жители Ларина вышли приветствовать Помпея и постараться как можно скорее выпроводить его из города.
Следующее сражение произошло всего в трех милях от Ларина. Карбон не терял времени даром и послал предупреждение в Рим о сыне Мясника и его трех легионах. Рим тоже не мешкал, думая, как предотвратить объединение Помпея и Суллы. Два легиона из Кампании под командованием Гая Альбия Каррины были посланы навстречу неожиданному врагу, чтобы остановить Помпея. Они встретились, когда обе стороны были на марше. Схватка оказалась яростной и решающей. Каррина дрался, пока не понял, что у него нет шанса победить. Он поспешно дал сигнал к отступлению и увел почти не понесшие потерь войска. С собой он уносил возросшее уважение к сыну Мясника.
К этому времени солдаты Помпея обрели уверенность в себе и стали настолько выносливы, что их подбитые гвоздями калиги отмеривали милю за милей, словно это не стоило им никаких усилий. Они шли уже третью сотню этих миль, пропустив лишь пару глотков кислого слабого вина. Добрались до Сепина, городка поменьше, чем Ларин, и тут Помпей узнал, что теперь Сулла недалеко – стоит лагерем под Беневентом на Аппиевой дороге.
Но сначала предстояло еще одно сражение. Луций Юний Брут Дамасипп, брат старого друга Помпея Страбона, попытался устроить Помпею-младшему ловушку между Сепином и Сирпием, где местность была сильно пересеченной. Уверенность Помпея в своих способностях оказалась оправданной. Его разведчики обнаружили, где скрывались Брут Дамасипп и его два легиона. И Помпей напал без предупреждения. Потеряв несколько сот солдат, Брут выбрался из трудного положения и отступил в сторону Бовиана.
Ни разу после сражения Помпей не пытался преследовать противника, однако совсем не по тем причинам, которые предполагали люди вроде Варрона и трех примипилов. Да, он не знал местности, не мог быть уверен, что отступление врага – это не отвлекающий маневр, чтобы напасть большими силами. Однако по- добные обстоятельства даже в голову не приходили Помпею. Ибо все мысли его были направлены на преодоление любых препятствий, стоящих между ним и Луцием Корнелием Суллой.
Перед его внутренним взором, словно пышная процессия, проплывали видения: два богоподобных человека с рыжими, как пламя, волосами и красивыми лицами, отражающими их внутреннюю силу, спешиваются с грацией и мощью гигантских кошек и медленно, размеренным шагом идут навстречу друг другу посередине пустынной дороги, а по обочинам выстроилось все местное население. За плечами каждого из этих величественных полководцев замерла собственная армия. И все взоры устремлены на них. Зевс идет навстречу Юпитеру. Арес встречает Марса. Геркулес и Милон. Ахилл и Гектор. Да, это будет воспето в веках, и так громко, что посрамятся Эней и Турн! Первая встреча двух колоссов этого мира, двух солнц на одном небе, – и хотя вечернее солнце еще жарко греет, его путь уже близится к закату. Ах! Но восходящее солнце! Оно горячее и мощное, и весь небосвод перед ним для взлета, чтобы стать еще жарче, еще сильнее. Помпей с торжеством думал: «Солнце Суллы склоняется к западу. А мое едва виднеется над восточным горизонтом!»
Он послал Варрона вперед, чтобы приветствовать Суллу и дать ему отчет о своем пути из Авксима, о количестве убитых, сообщить имена полководцев, которых он победил. И попросить, чтобы Сулла сам встретился с ним на дороге, чтобы все видели, что Помпей явился с миром предложить себя и свои войска величайшему человеку нынешнего столетия. Он не просил Варрона добавить «а также прошлых и будущих». Этого он не готов был признать даже в таком витиеватом приветствии.
Каждая деталь встречи тысячу раз рисовалась в воображении Помпея, вплоть до того, как он должен быть одет. В первых нескольких сотнях сцен он видел себя с головы до ног облаченным в золотые доспехи. Потом его стало грызть сомнение, и он решил, что золото будет выглядеть слишком вызывающе. Так что в следующих сотнях сцен он зрел свою персону в простой белой тоге, без всяких военных отличий, с узкой пурпурной полосой всадника с правого плеча до низа. Снова сомнения: белая тога будет сливаться с белой мастью коня и получится одно аморфное пятно. В последней сотне сцен встречи он видел себя в серебряных доспехах, которые отец подарил ему после осады Аскула в Пицене. Теперь сомнений не оставалось. Он решил, что в этих доспехах будет выглядеть лучше всего.
И все же, когда конюх помогал ему сесть в седло большого белого коня, на Гнее Помпее (Великом) была лишь простая стальная кираса, кожаные полосы его юбки не украшали ни орнамент, ни бахрома, и шлем был самым обыкновенным, какой полагался ему по рангу. Только конь был украшен, ибо Помпей принадлежал к знатному всадническому сословию и его семья обладала государственным конем на протяжении множества поколений. Поэтому на белом коне Помпея имелись все мыслимые знаки отличия: попона с серебряными бляхами и медальонами, инкрустированная серебром ярко-красная кожаная сбруя, вышитая подкладка под орнаментированным седлом, позвякивающие серебряные подвески. Отправившись в путь посередине пустынной дороги, сопровождаемый своей армией, шагающей строгими рядами, Помпей поздравил себя с тем, что выглядит как настоящий солдат, как серьезный профессионал. Пусть конь возвестит о его славе!
Беневент располагался на дальней стороне реки Калор, на стыке Аппиевой дороги с Минуциевой, ведущей от побережья Апулии и Калабрии. Солнце уже было в зените, когда Помпей и его легионы подошли к подножию небольшого холма. Помпей посмотрел на переправу через реку Калор. И там, на их стороне, ждал Луций Корнелий Сулла, сидя на невообразимо тощем муле, сопровождаемый одним лишь Варроном. Местное население – где оно? Где легаты Суллы, его войска? Где застывшие в восхищении путники?
Инстинкт заставил Помпея повернуть голову и приказать знаменосцу передового легиона, чтобы войско оставалось на месте. Затем, также в полном одиночестве, он стал спускаться по склону навстречу Сулле. Лицо его застыло так, словно он окунулся в раствор штукатурки. Когда Помпей приблизился на сотню шагов, Сулла едва не упал с мула, но удержался и спешился, одной рукой схватив животное за шею, а другой – за забрызганное грязью ухо. Выпрямившись, он зашагал посередине пустой дороги вразвалку, как моряк.
Помпей соскочил со своего звенящего бляхами коня, не уверенный в том, удержится ли сам на ногах. «Пусть хоть один из нас сделает это нормально», – подумал он и пошел.
Даже на расстоянии он понял, что этот Сулла никак не похож на того Суллу, которого он помнил. Приблизившись, Помпей разглядел разрушительное действие времени и ужасной болезни. Он почувствовал не симпатию или жалость, а ошеломляющий ужас. Его физическая реакция оказалась настолько сильной, что он даже испугался, что его вырвет.
Во-первых, Сулла был пьян. Это Помпей еще мог бы простить, если бы Сулла оставался тем самым Суллой, которого он запомнил в день его консульской инаугурации. Но от того прекрасного и пленительного человека не осталось ничего, даже копны прекрасных седеющих волос. У этого Суллы имелся парик, скрывающий его голый череп, – ужасные огненно-рыжие крутые завитки, из-под которых над ушами свисали две прямые седые пряди. У него не было зубов, и их отсутствие удлинило острый подбородок, а рот превратило в сморщенную дыру под хорошо знакомым носом с едва заметной выемкой на кончике. Кроваво-красная кожа на лице выглядела так, словно была сорвана клочьями, и только несколько пятен сохранили белизну. И хотя Сулла исхудал точно скелет, наверное, в недалеком прошлом он был очень толстым, потому что лицо его избороздили глубокие складки, а многочисленные отвисшие подбородки делали похожим на грифа.
«О, как же я сияю на фоне этого покалеченного человеческого обломка!» – мысленно взвыл Помпей, стараясь сдержать жгучие слезы разочарования.
Они чуть не столкнулись. Помпей протянул правую руку – пальцы раздвинуты, ладонь вертикально вверх.
– Император! – приветствовал он.
Сулла хихикнул, сделал над собой неимоверное усилие и протянул руку в приветственном жесте.
– Император! – выкрикнул он одним духом и упал на Помпея.
Его сырая и грязная кожаная кираса отвратительно воняла перегаром и свежим вином. Варрон тут же оказался возле Суллы. Вместе они помогли Луцию Корнелию Сулле сесть на его жалкого мула и поддерживали, пока он не растянулся на грязной спине животного.
– Он настаивал на том, чтобы встретить тебя лично, как ты и просил, – тихо сказал Варрон. – Я не мог его остановить.
Сев на своего роскошного коня, Помпей повернулся и жестом приказал своим войскам следовать за ним, а потом отправился в Беневент. Сулла на своей кляче трясся между молодым Помпеем и Варроном.
– Не могу поверить! – кричал он Варрону, после того как они сдали почти бесчувственного Суллу на руки его слугам.
– Вчера у него была очень тяжелая ночь, – сказал Варрон, не в состоянии понять природу эмоций Помпея, потому что он не был допущен в мир его фантазий.
– Тяжелая ночь? Что ты имеешь в виду?
– Его кожа. Бедняга. Когда он заболел, доктора, боясь за его жизнь, отправили его в Эдепс – местечко, где есть минеральные источники, недалеко от Халкиды в Эвбее. Говорят, тамошние храмовые врачи – лучшие во всей Греции. И они спасли его, это правда! Но ему нельзя есть спелые фрукты, мед, хлеб, пироги, нельзя пить вино. А когда они посадили его в ванну с минеральной водой, что-то случилось с кожей его лица. С тех пор у него ужасные приступы зуда, и он расчесывает лицо до крови. Он больше не ест ни спелых фруктов, ни меда, ни хлеба, ни пирогов. Однако вино он пьет, потому что оно притупляет зуд. – Варрон вздохнул. – И пьет слишком много.
– Но почему именно лицо? Почему не руки или ноги? – спросил Помпей, не совсем поверив рассказу.
– Его лицо жестоко обгорело на солнце. Разве ты не помнишь, что он всегда носил широкополую шляпу? Но там устроили местную церемонию, чтобы приветствовать его. Сулла настоял на своем присутствии, несмотря на болезнь. Тщеславие заставило его надеть вместо шляпы шлем. Думаю, его кожа потрескалась, – сказал Варрон, пораженный всем этим в такой же степени, в какой Помпей был возмущен. – Его голова выглядит как тутовая ягода, посыпанная мукой. Это так необычно!
– Ты изъясняешься как греческий врач, – сказал Помпей, чувствуя наконец, что лицо его перестает быть застывшей маской. – Где мы разместимся? Это далеко? А как же мои люди?
– Полагаю, Метелл Пий ушел показать твоим людям, где находится лагерь. А для нас найдется чудесный дом неподалеку. Если ты сейчас пойдешь и позавтракаешь, то после этого мы сможем отыскать твоих людей и посмотреть, как они разместились.
Варрон доброжелательно положил ладонь на сильную веснушчатую руку Помпея. Он не мог понять, что же не так. Насколько ему было известно, Помпей вовсе не имел склонности кого-либо жалеть. Тогда почему же он горюет?
В тот вечер Сулла дал обед в своем доме в честь приезда двух гостей. Цель обеда – познакомить их с другими легатами. До Беневента долетели слухи о Помпее – о его молодости, красоте, войске, которое обожало его. «А легаты Суллы совсем выдохлись, – весело подумал Варрон, глядя на их лица. – Они все выглядят так, словно няня жестоко вырвала у них изо рта вкусные медовые пряники!» Когда Сулла указал Помпею на locus consularis на своем ложе и никого не разместил между ними, в глазах легатов засверкала дикая злоба. Но Помпею было все равно! Он с явным удовольствием устроился на обеденном ложе и продолжал разговаривать с Суллой, словно в комнате больше никого не было.
Сулла был трезв и, очевидно, не испытывал зуда. За утро лицо его покрылось коркой. Он был спокоен, настроен дружески и явно очарован Помпеем. «Я не могу ошибаться относительно Помпея, если Сулла чувствует то же», – подумал Варрон.
Полагая, что сначала нужно обратить взор на ближайшее окружение, а потом уж по очереди оценить каждого человека в комнате, Варрон улыбнулся своему соседу Аппию Клавдию Пульхру. Этот человек Варрону нравился, он был о нем высокого мнения.
– Способен ли Сулла вести нас? – спросил он.
– Он все такой же блестящий полководец, как и раньше, – ответил Аппий Клавдий. – Если нам удастся удерживать его в трезвом состоянии, он проглотит Карбона, какое бы войско Карбон ни выставил. – Аппий Клавдий вздрогнул и поморщился. – Ты не чувствуешь присутствия злых сил в этой комнате, Варрон?
– Чувствую, – ответил Варрон, хотя вовсе не думал, что связывает тягостную атмосферу на этом пиру со злыми духами.
– Я немного изучал это явление, – пустился в объяснения Аппий Клавдий, – в небольших храмах, вникал в разные дельфийские культы. Вокруг нас повсюду роятся сверхъестественные силы – невидимые, конечно. Большинство людей не подозревают о них, но такие люди, как ты и я, Варрон, сверхчувствительны к эманациям иных мест.
– Каких иных мест? – с изумлением переспросил Варрон.
– Под нами. Над нами. Вокруг нас, – мрачным голосом пояснил Аппий Клавдий. – Знаки силы! Не знаю, как еще объяснить, что я имею в виду. Как описать невидимые пальцы, прикосновение которых дано ощутить лишь сверхчувствительным людям? Я говорю не о богах, не об Олимпе и даже не о numina…
Однако прочие многочисленные участники пира отвлекли внимание Варрона от бедного Аппия Клавдия, который продолжал самозабвенно бубнить, пока Варрон оценивал легатов Суллы.
Филипп и Цетег, великие ренегаты. Всякий раз, когда Фортуна осыпала милостями иных любимцев, Филипп и Цетег выворачивали свои тоги – на левую или на правую сторону, – чтобы с радостью служить новым хозяевам Рима. Каждый из них проделывал это в течение тридцати лет. Филипп шел к цели открыто и после нескольких неудачных попыток даже стал консулом, а при Цинне и Карбоне занял должность цензора – вершина политической карьеры. А Цетег – из патрицианского рода Корнелиев, дальний родственник Суллы – оставался на заднем плане, предпочитая властвовать, манипулируя своими коллегами-заднескамеечниками в сенате. Оба возлежали на обеденном ложе рядом, громко разговаривая и игнорируя присутствующих.
Трое молодых легатов также не обращали ни на кого внимания – чудесное трио! Веррес, Катилина и Офелла. Варрон был уверен, что все они негодяи. Впрочем, Офелла все-таки больше заботился о своем dignitas, чем о будущих выгодах. В отношении Верреса и Катилины сомнений не оставалось. Они были нацелены исключительно на поживу.
На другом ложе расположились трое уважаемых, честных людей – Мамерк, Метелл Пий и Варрон Лукулл (приемный Варрон, в действительности брат Лукулла, самого преданного человека Суллы). Они упорно не одобряли Помпея и даже не скрывали этого.
Мамерк был зятем Суллы, спокойный и верный человек, который спас состояние Суллы и благополучно доставил его семью в Грецию.
Метелл Пий Свиненок и его квестор Варрон Лукулл приплыли из Лигурии в Путеолы в середине апреля, прошли через Кампанию и соединились с Суллой как раз перед тем, как сенат Карбона мобилизовал войска, которые могли бы остановить их. Пока не появился Помпей, они грелись в лучах благодарности Суллы, ибо привели ему два легиона закаленных в боях солдат. Однако больше всего они хотели знать, кто такой Помпей. Именно это занимало их, а не его качества или причины, по которым он пришел. Какой-то Помпей из Северного Пицена? Выскочка! Не-римлянин! Его отец, прозванный Мясником за манеру воевать, хоть и добился консульства и большого политического веса, не внушал уважения ни Метеллу Пию, ни Варрону Лукуллу. К тому же ни один истинный римлянин, будь он в возрасте двадцати двух лет, не возьмет на себя смелость – абсолютно незаконно! – привести великому аристократу-патрицию Луцию Корнелию Сулле легионы и потребовать фактически равного партнерства. Армия, которую Метелл Пий и Варрон Лукулл предоставили Сулле, автоматически стала его армией, и он мог делать с ней то, что сочтет нужным. Если бы Сулла с благодарностью принял солдат и попросил Метелла Пия и Варрона Лукулла удалиться, они, может быть, и рассердились бы, но сразу ушли бы. «Два педанта», – подумал Варрон. А теперь они возлежат на одном ложе и сердито глазеют на Помпея, потому что тот использовал приведенные Сулле войска, чтобы добиться верховного командования, на которое не мог претендовать ни по возрасту, ни по происхождению. Фактически Помпей требовал от Суллы выкупа.
Однако самой интригующей фигурой для Варрона стал Марк Лициний Красс. Осенью прошлого года он прибыл в Грецию, чтобы предложить Сулле две с половиной тысячи превосходных испанских солдат, но встретил довольно холодный прием.
Основной причиной этого был крах системы быстрого обогащения, которую Красс и его друг, молодой Тит Помпоний, изобрели и предложили инвесторам в Риме Цинны. Это случилось в конце первого года консульства Цинны и Карбона, когда деньги стали потихоньку появляться снова. Рим облетела весть о том, что угрозы со стороны царя Митридата больше не существует, что Сулла заключил с ним Дарданский мир. На этой волне оптимизма Красс и Тит Помпоний продали доли в новой азиатской спекуляции. Крах наступил, когда пришло еще одно сообщение: Сулла полностью реорганизовал финансы римской провинции Азия и больше не будет «золотого дна» для сборщиков налогов.
Вместо того чтобы оставаться в Риме и разбираться с ордами разъяренных кредиторов, Красс и Тит Помпоний предпочли унести ноги. Было только одно место, куда они могли пойти, только один человек, дружбой которого можно было заручиться, – Сулла. Тит Помпоний осуществил это немедленно. Он отправился в Афины, сохранив свое огромное состояние. Образованный, с изысканными манерами, обаятельный, литератор-дилетант, при этом увлеченный мальчиками, Тит Помпоний вскоре достиг с Суллой полного понимания. Но, придя в восторг от афинской атмосферы и стиля эллинской жизни, он предпочел остаться там, приняв когномен Аттик.
Красс не был столь уверен в себе и гораздо позднее, чем Аттик, сообразил, что Сулла – единственная альтернатива. Обстоятельства сложились так, что Марк Лициний Красс остался главой семейства без средств к существованию. Единственные имевшиеся у семьи деньги принадлежали Аксии, вдове двух его братьев, старшего и среднего. Размер приданого был далеко не единственным ее достоинством, она оставалась симпатичной, жизнерадостной, добросердечной и любящей женщиной. Как и мать Красса, Венулея, она была сабинкой из Реате и к тому же близкой родственницей Венулеи. Источник ее состояния – плодородная область Rosea rura, лучшие пастбища во всей Италии. Она разводила знаменитых племенных ослов, которые стоили баснословных денег – по шестьдесят тысяч сестерциев, что было обычной ценой за такое животное, потенциального производителя сильных и крепких армейских мулов.
Когда мужа Аксии, старшего сына старого Красса, Публия, убили под Грументом, она осталась вдовой и ждала ребенка. В этой тесно связанной и бережливой семье мог найтись лишь один выход. После полагающихся десяти месяцев траура Аксия вышла замуж за Луция, второго сына Красса. От того у нее детей не было. Когда Фимбрия убил его на улице возле их дома, она опять оказалась вдовой. Красс-отец, увидев своего сына зарезанным и понимая, какая судьба ожидает его самого, тут же покончил с собой.
В то время Марку, младшему сыну Красса, исполнилось двадцать девять лет. Отец (в свое время консул и цензор) держал его дома как последнюю надежду на сохранение имени и рода. Все имущество Крассов было конфисковано, включая и состояние Венулеи. Но семья Аксии была в отличных отношениях с Цинной, так что ее приданое не тронули. И когда ее второй десятимесячный траур закончился, Марк Лициний Красс женился на ней, усыновив маленького Публия, своего племянника. Трижды вышедшая замуж, причем за троих братьев, Аксия получила прозвище Тертулла – «троечка». Она сама предложила поменять свое имя: Аксия – имя, труднопроизносимое для латинян, а «Тертулла» слетало с языка легко.
Потрясающая система, изобретенная Крассом и Аттиком, сулила огромный доход, не сделай Сулла того неожиданного шага в отношении финансов в провинции Азия. Она рухнула как раз тогда, когда Красс стал замечать, что их состояние начинает понемногу расти. Крах заставил его бежать с жалкими грошами в кошельке и погибшими надеждами. Он оставил двух женщин без мужской защиты – свою мать и жену. Через два месяца после его побега Тертулла родила ему сына.
Но куда податься? В Испанию, решил Красс. В Испании находились остатки былого состояния Крассов. За годы до этого отец Красса плавал к Оловянным островам, Касситеридам, и заключил контракт на исключительное право перевозить олово с Касситерид через Северную Испанию к берегам Срединного моря. Гражданская война в Италии все разрушила, но Крассу уже было нечего терять. Он бежал в Ближнюю Испанию, где клиент его отца, некий Вибий Пакциан, прятал его в пещере, пока Красс не уверился, что последствия его стремления к наживе не смогут настигнуть его в Испании. Он вновь всплыл на поверхность и принялся восстанавливать свою оловянную монополию, после чего вложил деньги в серебряно-свинцовые рудники в Южной Испании.
Но для процветания этой деятельности необходимо было взаимодействие с Римом и его финансовыми институтами. А это означало, что он нуждается в политическом союзнике более сильном, чем кто-либо из тех, кого он знал лично. Ему требовался Сулла. Но чтобы заручиться расположением Суллы (поскольку Красс, в отличие от Тита Помпония Аттика, не мог похвастаться ни красотой, ни образованием), он должен преподнести Сулле подарок. А единственный подарок, который он мог преподнести, – это армия. Армию он набрал из клиентов отца. Пять когорт, но хорошо обученных и хорошо вооруженных.
Первым портом, куда он зашел после Испании, стала Утика в провинции Африка, где, как узнал Красс, все еще пытался удержаться в качестве наместника Квинт Цецилий Метелл Пий, которого Гай Марий прозвал Свиненком. Красс прибыл в начале лета прошлого года, но Свиненка – столпа римских незыблемых моральных устоев – не заинтересовала его коммерческая деятельность. Предоставив Свиненку в одиночку сражаться за свои позиции в Африке, Красс отбыл в Грецию, к Сулле, который принял его подарок – пять испанских когорт, но к самому Крассу отнесся прохладно.
И теперь Красс сидел, с болью устремив на Суллу свои маленькие серые глазки и ожидая малейшего знака одобрения. Он был явно разочарован тем, что Суллу интересовал только Помпей. Когномен Красс в знаменитом роде Лициниев существовал уже много поколений, и все эти Крассы соответствовали данному прозванию, заметил Варрон. Прозвище означало «жирный» (а может, первого Лициния, которого прозвали Крассом, хотели назвать Тупицей?). При своем большом росте Красс был похож на быка. Даже его довольно невыразительное лицо отражало истинно бычье безразличие.
Варрон последний раз окинул взглядом присутствующих и вздохнул. Да, он был прав, посвятив большую часть своих мыслей Крассу. Все здесь амбициозны, большинство, может быть, не без таланта, некоторые – и жестоки, и аморальны, но, кроме Помпея и Суллы, только Марк Красс был человеком с будущим.
Возвращаясь пешком в свой дом рядом с совершенно трезвым Помпеем, Варрон вдруг понял, что правильно поступил, поддавшись на уговоры друга принять участие в этой кампании.
– О чем ты говорил с Суллой? – спросил он.
– Ни о чем существенном, – ответил Помпей.
– Вы разговаривали очень тихо.
– Да? Разве? – (Варрон скорее почувствовал, чем увидел ухмылку на губах Помпея.) – Этот Сулла не дурак, даже если он уже не тот, что прежде. Раз остальные из этого угрюмого сборища не могли слышать, о чем мы говорили, как они могут знать, что мы говорили не о них?
– Сулла согласился быть твоим партнером в этой кампании?
– Я буду сам командовать моими легионами. Это все, чего я хотел. Он знает, что я не отдам ему войска, даже на время.
– Это обсуждалось открыто?
– Я же сказал тебе, что Сулла не дурак, – лаконично ответил Помпей. – Ничего особенного сказано не было. Между нами нет никакого соглашения, и он ничем не связан.
– И ты согласен с этим?
– Конечно! И он знает, что я ему нужен, – сказал Помпей.
На следующее утро Сулла встал с рассветом. Час спустя его армия уже шагала в направлении к Капуе. К этому времени им овладел приступ деятельного настроения. Эти перепады зависели от состояния его лица, ибо зуд мучил его только временами. Оправившись от очередного приступа и сопутствующего ему запоя, Сулла знал, что у него в запасе несколько дней отдыха – при условии, что он ничем не спровоцирует новый приступ. Для этого необходимо строго следить за своими руками. От них требовалось ни под каким видом не касаться лица. Только оказавшись в столь трудном положении, человек начинает осознавать, сколько раз его руки непроизвольно тянутся к лицу. А тут влажные пузыри, твердеющие по мере засыхания, и непрерывное щекочущее ощущение, возникающее при малейшем движении кожи лица, – все это входит в процесс заживления. Легче всего в первый день – а это как раз сегодня; но с течением времени он забудет обо всем, рука его потянется к лицу в естественном желании почесать нос или щеку – и все может начаться снова. И начнется. Поэтому Сулла решил строго контролировать себя, чтобы успеть сделать как можно больше, прежде чем появятся расчесы и он опять примется пить до бесчувствия.
Но это так трудно! Столько нужно сделать, а он лишь тень того, прежнего человека. Сулла всего достиг, преодолевая огромные препятствия, но как только год назад, в Греции, его сразил этот недуг, он постоянно удивлялся: почему вообще продолжает бороться? Как правильно заметил Помпей, Сулла был не дурак. Он знал, что жить ему осталось недолго.
В такой день, как сегодня, избавившись от зуда, он сознавал, почему не оставляет своей затеи: потому что он – величайший человек в мире, не желающий мириться с концом. Даже боги не могли ввести в заблуждение халдейского провидца. Быть выше остальных, понял он сегодня, означало и наивысшую степень страдания. Сулла сдержал улыбку (это могло нарушить процесс заживления), думая о своем вчерашнем госте. Вот теперь появился человек, который даже еще не начал понимать природу величия!
Помпей Великий! Сулла уже знал, под каким именем он известен в своем кругу. Молодой человек, который воображает, что величие не должно завоевываться, что величие дано ему от рождения, как нечто само собой разумеющееся. «Всем сердцем я хочу, Помпей Магн, – подумал Сулла, – прожить достаточно, чтобы увидеть, кто и что сокрушит тебя!» Однако это поразительный юноша, настоящее чудо. Подчинение – не для него, это уж точно. Нет, Помпей Великий – соперник. И считает себя таковым. Уже. В двадцать два года. Сулла знал, как использовать тех ветеранов, которых мальчишка привел с собой. Но как лучше всего использовать самого Помпея Великого? Конечно, дать ему полную свободу действий. Проследить, чтобы ему не попадались задачи, которые он не сможет выполнить. Льстить ему, хвалить его, никогда не задевать его непомерного самомнения. Давать ему понять, что это он всех использует, ни в коем случае не наоборот. «Нет, я умру задолго до того, как он рухнет, потому что, пока я жив, я сделаю все, чтобы этого не случилось. Он слишком полезный. Слишком… ценный».
Мул, на котором ехал Сулла, пронзительно закричал, качая головой в знак согласия. Но, постоянно помня о своем лице, Сулла не улыбнулся сообразительности мула. Он ждал. Ждал мази и рецепта ее приготовления. Первый приступ этой кожной болезни случился почти десять лет назад, когда он возвращался с Евфрата. Хорошая была экспедиция!
С ним был его сын, ребенок Юлиллы, который, став юношей, превратился в друга и наперсника Суллы. Раньше у Суллы никогда не было такого друга. Идеальный партнер идеальных отношений. Как они разговаривали! Обо всем на свете. Мальчик так много готов был простить своему отцу из того, что сам Сулла простить себе не мог. О нет, не убийства и не другие вынужденные преступления, на которые толкала его жизнь. Но недостаток здравомыслия, эмоциональные слабости, проистекающие из желаний и наклонностей, когда разум взывал: «Глупо, бесполезно!» Как серьезно слушал Сулла-младший, как он все понимал, несмотря на молодость! Успокаивал. Придумывал оправдания, которые тогда изливались словно бальзам на раны. И мир Суллы, походивший на бесплодную пустыню, начинал сверкать, расширяться, обещать такую глубину и масштабы, которые мог ему придать только этот любимый сын. А потом, благополучно прибыв домой, Сулла-младший умер. Вот так. Все закончилось в два обыкновенных дня, ничем не примечательных. Ушел друг, ушел наперсник. Ушел любимый сын.
Слезы подступили… Нет! Нет! Он не может плакать, не должен плакать! Если только одна слезинка скатится со щеки, начнется пытка. Мазь. Он должен сосредоточиться на мази. Морсим нашел ее в какой-то забытой деревне недалеко от реки Пирам в Киликии-Педии, и эта мазь успокоила, исцелила его.
Шесть месяцев назад он послал человека к Морсиму, теперь этнарху в Тарсе, и просил его найти ту мазь, даже если ему придется обыскать в Киликии каждое поселение. Только бы он отыскал ее! И что еще важнее, рецепт. Кожа Суллы опять стала бы нормальной. А пока он ждал. Страдал. Величие его возрастало. Слышал ты о таком, Помпей Великий?
Он повернулся в седле и кивком позвал едущих за ним Метелла Пия Свиненка и Марка Красса (Помпей Великий ехал сзади во главе своих легионов).
– У меня проблема, – сказал он, когда Метелл Пий и Красс поравнялись с ним.
– Кто? – спросил сообразительный Свиненок.
– О, в самую точку! Наш уважаемый Филипп, – сказал Сулла, и при этом ни один мускул не дрогнул на его лице.
– Ну, даже если бы нам не пришлось разбираться с Аппием Клавдием, Луций Филипп все равно остается проблемой, – сказал Красс, – однако, без сомнения, Аппий Клавдий – худшее из зол. Ведь Аппий Клавдий – дядя Филиппа, и, казалось бы, этот факт должен был помешать племяннику исключить Аппия Клавдия из сената. Так ведь нет же.
– Вероятно, потому, что племянник Филипп на несколько лет старше дяди Аппия Клавдия, – подхватил Сулла.
– И как именно ты хочешь решить проблему? – спросил Метелл Пий, желая отвлечь спутников от хитросплетений родственных связей римской знати.
– Я знаю, что бы хотел сделать, но возможно это или нет – решать тебе, Красс, – сказал Сулла.
Красс моргнул:
– Какое отношение это имеет ко мне?
Сдвинув со лба широкополую соломенную шляпу, Сулла доверительно посмотрел на своего легата. И Красс помимо воли почувствовал, как в груди его что-то дрогнуло. Сулла считается с его мнением!
– Конечно, прекрасно двигаться вперед, покупая зерно и провизию у местных крестьян, – начал Сулла, который теперь шепелявил из-за отсутствия зубов, – но к концу лета мы будем нуждаться в урожае, который я могу доставить морем из одного места. Урожай не обязательно должен быть такой, как сицилийский или африканский, но он должен обеспечить основу рациона моей армии. А я уверен, что моя армия со временем увеличится.
– Но к осени, – осторожно сказал Метелл Пий, – мы, конечно, получим необходимое зерно из Сицилии и Африки. К осени мы захватим Рим.
– Сомневаюсь.
– Но почему? Рим гниет изнутри.
Сулла вздохнул, пошамкал губами.
– Дорогой Свиненок, если я призван помочь Риму исцелиться, то я должен дать Риму шанс решить вопрос в мою пользу мирным путем. А этого к осени не случится. Поэтому я не могу угрожать, я не могу быстрым маршем пройти по Латинской дороге и атаковать Рим, как сделали Цинна и Марий после того, как я отправился на Восток. Когда я первый раз напал на Рим, на моей стороне была неожиданность. Никто не верил, что я это сделаю. Поэтому никто и не сопротивлялся, кроме нескольких рабов и наемников Гая Мария. Но на этот раз все по-другому. Все ждут, что я пойду на Рим. Если я буду слишком торопиться, то никогда не выиграю. О, Рим, конечно же, падет! Но все мятежники, все инакомыслящие будут сопротивляться. У меня нет времени на борьбу с ними. Ни времени, ни сил. Поэтому я буду приближаться к Риму очень медленно.
Метелл Пий обдумал слова Суллы и нашел в них определенный смысл. И не смог скрыть своей радости от бесстрастных глаз в воспаленных глазницах. Метелл Пий вовсе не ожидал от римского нобиля такой мудрости. Римские нобили слишком политизированы, чтобы быть мудрыми. Они мыслят сегодняшним днем, не видят перспективы. Даже Скавр, принцепс сената, несмотря на весь свой опыт и огромный auctoritas, не был мудрым, как и отец Свиненка, Метелл Нумидийский. Храбрый, бесстрашный, решительный, не поступавшийся принципами – но не мудрый. Поэтому Свиненку так льстила мысль: долгий путь до Рима он проделает с мудрым человеком. Ибо Свиненок был Цецилием Метеллом и стоял одной ногой в одном лагере, другой – в другом. Независимо от своего личного выбора. Выбора в пользу Суллы. И если что-либо и заставляло его внутренне содрогаться, так это понимание неизбежного разрыва родовых и супружеских связей. Поэтому он оценил мудрость принятого Суллой решения идти на Рим медленно. Те из Цецилиев Метеллов, которые сейчас поддерживают Карбона, могут осознать ошибочность своего выбора. Они успеют сменить лагерь прежде, чем станет слишком поздно.
Конечно, Сулла знал, что творилось в голове у Свиненка, и позволил тому спокойно размышлять о своем. Сам он, глядя на вислоухого мула, думал совсем о другом: «Я опять в Италии, и скоро покажется Кампания, этот рог изобилия всех земных благ. Вся в зелени, холмистая, с вкусной водой. И если я не буду думать о Риме, то Рим не будет меня мучить подобно зуду. Рим станет моим. И хотя мои преступления многочисленны и я вовсе в них не раскаиваюсь, мне никогда не была близка идея насилия. Нет, будет намного лучше, если Рим примет меня добровольно. Лучше, чем брать его силой».
– Наверное, ты заметил: после высадки в Брундизии я написал письма всем предводителям прежних италийских союзников, обещая им, что лично прослежу за тем, чтобы каждый италик сделался гражданином Рима по закону и согласно договорам, заключенным в конце Италийской войны. Я даже прослежу, чтобы их распределили по всем тридцати пяти трибам. Поверь мне, Свиненок, я прогнусь, как паутина под порывом ветра, прежде чем атаковать Рим!
– Какое отношение италики имеют к Риму? – спросил Метелл Пий, который всегда был против того, чтобы италикам предоставили полное гражданство, и в душе аплодировал Филиппу и его коллеге-цензору Перперне как раз за то, что они избегали записывать италиков римскими гражданами.
– Мы прошли по землям, которые воевали с Римом, и все нас приветствовали здесь с радостью – возможно, в надежде на то, что я изменю ситуацию с гражданством в их пользу. Поддержка италиков поможет мне убедить Рим сдаться мирно.
– Сомневаюсь, – возразил Метелл, – но смею сказать, ты знаешь, что делаешь. Давай вернемся к Филиппу, к твоей проблеме.
– Конечно! – согласился Сулла, и глаза его весело блеснули.
– Филипп? Но при чем здесь я? – спросил Красс, полагая, что пора ему вклиниться в этот дуэт.
– Я должен от него избавиться, Марк Красс. Но как можно безболезненнее, учитывая, что он превратился в воплощение римских добродетелей.
– Это потому, что он стал для всех идеалом убежденного политического акробата, – ухмыляясь, сказал Свиненок.
– Неплохое сравнение, – сказал Сулла, кивком заменив улыбку. – А теперь, мой большой и с виду такой миролюбивый друг Марк Красс, я хочу задать тебе вопрос. И требую честного ответа. Ты, с твоей ужасной репутацией, способен дать мне честный ответ?
Это колкое замечание, казалось, совершенно не поколебало бычьего спокойствия Красса.
– Постараюсь, Луций Корнелий.
– Ты очень привязан к своим испанским солдатам?
– Учитывая, что ты все время заставляешь меня находить для них провизию, – нет, – ответил Красс.
– Хорошо! Ты расстался бы с ними?
– Если ты считаешь, что мы можем обойтись без них, то да.
– Хорошо! Тогда с твоего флегматичного согласия, мой дорогой Марк, одной стрелой я убью много дичи. Я намерен отдать твоих испанцев Филиппу – он сможет занять и удержать для меня Сардинию. Когда хлеб там созреет, Филипп доставит мне весь урожай, – сказал Сулла.
Он протянул руку к кожаной бутыли слабого кислого вина, привязанной к рогу седла, взял ее и умело, тонкой струйкой влил вино в беззубый рот. Ни одна капля не упала на кожу лица.
– Филипп откажется ехать, – ровным голосом сказал Метелл.
– Нет, не откажется. Ему понравятся комиссионные, – ответил Сулла, закрывая свой бурдюк. – Он будет полным властелином всего, и сардинские разбойники встретят его как брата. Он заставит всех до последнего выглядеть добродетельными.
Красса стали одолевать сомнения, ему очень хотелось возразить, но он не сказал ни слова.
– Интересно, что ты будешь делать без войска? – продолжал Сулла.
– Что-нибудь придумаю, – осторожно ответил Красс.
– Ты мог бы быть мне очень полезен, – небрежно заметил Сулла.
– Каким образом?
– Твои мать и жена – обе из знаменитых сабинских семей. А как насчет того, чтобы поехать в Реате и вербовать солдат для меня? Ты мог бы начать там, а закончить среди марсов. – Сулла протянул руку и сжал запястье Красса. – Поверь мне, Марк Красс, весной будущего года у тебя будет очень много военной работы и хорошие войска, которыми ты будешь командовать.
– Это мне подходит, – молвил Красс. – Согласен.
– О, если бы все можно было решить так быстро и так хорошо! – воскликнул Сулла, опять потянувшись к бурдюку.
Красс и Метелл Пий обменялись взглядами над склоненной головой с дурацкими искусственными завитками. Он говорил, что пьет, дабы унять зуд, но правда заключалась в том, что теперь Сулла уже не мог долго обходиться без вина. В какой-то момент страшных физических мучений он прибегнул к вину – испытанному средству временного облегчения – и с тех пор не в силах был с ним расстаться. Но сознавал ли это сам Сулла? Или не сознавал?
Если бы у них хватило смелости спросить об этом Суллу, он ответил бы им сразу. Да, он отдает себе в этом отчет. И ему все равно, кто еще осведомлен о его слабости, а также о том факте, что якобы слабое вино в действительности было очень крепким. При запрете на хлеб, мед, фрукты и сдобу ему мало что нравилось в его рационе. Врачи Эдепса были правы, запретив все эти вкусные вещи, в этом он был уверен. Когда Сулла пришел к ним, он знал, что умирает. Во-первых, он не мог обойтись без сладкого и пищи, содержащей крахмал. И поэтому так прибавил в весе, что даже его мул жаловался, вынужденный нести на себе такой груз. Чуть позже у него появилось ощущение онемения и покалывания в стопах. Со временем стали мучить жар и боли, так что, когда он ложился, его несносные ноги не давали заснуть. Впоследствии такие же ощущения появились в лодыжках и коленях, и уснуть становилось все труднее. И он попробовал добавить к своей обычной диете очень сладкого и крепкого вина – и привык к тому, что вино помогает ему заснуть. До того дня, когда он вдруг стал потеть, у него появилась одышка и он начал худеть так быстро, словно вот-вот совсем исчезнет. Он выпивал жуткое количество воды, и все равно его мучила жажда. Но что самое ужасное, он стал плохо видеть.
Бо`льшая часть симптомов почти исчезла после поездки в Эдепс. О лице он думать не будет, он, кто в юности был так красив, что мужчины теряли голову в его присутствии, а повзрослев и став еще прекраснее, сводил с ума женщин. Единственное, от чего он не избавился, – это пристрастие к вину. Смирившись с неизбежным, жрецы-врачи Эдепса убедили его заменить сладкое крепленое вино на сухое, кислое. И по прошествии месяцев Сулла стал предпочитать такие кислые вина, что лицо его каждый раз искажала гримаса. Когда его не мучил зуд, он еще был в состоянии контролировать количество выпитого, чтобы вино не мешало мыслительному процессу. Он пил просто для того, чтобы стимулировать процесс. По крайней мере, он убеждал себя в этом.
– Я оставлю у себя Офеллу и Катилину, – сказал Сулла Крассу и Метеллу Пию. – Однако Веррес вполне оправдывает свое имя – это ненасытный жадный боров! Думаю отослать его обратно в Беневент, по крайней мере на время. Он может запасти продовольствие и приглядывать за тем, что делается у нас в тылу.
Свиненок хихикнул:
– Ему это может понравиться, душке.
Эти слова вызвали усмешку у Красса.
– А как насчет Цетега? – спросил он.
Свободно свисавшие без стремян его толстые ноги затекли. Он слегка пошевелился в седле.
– Цетега я пока задержу, – ответил Сулла. Рука его потянулась к вину, но он ее отдернул. – Он может приглядеть за порядком в Кампании.
Когда армия готовилась к переправе через реку Вольтурн у города Казилин, Сулла отправил шестерых посланников на переговоры с Гаем Норбаном, наименее бездарным из двух ручных консулов Карбона. Норбан взял восемь легионов и подтянул их для защиты Капуи. Когда посланники Суллы появились с флагом перемирия, он арестовал их, даже не выслушав. Затем вывел восемь легионов на равнину у подножия горы Тифата. Раздраженный обращением с его послами, Сулла решил преподать Норбану урок, которого тот не забудет. Стремительным фланговым броском с горы Тифата Сулла напал на Норбана, который ни о чем не подозревал. Потерпевший поражение еще до того, как началась битва, Норбан отступил в Капую, перестроил своих впавших в панику людей, послал два легиона, чтобы удержать порт Неаполь, и приготовился к предстоящей осаде.
Благодаря сообразительности плебейского трибуна Марка Юния Брута Капуя была настроена поддержать нынешнее римское правительство. В начале года Брут провел закон, дающий Капуе статус римского города, а это – после многочисленных наказаний от Рима за разные мятежи – пришлось Капуе по душе. Поэтому у Норбана не было причин беспокоиться, что Капуя откажет в гостеприимстве ему и его армии. Капуя привыкла принимать римские легионы.
– У нас есть Путеолы, поэтому нам не нужен Неаполь, – сказал Сулла Помпею и Метеллу Пию по дороге в город Теан Сидицийский, – и мы можем обойтись без Капуи, потому что у нас есть Беневент. У меня было предчувствие, когда я оставил там Гая Верреса. – Он помолчал, подумал о чем-то и кивнул, словно отвечая своим мыслям. – У Цетега появится новая работа – быть легатом всех моих вспомогательных войск по снабжению. Вот истинное испытание его дипломатических способностей!
– Это очень медленный способ ведения войны, – раздраженно заметил Помпей. – Почему мы не идем прямо на Рим?
Сулла повернулся к нему и придал своему лицу теплое выражение, стараясь при этом сохранить его неподвижным.
– Терпение, Помпей! Военному делу тебя учить не надо, но в политике ты еще ничего не смыслишь. Если в оставшееся до нового года время ты ничему больше не научишься, то хотя бы получишь урок политического манипулирования. Прежде чем мы решим идти на Рим, мы должны показать Риму, что при его нынешнем правительстве он не может победить. Затем, если у него есть ум, он придет к нам и предложит себя по доброй воле.
– А если не предложит? – спросил Помпей, не зная, что Сулла уже говорил об этом с Метеллом Пием и Крассом.
– Время покажет, – только и ответил Сулла.
Они обошли Капую, словно Норбана в городе и не было, и продолжили путь к армии второго консула Рима, Сципиона Азиагена, и его старшего легата Квинта Сертория. Небольшие процветающие города Кампании не только капитулировали, но и открыто приветствовали Суллу, ибо знали его хорошо. Сулла командовал римскими армиями в этой части Италии почти всю Италийскую войну.
Сципион Азиаген стоял лагерем между городами Теан и Калес, где небольшой приток реки Вольтурн, питаемый родниками, обеспечивал большое количество шипучей воды. Летом, даже тепловатая, она была восхитительна.
– Здесь, – сказал Сулла, – будет отличный зимний лагерь.
И расположился с армией на берегу этого притока. Кавалерию он отослал обратно в Беневент под начало Цетега. Сулла лично давал указания новым послам, наставляя их, как вести переговоры о перемирии со Сципионом Азиагеном.
– Он не является давним клиентом Гая Мария, так что с ним будет намного легче, чем с Норбаном, – сказал Сулла Метеллу Пию и Помпею.
Лицо почти не беспокоило его, и вина он пил меньше, чем на пути из Беневента, а это означало, что настроение у него было хорошее и ум ясный.
– Может, и так, – сказал Свиненок с сомнением. – Если бы дело было только в Сципионе, я бы с легкой душой согласился. Но с ним Квинт Серторий, а ты знаешь, Луций Корнелий, что это значит.
– Неприятности, – равнодушно отозвался Сулла.
– Разве ты не должен продумать, как обезвредить Сертория?
– Это не моя забота, дорогой Свиненок. За меня это сделает Сципион. – Сулла указал палкой на место, где резкий поворот речушки сближал границы его лагеря с границами лагеря Сципиона на другом берегу. – Твои ветераны умеют копать, Гней Помпей?
Помпей моргнул от неожиданного вопроса:
– Еще как!
– Хорошо! В таком случае, пока остальные заканчивают строительство зимнего лагеря, твои люди смогут выкопать ров по ту сторону нашей стены и устроить большой плавательный бассейн, – произнес Сулла будничным тоном.
– Какая потрясающая идея! – так же невозмутимо улыбнулся в ответ Помпей. – Я сейчас же прикажу им приступить к работе. – Он помолчал, взял палку у Суллы и показал ею на противоположный берег. – Если ты согласен, я подрою берег и расширю реку, вместо того чтобы рыть отдельный пруд. Думаю, было бы полезно для наших парней часть речки перекрыть крышей: потом не так холодно будет.
– Хорошо придумал! Так и сделай, – сказал Сулла сердечно.
Он долго глядел, как Помпей решительно шагает прочь.
– О чем это вы? – спросил Метелл Пий, нахмурившись. Ему очень не нравилось, что Сулла так приветлив с этим самодовольным выскочкой.
– Он понял, – загадочно сказал Сулла.
– Но я не понимаю! – раздраженно заметил Свиненок. – Просвети меня.
– Братание, дорогой Свиненок! Ты думаешь, люди Сципиона устоят перед зимним курортом Помпея? Даже летом? В конце концов, наши люди тоже римские солдаты. Ничто так не способствует дружбе, как приятное совместное занятие. Стоит Помпею закончить обустройство купален, людей Сципиона там будет не меньше, чем наших. И все они примутся болтать друг с другом – те же шутки, те же жалобы, тот же образ жизни. Спорю, что сражение не состоится.
– И он понял это из того немногого, что ты сказал?
– В точности.
– Удивляюсь, что он согласился помочь! Ведь он же хочет сражаться.
– Правильно. Но он согласился с моими доводами, Пий, и знает, что этой весной сражения не будет. В планы Помпея не входит досаждать мне, ты же знаешь. Я нужен ему, так же как и он мне, – сказал Сулла и тихо засмеялся, сохраняя лицо неподвижным.
– Мне кажется, что он – человек, который быстро может решить, что не нуждается в тебе.
– Тогда ты ошибаешься в нем.
Три дня спустя Сулла и Сципион Азиаген провели переговоры на дороге между Теаном и Калесом и согласились на перемирие. К этому моменту Помпей закончил свою запруду и – как всегда, методически – после оглашения порядка ее использования, который позволял купаться там и солдатам с другого берега, объявил ее открытой для отдыха легионеров. За следующие два дня между лагерями образовался такой людской поток, что…
– Можно даже не притворяться, будто мы противники, – сказал Квинт Серторий своему командиру.
Сципион Азиаген удивился.
– И что в этом плохого? – мягко спросил он.
Серторий возвел свой единственный глаз к небу. Крупный от природы, к тридцати пяти годам он отяжелел, стал похожим на громадного быка с толстой шеей. Это придавало ему туповатый вид, что совершенно не соответствовало его незаурядному уму. Он был родственником Гая Мария и унаследовал больше великолепных личных и военных качеств Мария, чем, к примеру, родной сын полководца. Глаз он потерял в битве, предшествовавшей осаде Рима. Поскольку глаз был левый, а Серторий был правша, увечье не помешало ему продолжать сражаться. Шрам превратил его некогда приятное лицо в подобие карикатуры: правая сторона оставалась привлекательной, а левая превратилась в уродливую маску.
Вышло так, что Сципион недооценивал его, не уважал и не понимал. И теперь смотрел на Квинта Сертория с удивлением. Серторий попытался возразить:
– Азиаген, посуди сам! Разве будут наши люди сражаться за нас, если им позволили подружиться с неприятелем?
– Будут, если прикажут.
– Не согласен. Почему, ты думаешь, Сулла построил свою плавательную дыру? Разве не для того, чтобы подкупить наших солдат? Он сделал это не для своих! Это ловушка, и ты в нее угодил!
– У нас заключено перемирие, и другая сторона – тоже римляне, как и мы, – упрямо твердил Сципион Азиаген.
– Другую сторону возглавляет человек, которого ты должен бояться, словно он и его армия выросли из зубов дракона! Нельзя отдавать ему ни крохотного клочка этой дороги. Если уступишь хоть пядь, он закончит тем, что проглотит все мили, лежащие между этим местом и Римом.
– Ты преувеличиваешь, – не соглашался Сципион.
– Глупец! – вскричал Серторий, не сдержавшись.
Но на Сципиона это не подействовало. Он зевнул, почесал подбородок, посмотрел на свои ухоженные ногти. Затем поднял взгляд на возвышавшегося над ним Сертория и мило улыбнулся.
– Уйди! – сказал он.
– И уйду! Сейчас же! – огрызнулся Серторий. – Может, Гай Норбан вправит тебе мозги!
– Передай ему привет от меня, – бросил ему вслед Сципион и вновь обратился к своим ногтям.
Квинт Серторий галопом поскакал в Капую и там нашел человека, который был ему больше по вкусу, чем Сципион Азиаген. Один из самых преданных людей Мария, Норбан не был столь же фанатически предан Карбону. После смерти Цинны он объявил о своей лояльности Карбону, потому что ненавидел Суллу.
– Ты хочешь сказать, что наш слабовольный аристократ фактически заключил перемирие с Суллой? – спросил Норбан, взвизгнув при произнесении ненавистного имени.
– Именно. И он разрешает своим людям брататься с противником, – твердо сказал Серторий.
– Ну почему мне достался в напарники такой кретин, как Азиаген? – взмолился Норбан, но потом пожал плечами. – Что ж, вот до чего довели Рим, Квинт Серторий. Я пошлю ему гневное письмо, но он его проигнорирует. А тебе я советую не возвращаться к нему. Мне ненавистна сама мысль, что ты попадешь в плен к Сулле: он выищет возможность убить тебя. Найди способ насолить Сулле.
– Замечательная мысль, – вздохнул Серторий. – Я буду мутить воду в городах Кампании. Горожане все высказались за Суллу, но найдется немало мужчин, которые не одобряют этого. – Он презрительно хмыкнул. – Женщины, Гай Норбан! Женщины! Лишь заслышав имя Суллы, они прыгают от восторга. Это женщины, а не мужчины решили, какую сторону примут города Кампании.
– Значит, им следует взглянуть на него, – с гримасой фыркнул Норбан. – Думаю, в его внешности не осталось ничего человеческого.
– Хуже, чем я?
– Значительно хуже, как говорят.
Серторий нахмурился:
– Я что-то слышал об этом, но Сципион не взял меня на переговоры, поэтому я Суллу не видел, а Сципион ничего не говорил о его внешности. – Серторий неприятно засмеялся. – О, ручаюсь, это сильно огорчает нашего красавчика! Он был такой самовлюбленный! Как женщина!
Норбан усмехнулся:
– Женский пол ты не слишком-то уважаешь, да?
– Все они хороши лишь для одного занятия, но не в качестве жен! Мать – вот та единственная, кто достоин моего внимания. Такой и должна быть женщина. Не сует нос в мужские дела, не пытается верховодить в курятнике и не пользуется своей cunnus, как оружием. – Он поднял шлем, нахлобучил его на голову. – Я пойду, Гай. Счастливо тебе убедить Сципиона в его неправоте. Verpa!
Подумав, Серторий решил поехать из Капуи к побережью, где для начала агитации против Суллы как раз мог сгодиться приятный городок Синуесса, расположенный на границе с Кампанией. Дороги в Кампании были достаточно безопасны. Сулла не пытался перекрыть их – если не считать осады Неаполя. Несомненно, вскоре он обложит и Капую, чтобы не выпустить оттуда Норбана. Однако, когда Серторий был в Капуе, он не видел никаких признаков готовящейся осады. Даже если это так, Серторий чувствовал, что лучше избегать больших дорог. Ему нравилось странствовать. Это расширяло границы реальности и немного напоминало дни, когда он выдавал себя за воина-кельтибера, чтобы шпионить среди германцев. Ах, вот это была жизнь! Никаких тебе слабовольных господинчиков из числа римской аристократии, которых требуется ублажать! Ты постоянно в движении. И женщины знают свое место. У него даже имелись германская жена и сын от нее, и ни разу он не почувствовал, что она или мальчик ему мешают. Они жили сейчас в Ближней Испании, в горной крепости Оска, а мальчик теперь – как быстро летит время! – стал взрослым мужчиной. Не то чтобы Квинт Серторий скучал по ним или хотел увидеть своего единственного ребенка. Нет, он тосковал по той жизни, по свободе, когда мужчина – это прежде всего воин. Да, то были дни…
Он привык путешествовать один, даже без раба. Как и его родственник, старина Гай Марий, Квинт Серторий верил, что солдат должен уметь сам о себе позаботиться. Конечно, его тяжелый вещевой мешок остался в лагере Сципиона Азиагена, но он не вернется за ним… или все же стоит вернуться? Если подумать, там лежит несколько вещей, которых ему будет недоставать. Меч, к которому он привык, кольчуга, которую приобрел в Дальней Галлии, легкая и сделанная столь искусно, что ни одному италийскому мастеру такая работа не под силу. Его зимние сапоги из Лигурии. Да, он вернется. До падения Сципиона есть еще несколько дней.
Итак, он повернул коня и направился на северо-восток, намереваясь обойти лагерь Суллы с дальней стороны. И на некотором расстоянии от лагеря увидел небольшую группу людей, бредущих по изрытой колеями дороге. Четверо мужчин и три женщины. Ох уж эти женщины! Он почти повернул назад, но вдруг решил поехать быстрее и нагнать их. В конце концов, они направлялись к морю, а его путь вел к горам.
Подъехав ближе, он нахмурился. Определенно идущий впереди мужчина был ему знаком. Настоящий гигант, соломенные волосы, массивные мускулы, как у германцев… Бургунд! О боги, это был он, Бургунд! А позади него – Луций Декумий и его два сына!
Бургунд узнал Сертория. Мужчины пришпорили коней и помчались навстречу ему. Маленький Луций Декумий подгонял свое животное, чтобы не отстать. Вероятно, Луций Декумий не хотел упустить ни слова в предстоявшем разговоре.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Серторий, после того как закончились рукопожатия и хлопанье по спине.
– Мы заблудились, вот что, – сказал Луций Декумий, зло глядя на Бургунда. – Эта куча германского дерьма поклялась, что знает дорогу! Но что с того? Ничего он не знает!
Бургунд годами выслушивал нескончаемый поток брани и оскорблений из уст Луция Декумия. Это сделало гиганта невосприимчивым к ругательствам, поэтому он, как всегда, терпеливо пропустил их мимо ушей и просто глядел на малорослого римлянина, как бык глядит на комара.
– Мы пытаемся найти земли Квинта Педия, – сказал Бургунд в своей манере медленно тянуть слова на латыни и улыбнулся Серторию. На свете было не много людей, кому он симпатизировал. – Госпожа Аврелия собирается привезти свою дочь в Рим.
И тут показалась она. Она медленно ехала на крепком муле. Спина прямая, прическа безукоризненна, ни пятнышка грязи на желтовато-коричневом дорожном платье. С нею была ее огромная служанка Кардикса и еще одна, которую Серторий не знал.
– Квинт Серторий! – воскликнула Аврелия, присоединяясь к ним и незаметно беря инициативу в свои руки.
Вот это женщина! Серторий говорил Норбану, что ценит лишь одну родственницу – свою мать, но он совсем забыл об Аврелии. Как ей удается сочетать красоту с благоразумием, он не знал. И все же она оставалась единственной женщиной во всем мире, которая была и умной, и красивой. В дополнение к этому она была благородной, как мужчина, она не лгала, не ныла, не жаловалась, она много работала, она занималась своим делом. Они были почти ровесники – сорок лет – и знали друг друга с тех самых пор, как Аврелия вышла замуж за Гая Юлия Цезаря, двадцать лет назад.
– Ты видела мою мать? – спросил Серторий, когда они отъехали чуть в сторону от остальной группы.
– Не видела с прошлогодних ludi Romani. Так что вы уже встречались после этого. Но на следующие игры она опять приедет к нам. Это уже вошло в привычку.
– Ужасная старуха, не сидится ей в моем доме, – пожаловался он.
– Она одинока, Квинт Серторий, а твой дом – такое одинокое место. У нас она в центре событий, и ей это нравится. Я не говорю, что ей захочется остаться после того, как закончатся игры, но раз в год такая смена обстановки полезна.
С удовольствием поговорив о матери, которую он очень любил, Серторий снова вспомнил об их затруднительном положении.
– Вы действительно заблудились? – спросил он.
Аврелия со вздохом кивнула:
– Боюсь, что да. Стоит только сыну прослышать об этом! Он мне этого не забудет. Но он не мог покинуть Рим, ведь он фламин Юпитера, поэтому я вынуждена довериться Бургунду, – печально объяснила она. – Кардикса утверждает, что он в состоянии заблудиться между Форумом и Субурой, но я, признаюсь, считала, что она на него наговаривает. Теперь вижу, что она нисколько не преувеличивала.
– От Луция Декумия и его сыновей тоже нет проку?
– За пределами города – никакого. Однако, – добавила она, – я не могла бы найти более заботливого и надежного эскорта, а теперь, когда мы встретили тебя, уверена, мы скоро прибудем к Квинту Педию.
– Не так уж и скоро, но определенно я могу указать вам верную дорогу. – Серторий внимательно оглядел ее одним глазом. – Приехала, чтобы забрать своего птенчика домой, Аврелия?
Она покраснела:
– Не совсем так. Квинт Педий написал мне и попросил приехать. Очевидно, и Сципион, и Сулла стоят лагерем на границах его земель, и он чувствует, что Лия будет в большей безопасности в другом месте. Но она отказывается уезжать!
– Типичная представительница рода Цезарей, – улыбаясь, сказал Серторий. – Такая же упрямая.
– Как ты прав! Действительно, нужно было ехать ее брату. Когда он приказывает им сделать то или это, обе его сестры бросаются выполнять! Но Квинт Педий, кажется, считает, что меня будет на сей раз достаточно. Моя задача – не забрать моего цыпленка домой, а уговорить моего цыпленка поехать домой.
– Тебе это удастся. Цезари умеют быть упрямыми, но умение повелевать твой сын унаследовал не от них. Это – от тебя, Аврелия, – сказал Серторий и вдруг оживился. – Ты простишь меня, если я скажу, что тороплюсь? Я проеду с вами немного, но проводить вас до порога дома Квинта Педия, к сожалению, не смогу. За этим вам стоит обратиться к Сулле. Его лагерь как раз между тем местом, где мы сейчас находимся, и домом Квинта Педия.
– А ты едешь к Сципиону, – заметила она, кивнув.
– Я не собирался возвращаться туда, – честно признался он, – но понял, что в лагере остались мои вещи, с которыми мне не хотелось бы расставаться.
Большие фиалковые глаза Аврелии спокойно смотрели на него.
– О, я понимаю! Сципион не выдержал испытания.
– А ты думаешь, он мог бы?
– Никогда.
Они помолчали. Теперь они двигались вместе в обратном направлении. Остальные молча следовали за ними.
– Что ты будешь делать, Квинт Серторий?
– Доставлять Сулле как можно больше неприятностей. Думаю, начну с Синуессы. Но только после того, как заберу пожитки из лагеря Сципиона. – Он прокашлялся. – Я могу проводить тебя до Суллы. Он не посмеет задержать меня, если я приеду лишь с целью показать тебе дорогу.
– Не нужно, просто доведи нас до такого места, откуда мы сможем найти его лагерь, не заблудившись. – Аврелия вздохнула. – Как хорошо будет снова увидеть Луция Корнелия! Прошло четыре года с тех пор, когда он последний раз был в Риме. Он всегда навещал меня по прибытии и перед отъездом. Это стало своего рода традицией. А теперь мне придется нарушить эту традицию. И все из-за упрямства дочери. Но это не важно. Важно то, что мы с Луцием Корнелием снова увидимся. Я ужасно скучала по его визитам.
Серторий открыл было рот, чтобы предупредить ее, но передумал. То, что он слышал о состоянии Суллы, могло оказаться просто слухами, а то, что он знал об Аврелии, – факт: она, несомненно, предпочтет убедиться во всем сама.
Итак, когда на горизонте показались земляные валы лагеря Суллы, Квинт Серторий с грустью попрощался со своей свояченицей, пришпорил коня – и уехал.
Новая дорога, которая вела через поля к крепостным валам, уже была утрамбована подковами, сапогами, многочисленными повозками с фуражом и провиантом. Теперь заблудиться было невозможно.
– Мы, наверное, уже проходили мимо него, – буркнул Луций Декумий. – Эти укрепления загородила твоя задница, Бургунд!
– Ну, ну, – спокойно молвила Аврелия. – Перестаньте же ссориться!
На этом разговор и закончился. Через час маленькая кавалькада остановилась перед воротами. Луций Декумий выразил желание увидеть военачальника, и они вошли в мир, очень странный и новый для Аврелии, которой никогда раньше не случалось приближаться к военному лагерю. Она вызвала всеобщий интерес. Многие провожали взглядами эту женщину, пока они ехали по широкой улице, прямой, как древко копья, ведущей к другим, маленьким воротам, видневшимся вдалеке. Аврелия была поражена, осознав, что расстояние между двумя воротами составляет не менее трех миль.
На полпути они увидели явно искусственно насыпанное возвышение, на котором стоял большой каменный дом. Огромный красный стяг полководца возвышался над домом, возвещая, что тот сейчас находится внутри. Рыжеволосый дежурный офицер, сидевший за столом под навесом, неуклюже поднялся, увидев, что посетитель – женщина. Луций Декумий, его сыновья, Бургунд, Кардикса и вторая служанка остались возле коней, а Аврелия спокойно направилась к дежурному офицеру, рядом с которым стояли часовые.
Поскольку она была полностью закутана в огромную желтовато-коричневую накидку из тонкой шерсти, молодой Марк Валерий Мессала Руф, дежурный офицер, мог видеть лишь ее лицо. Но и этого было вполне достаточно. У него перехватило дыхание. Стоявшая перед ним женщина приходилась ровесницей его матери – но то была самая прекрасная женщина в мире! Троянская Елена тоже не была молодой. Годы не отняли у Аврелии чар. До сих пор стоило ей выйти из своей квартиры, как все головы поворачивались в ее сторону.
– Я бы хотела увидеть Луция Корнелия Суллу.
Мессала Руф не спросил ее имени, он даже не подумал предупредить Суллу о посетителе. Он просто поклонился и жестом показал на открытую дверь. Аврелия вошла, с улыбкой поблагодарив офицера. Хотя ставни были широко раскрыты, чтобы впустить воздух в помещение, в комнате оставалось темно, особенно в дальнем углу, где, склонившись над столом, сидел человек и с занятым видом что-то писал при свете большой лампы.
Раздавшийся в полумраке голос не мог принадлежать никому другому:
– Луций Корнелий?
Что-то случилось. Склоненные плечи напряглись и поднялись, словно желая защититься от страшного удара, а стилос и дощечки отлетели к краю стола. Он повернулся к ней спиной и замер.
Она сделала несколько шагов вперед:
– Луций Корнелий?
Молчание. Но глаза ее уже стали привыкать к мраку. Она разглядела шапку волос, явно не принадлежавших Луцию Корнелию Сулле. Маленькие ярко-рыжие завитушки, довольно смешные.
Он конвульсивно содрогнулся и повернулся к ней. Она сразу поняла, что это был Луций Корнелий Сулла, но только потому, что незнакомый человек смотрел на нее его глазами. Ошибиться она не могла.
«Боги, как же посмела я так поступить с ним? Но я не знала! Если бы я знала, никакие силы не затащили бы меня сюда. Какое у меня сейчас лицо? Что он видит на моем лице?»
– О Луций Корнелий, как я рада тебя видеть! – воскликнула Аврелия вполне естественным тоном.
Она быстро подошла к столу и поцеловала обе щеки, покрытые шрамами. Потом села рядом с ним на складной стул, сжала коленями свои ладони, заглянула ему в глаза и стала ждать.
– Я не предполагал когда-нибудь снова увидеть тебя, Аврелия, – сказал Сулла, не отводя от нее взгляда. – Ты не могла подождать, пока я приду в Рим? Ты нарушила наш обычный ритуал. Не ожидал этого.
– Кажется, путь до Рима непрост для тебя. Тебя сдерживает армия. А возможно, я почувствовала, что впервые ты не придешь навестить меня. Но нет, дорогой Луций Корнелий, я здесь не поэтому. Я здесь потому, что заблудилась.
– Заблудилась?
– Да. Я ищу Квинта Педия. Моя глупая дочь не хочет ехать в Рим, а Квинт Педий – ее второй муж, которого ты не знаешь, – не желает, чтобы она находилась между двумя укрепленными лагерями.
«Получилось очень непринужденно и убедительно, – подумала она. – Он должен поверить».
Но это же был Сулла! Поэтому он сказал:
– А ты шокирована, да?
Она не пыталась уйти от ответа:
– В некотором смысле – да. В основном волосы. Я так думаю, что свои ты потерял.
– Вместе с зубами. – Он показал десны, оскалившись, как обезьяна.
– Ну что ж, все мы их теряем, если живем достаточно долго.
– Сейчас ты не захотела бы, чтобы я тебя поцеловал так, как поцеловал несколько лет назад, да?
Аврелия склонила голову набок и улыбнулась:
– Я и тогда не хотела, чтобы ты меня целовал, хотя мне это и понравилось. Слишком сильное ощущение для меня, столь ценящей покой. Как же ты меня возненавидел!
– А чего ты ждала? Ты отвергла меня. А я не люблю, когда женщины меня отвергают.
– Я помню об этом!
– Я помню тот виноград.
– Я тоже.
Сулла глубоко вздохнул, крепко зажмурился:
– Если бы я мог плакать!
– Я рада, что ты не можешь, дорогой друг, – мягко проговорила она.
– Тогда ты плакала обо мне.
– Да. Но сейчас не буду. Это было бы трауром по исчезнувшему отражению, уплывшему по течению реки. А ты – здесь. И я рада этому.
Наконец он встал, старый, усталый человек:
– Вина?
– Да, пожалуйста.
Он налил вино, как заметила Аврелия, из двух разных бутылок.
– Тебе не понравится та моча, которую мне приходится теперь пить. Такую же сухую и кислую, как я сам.
– Я и сама совершенно сухая и кислая, но не буду настаивать на том, чтобы попробовать твое пойло, если ты не рекомендуешь. – Она взяла протянутую ей простую чашу и с благодарностью отпила. – Благодарю, вкусное. Мы провели целый день в поисках Квинта Педия.
– О чем думает твой муж, заставляя тебя выполнять его работу? Он опять в отъезде? – осведомился Сулла, опустившись на стул с заметным облегчением.
Блестящие глаза Аврелии вдруг стали стеклянными.
– Я уже два года как вдова, Луций Корнелий.
Он удивился:
– Гай Юлий мертв? Он же был совершенно здоров. И к тому же молод! Убит в сражении?
– Нет. Он просто умер – внезапно.
– А я вот на тысячу лет старше Гая Юлия, но все еще цепляюсь за жизнь, – с горечью произнес Сулла.
– Ты – октябрьский конь, а он – простой солдат. Он был мне хорошим мужем. Я никогда не считала его человеком, которому следует цепляться за жизнь, – сказала Аврелия.
– Наверное, он и не цеплялся. Под моей властью в Риме ему было бы несладко. Я думаю, он последовал бы за Карбоном.
– Он был сторонником Цинны из-за Гая Мария. Но Карбон? Не знаю. – Аврелия заговорила о другом. Она уже привыкла к его новому облику, сменившему прекрасный лик Аполлона. – Твоя жена здорова, Луций Корнелий?
– Была здорова, когда я последний раз слышал о ней. Она все еще в Афинах. В прошлом году родила мне двойняшек, мальчика и девочку. – Сулла хихикнул. – Она боится, что они вырастут похожими на их дядю Свина.
– О бедняжки! Хорошо иметь детей. Ты когда-нибудь вспоминаешь о других своих двойняшках – о тех мальчиках, которых тебе родила твоя германская жена? Теперь они совсем взрослые.
– Молодые херуски! Добывают скальпы и заживо сжигают римлян в плетеных клетках.
Все будет хорошо. Он успокоился. Казалось, его уже не мучило ее присутствие. Аврелия придумывала для Луция Корнелия Суллы множество судеб, но в фантазиях она никогда не допускала, что он утратит свою особую, неповторимую привлекательность. И все же это тот самый Сулла. «Его жена, – подумала Аврелия, – наверное, была без ума от него, когда он походил на Аполлона».
Они поговорили еще какое-то время о минувшем, обмениваясь новостями о том о сем. Ему, как она заметила, нравилось говорить о своем выдвиженце Лукулле, а ей, по его наблюдениям, нравилось говорить о своем единственном сыне, которого теперь называли Цезарем.
– Насколько я помню, молодой Цезарь был весьма эрудированным юношей. Должность фламина Юпитера должна подходить ему, – сказал Сулла.
Аврелия колебалась. Казалось, она хотела что-то сказать, но произнесла явно совсем другое:
– Ему пришлось очень постараться, чтобы стать хорошим жрецом, Луций Корнелий.
Нахмурясь, Сулла посмотрел в окно:
– Вижу, солнце склоняется к западу. Вот почему здесь темно. Тебе время отправляться. Тебя проводят мои новобранцы. Квинт Педий живет недалеко от лагеря. Ты можешь сказать своей дочери, что если она останется, то она – дура. Мои солдаты – не звери, но если она истинная Юлия, то будет для них искушением, а воинам нельзя запретить пить вино, когда они безвылазно торчат в лагере в Кампании. Немедленно увози ее в Рим. Послезавтра я дам тебе сопровождающих до Ферентина. Это позволит вам избежать когтей обеих армий, запертых здесь.
Она поднялась:
– Со мной Бургунд и Луций Декумий с сыновьями. Но если ты можешь выделить людей, то благодарю тебя за эскорт. Разве между тобой и Сципионом не будет сражения?
О, как печально никогда больше не видеть чудесной улыбки Суллы! Лучшее, что он мог теперь сделать, – это промычать, что позволяло сохранить неподвижными струпы и шрамы на лице.
– С этим идиотом? Нет, не думаю, что сражение будет, – ответил Сулла, стоя уже на пороге и слегка подталкивая ее. – А теперь ступай, Аврелия. И не жди меня в Риме. Я не приду.
Она ушла, чтобы присоединиться к ожидавшей ее свите, а Сулла принялся инструктировать Мессалу Руфа. Вскоре Аврелия и ее провожатые уже ехали по главной улице, направляясь к воротам огромного лагеря Суллы.
Один взгляд на лицо Аврелии отбивал у ее спутников охоту заговорить с ней. Поэтому все молчали. Аврелия погрузилась в свои мысли:
«Он всегда нравился мне, пусть даже стал нашим врагом. Пусть даже его нельзя назвать хорошим человеком. Мой муж был глубоко порядочен, и я любила его и была верна ему и душой, и телом. И все же – теперь я это знаю, хотя до сих пор не сознавала – какая-то крохотная частица меня всегда принадлежала Луцию Корнелию Сулле. Та частица, которой мой муж не желал, с которой он не знал, что делать. Мы поцеловались с Луцием Корнелием лишь раз. Но это было и блаженство, и ад. Неистовая страсть и засасывающая трясина. Я не сдалась. Но, боги, как я хотела этого! В некотором смысле я одержала победу. Но не проиграла ли я войну?
Всякий раз, когда он вторгался в мой уютный мирок, с ним врывался ураган. Он был Аполлоном, но он был и Эолом. Он управлял вихрями моей души, так что сокрытая во мне лира начинала играть такую мелодию, которой мой муж никогда, никогда не слышал… О, это хуже, чем оплакивать умершего и тосковать в вечной разлуке! Сегодня я смотрела на крах моей мечты, нашей общей мечты, и он знает это, бедный Луций Корнелий. Но какая выдержка! Более слабый человек покончил бы с собой. Его боль, его боль! Почему я это чувствую? Я – деловая, практичная, прозаичная женщина. Жизнь моя налажена, я ею довольна. Но теперь я понимаю, какая именно часть меня всегда принадлежала ему. Она похожа на птицу, которая могла взметнуться вверх и парить, выводя трели, – и гори огнем под тобой земля, которая ничего не значит! Нет, я не жалею, что крепко стояла на земле, что никогда не взмывала ввысь. Уж такая я есть. У нас с ним никогда не было бы ни минуты покоя. О, у меня сердце обливается кровью при мысли о нем! И слезы мои – о нем!»
Поскольку Аврелия ехала впереди своей маленькой свиты, но позади сопровождающих их офицеров, никто не мог видеть ее слез, как не видели они Луция Корнелия Суллы, крушения ее мечты.
Гневное письмо Гая Норбана, посланное Сципиону Азиагену, не помогло избежать поражения, которое тот навлек на себя сам. Сципион Азиаген страшно удивился, когда, решив наконец дать сражение, обнаружил, что войско не хочет выступать на его стороне. Вместо этого все восемь легионов перешли к Сулле.
И даже когда Сулла лишил его консульских полномочий и отправил собирать пожитки в сопровождении отряда конников, Сципион Азиаген так и не понял, что Рим находится в трудном положении. Совершенно спокойно и в хорошем настроении он отправился в Этрурию и начал вербовать себе другую армию среди многочисленных клиентов Гая Мария. Гай Марий мог быть мертв, но память о нем будет жить вечно. В то время как Сципион Азиаген – всего лишь преходящее настоящее.
– Он даже не понимает, что прервал торжественно заключенное перемирие, – сказал Сулла с удивлением. – Я знал, что все Сципионы недоумки, но этот! Он недостоин имени Корнелия Сципиона. Если я возьму Рим, я казню его.
– Тебе следовало убить его, когда он был у тебя в руках, – раздраженно сказал Свиненок. – Он еще доставит нам неприятностей.
– Нет, он – припарка, которую я прикладываю к нарыву Этрурии, – сказал Сулла. – Удаляй яд, Пий, пока имеешь дело с одним гнойником. Не жди, когда назреет карбункул.
Это, конечно, было еще одним проявлением мудрости.
– Прекрасная метафора, – усмехнулся Метелл Пий.
Хотя стоял квинтилий и до конца лета было еще далеко, в тот год Сулла нисколько не продвинулся к Риму. С отъездом Сципиона оба лагеря объединились, и седовласые центурионы Суллы принялись работать с молодыми и неопытными солдатами Карбонова Рима. Страх перед ветеранами Суллы действовал на них сильнее, чем дружеское братание. Всего несколько дней показали им, каким должен быть истинный римский солдат – несгибаемым, закаленным, знатоком военного дела. Ни один рекрут, встретившись с таким на поле сражения, не устоит, лучше и не пытаться. Это еще раз убедило перебежчиков в правильности их поступка.
Отступничество Синуессы под влиянием Квинта Сертория оказалось не больнее булавочного укола. Сулла обложил город, но не для того, чтобы взять его измором или атаковать неприступные крепостные валы, а лишь для того, чтобы использовать осаду в качестве учебного упражнения для армии новобранцев Сципиона. В том году Сулла не был заинтересован в кровопролитии. Наибольшая польза от осады Синуессы заключалась в том, что там оказался заперт умный, талантливый и энергичный Квинт Серторий. Находясь в осадном кольце, он был бесполезен для Карбона, который в любом другом случае мог бы использовать его гораздо эффективнее.
С Сардинии сообщили, что Филипп и его испанские когорты легко захватили власть. Следовательно, Филипп сможет послать Сулле весь собранный там урожай. И корабли с зерном своевременно прибыли в Путеолы, где и разгрузились, не встретив на своем пути ни военных галер, ни пиратов.
Настала ранняя и довольно суровая зима. Чтобы разделить свою армию, увеличившуюся более чем в два раза, Сулла отправил несколько когорт осадить Капую, Синуессу и Неаполь, принудив таким образом прочие регионы Кампании кормить его солдат. Веррес и Цетег оказались неплохими снабженцами, они даже посоветовали хранить рыбу, пойманную в Адриатике, в ямах, набитых снегом. Любители даров моря из войска Суллы, которым никогда не удавалось вдоволь поесть свежей рыбы, наслаждались этим неожиданным угощением, а армейские хирурги то и дело вынимали у солдат застрявшие в горле рыбьи кости.
Все это не имело для Суллы никакого значения. Он расковырял несколько струпов на своем заживающем лице и тем самым вызвал приступ зуда. Все, кто общался с ним, просили, чтобы он дал возможность струпам отвалиться самим, но беспокойная натура Суллы не могла смириться с необходимостью ждать. Когда струпы начинали свисать, он их отковыривал.
Вспышка болезни была очень сильной (может быть, из-за холода, предположил Варрон, ухаживавший за Суллой, поскольку в нем проснулся научный интерес) и длилась без перерыва три полных месяца. Три месяца – пьяный, полубезумный Сулла, который стонет, чешется, кричит и пьет. Один раз Варрон даже привязал его руки к бокам, чтобы он не мог дотянуться до лица. И хотя Сулла очень хотел подчиниться этому вынужденному ограничению – как Улисс, привязанный к мачте, когда пели сирены, – он все-таки умолял освободить его. И конечно, в конце концов ему удалось освободиться. Чтобы снова чесаться.
Перед Новым годом, отчаявшись, Варрон пошел к Метеллу Пию и Помпею – предупредить, что Сулла вряд ли поправится к весне.
– Ему письмо из Тарса, – сказал Метелл Пий, которому было поручено составить компанию Помпею этой зимой: Красс находился среди марсов, а Аппий Клавдий и Мамерк где-то что-то осаждали.
Варрон насторожился:
– Из Тарса?
– Да. От этнарха Морсима.
– С кувшином?
– Нет, только письмо. Он сможет прочитать его?
– Конечно нет.
– Тогда лучше ты сам прочти его, Варрон, – сказал Помпей.
– Ты что, Помпей? – возмутился Метелл Пий.
– Ну же, Свиненок, не будь ханжой! – устало возразил Помпей. – Мы знаем, что он надеется на какую-то волшебную мазь, и мы знаем, что он поручил Морсиму найти ее. Теперь пришло какое-то известие, но он не в состоянии разбирать буквы. Разве будет дурно – ради него же – посмотреть, что хочет сообщить Морсим?
Итак, Варрону разрешили узнать, о чем пишет Морсим.
Вот рецепт – и это все, что я могу для тебя сделать, дорогой Луций Корнелий, друг мой и господин. Мазь должна быть свежей, ее следует приготовлять часто, а путь от Пирама до Рима длинный. Поэтому тебе придется самому найти ингредиенты и изготовить снадобье. К счастью, ингредиенты не экзотические, отыскать их легко, но вот способ приготовления трудоемкий.
Итак, излечивает овца. Надо взять свежее руно и поручить кому-нибудь скоблить шерсть инструментом, достаточно острым, чтобы давить волокна, но недостаточно острым, чтобы их порезать. Ты увидишь, что на острие твоего инструмента скапливается вещество, маслянистое и имеющее консистенцию сычужной закваски. Скреби шерсть до тех пор, пока этого вещества не наберется достаточно много. Как мне сказали, овечьей шерсти потребуется немало. Затем залей это вещество теплой водой – теплой, а не горячей! – но не слишком прохладной. Сунь в воду палец – она должна быть такой, чтобы казалось горячо, но терпимо. Некоторое количество вещества растворится в воде, образовав слой, который всплывет на поверхность. Этот слой и есть то средство, которое тебе потребно. Необходим целый кубок его.
Затем возьми руно, удостоверься, что на коже остался жир (используй только что освежеванное животное), и прокипяти его. Полученный жир протопи дважды. Натопи целый кубок.
К жиру овцы добавь специальное нутряное сало, ибо овечье сало очень плотное, не тает даже в теплой комнате. Мой источник информации – самая вонючая и мерзкая старуха, не говоря уже о том, что и самая жадная из всех! – сказала, что это нутряное сало следует взять с почек овцы и размять. Затем распустить в теплой воде. Снять слой с поверхности воды в количестве двух третей кубка. К этому добавить треть кубка желчи, взятой из желчного пузыря только что зарезанной овцы.
После этого не торопясь, тщательно смешай все ингредиенты. Мазь довольно плотная, но не такая твердая, как сам жир. Смазывай лицо не меньше четырех раз в день. Предупреждаю, дорогой Луций Корнелий, что воняет это ужасно. Но старуха настаивает, что ни в коем случае нельзя добавлять в мазь ни духов, ни специй, ни пахучих смол.
Пожалуйста, сообщи мне, если мазь подействует! Гнусная старуха клянется, что это она приготовила ту мазь, которая тебе помогла в первый раз, хотя я несколько сомневаюсь.
Vale. Морсим.
Варрон немедленно призвал небольшую армию рабов и отправил их искать отару овец. После этого в маленьком домике по соседству с жилищем командующего Варрон нетерпеливо бегал от котлов к трудившимся рабам, осматривая каждую тушу, каждую почку, настаивая на том, чтобы лично проверять температуру воды, скрупулезно измерял количество ингредиентов и своей суетливостью, кудахтаньем и понуканиями довел слуг до озлобления. За час до того, как предприятие по изготовлению мази начало работать, он уже волновался по поводу точного размера кубка. Но вдруг все понял и потом смеялся до слез. Если все его кубки одного размера, то какое это имеет значение?
Зарезали сотню овец (желчь и жир были получены от двух животных, а остальные девяносто восемь были заколоты из-за маленького кусочка сала с поверхности почек и вещества, которое предстояло наскрести с шерсти). В конце концов Варрон получил достаточно большой порфировый кувшин мази. А что касается уставших рабов, они получили сотню почти нетронутых туш очень вкусной баранины и поняли, что стоило потрудиться, чтобы иметь возможность набить живот жареным мясом.
Час был поздний, и Сулла, как прошептал его слуга, спал на ложе в столовой.
– Пьяный, – кивнул Варрон.
– Да, Марк Теренций.
– Ну что ж, думаю, это даже хорошо.
Он на цыпочках вошел в комнату и на миг остановился, глядя на бедное измученное существо, в которое превратился прекрасный Сулла. Парик упал с головы и лежал, демонстрируя марлевую подкладку. Много тысяч волосинок пошло на его изготовление. Каждую следовало закрепить на подкладке. Подумать только, на это требуется куда больше времени, чем на приготовление мази! Варрон вздохнул и покачал головой. Потом очень осторожно приложил свои смазанные мазью пальцы к кровавому месиву на лице Суллы.
Тот вдруг открыл глаза, в затуманенном вином взгляде застыли боль и ужас. Рот открыт, губы растянуты, десны обнажены. Но он не издал ни звука.
– Это мазь, Луций Корнелий, – прошептал Варрон. – Я приготовил ее по тому рецепту. Ты выдержишь, если я попытаюсь нанести ее тебе на лицо?
Слезы скопились в глазницах, потому что Сулла лежал на спине. Прежде чем они вытекли из уголков глаз на кожу лица, Варрон промокнул их кусочком очень мягкой ткани. Но слезы не убывали. А Варрон все промокал их.
– Ты не должен плакать, Луций Корнелий. Мазь необходимо накладывать на сухую кожу. А теперь лежи спокойно и закрой глаза.
Сулла лежал спокойно, глаза его были закрыты. После нескольких непроизвольных рывков при прикосновениях к его лицу он уже не протестовал, и постепенно напряжение спало.
Варрон закончил процедуру, взял пятисвечовую лампу и высоко поднял ее, чтобы посмотреть на результат своего труда. Прозрачная жидкость горошинами выступила там, где кожа потрескалась, но слой мази, казалось, остановил кровотечение.
– Ты должен постараться не расчесывать. Чешется? – спросил Варрон.
– Да, чешется, – ответил Сулла, не открывая глаз. – Но бывало и хуже. Привяжи мне руки.
Варрон выполнил просьбу.
– Я вернусь к рассвету и повторю процедуру. Кто знает, Луций Корнелий? Может быть, к рассвету зуд пройдет.
И он тихо вышел из комнаты.
К рассвету зуд не прошел, но от беспристрастного взгляда Варрона не укрылось, что кожа Суллы выглядела – как бы это выразиться? – спокойнее. Варрон снова наложил мазь. Сулла попросил не развязывать ему руки. Но в полночь, после троекратного наложения мази, он объявил, что, как ему кажется, он сможет сдержаться, если Варрон освободит его. А через четыре дня он сказал Варрону, что зуд прошел.
– Мазь подействовала! – сообщил Варрон Помпею и Свиненку, испытывая удовлетворение врача, хотя врачом он вовсе не был и быть не хотел.
– Он сможет весной командовать армией? – осведомился Помпей.
– Если мазь окажется действенной, сможет еще до наступления весны, – ответил Варрон и поспешил наружу с кувшином мази, чтобы зарыть его в снег. В холоде она дольше не испортится, хотя руки Варрона уже воняли тухлятиной. – Воистину он felix, счастливчик! – вслух подумал Варрон.
Когда ранняя и морозная зима покрыла Рим снегом, многие из его жителей увидели в этом плохой знак. Ни Норбан, ни Сципион Азиаген не возвратились после своих поражений. Не приходило никаких хороших вестей об их последующих действиях. Норбан застрял в осажденной Капуе, а Сципион бродил по Этрурии, вербуя солдат.
К концу года сенат задумал провести дебаты о том, что ждет впереди и сенат, и Рим. Число сторонников Суллы снизилось на треть. Часть ушла к Сулле в Грецию раньше, а часть соединилась с Суллой, когда он вернулся в Италию. Ибо, несмотря на протесты группы сенаторов, заявлявших о своем нейтралитете, все в Риме, от высших до низших, очень хорошо знали, что подведена роковая черта. Вся Италия и Италийская Галлия не были достаточно просторными для мирного сосуществования Суллы и Карбона. У них были прямо противоположные цели, разные взгляды на систему правления, разные идеи относительно того, по какому пути должен идти Рим. Сулла ратовал за mos maiorum, вековые обычаи и традиции, за которыми стояли аристократы-землевладельцы – главные действующие лица и на войне, и во время мира. Карбон же настаивал на превосходстве коммерсантов – сословии всадников и казначейских трибунов. Поскольку ни одна группа не соглашалась на равные права, то кто-то должен был победить, развязав еще одну гражданскую войну.
Узаконив статус римского города за Капуей, плебейский трибун Марк Юний Брут вызвал из Аримина Карбона. Именно возвращение Карбона из Италийской Галлии и навело сенат на мысль собраться и обсудить положение.
Карбон и Брут встретились в доме Брута на Палатине, хорошо знакомом Гнею Папирию Карбону. Уже много лет Карбон и Брут оставались друзьями. Кроме того, крайне неосмотрительно было бы сходиться для серьезного разговора в доме самого Карбона, где (судя по слухам) даже мальчик, приставленный к ночным горшкам, брал плату у любого, кого интересовали планы Карбона.
То, что в доме Брута не водилось продажных слуг, являлось исключительно заслугой жены Брута, Сервилии, которая управляла хозяйством строже, чем Сципион Азиаген своей армией. Она не прощала проступков. Казалось, глаз у нее как у стоокого великана Аргуса и ушей как у целой колонии летучих мышей. Слуги, который мог бы перехитрить ее, просто не существовало. А слуга, который не испытывал перед ней страха, покидал ее дом уже через несколько дней.
Поэтому-то Брут и Карбон могли приступить к конфиденциальной беседе, полагая себя в полной безопасности. Если не считать, конечно, саму Сервилию. Ничто из того, что происходило и говорилось в ее доме, не могло укрыться от ее чуткого слуха. И этот очень личный разговор не стал исключением, уж она-то об этом позаботилась. Мужчины сидели в кабинете Брута, за закрытой дверью, а Сервилия устроилась у колоннады под открытым окном. Было холодно, но Сервилия согласна была мириться с неудобствами ради того, что может прозвучать в той уютной комнате.
Разговор начался с обычных вежливых фраз.
– Как мой отец? – спросил Брут.
– У него все хорошо. Посылает тебе привет.
– Удивляюсь, как ты можешь его терпеть! – взорвался вдруг Брут и замолчал, видимо сам шокированный тем, что только что сказал. – Извини. Я не хотел сердиться. Я действительно не сержусь.
– Ты просто удивлен, что я в состоянии его выносить?
– Да.
– Он твой отец, – спокойно ответил Карбон, – и он старый человек. Я понимаю, почему ты видишь в нем источник неприятностей. Однако я его таковым не считаю. После того как Веррес сбежал с тем, что оставалось от моей наместнической казны, мне пришлось подыскать себе другого квестора. Твой отец и я были друзьями с тех самых пор, как он с Марием вернулся из ссылки.
Карбон помолчал – очевидно, похлопал Брута по руке, подумала Сервилия. Она знала, как Карбон обращался с ее мужем.
Затем Карбон продолжал:
– Когда ты женился, он купил тебе этот дом, чтобы самому не путаться у вас под ногами. Но чего он не предвидел, так это одиночества – как он будет жить один после стольких лет, проведенных бок о бок с тобой. Два неразлучных холостяка! Могу представить, как он надоедал тебе и твоей жене. Так что, когда я написал и попросил его быть моим проквестором, он с готовностью согласился. Не понимаю, почему ты должен чувствовать себя виноватым, Брут. Ему нравится эта должность.
– Спасибо, – вздохнул Брут.
– А теперь – к делу. Что такого случилось? Почему я должен был явиться сюда?
– Выборы. С дезертирством всеобщего друга Филиппа моральный дух в Риме упал. Никто не поведет их за собой, ни у кого не хватит смелости стать предводителем. Вот почему я подумал, что ты должен возвратиться в Рим, по крайней мере до конца выборов. Я не нахожу никого, кто годился бы сейчас на должность консула. Никто не хочет занимать важных постов, – нервно заключил Брут; он вообще был беспокойным человеком.
– А как же Серторий?
– Ты ведь знаешь, он наш сторонник. Я написал ему в Синуессу и просил выставить свою кандидатуру на консульских выборах, но он отказался. По двум причинам, хотя я знал лишь об одной: он все еще претор и должен ждать положенные два года, прежде чем баллотироваться в консулы. Я надеялся уговорить его. И сумел бы, будь то единственная причина. Но вторая причина достаточно веская.
– И какова же она?
– Он сказал, что с Римом покончено, что он отказывается быть консулом в городе, полном трусов и оппортунистов.
– Изящно сформулировано.
– Он заявил, что станет наместником Ближней Испании и уедет немедленно.
– Fellator! – прорычал Карбон.
Брут, не выносивший сквернословия, ничего не ответил. Очевидно, ему больше нечего было сказать. Некоторое время они молчали.
Выведенная из себя Сервилия приложила глаз к затейливой решетке ставни и увидела Карбона и своего мужа сидящими за столом друг против друга. Она подумала, что они могли бы быть братьями: оба темноволосые, у обоих простые черты лица, оба невысокого роста и неидеального сложения.
Сервилия часто спрашивала себя, почему Фортуна не наградила ее мужем с более выразительной внешностью – мужем, который засиял бы на политической арене. Она давно уже отказалась от мысли о военной карьере для Брута. Значит, это должна быть политика. Но лучшее, на что Брут оказался способен, – это дать Капуе статус римского города. Неплохая идея – определенно она спасла его трибунат от банальности! – но о Бруте никогда не будут помнить как об одном из великих народных трибунов, как о его дяде Друзе.
Брута для Сервилии выбрал дядя Мамерк, хотя сам Мамерк был душой и телом предан Сулле и находился в Греции с Суллой, когда назрела необходимость найти мужа для старшей из шести его подопечных, Сервилии. Они все еще жили в Риме под присмотром бедной родственницы Гнеи и ее матери Порции Лицинианы – ужасной женщины! Ни одному опекуну, сколь далеко ни находился бы он от своих подопечных, не стоило беспокоиться о добродетели и моральном облике ребенка, которого железной рукой воспитывала Порция Лициниана! Даже ее дочь Гнея с течением лет становилась все некрасивее и все более походила на старую деву.
Таким образом, именно Порция Лициниана нашла претендентов на руку Сервилии, когда той стукнуло восемнадцать. Порция Лициниана послала соответствующую информацию дяде Мамерку на Восток. Она сообщила о достоинствах, моральном облике, скромности, трезвости и прочих качествах, которые она сама хотела бы видеть в супруге. И хотя Порция Лициниана ни разу не совершила ошибки, открыто выказав предпочтение одному из претендентов, ее замечания засели в голове дяди Мамерка. В конце концов, у Сервилии было огромное приданое и она имела счастье носить имя великолепного старинного патрицианского рода, да и сама, по уверению Порции Лицинианы, была недурна собой.
И дядя Мамерк пошел по пути наименьшего сопротивления. Он выбрал человека, на которого сильнее всего намекала Порция Лициниана. Марк Юний Брут. Поскольку он был сенатором тридцати с небольшим лет, то считалось, что он уже миновал трудный период юношеских глупостей и неблагоразумных поступков. Он станет главой одной из ветвей рода, когда старый Брут умрет (что уже не за горами, как намекала Порция Лициниана). Брут богат, с безупречной (пусть даже плебейской) родословной.
Сама Сервилия не была знакома с суженым. И даже после того, как Порция Лициниана сообщила ей о предстоящем браке, до свадьбы ей не разрешили встретиться с Брутом. В том, что этот древний обычай применили к Сервилии, страшная Порция Лициниана была не виновата. Скорее это стало прямым следствием детского наказания. Поскольку в доме ее дяди Друза еще ребенком Сервилия шпионила для своего отца, жившего отдельно от детей, дядя Друз приговорил ее к домашнему аресту. Сервилии запрещалось иметь свою комнату, она должна была всегда находиться на виду, ей не дозволялось покидать дом без сопровождения верных людей, которые следили за каждым ее шагом, даже за выражением лица. И все это продолжалось годы, пока она не достигла брачного возраста. К тому времени все взрослые в ее семье умерли – мать, отец, тетя, дядя, бабушка, отчим. Но наказание оставалось в силе.
Поэтому не будет преувеличением сказать: Сервилия так стремилась выйти замуж и уйти из дома дяди Друза, что ее едва ли интересовало, кто станет ее мужем. Для нее супруг означал освобождение от ненавистного режима. И тем не менее, узнав его имя, она закрыла глаза, ощутив огромное облегчение. Человек ее класса и происхождения, а не какой-то мелкий сельский землевладелец, чего она боялась, – дядя Друз все грозил дать ей в мужья арендатора средней руки, когда она вырастет. К счастью, дядя Мамерк не видел никакого преимущества в том, чтобы его племянница вышла замуж за человека ниже ее по происхождению. Такого же мнения держалась и Порция Лициниана.
И Сервилия ушла в дом Марка Юния Брута, молодая и очень благодарная жена, а с нею и ее огромное приданое в двести талантов – пять миллионов сестерциев. Более того, приданое должно было остаться за ней. Дядя Мамерк выгодно вложил ее деньги, обеспечив ей приличный доход. Он распорядился, чтобы после ее смерти деньги перешли ее дочерям. Поскольку Брут был достаточно богат, то согласился с условиями брачного договора. А это означало, что он приобрел жену-патрицианку, которая сможет себя содержать и покупать себе все, что угодно, будь то рабы, одежда, драгоценности, дома. Платить она будет за все сама. Его деньги – это его деньги.
Сервилия обрела свободу ходить туда, куда захочет, и видеть тех, кого захочет. Во всем остальном брак Сервилии оказался безрадостным. Ее муж слишком долго оставался холостяком. Не было в доме Брута ни матери, ни какой-то другой женщины. Уклад его жизни был давно определен, жене там места не оставалось. Он ничего с ней не делил – даже своего тела, как она чувствовала. Если он звал друзей на обед, ей не велели появляться в столовой. Его кабинет был всегда закрыт для нее. Брут никогда ничего с ней не обсуждал. Никогда не показывал ей покупок. Никогда не брал с собой, уезжая на одну из своих сельских вилл. Время от времени он посещал ее спальню, но его тело совсем не возбуждало Сервилию. И она вдруг поняла, что сейчас у нее уединения больше, чем ей хотелось все те долгие годы, когда ей не позволяли побыть одной. И теперь общество показалось ей желанным. Так как Брут предпочитал спать один, в ее маленькой комнате не было никого, и тишина приводила ее в ужас.
Получилось, что брак превратился в простую вариацию на тему, которая преследовала ее с раннего детства: всем она была безразлична, ни для кого не имела значения. Единственный способ, которым ей удавалось обратить на себя внимание, – это быть злобной, злопамятной, жестокой. И эти ее свойства каждый слуга испытал на себе. Но мужу она никогда не демонстрировала подобные качества, ибо знала: он ее не любит и поэтому в любую минуту может поднять вопрос о разводе. С Брутом Сервилия была всегда мила. Со слугами – сурова.
Однако Брут выполнил свой супружеский долг. После двух лет замужества Сервилия наконец забеременела. Как и ее мать, она хорошо перенесла беременность. Даже роды не стали тем кошмаром, о котором ей все твердили. Она родила сына холодной мартовской ночью, роды длились семь часов. Когда младенца помыли и принесли Сервилии, она могла полюбоваться им, таким милым и хорошим.
И ничего удивительного, что Брут-младший заполонил всю жизнь матери, лишенной любви. Ни одной женщине она не позволяла его кормить, сама ухаживала за ним, поставила его кроватку в свою спальню, и со дня его появления на свет для нее существовал только он.
Почему же Сервилия подслушивала у кабинета в тот холодный ноябрьский день в том году, когда Сулла высадился в Италии? Конечно, не мужнины карьерные амбиции интересовали ее. Она слушала, потому что он был отцом ее ненаглядного сыночка, а она поклялась, что будет охранять его наследство, репутацию, будущее благополучие. Это значило, что ей следовало знать обо всем. Ничто не должно пройти мимо ее ушей, и особенно политическая деятельность мужа!
Карбон Сервилию не интересовал, хотя она признавала, что он – серьезная фигура. Но она правильно оценила его как человека, который будет думать сначала о собственных интересах, а уж потом об интересах Рима. И она не была уверена, что Брут достаточно проницателен, чтобы видеть недостатки Карбона. Присутствие Суллы в Италии очень ее тревожило, ибо у нее был склад ума настоящего политика. Сервилия умела провидеть будущие события яснее, чем большинство мужчин, которые полжизни провели в сенате. В одном она была уверена: у Карбона недостаточно сил, чтобы сплотить Рим. Государство треснет в зубах такого человека, как Сулла.
Увидела она достаточно, теперь требовалось послушать. Она опустилась на колени на твердый холодный пол и приложила ухо к решетке. Опять пошел снег – благо! Белая пелена скрывала ее от дальнего конца сада в перистиле, где помещались кухни и сновали слуги. Ее беспокоило не то, что ее могут увидеть подслушивающей. Домашние Брута никогда не посмеют сомневаться в ее праве находиться там, где она хочет, и принимать любую позу. Дело в том, что ей очень нравилось появляться перед домашними как высшее существо, а высшие существа не стоят на коленях, подслушивая под окном кабинета мужа.
Вдруг она вся напряглась и приникла ухом к решетке. Карбон и ее муж снова о чем-то заговорили!
– Среди имеющих право избираться есть хорошие кандидатуры на пост претора, – сказал Брут, – например, Каррина и Дамасипп, оба способные и популярные.
Карбон хмыкнул:
– Как и я, они позволили безбородому юнцу побить их в сражении, но в отличие от меня они, по крайней мере, были предупреждены, что Помпей так же жесток, как и его отец, и в десять раз одареннее Мясника. Если бы Помпей выдвинул свою кандидатуру на пост претора, он получил бы больше голосов, чем Каррина и Дамасипп, вместе взятые.
– Это ветераны Помпея одержали победу, – логично заметил Брут. – А не юнец.
– Может быть. Но если так, то Помпей предоставил им полную свободу действий. – Карбону явно не терпелось заглянуть в будущее, и он сменил тему. – Не преторы волнуют меня, Брут. Я беспокоюсь о консулах – из-за твоих мрачных предсказаний! Если необходимо, я сам буду баллотироваться. Но кого мне взять в коллеги? Кто в этом жалком городе способен поддержать меня, кто не постарается свалить? Весной начнется война, я больше чем уверен. Сулла болен, но моя разведка сообщает, что к следующей кампании он будет в прекрасной форме.
– Болезнь – не единственная причина, по которой он воздержался от военных действий в прошедшем году, – сказал Брут. – Ходят слухи, что этим он давал шанс Риму капитулировать без боя.
– Тогда он это сделал напрасно! – в ярости воскликнул Карбон. – Ну, хватит рассуждений! Кого я могу взять вторым консулом?
– Разве у тебя нет идей на этот счет? – спросил Брут.
– Ни одной. Мне нужен человек, способный поднимать дух людей, кто-то, кто заставит молодежь записываться в армию, а стариков – сожалеть, что их не записали. Такой человек, как Серторий. Но ты же прямо сказал, что он не согласится.
– А если Марк Марий Гратидиан?
– Он – Марий не по родству, а это нехорошо. Я хотел бы Сертория, потому что он – Марий по крови.
Молчание. Но не потому, что им нечего было сказать. Услышав, как ее муж набрал в легкие воздуха, словно решался произнести что-то важное, жена замерла под окном с намерением не пропустить ни единого слова.
– Если ты хочешь именно Мария, – медленно проговорил Брут, – тогда почему не Мария-младшего?
Опять молчание, но уже от неожиданности. Затем голос Карбона:
– Невозможно! Edepol, Брут, ему ведь совсем недавно исполнилось двадцать лет!
– Двадцать шесть, если точнее.
– Ему недостает еще четырех лет, чтобы войти в сенат!
– Нет закона, устанавливающего возрастной ценз, несмотря на lex Villia annalis. Это просто традиция. Поэтому я советую тебе добиться, чтобы Перперна немедленно ввел его в сенат.
– Да он не стоит ремня от сандалии своего отца! – в сердцах воскликнул Карбон.
– Какое это имеет значение? А? Гней Папирий, действительно! Я признаю, что в Сертории ты нашел бы идеального представителя рода Мариев: никто в Риме не командует солдатами лучше, в армии никого не уважают так, как его. Но он не согласился. Так кто же еще, кроме Мария-младшего?
– К нему, конечно, валом повалят записываться, – тихо проговорил Карбон.
– И будут драться за него, как спартанцы за Леонида.
– Ты думаешь, он справится?
– Думаю, он захочет попытаться.
– То есть он уже выражал желание быть консулом?
– Нет, Карбон, конечно нет! Хотя он и тщеславен, но не до такой степени. Однако, если ты предложишь ему этот шанс, он ухватится за него. До сих пор у него не было случая последовать по стопам своего отца. И по крайней мере в одном отношении это даст ему возможность превзойти отца. Гай Марий начал политическую карьеру в довольно зрелом возрасте. Марий-младший станет консулом, даже будучи моложе Сципиона Африканского. Не важно, как у него пойдут дела, но для него уже это – определенная слава.
– Если он хотя бы вполовину окажется равен Сципиону Африканскому, то Сулла Риму не страшен.
– Не надейся обрести Сципиона Африканского в Марии-младшем, – предупредил Брут. – Единственный способ, которым тот уберег консула Катона от поражения, – всадил ему нож в спину.
Карбон засмеялся – он был смешливым человеком.
– По крайней мере, для Цинны это была удача! Старый Марий заплатил ему целое состояние за то, чтобы не возбуждать дело об убийстве.
– Да, – согласился Брут, оставаясь серьезным, – но тот эпизод должен показать тебе, с какими трудностями ты встретишься, если Марий-младший будет у тебя вторым консулом.
– Не поворачиваться к нему спиной?
– Не отдавай ему свои лучшие войска сразу. Пусть он докажет сначала, что он может командовать солдатами.
Послышался скрип отодвигаемых кресел. Сервилия поднялась с колен и скрылась в своей рабочей комнате, где молодая девушка, которая стирала пеленки малышу, пользовалась редким случаем подержать на руках маленького Брута.
Дикая ревность вспыхнула в Сервилии. Прежде чем она успела совладать с собой, рука ее взметнулась и с таким треском хлестнула девушку по щеке, что та упала на кроватку, выронив при этом ребенка. Но малыш не долетел до пола – мать рванулась к нему и поймала. Потом, крепко прижав его к груди, Сервилия пинками вытолкала служанку из комнаты.
– Завтра же ты будешь продана! – дико заорала она на всю колоннаду, опоясывающую сад перистиля. Затем позвала: – Дит! Дит!
Управляющий, чье имя на самом деле было Эпафродит, вбежал в комнату:
– Да, госпожа?
– Эта девчонка, та, что из Галлии, которую ты привел стирать пеленки, – высеки ее и продай как никуда не годную рабыню.
Управляющий так и ахнул:
– Но, domina, она отличная служанка! Она не только хорошо стирает, она так предана ребенку!
Сервилия наградила управляющего такой же звонкой пощечиной, как и рабыню, а затем продемонстрировала свое умение пользоваться грязными ругательствами:
– Теперь слушай меня, изнеженный, разжиревший греческий fellator! Когда я приказываю тебе, ты должен подчиняться молча, без возражений. Мне наплевать, чья ты собственность, поэтому не беги жаловаться хозяину, или пожалеешь об этом! Уведи девку к себе и подожди меня. Она тебе нравится, поэтому ты не станешь пороть ее так, как надо, если я не буду присутствовать при этом.
Ладонь хозяйки отпечаталась на щеке управляющего, но пощечина не привела его в такой ужас, как слова. Эпафродит бросился вон.
Сервилия не стала звать другую служанку. Она сама завернула маленького Брута в тонкую шерстяную шаль и пошла с ним в комнаты управляющего. Девушку привязали, и плачущий Эпафродит вынужден был под гипнотическим взглядом госпожи сечь ее до тех пор, пока ее спина не превратилась в ярко-красное месиво. Куски мяса разлетались во все стороны. Непрерывные крики вырывались из комнаты на морозный воздух. Падающий снег не мог заглушить воплей. Но хозяин не появился потребовать объяснений, потому что, как догадывалась Сервилия, ушел с Карбоном к Марию-младшему.
Наконец Сервилия кивнула. Рука управляющего устало опустилась. Хозяйка подошла поближе, чтобы проверить качество работы, и была удовлетворена.
– Хорошо! У нее на спине никогда больше не вырастет новая кожа. Нет смысла выставлять ее на продажу, за нее не дадут ни сестерция. Распни ее. Там, в перистиле. Это будет уроком для вас всех. И не ломай ей ноги! Пусть она умрет медленно.
Сервилия вернулась в свою комнату. Там она развернула сына, поменяла пеленки, а затем усадила ребенка к себе на колени, придерживая вытянутыми руками, и стала любоваться им, иногда наклоняясь, чтобы нежно поцеловать и поговорить с ним тихим, воркующим голосом.
Вместе они представляли довольно приятную картину: маленький смуглый малыш на коленях у своей изящной смуглой матери. Сервилия была привлекательной женщиной с пышными формами. У нее было маленькое лицо с заостренными чертами; плотно сжатые губы и полуприкрытые припухшие веки хранили немало секретов. Но ребенка можно было назвать милым исключительно из-за младенческой невинности, потому что на самом деле он был неказистый и довольно вялый – в народе таких называют «хороший ребенок», в том смысле, что он почти никогда не плакал и не капризничал.
Так Брут и застал их, когда вернулся из дома Мария-младшего. Он равнодушно, без комментариев выслушал рассказанную историю о нерадивой служанке и наказании. Поскольку Брут не смел вмешиваться в то, как его жена ведет хозяйство (его дом раньше никогда не был в таком порядке), он не изменил приговора Сервилии, и, когда позже управляющий пришел к нему по его вызову, Брут ничего не сказал по поводу занесенной снегом фигуры, свисающей с креста в саду.
– Цезарь! Где ты, Цезарь?
Цезарь неторопливо вышел из бывшего кабинета своего отца, босиком, одетый лишь в тонкую тунику, – в одной руке перо, в другой свиток папируса. Молодой человек хмурился, потому что голос матери прервал ход его мыслей.
Аврелия, закутанная в изумительно тонкую домотканую шерстяную материю, раздраженно спросила, больше заботясь о благополучии его тела, чем о результате его мыслительного процесса:
– Почему ты так ходишь в мороз? Да еще босиком! Цезарь, твой гороскоп предрекает, что ты заболеешь ужасной болезнью как раз сейчас, в это время, и ты знаешь об этом. Почему ты искушаешь Фортуну тронуть эту нить твоей судьбы? Гороскопы составляют при рождении, чтобы можно было избежать возможного риска. Ну будь же хорошим!
Ее волнение было совершенно искренним, он понимал это. Поэтому он улыбнулся ей своей знаменитой улыбкой – в знак молчаливого извинения, которое не затрагивало его гордости.
– В чем дело? – смиренно спросил он, как только взглянул на нее и понял, что его работе придется подождать: мать была одета для выхода.
– За нами прислала твоя тетя Юлия.
– В это время? В такую погоду?
– Рада, что ты заметил, какая стоит погода. Но это не заставило тебя одеться надлежащим образом, – проговорила Аврелия.
– В моей комнате стоит жаровня, мама. Даже две.
– Тогда иди к себе и переоденься, – сказала она. – Здесь страшный холод, ветер свистит в световом колодце.
Прежде чем он повернулся, чтобы уйти, она добавила:
– И найди Луция Декумия. Нас всех зовут.
Это означало – обеих его сестер. Цезарь удивился: должно быть, очень важное семейное совещание! Он открыл было рот, чтобы уверить мать, что ему не нужен Луций Декумий, что сотня женщин будет в безопасности под его защитой, но промолчал. Все равно последнее слово будет за ней. Зачем пытаться? Аврелия всегда умела поставить на своем.
Когда Цезарь вновь появился из своих комнат, на нем были пышные одежды фламина Юпитера, хотя в такую погоду под этим одеянием скрывались еще три туники, шерстяные штаны ниже колен, на ногах – толстые чулки и широкие сапоги без ремней или шнурков. Вместо обычной мужской тоги – накидка-laena, верхнее теплое платье жреца. Это неуклюжее двухслойное одеяние было скроено по кругу с отверстием в середине для головы. Его украшали широкие полосы, попеременно ярко-красные и пурпурные. Накидка доходила ему до колен и полностью скрывала руки, что избавляло его от необходимости носить варежки в эту ледяную погоду (он все пытался найти какое-то достоинство в этом противном одеянии). На голову нахлобучен apex – плотный шлем из слоновой кости, заканчивающийся острым шипом, на который насажен толстый диск из шерстяного войлока.
Официально достигший возраста взрослого мужчины, Цезарь, как фламин Юпитера, вынужден был соблюдать разные предписания. Ему запрещалось проходить военную подготовку на Марсовом поле, притрагиваться к железу, носить одежду с узлами или застежками, прикасаться к собаке, ему приходилось носить обувь, сшитую из кожи животного, убитого случайно, и есть только ту пищу, которую позволяло его положение. Брился он бронзовой бритвой. Вместо непрактичных сандалий на деревянной подошве, положенных жрецу, он носил сапоги, сшитые по фасону, который придумал сам. По крайней мере, эту обувь не надо привязывать к лодыжке ремнями.
Даже мать его не знала, как ненавидел Цезарь свой пожизненный приговор быть жрецом Юпитера. В пятнадцать лет Цезарь был посвящен во фламины, безропотно исполнив бессмысленные ритуалы. И Аврелия облегченно вздохнула. Чего она не могла знать, так это истинной причины, почему он подчинился. Молодой Цезарь был римлянином до мозга костей, что означало: он целиком и полностью предан обычаям своей страны. Кроме того, он был очень суеверен. Ему надлежало подчиниться! Если он не подчинится, то Фортуна никогда не будет к нему милостива. Она не улыбнется ему, не станет помогать в делах, тогда удачи ему не видать. Ибо, несмотря на этот страшный пожизненный приговор, он все еще верил, что Фортуна отыщет для него лазейку, если он, Цезарь, как следует постарается служить Юпитеру Всеблагому Всесильному.
Таким образом, подчинение не означало примирения, как думала Аврелия. С каждым днем он все больше ненавидел свою должность. Особенно потому, что по закону освободиться от нее было невозможно. Старому Гаю Марию удалось сковать его навсегда. Только Фортуна может изменить его участь.
Цезарю исполнилось семнадцать лет. До восемнадцати осталось семь месяцев. Но выглядел он старше и держался как консуляр, который побывал еще и цензором. Высокий рост и стройная мускулистая фигура весьма способствовали этому. Прошло уже два с половиной года с тех пор, как умер его отец, а это означало, что Цезарь очень рано стал главой семьи, paterfamilias, и теперь он к этому относился совершенно естественно. Юношеская красота не исчезла, она стала более мужественной. Его нос – хвала всем богам! – удлинился, сделавшись настоящим, крупным римским носом. Этот носище спас Цезаря от той слащавой миловидности, которая была бы большим бременем для человека, страстно желавшего стать настоящим мужчиной, римлянином – солдатом, государственным деятелем, любимцем женщин, которого нельзя даже заподозрить в пристрастии к существам своего же пола.
Члены его семьи собрались в приемной комнате, одетые для долгой прогулки по холоду. Все, кроме его жены Цинниллы. Одиннадцатилетняя, она не считалась достаточно взрослой для участия в редких семейных собраниях. Однако она пришла – маленькая смуглянка. Когда появился Цезарь, ее темно-лиловые глазки, как всегда, устремились к нему. Он обожал ее. Цезарь подошел, поднял ее на руки, поцеловал мягкие розовые щечки, зажмурив глаза, чтобы вдохнуть благоухание ребенка, которого мать купает и умасливает благовониями.
– Тебя бросают дома? – спросил он, снова целуя ее в щеку.
– Придет день – и я буду большая, – сказала она, показывая ямочки в обворожительной улыбке.
– Конечно ты вырастешь! И тогда ты будешь главнее мамы, потому что сделаешься хозяйкой дома.
Цезарь опустил ее на пол, погладил по густым вьющимся черным волосам и подмигнул Аврелии.
– Я не буду хозяйкой этого дома, – с серьезным видом возразила Циннилла. – Я буду фламиникой и хозяйкой государственного дома.
– И правда, – не задумываясь согласился Цезарь. – И как это я забыл?
Он вышел на заснеженную улицу, миновал лавки, расположенные внизу многоквартирного дома Аврелии, и приблизился к закругленному углу этого большого треугольного здания. Здесь находилось что-то вроде таверны, но это была не таверна. В этом помещении собиралось братство перекрестка, нечто среднее между религиозной коллегией и шайкой вымогателей. Официальным их занятием было наблюдать за состоянием алтаря, посвященного ларам, и большого фонтана, который сейчас лениво струился среди нагромождения прозрачных голубых сосулек – такая холодная стояла зима.
Луций Декумий, квартальный начальник, находился в своей резиденции и сидел за столом в темном левом углу огромной чистой комнаты. Поседевший, но по-прежнему моложавый, он недавно принял в братство обоих своих сыновей и теперь знакомил их с разнообразной деятельностью. Сыновья сидели по обе стороны от отца, как два льва, которые всегда стоят по бокам Великой Матери, – серьезные, смуглые, с густыми шевелюрами и светло-карими глазами. Луций Декумий отнюдь не был похож на Великую Мать – маленький, худощавый, незаметный. Его сыновья, напротив, удались в мать, крупную кельтскую женщину. Внешность Луция Декумия была обманчива, по ней нельзя было догадаться, что это храбрый, хитрый, безнравственный, очень умный и верный человек.
Трое Декумиев обрадовались, когда вошел Цезарь, но поднялся только один Луций Декумий. Пробираясь между столами и скамейками, он приблизился к Цезарю, поднялся на цыпочки и поцеловал молодого человека в губы с большим чувством, чем целовал сыновей. Это был отцовский поцелуй, хотя втайне он предназначался кому-то другому.
– Мальчик мой! – радостно воскликнул он, взяв Цезаря за руку.
– Здравствуй, отец, – с улыбкой ответил тот, поднял руку Луция Декумия и приложил его ладонь к своей холодной щеке.
– Посещал дом умершего? – спросил Луций Декумий, показывая на жреческое одеяние Цезаря. – Не хотелось бы умереть в такое ненастье! Выпьешь вина, чтобы согреться?
Цезарь поморщился. Ему не нравилось вино, как ни старался Луций Декумий со своими подручными приучить его.
– Времени нет, отец. Я здесь, чтобы взять у тебя пару братьев. Мне нужно проводить мать и сестер в дом Гая Мария, а она, конечно, мне этого доверить не может.
– Умная женщина твоя мать, – с озорным блеском в глазах сказал Луций Декумий. Он кивнул своим сыновьям, которые сразу поднялись и подошли к нему. – Одевайтесь, ребята! Мы будем сопровождать дам в дом Гая Мария.
– Не ходи, отец, – сказал Цезарь. – Останься, на улице холодно.
Но это не устраивало Луция Декумия, который позволил сыновьям одеть его, как заботливая мать облачает своего отпрыска, идущего гулять.
– Где этот неотесанный болван Бургунд? – спросил Луций Декумий, когда они вышли на улицу, в снежную метель.
Цезарь хмыкнул:
– В данный момент он нам не помощник! Мать отправила его в Бовиллы с Кардиксой, которая, может, и поздно начала рожать детей, но с тех пор, как впервые увидела Бургунда, каждый год производит на свет по гиганту. Это будет уже четвертый, как тебе известно.
– Когда ты сделаешься консулом, недостатка в телохранителях у тебя не будет.
Цезарь вздрогнул, но не от холода.
– Я никогда не буду консулом, – резко ответил он, затем пожал плечами и постарался быть вежливым. – Моя мать говорит, это как кормить целое племя титанов. О боги, они не дураки пожрать!
– Однако хорошие ребята.
– Да, хорошие, – согласился Цезарь.
К этому времени они уже подошли к входной двери квартиры Аврелии и позвали женщин. Другие аристократки предпочли бы ехать в паланкинах, особенно в такую погоду, но только не женщины Юлиев. Они пошли пешком. Путь их по Большой Субуре облегчали сыновья Декумия, которые шагали впереди и прокладывали в снегу дорогу.
Римский форум стоял пустынный и выглядел странно – с занесенными снегом цветными колоннами, стенами, крышами и статуями. Все было мраморно-белым и казалось погруженным в глубокий сон без сновидений. И у внушительной статуи Гая Мария возле ростры лежал на густых бровях снег, смягчая жесткий взгляд.
Они поднялись по спуску Банкиров, прошли через широкие Фонтинальские ворота и приблизились к дому Гая Мария. Так как сад перистиля был расположен за домом, они очутились прямо в вестибюле и там сняли верхние одежды (все, кроме Цезаря, обреченного носить свои регалии). Управляющий Строфант увел Луция Декумия и его сыновей, чтобы угостить их отличной едой и вином, а Цезарь и женщины вошли в атрий.
Если бы погода не была так необычно сурова, они могли бы остаться там, поскольку обеденное время давно миновало. Но открытый комплювий в крыше действовал как вихревое устройство, и бассейн внизу представлял собой мерцающую массу быстро таявших снежинок.
Марий-младший поспешно вышел к гостям, чтобы приветствовать их и проводить в столовую, где было гораздо теплее. Он выглядел, как заметил Цезарь, счастливым, и это красило его. Такой же высокий, как Цезарь, Марий был более крупного телосложения, светловолосый, сероглазый, внушительный, внешне значительно более привлекательный, чем его отец. Но в нем отсутствовало что-то крайне важное, нечто такое, что сделало Гая Мария одним из римских бессмертных героев. Сменится немало поколений, подумал Цезарь, прежде чем школьники перестанут затверживать подвиги Гая Мария. Не такой будет участь его сына, Мария-младшего.
Цезарь не любил посещать этот дом. Слишком много произошло с ним здесь. Пока другие мальчики его возраста беззаботно играли на Марсовом поле, от него требовали, чтобы он ежедневно служил нянькой-компаньоном для стареющего и мстительного Гая Мария. И хотя он, как полагалось фламину Юпитера, после смерти Гая Мария тщательно омел священной метлой помещение, злобное присутствие страшного старика все еще чувствовалось. А может быть, так казалось только Цезарю. Когда-то он восхищался Гаем Марием и любил его. Но потом Гай Марий сделал его жрецом и этим перечеркнул всю грядущую карьеру Цезаря. Никогда юноша Цезарь не сможет соперничать с Гаем Марием в глазах потомков. Ни железа, ни оружия, ни картин смерти – никакой военной карьеры для фламина Юпитера! Членство в сенате без права баллотироваться в магистраты – никакой политической карьеры для фламина Юпитера! Судьба Цезаря определена: ему будут оказывать почести, положенные по сану, но никогда не позволят по-настоящему заслужить людское уважение. Фламин Юпитера – существо, принадлежащее государству. Он должен жить в государственном доме, ему платит государство, его кормит государство, он – узник mos maiorum, установившихся обычаев и традиций.
Но неприятное чувство, конечно, сразу же исчезло, как только Цезарь увидел свою тетю Юлию. Сестру его отца, вдову Гая Мария. И – человека, которого Цезарь любил больше всех на свете. Да, он любил Юлию больше своей матери Аврелии, если говорить об эмоциональной составляющей любви. Мать неразрывно связана с интеллектуальной стороной его жизни, потому что Аврелия – соперник, сторонник, критик, компаньон, равная. А тетя Юлия обнимала его и целовала в губы, глядя на него сияющими серыми глазами, в которых не было и тени осуждения. Жизнь для Цезаря представлялась немыслимой без одной из этих женщин.
Юлия и Аврелия уселись рядышком на одном ложе, чувствуя себя неловко, потому что они были женщинами, а женщинам не полагалось возлежать на ложе. Они должны были сидеть выпрямив спину на высоких стульях, чтобы ноги не доставали до пола.
– Не можешь ли ты дать женщинам стулья? – спросил Цезарь Мария-младшего, подкладывая валики под спины матери и тети.
– Спасибо, племянник, но теперь нам вполне удобно, – сказала Юлия, как всегда старавшаяся всех примирить. – Не думаю, что в доме хватит стульев для всех, ведь это совещание женщин.
Истинная правда, с сожалением подумал Цезарь. Мужская половина семьи была представлена только двумя членами: Марием-младшим и Цезарем. И оба – лишь сыновья умерших отцов.
Женщин больше. Если бы Рим мог видеть Юлию и Аврелию, сидящих рядом, он был бы очарован их красотой. Обе – высокого роста, стройные. Юлия унаследовала врожденную грацию Цезарей, а у Аврелии движения были резкими, ничего лишнего, все по-деловому. У Юлии – слегка вьющиеся светлые волосы, большие серые глаза. Она могла бы служить моделью для статуи Клелии, что стоит в верхней части Римского форума. У Аврелии – блестящие каштановые волосы. В молодые годы Аврелию сравнивали с Еленой Троянской: темные брови и ресницы, глубоко посаженные глаза. Многие мужчины, претендовавшие на ее руку, находили, что глаза у нее фиалковые, а профиль – греческой богини.
Юлии теперь было сорок пять лет. Аврелии – сорок. Обе стали вдовами при печальных, но очень разных обстоятельствах.
Гай Марий скончался от третьего, самого сильного удара. Однако он умер только после настоящей кровавой оргии, которой никто не в силах забыть. Все враги Мария умерли, равно как погибли и некоторые его друзья. Ростра была утыкана копьями с головами, словно подушка булавками. С этим горем Юлия и жила.
Муж Аврелии, после смерти Мария лояльный к Цинне – как полагалось человеку, чей сын женат на младшей дочери Цинны, – уехал в Этрурию вербовать солдат. Однажды летним утром в Пизе он наклонился, чтобы завязать ремень на сандалии, и умер от кровоизлияния в мозг – так было написано в свидетельстве о смерти. Он был сожжен на погребальном костре в отсутствие родных. Прах его доставили жене, которая, принимая от посланца Цинны урну, еще не знала о смерти мужа. Что чувствовала в тот момент Аврелия, о чем думала, осталось тайной. Даже для ее сына, который стал главой семьи за месяц до своего пятнадцатого дня рождения. Никто не видел слезинки в ее глазах, и взгляд ее не изменился. Ибо она оставалась все той же Аврелией, сдержанной и закрытой, явно более расположенной к обязанностям хозяйки инсулы, чем к любому человеческому существу. Кроме, конечно, сына.
У Мария-младшего не было сестер, а у Цезаря имелись две старшие. Обе они были похожи на свою тетю Юлию. Цезарь унаследовал внешность от матери, а в сестрах ничего от Аврелии не было.
Юлии-старшей, которую все звали Лия, исполнился двадцать один год, и выражение ее лица свидетельствовало о том, что она измучена заботами. И не без причины. Своего первого мужа, нищего патриция по имени Луций Пинарий, она любила всем сердцем, поэтому, хотя и неохотно, ей разрешили выйти за него замуж. Меньше чем через год она родила ему сына, а вскоре после этого счастливого события (что, вопреки надеждам, благотворно не отразилось ни на поведении, ни на нраве ее мужа) Луций Пинарий умер при таинственных обстоятельствах. Высказывались мнения о возможном убийстве, но доказательств не нашлось. Так Лия в возрасте девятнадцати лет оказалась вдовой в столь плачевном положении, что вынуждена была возвратиться в дом матери. Но за период между ее кратким браком и вдовством глава семьи, paterfamilias, поменялся, и Лия обнаружила, что младший брат оказался далеко не таким мягкосердечным и уступчивым, как отец. Цезарь объявил, что она должна снова выйти замуж, причем за человека, которого он выберет для нее сам.
– Для меня очевидно, – ровным голосом сказал он, – что, если предоставить тебе право выбора, ты опять выберешь идиота.
Как и где Цезарь нашел Квинта Педия, никто не знал (хотя некоторые подозревали, что помог Луций Декумий, который хоть и был бедным маленьким человеком четвертого класса, но имел замечательные связи). Однажды Цезарь явился в дом с Квинтом Педием и обручил свою старшую овдовевшую сестру с этим флегматичным, добропорядочным всадником из Кампании. Квинт Педий принадлежал к хорошему, но незнатному роду. Он не был красивым и не любил рисоваться. Ему было сорок. Он обладал колоссальным богатством и выказывал трогательную благодарность за возможность жениться на изящной молодой женщине самого знатного патрицианского рода. Лия сдержала первые эмоции, посмотрела на своего пятнадцатилетнего брата и милостиво дала согласие. Даже в столь юном возрасте Цезарь умел взглянуть на человека так, что убивал любой протест в зародыше.
К счастью, второй брак Лии оказался удачным. Луций Пинарий мог быть и красивым, и блестящим, и молодым, но в качестве мужа – разочаровывал. Теперь Лия обнаружила немало преимуществ в том, чтобы быть любимой мужчиной вдвое старше себя. Со временем ей очень понравился ее скучный второй муж. Она родила ему сына и была так довольна жизнью в роскоши поместий неподалеку от Теана в Северной Кампании, что, когда Сципион Азиаген, а затем Сулла устроили по соседству лагеря, наотрез отказалась ехать в дом матери. Лия знала, что мать примется решать, чем ей заниматься и что есть, воспитывать ее сыновей и устраивать все согласно своим жестким представлениям о «правильном». Конечно, Аврелия объявилась сама (кажется, после неожиданной встречи с Суллой – встречи, о которой она лишь упомянула), и Лия вынуждена была быстро собраться и уехать в Рим. Увы, без сыновей. Квинт Педий предпочел остаться с ними в Теане.
Юлия-младшая, которую все звали Ю-ю, только что вышла замуж, едва ей исполнилось восемнадцать лет. У нее не было ни единого шанса выбрать для себя кого-то неподходящего! Этот выбор осуществил Цезарь, хотя Ю-ю и восставала против его своевольства. Она чувствовала в себе силы выдержать все. Но, конечно, брат победил. Домой молодой Цезарь привел еще одного колоссально богатого претендента на руку сестры, на сей раз из старинного сенаторского рода, – заднескамеечника, смирившегося с тем, что в сенате застрял в задних рядах. Он был родом из Ариции, что по Аппиевой дороге, немного дальше земель Цезарей в Бовиллах, и это обстоятельство делало его латинянином, что давало ему некоторые преимущества перед простыми кампанцами. Посмотрев на Марка Атия Бальба, Ю-ю вышла за него без возражений. По сравнению с Квинтом Педием он был вполне сносен, ему исполнилось только тридцать семь, и он еще не утратил привлекательности.
Итак, Марк Атий Бальб был сенатором. У него имелся дом в Риме и огромные поместья в Ариции, так что Ю-ю могла поздравить себя еще с одним преимуществом перед старшей сестрой. Она, по крайней мере, жила в Риме более-менее постоянно! В тот вечер, когда вся семья собралась в доме Гая Мария, Ю-ю была беременна, и ей тяжело было ходить. Но беременность дочери не смягчила Аврелию, которая велела ей явиться.
– Беременные женщины не должны себя баловать, – сказала Аврелия. – Поэтому многие и умирают при родах.
– А мне помнится, ты говорила, что они умирают потому, что ничего не ели, кроме бобов, – возразила Ю-ю, с тоской глядя на носилки, в которых она проделала путь от дома ее мужа в Каринах до дома матери в Субуре.
– И это тоже. Пифагорейские врачи – опасные люди.
Присутствовала еще одна женщина, хотя она не приходилась никому кровной родней. Это была Муция Терция, жена Мария-младшего. Единственная дочь Сцеволы, великого понтифика. Ее именовали Муцией Терцией, чтобы отличать от ее знаменитых кузин, дочерей Сцеволы Авгура.
Не будучи красавицей в классическом понимании этого слова, Муция Терция многих мужчин лишала сна. Ее зеленые глаза были расставлены необычно широко, густые черные ресницы, более длинные у внешних уголков глаз, подчеркивали это расстояние. Муция Терция никому не рассказывала, что намеренно подрезала ресницы во внутренних уголках миниатюрными ножницами из слоновой кости, привезенными из Египта. Эта женщина хорошо знала природу своей необычной привлекательности. Даже длинный прямой нос не стал недостатком. Пусть борцы за чистоту римской породы и считают, что нос должен слегка утолщаться книзу либо обладать горбинкой. Форма ее большого рта тоже далека от римского идеала. Когда Муция Терция улыбалась, казалось, у нее во рту не меньше сотни зубов. Но губы были полными и чувственными, а бархатистая кремовая кожа хорошо сочеталась с темно-рыжими волосами.
Цезарь нашел ее соблазнительной. В семнадцать с половиной лет у него уже имелся весьма богатый опыт. Каждая женщина в Субуре была не прочь помочь такому милому юноше развить свои эротические способности. И мало кого останавливало то обстоятельство, что Цезарь требовал от своих партнерш прежде всего тщательно вымыться. Очень быстро разнесся слух о том, что молодой Цезарь наделен могучим орудием и знает, как им пользоваться.
Муция Терция заинтересовала Цезаря прежде всего своей загадочностью. Как он ни пытался, он не мог ее понять. Она легко улыбалась, демонстрируя сотню идеальных зубов, но необычные глаза ее оставались при этом серьезными. И никогда ни жестом, ни выражением лица она не выдавала своих мыслей.
Брак ее с молодым Марием длился уже четыре года, и между супругами царило полнейшее безразличие. Они вежливо поддерживали ничего не значащую беседу. Никогда не обменивались понимающими взглядами, как любящие супруги. Им не хотелось протянуть руку, чтобы дотронуться до любимого человека, даже если рядом нет никого из посторонних. У них не рождалось детей. Если их союз действительно лишен всякого чувства, то уж Марий-младший от этого не страдал. Его похождения были общеизвестны. Но что же Муция Терция? Ни слова не слышно было о ее нескромности, не говоря уж о неверности! Была ли счастлива Муция Терция? Любила ли она Мария-младшего? Или ненавидела его? Невозможно сказать. И все же… и все же инстинкт Цезаря подсказывал ему, что она крайне несчастна.
Родственники наконец расселись, и все взоры устремились к Марию-младшему, который предпочел, из духа противоречия, занять стул. Не желая уступать, Цезарь тоже уселся на стул, но подальше от того места, где устроился Марий-младший в углублении, образованном тремя обеденными ложами, стоявшими в форме буквы U. Он примостился за плечом своей матери, откуда не мог видеть лиц своих самых любимых женщин. Для него было значительно важнее смотреть на Мария-младшего, Муцию Терцию и управляющего Строфанта, которого пригласили присутствовать при совете и который замер у порога, отказавшись от предложения Мария-младшего сесть.
Облизав губы (необычный признак нервозности!), Марий-младший заговорил:
– Сегодня днем меня посетили Гней Папирий Карбон и Марк Юний Брут.
– Странная пара, – заметил Цезарь.
Он не хотел, чтобы его двоюродный брат получил возможность говорить свободно, никем не прерываемый. Он желал заставить Мария-младшего немного понервничать.
Марий-младший сердито взглянул на него. Но недостаточно сердито, чтобы сбиться с мысли, ведь он только начал. Цезарь понял, что уловка не удалась. Марий-младший продолжил:
– Они пришли просить меня выдвинуть свою кандидатуру на должность консула в паре с Гнеем Карбоном. И я согласился.
Все задвигались. Цезарь увидел удивление на лицах своих сестер, спина его тети внезапно выпрямилась, странное, необъяснимое выражение мелькнуло в удивительных глазах Муции Терции.
– Сын мой, ведь ты даже не член сената, – сказала Юлия.
– Завтра я буду сенатором, Перперна внесет меня в списки.
– Ты не был квестором, не говоря уже о преторской должности.
– Сенат откажется от обычных требований.
– У тебя нет ни опыта, ни знаний, – настаивала Юлия с отчаянием в голосе.
– Мой отец был консулом семь раз. Я вырос в окружении консулов. Кроме того, Карбону опыта не занимать.
– Но зачем здесь мы? – спросила Аврелия.
Марий-младший серьезно и умоляюще посмотрел сначала на мать, потом на тетку.
– Конечно, для того, чтобы обсудить этот вопрос, – беспомощно произнес он.
– Ерунда! – резко возразила Аврелия. – Ты не только сам принял решение, но уже сообщил Карбону, что будешь участвовать в выборах. Мне кажется, ты вытащил нас из теплого дома только для того, чтобы сообщить новость, которую городские слухи донесут до нас уже завтра утром.
– Это не так, тетя Аврелия!
– Конечно так! – отрезала Аврелия.
Залившись краской, Марий-младший повернулся к матери и протянул к ней руку, как бы прося поддержать его.
– Мама, это не так! Да, я сказал Карбону, что выдвину свою кандидатуру. Но все равно я хотел выслушать, что скажет моя семья, правда! Я могу передумать!
– Ха! Ты не передумаешь, – фыркнула Аврелия.
Пальцы Юлии сжали запястье Аврелии.
– Успокойся, Аврелия. Я не хочу, чтобы мы ссорились.
– Ты права, тетя Юлия. Ссоры нам не нужны, – согласился Цезарь, вставая между матерью и тетей, и с этого нового места пристально посмотрел на двоюродного брата. – Почему ты сказал «да» Карбону? – спросил он.
Вопрос, который ни на секунду не обманул Мария-младшего.
– О, Цезарь, думай обо мне немного лучше! – презрительно сказал он. – Я сказал «да» по той же причине, по которой и ты сказал бы «да», если бы на тебе не было laena и жреческого шлема.
– Я понимаю, почему ты думаешь, что я согласился бы. Но я бы этого не сделал. Все в свое время.
– Это противозаконно, – неожиданно подала голос Муция Терция.
– Нет, – возразил Цезарь, прежде чем Марий-младший мог отреагировать. – Это против установившейся традиции и даже против lex Villia annalis, но не противозаконно. Такое решение могло бы стать незаконным на государственном уровне, если бы твой муж занял это положение против воли сенаторов и народа. Однако сенат и народ Рима всегда могут аннулировать lex Villia. А именно это и произойдет. Сенат и народ Рима обеспечат необходимую законность подобных выборов. А это означает, что единственный человек, который объявит консульство Мария незаконным, будет Сулла.
Наступила тишина.
– Вот что хуже всего, – сказала Юлия дрогнувшим голосом. – Ты выступишь против Суллы.
– Я все равно был бы противником Суллы, мама, – сказал Марий-младший.
– Но не как официально введенный в должность представитель сената и народа. Быть консулом – значит принять на себя максимальную ответственность. Ты возглавишь и поведешь за собой армии Рима. – Слеза скатилась по щеке Юлии. – Ты окажешься в центре пристального внимания Суллы, а он самый страшный человек на свете! Я знаю его не так хорошо, как твоя тетя Аврелия, Гай, но – достаточно хорошо. Мне он даже нравился в те дни, когда помогал твоему отцу, а он действительно помогал ему. Бывало, он сглаживал те маленькие неловкости, которые всегда возникали у твоего отца. Сулла – более терпеливый и проницательный человек, чем твой отец. И в каком-то смысле он человек чести. Но твой отец и Луций Корнелий имели одно важное общее качество: когда все рушилось, от законности до народной поддержки, они были способны пойти на все, чтобы достигнуть своей цели. Вот почему оба они в прошлом двинули армии на Рим. И вот почему Луций Корнелий снова пойдет на Рим, если Рим выберет тебя консулом. Сам Рим намерен драться с ним до конца, мирного решения проблемы не будет. – Она вздохнула. – Из-за Суллы я хочу, чтобы ты передумал, дорогой Гай. Будь ты старше и опытнее, ты еще мог бы выиграть. Но ты не такой. Ты не можешь победить Суллу. И я потеряю своего единственного ребенка.
Это была мольба любящего стареющего человека. А Марию-младшему не дано было понять ни того ни другого. Он выслушал прочувствованную речь матери с застывшим лицом. Губы его раскрылись, как будто он хотел что-то сказать.
– А ты, мама, – опять вмешался Цезарь, – как говорит тетя Юлия, ты знаешь Суллу лучше, чем кто-либо из нас. Что ты думаешь по этому поводу?
Взволнованная Аврелия вовсе не собиралась в подробностях рассказывать о своей последней ужасной, трагической встрече с Суллой в его лагере.
– Правда, я хорошо знаю Суллу. Как вам известно, я виделась с ним совсем недавно. Когда-то я была последним человеком, которого он навещал перед очередным отъездом из Рима, и первым человеком, к которому он заглядывал по возвращении. А между его отъездами и приездами я почти ничего о нем не слышала. Это типично для Суллы. В душе он – актер. Он не может жить без драмы. Он умеет драматизировать даже самую безобидную ситуацию. Вот почему он посещал меня в моменты, которые считал переломными. Это придавало нашим встречам яркость и значимость. Вместо простого визита к родственнице, с которой можно поболтать о всякой ерунде, каждый визит становился или прощанием, или встречей. Это было как некое знамение.
Цезарь улыбнулся ей.
– Ты не ответила на мой вопрос, мама, – мягко напомнил он.
– Да, не ответила, – отозвалась эта необыкновенная женщина без всякого смущения или чувства вины. – Сейчас отвечу.
Она в упор посмотрела на Мария-младшего:
– Вот что тебе следует знать. Если ты встретишься с Суллой как официально избранный представитель сената и народа Рима, то есть как консул, он сделает знамение из тебя. Твой возраст и имя твоего отца Сулла использует для того, чтобы придать своей борьбе за власть в Риме особенную драматичность. И все это будет малым утешением для твоей матери, племянник. Ради нее откажись от своей затеи! Встречайся с Суллой лицом к лицу на поле сражения как простой военный трибун.
– А ты что скажешь? – осведомился у Цезаря Марий-младший.
– Я говорю – поступай как хочешь, кузен. Сделайся консулом раньше срока.
– Лия?
Она встревоженно взглянула на тетю Юлию и сказала:
– Пожалуйста, брат, не делай этого!
– Ю-ю?
– Я согласна с сестрой.
– Жена?
– Ты должен следовать своей судьбе.
– Строфант?
– Господин, не делай этого, – вздохнул старик-управляющий.
Кивая, отчего его торс слегка покачивался, Марий-младший опустился на стул, положив руку на его высокую спинку. Сложил губы трубочкой, выдохнул через нос.
– Что ж, в любом случае ничего удивительного, – вымолвил он. – Мои родственницы и управляющий хором призывают меня не выскакивать раньше срока и не подвергать свою жизнь опасности. Вероятно, тетя пытается сказать, что я подвергаю опасности также мою репутацию. Жена моя все отдает в руки Фортуны – пусть Фортуна покажет, стал ли я ее любимцем. А мой двоюродный брат говорит, что я должен попытаться.
Марий встал и принял внушительную позу:
– Я не возьму назад слово, данное Гнею Папирию Карбону и Марку Юнию Бруту. Если Марк Перперна внесет меня в списки сенаторов, а сенат утвердит это, я внесу свою кандидатуру в списки кандидатов на должность консула.
– Ты так и не сказал нам, почему это делаешь, – напомнила Аврелия.
– Я думал, это очевидно. Рим в безвыходном положении. Карбон не может найти подходящего второго консула. И к кому он обратился? К сыну Гая Мария! Рим любит меня! Рим нуждается во мне! Вот почему, – объяснил молодой человек.
Только у самого старого и самого преданного из присутствующих нашлось мужество сказать правду. И управляющий Строфант высказался не только за потрясенную мать молодого Гая Мария, но и за его давно умершего отца:
– Это твоего отца любит Рим, domine. Рим обращается к тебе из-за твоего отца. О тебе Рим не знает ничего, кроме одного: ты – сын человека, который спас его от германцев, который одержал первые победы в войне против италиков, который становился консулом семь раз. Если ты сделаешься консулом, то лишь потому, что ты – сын своего отца, а не потому, что ты – это ты.
Марий-младший любил Строфанта, и управляющий хорошо знал об этом. Несмотря на подтекст, Марий-младший выслушал его спокойно. Он только крепко стиснул губы. Когда Строфант замолчал, сын Гая Мария просто сказал:
– Знаю. И я должен показать Риму, что Марий-младший равен своему любимому отцу.
Цезарь опустил голову, глядя в пол, и промолчал. «Почему, – задавал он себе вопрос, – почему этот сумасшедший старик не отдал кому-нибудь другому накидку и шлем главного жреца Юпитера, flamen Dialis? Я мог бы справиться. Я бы справился. Но Марий-младший – никогда».
Итак, к концу декабря выборщики в своих центуриях встретились на Марсовом поле, в месте, прозванном септой, или овчарней, и проголосовали за Мария-младшего как за первого консула. Гнея Папирия Карбона они выбрали вторым консулом. Сам факт, что Марий-младший стал старшим консулом, свидетельствовал об отчаянии Рима, его страхе и сомнениях. Однако многие голосовавшие искренне верили: что-то от Гая Мария не могло не передаться его сыну. Под командованием Мария-младшего вполне можно победить даже Суллу.
В одном отношении результаты выборов имели положительные последствия: вербовка, особенно в Этрурии и Умбрии, ускорилась. Сыновья и внуки клиентов Гая Мария толпами шли записываться в легионы его сына. Они приходили с легким сердцем, окрыленные верой. И когда Марий-младший посетил огромные поместья своего отца, его встречали как обожаемого спасителя и устраивали праздники в его честь.
Стоило римлянам увидеть новых консулов в первый день января, всех охватило праздничное настроение. И они не были разочарованы: Марий-младший во время церемоний выглядел откровенно счастливым, что тронуло сердца всех присутствующих. Он смотрел величественно, он улыбался, он махал рукой, он громко приветствовал знакомых в толпе. И поскольку все знали, где стояла его мать (возле ростры, у подножия суровой статуи своего покойного мужа), все видели также, как новый старший консул покинул свое место в процессии, чтобы поцеловать ее руки и губы. И вскинуть кулак, отдавая честь великому отцу.
«Вероятно, – не без цинизма подумал Карбон, – народ Рима хочет, чтобы в этот критический момент молодость взяла власть в свои руки». Конечно, много лет прошло с тех пор, как толпа громко приветствовала его, Карбона, в первый день его консульства. Впрочем, сегодня она тоже приветствовала его. «О боги, – подумал Карбон, – надеюсь, Рим не пожалеет об этой сделке!» Ибо Марий-младший вел себя бесцеремонно. Казалось, он принял все происходящее за нечто само собой разумеющееся. Как будто почести так и должны падать ему в руки, словно манна с небес. Можно подумать, ему не предстоит хорошенько потрудиться. Можно подумать, все будущие сражения уже благополучно выиграны.
Знамения были не очень благоприятными, хотя ничего страшного новые консулы не увидели в ночь бдения на Капитолийском холме. Плохим знаком можно было счесть утрату, которая бросалась в глаза каждому. Там, где в течение пятисот лет на самом верху Капитолийского холма стоял огромный храм Юпитера Всеблагого Всесильного, теперь чернели развалины. В шестой день квинтилия прошлого года в доме Великого Бога возник пожар. Он бушевал семь дней. Не уцелело ничего. Ничего. Потому что в этом древнем храме каменным был только фундамент. Массивные цилиндрические секции его простых дорических колонн были деревянные, равно как и стены, и балки, и внутренняя обшивка. Лишь огромный размер и массивность, редкая и дорогостоящая покраска, великолепные настенные росписи и обильная позолота делали его надлежащим жилищем для Юпитера Всеблагого Всесильного, который обитал только в этом месте; идея, что верховный бог Юпитер восседает на вершине самой высокой горы – подобно греческому Зевсу, – была неприемлема для римлянина или италика.
Когда пепел остыл достаточно, чтобы жрецы смогли осмотреть место, всех охватило отчаяние. От гигантской терракотовой статуи бога, сделанной этрусским скульптором Вулкой еще в те времена, когда царем Рима был Тарквиний Древний, не осталось и следа. Статуи богинь из слоновой кости – супруги Юпитера Юноны и его дочери Минервы – тоже исчезли. И незаконно находившиеся там мрачные статуи Термина, римского бога границ и межей, и Ювенты, богини юности, которые отказались покинуть Капитолий, когда царь Тарквиний начал возводить храм Юпитера Всеблагого Всесильного, – все они погибли. Сгинули в пламени бесценные восковые дощечки с записанными на них древними, исконными законами, а также Книги Сивиллы и много других пророческих писаний, к которым Рим обращался за помощью и руководством в тяжелые времена. Бесчисленные сокровища, изготовленные из золота и серебра, расплавились. Погибла даже статуя Победы из цельного золота, подаренная Гиероном Сиракузским после сражения у Тразименского озера, и другая массивная статуя Победы, из позолоченной бронзы в колеснице, запряженной парой коней. Бесформенные комки сплавов, найденные среди развалин, были собраны и отданы кузнецам для переплавки и очистки. Но слитки, которые выплавили кузнецы (и которые отправились в казну, расположенную под храмом Сатурна, до того времени, когда их снова отдадут художникам), не могли заменить бессмертные работы первых скульпторов – греческого ваятеля Праксителя, скульптора и литейщика Мирона, Стронгилиона, Поликлета, Скопаса и Лисиппа. Искусство и история исчезли в пламени вместе с земным домом Юпитера Всеблагого Всесильного.
Соседние храмы тоже подверглись разрушительному действию огня, особенно храм Опы, богини плодородия и урожая, таинственной хранительницы благосостояния Рима, не имеющей обличья. Храм надлежало восстановить и повторно освятить – настолько он обгорел. Храм Фидес тоже сильно пострадал. Жар от близкого огня обуглил все договоры, записанные на его внутренних стенах, а также матерчатую повязку на правой руке статуи, которую считали – только считали! – воплощением Фидес. Другое затронутое пожаром здание было новым, из мрамора, и поэтому предстояло лишь заново покрасить его. Это был храм Чести и Доблести, воздвигнутый Гаем Марием. Туда он поместил свои военные трофеи, награды и подношения Риму. Каждого римлянина тревожил сокровенный для Рима смысл нанесенного ущерба. Юпитер Всеблагой являлся божественным правителем Рима; Опа представляла собой воплощение общественного благополучия; Фидес – дух верности; а Честь и Доблесть – две главные черты воинской славы Рима. Таким образом, всякий римлянин спрашивал себя: был ли пожар знаком того, что дни величия Рима сочтены? Был ли пожар знаком того, что с Римом покончено?
И так получилось, что в первый день этого года консулы впервые вступили в должность не под кровом Юпитера Всеблагого и Всесильного. Временный алтарь был возведен под навесом у подножия почерневшего каменного подиума, на котором раньше высился храм. Здесь новые консулы принесли жертвы и дали положенные клятвы.
Светлые волосы спрятаны под плотно облегающим голову шлемом из слоновой кости, тело скрыто удушающими складками церемониальных одежд – Цезарь, фламин Юпитера, присутствовал при ритуале как должностное лицо, хотя в этой церемонии ему ничего не нужно было делать. Церемонию проводил главный жрец Республики, великий понтифик Квинт Луций Сцевола, тесть Мария-младшего.
Цезарь испытывал двойственное чувство: разрушение большого храма сделало жреца Юпитера в религиозном отношении бездомным – это было нестерпимо, и столь же удручающей казалась мысль, что сам он никогда не будет стоять здесь в тоге с пурпурной полосой, готовясь стать консулом. Но он был научен терпеть и во время ритуала заставлял себя держаться прямо, с каменным лицом.
Заседание сената и последующий пир были перенесены в курию Гостилия, здание сената. Хотя по возрасту Цезарю было запрещено находиться в курии, но, как фламин Юпитера, он автоматически превратился в члена сената, поэтому никто не пытался остановить его, и он присутствовал также на короткой официальной церемонии, которую Марий, новоиспеченный старший консул, провел вполне достойно. Наместники на следующие двенадцать месяцев были избраны по жребию из нынешних преторов и обоих консулов; назначена дата праздника Юпитера Латиария на горе Альбан, а также даты других переходящих общественных и религиозных праздников.
Поскольку фламин Юпитера не многое мог вкушать из обильного и дорогого угощения, предложенного после заседания, Цезарь нашел неприметное место и стал слушать разговоры проходящих мимо людей, пока те искали подходящее обеденное ложе. Место должно было соответствовать рангу магистратов, жрецов, авгуров. Но большинство сенаторов имели право свободно разместиться среди своих друзей и наслаждаться яствами, которые были оплачены из бездонного кошелька Мария-младшего.
Народу собралось не очень много, не больше сотни, потому что немалое число сенаторов переметнулось к Сулле, а из присутствующих на инаугурации далеко не все являлись сторонниками консулов и были причастны к их планам. Например, Квинт Лутаций Катул вовсе не был приверженцем Карбона. Его отец Катул Цезарь погиб во время кровавой бойни, устроенной Марием. Сын Катула Цезаря – плоть от плоти своего отца, хотя не так одарен и образован. Это, отметил Цезарь, потому, что кровь Юлиев со стороны его отца разбавлена материнской кровью Домициев, из семьи Домициев Агенобарбов – знаменитого рода, чьи представители никогда не блистали умом. Цезарю, обращавшему внимание на внешность, Катул не нравился. Он был хилый, маленького роста, у него, как у его матери Домиции, были рыжие волосы и веснушки. Он женился на сестре человека, сидевшего рядом с ним на одном ложе, Квинта Гортензия, а Квинт Гортензий (еще один оставшийся в Риме сенатор, объявивший о своем нейтралитете) был супругом сестры Катула, Лутации. В возрасте тридцати с небольшим Квинт Гортензий стал знаменитым адвокатом при правлении Цинны и Карбона. Некоторые считали его лучшим юристом Рима. Он выглядел симпатичным, правда чувственная нижняя губа выдавала некоторую испорченность, а выражение глаз, устремленных на Цезаря, – склонность к красивым мальчикам. Знающий толк в подобных взглядах, Цезарь в корне пресек любые идеи, какие могли возникнуть у Гортензия, смешно втянув губы и скосив глаза. Гортензий покраснел, сразу отвернулся и уставился на Катула.
В этот момент вошел слуга и прошептал Цезарю, что его кузен просит его занять место в дальнем конце комнаты. Поднявшись с нижней ступени, где он удобно устроился, наблюдая за людьми, Цезарь прошлепал в своих деревянных сандалиях без задников туда, где возлежали Марий-младший и Карбон. Он поцеловал кузена в щеку и устроился на краю курульного подиума позади ложа.
– Ничего не ешь? – спросил Марий-младший.
– Здесь почти нет ничего из того, что мне дозволено.
– Ах да, я забыл, – невнятно проговорил Марий-младший с набитым ртом. Он показал на огромное блюдо перед своим ложем. – Но тебе же не запрещается есть рыбу.
Цезарь равнодушно оглядел наполовину объеденный скелет. Это был тибрский окунь.
– Спасибо, – поблагодарил он, – но я никогда не находил удовольствия в поедании дерьма.
Его слова заставили Мария-младшего захихикать, но не испортили аппетит. Тибрская рыба питалась экскрементами, вытекающими из сточных канав Рима. Карбон, как с удовольствием заметил Цезарь, был не так толстокож, ибо его рука, протянутая, чтобы оторвать кусок рыбы, вдруг вместо этого схватила жареного цыпленка.
Рядом с консулом Цезарь был более заметен, но это давало и некоторое преимущество. Он мог видеть больше лиц. Пока он обменивался шутливыми замечаниями с Марием-младшим, его глаза скользили от одного лица к другому. Может, Рим и доволен выбором двадцатишестилетнего первого консула, думал он, но некоторые из присутствующих на пиру придерживаются совсем другого мнения. Особенно приверженцы Карбона – Брут Дамасипп, Каррина, Марк Фанний, Цензорин, Публий Бурриен, Публий Альбинован из Лукании… Конечно, некоторые даже очень обрадовались – Марк Марий Гратидиан и Сцевола, великий понтифик. Но они оба были свойственниками Мария-младшего и, так сказать, имели свой интерес в том, чтобы новый старший консул справился со своими обязанностями.
За спиной Карбона появился Марк Юний Брут. Цезарь заметил, что его встретили с подчеркнутым энтузиазмом, – обычно Карбон не снисходил до восторженных приветствий. Видя это, Марий-младший отправился искать более веселую компанию, уступив Бруту свое место. Проходя мимо Цезаря, Брут кивнул ему, не выказав никакого интереса. Именно в этом заключалось главное преимущество жреческой должности. Фламин Юпитера никого не интересовал, поскольку не имел никакого политического веса. Карбон и Брут продолжали громко разговаривать.
– Думаю, мы можем поздравить себя с отличным тактическим ходом, – сказал Брут, погружая пальцы в остатки рыбы.
– Хм…
Цыпленок с отвращением был отброшен. Карбон взял хлеб.
– Ну хватит! Ты должен быть доволен.
– Чем? Им? Брут, ведь он пуст, как выеденное яйцо. Я достаточно насмотрелся на него за этот месяц, чтобы знать, что говорю. Уверяю тебя. В январе он может носить фасции, но всю работу придется делать мне.
– Ведь ты и не ожидал, что будет по-другому?
Карбон пожал плечами, отбросил хлеб. После замечания Цезаря о поедании дерьма у него пропал аппетит.
– Не знаю. Может быть, я надеялся, что он немного поумнеет. В конце концов, он сын Мария, а его мать – из Юлиев. Ведь должно же это хоть что-то да значить!
– Ровным счетом ничего.
– Как использованный носовой платок твоей бабушки. Самое большее, что я могу сказать, он – полезный орнамент. Вместе мы неплохо смотримся. К тому же он притягивает рекрутов как магнит.
– Он мог бы хорошо командовать войсками, – заметил Брут, вытирая жирные руки салфеткой, которую подал ему раб.
– Мог бы. Но я думаю, что не сможет. Я намерен последовать твоему совету.
– Какому совету?
– Проследить, чтобы лучших солдат он не получил.
Брут подкинул вверх салфетку, даже не посмотрев, поймал ли ее молчаливый слуга, стоявший около Цезаря.
– Квинта Сертория сегодня здесь нет. Я, вообще-то, надеялся, что он приедет в Рим по такому случаю. В конце концов, Марий-младший – его кузен.
Карбон засмеялся, но как-то невесело:
– Дорогой мой Брут, Серторий нас бросил. Он оставил Синуессу на произвол судьбы, удрал в Теламон, набрал легион этрусских клиентов Гая Мария и отплыл зимой в Тарракон. Другими словами, он стал правителем Ближней Испании раньше срока. Нет сомнения, он надеется, что к тому времени, как окончится его срок, в Италии все решится.
– Он трус! – возмущенно воскликнул Брут.
Карбон издал неприличный звук.
– Только не трус! Я скорее назвал бы его странным. У него нет друзей, ты не заметил? Нет жены. А также нет амбиций Гая Мария, за что мы должны благодарить наши счастливые звезды. Если бы у него были амбиции, он стал бы старшим консулом.
– Жаль, что он оставил нас в трудную минуту. Его присутствие на поле сражения изменило бы ситуацию. Помимо всего прочего, он знает тактику Суллы.
Карбон рыгнул, держась за живот.
– Думаю, мне пора уйти и принять рвотное. Яства на пиру, который закатил этот молокосос, слишком жирны для моего желудка.
Брут помог младшему консулу подняться с ложа и отвел его в отгороженный угол зала позади подиума, где несколько слуг предоставляли горшки и тазы тем, кто в них нуждался.
Бросив вслед Карбону презрительный взгляд, Цезарь решил, что услышал самый важный разговор, который только мог иметь место на этом пиршестве. Он скинул сандалии, подобрал их и тихо удалился.
Луций Декумий, притаившийся у дверей, появился возле Цезаря, едва тот возник на пороге. В руках он держал более практичную одежду – удобные сапоги, плащ с капюшоном, шерстяные штаны. Прочь регалии! За спиной Луция Декумия маячил жуткий персонаж, который принял шлем, накидку и деревянные сандалии и сунул их в кожаный мешок, стянутый ремнем.
– Что, вернулся из Бовилл, Бургунд? – спросил Цезарь, ахнув от холода.
– Да, Цезарь.
– И как дела? У Кардиксы все в порядке?
– У меня еще один сын.
Луций Декумий хихикнул:
– Я говорил тебе! К тому времени, как ты станешь консулом, он снабдит тебя телохранителями!
– Я никогда не буду консулом, – отозвался Цезарь и посмотрел в окутанный тьмой конец Эмилиевой базилики, с трудом сглотнув подступивший к горлу комок.
– Ерунда! Конечно будешь! – сказал Луций Декумий и, протянув свои одетые в рукавицы руки, сжал лицо Цезаря. – А теперь бросай унылую компанию! В мире нет ничего, что остановит тебя, если ты что-то замыслил, слышишь? – Он нетерпеливо накинулся на Бургунда: – Давай, германская глыба! Расчищай дорогу для хозяина!
Зима стояла суровая, и казалось, ей не будет конца. После нескольких лет пребывания Сцеволы великим понтификом сезоны строго соответствовали календарю. Он, как и Метелл Далматик, считал, что даты и времена года должны совпадать, хотя великий понтифик Гней Домиций Агенобарб, который занимал эту должность в период между ними, позволил календарю убежать вперед – календарь был на десять дней короче солнечного года, – потому что, по собственным словам, презирал греческое пристрастие к мелочной точности.
Но в марте снег все-таки стал таять, и Италия начала верить, что тепло вновь вернется на поля и в дома. С октября находясь в бездействии, легионы наконец зашевелились. В начале марта, преодолевая глубокие снежные заносы, Гай Норбан вышел из Капуи с шестью из восьми легионов и направился на соединение с Карбоном, вернувшимся в Аримин. Он миновал лагерь Суллы, который его проигнорировал. По Латинской, а потом по Фламиниевой дороге Норбан мог двигаться, невзирая на снег, и вскоре он достиг Аримина. Объединенные силы Норбана и Карбона насчитывали тридцать легионов и несколько тысяч конников – тяжелое бремя для Рима и Галлии, вынужденных кормить их всех.
Но прежде чем отправиться в Аримин, Карбон решил свою самую неотложную проблему: где взять денег для армии? Вероятно, золото и серебро из сгоревшего храма Юпитера Всеблагого, хранимое в слитках в казне, подсказало ему идею, ибо он начал с того, что забрал эти слитки, оставив вместо них расписку, что Рим должен своему Великому Богу столько-то талантов золота и столько-то талантов серебра. Многие римские храмы были богаты, и, поскольку религия являлась частью государственной политики и управлялась государством, Карбон и Марий-младший взяли на себя смелость одолжить храмовые деньги. Теоретически это не было противозаконно, но на практике выглядело чудовищно. Финансовые кризисы никогда не решались таким способом. А вот теперь из храмовых хранилищ выносили монеты – ящик за ящиком. При рождении каждого римского гражданина – безразлично, мужского или женского пола, – Юноне Луцине жертвовали один сестерций; один денарий – Ювенте, когда римский юноша достигал совершеннолетия; много-много денариев дарили Меркурию, после того как удачливый торговец опускал в священный источник лавровую ветвь; один сестерций приносили Венере Либитине, когда римский гражданин умирал. Сестерции жертвовали Венере Эруцине процветающие куртизанки. Все эти деньги были призваны теперь запустить военную машину Карбона. Слитки были изъяты. Все храмовое золото и серебро, не имеющее художественного значения, переплавлялось.
Заике-претору Квинту Антонию Бальбу – не из знатных Антониев – поручили чеканить новые монеты и сортировать старые. Многие сочли это кощунством, но ценность добычи ошеломляла. Карбон теперь мог поручить Марию-младшему правление Римом и военную кампанию на юге, а сам с легким сердцем отправиться в Аримин.
Ни Сулла, ни Карбон никогда не согласились бы признать, что между ними есть нечто общее. Однако оба, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же решению: нынешняя гражданская война не должна погубить Италию. Весь провиант, весь фураж, все затраты на войну должны быть оплачены наличными. Не будет пахотных земель, порушенных сражениями и маневрами. Страна просто не может себе позволить вторую разрушительную войну на собственной территории почти сразу после предыдущей. Это знали и Сулла, и Карбон.
Знали они и другое. В глазах простых людей у этой войны не было веской причины – в отличие от Союзнической. То была борьба италийских племен, которые не хотели больше зависеть от Рима, и Рима, который желал сохранить господство над полуостровом. Но в чем заключался конфликт на этот раз? В том только, кто будет хозяином Рима. Это была борьба за власть между двумя людьми, Суллой и Карбоном, и никакая пропаганда не могла скрыть столь простого факта. Не обмануло это и население Рима и Италии. Поэтому страну нельзя подвергать экстремальной опасности, нельзя снижать уровень благосостояния римских и италийских общин.
Сулла занимал деньги у своих солдат, а Карбон мог занять только у богов. И в подсознании каждого маячил ужасный вопрос: когда все закончится, как выплатить долг?
Но все это никоим образом не занимало мысли Мария-младшего, сына баснословно богатого человека, не привыкшего заботиться о деньгах, будь то покупка безделушки или выплата жалованья легионам. Если старый Гай Марий и рассказывал кому-либо о финансовой стороне войны, то это был Цезарь в те месяцы, когда юный родственник помогал великому полководцу оправиться после второго удара. Со своим сыном Гай Марий практически не говорил на эту тему, потому что к тому времени, когда он стал нуждаться в сыне, Марий-младший был уже в том возрасте, когда его больше интересовали соблазны Рима, чем престарелый отец. Именно Цезарь, бывший на девять лет младше своего кузена, слушал воспоминания Гая Мария и жадно впитывал то, что впоследствии, когда он стал жрецом, оказалось совершенно бесполезным.
Когда в конце марта сошел снег, Марий-младший и его легаты двинулись из Рима в лагерь возле небольшого города Ад-Пиктас на Лабиканской дороге, дивертикуле, который, обогнув гору Альбан, соединялся с Латинской дорогой в месте под названием Сакрипорт. Здесь, на плоской наносной равнине, с ранней зимы стояли лагерем восемь легионов добровольцев из Этрурии и Умбрии, проходя серьезную и интенсивную военную подготовку – насколько позволял холод. Их центурионами были ветераны Мария – хорошие наставники. Но когда в конце марта прибыл Марий-младший, войска были еще совсем зелеными. Впрочем, Мария-младшего это не беспокоило. Он искренне верил, что самый неопытный рекрут будет драться за него так, как закаленные солдаты сражались за его отца. Он не сомневался, что остановит Суллу.
В его лагере имелись люди, которые намного лучше, чем Марий-младший, понимали невыполнимость стоящей перед ними задачи. Однако никто не пытался открыть глаза своему консулу-командиру. Если бы их спросили, в чем причина такого молчания, каждый, вероятно, ответил бы, что при всем своем бахвальстве Марий-младший не обладает достаточной силой духа, чтобы понять и принять такую истину. Как номинального командующего, Мария-младшего надлежит холить, защищать, не огорчать.
Когда разведка донесла ему, что Сулла готовится покинуть лагерь, Марий-младший очень обрадовался. Одиннадцать из своих восемнадцати легионов почти со всей кавалерией, кроме нескольких эскадронов, Сулла послал под командованием Метелла Пия Свиненка на Адриатическое побережье в Аримин, навстречу Карбону. У Суллы осталось семь легионов, значительно меньше, чем у Мария-младшего.
– Я смогу его побить! – объявил он своему старшему легату Гнею Домицию Агенобарбу.
Женатый на старшей дочери Цинны, Агенобарб стоял за Карбона, несмотря на естественное желание взять сторону Суллы. Он очень любил свою красивую рыжеволосую жену, фактически находился у нее под каблуком и делал то, что захочет она. То обстоятельство, что большинство его близких родственников сохраняли строгий нейтралитет или ушли с Суллой, он ухитрился проигнорировать.
Теперь он слушал воодушевленного Мария-младшего и чувствовал себя неловко. Вероятно, ему следовало продумать, как и куда бежать, если Марий-младший не выполнит своих хвастливых обещаний и не побьет этого старого рыжего лиса.
В первый день апреля Марий-младший в прекрасном настроении вывел армию из лагеря и через древние пилоны Сакрипорта вышел на Латинскую дорогу, направляясь на юго-восток, в Кампанию, к Сулле. Он не тратил времени даром, ибо предстояло пройти два моста, расположенные на расстоянии пяти миль друг от друга, а он хотел миновать их до встречи с противником. Никто не указал ему на то, что двигаться навстречу Сулле неблагоразумно, и не посоветовал остаться на прежнем месте. И хотя Марий-младший десятки раз ходил по Латинской дороге, он не имел склонности запоминать местность, не говоря уже о том, чтобы оценивать ее с военной точки зрения.
Шагая позади войск по первому мосту через реку Верегис, он вдруг понял, что лучше сражаться у пилонов Сакрипорта, чем там, куда они шли. Но не остановился. На втором мосту – через более широкую и бурную реку Толер – он наконец осознал, что упорно движется туда, где его легионам будет трудно маневрировать. Разведчики донесли ему, что Сулла уже в десяти милях по дороге и быстро обходит город Ферентин. После этого Марий-младший запаниковал.
– Думаю, нам лучше возвратиться в Сакрипорт, – сказал он Агенобарбу. – Вероятно, я не смогу развернуть войско на этой местности так, как хочу. Я не могу обойти Суллу, чтобы дать сражение на более открытой местности. Поэтому мы встретимся с ним у Сакрипорта. Ты согласен, что так будет лучше всего?
– Если ты так думаешь, – отозвался Агенобарб, который очень хорошо понимал, какое впечатление произведет на неопытных солдат приказ сначала идти вперед, а потом назад. – Я дам команду. Возвращаемся в Сакрипорт.
– Бегом! – выкрикнул Марий-младший.
Его уверенность таяла с каждой минутой, а паника усиливалась.
Агенобарб посмотрел на него удивленно, но снова предпочел промолчать. Если Марий-младший хотел вымотать своих солдат, заставив их несколько миль бежать, почему он, Агенобарб, должен возражать? Все равно им не победить.
Так что в Сакрипорт восемь легионов вернулись почти бегом. Тысячи молодых солдат даже не скрывали недоумения, когда центурионы приказали им взять ноги в руки и – бежать! Марий-младший, охваченный этой отчаянной спешкой, ехал среди рядов, понукая солдат. И ни разу ему не пришло в голову сказать им, что они вовсе не отступают, а просто меняют дислокацию, чтобы выйти на позиции, где будет удобнее сражаться. В результате и войска, и командир прибыли на позицию в таком психическом и физическом состоянии, что ни на что уже не годились.
Как и все его сверстники, Марий-младший обучался военному делу, но до сих пор он считал, что острота ума и мастерство отца перейдут к нему по наследству. В Сакрипорте, когда легаты и военные трибуны окружили его в ожидании приказов, у него в голове не появилось ни одной мысли.
– Ну, – сказал он наконец, – расставьте легионы клетками восемь на восемь человек, а два легиона оставьте сзади для подкрепления.
Это был плохой план, но никто не попытался заставить его придумать лучший, более эффективный. Марий-младший не обратился с краткой речью к своим мучимым жаждой, задыхающимся солдатам. Вместо того чтобы попытаться поговорить с ними, он отъехал на другую сторону поля и сидел на своем коне, сгорбившись, глубоко погруженный в решение непростой задачи.
Оценив с вершины хребта между рекой Толер и Сакрипортом неразумный план сражения Мария-младшего, Сулла вздохнул, пожал плечами и послал пять легионов ветеранов под командованием старшего Долабеллы и Сервилия Ватии. Два лучших легиона из старой армии Сципиона Азиагена он оставил в резерве под командованием Луция Манлия Торквата, а сам остался с эскадроном кавалерии. Конники помогут быстро доставить на поле сражения новые распоряжения командующего, если потребуется срочно менять тактику боя. С Суллой был только старый Луций Валерий Флакк, принцепс сената. В самый разгар зимы, в середине февраля, Флакк решился и, оставив Рим, ушел к Сулле.
Когда Марий-младший увидел приближавшуюся армию Суллы, спокойствие вернулось к нему. Он принял на себя командование левым флангом, не имея ни малейшего представления о том, что он делает или что должен делать. Две армии встретились после полудня, и прежде, чем закончился первый час сражения, сельские парни из Этрурии и Умбрии, которые с таким энтузиазмом записывались в армию Мария-младшего, начали удирать во всех направлениях с поля боя от ветеранов Суллы, которые кромсали их без всяких усилий. Один из двух легионов, которые Марий-младший держал в резерве, в полном составе перешел к Сервилию Ватии и спокойно стоял, пока рядом убивали их товарищей.
Последней каплей для Мария-младшего стал вид этих предателей. Вспомнив, что восточнее Сакрипорта находится грозный крепостной город Пренеста, он приказал отступать. Имея теперь перед собой реальную цель, он почувствовал себя лучше, и ему удалось увести свой левый фланг в относительном порядке. Командуя правым флангом Суллы, Офелла стал преследовать Мария-младшего с такой быстротой и напором, что Сулла, видя это с высоты своих позиций, аплодировал ему. На протяжении десяти миль Офелла наскакивал на солдат противника и изматывал их, отрезал отставших и убивал их, пока Марий-младший старался спасти как можно больше своих людей. Но когда наконец огромные ворота Пренесты закрылись за Марием, у того осталось только семь тысяч солдат.
Центральный фронт Мария-младшего был уничтожен почти до последнего человека. Правый фланг, ведомый Агенобарбом, прекратил сражаться и ушел в Норбу. Эта древняя крепость вольсков, фанатично преданных Карбону, располагалась на вершине горы в двадцати милях к юго-западу. Она радостно открыла ворота в своих неприступных стенах, чтобы впустить десять тысяч солдат Агенобарба. Но только не самого Агенобарба! Пожелав своим обессиленным солдатам лучшей доли в будущем, Агенобарб продолжил путь к лежащей на побережье Таррацине и оттуда отплыл в Африку, самое удаленное от Италии место, где он мог спокойно все обдумать.
Не зная, что его старший легат сбежал, Марий-младший был доволен своим убежищем. Сулле будет очень трудно – если вообще возможно – выбить его отсюда. Пренеста раскинулась на высоких отрогах Апеннин. В прошлом, на протяжении уже нескольких столетий, это позволяло городу выдержать многочисленные штурмы. Ни одна армия не могла атаковать его со стороны неприступной горы. И все же с этого направления крепость снабжалась продовольствием, что исключало для осаждающих возможность взять город измором. В самой цитадели имелись родники, а в обширных пустотах под величественным святилищем Фортуны Примигении, которым и славилась Пренеста, хранилось множество медимнов пшеницы, масла, вина и другой непортящейся провизии, например твердые сыры и изюм, а также яблоки и груши прошлогоднего урожая.
Хотя город мог гордиться латинскими корнями и диалектом, который жители считали древнейшей и самой чистой латынью, Пренеста никогда не была союзницей Рима. Она боролась на стороне италийских союзников во время Италийской войны. До сих пор город дерзко считал свое гражданство выше римского – ведь Рим был выскочкой! Поэтому горячая поддержка Мария-младшего была со стороны Пренесты вполне естественной. Жители Пренесты понимали, что у Мария нет шансов устоять против карающей мощи Суллы. К тому же он был сыном великого отца, и его приняли очень тепло. В качестве благодарности он разбил своих солдат на отряды и разослал их по серпантину, вьющемуся позади цитадели, на поиски провизии и фуража. Ведь теперь у Пренесты появилось много лишних ртов.
– К лету Сулла двинется дальше, просто в силу необходимости, и тогда ты сможешь уйти отсюда, – сказал главный магистрат города.
Предсказанию не суждено было сбыться. После сражения при Сакрипорте прошло совсем немного дней, и Марий-младший и жители Пренесты стали свидетелями такой основательной подготовки к осаде, которая могла объясняться только железной решимостью добиться падения города. Притоки, которые стекали с отрога в направлении к Риму, все впадали в реку Анио, а те, что стекали с отрога с противоположной стороны, все впадали в реку Толер: Пренеста была водоразделом. И теперь со скоростью, которую запертые в городе наблюдатели сочли невероятной, началось сооружение огромной стены со рвом от отрога со стороны Анио вокруг города и до реки Толер. Когда эти осадные работы были закончены, единственным входом в Пренесту оставался серпантин по горам позади крепости. То есть при условии, что он не будет охраняться.
Новость о Сакрипорте тайно полетела в Рим, прежде чем солнце село в тот роковой день. Очень быстро молва разнесет весть о поражении по всему городу. Донесение от самого Мария-младшего было послано им лично, ибо, как только он оказался за стенами Пренесты, он продиктовал поспешное письмо претору Рима Луцию Юнию Бруту Дамасиппу. В письме говорилось:
На юге – полное поражение. Нам остается надеяться, что Карбону в Аримине удастся одержать верх, хотя бы потому, что там у Суллы значительно меньше войска. Солдаты Карбона намного опытнее, чем мои. Отсутствие у меня надлежащей подготовки и опыта деморализовало моих солдат до такой степени, что они не могли и часа продержаться против закаленных ветеранов Суллы.
Предлагаю тебе попытаться подготовиться к осаде Рима, хотя, вероятно, это невозможно, учитывая размеры города, где далеко не все преданы нынешнему правительству. Если ты считаешь, что Рим не станет защищаться, тогда тебе следует ожидать Суллу до следующих нундин, ибо нет войска, которое могло бы задержать его между Пренестой и Римом. Не знаю, намерен ли Сулла занять Рим. Могу лишь надеяться, что он хочет обойти его, чтобы атаковать Карбона. От моего отца я слышал, что Сулла предпочитает тактику клещей. И он попытается раздавить Карбона, используя Метелла Пия как свою вторую челюсть. Если бы я знал наверняка! Но у меня нет надежных источников информации. Для Суллы сейчас преждевременно занимать Рим, и я не могу поверить, что Сулла сделает такую ошибку.
Вряд ли я скоро сумею покинуть Пренесту, которая с большим радушием приняла меня, – жители города очень любили Гая Мария и не отказали в поддержке его сыну. Будь уверен, что, как только Сулла двинется навстречу Карбону, я прорвусь и приду на помощь Риму. Может быть, если я сам буду в Риме, горожане и согласятся мириться с тяготами осадного положения.
Далее, мне представляется, что пришло время разорить все гадючьи гнезда сторонников Суллы в нашем любимом городе. Убей их всех, Дамасипп! Не позволяй чувствительности ослабить твою решимость. Приспешники Суллы сделают сопротивление невозможным. Но если те влиятельные лица, которые могут доставить нам такую неприятность, будут к приходу Суллы мертвы, тогда пешки подчинятся нам без возражения. Каждый, кто в военном отношении мог бы быть полезен Карбону, должен покинуть сейчас Рим. Включая и тебя, Дамасипп.
Вот небольшой список имен сторонников Суллы, которые я сейчас могу вспомнить. Знаю, десятки имен я забыл, так что подумай о них сам! Наш великий понтифик. Старший Луций Домиций Агенобарб. Карбон Арвина. Публий Антистий Вет.
Брут Дамасипп выполнил приказ.
Когда Гай Марий незадолго до своей смерти обрушил на Рим волну террора, его жертвой пал и Квинт Луций Сцевола, великий понтифик, хотя никто не понимал почему. Предполагаемый убийца (тот самый Фимбрия, который отправился с Флакком, ставшим консулом-суффектом, на войну с царем Митридатом, чтобы лишить командования Суллу, а затем убил Флакка) не мог придумать в то время лучшего оправдания, чем, смеясь, объявить, что Сцевола заслуживал смерти. Но Сцевола не умер, хотя рана была серьезная. Крепкий и бесстрашный, великий понтифик оправился и еще два месяца исполнял свои обязанности. Теперь, однако, спасения ему не было. Хотя он и являлся тестем Мария-младшего, его попросту зарезали, когда он пытался найти убежище в храме Весты. Он так и не узнал о предательстве Мария-младшего.
Старший Луций Домиций Агенобарб, брат великого понтифика, погиб в собственном доме. И нет сомнения, Помпей Великий был бы очень доволен, если бы узнал, что теперь ему не нужно пачкать руки кровью своего тестя. Публий Антистий тоже пал жертвой, а его жена, потерявшая рассудок от горя, покончила с собой. К тому времени, как Брут Дамасипп разобрался с теми, кого он считал опасными для Карбона, не менее тридцати голов украшали ростру на Нижнем римском форуме. Люди, заявлявшие о своем нейтралитете (такие как Катул, Лепид и Гортензий), заперли двери и отказывались выходить, опасаясь, что кто-нибудь из прихвостней Брута Дамасиппа решит, что они тоже должны быть убиты.
Выполнив грязную работу, Брут Дамасипп ушел из Рима, равно как и его коллега претор Гай Альбий Каррина. Оба присоединились к Карбону. Ответственный за чеканку монет претор Квинт Антоний Бальб тоже покинул Рим, но во главе легиона. Его задачей было отправиться в Сардинию и отвоевать остров у Филиппа.
Однако самый странный поступок совершил трибун Квинт Валерий Соран. Большой ученый и известный гуманист, он не мог смириться с массовым убийством людей, чья связь с Суллой даже не была доказана. Но как выразить протест, чтобы произвести впечатление на целый город? И как одному человеку разрушить огромный Рим? Квинт Валерий Соран пришел к выводу, что мир станет лучше, если Рим вообще перестанет существовать. Поразмыслив, он пришел к следующему решению. Он явился к ростре, поднялся на нее и там, окруженный окровавленными трофеями Брута Дамасиппа, громко выкрикнул тайное имя Рима.
«AMOR!» – кричал он снова и снова.
Те, кто слышал это и понимал значение происходящего, разбегались, закрыв уши руками. Тайное имя Рима никогда не должно произноситься вслух! Рим и все, что он символизирует, рухнет, как ветхое здание при землетрясении. Квинт Валерий Соран сам верил этому безоговорочно. Поэтому, громко сообщив небесам, птицам, объятым ужасом людям тайное имя Рима, Соран удрал в Остию, удивляясь тому, что Рим все еще стоит на своих семи холмах. Из Остии он, человек, известный обеим враждующим сторонам, отплыл на Сицилию.
Оставшийся без правительства город не рухнул и не распался. Люди продолжали заниматься своими обычными делами. Нейтральная знать высунула головы из своих забаррикадированных домов, повела носами, вышла и ничего не сказала. Рим ждал, как поступит Сулла.
Сулла вошел в Рим, но тихо, без армии за спиной.
Не существовало веской причины, которая помешала бы ему войти в Рим. И в то же время накопилось множество веских причин сделать это. Такие детали, как его империй – и должен ли он отказаться от него в тот момент, когда пересечет померий, священную границу города, – мало волновали его. Кто в этом обезглавленном Риме посмеет возражать или обвинять его в беззаконии, кто решится оспаривать его право с религиозной точки зрения? Если Сулла вернулся в Рим, то это возвращение завоевателя Рима, его властелина. Итак, Сулла без всяких сомнений перешел померий и вернул городу некое подобие правительства.
Самым старшим магистратом, оставшимся в Риме, был один из двух братьев Магиев из Эклана, претор. Ему Сулла поручил гражданское управление городом, дав в помощь эдилов Публия Фурия Красипа и Марка Помпония. Когда Сулла услышал о том, что Соран выкрикнул тайное имя Рима, он зловеще нахмурился и содрогнулся, хотя до этого хладнокровно созерцал забор из насаженных на пики голов вокруг ростры. Сулла не выразил никаких эмоций по поводу массовой расправы и только приказал, чтобы головы сняли и совершили над ними погребальный обряд. Он не обратился с речью к народу, не созвал заседание сената. Меньше чем через день Сулла уже снова покинул Рим, чтобы вернуться к Пренесте. Вместо себя он оставил два эскадрона кавалерии под командованием Торквата – чтобы помогать магистратам поддерживать порядок, сказал он вежливо.
Он не попытался увидеться с Аврелией, которая удивилась этому. Когда она услышала, что Сулла снова удалился из города, ее семья ничего не заметила по ее лицу, даже Цезарь, который знал, что встречи матери с Суллой имели для нее очень большое значение. Цезарь также знал, что Аврелия не собирается ничего ему говорить.
Легатом, ответственным за осаду Пренесты, был дезертир Квинт Лукреций Офелла, который выполнял приказ, данный самим Суллой.
– Я хочу, чтобы Марий-младший был заперт в Пренесте до конца своих дней, – сказал Сулла Офелле. – Построй стену в тридцать футов высотой вокруг всего города, от гор со стороны Анио к горам со стороны Толера. В стене через каждые двести шагов возведи шестидесятифутовые укрепленные башни. Между стеной и городом вырой траншею глубиной двадцать футов и шириной двадцать футов, в дно вбей колья, густо, как тростник в мелких водах Фуцинского озера. Когда закончишь работу, устрой лагерь для солдат, которые будут охранять любую тропинку, ведущую из Пренесты через Апеннины. Никто не войдет в город, и никто не выйдет из него. Я хочу, чтобы этот самонадеянный щенок понял, что теперь Пренеста – его дом до конца дней. – Мрачная улыбка искривила рот Суллы – улыбка, которая обнажала жуткие длинные клыки в те дни, когда у него были зубы. Но и сейчас улыбка эта наводила страх. – Я также хочу, чтобы жители Пренесты знали: они заполучили Мария-младшего до конца его жизни. Поэтому ты назначишь глашатаев, чтобы они сообщали народу об этом по шесть раз в день. Одно дело – оказать помощь симпатичному молодому человеку со знаменитым именем, но совсем другое – понять, что симпатичный молодой человек со знаменитым именем принес с собой в Пренесту смерть и страдание.
Когда Сулла пошел дальше, к Вейям, к северу от Рима, он оставил у Пренесты Офеллу с двумя легионами. И они выполнили поручение. Осаждавшим сопутствовала удача: горная порода вокруг города была вулканическим туфом, который резался легко, как сыр, но на воздухе становился твердым. С таким материалом стена росла как грибы, а траншея между стеной и Пренестой с каждым днем становилась все глубже. Земля из траншеи образовала вторую стену, а на широкой нейтральной полосе в пределах этих осадных работ не оставлено было ни одного дерева, которое могло бы послужить тараном. В горах позади Пренесты, между городскими стенами и солдатским лагерем, все деревья были вырублены. Легионеры теперь охраняли серпантины и не позволяли жителям Пренесты добывать продовольствие.
Офелла оказался суровым надсмотрщиком. Он должен был доказать свою верность Сулле. И это был его шанс. Поэтому никто не останавливался, чтобы передохнуть, ни у кого даже времени не находилось, чтобы пожаловаться на больную спину или растянутые мышцы. Выслужиться нужно было не только командиру, но и солдатам, потому что один легион осаждавших дезертировал от Мария-младшего в Сакрипорте, а другой раньше принадлежал Сципиону Азиагену. Их преданность новому хозяину еще оставалась под вопросом, так что добросовестно построенная стена и хорошо вырытая траншея должны были показать Сулле, что они достойны доверия. А единственными их инструментами были рабочие руки и небольшие лопаты. Центурионы научили их отлично строить осадные сооружения. Организовать такие масштабные работы было нетрудно для Офеллы, типичного римлянина в том, что касалось методичного исполнения.
Через два месяца стена и траншея были готовы. Они получились длиной восемь миль и в двух местах перегораживали Пренестинскую и Лабиканскую дороги, тем самым перекрывая движение и делая бесполезными оба этих пути дальше Тускула и Болы. Римские всадники и сенаторы, чьи поместья оказались отрезаны этими фортификациями, не могли ничего поделать – им оставалось только угрюмо ждать, когда осада закончится, и проклинать Мария-младшего. Зато бедняки здешнего региона радовались, глядя на блоки туфа. Когда осада закончится и стена рухнет, у них появится огромный запас материала, чтобы огородить поля, построить дома, амбары, коровники.
В Норбе происходило то же самое, хотя там не было нужды в таких масштабных работах. Мамерк был отправлен туда с легионом рекрутов (присланных от сабинов Марком Крассом), чтобы проследить за работой. Он приступил к выполнению задания рассудительно и неторопливо, с той спокойной деловитостью, которая помогала ему во многих рискованных ситуациях.
Что касается Суллы, в Вейях он разделил пять легионов между собой и Публием Сервилием Ватией. Ватия должен был взять два легиона и идти маршем в прибрежную Этрурию. Тем временем Сулла и старший Долабелла отправились с тремя легионами по Кассиевой дороге к Клузию, вглубь материка. Стояло начало мая, и Сулла был очень доволен достигнутым. Если Метелл Пий и его часть армии покажут себя так же хорошо, к осени у Суллы появится отличный шанс захватить всю Италию и всю Италийскую Галлию.
А как шли дела у Метелла Пия и его армии? Отправляясь к Клузию, Сулла мало слышал об их успехах, но он верил в этого самого преданного из своих приверженцев. Ему также было любопытно, как поживает Помпей Великий. Он намеренно дал Метеллу Пию большую часть армии и велел, чтобы Метелл предоставил Помпею Великому право самостоятельно командовать пятью тысячами кавалерии, которая самому Сулле будет не нужна в его маневрах на гористой местности.
Метелл Пий шел маршем к побережью Адриатики со своими двумя легионами (под командованием своего легата Варрона Лукулла), шестью легионами, которые раньше принадлежали Сципиону, тремя легионами, принадлежавшими Помпею, и теми пятью тысячами кавалерии, которые Сулла отдал Помпею.
Конечно, сабин Варрон находился при Помпее, всегда готовый выслушать (не говоря уже о готовности записать) мысли Магна.
– Я должен наладить отношения с Крассом, – объявил Помпей, когда они шли через Пицен. – Метелл Пий и Варрон Лукулл – с ними проще. К тому же они мне нравятся. Но Красс – грубое животное, он намного страшнее. Его нужно перетянуть на мою сторону.
Сидя верхом на пони, Варрон глядел на Помпея, восседавшего на своем белом государственном коне.
– Я смотрю, за эту зиму, проведенную с Суллой, ты кое-чему научился! – искренне пораженный, сказал он. – Никогда не думал, что услышу, как ты говоришь о налаживании отношений с кем-либо – за исключением Суллы, естественно.
– Да, научился, – великодушно признал Помпей. Его красивые белые зубы блеснули в улыбке. – Не тревожься, Варрон! Я уверен, что скоро стану самым ценным помощником Суллы, но ему ведь нужны и другие люди, кроме меня! Хотя ты, может быть, и прав, – добавил он задумчиво. – Впервые в жизни я имел дело с кем-то из главнокомандующих, помимо отца. Полагаю, мой отец был великим воином. Но он ничем не интересовался, кроме своих земель. Сулла – другой.
– В каком отношении? – полюбопытствовал Варрон.
– Его ничто не занимает, включая всех нас, кого он называет своими легатами или коллегами или любым другим словом, которое посчитает уместным в данный момент. Я не знаю, волнует ли его даже самый Рим. Если и существует что-то, что его интересует, то это, во всяком случае, нечто нематериальное. Деньги, земли, даже степень его auctoritas или его репутация – нет, они ничего не значат для Суллы.
– Тогда что? – спросил Варрон, пораженный этим новым Помпеем, который вдруг научился видеть дальше собственного носа.
– Вероятно, только его dignitas, – ответил Помпей.
Варрон принялся тщательно обдумывать эти слова. Может быть, Помпей прав? Dignitas! Самое неосязаемое из всего, чем обладает знатный римлянин, – это dignitas. Auctoritas – мера его авторитета, способность оказывать влияние на общественное мнение и общественные институты от сената до жрецов и казначейства.
Dignitas – нечто совсем другое. Это набор личных качеств, и все же dignitas охватывало все сферы общественной жизни человека. Так трудно определить, что это такое! Наверное, потому и существовал определенный термин. Dignitas – это… то впечатление, которое оставляет личность… его слава? Dignitas заключает в себе все, что представляет собой человек и как личность, и как общественный деятель. Это и его гордость, и его целостность, а также слова, ум и деяния, способности, сумма знаний, положение – все, чего он стоит. Dignitas остается жить, когда человек умирает. Это единственный способ обессмертить себя. Да, вот лучшее определение. Dignitas – это триумф человека над прекращением его физического бытия. И если посмотреть с этой точки зрения, Помпей был абсолютно прав. Если что и имело значение для Суллы, так это его dignitas. Он говорил, что побьет Митридата. Он говорил, что вернется в Италию и восстановит свое доброе имя. Он говорил, что возродит Республику в ее древней, традиционной форме. И, сказав это, он так и сделает. Если он не выполнит обещанного, его dignitas будет уничтожено. У объявленного вне закона и официально преданного позору не может быть dignitas. Сулла найдет в себе силы сдержать слово. И когда он сдержит слово, только тогда он будет удовлетворен. А до этого Сулла не может отдыхать. И не будет.
– Ты пропел Сулле дифирамб, – произнес Варрон вслух.
Ясные голубые глаза вдруг стали словно слепыми.
– Что?
– Я хочу сказать, – терпеливо пояснил Варрон, – что ты убедил меня, что Сулла не может проиграть. Он борется за что-то, чего не понимает даже Карбон.
– О да! Да, определенно! – радостно воскликнул Помпей.
Они приблизились к реке Эзис, сердцу владений Помпея. Порывистый юноша, каким был Помпей еще в прошлом году, не исчез, но теперь он приобрел новый опыт. Другими словами, Помпей повзрослел. Он взрослел понемногу каждый день. То, что Сулла поставил его командовать кавалерией, вызвало в нем интерес к этому роду войск, к которому раньше он не относился серьезно. И это, конечно, было чисто по-римски. Римляне верили в пехотинца, а конного солдата считали скорее декоративным, нежели полезным элементом, скорее помехой, чем благом. Варрон был убежден: единственной причиной, по которой римляне начали использовать кавалерию, было то обстоятельство, что ее использовал противник.
В древности, когда Римом правили цари, и потом, в первые годы Республики, конные солдаты образовывали военную элиту, они были головным отрядом римской армии. Из этого выросло сословие всадников, как назвал его Гай Гракх. Лошади были очень дорогими. Не многие могли приобрести коня. Поэтому возник обычай дарить всаднику государственного коня, купленного сенатом.
Теперь, по прошествии многих лет, римский воин-всадник перестал существовать. Осталось одно название, напоминающее о древней римской коннице. Всадник превратился в торговца или землевладельца, члена центурий первого класса. И все же вплоть до сегодняшнего дня государство покупает коней для тысячи восьмисот самых высокопоставленных всадников.
Склонный к отвлеченным размышлениям, Варрон понял, что ушел далеко в сторону, и заставил себя вернуться к первоначальной теме. Помпей и его интерес к кавалерии. Кавалеристы не были римлянами. Эту кавалерию Сулла привел с собой из Греции, и поэтому в ней не было галлов. Если бы конников набирали в Италии, почти все они были бы галлами, обитателями холмистых пастбищ с дальней стороны Пада или большой долины Родана в Заальпийской Галлии. Всадники Суллы были в основном фракийцы, с несколькими сотнями галатов. Хорошие воины. Верны, насколько можно ждать верности от неримлян. В римской армии у них статус ауксилариев. Некоторых из них могли наградить в конце трудной победной кампании, сделав полноправными гражданами Рима или наделив землей.
Весь путь от Теана Сидицийского Помпей ехал среди этих людей в кожаных штанах и коротких кожаных куртках, с маленькими круглыми щитами и длинными пиками. Их длинные мечи были удобны для конной атаки.
«По крайней мере, Помпей способен размышлять», – сказал себе Варрон, когда они ехали по направлению к реке Эзис. Помпей узнавал качества конников и обдумывал, как их наилучшим образом использовать. Он составлял план. Прикидывал, можно ли повысить эффективность конницы и стоит ли менять вооружение солдат. Всадники были разбиты на отряды по пять сотен человек, каждый отряд состоял из десяти эскадронов по пятьдесят человек каждый, у них имелись свои офицеры. Единственный римлянин среди их командиров был начальником конницы. В данном случае – Помпей. Очень заинтересованный, очень увлеченный – и твердо решивший, командуя ими, проявить способности и профессионализм, не всегда свойственные римлянину. Если Варрон и полагал, что интерес Помпея к коннице частично объяснялся солидной примесью галльской крови, то был достаточно умен, чтобы никогда об этом не заикаться.
Как удивительно! Вот они пришли сюда, где уже видна река Эзис и старый лагерь Помпея. Вернулись туда, откуда начали свой путь, словно все пройденные мили ничего не значили. Путешествие, проделанное для того, чтобы увидеть лысого беззубого старика, отличившегося лишь парой малозначительных побед и огромным количеством пеших переходов.
– Интересно, – размышлял вслух Варрон, – спросят ли наши люди когда-нибудь, а в чем, собственно говоря, дело?
Помпей заморгал и отвернулся:
– Какой странный подход! Почему они должны задавать вопросы? Все делается для них. Я лично стараюсь ради них! Все, что им нужно, – это выполнять приказы.
Революционная мысль о том, что хотя бы один из ветеранов Помпея Страбона способен думать, заставила его скривиться.
Но Варрона нельзя было просто так сбить с толку.
– Да будет тебе, Магн! Ведь они – люди, такие же, как мы, хотя бы в каком-то отношении. И, будучи людьми, они наделены способностью мыслить. Пусть многие из них не умеют ни читать, ни писать. Одно дело – никогда не оспаривать приказы, и совсем другое – не задаваться вопросом, зачем все это.
– Я не понимаю, – вполне искренне сказал Помпей.
– Магн, я говорю о таком общеизвестном явлении, как человеческое любопытство! Это заложено в природе человека – задавать вопрос «зачем?». Даже если он рядовой солдат из Пицена, который никогда не был в Риме и не понимает разницы между Римом и Италией. Мы только побывали в Теане и вернулись. Вон там наш старый лагерь. Ты не думаешь, что хотя бы некоторые из них должны спросить себя, зачем мы ходили в Теан и почему меньше чем через год мы вернулись?
– Ну, это-то они знают! – нетерпеливо воскликнул Помпей. – Кроме того, они ветераны. Если бы они получали по тысяче сестерциев за каждую пройденную в последние десять лет милю, они смогли бы жить на Палатине и разводить вкусную рыбу. Даже если бы мочились в фонтан и гадили на грядки с пряными травами! Варрон, ты такой оригинал! Ты никогда не перестанешь меня удивлять. Какие мысли тебя занимают!
Помпей ударил коня по ребрам и галопом помчался по склону. Вдруг он захохотал, замахал руками. Хорошо было слышно, как он прокричал:
– Кто отстал, тот слабак!
«Сущий ребенок! – подумал Варрон. – Что я здесь делаю? Какая может быть от меня польза? Это же все игра, большое и великолепное приключение».
Может быть, и так, но в тот же день поздно вечером Метелл Пий созвал совещание со своими тремя легатами. Варрон, как всегда, сопровождал Помпея. Все были возбуждены: пришли новости.
– Карбон недалеко, – сказал Свиненок. Он помолчал, обдумывая сказанное, и поправился: – По крайней мере, Каррина близко, а Цензорин быстро его догоняет. Очевидно, Карбон решил, что восьми легионов будет достаточно, чтобы остановить нас, но потом узнал о численности нашей армии и послал Цензорина и еще четыре легиона. Они подойдут к реке Эзис раньше нас, и там мы должны их встретить.
– А где сам Карбон? – спросил Марк Красс.
– Все еще в Аримине. Думаю, ждет, что предпримет Сулла.
– И как поступит Марий-младший, – добавил Помпей.
– Правильно, – согласился Свиненок, удивленно подняв брови. – Однако не наше дело беспокоиться об этом. Наша задача – заставить Карбона удирать. Помпей, это твои владения. Что лучше: выманить Каррину и заставить перейти через реку или удерживать его на той стороне?
– На самом деле это не имеет значения, – спокойно сказал Помпей. – Берега одинаковые. Много места, чтобы развернуться, есть деревья, хорошая, ровная земля для решительного сражения, если мы навяжем его. – Он принял ангельский вид и мягким голосом добавил: – Тебе решать, Пий. Я только твой легат.
– Ну, поскольку мы направляемся в Аримин, разумнее перевести наших людей на ту сторону, – тоже совершенно спокойно сказал Метелл Пий. – Если мы заставим Каррину отступить, нам не нужно будет переходить Эзис, преследуя его. Разведка говорит, что у нас огромное преимущество в кавалерии. Если земля и река позволят это, я бы хотел, чтобы ты, Помпей, с головным отрядом перешел реку и поставил кавалерию между противником и нашей пехотой. Затем я переведу нашу пехоту на тот берег, ты убираешь с дороги свою кавалерию, и мы атакуем. Нам не удастся их перехитрить. Это будет честный бой. Однако, если ты сможешь завести конницу им в тыл после того, как я нападу на них, мы разгромим и Каррину, и Цензорина.
Никто не возразил против этой стратегии, которая ясно показывала, что у Метелла Пия имелись некоторые способности. Предложение отдать три легиона ветеранов Помпея Варрону Лукуллу, а Помпею оставить кавалерию Помпей принял спокойно.
– Я поведу центр, – в заключение сказал Метелл Пий. – Красс возглавит правый фланг, а Варрон Лукулл – левый.
Поскольку день стоял теплый и земля была не слишком сырой, все шло так, как планировал Метелл Пий. Помпей легко переправился через реку, а пехота, шедшая следом, продемонстрировала большое преимущество бывалых солдат, что всегда приятно полководцу. Хотя легионы Сципиона были недостаточно опытны, Варрон Лукулл и Красс превосходно командовали пятью ветеранскими легионами, уверенность которых хорошо подействовала на людей Сципиона. У Каррины и Цензорина не было ветеранов, поэтому они не нанесли большого урона Метеллу Пию. В конце концов Помпею удалось бы зайти в тыл врага, но когда он объезжал поле боя, то столкнулся с новым обстоятельством: прибыл Карбон с шестью легионами и тремя тысячами кавалерии, которые помешали продвижению Помпея.
Каррине и Цензорину удалось отступить, потеряв не более трех-четырех тысяч человек, а потом разбить лагерь рядом с Карбоном на расстоянии меньше мили от поля боя. Продвижение Метелла Пия и его легионов было остановлено.
– Вернемся в твой первый лагерь к югу от реки, – решительно сказал Метелл Пий. – Пусть они думают, что мы слишком осторожны, чтобы идти дальше. И еще я считаю, что нам надо держаться от них на приличном расстоянии.
Несмотря на скромный результат боя, у всех было приподнятое настроение. С наступлением темноты Помпей, Красс и Варрон Лукулл, очень веселые, собрались в палатке военачальника. Стол был покрыт картами, легкий беспорядок свидетельствовал о том, что Свиненок сосредоточенно работал.
– Так, – начал он, стоя у стола, – я хочу, чтобы вы посмотрели на это и подумали, как нам лучше обойти Карбона с фланга.
Они обступили стол, Варрон Лукулл держал лампу над тщательно расчерченным чернилами пергаментом. Карта изображала побережье Адриатического моря между Анконой и Равенной вместе с частью территории материка, простирающейся за гребень Апеннин.
– Мы – здесь, – сказал Свиненок, ткнув пальцем ниже реки Эзис. – Следующая большая река – Метавр, через которую трудно переправиться. Вся эта земля – Ager Gallicus – здесь и здесь, – и Аримин на ее юго-западном конце. Здесь несколько рек, но все их легко перейти вброд. Пока мы не придем вот к этой, между Аримином и Равенной, видите? Это Рубикон, наша естественная граница с Италийской Галлией. – Все эти детали были слегка подчеркнуты: Метелл Пий отличался методичностью. – Вполне очевидно, почему Карбон остановился в Аримине. Он может двинуться вверх по Эмилиевой дороге в Италийскую Галлию. Он может идти вдоль берега Саписа к Кассиевой дороге и по ней в Арреций и угрожать Риму из верхней долины Тибра. Этим путем он может добраться до Фламиниевой дороги и Рима. И еще он может пройти по берегу Адриатики в Пицен и, если необходимо, в Кампанию через Апулию и Самний.
– Тогда нам нужно заставить его уйти, – произнес Красс, озвучив то, что всем и так было очевидно. – Это нам по силам.
– Но есть препятствие, – нахмурился Метелл Пий. – Кажется, Карбон не ограничился Аримином. Он сделал кое-что очень хитрое: послал восемь легионов под командованием Гая Норбана по Эмилиевой дороге к городу Форум Корнелия – видите, за Фавенцией? Это недалеко от Аримина, может быть, миль сорок.
– И значит, он может привести те восемь легионов обратно в Аримин за один день, если понадобится, – заметил Помпей.
– Да. Или за два-три дня увести их в Арреций или Плаценцию, – сказал Варрон Лукулл, который мог охватить картину в целом. – Сам Карбон сидит на другом берегу Эзиса с Карриной и Цензорином – и восемнадцать легионов плюс три тысячи кавалерии с ними. И еще восемь легионов в Форуме Корнелия с Норбаном и четыре гарнизонных легиона в Аримине с несколькими тысячами конников.
– Я хочу выработать общую стратегию, прежде чем продвинусь хоть на дюйм, – заявил Метелл Пий, глядя на своих легатов.
– Общая стратегия проста, – сказал Красс. – Нам нужно помешать Карбону соединиться с Норбаном, отрезать Карбона от Каррины и Цензорина, а затем Каррину от Цензорина. Не дать каждому из них соединиться с кем-либо. Сделать так, как сказал Сулла. Разделить их.
– Одному из нас, может быть мне, предстоит привести пять легионов в дальний конец Аримина, потом отрезать Норбана и попытаться занять Италийскую Галлию, – хмуро сказал Метелл Пий. – А это непросто.
– Очень даже просто, – нетерпеливо возразил Помпей. – Посмотрите: вот Анкона, вторая по значению гавань на Адриатике. В это время много кораблей находится там в ожидании западного ветра, чтобы плыть на восток для летней торговли. Если ты, Пий, приведешь пять легионов в Анкону, то сможешь погрузить их на корабли и отплыть в Равенну. Это будет приятная морская прогулка, земля останется в пределах видимости, никакие шторма вам не грозят. Всего сотня миль. Потребуется восемь-девять дней, даже если придется грести. А если будет попутный ветер, что возможно в это время года, вам понадобится только четыре дня. – Он хлопнул по карте. – Быстрый марш от Равенны в Фавенцию – и ты отрежешь Норбана от Аримина.
– Это надо будет проделать тайно, – с сияющими глазами сказал Свиненок. – О да, Помпей, это сработает! Они не ожидают движения наших войск между этим местом и Анконой – их разведчики все будут севернее Эзиса. Помпей, Красс, вы останетесь здесь, где мы сейчас находимся, делая вид, что у вас на пять легионов больше, пока Варрон Лукулл и я не отплывем из Анконы. Тогда двинетесь и вы. Попытайтесь добраться до Каррины и притворитесь, будто у вас серьезные намерения. Если возможно, свяжите ему руки – и Цензорину тоже. Карбон сначала будет с ними, а потом, когда услышит, что я высадился в Равенне, отправится туда, чтобы выручить Норбана. Хотя вряд ли. Карбону нужно, чтобы его войско было в центре.
– О, это будет отличная забава! – воскликнул Помпей.
И все в палатке были так довольны, что никто не нашел его заявление легкомысленным. Даже Марк Теренций Варрон, тихо сидевший в углу, делая записи.
Стратегия сработала. Пока Метелл Пий торопился с Варроном Лукуллом и пятью легионами в Анкону, другие шесть легионов плюс кавалерия усердно изображали, что их одиннадцать. Затем Помпей и Красс вышли из лагеря и беспрепятственно форсировали Эзис. Казалось, Карбон решил заманить их в Аримин, несомненно планируя решительное сражение на более знакомой ему территории.
Помпей вел свою кавалерию по пятам Карбона, следом за конниками, которыми командовал Цензорин, и регулярно покусывал его за пятки. Эта тактика раздражала Цензорина, который и так не отличался терпением. Возле городка Сенигаллия он не выдержал, развернулся и ввязался в бой – конница против конницы. Помпей победил. У него проявился талант командовать кавалерией. В Сенигаллии побежденный Цензорин отступил с пехотой и с кавалерией вместе – но остановился ненадолго. Помпей разгромил слабые фортификации.
Затем Цензорин сделал одну разумную вещь. Он пожертвовал конницей и ушел через задние ворота Сенигаллии с восемью легионами пехоты, направляясь к Фламиниевой дороге.
К этому времени Карбон узнал о нежелательном присутствии Свиненка и его армии в Фавенции. Теперь Норбан был отрезан от Аримина. Тогда Карбон пошел на Фавенцию, оставив Каррину следовать за ним еще с восемью легионами. Цензорин, решил он, пусть сам выкручивается.
Но тут появился Брут Дамасипп. Он нашел Карбона на марше и сообщил ему новость о том, что Сулла разбил армию Мария-младшего у Сакрипорта. Сулла теперь направлялся по Кассиевой дороге к границе Италийской Галлии у Арреция, хотя у него было всего три легиона. В ту же секунду Карбон изменил свои планы. Норбану придется самостоятельно удерживать Италийскую Галлию, сражаясь с Метеллом Пием. Карбон и его легаты должны остановить Суллу у Арреция, что будет сделать нетрудно, если у Суллы всего три легиона.
Помпей и Красс узнали о победе Суллы над Марием-младшим почти одновременно с Карбоном и очень этому обрадовались. Они повернули на запад, чтобы преследовать Каррину и Цензорина, которые теперь вели по восемь легионов каждый к Карбону в Арреций на Кассиевой дороге. Помпей и Красс очень торопились, упорно преследуя их. Эта кампания не для кавалерии, решил Помпей, когда они с Крассом направлялись к Фламиниевой дороге. Они поднимались в горы. Помпей отослал конницу обратно к реке Эзис и взял под свое командование отцовских ветеранов. Красс, как он понял, был согласен передать ему полномочия, поскольку то, что предлагал Помпей, совпадало с тем, что созрело в уме практичного Красса.
И опять все решило присутствие большого количества ветеранов. Помпей и Красс догнали Цензорина на дивертикуле Фламиниевой дороги между Фульгином и Сполетием. Сражения даже не понадобилось. Измученные, голодные, напуганные войска Цензорина разбежались. Цензорину удалось сохранить лишь три из восьми легионов, и этих драгоценных солдат он намеревался спасти во что бы то ни стало. Он увел их с дороги и срезал путь через поля к Карбону в Арреций. Другие пять легионов рассеялись так, что солдат потом невозможно было собрать.
Три дня спустя Помпей и Красс нагнали Каррину у большого и хорошо укрепленного города Сполетий. На этот раз сражение состоялось, но Каррина действовал так плохо, что вынужден был запереться в Сполетии с тремя из своих восьми легионов. Три легиона отступили в Тудер и укрылись там. Остальные два просто исчезли – навсегда.
– Прекрасно! – радостно крикнул Помпей Варрону. – Теперь я знаю, как распрощаться с этим старым флегматиком Крассом!
И он сделал это – намекнул Крассу, что тот должен взять свои три легиона в Тудер и осадить его, а он, Помпей, поведет свои легионы на Сполетий. Красс отправился к Тудеру, радуясь возможности командовать самостоятельно. А Помпей в прекрасном настроении устроился у Сполетия, зная, что ему достанется львиная доля славы, потому что именно в Сполетии укрылся Каррина. Увы, все обернулось не так, как рассчитывал Помпей! Хитрый и смелый Каррина выскользнул из Сполетия во время ночной грозы и соединился с Карбоном, сохранив все свои три легиона.
Помпей очень расстроился из-за неудачи. Варрон с удивлением узнал, каким бывает Помпей в минуты крайнего раздражения: льет слезы, кусает костяшки пальцев, рвет на себе волосы, топает ногами, бьет кубки и тарелки, рубит мебель. Но потом гнев Помпея прошел, словно ночная гроза, так благоприятствовавшая Каррине.
– Отправляемся к Сулле в Клузий, – объявил Помпей. – Вставай, Варрон! Не будем мешкать!
Покачав головой, Варрон постарался не мешкать.
Было начало июня, когда Помпей и его ветераны добрались до лагеря Суллы у реки Кланис, где обнаружили командующего слегка потрепанным и раздраженным. Дела обернулись не так хорошо, когда Карбон из Арреция подошел к Клузию, ибо Карбон чуть не победил благодаря фактору внезапности. Сражение нельзя было спланировать заранее. Только решение Суллы прервать военные действия и укрыться в хорошо укрепленном лагере спасло положение.
– Это не имеет большого значения, – весело объявил Сулла. – Теперь ты здесь, Помпей, и Красс недалеко. С вашей помощью все изменится. С Карбоном будет покончено.
– А как дела у Метелла Пия? – спросил Помпей, недовольный тем, что услышал имя Красса вместе со своим.
– Он защищает Италийскую Галлию. Заставил Норбана сражаться у Фавенции, а Варрон Лукулл – ему пришлось отправиться в Плаценцию, чтобы найти убежище, – сразился с Луцием Квинкцием и Публием Альбинованом около Фиденции. Все прошло великолепно: враг рассеян или убит.
– А сам Норбан?
Сулла пожал плечами. Он никогда не интересовался, что произошло с неприятелем после поражения. А Норбан не был его личным врагом.
– Думаю, ушел в Аримин, – сказал он и отвернулся, чтобы отдать распоряжения по поводу лагеря Помпея.
На следующий день из Тудера прибыл Красс во главе трех легионов угрюмых и недовольных солдат. Среди них пронесся слух, что после падения Тудера Красс нашел золото и все заграбастал себе.
– Это правда? – строго спросил Сулла.
Глубокие морщины на лице Красса стали еще глубже, рот сжался так, что губ не видно. Но ничто не могло поколебать бычьего самообладания Красса. Спокойные серые глаза расширились, он казался озадаченным, но не смущенным.
– Нет.
– Ты уверен?
– В Тудере нечего было брать, кроме нескольких старух, но ни одна мне не понравилась.
Сулла взглянул на него с подозрением, не зная, намеренная ли это дерзость или простодушное откровение.
– Ты непостижим, Марк Красс, – сказал он наконец. – Я приму во внимание положение твоей семьи и поверю тебе. Но учти! Если когда-нибудь я узнаю, что ты наживаешься за счет государства, пользуясь мною, не попадайся мне на глаза!
– Вполне справедливо, – кивнул Красс и неторопливо вышел.
Публий Сервилий Ватия слушал этот разговор и теперь улыбнулся Сулле.
– Он никому не нравится, – сказал он.
– И очень мало людей нравятся ему, – сказал Сулла, обнимая Ватию за плечи. – Счастливчик ты, Ватия!
– Почему?
– Потому что ты нравишься мне. Ты хороший парень: никогда не превышаешь своих полномочий, никогда со мной не споришь. Что бы я ни попросил тебя сделать, делаешь. – Он зевнул, да так, что выступили слезы. – Пить хочется. Кубок вина мне сейчас не помешает!
Стройный и привлекательный, со смуглой кожей, Ватия происходил не из патрицианского рода Сервилиев. Но его род был достаточно древним, чтобы пройти самую строгую проверку. А его мать была одной из самых достойных представительниц рода Цецилиев Метеллов – дочь Метелла Македонского; это означало, что Ватия приходился родственником всем сколько-нибудь важным людям. Включая, по браку, и Суллу. Поэтому ему было приятно чувствовать на своих плечах эту тяжелую руку. Он повернулся, не снимая руки Суллы, и пошел рядом с ним в палатку командира. В тот день Сулла много пил и нуждался в поддержке.
– Что мы сделаем со всеми этими людьми, когда Рим станет моим? – спросил Сулла, когда Ватия подал ему полный кубок его особого вина.
Себе Ватия налил из другого кувшина и хорошо разбавил водой.
– С какими людьми? Ты хочешь сказать – с Крассом?
– Да, с Крассом. И с Помпеем Великим. – Сулла скривил губы, обнажив десны. – С ума сойти, Ватия! Великий! Это в его-то возрасте!
Ватия улыбнулся и сел на складной стул.
– Если он слишком молод, то я слишком стар. Я мог бы стать консулом шесть лет назад. Теперь уж, наверное, никогда не буду.
– Если я одержу победу, ты будешь консулом. Не сомневайся. Я – опасный противник, Ватия, но надежный друг.
– Знаю, Луций Корнелий, – нежно ответил Ватия.
– Так что мне с ними делать? – снова спросил Сулла.
– С Помпеем? Могу понять, в чем для тебя трудность. Вряд ли он угомонится и вернется домой, после того как все закончится. И как ты сможешь удержать его от желания прежде времени получить какую-нибудь должность?
Сулла засмеялся:
– Да он и не стремится получить должность! Он жаждет военной славы. И я постараюсь, чтобы он ее получил. Он может оказаться хорошим командующим. – Сулла протянул пустой кубок, чтобы его снова наполнили. – А Красс? Что мне делать с Крассом?
– О, он сам о себе позаботится, – откликнулся Ватия, наливая вино. – И деньги раздобудет. Я его вполне понимаю. Когда его отец и его брат Луций умерли, он, наверное, унаследовал куда больше, чем любая богатая вдова. Состояние Лициния Красса было триста талантов. Но, конечно, оно было конфисковано. Цинна постарался! Он все заграбастал. А у бедного Красса ничего не осталось.
Сулла фыркнул:
– Вот уж в самом деле бедный Красс! Он, разумеется, спер то золото из Тудера. Я знаю, что спер.
– Может, и так, – спокойно сказал Ватия. – Однако в данный момент не следует проводить дознание. Этот человек тебе нужен! И он уверен, что нужен тебе. Мы все участвуем в отчаянном предприятии.
О прибытии Помпея и Красса, чтобы пополнить армию Суллы, сразу же стало известно Карбону. Легаты ничего не заметили по его лицу, которое осталось спокойным. Он также не сказал ничего относительно передислокации войск. И сам никуда не собирался уходить. Численность его войска все еще значительно превышала численность войска Суллы, а значит, Сулла не намерен покидать пределы своего лагеря и вступать в сражение. И пока Карбон ждал, чтобы развитие событий подсказало ему, что делать, пришло первое известие из Италийской Галлии: Норбан и его легаты Квинкций и Альбинован побиты, а Метелл Пий и Варрон Лукулл удерживают Италийскую Галлию для Суллы. Вторая новость оказалась еще хуже: луканский легат Публий Альбинован выманил Норбана и его старших офицеров на совещание в Аримин и там всех их убил, кроме самого Норбана, а потом сдал Аримин Метеллу Пию в обмен на помилование. Поскольку Норбан выразил желание жить в ссылке где-нибудь на Востоке, ему разрешили сесть на корабль. Единственный спасшийся легат был Луций Квинкций, который находился под охраной Варрона Лукулла, когда происходили убийства.
Лагерь Карбона охватило уныние. Беспокойные люди вроде Цензорина места себе не находили – возмущались. Но Сулла все не предлагал сражения. В отчаянии Карбон дал Цензорину задание. Он должен был взять восемь легионов в Пренесту и выручить Мария-младшего. Спустя десять дней после отъезда Цензорин вернулся. «Мария-младшего невозможно освободить, – сообщил он. – Фортификации, которые построил Офелла, непреодолимы». Карбон послал в Пренесту вторую экспедицию, но только потерял две тысячи хороших солдат, которых Сулла заманил в западню. Третий раз направили войско с Брутом Дамасиппом, чтобы найти дорогу в горах и пробраться в Пренесту по серпантину позади города. Это тоже не удалось. Брут Дамасипп осмотрел местность, понял, что все бесполезно, и возвратился в Клузий к Карбону.
Даже новость о том, что парализованный самнитский предводитель Гай Папий Мутил собрал в Эсернии сорок тысяч солдат и решил с их помощью освободить Пренесту, не помогла поднять настроение Карбону. Его депрессия усиливалась с каждым днем. Ничего не изменилось и тогда, когда Мутил прислал ему письмо, в котором сообщал, что у него будет семьдесят тысяч солдат, а не сорок, так как Лукания и Марк Лампоний посылают ему дополнительные двадцать тысяч, а Капуя и Тиберий Гутта – еще десять тысяч.
Был лишь один человек, которому Карбон доверял, – старый Марк Юний Брут, проквестор. И когда настал квинтилий, а у Карбона еще не было никакого решения, он пошел к старому Бруту.
– Если Альбинован опустился до того, чтобы убивать людей, с которыми месяцами веселился и делил трапезу, как я могу быть уверен в любом из моих легатов? – спросил он.
Они медленно шли по via principalis, протянувшейся на три мили, одному из двух главных проходов на территории лагеря, достаточно широкому, чтобы их не подслушивали.
Жмуря глаза от яркого солнца, старик с синими губами не торопился отвечать. Он долго думал над вопросом, и когда наконец заговорил, ответ прозвучал очень серьезно:
– Ты не можешь быть в них уверен, Гней Папирий.
Карбон втянул воздух сквозь сжатые зубы.
– О боги, Марк, и что же мне делать?
– На данный момент – ничего. Но я думаю, ты должен бросить это печальное предприятие, прежде чем убийство станет желаемой альтернативой для одного или нескольких твоих легатов.
– Бросить?
– Да, бросить, – решительно сказал старый Брут.
– Но ведь они не дадут мне уехать! – воскликнул Карбон, охваченный дрожью.
– Скорее всего, не дадут. Но им не нужно об этом знать. Я начну подготовку, а ты делай вид, словно единственное, что тебя беспокоит, – это судьба самнитской армии. – Старый Брут похлопал Карбона по руке. – Не отчаивайся. В конце концов все образуется.
В середине квинтилия старый Брут закончил приготовления. После полуночи он и Карбон очень тихо вышли из лагеря – без вещей, без сопровождения. С ними был мул, нагруженный золотыми слитками, обернутыми в свинцовые листы, и большим мешком денариев, необходимых для путешествия. Они выглядели как пара уставших торговцев. Беглецы направились на побережье Этрурии и там сели на корабль, отплывавший в Африку. Никто не приставал к ним, никого не интересовали трудяга-мул и содержимое его корзин. «Фортуна оказалась милостива», – подумал Карбон, когда корабль поднял якорь.
Самний, Лукания и Капуя поставили Гаю Папию Мутилу войско. Сам он, естественно, не мог возглавить его, поскольку вся нижняя часть его тела была парализована. Тем не менее он с самнитами прошел от их тренировочного лагеря в Эсернии до Теана Сидицийского. Там солдаты заняли старые лагеря Суллы и Сципиона, а Мутил остановился в собственном доме.
Со времен Италийской войны состояние Мутила умножилось. Теперь он владел пятью виллами в Самнии и Кампании. Мутил стал богаче, чем когда бы то ни было. «Хоть какая-то компенсация, – думал он порой, – за потерю чувствительности ниже пояса».
Эсерния и Бовиан были два его любимых города. Однако жена Мутила, Бастия, предпочитала жить в Теане – она была оттуда родом. Из-за своего недуга Мутил не возражал против длительного отсутствия жены. От такого мужа мало толку. И если по вполне понятным причинам его жене требуется физическое утешение, то лучше пусть она найдет это утешение там, где мужа нет. Но никаких скандальных пикантностей о ее поведении к нему в Эсернию не доходило, что могло означать одно из двух: либо она добровольно живет в воздержании, в то время как его воздержание вызвано недугом, либо же ее осторожность может служить примером всем прочим женам. И когда Мутил прибыл домой в Теан, он с нетерпением предвкушал встречу с Бастией.
– Я не ожидала увидеть тебя, – сказала она совершенно спокойно.
– Разумеется, ведь я не писал, что приеду, – согласился он. – Ты хорошо выглядишь.
– Я хорошо себя чувствую.
– Если учесть некоторую ограниченность моей жизни, то я тоже довольно прилично себя чувствую, – продолжал он, понимая, что их встреча произошла совсем не так, как он надеялся: Бастия держалась отчужденно, слишком учтиво.
– Что привело тебя в Теан? – спросила она.
– Моя армия стоит у города. Мы собираемся воевать с Суллой. Вернее, моя армия. А я останусь здесь, с тобой.
– И как долго? – вежливо поинтересовалась она.
– Пока все не кончится – так или иначе.
– Понимаю.
Она откинулась в кресле, великолепная женщина тридцати лет, и посмотрела на него спокойно, без тени того жгучего желания, которое он, бывало, видел в ее глазах, когда они только что поженились и он еще был мужчиной.
– Что я должна сделать, чтобы твое пребывание здесь было удобным для тебя, муж мой? Есть ли что-то особенное, в чем ты нуждаешься?
– У меня есть специальный слуга. Он знает, что делать.
Красиво распределив облако дорогого газа вокруг своего изумительного тела, она продолжала смотреть на него огромными темными глазами, за которые ее прозывали «волоокой».
– Обедать будешь ты один? – спросила она.
– Нет, еще трое. Мои легаты. Тебя это затруднит?
– Конечно нет. Обед в твоем доме сделает тебе честь, Гай Папий.
Действительно, обед оказался превосходным. Бастия была отличной хозяйкой. Она знала двоих из трех гостей, которые пришли отобедать со своим больным командиром, – Понтия Телезина и Марка Лампония. Телезин был самнит из очень древнего рода, слишком молодой, чтобы командовать в Италийской войне. Теперь ему было тридцать два года, он был красив и осмелел настолько, что позволил себе окинуть хозяйку оценивающим взглядом, который заметила только она одна. И хорошо, что она проигнорировала этот взгляд. Телезин был самнитом, а это означало, что он ненавидит римлян больше, чем восхищается женщинами.
Марк Лампоний, вождь луканского племени, был ярым врагом Рима во время Италийской войны. Теперь, в возрасте пятидесяти с лишним лет, он все еще был настроен воинственно и жаждал пролить римскую кровь. «Они никогда не изменятся, эти италики, – подумала Бастия. – Разрушить Рим значит для них больше, чем жизнь, процветание или покой. Даже больше, чем дети».
Третьего гостя Бастия никогда раньше не видела. Он был, как и она, родом из Кампании, известный человек в Капуе. Звали его Тиберий Гутта. Он был толстый, звероподобный, с большим самомнением и, как и прочие, фанатично жаждал крови римлян.
Бастия покинула столовую, как только муж позволил ей удалиться. Ее душил гнев, который она изо всех сил старалась скрыть. Это несправедливо! Все только-только стало приходить в норму. Люди уже решили, что другой Италийской войны не будет. И вот оно! Все начинается заново. Ей хотелось громко крикнуть, что ничего не изменится, Рим опять сотрет их всех в порошок. Но она сдержалась. Даже если бы они и поверили ей, патриотизм и гордость не позволили бы им пойти на попятную.
Но гнев не покидал Бастию. Она ходила взад-вперед по мраморному полу своей гостиной, сгорая от желания наброситься с кулаками на этих тупоголовых дураков. Особенно бесил ее собственный муж, предводитель своего народа, тот, на кого самниты смотрят как на вождя. И куда же он ведет их? На войну с Римом. На верную смерть. Подумал ли он о том, что, когда падет он, все, кто был с ним, тоже погибнут? Конечно нет! Он ведь мужчина, со всеми мужскими идиотскими понятиями о национальной идее, о мщении. Воплощение мужчины, хотя лишь наполовину. И оставшаяся половина Мутила для нее была бесполезна. Эта половина не могла служить ни для воспроизводства потомства, ни для удовольствия.
Бастия остановилась, чувствуя, как ей стало жарко от этого гнева, как все в ней вскипело. Она кусала губы, ощущая вкус крови. Она вся пылала.
Был один раб… Один из тех греков из Самофракии, с волосами такими черными, что на свету они отливали синевой, с бровями, сросшимися на переносице в бесстыдном изобилии, и с глазами цвета горного озера. А кожа у него такая гладкая, что хотелось целовать ее… Бастия хлопнула в ладоши.
Когда вошел управляющий, она посмотрела на него, вскинув подбородок, с покусанными губами, распухшими и красными, как клубника.
– Господа в столовой довольны? – спросила Бастия.
– Да, domina.
– Хорошо. Продолжай прислуживать им. И пришли ко мне сюда Ипполита. Я думаю, он может кое-что сделать для меня, – велела она.
Лицо управляющего осталось неподвижным. Поскольку его хозяин Мутил не пожелал жить в Теане, где обитала его хозяйка Бастия, следовательно, хозяйка для него много значила. Она должна быть счастлива. Он поклонился.
– Я сейчас же отправлю к тебе Ипполита, госпожа, – сказал он и вышел из комнаты, продолжая кланяться.
В триклинии о Бастии забыли, как только она ушла на свою половину.
– Карбон уверяет меня, что связал Суллу в Клузии по рукам и ногам, – сказал Мутил своим легатам.
– Ты этому веришь? – спросил Лампоний.
Мутил нахмурился:
– У меня нет оснований не верить ему, но я, конечно, не могу знать наверняка. А у тебя есть повод думать иначе?
– Нет, кроме того, что Карбон – римлянин.
– Правильно, правильно! – воскликнул Понтий Телезин.
– Фортуна изменчива, – молвил Тиберий Гутта из Капуи. Лицо его лоснилось от жира жареного каплуна с хрустящей масляной корочкой, начиненного каштанами. – На данный момент мы сражаемся на стороне Карбона. После того как побьем Суллу, можем напасть на Карбона и римлян и содрать с них шкуру.
– Точно, – улыбаясь, согласился Мутил.
– Мы должны сейчас же идти на Пренесту, – сказал Лампоний.
– Завтра, – быстро добавил Телезин.
Но Мутил энергично замотал головой:
– Нет. Пусть люди отдохнут здесь еще дней пять. У них был трудный переход, и им предстоит одолеть Латинскую дорогу. Когда они подойдут к фортификациям Офеллы, у них должны быть силы.
Итак, вопрос обсудили с перспективой относительного безделья в следующие пять дней. Обед закончился значительно раньше, чем предполагал управляющий. Занятый на кухне со слугами, он ничего не видел, ничего не слышал. И его не оказалось рядом, когда хозяин дома приказал своему огромному слуге-германцу отнести его в комнату хозяйки.
Бастия голая стояла на коленях на подушках своего ложа, с широко раздвинутыми ногами, а между ее блестящих бедер виднелась мужская голова с сине-черной гривой волос. Плотное, мускулистое тело мужчины распростерлось на ложе так непринужденно, словно принадлежало спящей кошке. Бастия откинулась назад, поддерживая себя руками, ее пальцы впились в подушки.
Дверь тихо отворилась. Слуга-германец застыл с хозяином на руках, словно переносил молодую жену через порог ее нового дома. Он ждал дальнейших приказаний с молчаливой выносливостью человека, находящегося вдали от родины, не знающего ни латыни, ни греческого, постоянно терзаемого болью потерь и не способного выразить эту боль словами.
Глаза мужа и жены встретились. В ее взгляде блеснуло торжество, ликование. В его взгляде – изумление без притупляющего боль шока. Невольно его глаза скользнули по ее потрясающей груди, по глянцу ее живота, и вдруг все заволокло слезами.
Молодой грек, поглощенный своим занятием, уловил какую-то перемену, напряжение в женщине, не связанное с его действиями, и приподнял голову. Ее руки, как две змеи в мгновенном броске, обхватили его голову и прижали к себе, не отпуская.
– Не останавливайся! – выкрикнула она.
Не в состоянии отвести глаз, Мутил смотрел на взбухшие соски, готовые лопнуть. Бедра ее двигались, мужская голова, засунутая между ними, двигалась в такт. А потом на глазах своего мужа Бастия вскрикнула и отчаянно застонала. Мутилу казалось, что это длилось вечно.
Потом она отпустила голову и столкнула молодого грека, который скатился с ложа и остался лежать на спине. Его охватил такой ужас, что он почти перестал дышать.
– Ты ничего не можешь сделать вот этим, – сказала мужу Бастия, показывая на опадающую эрекцию раба, – но язык у тебя имеется, Мутил.
– Ты права, язык имеется, – согласился он, осушив слезы. – Он вполне чувствительный. Но нечистоты ему не по вкусу.
Германец унес его из комнаты Бастии в хозяйскую спальню и осторожно уложил на кровать. Потом, закончив все необходимые дела, оставил Гая Папия Мутила одного. Без слов сочувствия и утешения. «И это проявление самого большого милосердия», – подумал Мутил, зарывшись в подушку. Перед его глазами все еще стояло тело жены, ее груди с набухшими сосками и эта голова – эта голова! Эта голова… Ниже пояса ничто не шевельнулось. Там никогда больше не могло шевельнуться. Но остальная часть его тела знала, что такое пытки и мечты, и жаждала любого проявления любви. Любого проявления!
– Ведь я не умер, – прошептал он в подушку, почувствовав подступившие слезы. – Я не умер! Но, клянусь всеми богами, лучше бы я умер!
В конце июня Сулла покинул Клузий. С собой он взял свои пять легионов и три легиона Сципиона. Помпея он назначил командовать оставшимся войском. Это решение было не слишком благосклонно воспринято другими его легатами. Но поскольку Сулла был Суллой и никто открыто с ним не спорил, старшим остался Помпей.
– Покончи с ними, – сказал он Помпею. – У них людей больше, чем у тебя, но они деморализованы. Однако, когда они обнаружат, что я ушел, они нападут. Следи за Дамасиппом, он самый умный среди них. Красс справится с Марком Цензорином, а Торкват должен разобраться с Карриной.
– А Карбон? – спросил Помпей.
– Карбон – пустое место. Он заставляет своих легатов командовать за него. Но не радуйся, Помпей. У меня для тебя другая работа.
Неудивительно, что Сулла взял с собой легатов старше Помпея. Ни Ватия, ни старший Долабелла не перенесли бы такого унижения – исполнять приказы двадцатитрехлетнего юнца. Уход Суллы последовал сразу же после получения сообщения о самнитах, ему необходимо было немедленно перебросить к Пренесте войска, чтобы успеть занять позиции до прибытия самнитской армии.
Тщательно разведав обстановку во всем регионе со стороны Рима, Сулла точно знал, что делать. Пренестинская и Лабиканская дороги были теперь перекрыты стеной и траншеей, построенными Офеллой. А Латинская и Аппиева дороги оставались открытыми. Они все еще соединяли Рим и север с Кампанией и югом. Если Сулла победит в этой войне, жизненно важно, чтобы сообщение между Римом и югом находилось под его контролем. Этрурия истощена, но в Самнии и Лукании еще достаточно и людей, и продовольствия.
Сельская местность между Римом и Кампанией была сложной. Со стороны побережья тянулись Помптинские болота, через которые из Кампании пролегала прямая Аппиева дорога, кишащая комарами. Вблизи Рима она наконец поднималась и шла отрогами Альбанских холмов. Вообще-то, это были не холмы, а настоящие грозные, труднопроходимые горы, подножиями которых служили вулканические породы. Собственно гора Альбан высилась между Аппиевой дорогой и другой, материковой, Латинской. К югу от Альбанских холмов другой горный хребет отделял Аппиеву дорогу от Латинской, таким образом не позволяя соединиться этим двум главным артериям на всем пути от Кампании почти до самого Рима. Для военных маршей всегда предпочитали Латинскую дорогу. Люди заболевали, если подолгу шли по Аппиевой дороге.
Поэтому Сулле лучше было остановиться на Латинской дороге, но в месте, откуда, если возникнет необходимость, он сможет быстро перебросить войска на Аппиеву. Обе дороги вели по Альбанскому горному массиву, но Латинская дорога проходила через ущелье на восточном откосе кряжа и дальше, до самого Рима, пролегала по более ровному участку между этой возвышенностью и самой горой Альбан. В месте, где ущелье выходило к горе, короткое ответвление дороги огибало с запада эту центральную вершину и соединялось с Аппиевой дорогой недалеко от священного озера Неми и храмовой территории.
Здесь, в ущелье, Сулла расположился и стал строить огромные стены из туфовых блоков с каждого конца ущелья, закрывая боковую дорогу, которая вела к озеру Неми и Аппиевой дороге. Здесь все движение можно было остановить в обоих направлениях. В короткое время завершив работы, Сулла расставил несколько дозоров на Аппиевой дороге, чтобы быть уверенным, что противник не попытается обойти его. Все продовольствие для его войска доставлялось по боковой дороге.
К тому времени, как самнито-лукано-капуанское войско достигло Сакрипорта, все уже называли эту армию «самнитами», несмотря на ее сложный состав (увеличенный за счет остатков легионов, рассеянных Помпеем и Крассом и приставших к этой сильной, хорошо организованной армии). В Сакрипорте войско «самнитов» выбрало Лабиканскую дорогу, но обнаружило, что Офелла находится за второй осадной линией и оттуда его нельзя выманить. Сиявшая с высот мириадами красок Пренеста была от них далека, как сад Гесперид. Проехав вдоль всей стены Офеллы, Понтий Телезин, Марк Лампоний и Тиберий Гутта не нашли ни одного слабого места, а марш семидесяти тысяч человек по пересеченной местности в неизвестном направлении был невозможен. Военный совет изменил стратегию: единственный способ выманить Офеллу – это атаковать Рим. Поэтому самнитская армия направится к Риму по Латинской дороге.
Они возвратились в Сакрипорт и повернули на Латинскую дорогу. Но там за огромными крепостными валами сидел Сулла, полностью контролируя этот путь. Напасть на его позиции казалось намного легче, чем на стены Офеллы, поэтому самниты атаковали Суллу. Когда первая попытка провалилась, они повторили ее. И снова, и снова. Но они слышали только громкий смех Суллы.
Затем поступили новости, как хорошие, так и плохие. Войска, оставленные в Клузии, совершили вылазку и ввязались в бой с Помпеем. То, что они потерпели полное поражение, было, конечно, плохо, но это казалось не таким важным по сравнению с сообщением о том, что приблизительно двадцать тысяч уцелевших солдат идут на юг с Цензорином, Карриной и Брутом Дамасиппом. Сам Карбон исчез, но «борьба, – клялся Брут Дамасипп в своем письме Понтию Телезину, – будет продолжена. Если напасть на позиции Суллы с обеих сторон одновременно, он не выдержит. Должен не выдержать!».
– Ерунда, конечно, – сказал Сулла Помпею, которого вызвал в свое ущелье для совещания, как только узнал о победе Помпея в Клузии. – Они могут, если захотят, взгромоздить Пелион на Оссу, но им не удастся меня выманить. Это место готовилось для обороны! Оно неуязвимо и неприступно.
– Если ты так уверен, для чего тебе я? – спросил молодой человек, чувствуя, как испаряется гордость, вызванная сознанием собственной значимости.
Кампания в Клузии была короткой, беспощадной, решительной. Много противников убито, много взято в плен, а те, кому удалось скрыться, принадлежали к числу людей, которые вообще всегда заранее планируют отступление. В рядах сдавшихся не оказалось старших легатов, что послужило большим разочарованием. Об измене самого Карбона Помпей не знал, пока не кончилось сражение, – только тогда историю о его ночном побеге со слезами на глазах рассказали Помпею трибуны, центурионы и солдаты. Великое предательство!
Сразу же после этого пришел вызов от Суллы, что доставило Помпею огромную радость. От него требовалось привести шесть легионов и две тысячи кавалерии. То, что Варрон последует за Помпеем, само собой разумелось. В то же время Красс и Торкват оставались в Клузии. Но для чего Сулле потребовалось столько солдат в лагере, и без того трещавшем по швам? И действительно, армия Помпея была направлена в лагерь на берегу озера Неми.
– Здесь ты мне не нужен, – объяснил Сулла, облокотившись на парапет наблюдательной башни на стене, он тщетно вглядывался в направлении Рима. Его зрение сильно ухудшилось с тех пор, как он заболел, хотя признаваться в этом ему не хотелось. – Я все ближе, Помпей! Все ближе и ближе.
Обычно не робкий, Помпей не мог высказать вопрос, который так и вертелся у него на языке: что будет делать Сулла, когда война закончится? Как он собирается восстанавливать свою репутацию, как защитит себя от будущих репрессий? Он же не сможет все время держать при себе армию. А как только Сулла распустит ее, любой, кто обладает достаточным авторитетом, будет иметь право призвать его к ответу. И может статься, что этим человеком окажется кто-то из нынешних преданных сторонников Суллы. Кто знает, о чем на самом деле думают такие люди, как Ватия и старший Долабелла? Оба достигли консульского возраста. Как сможет Сулла отгородиться от всех своих врагов? Враги великого человека – как Гидра. Не имеет значения, сколько голов ему удастся отрубить, они всегда будут отрастать снова, и зубы у них каждый раз будут страшнее и острее.
– Если здесь я тебе не нужен, Сулла, то где я нужен тебе? – с недоумением спросил Помпей.
– Сейчас начало секстилия, – сказал Сулла, повернулся и стал спускаться по ступенькам.
Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до дна ущелья под стенами, где люди носили камни и масло, чтобы бросать зажженные факелы на головы тех, кто попытается взобраться на стены, а также снаряды для катапульт, уже ощетинившихся на укреплениях. Солдаты складывали пики, стрелы и щиты.
– Сейчас начало секстилия, – напомнил Помпей, когда они с Суллой остались одни и пошли по боковой дороге к озеру Неми.
– Ну разумеется! – с удивлением сказал Сулла и засмеялся, увидев выражение лица Помпея.
Очевидно, от Помпея ждали, что он тоже засмеется. Помпей засмеялся.
– Да, точно, – сказал он и добавил: – Начало секстилия.
С трудом успокоившись, Сулла решил, что повеселился достаточно. Лучше над этим будущим Александром больше не смеяться и сказать ему все.
– У меня для тебя, Помпей, особое поручение, – отрывисто проговорил Сулла. – Остальные тоже узнают об этом, но не сейчас. Я хочу, чтобы ты был уже далеко, прежде чем поднимется буря протеста – ибо протестовать будут! Видишь ли, я хочу попросить тебя об одной вещи, которую не должен поручать никому, кто не был хотя бы претором.
Заинтригованный, Помпей остановился, взял Суллу за руку и повернул лицом к себе – темно-голубые глаза заглянули в светло-голубые. Они стояли в лощине на обочине открытой дороги, и шум работ, ведущихся впереди и позади, заглушался густыми зарослями куманики, роз и ежевики.
– Тогда почему ты выбрал меня, Луций Корнелий? – спросил Помпей удивленно. – У тебя много легатов, которые отвечают этим требованиям: Ватия, Аппий Клавдий, Долабелла. Даже Мамерк и Красс кажутся более подходящими. Так почему же я?
– Не умри от любопытства, Помпей, я все объясню. Но сначала я должен сообщить тебе, чего именно я от тебя хочу.
– Слушаю, – сказал Помпей, успокаиваясь.
– Я уже приказал тебе, чтобы ты привел шесть легионов и две тысячи кавалерии. Это внушительная армия. Ты возьмешь ее на Сицилию и обеспечишь для меня сохранность нового урожая. Сейчас начало секстилия, и очень скоро урожай созреет. В гавани Путеол находится большая часть флота для перевозки зерна. Сотни и сотни пустых судов. Готовый транспорт, Помпей! Завтра ты выйдешь на Аппиеву дорогу и направишься в Путеолы, пока зерновой флот не отплыл. У тебя будет мандат от меня и достаточно денег, чтобы заплатить за наем кораблей. У тебя будут полномочия пропретора. Отправь кавалерию в Остию, там флот поменьше. Я уже послал гонцов в порты Таррацина и Антий и приказал всем мелким судовладельцам собраться в Путеолах, если они хотят получить деньги за то, что при обычных обстоятельствах было бы пустым рейсом. У тебя будет кораблей более чем достаточно, я это гарантирую.
Не мечтал ли Помпей однажды о своей встрече с этим богоподобным человеком по имени Луций Корнелий Сулла? И не был ли он повергнут в прах, увидев перед собою сатира, а не бога? Но что значит внешность, если этот сатир обеими руками держит все его мечты? Обезображенный рубцами пьяный старик, чьи глаза даже не могли различить видневшийся вдалеке Рим, предлагал ему вести свою войну! Войну, в которую больше никто не вмешается, войну против врага, который будет только его врагом… Помпей ахнул, протянул веснушчатую руку с короткими, немного крючковатыми пальцами и схватил красивую руку Суллы:
– Луций Корнелий, это замечательно! Замечательно! О, ты можешь на меня рассчитывать! Я выгоню Перперну Вейентона из Сицилии и доставлю тебе пшеницы больше, чем смогут съесть десять армий!
– Мне и понадобится больше пшеницы, чем смогут съесть десять армий, – сказал Сулла, высвобождая свою руку. Несмотря на юность и бесспорную привлекательность, Помпей не принадлежал к тому типу, который нравился Сулле. – К концу этого года Рим станет моим. И если я хочу, чтобы Рим мне подчинился, я должен быть уверен, что он не будет голодать. Это означает сицилийское зерно, сардинское зерно и, если возможно, африканское зерно. Так что, когда ты закончишь дела на Сицилии, отправляйся в провинцию Африка и там сделай все, что сможешь. Ты не сумеешь перехватить нагруженный зерном флот из Утики и Гадрумета. Думаю, ты проведешь на Сицилии не один месяц, прежде чем у тебя появится возможность отправиться в Африку. Но Африку следует подчинить до твоего возвращения в Италию. Я слышал, что Фабия Адриана сожгли в наместническом дворце во время восстания в Утике, но что Гней Домиций Агенобарб – бежав из Сакрипорта! – занял его место и сделал Африку нашим врагом. Если ты будешь в Западной Сицилии, от Лилибея морем недалеко до Утики. Ты обязан прибрать Африку к рукам. Во всяком случае, ты не похож на неудачника.
Помпей буквально дрожал от возбуждения. Он улыбался, ему было трудно дышать.
– Я не подведу тебя, Луций Корнелий! Клянусь, я никогда тебя не подведу!
– Я верю тебе, Помпей. – Сулла сел на бревно, облизнул губы. – Что мы здесь делаем? Я хочу вина!
– Здесь хорошее место, нас никто не увидит, никто не услышит, – резонно ответил Помпей. – Подожди, Луций Корнелий, я принесу тебе вина. Сиди здесь и жди.
Поскольку место находилось в тени, Сулла подчинился, улыбаясь каким-то своим тайным мыслям. О, какой чудесный день!
Помпей прибежал обратно, даже не запыхавшись. Сулла схватил бурдюк с вином, умело направил струю в рот, ухитряясь одновременно и глотать, и дышать. Прошло некоторое время, пока он напился и отложил бурдюк.
– Ох, теперь лучше. На чем я остановился?
– Ты можешь обмануть многих, Луций Корнелий, но не меня. Ты точно знаешь, на чем ты остановился, – холодно сказал Помпей и сел на траву напротив Суллы.
– Очень хорошо! Помпей, люди, подобные тебе, такая же редкость, как океанский жемчуг размером с голубиное яйцо. И могу сказать, что я очень рад, что умру задолго до того, как ты станешь головной болью Рима.
Он снова поднял бурдюк с вином, опять отпил.
– Я никогда не буду головной болью Рима, – с невинным видом отозвался Помпей. – Я просто буду Первым Человеком в Риме – и отнюдь не благодаря той претенциозной чепухе, которую принято говорить на Форуме и в сенате.
– Тогда как, мальчик, если не благодаря волнующим речам?
– Сделав то, что ты мне поручил. Победив противников Рима в сражениях.
– Способ не новый, – сказал Сулла. – Таким способом воспользовался и я. И эту же тактику применял Гай Марий.
– Да, но я не собираюсь бросаться своими комиссионными, – молвил Помпей. – Рим отдаст мне все до последнего сестерция, приползет на коленях!
Сулла мог расценить это утверждение как укор или даже как открытую критику. Но он знал Помпея и понимал: большая часть из того, что говорил молодой человек, продиктована самовлюбленностью. Помпей еще не осознавал, как трудно будет воплотить в жизнь эти слова. Поэтому Сулла только вздохнул:
– Строго говоря, я не могу дать тебе никаких полномочий. Я не консул, и у меня за спиной нет ни сената, ни народа Рима, которые провели бы мои законы. Ты просто должен понять: я даю тебе возможность по возвращении получить должность претора.
– Я в этом не сомневаюсь.
– Ты вообще в чем-нибудь сомневаешься?
– Нет, если это касается лично меня. Я могу влиять на события.
– Желаю тебе никогда не меняться! – Сулла подался вперед, стиснул коленями руки. – Хорошо, Помпей, с комплиментами покончим. Слушай меня очень внимательно. Я должен сказать тебе еще две вещи. Первая касается Карбона.
– Слушаю, – сказал Помпей.
– Он отплыл из Теламона со старым Брутом. Теперь, возможно, он направляется в Испанию или даже в Массилию. Но в это время года, скорее всего, его конечной целью является Сицилия или Африка. Пока он на свободе, он – консул. Избранный консул. Это значит, что достоинство его империя выше наместнического. И он может взять на себя командование войском наместника, ополчением или ауксилариями и вообще превратиться для всех нас в источник постоянных неприятностей, пока не кончится срок его консульства. А консулом он останется еще несколько месяцев. Я не собираюсь говорить тебе, что именно я буду делать, когда Рим будет моим, но вот что я тебе скажу: для меня жизненно важно, чтобы Карбон был мертв до того, как кончится срок его полномочий. И я обязательно должен знать, что Карбон мертв! Твоя задача – выследить Карбона и убить его. Очень тихо и не вызывая подозрений. Я бы хотел, чтобы его смерть выглядела несчастным случаем. Ты возьмешься за это?
– Да, – не колеблясь ответил Помпей.
– Хорошо! Хорошо! – Сулла стал рассматривать свои руки, вертя их, словно они принадлежали кому-то другому. – Теперь вторая вещь. Вот причина, по которой я доверяю эту заморскую кампанию тебе, а не любому из моих старших легатов. – Он пристально посмотрел на молодого человека. – Ты можешь сам понять почему, Помпей?
Помпей подумал, пожал плечами:
– У меня есть некоторые соображения, но, поскольку я не знаю твоих дальнейших планов относительно Рима – когда ты получишь власть, – все мои догадки, вероятно, ошибочные. Скажи мне.
– Помпей, ты – единственный, кому я могу доверить это задание! Если я дам шесть легионов и две тысячи кавалерии такому человеку, как Ватия или Долабелла, и пошлю этого человека на Сицилию и в Африку, что ему помешает по возвращении попытаться занять мое место? Ему только потребуется выждать, пока я распущу армию, а потом он возвратится и сместит меня. Сицилия и Африка – это кампания, которую вряд ли можно завершить за полгода, так что вполне вероятно, что я вынужден буду распустить свою армию, прежде чем любой, кого я отправлю за зерном, вернется домой. Я не могу держать в Италии постоянную армию. Для нее нет ни денег, ни места. К тому же сенат и народ никогда на это не пойдут. Мне приходится постоянно следить за каждым, кто занимает достаточно высокий пост, чтобы стать моим соперником. Поэтому я и посылаю тебя обеспечить мне урожай и дать мне возможность кормить неблагодарный Рим.
Помпей сделал глубокий вдох, обхватил руками колени и в упор посмотрел на Суллу:
– А что удержит меня от предательства, Луций Корнелий? Если я успешно завершу кампанию, разве не могу я подумать о том, чтобы сместить тебя?
Сулла даже не вздрогнул. Он только искренне засмеялся:
– Ох, Помпей, да думай об этом сколько хочешь! Но Рим никогда тебе не подчинится! Ни на мгновение! Он подчинится Ватии или Долабелле. Они старше тебя, у них есть родственники, предки, влияние, клиенты. Но двадцатитрехлетний юнец из Пицена, которого Рим не знает? Ни шанса!
И на этом тема была закрыта. Они разошлись в разные стороны. Когда Помпей встретил Варрона, то лишь сообщил этому неутомимому наблюдателю жизни и природы, что он должен поехать на Сицилию и доставить Сулле урожай. О полномочиях, о старших легатах, о порученном ему убийстве Карбона и о многом другом он вообще не упомянул. Помпей попросил Суллу только об одном – чтобы тот разрешил ему взять с собой зятя, Гая Меммия, в качестве старшего легата. Меммий, на несколько лет старше Помпея, но еще не квестор, служил в легионах Суллы.
– Ты абсолютно прав, Помпей, – сказал с улыбкой Сулла. – Отличный выбор! Пусть это будет семейным предприятием.
Одновременная атака на фортификации Суллы с севера и с юга началась через два дня после ухода Помпея с армией в Путеолы за зерновым флотом. Атака велась на обе стены, но захлебнулась, не причинив осаждаемым вреда. Сулла по-прежнему удерживал Латинскую дорогу, и атакующие с севера и с юга не могли соединиться. На рассвете второго дня дозорные на башнях обеих стен не увидели уже никого. Ночью неприятель собрался и тихо ушел. Весь день поступали сообщения о том, что двадцать тысяч, принадлежавших Цензорину, Каррине и Бруту Дамасиппу, идут по Аппиевой дороге в Кампанию и что самниты двигаются по Латинской дороге в том же направлении.
– Пусть топают, – равнодушно отреагировал Сулла. – В конце концов, я думаю, они вернутся – вместе. И когда они вернутся, они придут по Аппиевой дороге. И там я буду их ждать.
К концу секстилия самниты и остатки армии Карбона соединились во Фрегеллах. Там они сошли с Латинской дороги и зашагали на восток через ущелье Мелфы.
– Их путь – в Эсернию, там они будут обдумывать, что им делать дальше, – сказал Сулла, но не приказал преследовать их. – Достаточно выставить дозорных на Латинской дороге в Ферентине и на Аппиевой дороге в местечке Трестаберны. Мне будет довольно получить от них сигнал, я не собираюсь зря посылать своих разведчиков, чтобы они шныряли вокруг самнитов в Эсернии.
Военные действия внезапно начались в Пренесте, где неугомонный Марий-младший, становившийся все более и более непопулярным, вышел из ворот города и вторгся на ничейную полосу. В самой западной точке хребта он стал строить огромную осадную башню, рассудив, что в этом месте стена Офеллы слабее всего. На полосе не росло ни единого деревца. Только дома и храмы могли дать для строительства лес, гвозди, болты, панели и черепицу.
Самой опасной была работа по устройству ровной дороги, чтобы башню можно было продвинуть от места, где она строилась, до края траншеи Офеллы, ибо работники находились на виду у метких стрелков, стоявших на стенах. Марий-младший отобрал для работы самых молодых и расторопных среди своих помощников и сделал для них временный навес, под которым они могли укрыться. Недалеко от них, на безопасном расстоянии, трудилась другая команда – с мелкими кусками дерева, которые нельзя использовать в строительстве башни. Они сооружали мост из деревянных пластин, чтобы перекинуть его через траншею, когда настанет время перемещать башню к стене Офеллы. Поскольку работа двигалась достаточно быстро, строители вскоре укрылись внутри самой башни, и казалось, что она растет сама по себе, становясь все выше и выше.
Через месяц она была готова. Осажденные завершили и мост, по которому тысяча пар рук будут толкать башню вперед. Но Офелла тоже подготовился, у него имелась для этого масса времени. Мост был перекинут через траншею в самое темное время суток, башня катилась, постанывая на стапеле, смазанном овечьим жиром и маслом. На рассвете башня, которая была на двадцать футов выше стены, достигла нужного места. Внизу, внутри ее, висел на веревках, для прочности обмазанных смолой, мощный таран, сделанный из цельной балки, на которой раньше держалась крыша храма Фортуны Примигении, первородной дочери Юпитера, талисмана удачи всякого италика.
Много лет должно пройти, прежде чем туф затвердеет так, что начнет крошиться. Поэтому таран, громивший стену Офеллы, оказался бесполезен. Упругие блоки туфа дрожали и вибрировали, но выдержали удар. А потом катапульты Офеллы стали метать горящие снаряды, которые подожгли башню. Солдаты отогнали атакующих, бросая со стены пики и стрелы, обмотанные горящей шерстью. К ночи башня превратилась в руины, рассыпанные на дне траншеи. А те, кто пытался прорваться, или погибли, или вернулись в Пренесту.
Несколько раз за октябрь Марий-младший пытался использовать мост через траншею, наполненную обломками своей башни. Он навел крышу на секцию между стеной Офеллы и траншеей, чтобы обезопасить своих людей, и попытался сделать подкоп. Потом он хотел проделать дыру в стене и наконец решил перелезть через стену. Ничто не сработало. Вот-вот должна была наступить зима, похоже такая же суровая. В Пренесте кончалось продовольствие, и город проклинал тот день, когда он открыл ворота сыну Гая Мария.
Самнитская армия не пошла на Эсернию. Девяносто тысяч солдат осели в горах к югу от Фуцинского озера и почти два месяца посвятили учениям. Понтий Телезин и Брут Дамасипп отправились на встречу с Мутилом в Теане и уехали от него с планом взять Рим врасплох – так, чтобы Сулла не знал об этом. Мутил сказал, что Мария-младшего следует предоставить самому себе. Единственный шанс, оставшийся для всех здравомыслящих людей, – захватить Рим, а Суллу и Офеллу вовлечь в длительную осаду, полную ужасных сомнений: поддержат ли самнитов жители Рима?
Между ущельем Мелфы и Валериевой дорогой имелся проход, больше похожий на горную тропу. Тропа эта пересекала горы возле Атины позади ущелья Мелфы – в дикой местности; шла до города Сора, расположенного на изгибе реки Лирис, затем к Требе, к городу Сублаквей и наконец выходила на Валериеву дорогу, почти на милю восточнее местечка Вария, у маленькой деревушки под названием Мандела. Тропа немощеная, за ней даже никто не следил, но она существовала там столетия. По этому пути пастухи каждое лето перегоняли свои стада с пастбища на пастбище. По этой дороге стада вели на продажу или на бойню на Овечье поле и в долину Камен, что примыкали к Авентину.
Если бы Сулла вспомнил то время, когда он шел маршем из Фрегелл к Фуцинскому озеру, чтобы помочь Гаю Марию победить Силона и марсов, он вспомнил бы и эту пастушью тропу, потому что тогда он смог пройти по ней от Соры до Требы. Но в Требе он свернул с тропы и не подумал выяснить, куда она ведет севернее Требы. Так что один шанс, который имелся у Суллы, чтобы перехитрить Мутила, он проглядел. Полагая, что единственная открытая самнитам дорога, если те решат атаковать Рим, была Аппиева, Сулла оставался в своем ущелье на Латинской дороге и следил, уверенный, что врасплох его не застанут.
И пока он выжидал, самниты и их союзники с трудом продвигались по горной тропе, проторенной пастухами и скотом. Их путь пролегал по враждебной Риму территории. Самниты думали, что недосягаемы для самых передовых дозоров Суллы. Позади остались Сора, Треба, Сублаквей, и наконец самниты вышли на Валериеву дорогу у Манделы. Теперь они находились на расстоянии одного дня пути от Рима. Тридцать миль по превосходной дороге. Валериева дорога спускалась вниз, шла через Тибур и долину реки Анио и заканчивалась на Эсквилинском холме ниже двойного крепостного вала в Риме.
Но это было не лучшее место для вторжения в город, поэтому, когда большая армия приблизилась к Риму, Понтий Телезин и Брут Дамасипп прошли по дивертикулу, который привел их на Номентанскую дорогу к воротам Рима возле Квиринальского холма. И там, у этих ворот, их ждал укрепленный лагерь, который построил для себя Помпей Страбон во время осады Рима Цинной и Гаем Марием. К ночи последнего дня октября Понтий Телезин, Брут Дамасипп, Марк Лампоний, Тиберий Гутта, Цензорин и Каррина удобно устроились в этом лагере. Утром они атакуют.
Известие, что армия в девяносто тысяч заняла старый лагерь Помпея Страбона за Квиринальскими воротами, пришло Сулле той же ночью. Он был пьян, но еще не спал. Немедленно затрубили рога, забили барабаны, люди соскакивали с постелей, везде горели факелы. Мгновенно протрезвев, Сулла созвал легатов.
– Они нас опередили, – процедил он сквозь сжатые губы. – Как они это сделали, я не знаю, но самниты сейчас у Квиринальских ворот и готовы атаковать Рим. На рассвете мы выступаем. Нам нужно пройти двадцать миль, часть пути по горам, но мы должны явиться к Квиринальским воротам утром, к сражению. – Сулла повернулся к командующему кавалерией Октавию Бальбу. – Сколько лошадей у тебя возле озера Неми, Бальб?
– Семьсот, – ответил Бальб.
– Тогда выступай сейчас же. Выйди на Аппиеву дорогу и лети как ветер. Ты подойдешь к Квиринальским воротам за несколько часов до того, как я, надеюсь, приведу туда пехоту, поэтому тебе придется удерживать их. Не знаю, что ты предпримешь, как ты это сделаешь! Просто приди туда и удерживай их до моего появления.
Октавий Бальб не тратил времени на разговоры. Он вышел от Суллы, кликнул коня и улетел, прежде чем Сулла заговорил с другими легатами.
Их было четверо – Красс, Ватия, Долабелла и Торкват. Потрясенные, но не потерявшие способность соображать.
– У нас здесь восемь легионов, и их должно быть достаточно, – сказал Сулла. – Это значит, что у противника в два раза больше. Я сейчас набросаю план, потому что, когда придем на место, времени для совещаний не будет.
Он замолчал, испытующе глядя на своих людей. Кто из них лучше? Кто способен повести солдат за собой в предстоящем отчаянном столкновении? По праву это должны быть Ватия и Долабелла, но лучшие ли они? Его взгляд остановился на Марке Лицинии Крассе, огромном как скала, непробиваемом, всегда спокойном. Снедаемый алчностью, вор и мошенник, беспринципный, безнравственный и аморальный. И все же из всех четверых ему было что терять в этой войне. Больше, чем всем остальным. Ватия и Долабелла выживут, у них есть влияние. Торкват хороший человек, но не лидер.
Сулла решился.
– Я пойду двумя отрядами по четыре легиона каждый, – сказал он, хлопнув себя по бедрам. – Верховное командование оставляю за собой, но не буду командовать ни одним отрядом. За неимением лучшего способа различать отряды я назову их «левый» и «правый», и, если по прибытии я не изменю решения, они так и будут сражаться – на левом фланге и на правом. Без центра. У меня недостаточно людей. Ватия, ты командуешь левым отрядом, Долабелла будет твоим помощником. Красс, ты поведешь правый отряд, Торкват – твой помощник.
Говоря это, Сулла посмотрел на Долабеллу и увидел гнев и возмущение. Не было нужды смотреть на Марка Красса. По его лицу ничего не узнаешь.
– Вот чего я хочу, – хрипло сказал он, выплевывая слова, потому что из-за отсутствия зубов не мог четко выговаривать их. – У меня нет времени на пререкания. Вы все связали свою судьбу со мной, вы дали мне право принимать окончательное решение. Теперь вы будете выполнять то, что вам говорят. Я хочу от вас одного: сражайтесь так, как я приказал.
Долабелла стоял у двери, пропуская вперед остальных. Затем он вернулся:
– Одно слово наедине, Луций Корнелий.
– Только быстро.
Долабелла был один из Корнелиев и дальний родственник Суллы, однако он происходил не от славной ветви Корнелиев Сципионов и не от ветви Суллы. Если он и имел что-то общее с большинством из Корнелиев, то простоватую внешность: пухлые щеки, хмурое лицо, близко поставленные глаза. Долабелла и его двоюродный брат, младший Долабелла, – оба амбициозные, с репутацией порочных людей – намеревались прославить свою ветвь рода.
– Я мог бы сломать тебя, Сулла, – сказал Долабелла. – Все, что мне нужно для этого, – сделать для тебя невозможной ту победу в утреннем сражении. Думаю, ты понимаешь, что я могу перейти на другую сторону так быстро, что противник решит, будто я все время был с ним.
– Продолжай! – сказал Сулла самым дружелюбным тоном, когда Долабелла замолчал, чтобы посмотреть, как собеседник воспримет его слова.
– Однако я подчинюсь твоему решению выдвинуть Красса через мою голову. На одном условии.
– Каком?
– В следующем году я буду консулом.
– Согласен! – воскликнул Сулла не раздумывая.
Долабелла остолбенел:
– И ты так спокоен?
– Ничто больше не сможет выбить меня из колеи, мой дорогой Долабелла, – сказал Сулла, провожая своего легата к двери. – В данный момент меня не слишком волнует, кто станет консулом на будущий год. Что сейчас главное, так это кто будет командовать на завтрашнем поле боя. И я вижу, что был прав, когда предпочел Марка Красса. Спокойной ночи!
Семьсот всадников Октавия Бальба прибыли к лагерю Помпея Страбона утром первого дня ноября. И если бы в тот момент возникла опасная для него ситуация, Бальб оказался бы бессилен что-либо предпринять. Его лошади были так измотаны, что стояли понурив головы, бока их вздымались, как мехи, все белые от пота, а с губ срывалась пена. Люди тщетно пытались успокоить животных, тихо разговаривая с ними и ослабив подпруги. По этой причине Бальб не стал подходить к противнику близко: пусть там думают, что его армия готова к бою! Он расставил всадников так, что казалось, будто они намереваются атаковать. Заставил их размахивать копьями и делать вид, что передают распоряжения невидимой пехоте, стоявшей за кавалерией.
Было очевидно, что штурм Рима еще не начался. Величественные Квиринальские ворота стояли закрытые, решетка опущена, двойные дубовые двери затворены. Из-за парапетов двух башен по бокам ворот высовывались головы римлян, а на стенах, тянущихся в обе стороны от ворот, собралось очень много народа. Прибытие Бальба спровоцировало внезапную активность во вражеском лагере. Солдаты стали выходить из юго-восточных ворот и строиться, чтобы отразить нападение кавалерии. Конницы противника не было видно, и Бальб мог лишь надеяться, что ее не прятали.
Каждый всадник на марше нес кожаное ведро, привязанное к заднему левому рогу седла, чтобы поить лошадь. Пока передний ряд делал вид, что готовится к атаке, а пехота стоит за ней, другие всадники бегали с ведрами к источникам, имевшимся поблизости. Как только лошадей напоили, Октавий Бальб был готов выполнить поставленную перед ним задачу.
Спектакль под названием «Сейчас нападем!» оказался настолько успешен, что ничего не происходило до самого прихода Суллы с пехотой четыре часа спустя. Легионеры Суллы были почти в таком же состоянии, как лошади Бальба: измотанные, ноги дрожат от многочасового забега на двадцать миль по неровной местности.
– Ну что ж, вероятно, сегодня мы атаковать не сможем, – сказал Ватия после того, как он и Сулла с другими легатами объехали местность и поняли, какая предстоит битва.
– Почему? – спросил Сулла.
Ватия удивленно посмотрел на него:
– Потому что они слишком устали, чтобы сражаться!
– Пусть устают сколько им угодно, но они будут сражаться, – сказал Сулла.
– Ты не можешь так говорить, Луций Корнелий! Ты проиграешь!
– Я могу так говорить, и я не проиграю, – безжалостно возразил Сулла. – Послушай, Ватия, мы должны сразиться сегодня! Эта война закончится здесь и сейчас. Самниты знают, как тяжело дался нам этот переход, самниты знают, что сегодня их шансы больше, чем в любой другой день. Если мы не навяжем им бой именно сегодня, когда они верят в возможность победить, кто знает, что случится завтра? Что помешает самнитам собраться ночью и исчезнуть, чтобы выбрать другое место встречи? Исчезнуть, может быть, на месяцы? До весны или даже до следующего лета, следующей осени? Нет, Ватия, мы будем драться сегодня. Потому что именно сегодня самниты мечтают увидеть нас мертвыми на поле у Квиринальских ворот.
Пока его солдаты отдыхали, ели, пили, Сулла ходил среди них, чтобы поговорить с каждым лично вместо обычной речи с ростры. Сулла хотел убедить их найти в себе силы, чтобы драться. Если они будут ждать, пока достаточно отдохнут, война затянется бесконечно. Большинство из них находились с ним уже несколько лет и, можно с уверенностью сказать, любили его. И даже легионы, раньше принадлежавшие Сципиону Азиагену, достаточно почувствовали на себе руку Суллы, чтобы считаться его людьми. Конечно, Луций Корнелий Сулла уже не выглядел тем прекрасным, богоподобным существом, которому они предложили венец из трав у города Нола несколько кампаний назад, но он все же был их человек. И разве сами они тоже не поседели с тех пор, не покрылись морщинами, не стали скрипеть костями? Поэтому, когда Сулла ходил среди них и просил их сразиться, они просто поднимали руки и отвечали: пусть он не беспокоится, они расправятся с самнитами.
Сражение началось за два часа до наступления темноты. Три легиона, которые принадлежали Сципиону Азиагену, составляли основную часть левого отряда Суллы, и хотя он не командовал левым крылом, но все-таки решил во время боя находиться в его расположении. Вместо своего обычного мула он взял себе белого коня и сказал об этом своим людям. Так они будут знать, где он находится, увидят его, если он появится среди них во время боя. Выбрав холм, с которого хорошо просматривалось все поле, Сулла сидел на белом коне и наблюдал за тем, как развиваются события. Он заметил, что жители Рима подняли решетку Квиринальских ворот, хотя никто не вышел, чтобы принять участие в сражении.
Вражеский отряд напротив его левого фланга был более грозным, потому что целиком состоял из самнитов и командовал им Понтий Телезин. Однако он был меньше численностью. «Что-то вроде компенсации», – подумал Сулла, тронув ногой конюха – сигнал для того вести его коня под уздцы. Сулла не был хорошим наездником и не доверял этой белой силе природы, предпочитая, чтобы коня вели. Да, левый фланг отступал, и полководец должен направиться туда. Находясь в низине, Ватия, вероятно, не видел, что одна из его главных проблем – это открытые ворота в город. Когда самниты наседали, рубя своими короткими мечами, часть людей Ватии проскальзывала в ворота, вместо того чтобы противостоять врагу.
Но прежде чем ринуться в гущу боя, он услышал громкий шлепок конюха по крупу лошади – та бросилась галопом. Сулла сообразил наклониться вперед, обеими руками схватился за гриву. Оглянувшись, он понял причину такого поступка: два копьеносца-самнита метнули в него копья одновременно, и Сулла рухнул бы с коня. То, что этого не случилось, было заслугой конюха, который заставил коня рвануться с места. Затем конюх догнал его и повис на хвосте животного. Сулла остановился, невредимый и все еще в седле.
Улыбка благодарности – и Сулла поскакал на поле сражения с мечом в руке и небольшим щитом, чтобы защитить левый бок. Он увидел нескольких знакомых ему людей и приказал им опустить решетку в воротах, что они и сделали, как он с изумлением заметил, не обратив даже внимания на тех, кто оказался в воротах в момент падения решетки. Не имея теперь возможности отступить, легионы Сципиона сдерживали натиск, пока легион ветеранов не начал медленно и упорно отбрасывать неприятеля.
Как обстояли дела у Красса и правого крыла, Сулла не имел понятия. Они были слишком далеко от него. Даже с холма он не мог ничего увидеть, но знал: если кто и сумеет справиться, то только Красс и четыре легиона ветеранов под его командованием. И еще он знал, что с самого начала левый фланг был его слабым местом.
Настала ночь, но битва продолжалась при свете тысяч факелов, зажженных на стенах Рима. И словно второе дыхание, к левому флангу Суллы вернулось мужество. Сам он все еще находился здесь, подбадривая испуганных людей Сципиона и участвуя в схватке, потому что его конюх, замечательный парень, никогда не позволял лошади быть помехой.
Вероятно, часа два спустя самниты, дравшиеся с левым флангом Суллы, дрогнули и отступили в лагерь Помпея Страбона. Они были слишком измотаны, поэтому Сулла беспрепятственно вошел в лагерь следом за ними. Охрипшие от крика Сулла, Ватия и Долабелла быстро закончили дело. Их солдаты изрубили на куски самнитов, укрывшихся за укреплениями. Понтий Телезин пал с разрубленным пополам лицом, и его люди запаниковали.
– Никаких пленных, – велел Сулла. – Убейте всех стрелами, если они захотят сдаться.
На этой стадии жестокого сражения было бы трудно убедить солдат пощадить врагов, поэтому все самниты погибли.
Только после разгрома Сулла, теперь верхом на надежном муле, нашел время поинтересоваться судьбой Красса. Правого фланга не было видно. Не видно было и неприятеля. Красс и его противники исчезли.
Около полуночи явился гонец. Сулла бродил по старому лагерю Помпея Страбона, удостоверяясь в том, что лежащие повсюду неподвижные воины действительно мертвы. Он остановился, увидев нового человека.
– Тебя послал Марк Красс? – спросил Сулла гонца.
– Да, – ответил гонец.
– Где же Марк Красс?
– В Антемнах.
– В Антемнах?
– Враг дрогнул и отступил туда еще до наступления ночи. В Антемнах произошло еще одно сражение. Мы победили! Марк Красс послал меня спросить еды и вина для его людей.
Широко улыбнувшись, Сулла крикнул, чтобы отыскали все требуемое, а потом, верхом на своем муле, сопроводил караван вьючных животных по Соляной дороге до Антемн, в нескольких милях от места боя. Там Сулла и Ватия увидели город, невольно ставший ареной сражения и в результате разрушенный. Дома горели ярким пламенем, жители старались не дать пожару распространиться. И повсюду лежали мертвые тела, затоптанные охваченными паникой горожанами, старавшимися спасти свои жизни и имущество.
Красс ждал в дальнем конце Антемн, где он собрал уцелевших противников.
– Около шести тысяч, – сказал он Сулле. – Ватия взял самнитов, мне достались луканы, капуанцы и остатки людей Карбона. Тиберий Гутта убит, Марк Лампоний, я думаю, сбежал, у меня среди пленных Брут Дамасипп, Каррина и Цензорин.
– Хорошо поработали! – Сулла широко улыбнулся, демонстрируя десны. – Долабелле это не понравится, а я вынужден был обещать ему консульство на следующий год, чтобы он согласился оставаться на моей стороне. Но я знал, что выбрал правильного человека, назначив тебя, Марк Красс!
Ватия рывком повернул голову и посмотрел на Суллу, изумленный:
– Что? Долабелла потребовал такого? Cunnus! Mentula! Verpa! Fellator!
– Не обращай внимания, Ватия, ты тоже будешь консулом, – успокоил его Сулла, не переставая улыбаться. – Долабелле ничего это не даст. Он превысит полномочия, когда поедет управлять провинцией, и проведет остаток своих дней в ссылке в Массилии вместе с прочими дураками, злоупотребляющими положением. – Он махнул рукой в сторону вьючных животных. – Где ты хочешь перекусить, Марк Красс?
– Если я смогу найти другое место для пленных, то, думаю, здесь, – отозвался флегматичный Красс, по лицу которого совершенно не видно было, что он только что одержал важную победу.
– Я привел с собой кавалерию Бальба, чтобы сопровождать пленных на Виллу Публика, – сказал Сулла. – К тому времени, как они отправятся, уже рассветет.
Пока Октавий Бальб объезжал пленников Антемн, Сулла вызвал к себе Цензорина, Каррину и Брута Дамасиппа. Хотя они и потерпели поражение, побитыми они не выглядели.
– Ага! Думаю, собираетесь сразиться со мной еще когда-нибудь? – спросил Сулла, опять улыбаясь, но уже грустно. – Ну, мои римские друзья, не будет этого. Понтий Телезин мертв, а остальных самнитов я приказал убить стрелами. Поскольку вы связались с самнитами и луканами, я не считаю вас римлянами. Поэтому вас не будут судить за предательство. Вас казнят. Сейчас.
Таким образом, трое самых непримиримых врагов в этой войне были без суда обезглавлены прямо на поле под Антемнами. Тела их были брошены в огромную общую могилу, вырытую для всех мертвых врагов. Но головы Сулла положил в мешок.
– Катилина, друг мой, – обратился Сулла к Луцию Сергию Катилине, который приехал вместе с ним и Ватией, – возьми их, найди голову Тиберия Гутты, присовокупи голову Понтия Телезина, когда вернешься к Квиринальским воротам, а потом поезжай с ними к Офелле. Скажи ему, чтобы он зарядил этими головами свои орудия и по одной выстрелил по Пренесте.
Мрачное красивое лицо Катилины прояснилось, он оживился:
– С радостью, Луций Корнелий. Могу я попросить оказать мне одну услугу?
– Проси, но не обещаю.
– Позволь мне войти в Рим и найти Марка Мария Гратидиана! Я хочу его голову. Если Марий-младший ее увидит, он будет знать, что Рим – твой и его карьера закончилась.
Сулла медленно покачал головой, но это был не отказ.
– Ох, Катилина, ты – одно из моих самых драгоценных приобретений! Как же я тебя люблю! Ведь Гратидиан – твой шурин.
– Был моим шурином, – тихо сказал Катилина и добавил: – Моя жена умерла незадолго до того, как я присоединился к тебе.
Он не сказал, что Гратидиан подозревал его в убийстве: Катилина избавился от жены, чтобы заключить более выгодный брак.
– Ну что ж, Гратидиан все равно когда-нибудь умрет, – сказал Сулла и отвернулся, пожав плечами. – Добавь его голову к твоей коллекции, если думаешь, что это произведет впечатление на Мария-младшего.
Методично завершив все свои дела, Сулла, Ватия и сопровождающие их легаты устроили веселую пирушку с Крассом, Торкватом и людьми правого фланга, пока Антемны горели, а Луций Сергий Катилина с радостью вернулся в Рим осуществить свое страшное намерение.
После пирушки бессонный Сулла отправился в сторону Рима, но в город не вошел. Его гонец, посланный заранее, созвал сенат в храме Беллоны на Марсовом поле. По дороге Сулла остановился, чтобы удостовериться в том, что шесть тысяч пленных собраны рядом с храмом, и отдал необходимые распоряжения. После этого он слез с мула на довольно запущенном пустыре, который издавна называли Вражеской землей.
Конечно, когда звал Сулла, никто не посмел не явиться, поэтому в храме уже ждали около сотни человек. Они все стояли. Было бы неправильным ждать Суллу, сидя на складных стульях. Несколько человек держались спокойно, невозмутимо – Катул, Гортензий, Лепид. Некоторые были напуганы – Флакк, Фимбрия, младший Карбон. Но большинство были похожи на овец, бездумных и готовых идти за кем угодно.
В доспехах, без шлема, Сулла прошел сквозь их ряды, словно этих людей не существовало, и поднялся на подиум статуи Беллоны, которая появилась здесь только после того, как вошло в моду наделять человеческими чертами даже древних, безличных римских богов. Поскольку статуя богини войны тоже была облачена в доспехи, они выглядели под стать друг другу – вплоть до гневного взгляда на слишком уж греческом лице. Но она была наделена своеобразной красотой, в то время как о Сулле сказать такого было нельзя. Большинство присутствующих были потрясены его видом, хотя никто не посмел даже шевельнуться. Парик оранжевых кудрей слегка сбился на сторону, алая туника вся в грязи, пятна на лице алели среди остатков белой, как у альбиноса, кожи, словно озера крови на снегу. Многие из собравшихся были опечалены, но по разным причинам: кто – поскольку знал его хорошо и любил, а кто – поскольку надеялся, что властелин Рима будет хотя бы выглядеть подобающе. А этот человек являл скорее пародию на величие.
Когда Сулла заговорил, шлепая губами, его речь трудно было разобрать. Однако инстинкт самосохранения заставил их внимать каждому произнесенному слову.
– Я вижу, что вернулся как раз вовремя, – сказал он. – Вражеская земля заросла сорняками. Все надо убрать и заново покрасить. Дороги разбиты. Прачки на территории Виллы Публика на Марсовом поле развешивают белье. Славно вы потрудились на благо Рима! Дураки! Подлецы! Ослы!
Его обращение, вероятно, продолжалось бы в том же духе – едкое, саркастичное, злое. Но после того как он выкрикнул «Ослы!», слова его потонули в страшной какофонии, донесшейся со стороны Виллы Публика, – крики, вой, визг. Сначала все делали вид, что внимают речи победителя, но потом шум стал слишком тревожным, слишком жутким. Сенаторы задвигались, раздалось бормотание, все принялись беспокойно переглядываться.
Все стихло так же внезапно, как и началось.
– Что, овечки, испугались? – съязвил Сулла. – Ведь нет причины бояться! Просто мои люди наказали пару преступников.
После этого он спустился со своего места между ступнями Беллоны и вышел вон, казалось ни на кого не глядя.
– Боги! Он действительно в плохом настроении! – сказал Катул своему зятю Гортензию.
– Похоже на то, и я не удивляюсь, – ответил Гортензий.
– Он вытащил нас сюда только для того, чтобы мы послушали это, – заметил Лепид. – И кого же он наказывал, ты знаешь?
– Своих пленных, – объяснил Катул.
Так оно и было. Пока Сулла обращался к сенату, его люди казнили мечами и стрелами шесть тысяч пленных на Марсовом поле.
– Я буду вести себя очень хорошо при любых обстоятельствах, – признался Катул Гортензию.
– И почему же? – полюбопытствовал Гортензий, намного более заносчивый и уверенный в себе.
– Потому что Лепид был прав. Сулла позвал нас сюда только для того, чтобы мы послушали крики умирающих людей, которые посмели противостоять Сулле. То, что он говорит, не имеет никакого значения. Но вот что он делает, имеет огромное значение – для каждого из нас, кто хочет жить. Мы должны быть очень осмотрительны и не раздражать его.
Гортензий пожал плечами:
– Полагаю, ты слишком уж остро реагируешь, дорогой мой Квинт Лутаций. Через несколько недель все сойдет на нет. Он заставит сенат и собрания легализовать его подвиги и вернуть ему полномочия, потом засядет в сенате среди консулов в переднем ряду, и Рим заживет своей обычной жизнью.
– Ты действительно так считаешь? – Катул поежился. – Как он это сделает, понятия не имею, но я считаю, что мы будем жить под неусыпным пристальным взглядом Суллы, который надолго займет высшую ступень власти.
Сулла прибыл в Пренесту на следующий день, в третий день ноября. Офелла радостно приветствовал его, жестом показав на двух печальных солдат, стоявших под стражей неподалеку.
– Знаешь их? – спросил он.
– Возможно, но не припомню имен.
– Два младших трибуна из легионов Сципиона. Они примчались, как пара греческих мошенников, утром после сражения у Квиринальских ворот и пытались убедить меня, что сражение проиграно и ты убит.
– Неужто, Офелла? Ты ведь не поверил?
Офелла весело рассмеялся:
– Я хорошо знаю тебя, Луций Корнелий! Кучка самнитов с тобой бы не справилась.
И жестом фокусника, вынимающего кролика из горшка, Офелла вытащил откуда-то из-за спины голову Мария-младшего.
– А-а! – воскликнул Сулла, рассматривая голову. – Симпатичный был мальчик, правда? Лицом похож на мать, конечно. Не знаю, в кого он пошел умом, но уж определенно не в отца. – Удовлетворенный, он отбросил голову. – Сохрани ее некоторое время. Значит, Пренеста сдалась?
– Почти сразу же. Как только я выстрелил головами, которые принес мне Катилина. Ворота распахнулись, и они хлынули из города, размахивая белыми флагами и колотя себя в грудь.
– И Марий-младший с ними? – удивился Сулла.
– О нет! Он кинулся к сточным канавам, пытаясь сбежать. Но я еще за несколько месяцев до этого приказал перегородить все стоки. Мы нашли его около одной из таких перегородок с мечом в животе. Его слуга-грек плакал рядом, – рассказал Офелла.
– Ну что ж, он – последний, – удовлетворенно молвил Сулла.
Офелла пристально посмотрел на него. Непохоже было, чтобы Луций Корнелий что-то забывал.
– Один еще на свободе, – быстро заметил Офелла и тотчас прикусил себе язык: этому человеку не стоило указывать на недосмотры!
Но Сулла остался спокоен. Он только широко улыбнулся:
– Ты имеешь в виду Карбона?
– Да, Карбона.
– Карбон тоже мертв, дорогой мой Офелла. Молодой Помпей захватил его в плен и казнил за измену на рыночной площади в Лилибее в конце сентября. Замечательный парень этот Помпей! Я-то думал, что у него займет несколько месяцев организовать дела на Сицилии и покончить с Карбоном. Но он все провернул за месяц. И еще нашел время, чтобы отослать мне голову Карбона со специальным гонцом! В горшке с уксусом! Это точно голова Карбона, – хихикнул Сулла.
– А старый Брут?
– Предпочел покончить с собой, лишь бы не выдать Помпею, куда ушел Карбон. Но это не имело значения. Команда его корабля – старик пытался поднять флот на защиту Карбона – поведала Помпею, конечно, все. И мой замечательно расторопный молодой легат послал своего зятя на остров Коссира, куда сбежал Карбон, и привез его в цепях в Лилибей. Но от Помпея я получил три головы, а не две. Карбона, старого Брута и Сорана.
– Сорана? Ты имеешь в виду Квинта Валерия Сорана, ученого, который был народным трибуном?
– Именно его.
– Но почему? Он-то в чем провинился? – в изумлении спросил Офелла.
– Он громко выкрикнул тайное имя Рима с ростры, – сказал Сулла.
Офелла открыл рот и задрожал:
– Юпитер!
– К счастью, – солгал спокойно Сулла, – Великий Бог заткнул уши присутствовавшим на Форуме, и вышло так, что Соран кричал глухим. Все хорошо, мой дорогой Офелла. Рим выстоит.
– О, какое облегчение! – воскликнул Офелла, вытирая пот со лба. – Я слышал о всяких странных поступках, но произнести вслух тайное имя Рима – это уму непостижимо! – Он еще о чем-то подумал и не мог не спросить: – А что Помпей делал на Сицилии, Луций Корнелий?
– Обеспечивал для меня доставку зерна.
– Я что-то слышал об этом, но, признаюсь, не верил. Он же ребенок.
– Ммм… – задумчиво протянул Сулла. – Однако то, чего Марий-младший не унаследовал от своего отца, молодой Помпей определенно и в полной мере взял от Помпея Страбона! И еще многое, кроме этого.
– Значит, ребенок скоро вернется домой, – сказал Офелла, будучи не в восторге от этой новой звезды в созвездии Суллы. Он-то думал, что на этом небосводе у него нет соперника!
– Нет еще, – ответил Сулла не моргнув глазом. – Я послал его в Африку – удержать для меня эту провинцию. Думаю, что в данный момент именно это он и делает. – Он показал на ничейную землю, где большая толпа людей униженно ежилась под негреющим солнцем. – Это те, кто сдался с оружием?
– Да. Двенадцать тысяч. Смешанный состав, – сказал Офелла, радуясь смене темы. – Римляне, служившие под командованием Мария-младшего, очень много пренестинцев, самниты. Хочешь посмотреть на них ближе?
Сулла хотел. Но недолго. Он помиловал римлян, потом приказал казнить на месте пренестинцев и самнитов. После чего заставил прочих граждан Пренесты – стариков, женщин, детей – закопать тела на ничейной земле. Он объехал город, в котором раньше никогда не бывал, и очень прогневался, когда увидел то, во что превратил храм Фортуны Примигении Марий-младший, вздумавший строить свою башню.
– Я – любимец Фортуны, – объявил Сулла тем членам городского совета, которые не погибли на ничейной земле, – и лично прослежу за тем, чтобы внутренняя территория храма вашей Фортуны Примигении стала самой красивой во всей Италии. Но за счет Пренесты.
На четвертый день ноября Сулла поехал в Норбу, хотя он уже знал судьбу этого города.
– Они согласились сдаться, – сказал Мамерк, сжав губы от гнева, – а потом подожгли город, прежде убив всех до последнего. Кого убили воины, кто покончил с собой. Женщины, дети, солдаты Агенобарба, все мужчины-горожане предпочли умереть, но не сдаться. Прости, Луций Корнелий. От Норбы не будет ни добычи, ни пленных.
– Ничего, – равнодушно произнес Сулла. – Пренеста принесла достаточно трофеев. Сомневаюсь, чтобы Норба могла дать что-нибудь стоящее и полезное.
И в пятый день ноября, когда взошедшее солнце отразилось от позолоченных статуй на крышах храмов и этот праздничный свет скрасил обшарпанность городских улиц, Луций Корнелий Сулла торжественно въехал в Рим через Капенские ворота. Его конюх вел под уздцы белого коня, который пронес Суллу невредимым сквозь сражение у Квиринальских ворот. Сулла облачился в свои лучшие доспехи. На его серебряной кирасе был изображен момент, когда армия преподносит ему венец из трав у стен Нолы. В паре с Суллой, одетый в тогу с пурпурной полосой, ехал Луций Валерий Флакк, принцепс сената. Позади него парами следовали его легаты, среди них – Метелл Пий и Варрон Лукулл, который был вызван из Италийской Галлии за четыре дня до этого и очень спешил, чтобы успеть к столь важному событию. Из всех, кто впоследствии будет что-либо значить, отсутствовали только Помпей и сабин Варрон.
Единственным военным эскортом Суллы были семьсот кавалеристов, которые спасли его, обманув самнитов ложными маневрами. Армия вернулась в ущелье, чтобы демонтировать укрепления и восстановить движение по Латинской дороге. После этого предстояло еще разобрать стену Офеллы и разнести на поля большое количество камней. Немало блоков туфа раскололось при разборке, но Сулла знал, что ему делать. Весь материал сгодится для кладки стен opus incertum нового храма Фортуны Примигении в Пренесте. От военных действий не должно остаться и следа.
Народ выглядывал из дверей, чтобы посмотреть, как Луций Корнелий Сулла входит в город. Хотя это могло оказаться опасным, ни один римлянин не мог устоять перед зрелищем, которое принадлежало истории. Многие из тех, кто видел процессию Суллы, искренне верили, что являются свидетелями агонии Республики. Ходил упорный слух, что Сулла намерен провозгласить себя царем Рима. Как еще мог он удержать власть? Разве рискнет он уступить власть после того, что сделал? И скоро заметили специальный эскадрон кавалерии, что ехал за последней парой легатов, держа копья вертикально вверх. На эти копья были насажены головы Карбона и Мария-младшего, Каррины и Цензорина, старого Брута и Мария Гратидиана, Брута Дамасиппа и Понтия Телезина, Гутты из Капуи и Сорана, а также Гая Папия Мутила из Самния.
Мутил узнал о сражении у Квиринальских ворот на следующий же день и так громко рыдал, что Бастия вошла посмотреть, что случилось.
– Пропало, все пропало! – кричал он ей, забыв о том, как она оскорбляла и мучила его, и видя в ней единственную оставшуюся у него родную душу, женщину, с которой он был связан многолетними семейными узами. – У меня больше нет армии! Сулла победил! Сулла будет царем Рима, и Самний перестанет существовать!
Бастия смотрела на поверженного человека, лежавшего на своем ложе. Недолго. Не дольше, чем потребовалось на то, чтобы зажечь все свечи в канделябре. Она не сдвинулась с места, чтобы утешить его, не сказала ни одного доброго слова, а только стояла тихо, не сводя с него взгляда. А потом в ее глазах блеснула решимость, живое лицо стало холодным, каменным. Она хлопнула в ладоши.
– Да, domina? – спросил управляющий с порога, в испуге глядя на своего рыдающего хозяина.
– Найди его германца и приготовь носилки, – приказала Бастия.
– Domina? – переспросил управляющий изумленно.
– Не стой здесь, делай, что говорю! Немедленно!
Управляющий сглотнул и тут же исчез.
Слезы высохли. Мутил в недоумении посмотрел на жену:
– Что это значит?
– Я хочу, чтобы ты уехал отсюда, – ответила она сквозь стиснутые зубы. – Я не желаю быть причастной к этому поражению. Мне нужно сохранить мой дом, мои деньги, мою жизнь! Поэтому уезжай, Гай Папий! Возвращайся в Эcернию, или в Бовиан, или куда-нибудь еще, где у тебя есть дом! Будь где угодно, но только не здесь! Я не собираюсь тонуть с тобой.
– Не верю! – ахнул он.
– Тебе лучше поверить! Убирайся!
– Но я парализован, Бастия! Я твой муж, и я парализован! Неужели в тебе нет хотя бы жалости, если не любви?
– Ни любви, ни жалости к тебе у меня нет, – сурово сказала она. – Это все твои дурацкие, напрасные планы. Борьба с Римом забрала силу у твоих ног, сделала тебя бесполезным для меня, отняла детей, которые у меня могли родиться, погубила наше счастье. Почти семь лет я жила здесь одна, пока ты плел свои интриги в Эсернии. И когда ты снизошел до посещения моего дома, от тебя воняло дерьмом и мочой. И ты помыкал мной… О нет, Гай Папий Мутил, я сыта тобой по горло! Убирайся!
И так как ум еще не мог охватить всю глубину постигшего его краха, Мутил даже не протестовал, когда слуга-германец поднял его с постели и вынес через входную дверь туда, где у лестницы стояли его носилки. Бастия шла следом как воплощение Горгоны, прекрасной и свирепой, с глазами, превращающими человека в камень, и змеями вместо волос. Она так быстро захлопнула дверь, что зажала край плаща германца, и тот резко остановился. Держа своего хозяина на одной руке, другой он принялся дергать плащ, чтобы высвободиться.
На поясе Гай Папий Мутил носил военный кинжал, немое напоминание о днях, когда он был воином. Он схватил кинжал, прижал затылок к двери и быстро перерезал себе горло. Кровь брызнула во все стороны, запачкала дверь, полилась по ступеням, запятнала вопящего германца, чьи крики созвали людей. По узкой улице к ним неслись со всех сторон. Последнее, что увидел Гай Папий Мутил, была его жена-Горгона. Бастия открыла дверь – и кровь брызнула на нее.
– Будь ты проклята, женщина! – пытался он крикнуть.
Но она не услышала. Она даже не испугалась, не удивилась. Вместо этого она широко открыла дверь и дала звонкую пощечину плачущему германцу.
– Вноси его!
Внутри, когда тело ее мужа положили на пол, она распорядилась:
– Отрежь его голову. Я пошлю ее Сулле в подарок.
И Бастия сдержала слово. Она послала голову мужа Сулле с поздравлениями. Но рассказ, услышанный Суллой от несчастного управляющего, которому хозяйка приказала доставить свой дар, был не в пользу Бастии. Сулла передал голову своего старинного врага одному из военных трибунов и прибавил равнодушно:
– Убей ту женщину, которая прислала мне это. Я хочу, чтобы она умерла.
Итак, счеты были сведены. За исключением Марка Лампония из Лукании, все остальные сильные враги, которые противились возвращению Суллы в Италию, были мертвы. Если бы Сулла захотел, он действительно мог бы провозгласить себя царем Рима, и никто не посмел бы оспаривать это.
Но Сулла нашел решение, более подходящее человеку, который твердо верил во все традиции республиканского mos maiorum. И поэтому он ехал по Большому цирку, совершенно не думая о такой возможности.
Он стар и болен и все свои пятьдесят восемь лет вынужден был бороться с бессмысленными обстоятельствами и событиями, которые следовали друг за другом, лишая его справедливого вознаграждения, законного места, которое он должен был занять по праву рождения и способностей. Ему не предлагали выбора, не давали никакой возможности подняться по cursus honorum законным путем, с честью. На каждом повороте дороги кто-то или что-то преграждало путь и делало невозможным следовать прямо. И вот он едет по пустому Большому цирку, пятидесятивосьмилетняя развалина, терзаемая двойственным чувством – торжества и утраты. Властелин Рима. Первый Человек в Риме. Наконец он оправдан и реабилитирован. И все же разочарование – старость, уродство, скорое приближение смерти – отравляло его радость, разрушало удовольствие, причиняло острую боль. Как поздно пришла эта горькая победа, как изувечена она…
Сулла не думал о Риме, который находился сейчас у него в руках, с любовью или с идеализмом. Цена заплачена слишком высокая. Его не прельщала работа, которой, как он знал, ему придется заняться. Больше всего он нуждался в мире и покое, в исполнении тысячи сексуальных фантазий, в головокружительных пьяных кутежах, в полной свободе от забот и ответственности. Так почему же он должен лишать себя всего этого? Из-за Рима, из-за долга. Невыносима сама мысль о том, что он отступится, когда так много еще не сделано. Единственная причина, по которой он ехал по пустому Большому цирку, заключалась в том, что он знал: предстоит море работы. И он должен осушить это море. Ведь никто больше не мог этого сделать.
Он решил собрать сенат и народ на Нижнем форуме и обратиться к ним с ростры. Всей правды он, конечно, не скажет, – кажется, Скавр называл его равнодушным к политике? Сулла не помнил. Нет, в нем слишком много от политика, чтобы быть совершенно правдивым. Поэтому Сулла умно проигнорировал тот факт, что это он прикрепил первую голову к ростре – голову Сульпиция, чтобы напугать Цинну.
– Эта отвратительная практика, которая появилась совсем недавно! Рим еще не знал ее в те дни, когда я был претором по гражданским делам. – И Сулла повернулся, показав на ряд насаженных голов. – Но она не прекратится, если должные традиции mos maiorum не будут полностью восстановлены и старая любимая Республика вновь не поднимется из руин, в которые ее превратили. Я слышал, как говорили, будто я намерен провозгласить себя царем Рима. Нет, квириты, не намерен! Чтобы обречь себя на всю оставшуюся жизнь на интриги и заговоры, мятежи и ответные удары? Нет! Этому не бывать! Я долго и много трудился на службе у Рима и заработал награду. Я желаю провести последние дни свободным от забот, свободным от ответственности – свободным от Рима! Так что одно я вам могу обещать, и сенату, и народу: я не буду царем Рима. Меня не радует ни единая лишняя минута, проведенная у власти – у власти, которую я вынужден не выпускать из рук до тех пор, пока моя работа не будет завершена.
Вероятно, никто в действительности не ожидал этого, даже те, кто был так близок Сулле, как Ватия и Метелл Пий. Но когда Сулла продолжил, некоторые начали понимать, что Сулла поделился секретами с другим человеком, принцепсом сената Луцием Валерием Флакком, который стоял на ростре рядом с ним и не выглядел удивленным.
– Консулы мертвы, – продолжал Сулла, рукой показывая на головы Карбона и Мария-младшего, – и фасции должны вернуться к Отцам, их надо положить на место в храме Венеры Либитины, пока не будут избраны новые консулы. Рим должен иметь интеррекса. На это существует специальный закон. Наш принцепс сената Луций Валерий Флакк – старший патриций сената, своей декурии, своего рода. – Сулла повернулся к Флакку, принцепсу сената. – Ты будешь интеррексом. Пожалуйста, прими эту должность со всеми ее обязанностями на пять дней.
– Пока все хорошо, – прошептал Гортензий Катулу. – Он сделал именно то, что должен был сделать, – назначил интеррекса.
– Помолчи! – буркнул Катул, которому трудно было разбирать невнятную речь Суллы.
– Прежде чем наш принцепс возьмет в свои руки ведение этого собрания, – медленно и тщательно подбирая выражения, проговорил Сулла, – несколько слов еще хотел бы сказать я. Я приложу все силы к тому, чтобы Рим оставался в безопасности, чтобы никто не пострадал. Закон будет для всех. Республика вернет себе славу. Но это все должно явиться результатом решений нашего интеррекса, поэтому я не стану развивать эту тему. А вот о чем я действительно хочу сказать, так это о том, что рядом со мною служили замечательные люди и настало время поблагодарить их. Я начну с тех, кого сегодня здесь нет. Гней Помпей, который обеспечил урожай зерна с Сицилии и тем самым гарантировал, что Рим не будет голодать этой зимой. Луций Марк Филипп, который в прошлом году обеспечивал урожай с Сардинии, а в этом году вынужден был сражаться с человеком, которого послали против него, Квинтом Антонием Бальбом. Он принял вызов Антония – и тот мертв. Сардиния в безопасности. В Азии я оставил троих великолепных воинов, чтобы они позаботились о самой богатой, самой драгоценной провинции Рима, – Луция Лициния Мурену, Луция Лициния Лукулла и Гая Скрибония Куриона. А здесь со мной стоят мои самые преданные сторонники, не покинувшие меня в трудные дни, в дни отчаяния: Квинт Цецилий Метелл Пий и его легат Марк Теренций Варрон, Публий Сервилий Ватия, старший Гней Корнелий Долабелла, Марк Лициний Красс…
– О боги, списку нет конца! – проворчал Гортензий, который любил слушать только себя и особенно ненавидел слушать тех, чьи ораторские способности были столь ужасны, как у Суллы.
– Он закончил, он закончил! – нетерпеливо прервал его Катул. – Пошли, Квинт, он зовет сенат в курию. Больше сладких песен на Форуме не будет. Пошли быстрее!
Курульное кресло занял Луций Валерий Флакк, принцепс сената, в окружении поредевшего состава магистратов, которые еще остались в Риме и не погибли. Сулла уселся справа от курульного возвышения, вероятно там, где и намеревался сидеть впредь, – в переднем ряду консулов, бывших цензоров, пропреторов. Однако он не снял доспехов, а этот факт говорил сенаторам о том, что Сулла ни в коем случае не отказался от полного контроля над происходящим.
– В ноябрьские календы, – начал Флакк своим хриплым голосом, – мы чуть не потеряли Рим. Если бы не мужество и стремительность Луция Корнелия Суллы, его легатов и его армии, Рим находился бы сегодня во власти Самния, а мы проходили бы под ярмом, как делали после проигранной битвы у Кавдинского ущелья. Но не буду больше об этом! Самний повержен, Луций Корнелий победил, и Рим в безопасности.
– Продолжай же! – прошептал Гортензий. – Боги, он с каждым днем все больше дряхлеет.
И Флакк продолжал, ерзая на стуле, потому что чувствовал себя не в своей тарелке.
– Однако и по окончании войны Рим стоит перед лицом многих трудностей. Казна пуста. Храмы ограблены. Улицы словно вымерли. В сенате не хватает людей. Консулы мертвы, и только один претор остался из шести, избранных в начале этого года. – Он помолчал, глубоко вздохнул и, собравшись с духом, произнес то, что велел ему сказать Сулла: – На самом деле, отцы, внесенные в списки, Рим уже переступил ту черту, за которой возможно обычное управление. Римом должна править твердая рука. Единственная, способная поставить Рим на ноги. Мой срок интеррекса – пять дней. Я не имею права проводить выборы. За мной последует второй интеррекс, тоже только на пять дней. Предполагается, что он проведет выборы. Возможно, и он не сумеет этого сделать. В этом случае попытку предпримет третий. И так далее и так далее. Но этого, назначенного наспех управления недостаточно. Время не терпит. Я вижу лишь одного человека, способного принять необходимые меры. Но он не сможет сделать всего, будучи только консулом. Поэтому предлагаю другое решение. Я попрошу народное собрание принять его в своих центуриях, самом авторитетном избирательном органе. Я попрошу народ Рима подготовить и провести lex rogata, согласно которому Луций Корнелий Сулла будет назначен диктатором Рима.
Сенаторы зашевелились, переглядываясь в недоумении.
– Должность диктатора – древняя, – продолжал Флакк, – и обычно диктатор назначался на период ведения войны. В прошлом диктатор принимал командование, когда консулы не справлялись. Более ста лет прошло со времени последнего диктатора. Но сегодня Рим в отчаянном положении. Война закончена, а трудности остались. Я говорю вам, отцы, внесенные в списки, что избранные консулы не смогут поставить Рим на ноги. Лекарства, потребные для исцеления нашей хворобы, не будут сладкими. Да, они вызовут возмущение. В конце срока полномочий от консула могут потребовать отчитаться в своих действиях перед трибутными комициями или Плебейским собранием. Его могут обвинить в измене. Если все обернется против него, его могут выслать, а имущество конфисковать. Заранее зная о своей уязвимости и о возможности подобных обвинений, ни один человек не посмеет проявить всю силу и решимость, в которых Рим нуждается в данный момент. Но диктатор не страшится никакого собрания. Суть его должности гарантирует диктатору защиту от любых грядущих репрессий. Действия диктатора санкционированы на все время. Его нельзя судить ни по какому обвинению. Зная, что обладает неприкосновенностью, что на его решения не распространяется вето плебейских трибунов, что он не может быть осужден ни одним собранием, диктатор в состоянии использовать всю свою силу и решимость, чтобы навести порядок. Только диктатор сумеет поставить на ноги наш любимый Рим.
– Звучит замечательно, принцепс сената! – громко выкрикнул Гортензий. – Но сто двадцать лет, которые минули со времен последнего диктатора, несколько ухудшили твою память. Диктатора выдвигает сенат, но назначают его консулы. У нас же консулов сейчас нет. Фасции отослали в храм Венеры Либитины. Диктатора нельзя назначить.
Флакк вздохнул:
– Ты, наверное, невнимательно меня слушал, Квинт Гортензий. Я сказал вам, как это можно сделать. С помощью lex rogata, принятого центуриями. Когда нет консулов, которые действуют как исполнительная власть, народ в своих центуриях является исполнительной властью. Интеррекс должен обратиться к ним с просьбой выполнить свою единственную функцию: организовать и провести курульные выборы. Трибы – не административный орган. Только центурии.
– Хорошо, очко в твою пользу, – дерзко ответил Гортензий. – Продолжай, принцепс сената.
– Я намерен созвать центуриатные комиции завтра на рассвете. Я попрошу собрание сформулировать закон, согласно которому Луций Корнелий Сулла будет назначен диктатором. Закон не должен быть очень сложным – напротив, чем проще, тем лучше. Как только диктатор будет на законном основании назначен центуриями, все другие законы сможет издавать он. Пусть центурии официально назначат Луция Корнелия Суллу диктатором на такой срок, какой ему понадобится, чтобы осуществить все его планы; чтобы они одобрили все его предыдущие действия; чтобы они отменили приговор к ссылке и официальное объявление вне закона; чтобы они гарантировали ему освобождение от наказания за любые его действия в должности диктатора; чтобы трибуны не могли наложить вето на его решения, а народное собрание – препятствовать его деятельности. Чтобы ни сенат, ни народ не могли отклонить ни одного его решения в любой форме – прибегнув к помощи любого магистрата или обратившись к любому собранию.
– Да это получше, чем быть царем Рима! – выкрикнул Лепид.
– Нет, это просто другое, – упрямо сказал Флакк. Ему понадобилось некоторое время, чтобы правильно понять то, чего добивался от него Сулла. Но теперь его уже нельзя было сбить с толку. – Диктатор не может быть наказан за свои действия, но он правит не один. У него есть сенат и все комиции, народные собрания – в качестве совещательных органов; он может назначить столько магистратов, сколько захочет. Согласно традиции, например, в период диктатуры избираются также консулы.
– Диктатор назначается только на шесть месяцев, – громко сказал Лепид. – Если я правильно тебя расслышал, ты предлагаешь просить центурии, чтобы они назначили диктатора бессрочно. Это незаконно, принцепс сената! Я не против того, чтобы Луция Корнелия Суллу назначили диктатором, но я против того, чтобы он хоть на миг превысил шестимесячный срок.
– За шесть месяцев я не успею даже начать, – сказал Сулла, не поднимаясь со своего стула. – Верь мне, Лепид, я ни одного лишнего дня не желаю заниматься этой неприятной работой, не говоря уже о том, чтобы посвятить ей всю мою жизнь! Когда я посчитаю, что она закончена, я обязательно уйду. Но шесть месяцев? Невозможно.
– Тогда сколько? – спросил Лепид.
– Во-первых, – ответил Сулла, – финансы Рима в плачевном состоянии. Чтобы выправить их, понадобится год, может быть, два. Придется распустить двадцать семь легионов, найти для них землю, заплатить им. Людей, которые поддерживали незаконные режимы Мария, Цинны и Карбона, нужно разыскать, дабы они не избежали справедливого наказания. Законы Рима устарели, особенно в части судопроизводства и наместнического управления провинциями. Гражданские служащие дезорганизованы, бездеятельны и алчны. Из наших храмов украдено столько сокровищ, денег и слитков, что даже после огромных затрат этого года в казне все еще осталось двести восемьдесят талантов золота и сто двадцать талантов серебра. Храм Юпитера Всеблагого Всесильного превратился в кучу углей. – Он громко вздохнул. – Мне продолжать, Лепид?
– Хорошо, я понял, что выполнение твоей задачи потребует больше шести месяцев. Но что помешает тебе получать назначение каждые полгода столько раз, сколько понадобится? – спросил Лепид.
Беззубая усмешка Суллы была все такой же злобной, хоть у него и не осталось знаменитых длинных клыков.
– О да, Лепид! – воскликнул он. – Теперь мне все понятно! Половину каждого шестимесячного периода нужно будет потратить на то, чтобы расположить к себе центурии! Умолять, объяснять, извиняться, рисовать радужные картины, сыпать в кошелек каждого всадника, превращать себя в старую отвратительную проститутку! – Сулла поднялся со стула и потряс сжатыми кулаками в сторону Марка Эмилия Лепида с такой злобой на лице, какой присутствующие не видели с тех пор, как Сулла уехал из Рима воевать с царем Митридатом. – Да, изнеженный домосед Лепид, женатый на дочери изменника, который пытался провозгласить себя царем Рима! Или будет так, как хочу я, или вообще мне ничего не надо! Вы слышите меня, вы, несчастное сборище лицемерных дураков и трусов? Хотите, чтобы Рим вновь поднялся на заслуженную высоту? Но вместе с тем вы жаждете получить незаслуженное право сделать несчастной, невыносимой и зависимой жизнь того человека, который берется за это дело! Ну что ж, отцы, внесенные в списки, вы должны решить этот вопрос здесь и сейчас. Луций Корнелий Сулла вернулся в Рим, и, если он вздумает, он может трясти этот город до тех пор, пока он не рухнет! В Латинской местности у меня осталась армия, которую я мог бы привести в Рим и натравить на ваши жалкие шкуры, как волков на ягнят. Я этого не сделал. С моего первого появления в сенате я действовал в ваших интересах. И сейчас я все еще действую в ваших интересах. Мирно. Деликатно. Но вы испытываете мое терпение, я вас честно предупреждаю. Я буду диктатором так долго, как сам посчитаю нужным. Понятно? Понятно тебе, Лепид?
Долго все молчали. Даже Ватия и Метелл Пий сидели с бледными лицами и, дрожа, глядели на это внезапно появившееся когтистое чудовище, которому впору выть на луну. О, как могли они забыть, кого таил в себе Сулла?
Лепид тоже был бледен и дрожал, но причиной его ужаса был вовсе не монстр, прятавшийся в Сулле. Он думал о своей любимой Аппулее, на которой был женат уже много лет, которая была отрадой его сердца, матерью его сыновей. Она была дочерью Сатурнина – человека, который действительно хотел провозгласить себя царем Рима. Почему Сулла упомянул о ней в этой ужасной вспышке гнева? Что он сделает, когда станет диктатором?
Уставшие до смерти от гражданских войн, экономической депрессии, от многочисленных легионов, без конца марширующих взад-вперед по всей Италии, центуриатные комиции проголосовали за закон, согласно которому Луций Корнелий Сулла назначался диктатором на неопределенный срок. Внесенный на рассмотрение на contio в шестой день ноября, lex Valeria dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae был утвержден в двадцать третий день ноября. За это время никаких уточнений внесено не было. Поскольку он фактически предоставлял Сулле неограниченную власть, а также санкционировал его неприкосновенность, уточнений и не требовалось. Что бы Сулла ни захотел постановить или сделать, он мог все.
Многие в городе ожидали, что он разовьет бурную деятельность, как только его назначение диктатором будет озвучено. Но Сулла не предпринимал ничего, пока назначение не было утверждено спустя три нундины, в соответствии с lex Caecilia Didia.
Остановившись в доме, принадлежавшем Гнею Домицию Агенобарбу, бежавшему в Африку, Сулла, казалось, погрузился в безделье. Он только все время бродил по городу. Его собственный дом был сожжен после того, как Гай Марий и Цинна захватили Рим. Он ходил через Гермал, северо-западный склон Палатинского холма, на оставшееся от его дома пепелище, медленно ворошил палкой кучи камней, смотрел поверх Большого цирка на восхитительные очертания Авентинского холма. В любое время дня, от рассвета до сумерек, его можно было увидеть стоящим одиноко на Римском форуме, смотрящим на Капитолий, или на статую Гая Мария в полный рост возле ростры, или на какую-нибудь другую среди многочисленных статуй Гая Мария меньших размеров, или на здание сената, или на храм Сатурна. Сулла гулял по берегу Тибра от большого рынка в порту Рима до Тригария, где плавали молодые люди. Он доходил от Римского форума до каждых из шестнадцати ворот Рима. Он поднимался по одной улице и спускался по другой.
Ни разу он не продемонстрировал страха за свою жизнь, ни разу не попросил друга сопровождать его, не говоря уже о том, чтобы взять с собой телохранителя. Иногда на нем была тога, но большей частью он просто кутался в просторный удобный плащ: зима началась рано и обещала быть холодной, как и в прошлом году. А один раз, в жаркий не по сезону день, Сулла брел по Риму, одетый лишь в тунику, и можно было видеть, какой же он маленький, хотя люди помнили, что прежде Луций Корнелий был среднего роста и хорошего телосложения. Но он усох, ссутулился и шаркал ногами, как восьмидесятилетний старик. Дурацкий парик был всегда на нем. И теперь, когда он следил за состоянием своего лица, он снова начал красить сурьмой белесые брови и ресницы.
А когда прошли первые восемь дней ожидания ратификации назначения диктатора, свидетели его гневного выпада в сенате начали чувствовать себя получше и уже отзывались об этом гуляющем старике с некоторым презрением – так коротка память…
– Он – пародия! – фыркнув, сказал Гортензий Катулу.
– Кто-нибудь убьет его, – сказал Катул, которому все надоело.
Гортензий хихикнул:
– Или он сам свалится на улице от апоплексического удара! – Он схватил руку зятя, придерживавшую тогу. – Ты знаешь, не могу понять, почему я так испугался тогда! Он здесь, но его здесь нет. В результате, как ни странно, у Рима так-таки и нет хозяина! Он ненормальный, Квинт. У него старческое слабоумие!
Это мнение широко распространилось среди жителей Рима, каждый день видевших, как жалкая фигура ковыляет по городу в косо нахлобученном парике и с обильно наложенной краской. Может быть, эта пудра скрывала багровые шрамы? Вот он что-то шепчет. Качает головой. Вдруг на кого-то кричит, а на кого – не видно. Ненормальный. Дряхлый.
Требовалось большое мужество для такого тщеславного человека, чтобы выставить свое старческое безобразие на всеобщее обозрение. Только Сулла знал, как ненавистна ему эта болезнь, которая сотворила с ним такое. Только Сулла знал, как ему хотелось снова стать тем красавцем-мужчиной, каким он был, когда уходил на войну с царем Митридатом. Но, сказал он себе, избегая смотреться в зеркало, чем скорее он наберется сил продемонстрировать Риму, во что превратился, тем скорее научится забывать, что показало бы ему зеркало, если бы он взглянул в него. И это произошло. Главным образом потому, что его прогулки не были бесцельны, они вовсе не были причудой дряхлого старика. Сулла гулял, чтобы посмотреть, каким стал Рим, в чем Рим нуждался, что он сам должен сделать. И чем больше он бродил, тем больше сердился – и приходил в возбуждение, потому что в его власти было взять в свои руки этот обветшалый город и сделать прекрасным, как прежде.
Еще Сулла ждал прибытия нескольких лиц, которые много значили для него, хотя он вряд ли любил их или в них нуждался: его жены, его близнецов, его взрослой дочери, его внуков… а также Птолемея Александра, наследника египетского трона. Они терпеливо ждали несколько месяцев под присмотром Хрисогона, вольноотпущенника и управляющего Суллы, сначала в Греции, потом в Брундизии, но к концу декабря они будут в Риме. Некоторое время Далматике придется жить в доме Агенобарба, но собственную резиденцию Суллы недавно начали отстраивать. Филипп, загорелый, красивый, прибыл с Сардинии, неофициально созвал сенат и угрозами заставил этот запуганный орган проголосовать за то, чтобы из общественных фондов вернуть Сулле некогда конфискованное государством имущество. Спасибо, Филипп!
На двадцать третий день ноября диктаторство Суллы было официально утверждено. И в тот же день Рим проснулся и не увидел ни одной статуи Гая Мария – ни на Римском форуме, ни на Бычьем и Овощном рынках, ни на перекрестках и площадях – нигде. Исчезли трофеи, развешанные в его храме Чести и Доблести на Капитолии, пострадавшем от огня, но все еще хранившем вражеские доспехи, флаги, штандарты, все личные награды Мария за мужество, кирасы, которые он носил в Африке, при Аквах Секстиевых, в Верцеллах, в Альбе-Фуценции. Статуи других людей тоже исчезли – Цинны, Карбона, старого Брута, Норбана, Сципиона Азиагена. Вероятно, потому, что их было значительно меньше, на их исчезновение отреагировали не так остро, как на исчезновение памятников Гаю Марию. Сулла пробил огромную брешь, он оставил за собой целую аллею пустых цоколей, с которых было стерто имя ненавистного Мария, словно гермы с отбитыми гениталиями.
И в то же время пополз шепоток о других, более серьезных исчезновениях. Исчезали люди! Люди влиятельные, открыто поддерживавшие Мария, Цинну, Карбона или всех троих. В основном это были всадники, достигшие успеха на торговом и финансовом поприще, когда так трудно было это сделать. Всадники, которые получали от государства прибыльные контракты, или ссужали деньги своим сторонникам, или же обогащались другими путями благодаря присоединению к Марию, Цинне, Карбону или ко всем троим. Правда, ни один сенатор не пропал, и все же количество исчезнувших людей было настолько велико, что не заметить этого было невозможно. Несколько здоровых парней, числом десять – пятнадцать, стучали в дверь дома какого-нибудь всадника, их впускали, а через несколько минут они появлялись снова вместе с хозяином дома и уводили его – никто не знал куда!
Рим волновался. Рим стал понимать, что странствования его высохшего властелина представляли собою нечто большее, нежели обыкновенные прогулки. Невинная эксцентричность вчерашнего дня обернулась неуверенностью дня сегодняшнего и ужасом завтрашнего. Сулла никогда ни с кем не разговаривал! Он разговаривал только с собой! Он стоял на одном месте очень подолгу, глядя – куда, неизвестно! Раз или два он кричал! Что же все-таки он делал? И почему он это делал?
На фоне этих растущих опасений странная деятельность безобидно выглядевших групп частных лиц, которые стучали в двери домов, принадлежавших всадникам, сделалась более демонстративной. Их видели то тут, то там. Они что-то записывали или следовали как тени за каким-нибудь богатым банкиром Карбона или процветающим брокером Мария. Исчезновения участились. А однажды неизвестные постучали в дверь одного сенатора-заднескамеечника, который всегда голосовал за Мария, за Цинну, за Карбона. Но сенатора не увели, как других. Когда он появился на улице, взметнулся меч – и его голова упала на землю с глухим стуком и откатилась в сторону. Тело так и осталось лежать, истекая кровью, но голова исчезла.
Люди начали искать предлог, чтобы пройти мимо ростры и пересчитать головы: Карбон, Марий-младший, Каррина, Цензорин, Сципион Азиаген, старый Брут, Марий Гратидиан, Понтий Телезин, Брут Дамасипп, Тиберий Гутта из Капуи, Соран, Мутил… Больше никого! Головы сенатора-заднескамеечника там не оказалось. Как и голов других исчезнувших людей. А Сулла продолжал гулять в своем идиотском парике, всегда криво сидящем, с подкрашенными бровями и ресницами. Но если раньше люди останавливались и улыбались ему – хотя в этих улыбках сквозила жалость, – то теперь они чувствовали неприятный холодок и старались свернуть куда-нибудь в сторону, только бы не встретиться с ним. Или со всего духу убегали, едва завидев диктатора. Теперь там, где был Сулла, больше никого не было. Никто не наблюдал за ним. Никто не улыбался, даже с жалостью. Никто не заговаривал. Никто не приставал. При встрече с ним всех прошибал холодный пот, словно они увидели отверстые врата в подземный мир в несчастливый день.
Никогда прежде не являлась в Риме общественная фигура, которая была бы окутана столь непостижимой тайной. Поведение Суллы выходило за рамки нормы. Он должен был подняться на ростру на Форуме и красноречиво поведать всем о своих планах или пустить риторическую пыль в глаза сената. Намерения, жалобы, цветистые фразы – он должен был высказать это! Кому-нибудь, если не всем. Римляне не склонны держать язык за зубами. Они всегда и все обсуждали. Римом правили слухи. Но от Суллы – ничего. Только одинокие бесцельные прогулки без сопровождения. И все же это исходило от него – отрубленные головы, исчезнувшие люди! Этот молчаливый и необщительный человек был властелином Рима.
В календы декабря Сулла созвал заседание сената, первое со времени выступления Флакка. О, как сенаторы торопились в курию Гостилия! Дрожа больше от страха, чем от холода, с бешеным сердцебиением, задыхаясь, с расширенными зрачками, чувствуя тошноту. Они буквально попадали на свои стулья, словно чайки, побитые бурей, стараясь не смотреть вверх – из страха, что сейчас с крыши на них посыплются обломки черепицы, как на Сатурнина и его сторонников.
Все были объяты безымянным ужасом, даже Флакк, принцепс сената, даже Метелл Пий, даже военные любимцы вроде Офеллы и сообщники вроде Филиппа и Цетега. И все же, когда Сулла вошел, он выглядел таким безобидным! Трогательная фигура! Его сопровождало беспрецедентное количество ликторов – двадцать четыре! Вдвое больше, чем полагалось консулу, и вдвое больше, чем у любого предыдущего диктатора.
– Настало время познакомить вас с моими намерениями, – сказал Сулла, не поднимаясь со своего курульного кресла. Слова вылетали вместе со струйками белого пара – так холодно было в помещении. – Я – законный диктатор, а Луций Валерий, принцепс сената, – мой начальник конницы. Согласно закону, принятому центуриатными комициями, я не обязан назначать других магистратов. Однако Рим всегда вел хронологию по именам ежегодно избираемых консулов, и я не стану нарушать традицию. Я не желаю, чтобы люди называли наступающий год «годом диктатуры Луция Корнелия Суллы». Поэтому я хочу, чтобы были избраны два консула, восемь преторов, два курульных и два плебейских эдила, десять народных трибунов и двенадцать квесторов. А чтобы опыт управления получили и молодые люди, которым впоследствии предстоит войти в сенат, необходимо будет выбрать двадцать четыре военных трибуна. И я назначу трех человек монетариями и трех человек, которые будут следить за тюремными камерами и убежищами.
Катула и Гортензия обуял такой ужас, что оба сидели, силясь не обгадиться и спрятав руки, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Не веря своим ушам, они слушали, как диктатор объявляет, что будет проводить выборы во все магистратуры! Они ожидали, что в них начнут швырять острую черепицу, или выведут и обезглавят, или сошлют в ссылку, а имущество конфискуют. Они ожидали чего угодно, но это… Он что, невиновен? Разве он не знает, что творится в Риме? И если не знает, кто же тогда отвечает за те исчезновения и убийства?
– Конечно, – продолжал диктатор с раздражающей неотчетливой дикцией, – вы понимаете, что, когда я говорю «выборы», я не имею в виду выдвижение кандидатов и предвыборную кампанию. Я назову имена тех, кого вы должны будете выбрать. Свобода выбора сейчас невозможна. Мне нужны помощники в моей работе. Следовательно, это должны быть те люди, которые мне полезны, а не те, кого навяжут мне выборщики. Поэтому я хочу сообщить вам, кто кем будет в следующем году. Писарь, мой список!
Сулла взял листок у служащего сената, чья единственная обязанность была хранить документы. Секретарь, записывавший на восковых табличках все, что произносил Сулла, оторвался от своего занятия.
– Итак, консулы. Старший – Марк Туллий Декула. Младший – Гней Корнелий Долабелла.
Вдруг раздался чей-то голос. Фигура в тоге вскочила со стула – Квинт Лукреций Офелла.
– Нет! Нет, я говорю! Ты отдаешь консульство Декуле? Нет! Кто такой Декула? Ничтожество, которое торчало здесь в полной безопасности, в Риме, пока лучшие люди Рима боролись за тебя, Сулла! Чем таким отличился Декула? Почему он? У него недостанет сил даже подтереть твою задницу своей тогой, Сулла! Это непростительный, злобный, несправедливый обман! Назначение Долабеллы я могу понять – все твои легаты знают о сделке, которую ты с ним заключил! Но кто такой этот Декула? Что такого сделал этот Декула, чтобы стать старшим консулом? Я говорю – нет! Нет, нет, нет!
Офелла остановился, чтобы перевести дух. Заговорил Сулла:
– Мой выбор – старшим консулом будет Марк Туллий Декула. Вопрос закрыт.
– Тогда надо запретить тебе делать выбор, Сулла! У нас будут кандидаты и обычные выборы, и я выдвину свою кандидатуру!
– Не выдвинешь, – тихо сказал Сулла.
– Попробуй остановить меня! – выкрикнул Офелла и выбежал из помещения.
Снаружи роилась толпа, жаждавшая услышать результаты этого собрания сената, первого с тех пор, как Сулла был утвержден в должности диктатора. В толпе не оказалось людей, которые считали, что должны бояться Суллы, – те остались дома. Небольшая толпа, но тем не менее толпа. Расталкивая собравшихся, не обращая внимания на чины и звания тех, кто оказался у него на пути, Офелла кинулся вниз по ступеням сената, по мостовой, к колодцу комиций и – прямо к ростре, встроенной в его стену.
– Римляне! – крикнул он. – Подойдите сюда, послушайте, что я хочу сказать об этом незаконном монархе, которого мы добровольно назначили править нами! Он говорит, что необходимо выбрать консулов. Но кандидатов не будет – просто два человека по его выбору. Два никудышных, некомпетентных идиота, и один из них – Марк Туллий Декула, он даже не из знатного рода! Первый из его семьи сенатор-заднескамеечник, который пробрался в преторы при предательском режиме Цинны и Карбона! И все же он будет старшим консулом, в то время как такие люди, как я, остаются без награды!
Сулла поднялся и медленно прошел по мозаичному полу курии к портику, где постоял, жмурясь от яркого света и делая вид, что равнодушен к происходящему. На самом деле он зорко смотрел, как Офелла кричит с ростры. Не привлекая к себе внимания, примерно пятнадцать человек стали собираться у подножия сенатской лестницы.
Медленно, крадучись, сенаторы вышли из курии посмотреть и послушать, пораженные спокойствием Суллы. Они приободрились, глядя на него: Сулла вовсе не выглядел монстром, как они стали думать. Этот худой, жалкий человек просто не мог быть чудовищем!
– Вот, римляне… – продолжал Офелла громогласно, входя в раж. – Я не тот, кто может спокойно стерпеть подобные оскорбления! Я больше достоин быть консулом, чем такое ничтожество, как Декула! И я считаю, что граждане Рима, если им позволят выбирать, выберут меня, а не подлых ставленников Суллы! В былые времена, когда люди были не согласны с предложенными кандидатами, они выступали перед народом и выдвигали свои кандидатуры!
Взгляды Суллы и вожака небольшой группы, стоявшей внизу, встретились. Сулла кивнул, вздохнул и устало прислонился к колонне.
Ничем не примечательные люди тихо прошли сквозь небольшую толпу, приблизились к ростре, взошли на нее и взяли Офеллу. Мягкость их движений была кажущейся. Офелла яростно отбивался, но безуспешно. Они безжалостно сгибали его, пока он не упал на колени. Потом один из них взял Офеллу за волосы и откинул его голову назад, оголив шею. Взвился клинок. Когда голова отделилась от тела, человек, державший голову за волосы, покачнулся, потом высоко поднял голову, чтобы все могли видеть. В считаные мгновения Форум опустел, остались лишь ошеломленные сенаторы.
– Положите голову на ростру, – сказал Сулла, выпрямился и вошел в помещение.
Двигаясь как неживые, сенаторы последовали за ним.
– Итак, на чем я остановился? – спросил Сулла секретаря, который подался вперед и тихо что-то проговорил. – О да, понял! Спасибо! Я остановился на консулах. Далее я собирался говорить о преторах. Список! – Сулла протянул руку. – Спасибо. Итак, продолжаю… Мамерк Эмилий Лепид Ливиан. Марк Эмилий Лепид. Гай Клавдий Нерон. Гней Корнелий Долабелла-младший. Луций Фуфидий. Квинт Лутаций Катул. Марк Минуций Терм. Секст Ноний Суфенат. Гай Папирий Карбон. Я назначаю младшего Долабеллу городским претором, а Мамерка – претором по делам иноземцев.
Поистине удивительный список! Ясно, что ни Лепида, ни Катула, которые при обычных выборах могли бы рассчитывать на первые места, не должны были предпочесть двум лицам, которые активно сражались за Суллу. И вот они – преторы, в то время как сторонниками Суллы сенаторского статуса и надлежащего возраста пренебрегли! Фуфидий был вообще никто. А Ноний Суфенат – младший сын сестры Суллы. Нерон – некий второстепенный Клавдий, не имеющий никакого влияния. Терм – хороший солдат, но оратор никудышный, над ним всегда смеялись на Форуме. И словно чтобы досадить всем знатным римским родам, последним в списке преторов назван член семьи Карбона, который был сторонником Суллы, но ничем себя не проявил.
– Ты в списке, – шепнул Гортензий Катулу. – Они все еще покажут себя. Сулла не дурак, чтобы дать не ту работу не тому человеку. Меня интересует Декула. Настоящий бюрократ! Вот почему Сулла выбрал его: он должен был его выбрать, если учесть, что Долабелла добился консульства шантажом! Политика нашего диктатора будет проводиться скрупулезно, и Декула станет радоваться каждой казни.
Собрание продолжалось. Одно за другим звучали имена магистратов, и никто больше не возражал. Закончив, Сулла отдал список хранителю и опустил руки на колени.
– Я сказал все, что хотел, кроме того, что я отметил нехватку в Риме жрецов и авгуров и скоро издам закон, чтобы поправить эту ситуацию. А сейчас послушайте вот что! – вдруг заорал он, заставив всех вскочить с мест. – Жрецов больше выбирать не будут! Это верх нечестивости – бросать бюллетени, чтобы определить, кто будет служить богам! Это торжественное и государственное событие превращено в политический цирк, и в результате жреческие должности занимают люди, у которых нет ни традиций, ни уважения к обязанностям жреца. Если богам Рима не служить надлежащим образом, Рим не сможет процветать.
Сулла поднялся на ноги. Послышался чей-то голос. Удивленный, Сулла опять опустился в свое курульное кресло.
– Ты хочешь что-то сказать, дорогой Свиненок? – осведомился он, назвав Метелла Пия старым прозвищем, которое тот унаследовал от своего отца.
Метелл Пий покраснел, но с решительным видом встал. С момента его прибытия в Рим в пятый день ноября его заикание, почти исчезнувшее за последнее время, заметно усилилось. Он знал почему. Все дело в Сулле, которого он любил, но боялся. Однако Метелл Пий все же оставался сыном своего отца, а Метелл Нумидийский Свин дважды терпел ужасные побои на Форуме и один раз даже уехал в ссылку, но своими принципами не поступался. Поэтому сыну надлежало идти по стопам отца и поддержать честь семьи. И свое собственное dignitas.
– Лу-лу-ций Корнелий, т-т-ты ответишь н-н-на один вопрос?
– Ты заикаешься! – воскликнул Сулла почти нараспев.
– Д-д-да. Из-з-вини. Я постараюсь, – сказал Метелл Пий сквозь стиснутые зубы. – Известно ли тебе, Лу-лу-ций Корнелий, что людей убивают, а их имущество конфискуют п-п-по всей Италии и в Риме?
Сенат слушал затаив дыхание, что ответит Сулла: знал ли он? По его ли приказу это делалось?
– Да, я знаю об этом, – сказал Сулла.
Коллективный вздох, общая дрожь, и всех словно вдавило в стулья. Сенат услышал самое худшее. Метелл Пий упрямо продолжал:
– Я п-п-понимаю, что необходимо наказывать виновных, но ни один человек не был судим. Не мог бы ты объяснить м-м-мне ситуацию? Например, с-с-сказать мне, когда ты намерен подвести черту? И вообще, сохранится ли у нас правосудие? И кто решил, что эти люди совершили предательство, если их дело не рассматривалось в суде?
– Это по моему приказу они умерли, дорогой Свиненок, – строго ответствовал диктатор. – Я не намерен зря тратить деньги и время сената на суды для людей, чья вина не вызывает сомнений.
Свиненок не сдавался:
– Тогда… м-м-можешь ли ты мне сказать, от кого ты намерен еще избавиться?
– Боюсь, что не могу, – ответил диктатор.
– Тогда, если ты н-н-не знаешь, от кого будешь избавляться, то хотя бы кого ты намерен наказать?
– Да, дорогой Свиненок, это я могу сделать для тебя.
– В таком случае, Лу-лу-ций Корнелий, пожалуйста, поделись этим с нами, – закончил Метелл Пий с явным облегчением.
– Не сегодня, – сказал Сулла. – Мы снова соберемся завтра.
На следующий день рано утром, с рассветом, все вернулись в курию Гостилия, но мало кто казался выспавшимся.
Сулла уже ждал их в помещении сената, восседая в своем курульном кресле. Один писарь сидел со стилосом и восковыми табличками, другой держал в руках свиток папируса. Как только жертвоприношение и авгурии показали, что знамения благоприятствуют проведению собрания, Сулла протянул руку к свитку. Он посмотрел на бедного Метелла Пия, измученного беспокойством.
– Вот, – сказал Сулла, – список людей, которые или уже умерли как предатели, или скоро умрут как предатели. Их имущество теперь принадлежит государству и будет продано на аукционе. Любой мужчина или женщина, которые увидят человека, чье имя значится в этом списке, могут безнаказанно убить его.
Сулла передал список старшему ликтору.
– Прикрепи это на стену ростры, – велел он. – Пусть все граждане Рима узнают то, о чем один только мой дорогой Свиненок имел смелость спросить.
– Значит, если я увижу кого-то в твоем списке, я могу его убить? – нетерпеливо поинтересовался Катилина, которого Сулла попросил посещать заседания сената, хотя он еще не стал сенатором.
– Да, это так, ты можешь убить любого из этого списка, мой маленький лизоблюд! И кстати, заработаешь на этом два таланта серебром, – объявил Сулла. – Конечно, я узаконю наказания. Я не сделаю ничего, что не будет иметь силу закона! Вознаграждение будет также узаконено, и все выплаты будут записаны, так что последующие поколения не забудут о тех, кто извлек для себя выгоду в эти дни.
Все прошло спокойно, но некоторые, например Метелл Пий, легко разгадали злой умысел Суллы. А таким, как Луций Сергий Катилина, явно было все равно.
Первый список содержал сорок имен сенаторов и шестьдесят пять – всадников. Его возглавляли имена Гая Норбана и Сципиона Азиагена, далее шли Карбон и Марий-младший, Каррина, Цензорин и Брут Дамасипп. Старого Брута не было. Большинство сенаторов, поименованных в списке, были уже мертвы. Однако списки в основном предназначались для того, чтобы информировать Рим о том, чьи поместья конфискованы. Они не сообщали, кто уже мертв, а кто еще жив. Второй список появился на ростре на следующий день: двести всадников. И третий список: двести пятьдесят всадников. Сулла, очевидно, покончил с сенатом. Его настоящей целью было всадническое сословие.
Leges Corneliae, законы Корнелия, утверждавшие списки, и последующие действия, были исчерпывающими. Бо`льшая часть проскрипционных списков появилась в течение двух дней в начале декабря, а к середине декабря все уже находилось во власти бюрократа Декулы, как и предсказывал Катул. Любая случайность была учтена. Все имущество семьи человека, занесенного в список, стало собственностью государства и не могло быть переписано на имя наследника, не виновного ни в каком проступке. Никакое завещание осужденного не действовало. Ни один наследник, упомянутый в завещании, не мог ничего наследовать. Поименованный преступник мог законно быть казнен любым мужчиной или женщиной, будь он или она свободные, вольноотпущенники или рабы. Награда за убийство или за задержание осужденного составляла два таланта серебром, которые выдавались казной из конфискованного имущества и регистрировались в общественных бухгалтерских книгах. Раб, претендующий на награду, должен был быть освобожден, вольноотпущенник – переведен в сельскую трибу. Все мужчины, гражданские или военные, которые, после того как Сципион Азиаген нарушил перемирие, перешли на сторону Карбона или Мария-младшего, объявлялись врагами общества. Любой человек, предлагавший помощь или дружбу осужденному, объявлялся врагом общества. Сыновьям и внукам такового запрещалось занимать курульные должности и перекупать конфискованные имения или вступать во владение ими любыми другими способами. На сыновей и внуков уже умерших закон распространялся так же, как на сыновей и внуков еще живых. Последний закон этого пакета, обнародованного в пятый день декабря, гласил, что полностью процесс оглашения имен завершится в первый день июня следующего года. Еще целых полгода.
Таким образом, Сулла вступил в права диктатора, демонстрируя, что он не только властелин Рима, но также и владыка ужаса. Не все минувшие дни мучительного зуда были проведены в пьяном ступоре. Сулла думал о многих вещах. О том, как ему достичь господства над Римом. Что он будет делать, когда станет хозяином Рима. Как вызвать к себе такое отношение каждого мужчины, женщины, ребенка, которое позволит ему сделать все, что он задумал, не встретив сопротивления. Не солдаты, патрулирующие на улицах, но неизвестность, страх, ведущие и к надежде, и к отчаянию. Его приспешниками станут неизвестные, которые могут быть соседями или друзьями тех, кого они выследили и убрали. Сулла намеревался создать климат, а не погоду. Люди в состоянии справиться с погодой. Но климат? О, климат может оказаться невыносимым.
И он думал, думал, думал, пока расчесывался до кровавых клочьев. Старый, безобразный, разочарованный человек, которому дали для игры самую чудесную игрушку на свете – Рим, его мужчин и женщин, собак и кошек, рабов и вольноотпущенников, низшее сословие, всадников и знать. С затаенной злобой, холодным и мрачным недовольством, терзаемый болью, он тщательно разрабатывал план. Когда наконец подробный план был составлен, Сулле стало легче.
Настало время диктатора.
Диктатор радостно взял в руки свою новую игрушку.
Часть II
Декабрь 82 г. до Р. Х. – май 81 г. до Р. Х
Пока все идет очень хорошо, решил Луций Корнелий Сулла в начале декабря. Многие все еще не решались убить кого-либо оглашенного в списке, но некоторые, такие как Катилина, показывали пример, и количество денег и имущества, конфискованных у поименованных преступников, увеличивалось. Конечно, Сулла шел по этому пути лишь ради денег. Откуда-то должны были поступать огромные суммы, в которых нуждался Рим, чтобы стать платежеспособным. При обычных обстоятельствах деньги поступали бы из провинций, но из-за действий Митридата на востоке и неприятностей, доставляемых Квинтом Серторием в обеих Испаниях, из провинций некоторое время будет не выжать дополнительных доходов. Поэтому отдать деньги должны Рим и Италия. И все же этот груз нельзя взвалить ни на плечи простых людей, ни на тех, кто убедительно продемонстрировал свою лояльность делу Суллы.
Сулла никогда не любил ordo equester – девяносто одну центурию первого класса, в которые входили всадники-коммерсанты, и особенно восемнадцать центурий старших всадников, которые владели государственным конем. Среди них было много таких, кто разжирел при администрации Мария, Цинны, Карбона. Эти-то люди, решил Сулла, и заплатят по счету – ради экономического выздоровления Рима. Диктатор с радостным удовлетворением думал, что нашел идеальное решение: не только казна наполнится, но он еще и уничтожит всех своих врагов.
К тому же он нашел время разобраться с другой занозой – Самнием, причем самым жестким образом, послав в злополучную область двух худших, по его мнению, людей – Цетега и Верреса. И четыре легиона хороших солдат.
– Не оставляйте ничего, – распорядился Сулла. – Я хочу превратить Самний в такое место, чтобы ни один человек не захотел жить там снова, даже старейший и самый патриотичный самнит. Срубите деревья, уничтожьте посевы на полях, сотрите с лица земли города и сады. – Он улыбнулся своей ужасной улыбкой. – И срежьте все высокие маки.
Вот! Это научит самнитов. И избавит его от двух очень вредных человек на будущий год. Они не будут спешить с возвращением! Слишком много денег предстоит добыть сверх того, что они пришлют в казну.
Вероятно, для других частей Италии стало благом, что семья Суллы прибыла в Рим именно в этот момент, чтобы внести в его жизнь какую-то видимость порядка, в котором он нуждался и по которому скучал, сам того не сознавая. Во-первых, он не знал, что вид Далматики сразит его словно удар. Колени его подогнулись, и он почти упал на стул, глядя на нее, как зеленый юнец пялится на недосягаемую женщину, неожиданно снизошедшую до него.
Очень красивая – но это он всегда знал. Со смуглой кожей одного цвета с волосами. И этот взгляд любви, который, казалось, никогда не исчезал, никогда не менялся, не важно, насколько стар и безобразен становился Сулла. И вот она сидит у него на коленях, обвив его тощую шею руками, прижав его лицо к груди, лаская его покрытую струпьями голову, целуя ее, словно это по-прежнему та великолепная голова с волосами оттенка красного золота, которыми он щеголял. Его парик – где его парик? А потом она рывком подняла его голову – и он почувствовал прелесть ее рта, захватившего его сморщенные губы и не отпускавшего их, пока они снова не ожили… К нему стали возвращаться силы. Он поднялся со стула, держа ее на руках, и триумфально прошествовал в их комнату и там разделил с женой нечто большее, чем триумф.
«Вероятно, – думал он, утопая в ней, – все же я способен любить».
– Как же я скучал по тебе! – сказал Сулла.
– Как же я тебя люблю! – ответила Далматика.
– Два года… Прошло два года.
– Словно две тысячи лет.
Когда первый пыл воссоединения прошел, она превратилась в разумную жену и с удовольствием, тщательно всего его осмотрела:
– Кожа твоя стала намного лучше!
– Я получил мазь от Морсима.
– Зуд прекратился?
– Да.
После этого она стала матерью и отказалась отдыхать, пока он не прошел с нею в детскую, чтобы поздороваться с маленькими Фавстом и Фавстой.
– Они не намного старше нашей разлуки, – сказал он и вздохнул. – Они похожи на Метелла Нумидийского.
Далматика еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться.
– Я знаю… Бедняжки.
И этим закончился один из самых счастливых дней в жизни Суллы. Она смеялась вместе с ним!
Не зная, почему мама и смешной старик радостно обнимаются, двойняшки нерешительно улыбались, пока желание присоединиться к этому веселью не оказалось сильнее их. Может быть, в разгар этого веселья Сулла и не вполне полюбил их, но, во всяком случае, он нашел, что они довольно приятные малыши, даже если они и похожи на своего двоюродного дедушку Квинта Цецилия Метелла Нумидийского по прозванию Свин. «Которого их отец убил – какая ирония судьбы! – подумал он. – Может быть, это кара богов? Но чтобы поверить в это, надо быть греком, а я – римлянин. Кроме того, я буду уже давно мертв к тому времени, как эта парочка вырастет достаточно, чтобы сделаться божьим наказанием для кого-то другого».
Остальные вновь прибывшие домочадцы Суллы тоже чувствовали себя хорошо, включая старшую дочь Суллы Корнелию Суллу и ее двоих детей от умершего первого мужа. Маленькой Помпее было уже восемь лет. Она знала, что красива, и была полностью поглощена своей красотой. Шестилетний Квинт Помпей Руф как нельзя более соответствовал своему последнему имени, так как был рыжеволосым, румяным, с розоватыми белками глаз и вспыльчивым характером.
– А как поживает мой гость, который не может пересечь померий, чтобы попасть в Рим? – поинтересовался Сулла у своего управляющего Хрисогона, чьей обязанностью было присматривать за семьей.
Немного похудевший (нелегко угождать такому количеству людей с разными характерами, подумал Сулла) управляющий воздел глаза к потолку и пожал плечами:
– Боюсь, Луций Корнелий, что он не согласится оставаться за пределами померия, если ты лично не посетишь его и не объяснишь, почему так надо. Я пытался! Правда, я пытался! Но он считает меня мелкой сошкой, недостойной даже презрения, не говоря уж о доверии.
«Типично для Птолемея Александра», – подумал Сулла, выходя из города и направляясь к гостинице на Аппиевой дороге около первой вехи, где Хрисогон разместил кичливого, излишне чувствительного египетского царевича, который, хоть и находился под опекой Суллы уже три года, только теперь начал становиться обузой.
Утверждая, что он убежал от понтийского двора, Птолемей Александр появился в Пергаме, умоляя Суллу предоставить ему убежище. Сулла пришел в восхищение. Ведь это был не кто иной, как Птолемей Александр-младший, единственный законный сын фараона, который умер, пытаясь вернуть себе трон, в тот год, когда Митридат пленил его сына, жившего на острове Кос со своими двумя двоюродными незаконнорожденными братьями. Все три царевича были отправлены в Понт, а Египтом завладел старший брат умершего фараона Птолемей Сотер по прозвищу Латир (что означает «бараний горох»), который провозгласил себя фараоном.
Как только Сулла увидел Птолемея Александра-младшего, он понял, почему Египет предпочел старого Латира. Птолемей Александр-младший был до такой степени женоподобен, что одевался, как возрожденная Изида, в развевающиеся драпировки, завязанные узлом и обернутые вокруг тела на манер эллинизированной богини Египта, носил золотую корону на златокудром парике и тщательно разрисовывал лицо. Он жеманничал, строил глазки, говорил с улыбочкой, шепелявил, быстро и суетливо двигался. И все же проницательный Сулла видел, что за этим женоподобным фасадом скрывается нечто стальное.
Птолемей Александр-младший рассказал Сулле о трех отвратительных годах, проведенных при дворе человека, который был самым агрессивным гетеросексуалом. Митридат искренне верил, что женоподобных мужчин можно вразумить. Он подвергал молодого Птолемея Александра бесконечным унижениям, доводил до полного изнеможения с целью излечить беднягу от его наклонностей. Но это не помогало. Когда его заставляли ложиться в постель с понтийскими куртизанками и даже с простыми шлюхами, все заканчивалось одинаково: Птолемей Александр свешивал голову с кровати и его рвало. Когда его заставляли надевать доспехи и маршировать с сотней насмехавшихся над ним солдат, он плакал и валился с ног от усталости. Когда его били кулаками, а потом стегали, он невольно выдавал себя – такое обращение только возбуждало его. Когда его вывели на суд на рыночную площадь в Амисе в его любимой одежде и с краской на лице, в него полетели гнилые фрукты, яйца, овощи и даже камни. Он покорно все вынес, но не раскаялся.
У него появился шанс, когда под натиском Суллы позиции Митридата зашатались и двор распался. Молодой Птолемей Александр сбежал.
– Мои двоюродные братья-ублюдки предпочли, конечно, остаться в Амисе, – прошепелявил он Сулле. – Им-то отлично подходила атмосфера этого гнусного двора! Оба они охотно женились на дочерях Митридата от его жены Антиохиды. Да пусть они забирают и Понт, и всех царских дочерей! Я ненавижу это место!
– И чего же ты хочешь от меня? – спросил тогда Сулла.
– Убежища. Приюта в Риме, когда ты вернешься туда. А когда Латир умрет – египетский трон. У него есть дочь, Береника, которая правит с ним как его царица. Но он не может жениться на ней, конечно. Он может жениться только на тетке, кузине или сестре, а таковых у него нет. Естественно, царица Береника переживет своего отца. Египетский трон наследуется по женской линии, это означает, что царь становится царем через брак с царицей или старшей царевной. Я – единственный законный Птолемей, который еще остался. Александрийцы имеют в этом деле решающее слово с тех пор, как македонские Птолемеи отказались сделать своей столицей Мемфис. И они захотят, чтобы я наследовал Латиру, и согласятся на мой брак с царицей Береникой. Когда Латир умрет, отправь меня в Александрию, чтобы я предъявил права на трон – с благословения Рима.
Некоторое время Сулла размышлял, весело глядя на Птолемея Александра. Потом сказал:
– Ты можешь жениться на царице, но сможешь ли ты иметь от нее детей?
– Наверное, нет, – спокойно ответил царевич.
– Тогда какой резон жениться? – ухмыльнулся Сулла.
Птолемей Александр явно не понял смысла сказанного.
– Я хочу быть фараоном Египта, Луций Корнелий, – торжественно возгласил он. – Трон принадлежит мне по праву. А что с ним случится после моей смерти, мне все равно.
– А кто после тебя еще может претендовать на трон?
– Только мои два ублюдочных кузена, которые сейчас ходят в любимчиках у Митридата и Тиграна. Я смог убежать, когда от Митридата прибыл гонец с приказом отослать нас троих на юг, к Тиграну, который расширял свое царство в Сирии. Думаю, цель этого переезда – избавить нас от римского плена, если Понт падет.
– В таком случае твоих двоюродных братьев может не быть в Амисе.
– Они были там, когда я сбежал. Что случилось после моего побега – не знаю.
Сулла отложил перо и посмотрел глазами старого развратника на строптивого, вырядившегося юношу:
– Очень хорошо, царевич Александр, я предоставлю тебе убежище. Когда я вернусь в Рим, ты будешь сопровождать меня. Что касается твоих притязаний на двойную корону Египта, наверное, лучше обсудить это, когда придет время.
Но время еще не пришло, когда Сулла медленно шел по Аппиевой дороге, направляясь к гостинице у первой вехи. И сейчас он мог предвидеть определенные трудности, связанные с Птолемеем Александром-младшим. Конечно, в голове у Суллы уже созрел план. Если бы эта идея не возникла у него при первой встрече с Птолемеем Александром, он просто отослал бы молодого человека к его дяде Латиру в Александрию и умыл бы руки. Но у него составилась некая схема, и теперь он мог только надеяться, что проживет достаточно, чтобы увидеть плоды своей затеи. Латир был значительно старше его, но явно пребывал в добром здравии. Говорят, в Александрии благоприятный климат.
– Однако, царевич Александр, – заговорил Сулла, когда его провели в лучшую комнату гостиницы, – я не могу содержать тебя за счет Рима все те годы, пока твой дядя не умрет. Даже в таком месте, как это.
Темные глаза гневно блеснули. Птолемей Александр взметнулся, как готовая ужалить змея:
– В таком месте, как это? Да я скорее вернусь в Амис, чем останусь в таком месте, как это!
– В Афинах, – холодно продолжал Сулла, – ты жил по-царски за счет афинян просто благодаря подаркам твоего дяди этому городу. Твой дядя одарил Афины после того, как я был вынужден пограбить их немножко. То была привилегия Афин. Мне ты ничего не стоил. Здесь же ты обходишься слишком дорого. Рим не в состоянии тратить на тебя такие суммы. Поэтому я предлагаю тебе на выбор два варианта. Ты можешь сесть на корабль – за счет Рима, отплыть в Александрию и помириться с твоим дядей Латиром. Или ты можешь сделать заем у одного из банкиров этого города, арендовать дом и слуг на Пинции или в любом другом приемлемом месте за пределами померия и оставаться там, пока не умрет твой дядя.
Трудно сказать, побледнел ли Птолемей Александр, так густо был наложен грим, но Сулле хотелось думать, что царевич все-таки побледнел. Конечно, он сразу поостыл.
– Я не могу поехать в Александрию, мой дядя прикажет меня убить!
– Тогда бери заем.
– Хорошо, возьму. Только скажи мне как.
– Я пришлю к тебе Хрисогона, и он тебя просветит. Он знает все. – Сулла не садился и теперь сразу направился к двери. – Кстати, Александр, ни при каких обстоятельствах ты не можешь пересечь священную границу Рима и войти в город.
– Но я умру от тоски!
Последовала знаменитая усмешка Суллы:
– Сомневаюсь, если станет известно, что у тебя водятся деньги и есть красивый дом. Александрия очень далеко, а ведь ты превратишься в законного царя сразу же, как только Латир умрет. Чего мы с тобой не сможем узнать, пока новость не достигнет Рима. Поскольку Рим не потерпит правящего суверена в своих границах, ты не должен переступать померий. Я говорю серьезно. Не советую тебе пренебрегать моим советом, иначе тебе уже не понадобится плыть в Александрию, чтобы преждевременно умереть.
Птолемей Александр разрыдался:
– Ты отвратительный, страшный человек!
Сулла вышел и направился к Капенским воротам, временами разражаясь смехом, похожим на ржание. Какой отвратительный, страшный человек этот Птолемей Александр! Но каким полезным он может оказаться, если у Латира хватит такта и здравого смысла умереть, пока Сулла еще будет диктатором! Он даже подпрыгнул от удовольствия при мысли о том, что же он сделает, когда услышит, что трон Египта опустел.
Сулла совершенно не думал о том, что его смех и подскок и эта зигзагообразная походка стали предвестием ужаса для каждого, кто случайно видел диктатора. А его мысли уже блуждали по легендарной Александрии.
Однако главное место в мыслях Суллы занимала религия. Как и большинство римлян, он не призывал бога по имени, а закрывая глаза, не представлял себе антропоморфную фигуру – это было слишком по-эллински. В эти дни считалось признаком изысканности изображать Беллону как вооруженную женщину, Цереру – как красивую матрону, несущую сноп пшеницы, Меркурия – в крылатой шапочке и в сандалиях с крылышками, потому что эллинизированное общество стояло выше римского, потому что эллинизированное общество презирало лишенных обличья богов как примитивных, недостойных поклонения со стороны интеллектуалов. Для греков их боги являлись, по существу, такими же людьми, только обладавшими сверхъестественными силами. Рассудок греков не мог вместить веру в существо более сложное, чем человек. Поэтому Зевс, который был главой их пантеона, действовал как римский цензор, обладающий властью, но не всемогущий, и раздавал поручения другим богам, которым нравилось его дурачить, шантажировать – словом, вести себя как народные трибуны.
Но римлянин Сулла знал, что латинские боги не столь телесны, как боги эллинов. Они не были антропоморфными, у них не было глаз, они не вели бесед, не обладали сверхъестественными способностями, не делали умозаключений, подобно людям. Римлянин Сулла знал, что боги – это особые силы, которые управляют явлениями и контролируют другие силы, подвластные им. Боги питаются жизненными соками, поэтому им нужно приносить жертвы. Они нуждаются в том, чтобы в мире живых царили порядок и система – равно как в их таинственном мире, потому что порядок в мире людей помогает поддерживать порядок в мире духовных сил.
Существовали духи, которые охраняли чуланы и амбары, силосные ямы и погреба, любили, чтобы закрома всегда оставались полными, – они назывались пенатами. Были силы, которые охраняли корабли в плавании, перекрестки улиц и все неодушевленные предметы, – они назывались ларами. Имелись и иные силы – они покровительствовали деревьям, чтобы те были высокими, чтобы у них хорошо росли ветви и листья, а корни проникали глубоко в землю. И силы, делавшие воду в реках вкусной и направлявшие текущие с гор реки в моря. В мире действовала могущественная сила, которая избранным людям даровала удачу и богатство, большинству – всего этого понемногу, а некоторым – вообще ничего. Эта сила называлась Фортуной. А сила, которая именовалась Юпитером Всеблагим Всесильным, – это сумма всех других сил, соединительная ткань, которая связывает их всех воедино неким способом, естественным для духов, но непостижимым для людей.
Сулле было ясно, что Рим теряет связь со своими богами, со своими духами. Иначе почему тогда сгорел Большой храм? Почему драгоценные записи ушли в небеса вместе с дымом? Почему погибли пророческие книги? Люди забыли о тайнах, о строгих догматах и принципах, посредством которых действуют божественные силы. Выборы жрецов и авгуров разлаживают деятельность жреческих коллегий, мешают деликатно улаживать все вопросы, что возможно, лишь когда представители одних и тех же семей занимают определенные религиозные посты – с незапамятных времен, из поколения в поколение.
Поэтому, прежде чем обратить свою энергию на выправление пошатнувшихся институтов и утративших силу законов Рима, Сулла должен очистить божественный эфир, гармонизировать его божественные силы, чтобы они могли проявляться свободно. Как мог Рим ожидать чего-то хорошего, когда человек, утративший ценностные ориентиры, дошел до того, чтобы выкрикнуть его тайное имя? Как мог Рим процветать, когда люди грабят свои храмы и убивают своих жрецов? Конечно, Сулла уже забыл, что и сам однажды хотел ограбить римские храмы. Он помнил только, что этого не сделал, хотя ему предстояло биться с реальным врагом. Не помнил он и того, что сам он думал о богах, пока болезнь и вино не разрушили его жизнь.
В пожаре Большого храма заключалось некое послание, Сулла чувствовал это нутром. И его миссия – положить предел хаосу, восстановить божественное равновесие. Если он этого не сделает, то двери, которые следует держать тщательно закрытыми, будут распахнуты настежь, а те двери, которые надлежит отворить, напротив, захлопнутся.
Сулла собрал жрецов и авгуров в старейшем храме Рима – храме Юпитера Феретрия на Капитолии. Храм был таким древним, что считалось, будто его построил сам Ромул – из цельных туфовых блоков, без штукатурки и отделки. Только две колонны поддерживали строгий портик. В этом храме не имелось никаких изображений. На простом квадратном пьедестале покоился жезл из электра длиной в локоть и кремниевый нож, черный и блестящий. Свет поступал в помещение только через дверь, и здесь пахло невероятной древностью – мышиным пометом, плесенью, сыростью, пылью. Единственный зал был площадью всего десять на семь футов, поэтому Сулла был рад тому обстоятельству, что состав коллегии понтификов и коллегии авгуров далеко не полон, иначе все не поместились бы.
Сам Сулла был авгуром. Авгурами были также Марк Антоний, младший Долабелла и Катилина. Из жрецов – Гай Аврелий Котта числился в коллегии дольше всех; за ним следовали Метелл Пий и Флакк, принцепс сената, который являлся также flamen Martiales, фламином Марса. Далее Катул, Мамерк, царь священнодействий Луций Клавдий, родом из той единственной ветви Клавдиев, где давали имя Луций. И еще очень непростой человек – понтифик Брут, сын старого Брута, который все время гадал, попадет ли его имя в проскрипционные списки, и если да, то когда именно.
– У нас нет великого понтифика, – начал Сулла, – и вообще нас очень мало. Я мог бы найти и более удобное место для встречи, но, думаю, можно и потерпеть немного, чтобы умилостивить богов. Мы уже давно привыкли заботиться сначала о себе, а уж потом о наших богах. И боги огорчены. Основанный в том же году, когда была образована наша Республика, храм Юпитера Всесильного сгорел не случайно. Я уверен, это произошло потому, что Юпитер Всеблагой Всесильный чувствует: сенат и народ Рима не желают воздавать ему должное. Мы не так неопытны и легковерны, чтобы согласиться с варварскими верованиями в гнев богов – удары молнии, которые могут нас убить, или падающие колонны, которые могут нас раздавить. Все названное – лишь природные явления, и говорят они только об одном: данному человеку просто не повезло. А вот предзнаменования бывают очень плохие. Пожар нашего Большого храма – ужасное предзнаменование. Если бы у нас все еще оставались Книги Сивилл, мы могли бы больше узнать об этом. Но они сгорели вместе с нашими анналами, древними Двенадцатью таблицами и многим другим.
Присутствовали пятнадцать человек. Места не хватало, чтобы отделить оратора от аудитории. Поэтому Сулла просто стоял в середине и говорил негромким голосом:
– Задача диктатора – вернуть религию Рима в ее древнюю, изначальную форму и заставить вас всех работать на эту цель. Теперь я имею право издавать законы, но ваша задача – выполнять их. В одном я уверен, ибо у меня были сны. Я авгур и знаю: я – прав. Поэтому я отменяю lex Domitia de sacerdotiis, который несколько лет назад навязал нам великий понтифик Гней Домиций Агенобарб, доставив себе большое удовольствие. Почему он это сделал? Потому что чувствовал: его семья оскорблена, а его самого обходят. Вот причины издания этого закона, в основе которого лежала человеческая гордыня, а вовсе не благочестие. Я считаю, что Агенобарб, великий понтифик, огорчил богов, особенно Юпитера Всеблагого Всесильного. Поэтому больше не будет выборов жрецов, даже великого понтифика.
– Но великий понтифик всегда избирался! – удивленно воскликнул Луций Клавдий, rex sacrorum. – Он – верховный жрец Республики! Его назначение должно быть демократичным!
– А я говорю – нет. Отныне его кандидатура тоже будет выдвигаться членами коллегии понтификов, – сказал Сулла тоном, который пресек все возражения. – Я убежден в своей правоте.
– Я не знаю… – начал Флакк и замолчал, встретившись взглядом с Суллой.
– Зато я знаю, так что покончим с этим! – Глаза Суллы скользнули по лицам присутствующих и погасили любые возможные протесты. – Нашим богам наверняка не нравится, что нас так мало, поэтому я принял еще одно решение. В каждой жреческой коллегии, как низшей, так и высшей, будет по пятнадцать членов вместо десяти или двенадцати. Жрецам больше не придется совмещать две обязанности. Кроме того, пятнадцать – счастливое число, вокруг которого стоят несчастливые числа тринадцать и семнадцать. Магия чисел очень важна. Магия создает пути, по которым распространяются божественные силы. Я считаю, что числа обладают великой магией. Поэтому мы заставим магию работать на Рим, на его процветание, и это будет нашим священным долгом.
– Вероятно, – осмелился Метелл Пий, – м-м-мы можем выдвинуть т-т-только одного к-к-кандидата на должность ве-великого понтифика? В таком случае, по крайней мере, будут проведены выборы.
– Выборов не будет! – рявкнул Сулла.
Наступила тишина. Никто не посмел даже шевельнуться.
Помолчав некоторое время, Сулла заговорил снова:
– Один жрец по ряду веских причин вызывает у меня беспокойство. Это наш flamen Dialis, фламин Юпитера, молодой человек по имени Гай Юлий Цезарь. После смерти Луция Корнелия Мерулы Гай Марий и его подкупленный прихвостень Цинна сделали этого юношу фламином Юпитера. Люди, назначившие Цезаря, были нечестивцами. Они нарушили существующий порядок выборов, который должен включать все коллегии. Другая причина моего беспокойства касается моих предков, ибо первый Корнелий, прозванный Суллой, был именно фламином Юпитера. Но то, что сгорел Большой храм, – знамение намного более страшное. Поэтому я стал наводить справки об этом молодом человеке и узнал, что он наотрез отказывался соблюдать правила, предписанные фламину, пока не облачился во взрослую тогу. С тех пор, насколько мне удалось выяснить, его поведение не вызывало нареканий. Все это можно было бы объяснить его юным возрастом. Но мое мнение в данном случае не имеет значения. Что думает по этому поводу Юпитер Всеблагой? Вот что важно. Ибо, мои коллеги жрецы и авгуры, я узнал, что храм Юпитера загорелся за два дня до ид квинтилия. Именно в этот день родился нынешний фламин Юпитера. Знак!
– Это можно истолковать и как хороший знак, – сказал Котта, которого беспокоила судьба фламина Юпитера.
– Да, можно, – согласился Сулла, – но не мне это решать. Как диктатор, я могу определить способ, как назначать наших жрецов и авгуров. Я могу отменить всеобщие выборы. Но случай с фламином Юпитера – особый. Вы все должны решить его судьбу. Все вы! Фециалы, понтифики, авгуры, жрецы священных книг, даже эпулоны и салии. Котта, я назначаю тебя ответственным за расследование, поскольку ты дольше всех служишь понтификом. До декабрьских ид, когда мы снова встретимся в этом храме, чтобы обсудить религиозные взгляды нашего фламина Юпитера. – Сулла пристально посмотрел на Котту. – Пусть все останется в тайне. Ни одного слова не должно просочиться за пределы этого храма. Ничего не должен знать и сам молодой Цезарь.
Сулла шел домой, посмеиваясь и потирая от удовольствия руки. Он придумал самую замечательную шутку! Шутку, которую Юпитер Всеблагой обязательно оценит. Жертвоприношение! Живая жертва за Рим – за Республику, чьим верховным жрецом он являлся! Эту должность придумали, чтобы заменить rex sacrorum, дабы быть уверенными, что Республика избавилась от царей, каждый из которых был и царем священнодействий. «О, идеальная шутка! – воскликнул Сулла про себя, смеясь до слез. – Я принесу Великому Богу жертву, которая охотно пойдет на заклание и будет продолжать приносить себя в жертву до самой смерти! Я подарю Республике и Великому Богу лучшую часть человеческой жизни – его страдания, его печаль, его боль. И все с его согласия. Потому что он никогда не откажется пожертвовать собой!»
На следующий день Сулла опубликовал первые свои законы, целью которых было привести в порядок государственную религию, вывесив их на ростре и на стене регии. Присутствующие у ростры вообразили, что это новый список осужденных изменников, поэтому те, кто жаждал получить награду, устремились к листкам, но скоро отошли, разочарованные: это оказался список лиц, которые теперь являлись членами различных жреческих коллегий – низших и высших. В каждой по пятнадцать человек, как патрициев, так и плебеев (причем плебеев на одного больше), распределенных между лучшими семьями. Ни одного недостойного имени! Никаких Помпеев, или Туллиев, или Дидиев! Лишь Юлии, Сервилии, Юнии, Эмилии, Корнелии, Клавдии, Сульпиции, Валерии, Домиции, Муции, Лицинии, Антонии, Манлии, Цецилии, Теренции. Замечено было также, что Сулла стал теперь не только авгуром, но еще и жрецом и что он был единственным, кто совмещал две должности.
«Я должен быть в обоих лагерях, – сказал он себе, размышляя над списком. – Я – диктатор».
Через день он опубликовал дополнение к списку, содержащее только одно имя. Имя нового великого понтифика – Квинта Цецилия Метелла Пия Свиненка. Заика в роли жреца!
Римляне были вне себя от ужаса, когда увидели это вселяющее страх имя на ростре. Новый великий понтифик – Метелл Пий? Как это может быть? Что случилось с Суллой? Он что, совсем рехнулся?
Дрожавшая от страха депутация явилась к нему в дом Агенобарба. Это были жрецы и авгуры, включая и самого Метелла Пия. По понятным причинам говорил не он. В эти дни он так заикался, что ни у кого не хватало терпения стоять в ожидании, переминаясь с ноги на ногу, пока Свиненок облечет свои пляшущие мысли в слова. От лица всех заговорил Катул.
– Луций Корнелий, почему? – простонал он. – Неужели мы не можем сказать «нет»?
– Я н-н-не хочу эт-т-той раб-б-боты! – жутко заикаясь, проговорил Свиненок, вращая глазами и размахивая руками.
– Луций Корнелий, ты не можешь! – воскликнул Ватия.
– Это немыслимо! – воскликнул Мамерк.
Сулла дал им время выпустить пар. При этом ни один мускул не дрогнул на его лице, в глазах не мелькнуло ни искры эмоций. Сулла не должен показывать им, что это шутка. Они всегда должны видеть его серьезным. Ибо он на самом деле был серьезен. Да! Юпитер явился ему во сне прошлой ночью и сказал, что ему очень понравилась эта замечательная, идеальная шутка.
Наконец они успокоились. Наступило тревожное молчание. Слышно было только, как тихо всхлипывает Свиненок.
– Фактически, – спокойно заговорил Луций Корнелий Сулла, – как диктатор, я могу поступать так, как сочту нужным. Но дело не в этом. Дело в том, что во сне мне явился Юпитер Всеблагой и специально попросил назначить Квинта Цецилия своим великим понтификом. Когда я проснулся, то убедился, что знамения благоприятные. По пути на Форум, куда я шел, чтобы прикрепить два листа на ростру и на регию, я увидел пятнадцать орлов, летящих слева направо. И ни один филин не прокричал, ни одна молния не сверкнула.
Депутаты глянули в лицо Суллы, потом уставились в пол. Сулла был крайне серьезен. Кажется, Юпитер Всеблагой тоже был серьезен.
– Но в ритуалах, совершаемых великим понтификом, не должно быть ошибок! – воскликнул наконец Ватия. – Ни один жест, ни одно действие, ни одно слово не может быть неправильным! Как только будет допущена ошибка, всю церемонию придется начинать сначала!
– Я знаю об этом, – тихо сказал Сулла.
– Луций Корнелий, ты же должен понять! – воскликнул Катул. – Пий заикается почти на каждом слове! И когда он начнет ритуал в качестве великого понтифика, нам придется торчать здесь целую вечность!
– Я все прекрасно понимаю, – очень серьезно сказал Сулла. – Помните, что и я тоже буду с вами. – Он пожал плечами. – Что мне сказать? Вероятно, это какая-то особая жертва, которой требует от нас Великий Бог, потому что в делах, касающихся наших богов, мы ведем себя не так, как должно? – Он повернулся к Метеллу Пию, взял его трясущуюся руку. – Конечно, дорогой Свиненок, ты можешь отказаться. Наши религиозные установления не запрещают тебе этого.
Свиненок схватил край тоги свободной рукой, чтобы вытереть глаза и нос. Он глубоко вдохнул:
– Я сделаю это, Луций Корнелий, если Великий Бог требует этого от м-м-меня.
– Ну вот видишь? – обрадовался Сулла, похлопывая его по руке. – Ты почти преодолел заикание! Практика, дорогой Свиненок! Практика!
Первый приступ смеха грозил превратиться в истерику. Сулла поспешно отпустил депутацию и кинулся в свой кабинет, где и закрылся. Он бросился на ложе, обхватил себя руками и захохотал. Он ржал до слез. Когда у него перехватило дыхание, он скатился на пол и лежал там, крича и дрыгая ногами, до спазмов в животе, таких болезненных, что он едва не умер. Но он продолжал смеяться, уверенный в том, что знаки действительно были благоприятные. И весь день, как только перед его мысленным взором вставал Свиненок с выражением благородного самопожертвования на лице, он сгибался пополам от смеха. Он хохотал каждый раз, когда вспоминал выражение лиц Катула, Ватии и своего зятя Мамерка. Превосходно, превосходно! Идеальная справедливость эта шутка Юпитера. Все получили по заслугам. Включая и Луция Корнелия Суллу.
В декабрьские иды около шестидесяти человек – членов низших и высших жреческих коллегий – пытались втиснуться в храм Юпитера Феретрия.
– Мы засвидетельствовали богу свое уважение, – сказал Сулла. – Не думаю, что он будет против, если мы выйдем на воздух.
Он уселся на низкую стенку, отгораживающую древнее Убежище от сада, поднимающегося вверх по обеим сторонам холма к двойной вершине Капитолия и крепостному валу на Эсквилине, и жестом пригласил остальных опуститься на траву.
«Вот одна из странностей Суллы, – думал несчастный Свиненок. – Он умеет придать важность каждой мелочи и – как сейчас – какое-нибудь очень важное событие свести до обыденности. Праздным посетителям Капитолия, которые, задыхаясь, дошли до верхних ступеней лестницы, ведущей к Убежищу, или поднялись по лестнице Гемоний, срезая путь между Римским форумом и Марсовым полем, собравшиеся жрецы должны сейчас казаться группой учеников странствующего философа или многочисленной родней, окружившей сельского патриарха».
– О чем ты хочешь сообщить, Гай Аврелий? – спросил Сулла Котту, который сидел в середине переднего ряда.
– Во-первых, это задание было очень трудным для меня, Луций Корнелий, – ответил Котта. – Я думаю, ты знаешь, что молодой Цезарь – мой племянник?
– Как и то, что он также мой племянник, хотя по браку, а не по крови, – жестко ответил диктатор.
– Тогда я должен задать тебе еще один вопрос. Намерен ли ты наказать Цезарей, занеся их в свои списки?
Сулла невольно подумал об Аврелии и энергично замотал головой:
– Нет, Котта, не намерен. Цезари, которые были моими шуринами много лет назад, все уже мертвы. Они никогда не совершали преступлений против государства, хотя все они были людьми Мария. Для этого имелись веские причины. Марий помогал семье деньгами, и в основе их лояльности лежала обычная благодарность. Вдова старого Гая Мария – родная тетя мальчика, а ее сестра была моей первой женой.
– Но ты внес в списки семьи Мария и Цинны?
– Да.
– Благодарю, – сказал Котта, довольный. Он прокашлялся. – Молодому Цезарю было всего тринадцать лет, когда его торжественно посвятили в сан жреца Юпитера Всесильного. Он отвечал всем требованиям, кроме одного. Он был патрицием, оба родителя которого были живы, однако еще не вступил в брак. Гай Марий обошел это препятствие, подобрав ему невесту, на которой Цезарь и женился еще до церемонии посвящения. Жена – младшая дочь Цинны.
– Сколько лет ей было? – спросил Сулла, щелкнув пальцами слуге, и тот быстро передал диктатору широкополую шляпу, надев которую Сулла хитро взглянул из-под полей – точно сельский патриарх.
– Ей было семь лет.
– Понимаю. Следовательно, брак детей. Тьфу! Цинна был так жаден?
– Именно, – отозвался Котта, чувствуя себя неловко. – Во всяком случае, мальчик не горел желанием стать жрецом. Он настоял на том, что, пока не наденет тогу взрослого мужчины, он будет вести образ жизни знатного римского юноши. Молодой Цезарь ходил на Марсово поле, где упражнялся с мечом, стрелял из лука, метал копья, – и чем бы он ни занимался, во всем проявлял талант. Мне сказали, что он совершал уж совсем невероятное: брал самого быстрого коня и скакал без седла галопом, держа руки за спиной. Старики на Марсовом поле очень хорошо помнят его и считают это жречество досадным недоразумением ввиду явной склонности мальчика к военной службе. Что касается его поведения в остальном, то, по словам его матери, моей сводной сестры Аврелии, он не придерживался положенного ему рациона, обрезал ногти железным ножом, стриг волосы железной бритвой, завязывал одежду узлом и носил пряжки.
– Что произошло после того, как он надел тогу взрослого мужчины?
– Он радикально изменился, – сказал Котта, и в голосе его прозвучало удивление. – Бунт – если это был бунт – прекратился. Цезарь всегда скрупулезно выполняет свои жреческие обязанности, непременно надевает apex и laena и соблюдает все запреты. Его мать говорит, что ему так и не пришлась по душе его роль, но он с нею смирился.
– Понимаю. – Сулла ударил пятками в стену, потом сказал: – Картина проясняется, Котта. И к какому же выводу ты пришел относительно молодого Цезаря и его жречества?
Котта нахмурился:
– Есть одна трудность. Если бы у нас имелись пророческие книги, мы смогли бы прояснить вопрос. Но у нас их нет. Поэтому окончательный вывод мы сформулировать не можем. Не вызывает сомнений, что по закону мальчик – фламин Юпитера, но с религиозной точки зрения мы в этом не уверены.
– Почему?
– Вопрос в гражданском статусе жены Цезаря. Ее зовут Циннилла. Сейчас ей двенадцать лет. В одном мы абсолютно уверены: у Юпитера должны быть фламин и фламиника, муж и жена. Супруга тоже служит Великому Богу, на нее распространяются те же запреты, у нее имеются свои обязанности. Если она не соответствует определенным требованиям, тогда жречество ее мужа остается под вопросом. И мы пришли к выводу, что Циннилла не отвечает всем религиозным критериям, Луций Корнелий.
– Действительно? И как же ты пришел к такому заключению, Котта? – Сулла с силой двинул по стене и о чем-то подумал. – Брачные отношения были осуществлены?
– Нет. Не были. Циннилла – совсем ребенок, она живет у моей сестры с тех пор, как вышла замуж за молодого Цезаря. А моя сестра – настоящая римлянка, аристократка, – сказал Котта.
Сулла чуть улыбнулся:
– Я знаю, что она настоящая.
– Да…
Котта беспокойно поерзал, вспомнив спор, который разгорелся среди домашних Котты о природе дружбы между Аврелией и Суллой. Он также понимал, что ему придется высказаться чуть ли не критически в адрес одного из новых законов Суллы о проскрипциях. Но храбро решил покончить с этим. – Мы думаем, что Цезарь – фламин Юпитера, но что его жена – не фламиника. По крайней мере, именно так мы поняли твои законы о проскрипциях, поскольку из них не вполне ясно, подпадают ли несовершеннолетние дети осужденных под действие lex Minicia. Сын Цинны был совершеннолетним, когда его отца объявили вне закона, поэтому гражданский статус младшего Цинны не вызывал сомнений. А как быть с несовершеннолетними детьми, особенно с девочками? Распространяется ли потеря гражданства отцом на несовершеннолетнюю дочь? Вот что мы должны были прояснить. И, учитывая строгость твоих законов о проскрипциях в отношении прав детей и других наследников, мы пришли к заключению, что здесь можно применить lex Minicia de liberis.
– Дорогой Свиненок, а ты что хочешь сказать? – спросил диктатор сдержанно, пропустив мимо ушей замечание о юридической неточности его закона. – Не торопись, не торопись! У меня сегодня больше никаких дел нет.
Метелл Пий покраснел:
– Как говорит Гай Котта, здесь можно применить закон о гражданском статусе ребенка осужденного. Если один родитель не гражданин Рима, ребенок не может претендовать на гражданство. Следовательно, жена Цезаря не имеет римского гражданства и потому не может быть фламиникой.
– Блестяще, блестяще! Ты все сказал без единой запинки, Свиненок! – Сулла постучал пятками по стене. – Значит, во всем виноват я, да? Я издал закон, который требует дополнительных разъяснений. Так?
Котта глубоко вдохнул.
– Да, – смело подтвердил он.
– Все так, Луций Корнелий, – вмешался Ватия, решив, что пора внести и свою лепту. – Но мы все понимаем, что можем ошибаться. Потому смиренно просим объяснить нам.
– Ну что же, – сказал Сулла, съезжая со стены, – мне кажется, самый лучший выход из этой ситуации – чтобы Цезарь нашел новую фламинику. Хотя он может быть женат браком confarreatio, с точки зрения и гражданского, и религиозного законов развод в данном случае возможен. Мое мнение таково: Цезарь должен развестись с дочерью Цинны, которая неприемлема для Великого Бога в качестве фламиники.
– Конечно, аннулирование брака, – сказал Котта.
– Развод, – твердо повторил Сулла. – Хотя все без исключения клянутся, что брачных отношений не было, мы можем попросить весталок проверить девственную плеву девушки, ведь мы имеем дело с Юпитером Всеблагим Всесильным. Ты указал мне, что мои законы допускают различное толкование. Фактически ты осмелился истолковать их сам, не придя ко мне посоветоваться, прежде чем выносить решение. В этом твоя ошибка. Ты должен был поговорить со мной. Но поскольку ты этого не сделал, теперь тебе придется смириться с последствиями. Развод diffarreatio.
Котта поморщился:
– Diffarreatio – это ужасная процедура.
– Меня до слез трогает твоя скорбь, Котта.
– Я должен передать это мальчику, – с окаменевшим лицом сказал Котта.
Сулла протянул ему руку.
– Нет! – резко возразил он. – Ничего не говори ему, вообще ничего! Только скажи, чтобы он пришел ко мне домой завтра до обеда. Я предпочитаю сообщить ему сам. Ясно?
– Итак, – сказал Котта Цезарю и Аврелии вскоре после этого, – ты должен увидеться с Суллой, племянник.
Цезарь и его мать были встревожены. Они молча проводили гостя до дверей. После ухода брата Аврелия прошла с сыном в кабинет.
– Сядь, мама, – ласково попросил он.
Аврелия присела на краешек стула.
– Мне это не нравится, – сказала она. – Зачем ты ему понадобился?
– Ты слышала объяснение дяди. Он проводит религиозные реформы и хочет увидеть меня в качестве фламина Юпитера.
– Я не верю этому, – упрямо повторила Аврелия.
Встревоженный, Цезарь подпер рукой подбородок и пытливо посмотрел на мать. Он думал не о себе. Он мог справиться с чем угодно, и знал это. Нет, он волновался за нее и за других женщин своей семьи.
Беды неумолимо преследовали их со времени совещания, которое созвал Марий-младший, чтобы обсудить свое будущее консульство: весь остаток той ужасной зимы с ее наигранной радостью и необоснованной уверенностью, вплоть до зияющей пропасти – поражения при Сакрипорте. О Марии-младшем они практически ничего не знали с тех самых пор, как он стал консулом. Даже его мать и жена. Была еще любовница, красивая римлянка всаднического сословия, по имени Преция. Именно она занимала каждый свободный миг в жизни Мария-младшего. Достаточно богатая, чтобы быть независимой, она залучила в свои сети Мария-младшего, когда ей было уже тридцать семь лет. И замуж она не собиралась. В восемнадцать лет она уже побывала замужем, выполняя волю отца, который умер вскоре после этого. Преция быстро завела нескольких любовников, и ее муж развелся с ней. Это ее вполне устраивало. Она стала вести образ жизни, который нравился ей больше всего. Держала собственный салон и сделалась любовницей интересного аристократа, который приводил к ней своих друзей, доставлял политические интриги к обеду и прямо в постель. И таким образом давал ей возможность соединять политику со страстью – неотразимое сочетание для Преции.
Марий-младший был ее самым крупным уловом. Со временем он ей даже стал нравиться. Ее забавляло его юношеское позерство. Ее притягивала магия имени Гая Мария. И еще ей льстил тот факт, что молодой старший консул предпочитал ее своей матери Юлии и жене Муции. Так что она предоставила свой просторный и со вкусом обставленный дом всем друзьям Мария-младшего, а свою кровать – небольшой, избранной группе политиков, которая являлась узким кругом друзей консула. Когда Карбон (презираемый ею) уехал в Аримин, Преция сделалась главным советником своего любовника во всем и считала, что это она, а вовсе не Марий-младший правит Римом.
Поэтому, когда пришло известие, что Сулла собирается покинуть Теан Сидицийский, и Марий-младший объявил, что уже давно пора ему присоединиться к своей армии, у Преции появилась идея сопровождать командующего на войну. Но этого не получилось. Марий-младший нашел типичное решение проблемы (а Преция тем временем уже становилась для него проблемой): он покинет Рим, когда стемнеет, ничего ей не сказав. Что ж! Преция пожала плечами и постаралась найти себе другую забаву.
Все это означало, что ни его мать, ни его жена не смогли с ним проститься, пожелать удачи, которая ему, безусловно, могла понадобиться. И Марий-младший ушел. Чтобы никогда больше не вернуться. Новость о Сакрипорте достигла Рима после того, как Брут Дамасипп (слишком преданный Карбону, чтобы уважать Прецию) начал бойню. Среди погибших был Квинт Муций Сцевола, великий понтифик, отец жены Мария-младшего и хороший друг матери Мария-младшего.
– Это сделал мой сын, – сказала Юлия Аврелии, когда та пришла предложить свою помощь.
– Ерунда! – возразила Аврелия. – Это был Брут Дамасипп, и больше никто.
– Я видела письмо, которое мой сын написал собственной рукой и прислал из Сакрипорта, – сказала Юлия, втянув в себя воздух, словно ей трудно было дышать. – Он был не в силах смириться с поражением, не попытавшись отомстить. Разве могу я надеяться, что моя невестка захочет со мной разговаривать?
Цезарь тихо сидел в дальнем углу комнаты и пристально наблюдал за лицами женщин. Как мог Марий-младший причинить такую боль тете Юлии? Особенно после того, что натворил в конце своей жизни его сумасшедший старик-отец! Юлия завязла в своем огромном горе, как муха в куске янтаря. Она стала еще красивее, потому что застыла. Боль таилась внутри, никто ее не видел. Даже глаза не выдавали ее.
Вошла Муция. Юлия отпрянула, отвела взгляд.
Аврелия сидела прямо, черты заострились, лицо каменное.
– Муция Терция, ты винишь Юлию за убийство твоего отца? – строго спросила она.
– Конечно нет, – ответила жена Мария-младшего, пододвинула стул к Юлии, села и взяла ее руки в свои. – Пожалуйста, Юлия, посмотри на меня.
– Не могу.
– Посмотри! Я не намерена возвращаться в дом моего отца и жить там с мачехой. Я также не хочу переезжать в дом моей матери с ее отвратительными мальчишками. Я хочу остаться здесь, с моей дорогой и доброй свекровью.
Значит, с этой стороны все обстояло хорошо. Казалось, жизнь продолжалась – для Юлии и Муции Терции, хотя они не получали вестей от Мария-младшего, запертого в Пренесте, а сообщения с разных полей сражений были в пользу Суллы. «Если бы Марий-младший был сыном Аврелии, – размышлял сын Аврелии, – его мало утешили бы мысли о матери, пока тянутся бесконечные дни в Пренесте». Аврелия – не такая мягкосердечная, не такая любящая, не такая всепрощающая, как Юлия. Но если бы она была такой, с улыбкой подумал Цезарь, он мог бы стать похожим на Мария-младшего! Цезарь унаследовал от своей матери отчужденность. И ее жесткость.
Плохие новости громоздились одна на другую. Карбон сбежал ночью. Сулла заставил отступить самнитов. Помпей и Красс разбили армию, которую Карбон бросил в Клузии. Свиненок и Варрон Лукулл контролировали Италийскую Галлию. Сулла вошел в Рим только на несколько часов, назначить временное правительство, – и оставил вместо себя Торквата с фракийской кавалерией, чтобы временное правительство могло успешно функционировать.
Сулла не пришел навестить Аврелию, что очень удивило ее сына. Удивило до такой степени, что он попробовал кое-что разузнать. О той неожиданной встрече недалеко от Теана Сидицийского Аврелия почти ничего не рассказывала. И теперь она сидела невозмутимая. Цезарь решил нарушить это спокойствие.
– Он должен был прийти к тебе! – сказал Цезарь.
– Он больше никогда ко мне не придет, – ответила Аврелия.
– Почему?
– Те посещения остались в прошлом.
– В том прошлом, когда он был достаточно красив, чтобы нравиться? – фыркнул ее сын, внезапно проявив так сурово подавляемый характер.
Аврелия застыла и уничтожающе посмотрела на Цезаря.
– Ты глуп и оскорбляешь меня. Уйди! – приказала она.
Он ушел. И никогда больше не затрагивал эту тему. Что бы Сулла ни значил для Аврелии, это ее дело.
Они слышали об осадной башне, которую соорудил Марий-младший, и о ее бесславном конце; о других его попытках прорваться сквозь стену Офеллы. А потом, в последний день октября, пришло ужасное известие о том, что девяносто тысяч самнитов стоят в лагере Помпея Страбона у Квиринальских ворот.
Следующие два дня были худшими в жизни Цезаря. Задыхаясь в своем жреческом наряде, связанный запретом дотрагиваться до меча и смотреть на умирающих, он закрылся в кабинете и приступил к работе над новой эпической поэмой – на латыни, не на греческом, – выбрав дактилический гекзаметр, чтобы сочинять было труднее. Шум сражения звенел в его ушах, но он постарался отвлечься от него и все продолжал плести этот сводящий с ума спондей и громоздить пустые фразы. Ему до боли хотелось быть там. Он признавался себе, что ему все равно, на чьей стороне драться, лишь бы драться…
И когда ночью звуки замерли, он быстро вышел из кабинета, разыскал мать, склонившуюся над счетами, и встал в дверях, трясясь от гнева.
– Как я могу написать что-то, если ничего не знаю? – выкрикнул он. – О чем слагали стихи великие поэты и писали историки, если не о войне и о воинах? Разве Гомер зря растратил жизнь на трескучие фразы? Разве Фукидид считал искусство пчеловодства подходящей темой для своего пера?
Аврелия знала, как осадить Цезаря, и произнесла холодным тоном:
– Вероятно, нет, – и возобновила свою работу.
В ту ночь миру пришел конец. Сын Юлии был мертв, все они были мертвы, и Рим принадлежал Сулле, который не пришел к Аврелии и не прислал никакого сообщения.
То, что сенат и центуриатные комиции проголосовали за то, чтобы он был диктатором, знали все и без конца об этом говорили. Луций Декумий рассказал Цезарю и молодому Гаю Матию, который жил в другой квартире на первом этаже их дома, о таинственном исчезновении всадников.
– Пропадают все, кто разбогател при Марии, Цинне или Карбоне. И это не несчастные случаи. Тебе повезло, что твой tata уже давно мертв, Прыщ, – сказал Луций Декумий Гаю Матию, который получил это неблагозвучное прозвище, как только научился ходить. – И твой tata тоже, молодой Павлин, – сказал он Цезарю.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Матий, нахмурившись.
– Я имею в виду вот что. Несколько с виду неприметных человек ходят по городу и «крадут» богатых всадников, – сказал квартальный начальник. – Большей частью вольноотпущенники. Но это не обычные болтливые греки-гомики. Все они носят имя Луций Корнелий. Мои братья по коллегии перекрестков и я называем их приспешниками Суллы. Потому что они все его люди. Попомните мои слова, это не сулит ничего хорошего. И я могу предсказать, что они еще много повыщипывают богатых всадников.
– Сулла не может этого делать! – сказал Матий, сжав зубы.
– Сулла может делать все, что захочет, – возразил Цезарь. – Его назначили диктатором. Это даже лучше, чем быть царем. Его эдикты имеют силу законов. Он не ограничен lex Caecilia Didia, из которого следует, что должно пройти семнадцать дней между провозглашением закона и его утверждением. Он даже не обязан обсуждать свои законы в сенате или в комициях. И его нельзя привлечь к суду ни за какие действия, даже за совершенные в прошлом. Однако, – добавил Цезарь задумчиво, – думаю, что Рим погибнет без твердой руки. Поэтому я надеюсь, что для Суллы все сложится удачно. И надеюсь, у него достаточно ума, прозорливости и смелости, чтобы сделать то, что должно.
– У этого человека, – сказал Луций Декумий, – достаточно наглости для всего.
Обитая в самом центре Субуры – беднейшего и самого разноязыкого района Рима, они понимали, что проскрипции Суллы не влияют на них так, как на жителей Карин, Эсквилина, Палатина, верхнего Квиринала и Виминала. Хотя некоторые всадники первого класса были значительно беднее, чем иные субуранцы, не многие из обитающих в Субуре обладали статусом выше казначейского трибуна и почти никто не имел компрометирующих политических связей.
Когда Юлия и Муция Терция увидели, что имя Мария-младшего стоит вторым сверху в первом списке, они пришли к Аврелии. Поскольку обычно Аврелия приходила к ним, их визит оказался сюрпризом. Они принесли весть о проскрипциях, которая еще не дошла до Субуры. Сулла постарался, чтобы Юлия долго не томилась ожиданием решения своей судьбы.
– Я получила уведомление, его принес мне претор по гражданским делам, Долабелла-младший. – Юлия поежилась. – Неприятный человек! Имение моего бедного сына конфисковано. Ничего нельзя спасти.
– И твой дом тоже? – побелев, спросила Аврелия.
– Все. У него имелся подробный список имущества. Все акции рудников в Испании, земли в Этрурии, наша вилла в Кумах, дом здесь, в Риме, еще земли, которые Гай Марий приобрел в Лукании и Умбрии, пшеничные латифундии на реке Баграде в провинции Африка, красильни в Иераполисе, стеклодувные мастерские в Сидоне. Даже ферма в Арпине. Все это принадлежит теперь Риму, и мне сказали, что все будет выставлено на аукцион.
– О, Юлия!
Но Юлия была из рода Юлиев. Она улыбнулась. И даже не одними губами.
– Не все так плохо! Я получила личное письмо от Суллы, в котором он говорит, что мне причитается сто талантов серебром от продажи. В такую сумму он оценивает мое приданое. Боги свидетели, я ведь выходила замуж без единого сестерция! Но я буду иметь сто талантов, потому что, как говорит Сулла, я – сестра Юлиллы. Ради нее, поскольку она была его женой, он не хочет, чтобы я нуждалась. Письмо довольно вежливое.
– Вообще-то, это немало, но после того, что ты имела, это ничто, – со вздохом сказала Аврелия.
– Я смогу купить неплохой домик на Длинной улице, и у меня еще будет приличный доход. Конечно, рабов продадут на аукционе вместе с домом, но Сулла позволил мне оставить Строфанта. Я так рада этому! Бедный старик чуть с ума не сошел от горя. – Юлия замолчала, ее серые глаза наполнились слезами. – Во всяком случае, я смогу устроиться довольно прилично. Жены или матери других поименованных в списке и того лишены. У них ничего не осталось.
– А как же ты, Муция Терция? – спросил Цезарь. – Ты записана как жена Мария или как дочь Муция?
По ней не было заметно, чтобы она горевала по мужу. Вот тетя Юлия – та горевала, хотя и не показывала этого. Но Муция Терция?
– Я записана как жена Мария, – ответила она, – поэтому я теряю свое приданое. Имение моего отца сильно обременено долгами. В его завещании мне ничего не выделено. Если что-то и было, мачеха все приберет к рукам. Моя мать в безопасности: Метелл Непот – сторонник Суллы. Но их два сына должны идти в завещании впереди меня. По пути сюда мы с Юлией обсудили этот вопрос. Я останусь с ней. Сулла запретил мне снова выходить замуж, поскольку я была женой Мария. Да в общем-то, я и не хочу другого мужа.
– Это кошмар! – воскликнула Аврелия. Она взглянула на свои запачканные чернилами пальцы с припухшими суставами. – Мы тоже можем оказаться в списке. Мой муж до конца оставался человеком Гая Мария. А после его смерти – человеком Цинны.
– Но этот дом записан на твое имя, мама. Поскольку все Котты – за Суллу, он должен остаться твоим, – сказал Цезарь. – Я могу потерять свою землю. Но по крайней мере, так как я – flamen Dialis, государство будет платить мне жалованье, а на Форуме у меня государственный дом. Я думаю, Циннилла потеряет свое приданое.
– А родственники Цинны потеряют все, – сказала Юлия и вздохнула. – Сулла хочет покончить с оппозицией.
– А что с Аннией? И старшей дочерью, Корнелией Цинной? – спросила Аврелия. – Мне никогда не нравилась Анния. Она была плохой матерью для моей маленькой Цинниллы. Она неприлично быстро снова вышла замуж после смерти Цинны. Поэтому, смею сказать, она не пропадет.
– Ты права. Она достаточно давно вышла замуж за Пупия Пизона Фруги, чтобы считаться женой именно Пупия, а не Цинны, – сказала Юлия. – Я многое узнала от Долабеллы, он с удовольствием рассказал мне, кто еще пострадает. Бедная Корнелия Цинна приписана к семье Гнея Агенобарба. Конечно, она потеряла свой дом, а Анния отказалась принять ее. Вероятно, она живет со старой теткой-весталкой на Прямой улице.
– Как же я рада, что мужья обеих моих девочек придерживались нейтралитета! – воскликнула Аврелия.
– У меня тоже есть новости, – заговорил Цезарь, чтобы отвлечь внимание женщин от их невзгод.
– Какие?
– Наверное, Лепид это предчувствовал. Вчера он развелся со своей женой, дочерью Сатурнина, Аппулеей.
– О, это ужасно! – воскликнула Юлия. – Я еще могу понять, почему те, кто выступал против Суллы, должны быть теперь наказаны, но для чего должны страдать их дети и дети их детей? Вся эта суматоха с Сатурнином случилась так давно! Сулле наплевать на Сатурнина. Напрасно Лепид так поступил с ней. Она ведь родила ему троих замечательных сыновей!
– Больше она никого не родит, – сказал Цезарь. – Она легла в горячую ванну и перерезала себе вены. Так что теперь Лепид бегает по городу и проливает потоки слез от горя. Тьфу!
– Но ведь он всегда был таким, – презрительно фыркнула Аврелия. – Не отрицаю, в мире должно найтись место и для слабых людей, но беда Марка Эмилия Лепида в том, что он искренне считает себя настоящим мужчиной.
– Бедный Лепид! – вздохнула Юлия.
– Бедная Аппулея, – довольно сухо промолвила Муция Терция.
Теперь, после сообщения Котты, появилось нечто вроде уверенности в том, что Цезари не будут поименованы в списках. При шестистах югерах земли в Бовиллах у Цезаря останется сенаторский ценз. «Нет, меня не беспокоит ценз сенатора», – думал он, с кривой улыбкой наблюдая, как сыплется снег из светового колодца. Flamen dialis автоматически становился членом cената.
Пока он любовался внезапным приходом зимы, его мать следила за ним.
«Такой славный человек, – думала она, – и это – мое произведение, больше ничье. И хотя у него много превосходных качеств, он далеко не идеален. Не такой сострадательный, не такой ласковый, как его отец, несмотря на то что очень похож на отца. Но и на меня тоже. Он так разносторонне талантлив. Пошли его куда угодно в этом доме, он может сразу определить, что где не в порядке: трубы, черепица, штукатурка, ставни, водостоки, покраска, дерево. А как он усовершенствовал тормоза и краны для нашего старого изобретателя! Он ведь умеет писать и на иудейском, и на персидском! Он говорит на десяти языках благодаря нашим разноязычным жильцам. Еще мальчишкой он превратился в легенду на Марсовом поле. В этом клянется мне Луций Декумий. Он плавает, ездит верхом, бегает как ветер. Он пишет поэмы и пьесы – не хуже, чем Плавт и Энний. Впрочем, я его мать и не должна так говорить. А в риторике, как убеждал меня Марк Антоний Гнифон, Цезарю-младшему нет равных. Как это выразился Гнифон? Мой сын может заставить плакать камни и неистовствовать горы. Он изучил законы, он мгновенно прочитывает любой текст, как бы плох ни был почерк. Во всем Риме никто больше не может этого сделать, даже это чудо по имени Марк Туллий Цицерон. А что касается женщин – как они преследуют его! По всей Субуре. Конечно, он воображает, будто я не знаю. Он думает, что я считаю его девственником, ожидающим свою маленькую женушку. Ну что ж, так даже лучше. Мужчины – странные создания, когда дело доходит до той части их бытия, которая делает их мужчинами. Да, мой сын не идеален. Он просто потрясающе одарен. У него вспыльчивый характер, хотя он старается держать себя в руках. Он в чем-то эгоист и не всегда внимателен к чувствам и нуждам других. А что касается его помешательства на чистоте – мне, конечно, нравится видеть его столь разборчивым, но чтобы до такой степени! Это уж точно не от меня. Он даже не посмотрит на женщину, если она не выйдет прямо из ванны. И я подозреваю, что он сначала осмотрит ее с головы до пят, вплоть до состояния кожи между пальцами ног. Это в Субуре-то! Однако он прямо нарасхват. Поэтому местные женщины сделались поразительными чистюлями – как раз с тех пор, как ему исполнилось четырнадцать. Рано созрел! Я надеялась, что мой муж пользовался местными женщинами в те долгие годы, что он проводил вдали от дома, но он всегда говорил мне, что этого не было, что он ждал меня. Если мне что-то в нем и не нравилось, так именно это. Такой груз вины и ответственности он взвалил на меня! Мой сын никогда не поступит так со своей женой. Я надеюсь, она оценит свою удачу. Сулла. Его вызвали к Сулле. Хотела бы я знать зачем. Хотела бы я…»
Внезапно Аврелия очнулась от своих мыслей, увидев, что Цезарь перегнулся через стол и со смехом щелкает пальцами перед ее лицом.
– Где ты была? – спросил он.
– Здесь – и везде, – ответила Аврелия. Встав, она почувствовала, что замерзла. – Я велю Бургунду принести тебе жаровню, Цезарь. В этой комнате очень холодно.
– Беспокойная натура, – любовно промолвил ей вслед Цезарь.
– Я не хочу, чтобы ты предстал перед Суллой, гнусавя и непрерывно чихая, – отозвалась мать.
Но тем утром он не чихал и не гнусавил. Молодой человек появился в доме Гнея Агенобарба за час до назначенного времени, готовый мерзнуть в атрии, только бы не опоздать. Действительно, управляющий, чрезвычайно угодливый грек с масленым взглядом, сообщил посетителю, что он пришел слишком рано, так не угодно ли ему подождать? Чувствуя, как мурашки бегают по коже, Цезарь кивнул и отвернулся от человека, который скоро станет знаменитым, – весь Рим будет знать Хрисогона.
Но Хрисогон не ушел – ему явно приглянулся красивый юноша, и у Цезаря хватило ума не сделать того, что так хотелось, – вбить зубы этого парня ему в горло. Вдруг его осенило. Он быстро вышел на лоджию, а управляющий слишком не любил холод, чтобы последовать за ним.
В этом доме имелись две лоджии, и та, на которой стоял Цезарь, рисуя на снегу полумесяцы носком своей сандалии на деревянной подошве, выходила не на Римский форум, а на Палатинский утес, в направлении спуска Виктории. Прямо над ним располагалась лоджия другого дома, которая буквально нависала над домом Агенобарба.
Цезарь наморщил лоб, вспоминая былых обитателей этого здания. Марк Ливий Друз, убитый в атрии своего дома десять лет назад. Так вот где все эти дети-сироты обитали под строгим надзором… Кого? Правильно, дочери этого Сервилия Цепиона, который утонул, возвращаясь из своей провинции! Гнеи? Да, Гнеи. И ее ужасной матери Порции Лицинианы! Уйма маленьких Сервилиев Цепионов и Порциев Катонов. Неправильных Порциев Катонов из ветви Салонианов, потомков раба. Теперь из них остался один. Вон он стоит, облокотившись на мраморную балюстраду, болезненно худенький мальчик с длинной шеей, что делало его похожим на аиста, и крупным носом, заметным даже на таком расстоянии. Грива прямых рыжих волос. Без сомнения, этот из рода Катона Цензора!
Все эти мысли указывали на одну черту Цезаря, которую при перечислении качеств сына пропустила мать: молодой Цезарь обожал сплетни и ничего не забывал.
– Досточтимый жрец, мой хозяин готов увидеться с тобой.
Цезарь с усмешкой повернулся и весело помахал рукой мальчику, стоящему на балконе Друза. Его очень позабавило то, что мальчик не отреагировал. Маленький Катон, наверное, был слишком изумлен, чтобы махнуть в ответ. Во временном жилище Суллы не было никого, кто бы нашел время подружиться с бедным парнем, похожим на птицу, потомком землевладельца из Тускула и раба-кельтибера.
Хотя Цезарь был подготовлен к виду диктатора Суллы, он все-таки испытал потрясение. Неудивительно, что Сулла не стал навещать Аврелию! «На его месте я тоже не показался бы ей на глаза», – подумал Цезарь и, ступая как можно тише, вошел в комнату.
Первая реакция Суллы: он посмотрел на молодого Цезаря как на незнакомого человека. Но это из-за безобразного пурпурного жреческого плаща и странного шлема из слоновой кости, создававшего впечатление лысины.
– Сними все это, – приказал Сулла и снова обратился к документам, разложенным на столе.
Когда Сулла поднял голову, жречонок исчез. Перед Луцием Корнелием Суллой стоял его давно умерший сын. Волосы у Суллы на руках и на затылке вздыбились. Из его горла вырвался сдавленный звук, и он с трудом поднялся на ноги. Золотистые кудри, большие голубые глаза, удлиненное лицо Цезарей, этот рост… Но потом затуманенное слезами зрение Суллы начало улавливать отличия. Высокие острые скулы Аврелии, впалые щеки, изящный рот со складками в уголках. Юноша старше, чем был Сулла-младший, когда умер. «Ох, Луций Корнелий, сын мой, почему ты умер?»
Диктатор смахнул слезы.
– На миг мне показалось, что передо мной стоит сын, – хрипло признался он и вздрогнул.
– Он был моим двоюродным братом.
– Помню, ты говорил, что он тебе нравится.
– Да.
– Больше, чем Марий-младший, – так ты говорил.
– Да.
– И ты написал поэму на его смерть, но сказал, что она недостаточно хороша, и не показал мне.
– Да, это правда.
Сулла снова опустился в кресло, руки его дрожали.
– Садись, мальчик. Вот сюда, здесь света побольше, и я могу тебя видеть. Глаза мои уже не те, что раньше.
Нужно внимательно слушать его! Он послан Великим Богом, чьим жрецом является.
– Что тебе сказал твой дядя Гай Котта?
– Только то, что я должен с тобой увидеться, Луций Корнелий.
– Зови меня Сулла – так все меня зовут.
– А меня все зовут Цезарь, даже моя мать.
– Ты – фламин Юпитера.
Что-то мелькнуло в тревожно знакомых глазах. Почему они такие знакомые, если глаза его сына были голубее и веселее? В этих глазах – гнев. Или боль? Нет, не боль. Гнев.
– Да, я – фламин Юпитера, – отозвался Цезарь.
– Люди, которые назначили тебя на эту должность, были врагами Рима.
– В то время, когда меня назначали, они не были врагами Рима.
– Это справедливо. – Сулла взял свое камышовое перо в золотой оправе, снова положил. – У тебя есть жена.
– Да.
– Она дочь Цинны.
– Да.
– Ты осуществил брачные отношения?
– Нет.
Встав из-за стола, Сулла подошел к окну, раскрытому настежь, несмотря на жуткий холод. Цезарь улыбнулся про себя, подумав, что бы сказала на это его мать: вот еще один человек, которому наплевать на стихии.
– Я приступил к восстановлению Республики, – заговорил Сулла, глядя из окна на статую Сципиона Африканского, водруженную на высокую колонну. Сейчас он и старый приземистый Сципион Африканский находились на одном уровне. – По причинам, полагаю, тебе понятным я решил начать с религии. Мы растеряли старые ценности и должны их вернуть. Я отменил всеобщие выборы жрецов и авгуров, включая великого понтифика. Политика и религия в Риме переплетены очень сложно, но я не хочу, чтобы религия оставалась служанкой политики, когда должно быть наоборот.
– Понимаю, – сказал Цезарь, не вставая с кресла. – Однако я считаю, что великого понтифика следует выбирать всеобщим голосованием.
– Что ты там считаешь, мальчик, меня не интересует.
– Тогда зачем я здесь?
– Да уж конечно не затем, чтобы делать мне умные замечания.
– Прости.
Сулла резко обернулся, зло посмотрел на жреца Юпитера:
– Ты нисколько меня не боишься, да?
Цезарь улыбнулся – такой похожей улыбкой! – улыбкой, которой радуются и сердце, и ум.
– Я, бывало, прятался в фальшивом потолке над нашей столовой и подглядывал, как ты разговариваешь с Аврелией. Времена изменились, изменились и обстоятельства. Но трудно бояться того, кого ты внезапно полюбил, когда узнал, что он не любовник твоей матери.
Эти слова вызвали такой взрыв хохота, что у Суллы снова появились слезы в глазах.
– Вот уж правда! Не был. Однажды я попытался, но она оказалась мудрее меня. У твоей матери мужской ум. Я не приношу счастья женщинам. Никогда не приносил. – Блеклые беспокойные глаза смотрели на Цезаря сверху вниз. – Ты тоже не принесешь счастья женщинам, хотя их будет очень много.
– Почему ты позвал меня, если не нуждаешься в моих советах?
– Чтобы положить конец нечестию. Говорят, ты родился в тот же самый день, когда сгорел храм Юпитера.
– Да.
– И как ты это понимаешь?
– Как хороший знак.
– К сожалению, коллегия понтификов и коллегия авгуров не согласны с тобой, юный Цезарь. Недавно они обсуждали тебя и твое служение и пришли к выводу, что имеет место некое нарушение традиций, которое и стало причиной разрушения храма Великого Бога.
Радость озарила лицо Цезаря.
– О, как я рад услышать то, что ты сейчас сказал!
– А что я сказал?
– Что я больше не фламин Юпитера.
– Я не говорил этого.
– Ты сказал! Ты сказал!
– Ты меня не так понял, мальчик. Ты определенно фламин Юпитера. Пятнадцать жрецов и пятнадцать авгуров пришли к такому выводу без тени сомнений.
Радость померкла.
– Лучше бы я был солдатом, – угрюмо проговорил Цезарь. – Я больше подхожу для этого.
– Кем бы ты хотел быть, не имеет значения. Значение имеет то, кем ты являешься. И кем является твоя жена.
Цезарь нахмурился, пытливо посмотрел на Суллу:
– Ты уже второй раз упомянул мою жену.
– Ты должен развестись с ней, – прямо сказал Сулла.
– Развестись с ней? Не могу!
– Почему?
– Мы поженились по обряду confarreatio.
– Существует такая вещь, как diffarreatio.
– Но почему я должен с ней разводиться?
– Потому что она – дочь Цинны. Оказывается, в мои законы относительно проскрибированных лиц и членов их семей вкралась небольшая неточность, касающаяся гражданского статуса несовершеннолетних детей. Жрецы и авгуры решили, что здесь вступает в силу lex Minicia. Это означает, что твоя жена – не римлянка и не патрицианка. Поэтому она не может быть фламиникой. Поскольку фламинат предусматривает служение божеству обоих супругов, законность ее положения так же важна, как и твоего. Ты обязан с ней развестись.
– Я не сделаю этого, – сказал Цезарь, вдруг нашедший выход из затруднительного положения.
– Ты сделаешь все, что я тебе прикажу, мальчик.
– Я не сделаю ничего, чего не должен делать.
Сморщенные губы медленно втянулись.
– Я – диктатор, – ровным голосом сказал Сулла. – Ты разведешься с женой.
– Я отказываюсь, – ответил Цезарь.
– Я могу заставить тебя сделать это, если потребуется.
– Как? – презрительно спросил Цезарь. – Ритуал diffarreatio требует моего полного согласия и сотрудничества.
Пора сломать хребет этому несносному мальчишке! Сулла показал Цезарю когтистое чудовище, которое жило в нем и которому впору выть на луну. Но при внезапном проявлении этого чудовища Сулла понял, почему глаза Цезаря так знакомы ему. Они были похожи на его собственные! Глядят на него равнодушно-холодным, пристальным взглядом змеи. И чудовище уползло внутрь. Впервые в жизни Сулла не нашел способа подчинить своей воле другого человека. Гнев, который должен был бы овладеть им, не приходил. Вынужденный смотреть на самого себя в лице кого-то другого, Луций Корнелий Сулла оказался бессилен.
Здесь можно действовать только убеждением.
– Я поклялся восстановить надлежащие этические нормы mos maiorum в религии, – сказал Сулла. – Рим будет чтить своих богов и заботиться о них так, как он это делал на заре Республики. Юпитер Всеблагой Всесильный недоволен. Тобой или, точнее, твоей женой. Ты – его особый жрец, и твоя жена – неотделимая часть твоего служения. Ты должен расстаться со своей женой и взять другую. Ты должен развестись с дочерью Цинны, неримлянкой.
– Нет, – сказал Цезарь.
– Тогда мне придется найти другое решение.
– Могу предложить одно, – тут же сказал Цезарь. – Пусть Юпитер Всесильный сам разведется со мной. Аннулируй мой фламинат.
– Я мог бы это сделать как диктатор, если бы не вовлек жрецов. Я связан их решением.
– В таком случае получается, – спокойно сказал Цезарь, – что мы зашли в тупик, да?
– Нет. Есть еще один выход.
– Убить меня.
– Именно.
– И кровь фламина Юпитера будет на твоих руках, Сулла.
– Нет, если тебя убьет кто-то другой. Я не согласен с греческой метафорой, Гай Юлий Цезарь. И наши римские боги тоже. Вину нельзя переложить на другого.
Цезарь обдумал его слова.
– Похоже, ты прав. Если ты прикажешь убить меня кому-то другому, вина падет на того человека. – Он поднялся с кресла, сразу став выше Суллы. – Тогда наш разговор окончен.
– Окончен. Если ты не передумаешь.
– Я не разведусь с женой.
– Тогда я прикажу убить тебя.
– Если сможешь, – сказал Цезарь и вышел.
– Ты забыл свои laena и apex, жрец! – крикнул ему вслед Сулла.
– Сохрани их для следующего фламина Юпитера.
Цезарь заставил себя идти домой медленно, гадая, как скоро Сулла придет в себя. То, что диктатор выбит из колеи, он увидел сразу. Очевидно, не многие осмеливались бросить вызов Луцию Корнелию Сулле.
Воздух был морозный, стояли холода, хотя и выпал снег. А мальчишеский жест – швырнуть плащ – лишил Цезаря теплого одеяния. А-а, не важно. Не умрет же он, пока идет от Палатина до Субуры. Намного важнее, как поступить дальше. Ибо Сулла прикажет его убить, в этом Цезарь нисколько не сомневался. Он вздохнул. Можно было бы сбежать. Хотя молодой Цезарь знал, что сумеет постоять за себя, он не строил иллюзий относительно того, кто из них победит, если он останется в Риме. Победит, конечно, Сулла. Однако в распоряжении Цезаря был по меньшей мере день. Диктатор, как и любой другой человек, находился во власти медленно работающей бюрократической машины. Он еще должен переговорить с одной из тех групп ничем не приметных людей, а для этого ему придется выкроить время в своем плотном расписании. Его вестибюль, как успел заметить Цезарь, полон клиентов, а не наемных убийц. Жизнь в Риме совсем не похожа на греческую трагедию: никаких пылких речей не произносят перед людьми, рвущимися вперед, точно свора собак с поводка. Когда Сулла найдет время, он отдаст приказ. Но не сейчас.
Цезарь вошел в квартиру матери, посинев от холода.
– Где твоя одежда? – ахнула Аврелия.
– У Суллы, – еле выговорил он онемевшими губами. – Я оставил ее для следующего фламина Юпитера. Мама, он сам показал мне, как можно избавиться от этого!
– Расскажи, – попросила она, усаживая сына возле жаровни.
Он все объяснил.
– О Цезарь, почему? – воскликнула Аврелия, когда он закончил свое повествование.
– Да ладно, мама, ты же сама знаешь почему. Я люблю свою жену. Это прежде всего. Все эти годы она жила с нами и смотрела на меня в ожидании внимания, какого не пожелали ей уделить ни отец, ни мать. Она всегда считала меня самым чудесным, что было в ее маленькой жизни. Как я могу отказаться от нее? Ведь она же дочь Цинны! Нищая! И даже больше не римлянка! Мама, я не хочу умирать. Лучше уж быть фламином Юпитера. Но есть вещи, за которые стоит умереть. Принципы. Долг римлянина-аристократа, о котором ты так настойчиво твердила мне. Я отвечаю за Цинниллу. Я не могу бросить ее! – Цезарь пожал плечами, повеселел. – Кроме того, это для меня выход. Раз я отказываюсь развестись с Цинниллой, следовательно, я неугоден Великому Богу в качестве его жреца. Поэтому я должен продолжать стоять на своем.
– До тех пор, пока Сулла не прикажет тебя убить.
– Это в руках Великого Бога, мама, ты знаешь. Я верю, что Фортуна дала мне случай и что я должен воспользоваться им. Мне просто нужно дожить до того дня, когда Сулла умрет. Как только он умрет, ни у кого не хватит смелости убить фламина Юпитера. И коллегия будет вынуждена снять с меня эти жреческие оковы. Мама, я не верю, будто Юпитер Всесильный хочет, чтобы я оставался его особым жрецом. Я верю, что у него для меня найдется другая работа, которая принесет Риму больше пользы.
Аврелия не стала спорить.
– Деньги. Тебе нужны будут деньги, Цезарь. – Она провела рукой по волосам, как всегда делала, когда пыталась решить финансовые вопросы. – Тебе потребуется более двух талантов серебром, потому что такова цена человека, занесенного в проскрипционные списки. Если тебя найдут там, где ты спрячешься, ты должен будешь заплатить значительно больше двух талантов, чтобы доносчик отпустил тебя. Трех талантов хватит, чтобы откупиться, и еще останется на что жить. Теперь другой вопрос: смогу ли я найти три таланта, не обращаясь к банкирам? Семьдесят пять тысяч сестерциев… Десять тысяч есть у меня в комнате. Сейчас наступил срок уплаты ренты, и я смогу собрать ее. Когда жильцы узнают, зачем мне срочно понадобились деньги, они заплатят. Они любят тебя, хотя почему они должны тебя любить, не знаю. Ты очень трудный ребенок и упрямый! Гай Матий может знать, где достать еще. И думаю, Луций Декумий держит у себя под кроватью горшок со своей неправедной добычей….
И Аврелия ушла, продолжая что-то говорить на ходу. Цезарь вздохнул, встал с кресла. Пора готовиться к бегству. А до этого нужно еще поговорить с Цинниллой, объяснить ей.
Он послал управляющего Евтиха за Луцием Декумием и позвал Бургунда.
Старый Гай Марий завещал Бургунда Цезарю. В то время Цезарь подозревал, что старик сделал это, чтобы навсегда сковать его цепями жреческого служения. Если каким-либо образом Цезарь освободится от своей должности, Бургунд должен будет убить его. Но конечно, Цезарь, обладавший неотразимым обаянием, вскоре сделал Бургунда своим человеком. В этом ему очень помогло то обстоятельство, что рослая служанка матери из племени арвернов, Кардикса, вцепилась в Бургунда мертвой хваткой. Этот германец из племени кимвров в возрасте восемнадцати лет попал в плен после сражения при Верцеллах. Теперь ему было тридцать семь, Кардиксе – сорок пять. Сколько еще она сможет приносить по сыну ежегодно? Это стало семейной шуткой. На данный момент сыновей родилось уже пятеро. Оба, и Бургунд, и Кардикса, были отпущены на волю, когда Цезарь надел тогу взрослого мужчины. Но этот акт освобождения ничего не изменил, кроме статуса супругов, которые теперь стали римскими гражданами (они были занесены в списки городской трибы Субураны, но их голоса практически не имели никакого веса). Аврелия, которая всегда была экономной и скрупулезно справедливой, выплачивала Кардиксе жалованье и считала, что Бургунду тоже полагается вознаграждение за труды. Все думали, что супруги копят эти деньги для своих сыновей, поскольку еда и жилье были им обеспечены.
– Цезарь, ты должен взять наши сбережения, – сказал Бургунд на своей скверной латыни. – Они тебе понадобятся.
Его хозяин был высокого роста для римлянина, шесть футов и два дюйма. Но Бургунд был на четыре дюйма выше и в два раза шире. Его честное лицо, по римским понятиям считавшееся некрасивым из-за слишком короткого и прямого носа и чересчур большого рта, хранило серьезное, даже торжественное выражение, когда он произносил это, но голубые глаза выдавали его любовь и уважение к юноше.
Цезарь улыбнулся Бургунду и покачал головой:
– Спасибо за предложение, но моя мать справится. Если нет – ну что ж, тогда я приму твои деньги и верну их с процентами.
Вошел Луций Декумий, в открытую дверь следом за ним ворвался снежный вихрь. Цезарь поспешил закончить разговор с Бургундом:
– Уложи вещи для нас обоих, Бургунд. Теплые вещи. Можешь взять дубинку. Я возьму отцовский меч.
О, как приятно иметь возможность сказать это! «Я возьму отцовский меч!» Есть вещи похуже, чем быть беглецом.
– Я знал, что этот человек держит на нас зло! – решительно сказал Луций Декумий, не упоминая, однако, о том времени, когда Сулла так напугал его взглядом, что он чуть с ума не сошел. – Я послал своих сыновей за деньгами, так что у тебя будет достаточно средств. – Он впился взглядом в спину уходящего Бургунда. – Послушай, Цезарь, ты не можешь уйти в такую погоду только с этим болваном! Мы с мальчиками тоже с тобой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/kolin-makkalou/favority-fortuny-42226635/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
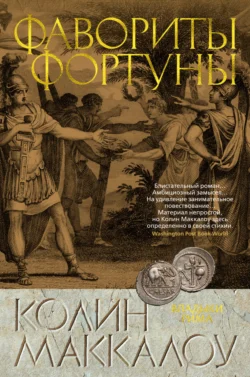
Колин Маккалоу
Тип: электронная книга
Жанр: Исторические приключения
Язык: на русском языке
Стоимость: 449.00 ₽
Издательство: Азбука-Аттикус
Дата публикации: 13.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Фавориты Фортуны» – третий роман знаменитого цикла Колин Маккалоу «Владыки Рима» по замыслу автора должен восприниматься не только в качестве продолжения романов «Первый Человек в Риме» и «Битва за Рим», но и как самостоятельное произведение, вполне законченное и независимое.