Свидетель Пикассо
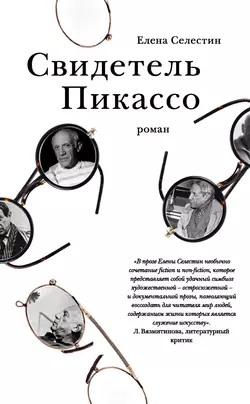
Нет в продаже
Елена Селестин
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Стоимость: 309.00 ₽
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 01.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Пабло Пикассо – один из самых великих художников XX века. Все, кто попадал в орбиту гения, уже не мог исчезнуть из его судьбы по своему желанию. Запечатленные в его полотнах, они словно лишались воли, а некоторые из них – и жизни.