Триумф и прах
Триумф и прах
Елена Валентиновна Малахова
Книга повествует воспоминания пожилой Изабеллы Гвидиче о выдающемся человеке, именуемом в простонародье Сатаной. За долгие годы своей жизни ей довелось стать свидетелем роковой истории и разобраться, за какие грехи Джеймса Кемелли – сына известного адвоката в Лондоне, окрестили, как исчадие тартара. Кто же он был на самом деле: гений или дьявол?
Елена Малахова
Триумф и прах
Для оформления обложки книги использовалась иллюстрация автора.
И найдете вы там, где не ищите;
и обретете всё из ничего.
1
Не помню, сколько мне исполнилось тогда. Определённо, я была старше подростка, но значительно моложе возраста, когда в одиночку справляются о нише, уготованной тебе в мире грёз и возможностей. Признаться, в те далёкие годы люди виделись мне экраном кинематографа, а их истории – фильмом, воспринимаемым исключительно верой на слово. Эта вера не давала беспристрастно заглянуть за кулисы правды, раскрывающей личность тех, о ком рождаются сплетни. Однажды та невероятная правда полностью изменила мою жизнь.
Случилось это благодаря человеку, чьё имя в творческих кругах нашего времени произносят возвышенно, не скрывая восторга и трепета; тем не менее, имя до сих пор не утратило и осудительной репутации в глазах светского общества. Разумеется, мало кто знал его как Джеймса Кемелли; да и гения, подспудного в недрах своеобразной его натуры, в те годы удалось разглядеть не многим.
Пожалуй, первое, что приходит на ум о человеке с прозвищем Сатана, включает в себя безнравственность поведения и притягательную внешность повесы; возможно, некоторые вообразили бы вместо глаз у него пылающие угли, а также языки пламени, бьющие из ушей. Совершенно не таким созерцала Джеймса Кемелли я. И прежде, чем увидеть Джеймса воочию, я столкнулась с порочащей критикой семьи Гвидиче и её близкого окружения.
Дело обстояло в сентябре. В Италии намечался ежегодный праздник винограда, и мой пожилой дядя Джузеппе взял меня с собой в гости к тетушке Адалии. Вот уже десять лет она справлялась с плантацией в одиночку после того, как овдовела, и дядя с удовольствием навещал её. День нашего приезда выдался жарким. Безоблачное небо томилось под золотом солнечных лучей. Обед был накрыт в кирпичном, обветшалом доме с тремя этажами, типичном для сельских плантаций. Стол ломился изобилием, коим тетушка славилась на протяжении многих лет. В её итальянской натуре – впрочем, как и в характере остальных участников ужина – присутствовали гостеприимство и почитание стародавних традиций, одна из которых гласила, что друзья и соседи приравниваются к степени кровного родства. По той самой причине за столом присутствовали не только члены семьи Гвидиче: Антонио (младший из трех сыновей тети Адалии) с женой Доротеей и малыми продолжателями рода: мальчиком Орландо и девочкой Лукрецией; но и Агостина Медичи с дочерями: Летицией и Каприс. Беседа шла оживленная. Говорили о познавательных поездках дяди Джузеппе по Европе, обсудили предстоящий праздник. Потом дядя Джузеппе вышел на улицу, желая искурить табаку, за ним – Антонио, а тётя Адалия внесла ризотто и передала его по кругу.
Я глядела на неё с любопытством незнающего. Хотя уважаемая вдова была старше дяди Джузеппе, она сумела сохранить, как принято выражаться в Италии: «bella figura[1 - «Прекрасную фигуру (итал.)»]». При этом она обладала неприметной наружностью: мелкие серые глаза; такие же серые волосы, гладко зачесанные в пучок, а нос выглядел слишком крупным на фоне аккуратного овала лица. Она получила прекрасное воспитание; чопорность нравов её родителей была взята за основу её благопристойности, и с годами те принципы и привычки лишь укоренились в ней завидной частотой проявления в свете. Впечатление тетя Адалия производила суровое. Строгость голоса, присущая ей, останавливала любую откровенность собеседника, порой вводила в ступор, и лишь мягкие черты её лица, измаянные солнцем, зачастую спасали положение.
В отличии от пышнотелой тёти Адалии Агостина Медичи выглядела утомленной, высохшей, сморщенной, как курага. Её тонкие губы; морщины, обтянувшие кожу наглядной сетью, служили намёком на скорую старость. Впавшие, будто Желоб Тонга, щеки её обнажали скулы. За счёт уродливой худобы платье сидело на ней свободно и безвкусно. Зная в какое болото, отнюдь не красящее женщину, тащит её время, она всячески старалась компенсировать невзрачность лица слоем розоватой пудры. Без малейшей прозорливости в её темных глазах различалась злоба на всё насущное; от её колкого, пронзительного взгляда хотелось спрятаться. Она пристально посмотрела на тётю Адалию, севшую за стол, и разговор поменял истоки.
– Уильям Кемелли уже приехал? – хладнокровно осведомилась Агостина.
Тётя подняла на неё свои выцветшие, благородные глаза.
– Нет, он будет к вечеру. Похоже, прибытие поезда задерживается.
– Слава пресвятой Мадонне! – Агостина Медичи перекрестилась. – Мы избежали отвратительного общества и неизбежного скандала!
За нерадивым диалогом женщин прослеживалось некое волнение, охватившее присутствующих. Глаза Каприс засверкали; она силилась скрыть довольную улыбку, но едва ли. Летиция, напротив, была необычайно робкой, и после упоминания о семье Кемелли взгляд её стал до предела смущённым. Тогда я не понимала, что оживлённую реакцию невест на выданье вызвал вовсе не синьор Уильям, а другой человек. Я старалась держаться беспристрастной; однако, та атмосфера, что повисла в те минуты, толкала меня вопросом излиться наружу.
– Что плохого в обществе этого человека?
С немалой долей высокомерия взирая на меня, Агостина сделала глоток сухого вина, так и не удостоив ответом.
– И не спрашивай, Белла… – с откровенным пренебрежением сказала тётя. – Мало кому приятно об этом вспоминать.
– Верно, Ада! – подхватила Агостина. Сделав паузу, она процедила с презрением. – Поговаривают, Уильям вновь привезёт этого мерзкого дьявола?..
Её сухощавое лицо исказилось отвращением, а руки потянулись за салфеткой, уголками которой затем она промокнула манерно вытянутые губы.
Летиция опечалилась, сильнее опуская голову, а Каприс вспыхнула глазами.
– Мама! Прошу, не говори так о нём!
– Не влезай, Каприс! – Агостина заимела оскорбленный вид. – Где твои манеры?! Пожалуй, Европа вытрясла из тебя сущность благовоспитанной Италии!
В дверях появилась Тереза – чернокожая, пышная, точно взбитая перина, женщина в годах. Она была дочерью торговца полотном, замуж не вышла и работала на плантациях Гвидиче и дома синьора Кемелли бог знает сколько времени. К числу её прелестей любой бы отнёс широкую, бесподобную улыбку: зубы ровные, крупные и белоснежные. Я бы, скорее, подчеркнула момент, когда её мясистые щеки в процессе улыбки или смеха заслоняли разрез больших, на выкате, чёрных глаз. Она была немного прозаична, и в то же время необычайно мила в белых, размашистых юбках и серой чалме.
Тётя Адалия любезно пригласила Терезу отобедать с нами. Поставив блюдо поркетта[2 - Запеченный рулет из свинины без костей.] на стол, Тереза сказала:
– Не желаю участвовать в балагане жалких сплетен. Вы снова судите бедного мальчика, а ведь он наполовину сирота!
– Его никто не судит, Тереза! – деликатно поправила тётя Адалия. – Поступки этого англичанина давно перешли все мыслимые границы. Вспомни, в том году он испортил половину урожая, когда его беспардонный конь пустился по виноградникам.
– Ничего удивительного: каков хозяин – таков конь! – добавила Агостина, порождая волну смеха, которой заразилась тётя, а Тереза, обиженно всплеснув руками, ретировалась на кухню.
Когда смех перестал сотрясать столовую, и несколько минут все молча разделывались с поркеттой, с улицы вернулись дядя и Антонио, вдохновляя женщин снова говорить о богатом урожае винограда и благодати южной природы.
После такой непонятной дискуссии во мне взыграло любопытство, способное подчинить себе любого беспристрастного наблюдателя. Меня стало интересовать семейство Кемелли, и в продолжении дня я искала возможности расспросить Терезу о синьоре и его дьявольском спутнике.
Когда мне все-таки удалось улучить время наедине в просторах столовой комнаты, Терезу обуяло исступление.
– Мой бедный мальчик, – причитала она, – судьба с ним так жестока! Ох, чувствуя я, погубят они коня!
Тереза перескакивала с одной мысли на другую, продолжая натирать посуду.
– Я так понимаю, Уильям Кемелли родом из Англии. Зачем ему понадобилось обзаводиться плантацией в Италии?
– Синьор Уильям был женат на Бьянке. Её покойный отец, дон Диего, оставил ей плантацию в наследство, – мягкий голос Терезы окрасила горечь. – Когда бедняжка умерла, Уильям забросил усадьбу. Знала бы ты, какой чудесной, кристально чистой души была Бьянка! – Тереза замялась. Её задумчивые глаза опустились на тарелку, затем поглядели в окно. – Ох, и погубят они коня!
Было довольно трудно уследить за ходом бегающих мыслей Терезы, и я старалась упорядочить полученные сведения.
– От чего умерла Бьянка?
– Заражение крови, кажется. Уильям тяжело перенес трагедию. Он забрал бедного мальчика в Англию сразу после похорон. Я видела, как синьор переживает, и предложила оставить Джеймса здесь, под моим присмотром. Уильям пророчил сыну грандиозное будущее и отдал его учиться в Лондоне. Теперь они приезжают редко, в основном на праздник винограда.
Я молча вникала. Терезу охватила охота говорить.
– В прошлом году Джеймс купил лошадь. Помню, как говорила ему: «Зачем такая нужна? Глазища чёрные, непроглядные, точно бездна. Ещё уродлива на один глаз. А сама, как смерть – жуткая!». А Джеймс полюбил её, – после недолгой заминки Тереза добавила, – да… думаю, полюбил…
Неуверенность её заявления смущала. Могло показаться, в сказанном Тереза убеждает себя, нежели меня.
– Почему Джеймса считают дьяволом? – спросила я, дотирая последнюю тарелку.
Тереза махнула рукой.
– Чепуха! Они несправедливы к нему. Пх! Возомнили, что он родом из преисподней… А ведь он бедный мальчик! Как же ему нелегко!
После того разговора с Терезой стало понятно, что она была вдохновлена Джеймсом Кемелли, как мир искусства вдохновлен Сандро Боттичелли[3 - Иначе Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (1445 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1445) – 1510 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1510) гг.) – великий итальянский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) живописец (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) эпохи Возрождения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), представитель флорентийской школы живописи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8).] и его несравненной Венерой. Я прониклась к Джеймсу, ещё не видя его.
Казалось бы, тайна исчерпала себя, но не тут-то было…
2
В южных районах существует традиция, именуемая Passeggiata, когда после обеда все домочадцы без исключения совершают прогулку. Исполняя безукоризненно то, что годами закладывалось народом, участники трапезы вышли на улицу и поделились на группы согласно интересам: впереди следовали мужчины, затем – тётя и синьора Агостина, а позади – я и две сестры Медичи.
Каприс болтала без умолку, рассказывая о проведенной поре в Германии и замужних сверстницах. Ей поскорее хотелось стать уважаемой синьорой, как все те, кто обзавелся супругом и собственным домом. Она восторгалась жизнью в браке и на ходу придумала имена пятерым нерождённым детям. Руками она изображала не вполне уместные жесты, при этом зычно смеялась и запрокидывала голову. Не взирая на развязную веселость, её взгляд оставался пристальным, едким и заставлял чувствовать себя неуютно. Видимо, Каприс старалась продемонстрировать, что человек, открыто глядящий на собеседника, не хранит за душою камня потаенного греха.
Застенчивая Летиция не обронила ни слова, что выглядело не под стать местным, говорливым девицам. Она напоминала натурщицу картины «Дама с единорогом[4 - Известный портрет Рафаэля Санти (1483 -1520 гг.) – великого итальянского живописца, графика и архитектора, написанный около 1505-1506 гг. Высокий Ренессанс.]». На её овальном лице выгодно смотрелись чёрные, широко поставленные глаза. Высокий лоб и узкий, аккуратный рот выдавали прямое отношение рода Медичи к буржуазной общине. Длинные, слегка вьющиеся волосы переливались золотом, а руки истончали бесподобную нежность кожи.
Летиция приходилась Каприс сводной сестрой (вдовец Адриано женился на Агостине, уже имея дочь Летицию). Вероятно, поэтому разница между ними была ощутима. Если Летиция оживляла в памяти картину Рафаэля, то Каприс будто сошла с «Портрета молодой венецианки[5 - Картина Альбрехта Дюрера (1471 – 1528 гг.) – немецкого живописца и графика, созданная в 1505 г. Северное Возрождение.]». Она имела длинные, рыжеватые волосы, орлиный нос и крупные черты. Они придавали её расплывчатому лицу мужеподобный вид, что в значительной степени усугублялось покатым подбородком, сильно выступающим вперёд на фоне скошенного лба. Её живые, бегающие глаза полнились лукавством. Внимательно за нами наблюдая, Каприс подметила наше молчание и замыслила дурное. Вид у неё стал кичливый и дерзкий. Она схватила меня под руку, пронзая Летицию, идущую в шаге от нас, издевательским взглядом.
– Слышала новость: Летицию замуж выдают?
Молниеносно подняв глаза на сестру, Летиция покраснела.
– Не болтай, лгунья! – вскричала она. – Матушке он не по нраву, значит, не будет её благословения.
– Как отец решит, так и будет! – отпарировала Каприс. – И ты знаешь об этом не хуже меня.
– Лгунья! – повторила Летиция.
От злости сестры задор Каприс только возрастал, и она продолжила вести беседу со мной, делая вид, что мы наедине.
– Он такой очаровательный. Только разговаривает плохо и когда ест, громко чавкает. А ещё у него огромные передние зубы. Их желтизна напоминает золото ацтеков. Что не говори, самая достойная партия для бесхарактерной особы!
Щеки Летиции вспыхнули пуще прежнего, даже слегка крючковатый нос и тот покраснел с досады. С моей стороны безучастность – порок, относящий мир назад, к этапу самобытности – нельзя называть жестом благородства. Однако, взаимосвязь двух сестёр выглядела крайне интересной, и прерывать столь драматичную сцену я не посмела.
– Не стесняйся! Расскажи Белле, как ты влюбилась в Джеймса Кемелли и в прошлом году отсылала ему письма. Мы так «далеко» живём друг от друга, что ответ так до сих пор и не пришёл.
Издевки сестры окончательно вывели Летицию из душевного равновесия. Ее губы задрожали. Она силилась не заплакать, но слезы безвольно наполнили глаза кроткой девушки. В тот момент она выглядела агнцем; невинной жертвой, роль которой бесценна в театре высокой драмы.
Каприс тоже менялась на глазах. В ней будто засела тысяча чертей, и те искушали её на истязание сводной сестры.
– Прекрати, безбожница! – кричала Летиция. – Лгунья!
На секунду Каприс отразила циничную улыбку, и её крепкие руки по неизвестным причинам затряслись.
– Или расскажи, как своровала снимок Джеймса и лобзала его под одеялом!
– Каприс, хватит! – вмешалась я. – Сестрам подобает жить в мире и согласии.
Каприс метнула на меня укоризненный взгляд: он обвинял меня в предательстве. Сотрясаясь всем телом, она направилась к дому Медичи и лишь изредка оборачивалась, чтобы снова бросить свой гневный, испепеляющий взор.
Летиция выглядела потерянной и старалась не встречаться со мной глазами. Она тихонько сказала:
– Извини, Белла… Я лучше пойду.
3
Я крайне озадачилась перепалкой сестёр. Они были несколько старше меня, и тот возраст требовал знаний этикета, а также навыков применения их при посторонних людях. Вместо этого они вели себя вопиюще; словно невоспитанные дети, не сумевшие поделить игрушку, которой по сути являлся Джеймс Кемелли – человек, чьё общество Агостина Медичи и тетушка Адалия отказывались воспринимать. Я посчитала разумным забыть ту неловкую историю, и, впрочем, мне бы то удалось, если бы не вечер того же дня.
Погода воцарилась приветливая, и, не смотря на жар прогретого воздуха плантаций, внутри дома Гвидиче витала легкая прохлада. Обстановку в доме нельзя было назвать богатой – тётушка не заостряла внимания на качестве мебели, зато знала, как выгодно расставить её, создавая эффект зажиточности. Ранее её навязчиво преследовало желание тратить итальянские лиры; после кончины супруга тётушка Адалия потеряла тягу к расточительству. Плантация требовала немалых затрат и полного контроля, и она понимала это. Однако, при всей своей приобретенной бережливости она не могла устоять перед шикарными обедами, которые давала чаще соседей, и совершенно не скупилась на изыски в блюдах. Потому на столе всегда значились элитные вина, поркетта и свежая чамбелла[6 - Итальянская выпечка.]. Она старалась компенсировать расходы, экономя на одежде, и объясняла свой сдержанный вкус нежеланием выряжаться при статусе вдовы. Ее скудный гардероб прятал в себе длинные юбки и платья, преимущественно недорогих материй, и подобные стилю рубашки, и очень редко, на праздник она снисходила до кринолина.
Не изменяя привычкам, в тот вечер тётя спустилась в скромном, длинном платье блекло-коричневого цвета. Семья Гвидиче толпилась у накрытого стола, ожидая последнего гостя, о котором я не ведала. На сей раз Медичи не пришли, и оставалось только догадываться, что могло послужить причиной.
– Снова он опаздывает, – ворчал дядя Джузеппе, успев проголодаться, – на месте его отца я бы внушительно потолковал с ним о манерах.
Дядя Джузеппе нахмурился. Созерцая высокий лоб с выразительно очерченными буграми и несуразно вздернутый нос дяди, навряд ли человек со стороны счел бы его представителем древнего итальянского рода. Он больше походил на скандинава или англичанина. Хотя ростом был невысок, в широких плечах его таилась мужественность. Чернявые, прямые волосы, укороченные по старинке, и тёмную, густую бороду разбавляла редкая, запоздалая седина.
В его светлых глазах примечалось иссякнувшее в конец терпение; дядя принялся шагать по комнате вдоль расставленных стульев. Тереза, сверкая белыми зубами, порхала из столовой с горячими блюдами, лишний раз улучая момент приобнять меня или поцеловать в макушку. Тётя Адалия тоже нервничала, но виду не подавала. Антонио и Доротея сдержанно поджидали у стола, то и дело поглядывая на старинные часы.
Мы обождали ещё пятнадцать минут.
– До чего же невоспитанный! – сердито сказала тётя Адалия, – точно вырос в диких джунглях! В конце концов, всему есть предел! Время ужина было оговорено, может, он вовсе не придёт… Давайте начнем трапезу. Да благословит Господь пищу нашу насущную…
Все сели. Она прочла короткую молитву, в обязательном порядке читаемую до вкушения пищи. Вся семья склонила головы, соединив ладони вместе, и прилежно слушала тётю. Когда настало время перекреститься, завершая ритуал, в дверь позвонили. Тереза ринулась открывать.
Молодой гость, стоящий на пороге, выглядел не старше тридцати лет и бросался в глаза одеянием неместного пошива: тёмный сюртук, светлые брюки и шёлковый жилет облагораживали его подтянутый силуэт. Войдя, он небрежно снял шляпу с короткими полями и, передав её Терезе, любезно поздоровался. Гвидиче встали; дядя Джузеппе и Антонио подали ему руку, а тётушка Адалия изящно поцеловала гостя в обе щеки.
– Caro[7 - Дорогой (итал.).], как я рада! Вознесём хвалу небесам за такого чудного гостя!
С интересом глядела я на обряд приветствия, и сперва он показался необычайно милым. Враждебность тёти в отношении гостя улетучилась. Она держалась обходительно, не давая повода заподозрить, какое презрение терзает её душу при одном упоминании о нём.
Гость снисходительно улыбнулся. Тётушка пригласила его занять свободное место справа от неё, и мы приступили к ужину в напряжённой обстановке. Холодные закуски сменились горячими блюдами, и тогда завязалась неординарная беседа.
– Благодарю, – без экспансивности сказал гость, – ужин был отменным.
Он улыбнулся.
Трудно подобрать слова, могущие донести читателю меткие представления о том, что являла та улыбка. Она состояла из превосходства и назидания, в то же время считалась бы милой, не присутствуй в серо-голубых глазах блеск, унижающий достоинство. И что самое неприятное: при взгляде на неё чувствуешь себя абсолютным глупцом.
Тетушка не смутилась его улыбкой, всем своим видом показывая, что скудный комплимент гостя пришелся ей по душе. Она расцвела, обнажая в глазах искру девичьего задора.
– Caro, ты знаешь, я не люблю похвалу! – тётушка Адалия провела рукой по серым волосам. – Святая обязанность женщины уметь порадовать мужчину вкусным яством.
Я поняла, что её ответ был отнюдь небескорыстным. Непонятно откуда возникшая скромность указывала на то, что тётя не восполнила утробы тщеславия и нарывалась на очередную похвалу.
Гость оказался скуп на доброе слово.
– Получается, женщины созданы для того, чтобы ублажать мужчин? – бесцеремонно спросил он. – Звучит унизительно.
Тётя Адалия смутилась.
– Разумеется нет!
– Вы утверждаете обратное, – перебил гость. – И на то указывает Библия, поведав о сотворении Адама и только потом Евы.
Вмешался дядя Джузеппе.
– Сынок, подобные разговоры портят ужин…
– Я его не начинал, – спокойно продолжал гость, не снимаю с лица ядовитую усмешку, – я всего-навсего сказал, что ужин был отменным, без намёка на вытекающие.
Все как-то приметно оживились, в особенности Антонио поменялся в лице. Благородный, крупный нос через широкие ноздри шумно выдыхал воздух. Черные глаза блестели, создавая своим блеском конкуренцию густой копне вьющихся до плеч волос. Доротея медленно пережёвывала мясо, смотря то на гостя, то на тётю, и выглядела шаблоном женственности – ей хотелось подражать. Она располагала к себе не только красотой и округлыми формами, правильно подчеркнутыми шелковым смарагдовым платьем – в её характере утвердились покладистость и манеры, достойные светского общества, что, на мой взгляд, и завоевало сердце Антонио. Сам же итальянец по натуре прослыл неуступчивым и вспыльчивым человеком. Его разозлила прямолинейность гостя. Обращаясь к нему, Антонио взял голосом высокую тональность.
– В Италии никто не ущемляет права женщины. А ваши слова – дискриминация!
Каждое сказанное слово он гневно цедил сквозь зубы, сильнее сжимая в руке вилку. Было удивительно наблюдать, как в присутствии матери Антонио впервые встрял в разговор. Такое поведение расценивалось, как непристойное, тем не менее, он уже не думал об этом.
Усмехнувшись, гость воззрел на Антонио с брезгливым презрением.
– Полагаю, именно в условиях полного равенства ваша жена целый вечер молчит… – его голос звучал сухо и колко. – А что касается ранее затронутой темы: я говорю не конкретно о правах, скорее о смысле человеческой жизни.
Тётушка Адалия стала темнее тучи. Назревающие распри портили святость вечернего ужина, но горячность итальянского народа ни с чем несравнима! Дюжая эмоциональность могла заставить чувствовать себя не в своей тарелке любого умиротворенного иностранца, не привыкшего к ярким сценам. С ранних детских лет меня воспитывал дядя Джузеппе на юге Исландии, что способствовало формированию иного взгляда на коммуникацию. Но нельзя не восхищаться столь рьяной демонстрацией чувств! В тот момент они виделись воинами на поле битвы, где повышенные тона и крик использовались, как верный способ устрашить соперника и заставить его обратиться в бегство.
– Да что ты знаешь о смысле человеческой жизни, невежа?! – Антонио подскочил, бросая вилку на стол.
Я и Доротея встрепенулись от неожиданности, гость оставался покойным.
– Нельзя знать наверняка, – мирно рассуждал он. – Можно располагать мнением и свято верить в его подлинность. Не существует абсолютного мерила, которое облачит мысли в истинное заключение, единое для всех.
Широкая улыбка гостя стала более приторной. Смотреть на неё было невыносимо! Дядя Джузеппе нахмурил лоб. Характер у него был мягкий и терпеливый, но подобные выходки стерпеть было невозможно.
– Хватит с меня неуважения, синьор! – грозно проговорил дядя, вставая из-за стола. – Наша семья гостеприимна, но таким гостям мы больше не рады.
Гость посерьезнел.
– Вы правы. Подобные вечера – пустая трата времени. Чао!
Он встал, отвесив небрежный поклон головой, взял шляпу и поспешно удалился. Когда дверь хлопнула, тётушка побелела до смерти.
– Мама! – вскричал Антонио. – Вам плохо?
Антонио подскочил к матери; следом кинулась Доротея, участливо взяв её за руку, и дядя Джузеппе. Тётя тяжело и поверхностно дышала.
– Белла, скорее неси воды! – скомандовал Антонио.
Я живо исполнила просьбу, и тут же с кухни выскочила перепуганная Тереза. Крупные глаза её были на выкате.
– Ада, что с тобой?!
Тетя Адалия не могла говорить. Пересохшие губы слегка дрожали. Она устало бегала глазами по столу. Антонио горячо припал губами к чахлой руке матери, и в его черных глазах отражались страх и подлинное волнение. Доротея поднесла стакан воды к устам тети, но та лишь открывала рот, как рыба, не сделав ни глоточка.
– Расступитесь! – приказал дядя Джузеппе.
Он подхватил тетю на руки и унес наверх. Антонио пустился за ним, переступая по три ступени лестницы. Доротея захватила холодной воды и тоже поднялась.
Пока Тереза побежала за доктором, я металась из угла в угол в гостиной. Вся эта суматоха случилась так внезапно, что времени размышлять над случаем не было. Я была охвачена паническим переживанием за тетю. Она обладала крепким здоровьем, болела редко, да и то простудой в лёгкой форме. Но, учитывая преклонность её лет, всякое могло случиться.
Прошло несколько часов; доктор ушёл, и я поднялась к тёте в спальню. Накрытая простыней она отдыхала на кровати, а её неподвижные руки лежали по швам. Печальные, серые глаза были открыты, устало и медленно моргая. Чопорность изрядно въелась в её бледное, точно снег, лицо.
– Тётушка, я вас не потревожу?
– Входи, – чуть слышно ответила она, – мне уже лучше.
Разговор с тётей всегда давался мне нелегко. Я тщательно подбирала слова, боясь сказать лишнего, и заслужить тем самым её немилость. А в тот вечер вдобавок мне не хотелось навредить её состоянию.
– Вы нас так напугали… – осторожно сказала я.
– В моем возрасте возможно и не такое, caro! Агостина предупреждала, что позвать его сюда будет нелепой ошибкой. Видит пресвятая Мадонна, я лишь старалась угодить ему!
По щекам тёти Адалии заструились слезы. Она осушила их простыней, но они текли снова и снова. Поднимаясь к ней, я не собиралась затрагивать имени неизвестного гостя, чтобы тем самым не спровоцировать ее на новое волнение. Однако, тётя заговорила о нем первой, и я нашла в себе смелость осведомиться, кем был тот человек, что приходил на ужин. Отвечая, тётя отрешенно уставилась в сторону.
– Если кто-нибудь хотя бы раз в жизни видел, как выглядит зло, то непременно скажет, что этим злом был Джеймс Кемелли!
Описав события того сентябрьского дня, пожалуй, следовало бы поставить точку в тайне дьявольского прозвища. Вполне понятно, откуда берут корни ненавистные кривотолки. Хотя, увидев Джеймса Кемелли таким, каким он сидел за столом, во мне поселилось разочарование. Я искренне поддалась фантазии, воображая на его месте редкостного красавца, покорителя сердец посредством обаятельных жестов и мимики.
Джеймс Кемелли был отнюдь не таким. Не созерцала я в нём невероятного обаяния, красивых глаз или необычайной выправки. У него был длинный острый нос, прямой, как линейка. Русые, пушистые волосы слегка кучерявились возле лба и темени, а на висках были короче и прямее. Глаза неузкие, некрупные, ясные и внушительные. Выбритый подбородок не смотрелся выбритым: темные вкрапления выглядывали из-под светлой матовой кожи. Фигура высокая, жилистая в меру, в меру упитанная. С виду он производил впечатление заурядного адвоката или поверенного в дела зажиточного сэра. Тогда я начала сомневаться, что Джеймс Кемелли вообще может кому-либо понравиться. Дальнейшее развитие событий в доме Гвидиче опровергло мои домыслы.
Прежде, чем изложить ту странную роковую историю, предлагаю вернуться в день неудачного ужина.
Я любила размышлять, когда никто не мешал; когда тишина – главный союзник, создающий ауру мироздания спокойных мыслей. В поисках уединения я вышла на улицу во двор. Кровавый закат терялся в тропах обихоженной плантации, бросая последние лучи солнечной благодати, как прощальные объятия. Размазанные по небу облака светились тёмным золотом. Подвязанные кусты винограда, все как один: бравые солдаты одной шеренги, еле слышно перешептывались листьями. На изумрудных холмах стелилась ровная, душистая трава; а кустарники и низкорослые деревья, завершая южный этюд, украшали шапками покатые поляны.
Природное великолепие Италии ни с чем несравнимо! Божественное благословение пролилось на землю богатыми холмами, историческими руинами, непревзойденными фонтанами, виллами и бесподобными соборами. Их живая, завораживающая красота впитывается душой и оставляет в ней восторженную благодарность неземной силе за создание этой красоты. Не зря именно здесь родились величайшие гении всех времен, а также многие направления искусства и литературы. Эта невероятная, тонкая чувственность природы вдохновляет!
Восхищаясь элизиумом на земле, я села на скамью у деревянной изгороди. Чей-то приятный голос не дал мне насладиться угасающим днем в безмолвии.
– Ваше волнение только усугубляет вашу проблему.
Я повернула голову в сторону голоса. В шаге находился Джеймс Кемелли, который, должно быть, увидел меня с веранды дома Кемелли, и бесшумно подошёл.
– О чём это вы? – сконфуженно спросила я.
– О вашей ноге. Вы сильно волочите её, когда идете. И чем больше вы хотите скрыть уродство, делая упор на другую, тем оно становится куда более явным.
Я густо покраснела. Люди, знавшие о моей хромоте, ставшей следствием врожденного дефекта костей, старались всячески меня жалеть. Та жалость, наверняка, поднималась из недр возвышенных чувств, и большая часть планеты считает сопереживание проявлением сердоболия и высокой нравственности. Я мало верила жалости; ибо все известные мне случаи сострадания служат ярким примером бесчестности этих людей перед обществом и самими собой. Вместо того, чтобы оказать надлежащую помощь, люди сострадают издалека, в мыслях; словом, а не делом.
Мне не пришло в голову ничего, что могло бы послужить достойным ответом его дерзости. Джеймс Кемелли присел рядом, продолжая речь.
– Подобное волнение и важность чужого суждения о вашем несовершенстве мешают жить полноценно. Чего стоят жизнь и людское мнение? Абсолютно ничего! В том и разница между мной и вами: я не придаю внимание мелочам.
– По-вашему, лучше ходить бесчувственным грубияном и плевать людям в душу?
Джеймс усмехнулся.
– Пожалуй, вы намекаете на меня… Я не плюю в душу. Я произношу речь, а общество расценивает её так, как выгодно обществу. Это человеческие мнения, и они переменчивы. Сегодня вы – лорд, завтра – нищий. Добро и зло – понятия относительные.
В некоторой степени я была согласна с Джеймсом. Изрядно увлекаясь чтением газеты «Churchill», зачастую попадаются строчки читательской критики, порочащей и однобокой, что наталкивало на мысль о людской зависти, тяге отвергать новую точку зрения, защищая от разрушений старые, привычные убеждения. Вместо того, чтобы, к примеру, с наслаждаться трудами Андреа Лессо – известного философа итальянской современности, раскрывающего истину за истину в журнале «Il profeta» – читатели закрывают глаза на тонкость и мудрость сути изложенного, и с щепетильной внимательностью ищут недостатки. Они с нетерпением ждут выхода свежей статьи философа с целью вновь излить «свет» своего невежества неучтивой рецензией.
Не взирая на солидарность его изречению, я не могла ни возразить Джеймсу Кемелли. Какая-то строптивая часть меня призывала к протесту. В силу напряженности нашего диалога я не сумела сразу аргументированно дать отпор.
– Вздор! – сказала я, не придумав ничего существенного в свое оправдание. – Очевидно, вы плаваете на поверхности.
– А вы слишком глубоко ныряете без воздуха, – улыбаясь, Джеймс проникновенно взглянул на меня. – Как по-вашему, Микеланджело был хорошим человеком?
– Разве я могу судить Микеланджело? Где я, и где он?! Он выдающийся гений! Ему не было равных в искусстве скульпторы, и по сей день его место на пьедестале никому не удалось занять.
– Безусловно. Искусство его красит, как и он искусство. Но красят ли его методы достижения апогея? Всем известно, что Микеланджело создавал скульптуры людей, причём точность деталей тела была доведена до совершенства. Это стало возможным только благодаря работе с мертвыми телами. Прежде, чем возводить скульптуру, он дотошно капался в трупах, тем самым оскверняя память об усопших.
– Микеланджело – победитель; над победителями суд не вершат, – немного помолчав, я прибавила. – Стало быть, вы считаете его недостойным человеком?
– Я не думал об этом буквально. Вас занимают мнения, меня только противоречия.
Он замолчал. В ту минуту я не видела в нём отродья тартара, образ которого так сильно прирос к Джеймсу Кемелли. Он походил на увлеченного мыслителя в поиске ответов на бесконечные вопросы.
Намереваясь изменить течение разговора в сторону инцидента в доме Гвидиче, я рассуждала бесцеремонно.
– Итак, вам безразличны люди, мнения, добро и зло. Тогда зачем вы явились на ужин, куда идти не желали?
Джеймс пристально поглядел вдаль.
– Увы, в противовес личных желаний есть сила, над которой пока я не властен.
– И что это за сила?
Лицо Джеймса исказилось – ему стал неприятен разговор. Вставая, он сухо сказал.
– Желаю, чтоб этой ночью вы спали. Без чувств и мыслей.
– Ничего ужасней я не слышала! Разве в Лондоне не принято желать доброй ночи? Или вам в тягость соблюдать даже эту общепринятую формальность?
– Добро и зло – понятия относительные…
Не глядя мне в глаза, он приподнял шляпу в знак уважения и спешно удалился.
4
Два дня не видела я Джеймса Кемелли и семью Медичи. Погода ухудшилась. Тучи затянули небо, и назревал дождь. Ненастье сказывалось на моей хромой ноге, потому я долго не могла предаться забвению. В доме воцарилась тишина – спали все, кроме меня.
Не сумев победить бессонницу, во второй половине ночи я спустилась на веранду. Воздух был свежим и теплым. Ночь возлежала на холмах, и лишь тусклые фонари выполняли роль посланников дневного света, не отдавая землю царству тьмы. Мой взгляд жадно блуждал по плантации. Чинные виноградники сонно дремали, и вдруг посреди ровных кустов мелькнула тень. Я вгляделась в полумрак – тень была человеческая. Легким парением она скользила от ряда к ряду и периодически оборачивалась назад. Моё тело бросило в жар. Первой идеей, пришедшей в голову, было разбудить дядю Джузеппе, чтобы тот задержал вора. Но опасность миновала нашу плантацию: тень метнулась к дому Кемелли и, остановившись, стала озираться по сторонам. По чёрному длинному одеянию, скорее всего платью, я поняла, что это была женщина. Лица было не разглядеть: до самых глаз она прикрывалась чем-то похожим на чадру. Убедившись в отсутствии людей, она повернулась к дому и сразу исчезла на темной веранде.
Я была обескуражена. Кому понадобилось ночью идти в дом того, чьё имя не произносят вслух? Сперва возникло предположение, что это могла быть Тереза. Но та не стала бы прятаться; да и пышную фигуру Терезы ни с чем не перепутаешь. Я вспомнила, что в доме живёт Уильям Кемелли, которого ещё не видела. Будучи вдовцом, он вполне мог обзавестись любовницей… В догадках я вернулась в спальню.
На следующий день мы завтракали у Медичи. Глава семьи, Адриано Медичи, – человек неприметного роста с густыми, смоляными усами, хитрым взглядом и слишком шумный, говорил, не переставая, и потому составил прекрасную партию дядюшке Джузеппе. Дети Антонио, похожие на него от волос до кончика носа, вели себя неприлично: носились по дому, кричали, хватали грязными руками со стола булочки. Старшины семейств глядели на них снисходительно, а Доротея, преисполненная спокойствием, терпеливо улыбалась при взгляде на них. Признаться, более тихой и смиренной жены здесь я не встречала!
Каприс, на удивление, была молчаливой и более дерганной, чем обычно. Её руки дрожали, что сильно бросалось в глаза. Она вертела в руках салфетку, поочерёдно столовые приборы, то и дело поправляла лёгкий палантин на шее. К чему она укуталась в него – было непонятно. Солнце разогрело с утра, и духота изнуряла и без дополнительного слоя одежды.
За столом не сидела Летиция, и я осведомилась у Каприс, где она.
– Ей не здоровится. К обеду будет.
Разговаривать Каприс была не настроена.
После завтрака, когда мужчины уединились, раскуривая самокрутки на улице, а женщины и дети отправились дышать воздухом плантаций, я решила проведать Летицию.
Трехэтажный дом Медичи мало отличался от дома Гвидиче. Белые потолки были высокими, а выбеленные стены добавляли просторным комнатам немалого света. Дом украшали изыски декора, помпезные вазы, ковры, репродукции картин эпохи Возрождения и всякая подобная мелочь, способная внести уюта в любую обстановку.
Комната Летиции располагалась на втором этаже. Окна выходили во двор, тесно граничащий с верандой дома Кемелли. Я постучала в дверь – никто не ответил; я повторилась, и тихий, слегка хрипловатый голос разрешил мне войти. Я отворила дверь и увидела, как Летиция лежит на кровати ничком в подушку; руки вцепились в неё безжалостной хваткой. Белокурые, нечёсанные волосы небрежно прикрывали плечи, а согнутые ноги скрадывала длинная сорочка.
– Ты заболела, Летти?
Ответом мне послужили громкие внезапные рыдания. Недоумевая, я подскочила к ней и пала на колени.
– Что с тобой?
– Я ненавижу её! Она специально это сделала!
– О ком ты? И что она сделала?
Летиция зарыдала ещё хлеще, стискивая подушку пальцами. Я была растеряна. Моя склонность к состраданию никуда не годилась, зато в тот момент я искренне прониклась к Летиции и стала гладить её по волосам, понимая, что ей необходимо время успокоиться. Я выжидала. Рыдания не прекращались несколько минут, после чего Летиция присела и повернулась ко мне лицом. Её стройное тело как прежде передёргивалось – некогда уравновешенная девушка больше не выглядела таковой. Опухшие от слёз веки демонстрировали фиолетовые прожилки, благодаря которым узкие, красные глаза имели лихорадочный вид, а круги под ними напоминали тёмные колодцы. В ту минуту никто б не нашёл в ней сходства с шедевром Рафаэля. Она страдала поистине нечеловеческой болью.
– Каприс уничтожила меня, – жалобно лепетала Летиция. – Прошлую ночь она провела с ним!
Я вспыхнула щеками, понимая, что обсуждение перетекает в русло тайных отношений между женщиной и мужчиной, которые ранее я ни с кем не затрагивала. Мне едва удалось взять себя в руки.
– С кем с ним?
– С Джеймсом Кемелли конечно!
Она продолжала всхлипывать, уронив взгляд на руки, перебирающие сорочку. Откровенные подробности тоже вгоняли её в краску, но её лицо и без того пылало красными пятнами, чтобы выдавать стыд. Она говорила ломанным, срывающимся голосом, и каждое изречение заставляло её свежую рану на сердце кровоточить.
– Не может быть! – успокаивала я. – Каприс, верно, пошутила или захотела тебя подразнить.
– Нет! Вчера она отправила ему письмо, предлагая встречу. Не простую встречу…
Измученные слезами глаза Летиции переполняла влага.
– Откуда тебе известно о письме?
– Она хвасталась, что написала Джеймсу, а потом дала прочитать его ответ.
Летиция приподняла подушку и протянула мне конверт, весь помятый и влажный от слез. Я взглянула ей в глаза, выражая сомнение и нерешительность. Читать чужие письма – дурной тон. Во мне боролись нравственность и любопытство, затуманивающее рассудок. Мне представилось, что там обнаружится хоть малая доля романтизма, которую, возможно, Джеймс Кемелли прячет от посторонних глаз. Эта мысль подкупила меня, и я, вскрыв конверт, прочла.
«В полночь приходи на веранду. Я спущусь.
Джеймс Кемелли. »
Не обнаружив любовного признания, я испытала искреннее разочарование.
– Теперь ты убедилась?! – Летиция снова залилась слезами. – Боже… Как мне это пережить?!
В письме и не пахло романтикой, которую я жаждала там отыскать. Зато оно даровало мне верный способ утешить Летицию, ибо ранее я не знала, как лучше это сделать.
– Послушай, здесь нет ничего такого, что указывало бы на его любовь к Каприс или на то, о чем подозреваешь ты. Смею предположить, они всего лишь совершили прогулку вместе.
– Нет, Белла! Я застала её в спальне. Она одела чёрное платье и спустилась во двор, а вернулась только на рассвете. Эту злосчастную ночь они провели вместе!
Рыдая с новой силой, Летиция бросилась лицом в подушку. Я была удивлена тем, что тень женщины, увиденная мной ночью, принадлежала Каприс, и, как выяснилось, любовницей обзавелся не Уильям Кемелли, а его сын…
При всем своем изрядном потрясении, вызванном отнюдь неблагородными поступками Джеймса, полного интереса к нему я не потеряла. Мне хотелось разобраться, что обе сестры разглядели в нём такого, чего не увидела я. И почему Каприс скрывала шею за материей палантина?
5
Вечером мы прогуливались на холмах. Угнетающая духота парила над землёй, создавая климат пустынного зноя. Тётя Адалия полностью оправилась от того неприятного ужина и неустанно чирикала бог весть о чём с Агостиной Медичи. Они шли быстрым шагом, словно торопились навстречу заветным мечтам, и ввиду своей хромоты я не поспевала за ними. Бросив затею их догнать, я вертела головой, осматривая усадьбу. На безоблачном небе догуливало заходящее солнце, укутываясь в рубиновые оттенки, а холмистые поляны, ковром сбегающие с горизонта к плантациям, неистово умиляли взор.
Меня ослепляло упоение Италией! На её бесконечных холмах; узких улочках города; в шумной суете Рима, забывшем о войне, так долго терзавшей народ, я чувствовала себя чужестранкой. И в то же время переживала безудержную любовь к Италии, зная, что в моей крови течёт спокойствие итальянских вершин и буйство горных рек; зная, что именно Италия – моя единственная Родина и Родина всех тех, кто мне дорог; зная, что нигде не обрету большего покоя, чем на плантациях, дарующих щедрые плоды возделанных земель. Та любовь жила в самых отдаленных уголках моего хладнокровного сердца, и всякий раз, возвращаясь сюда, она, точно Христово воскресение, поднималась всё выше и дарила мне радость и успокоение.
Опьяненная тем чувством, я не сразу различила позади себя приближабщийся топот скачущей лошади, а, когда ясность вернулась к моим мыслям – я оглянулась и увидела Джеймса Кемелли. Стегая лошадь, он стремительно направлялся ко мне.
– Вы не силитесь скрывать хромоту, – мягко отозвался он, сдерживая лошадь подле меня, – так намного лучше!
Меня злило повышенное внимание к моему несовершенству. Было куда полезней, если бы о нем помнили Агостина и тётя Адалия, тогда бы я не плелась позади и сумела избежать того разговора. Пожалуй, Кемелли был единственным человеком, которого занимали чужие беды только потому, что использовались им, как инструмент в проверке на уязвимость человеческого существа.
– С вашей стороны весьма странно заметить это и не заметить противоречия самому себе, – с улыбкой отпарировала я.
Приторное лицо Джеймса выдавало заинтересованность. Он благородно сдерживал поводья, пока лошадь нетерпеливо перебирала копытами, порываясь вперед.
– Продолжайте.
– Вы утверждали недавно, что не придаете внимания мелочам. А сами только и делаете, что ищите их в окружающем мире.
– Ничего подобного. Я попросту положил начало беседе, которая не имела бы и минуты развития, скажи я о чудесной погоде вместо вашей хромой ноги.
Слегка обескураженная его речью, я замолчала. Джеймс спрыгнул на землю и взял поводья в руки. Мне вспомнились ярые возмущения Терезы в адрес лошади. Это был вороной конь фризской породы, достойный восхищения. Струясь черным гладким шелком, ровная шерстка отливала на солнце блеском, а густая, волнистая грива и такой же густой хвост едва не касались земли. Конь был бесподобен! Если не считать бельма на чёрном глазу.
– Желаете прокатиться?
– Как вы себе это представляете? Порой мне ходить сложно, не то что скакать на лошади.
Джеймс издал тихий смешок.
– Леонардо да Винчи страдал дисплексией, однако, это не помешало ему написать «Джоконду».
Размышляя над словами Джеймса, я посмотрела вперед, где за ближайшим холмом скрылись тётя Адалия и синьора Агостина. Мной обуревало желание воспользоваться предложением Кемелли. С другой стороны, угадывая, как отнесутся обе семьи к моей дружбе с исчадием ада (не говоря уже о Летиции, изнемогающей от любви к Джеймсу), я сочла нужным отказать своим желаниям.
– Пожалуй, вы назовёте меня безвольной, я не Леонардо да Винчи…
Уголки его бескровного рта медленно поползли вверх: отвратительная гримаса насмешки на лице Джеймса Кемелли несопоставима ни с чем!
– Очень зря, – сказал он и, подскочив на лошадь, вскоре затерялся за горизонтом.
Я вспомнила о Каприс. Её демонстративное рвение насолить сестре пугало жестокостью проявления. Она обходилась с Летицией, как сварливая вредная хозяйка, не желающая считаться с правами прислуги. В ней не было тяги к искусству, наукам или поэзии, которая практически всем прививалась с детства. Отсутствовало в ней и стремление к независимости положения. Совсем наоборот – она томилась ожиданием момента, когда какой-нибудь франт попросит её руки; она с головой окунется в светское общество и будет устраивать званные обеды. Стараясь убедить всех вокруг какой достопочтенной и заботливой матерью станет, она с экспансивностью няни кидалась к детям Доротеи. Видя, как те обременены её присутствием, она заливалась с досады пунцовой краской.
– Как же дурно воспитаны эти детёныши! – негодовала Каприс на Лукрецию и Орландо. – Лишены усидчивости и хороших манер. И кому будут нужны такие оболтусы?
Она забывала, что сама росла вздорной, бесшабашной девицей, и мало что изменилось по достижении совершеннолетия. Она всегда старалась привлечь к себе внимание окружения. Ревностное самолюбие жалило ее снова и снова, когда внимания удостаивали Летицию, которая отнюдь – была целомудренной и застенчивой девушкой. Несвойственные Летиции вспышки гнева, свидетелем которых я была недавно, отражали степень её небывалых чувств к Джеймсу Кемелли. Возможно, это была первая невинная любовь, ради которой в юности частенько подумывают расстаться с жизнью, и лишь спустя годы подобные мысли выглядят смехотворными и детскими. Я полагала, что вскоре Летицию отпустят чары духовной любви…
Меня мучил вопрос, почему Джеймс не ответил Летиции взаимностью или на худой конец не подарил ей один из своих холодных ответов в коротком письме? Почему написал Каприс, если со стороны наблюдателя Летиция располагала большими достоинствами? Мужские начала также темны для женских, как яркий солнечный свет для незрячего путника. Их зарево ощутимо, и в то же время непредсказуемо; их можно принять, но не постичь силой женского представления.
Ещё большей интригой, чем от логичности действий Джеймса, веяло от поведения Каприс за столом у Медичи. Она была сама не своя, закрывая на тысячу замков некую тайну, известную только ей, и тот страх, что о тайне прознают все на свете, терзал её существо. Она не снимала палантин ни дома, ни на улице, когда выходила на прогулки. Мои домыслы становились один кошмарнее другого.
Правда оказалась страшнее всех моих предположений…
6
Вплоть до позднего вечера семья Гвидиче собирала виноград на плантации. Закончив полевые работы, я расположилась с Терезой на веранде. Теплый день подходил к завершению, и отсутствие духоты приносило наслаждение.
– Давно ты служишь дому Кемелли? – спросила я Терезу, которая отбирала виноград на выделку вина.
– Давно, caro. Я помню Джеймса ещё мальчишкой, – Тереза мечтательно обнажила зубы. – Он был озорным и непослушным. Тянул у отца табак из табакерки, всё ломал и топтал палисадники. Я всегда говорила, Уильям был слишком строг с ним. Поэтому Джеймс и стал таким, каким его свет видит. Ты уже слышала, как Джеймс играет на скрипке?
– Нет, а он играет?
Тереза издала удивленный возглас восхищения.
– О! Ничего подобного мои уши никогда не слышали! Он делает это утром, на рассвете, когда синьор Уильям уезжает по делам.
– Почему утром? Отец против музыки?
– Разумеется. Уильям – уважаемый адвокат в Лондоне, считает, что заниматься такой чепухой ему не по статусу. К тому же он готовится передать дела сыну, потому Джеймс работает в его прославленной конторе адвокатом. Мне кажется, там у моего бедного мальчика ничего не клеится.
– С чего ты взяла?
– Уильям недоволен им, – Тереза поджала наливные губы. – Бедный мальчишка! Ах, как бесподобно он владеет скрипкой!
Изумленная до крайности, я задумалась. По натуре своей Джеймс Кемелли был бесчувственным и грубым, тогда как в музыке без патетичности чувств не обойтись. Мне было трудно представить его в роли сентиментальности. Зато он располагал всеми необходимыми талантами для практики адвоката, учитывая, как авторитарно способен опровергать и запутать человека даже в его собственном мнении.
Услышав об Уильяме Кемелли, особенно о характерной для него строгости, мне не терпелось посмотреть на него своими глазами. Вскоре та встреча состоялась, причём в нелепой, порочащей обстановке. Но сперва хочу вернуться несколькими часами позже после разговора с Терезой.
Гуляя перед сном на холме в одиночку, я увидела Летицию и вздумала её нагнать. Сделать это оказалось не просто. Я окликала, а Летиция шла и шла, всё быстрее, спотыкаясь на ровной тропинке и едва не падая.
– Летиция, подожди!
Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы сократить расстояние между нами. Когда всё же поравнялась с ней – облик Летиции меня поразил. Её бледное, без кровинки лицо рисовало непобедимый испуг, а в глазах пробегала та же тень несокрушимого страха.
– Что с тобой? Ты больна?
– Белла, это ужасно! Я не знаю, как теперь жить… Я безжалостно растоптана… Мне хочется умереть!
– Я не понимаю, что случилось?
Летицию качнуло в сторону. Я схватила ее за плечо, уберегая от падения.
– Пойдём, я отведу тебя домой.
– Нет! – вскричала Летиция, – только не домой! Не надо домой! Давай останемся здесь!
Растерянность моя набирала обороты.
– Хорошо, давай присядем. Ты едва на ногах держишься!
Я помогла ей сесть на траву, расправляя подол её юбки, и села рядом. Ладони Летиции были мертвецки холодными.
– Не знаю, как можно рассказать о таком… Но Каприс рассказала, причём во всех унизительных подробностях!
Предположение, что речь пойдет о Джеймсе, оказалось пророческим. Стараясь держаться покойной, я спросила.
– Может, тогда и не стоит рассказывать? Забудь об этом и всё.
– Нет, я не могу держать всё в себе! – Летиция помолчала минуту-другую; пока я глазами бегала по её мраморному умалишенному лицу, она смотрела вниз. – Он истязал её той ночью… Она прикрывает шею платком, чтобы родители не догадались!
Я обомлела и некоторое время сидела неподвижно, глядя перед собой. Зарожденные мысли имели слишком расплывчатые догадки случившегося. Возжелав развеять туман кошмарных картин, я совладала с собой.
– Что значит истязал? Он её бил?
– Не совсем так… – голос Летиции задрожал, а в глазах появилось отчаяние. – Он делал это во время…
Летиция не сумела договорить и, закрыв багровое от стыда лицо трясущимися руками, горько заплакала.
– Он настоящее чудовище! – во весь голос рыдала она. – Чудовище…
– Ну а почему ты плачешь? – нелепый вопрос вырвался у меня из груди немедля, нисколько не конфузя её.
– Потому что я всё равно его люблю…
7
Откровенный рассказ Летиции привел меня в исступление. Я была крайне возмущена и, не смотря на юность лет и воспитание, не старалась скрывать своих чувств. Понимая, что репутации Каприс и Летиции безвозвратно запятнаны, я видела своим долгом восстановить справедливость, будто бы разоблачение Джеймса помогло бы отмыть их честь. Потеряв контроль, я не заботилась, что подумает обо мне семья Гвидиче, увидев, как стучу в дом Кемелли; не помышляла, что скажет Летиция, прознав о визите к её возлюбленному; а уж тем более не думала, как расценит вторжение сам Джеймс. Стучала я с такой силой, что, пожалуй, нехотя задумаешься о катастрофе, постигнувшей мир.
Дверь отворилась, но не рукой Терезы, для которой была уготована речь: «Где этот мерзавец? Твой милый мальчик, его растерзать мало!»; а рукой самого Джеймса Кемелли. Он безмятежно улыбался.
– Я рад вам. Входите!
– Не надо со мной любезничать!
Кемелли вкрадчиво оглядел меня. Непоколебимая улыбка не исчезла с его бледно-розовых губ.
– Что ж, так даже лучше. Что вам угодно?
– Как вы могли так поступить с Каприс?! – моя интонация звучала утвердительно. – Вы чудовище! К сожалению, я не сумею поколотить вас, но это сможет сделать Адриано Медичи, который всё узнает!
Джеймс расхохотался искренним, неподражаемым смехом, точно я выдала великолепную шутку. Его хладнокровие уязвляло мою добродетель. Казалось, он был готов к любой нападке.
– Вы ещё слишком юны, чтобы лезть в это дело.
– Посмотрим, хватит ли вам смелости дерзить, когда всем станет известно, что Джеймс Кемелли сделал с бедной девушкой!
– Как видите, мне-то всё равно, – сухо говорил он, – ибо до сих пор мы беседуем на улице, а не в доме, где нет посторонних ушей. А вот бедным рабам чужого мнения придется отдуваться перед светом благодаря вам.
Он был прав. Разбирательство о непристойном случае на улице могло скомпрометировать нечаянных свидетелей на сплетни. Толкнув его рукой, я зашла в дом.
В отличии от внутреннего убранства итальянских домиков здесь царила роскошь английских стилей. Я затрудняюсь до конца определить, что это был за стиль. Должно быть колониальный. Спектр цветов был сдержанным, приглушенным, несколько мрачным, потому в огромных апартаментах присутствовал полумрак, который не имел отношения к вечернему времени суток. Посредине гостиной находился круглый стол из тёмного дерева, а вокруг него расставлены кресла, обитые дорогой тканью, с вычурными ножками. Стол прикрывала кружевная скатерть, где поблескивал чайный сервиз, графин с вином и чистые бокалы, а в вазе благоухали полевые цветы. Начиная лестницей, ведущей на второй этаж, заканчивая входной дверью, на полу возлежал ярко-пурпурный индийский ковёр. Стену украшали художественные работы Рембрандта и Рафаэля Санти, а также массивные часы в духе английских традиций – деликатный вкус хозяина дома явно не знавал конкуренции.
Я повернулась лицом к Джеймсу, стараясь вложить в силу взгляда как можно больше устрашающей авторитетности.
– Это омерзительно! То, что вы позволили себе, не должно оставаться безнаказанным!
Продолжая ухмыляться, Джеймс направился к столику, налил красного вина и лениво устроился в кресле.
– Что так смутило вас?
– Вы истязали Каприс!
– Нет.
– Вы её били!
– Нет.
Я начинала терять терпение.
– Она обо всем рассказала. Как по-вашему, кому больше веры: вам или ей?
Джеймс отпил из бокала и, с равнодушной грациозностью перебирая его в руке, следил, как вино, точно багровая кровь, медленной волной скользит по хрустальным стенкам. Он отчужденно прищурился, словно в голову проникло осознание того, чем тяготился обремененный разум, и до боли безразличным тоном сказал.
– Смотря, кто возьмется верить.
– Опять вы пытаетесь меня запутать! На сей раз не выйдет!
Мои жалкие угрозы никак не трогали его – Кемелли оставался безучастным и непринужденным. Он снова приложился к бокалу, затем, ловко вскочив с кресла, вернул его на стол и достал трубку. Набив её до отказа, он закурил и размеренным шагом направился к стене, где висели часы.
– Время… – говоря монотонно, он остановился возле них, слегка запрокинув голову. – Оно коварно, согласитесь? Репутация его сомнительна. Время обвиняют в многочисленных убийствах, но те обвинители забывают, что благодаря определенному времени происходит и рождение, без которого не было бы убийства, – он затянулся трубкой и продолжил на выдохе. – Вы правда считаете, что обсуждать с вами столь взрослые откровения будет правильным?
Я покраснела. Летя сломя голову, чтобы восстановить баланс между добром и злом, я была абсолютно не готова вдаваться в подробности произошедшего. Однако, контекст о времени меня насторожил. Что он хотел этим сказать?
– Если подобные мерзости вы опишите слогом искусного прозаика, мне нечего тут делать, – брезгливо сказала я. – Так что ограничьтесь двумя словами.
Он воздержался пару секунд, по-прежнему стоя ко мне спиной.
– Я делал лишь то, что позволяла она.
– Но на ней следы истязаний!
– Это называется несколько иначе…
Он резко обернулся, лукаво глядя мне в глаза. Беседа была деликатной. Кемелли рассуждал беспристрастно, без амбиций, смущений, а я чувствовала себя крайне неловко и пожалела, что предалась воле исступления.
– Вы полюбили Каприс? – наконец выдавила я, пытаясь сгладить уничтожающе стыдливую атмосферу.
– Нет.
– Тогда зачем вы согласились провести с ней ночь?
– Инстинкты. Я вам противен?
– Более чем вы сумели бы себе представить.
Джеймс хмыкнул, принимаясь мерить комнату шагами исследователя.
– В таком случае, вы презираете не меня, а природу, которая создала меня таким.
– Вы животное! – воскликнула я.
– Отчасти так, – он снова приложил трубку к губам.
– Вы не думаете о чувствах других! Неужели вам никогда не бывает гадко от себя самого?
– Нет. Я принимаю всё явным, а не в призрачной дымке ложного восприятия. Право, я не знаю о каких чувствах идёт речь! Каприс не любит меня. Она хотела получить удовольствие – она его получила. Я в ответе за то, что сделал, но не за то, каким образом вынесла в свет эту ночь Каприс.
Последние слова Джеймса заставили меня задуматься. Каприс действительно была заинтересована в том, чтобы Летиция считала Джеймса чудовищем. Потому приложила колоссальные усилия для убеждения сестры, не забывая обогатить события искаженным смыслом. Пожалуй, коварству завистливой женщины в природе нет равных…
8
На следующий день чуть свет в мою комнату постучали. Глубокие раздумья и сон, где Летиция падает в омут, не дали полноценно отдохнуть. Разбитой я встала с кровати и открыла дверь.
– Белла, мне срочно нужна твоя помощь! – выдала Летиция, залетая в комнату. Её лицо рдело, а глаза переливались отчаянием. Она говорила так быстро, что была непонятна суть её просьбы. – Нужно скорее всё сделать, пока он не вернулся! Я видела, Джеймс дома, в кабинете отца. Кабинет на первом этаже, первая дверь налево. Запомнила?
Она протянула неподписанный конверт и повернула меня к шкафу, подразумевая, что мне надлежало одеться. Я вспыхнула, поворачиваясь к ней лицом.
– Объясни по порядку, чего ты от меня хочешь?
– Ради всего святого, сделай для меня эту малость! – Летиция крепко вцепилась в мои руки. – Я больше никогда тебя ни о чем не попрошу! Клянусь! Тереза сказала, Уильям собирается женить Джеймса на Каприс. Это мой последний шанс! Надо чтобы Джеймс прочел моё письмо до прихода отца. Тогда он не станет жениться на ней! Белла, не бросай меня в беде! Умоляю!
Из глаз Летиции брызнули слезы, заставившие меня наскоро совершить туалет и быстро (насколько позволяла нога) прийти к дому Кемелли. Я громко постучала несколько раз, но мне никто не отворил. И тогда я набралась дерзости тихонько войти.
В доме летала тишина; не было посторонних звуков и шагов, и стоило полагать, в доме действительно никого не было. Слева находилась дверь, где по мнению Летиции располагался кабинет старшего Кемелли и там должен находиться Джеймс. Не нарушая этикета, я постучала и спокойно вошла. Джеймса в комнате не оказалось. Ближе к окну располагались письменный стол с выдвижными ящиками и прилежно сложенной макулатурой и два широких кресла, под ногами персидский ковёр, сбоку закрытый шкаф – пышная обстановка этого дома не обошла стороной и эту комнату, почитающую строгость за успех решаемых здесь моментов.
Я собиралась уходить, как вдруг со стороны двери послышались чьи-то расторопные шаги. Они приближались очень быстро, и времени на раздумья оставались секунды. Я предположила, что в кабинет направляется Джеймс, что было мне на руку; но моё присутствие в чужом доме при таких обстоятельствах выглядело крайне нелепо и подозрительно. Меня охватило стыдливое волнение. Что если в кабинет поспешает сам Уильям Кемелли собственной персоной? Страшно представить, каким образом придется объясниться, почему нахожусь в кабинете без положенного разрешения хозяина. Моё сердце отчаянно металось в груди.
– Чудесная выдалась прогулка, – сказал мужской, сипловатый голос.
Не найдя лучшего убежища, я открыла шкаф (в одной стороне лежали книги, в другой – висели сюртуки) спряталась в одежде и стала наблюдать сквозь щель между закрытыми дверцами. Дверь в кабинет распахнулась; показалась статная, мужественная фигура мужчины лет пятидесяти, полностью седого, с гладкими приглаженными волосами. Черты его маленького лица были необычайно благородны. На пальцах ухоженных рук отливали блеском драгоценные перстни, в кармане – часы на цепочке, в глазу – монокль; одежда опрятна и новомодна. Это и есть Уильям Кемелли, подумалось мне. Вторым был Адриано Медичи.
Уильям обошёл стол и сел в кресло, жестом показывая на свободное место напротив.
– Благодарю, – сказал Адриано. – Уильям, так о чем ты хотел поговорить?
Синьор Кемелли достал сигареты из стола и предложил Медичи. Тот угостился одной со словами благодарности; вскоре оба пускали сизый дым, копаясь в собственных мыслях. У меня дрожали ноги. Шкаф был сделан из добротного дерева, и щелей практически не было, кроме той, что оставила. Воздуха становилось всё меньше; да и тот представлял собой смрад, в котором смешались духи, запахи старой одежды, пыли, и от него кружилась голова. Моей задачей было не впадать в отчаяние.
– Дорогой друг, – чувственно сказал Уильям, стряхивая пепел. – Ты знаешь, семья Кемелли владеет плантацией десятки лет, и мы прекрасно знаем о семьях друг друга…
Адриано Медичи понимающе кивал, и Кемелли продолжал вкрадчивым, деликатным тоном.
– Да, мы уроженцы разных стран. Но на пороге современности нет смысла отделять одних от других. Насколько мне известно, ты собираешься выдать дочерей замуж, а я планирую положить конец холостяцкой жизни сына. Почему бы нам не избавиться от проблем обоюдно? Давай обручим моего сына Джеймса и твою дочь Летицию.
Поочередно потирая пальцем размашистые, черные усы, Адриано старался выглядеть деловитым, но блеск хитрых маленьких глаз выдавал его. Он слегка помедлил, отяжеляя воздух интригой своего решения. Кемелли ждал с присущим достоинством английских джентльменов.
– Caro! Клянусь, я польщен твоим предложением. Оно требует некоторого времени на размышление. Все-таки обе мои дочери – достойные девушки, и многие в Италии почтут за честь сродниться с нами.
Было понятно, что Медичи набивал себе цену. По всей видимости Уильям сразу раскусил честолюбивые помыслы гостя и сдержанно улыбнулся.
– Согласен. Не зря же и я не устоял от такой выгодной сделки.
Они обменялись улыбками, как два предусмотрительных торговца, боящихся упустить удачу, чувствуя, как та ускользает у них из рук. Адриано ещё немного подумал.
– Видишь ли… – неторопливо изрёк он. – Твоё предложение смутило меня не своей внезапностью, а сутью.
– Без пояснений наш диалог обречён на провал, дорогой друг, – ответил Уильям. – Что мешает тебе согласиться на их брак?
– Пойми меня правильно, Уилл. Мои девочки имеют небольшую разницу в возрасте, тем не менее, сперва я бы хотел выдать замуж Каприс, а не Летицию.
Уильям галантно склонил голову и взглянул на собеседника смеющимися глазами.
– Понимаю, Каприс – прекрасная партия. Она красивая и бойкая. Но мне бы хотелось, чтобы жена Джеймса обладала такими качествами, как смирение и мудрость. Не сочти за оскорбление, я ни в коем случае не хочу задеть твои отцовские чувства. Однако, смею заверить, что Джеймс и Летиция больше подходят друг другу.
Адриано помолчал, делая глубокую затяжку сигаретой. Я предположила, что ответ у него был готов тут же, и лишь для большей важности он тянул время. Уильям глядел на него тем же величественным взором, продолжая спокойно курить.
– Что ж, по рукам: Летиция так Летиция. В конце концов я устрою судьбу обеих дочерей, и не важно сейчас или несколько позже.
– Абсолютная правда.
То, как Уильям держался в переговорах, сулило ему достижение немалых побед. Для мужчины он имел довольно мягкий, красочный голос, что могло сослужить ему службу на сцене; его жесты – эталон учтивости, его мимика благородна и своевременна; галантность сочеталась в нём с королевским достоинством. Удивительно, что Джеймс не унаследовал ни одну из богатства черт любезного характера синьора Кемелли.
Они докурили сигареты в гробовом молчании. Определённо, друзьями их было не назвать. Вопреки тому выражали взаимные почёт и радушие.
– Мы ждём вас завтра на обед, – вставая, сказал Медичи, – обсудим детали обручения.
Они пожали руки, и Адриано удалился.
Пораженная открытием, что женой Джеймса станет не Каприс, а Летиция, я снова убедилась, что полагаться на слухи глупо, даже если первоисточником служила уважаемая женщина Тереза. У меня спирало дух от мысли, что Уильям откроет шкаф и обнаружит меня там. Я металась между позором и паническим отчаянием рассекретить себя. Пока мною совершался выбор, синьор Уильям встал с места и повернулся лицом к окну. Сложив руки за спиной, он размышлял. Его задумчивость не улетучилась даже, когда в кабинет энергично постучали.
– Войдите.
Дверь отворилась, и показался Джеймс.
– Ты хотел меня видеть? – спросил он отца безучастным голосом.
Не оборачиваясь, Уильям жестом указал на кресло. Джеймс повиновался.
– Ты уже не мальчик, Джеймс. Скоро тебе исполнится двадцать девять, а ты до сих пор не определился в жизни. Я не смогу жить вечно, не смогу контролировать твои действия, которые без надлежащего контроля покинут чертоги здравого смысла, что в свою очередь лишит тебя счастья. Ты бездарно ведешь контору. Увы, наше дело под твоим руководством выроет себе могилу на загубленных возможностях. Я нашёл выход. Я надеюсь, семейное положение пойдёт тебе на пользу.
Уильям повернулся к сыну, вероятно, не понимая его реакции. Казалось бы, тот момент, когда решается будущее, имеет огромное значение для каждого человека. Джеймс все также оставался безучастным, словно собственная судьба виделась ему игрой, где он повинен предопределению. Он слушал внимательно, не выказывая ни взором, ни мимикой того изумленного пренебрежения, на которое рассчитывал Уильям. Лицо Джеймса отдавало тайной. Вспоминая тот день и развитие последующих событий стало многое ясно о Джеймсе Кемелли. Только не тогда. Сидя в шкафу, я не знала, что прячется за стеной его серьезности.
Уильям плеснул в стакан воды и, сделав глоток, утер капли пота, выступившие на висках.
– Я назначил твоё обручение с дочерью Медичи, –Джеймс по-прежнему молчал, продолжая смотреть равнодушно. Уильям глядел на него свысока. – Даже не спросишь на какой из дочерей?
– Обручение назначено, – спокойно молвил Джеймс. – Есть ли разница?
Искушенный провокацией Уильям окончательно рассердился.
– Прекрати извиваться, словно уж на сковородке, делая из меня тирана! – гневно вскричал он. – Пойми ты наконец, я хочу для тебя лучшей доли! Одиночество – незавидная участь. При таком отношении к судьбе один ты погибнешь. Что дано тебе жизнью кроме абстрактности мышления, которая только мешает жить как все нормальные люди?
– Кто определяет, что нормально, а что – нет? И на основании чего выносят вердикт в пользу того или иного?
– Хватит меня дурачить своими философскими размышлениями! Кем ты себя возомнил?! Мудрецом? Миссией?
– Нет. Я ни тот и ни другой. Я всё, и я ничто. Я преследую иные цели.
– Интересно какие? – Уильям навис телом над столом. – Только не говори, что музыка достойна почестей! Музыка – ограниченный род занятий. Принесет ли она истинное удовольствие, когда по воле злого рока, к примеру, ты лишишься слуха или зрения? Женщина – самый проверенный способ согреться ночами; и телом, и душой. Кому ты будешь нужен, когда превратишься в беспомощное, жалкое насекомое? Может быть, скрипка даст тебе пищу, подогреет суп или приласкает в горькие часы? Ах, прекрати эту шекспирщину!
Джеймс вызывающе посмотрел в глаза отцу.
– Если говорить о музыке, которая снаружи – ты прав, она действительно несовершенна и хороша при определённых обстоятельствах. Но музыка, рожденная и оживающая внутри, не нуждается в условностях. Она идеальна.
– Джеймс, твои сужденья легкомысленны, поверхностны! Нельзя прожить увлеченьями – нужно зарабатывать себе на хлеб. Я сколотил немалое состояние, но ты не получишь ни крупицы из того, если не бросишь валять дурака!
Джеймс не сводил ясных, проникновенных глаз с отца. Во взгляде Уильяма говорили твердыня и злость. Джеймс поспешно встал:
– Доброго дня, – мягко сказал он и сразу удалился.
Я припомнила слова Джеймса, сказанные им при первой встрече наедине: «Добро и зло – понятия относительные», и мне показалось, в ту самую минуту заявленного добра он отцу не желал.
Когда шаги сына стали отдаляться, Уильям тяжело вздохнул и тоже покинул кабинет.
9
Уже спустя многие годы меня спрашивали: каким вам виделся великий гений Джеймс Кемелли? Я затруднялась дать конкретный ответ. Наши беседы были мимолетны, а выводы запутанны. Описать в двух словах противоречивую натуру, в которой по юности блуждал сам гений, было невозможно. На первый взгляд Джеймс представлял собой обычную геометрическую фигуру, мало отличную от других фигур, живущих по законам науки и повинную общим правилам. На самом деле это было заблуждение. Стоило лишь углубиться в биографию, знакомую единицам, и становилось понятным, что та повинность Джеймса была наигранной видимостью. Ввиду некоторых сил, упомянутых им в одном из наших разговоров и понятую мной значительно позже, видимость сохранялась многие годы. Но никакая сила невластна спасти урожай от налетевшей саранчи. Джеймс служил урожаем для несравненного дара, который будто саранча зародился в теле младенца и остался пожирать его до конца бренных дней.
Избирательность памяти – вещь уникальная. Признаться, начинаю забывать многие встречи, суть разговоров; иногда не помню, куда положила свои очки для чтения или записную книжку; зато воспоминания, связанные с Джеймсом, не боятся палача, именуемого временем. Они будут существовать в памяти, пока дышащее тело не покинет жизнь.
Я помню, как сейчас, тот день, когда отсиживалась в шкафу кабинета Кемелли. Ноги дрожали, тело бил озноб от стыда возможной развязки. К счастью, мне удалось остаться незамеченной. Я проскочила в гостиную к парадной двери как раз, когда Джеймс спускался по лестнице.
– Вы снова пришли читать мне нотации? – спросил он сухо. – Спешу огорчить: сегодня я в ужасном расположении духа.
То было правдой: Джеймс был необычайно хмур; редкие бесформенные брови сдвинулись, а в глазах жила пустота.
– Нет, я пришла отдать вам это.
Я протянула ему письмо Летиции. Джеймс устало посмотрел на него, вялым движением взял послание и тут же порвал его пополам, протягивая назад его кусочки. Я остолбенела, глядя на изничтоженное письмо, на которое Летиция возлагала святую веру. Джеймс отошёл к патефону у дальней стены, где располагался секретер с ящиками, и поставил музыкальную пластину. По комнате разнеслась торжественная мелодия «Времена года. Осень[8 - Произведение для скрипичного концерта венецианского композитора Антонио Вивальди, написанное в 1723 году.]». Точно прикованная, я стояла на месте, стараясь вернуть себе дар речи и способность формулировать вопросы. Джеймс не отрывал глаз от крутящейся пластинки.
– Вам не интересно, что там написано!? – удивленно спросила я.
– Мне всё равно.
– Даже не спросите от кого оно?
– Я не жду писем. Всё равно.
– А я скажу от кого. Может, тогда вы задумаете все-таки его прочесть.
Не дожидаясь моего ответа, Джеймс открыл ящик секретера и достал стопку писем, связанную шпагатом.
– Вот, прочтите… если вам любопытно, – Джеймс небрежно швырнул её на круглый стол. – Уверен, автор у них один и тот же.
Я взглянула на верхнее письмо. На белом запечатанном конверте посередине красивым, прилежным почерком выведено: «Джеймсу Кемелли». Казалось, каждая буква обычного имени несла в себе ту безвинную прелесть любви, что переполняла душу отправителя. Когда Каприс говорила о письмах Летиции к Джеймсу, я полагала, она отправила одно, два письма – не более. На деле их было порядка шестидесяти! Я подняла глаза на Джеймса. Он выглядел отчужденным, изредка касаясь указательным пальцем играющей пластины. В его глазах не было ясности и фанатизма к загадочным фразочкам, вносящим путаницы в сознание тех, кто состоял с ним в диалоге. Душа словно покинула его тело, и слова «мой бедный мальчик» из уст Терезы подошли бы как нельзя кстати. Мне не терпелось разобраться в его личности так, как это делает врач, надеясь сыскать недуг у тяжелобольного. Я смотрела то на него, то на стопку нераспечатанных писем.
– Вы не вскрыли ни одного конверта?
– Одно вскрыл и пожалел об этом.
Наш разговор прервал стук в дверь. С каждой секундой он становился громче. Лицо Джеймса возвращало себе ровный тон повседневности; он даже не сдвинулся с места. А неизвестный гость продолжал настойчиво тарабанить.
– Разве не слышите, в дверь стучат? – не выдержала я.
– Пускай.
Он говорил сухо, равнодушно, точно рот открывался без его воли на то; только потому, что из мозга поступали нервные импульсы. Я продолжала взывать к его совести.
– Открывать в вашем доме я не могу. Так не принято!
– Так не открывайте же.
Стук не прекращался, и спустя несколько мгновений, не выдержав, я повернулась к двери и открыла её. Не растрачиваясь на любезности, в комнату влетела Каприс, возбуждённая и румяная от досады, что ей не оказали должного внимания. Приравнивая меня к мебели роскошной гостиной, она даже не взглянула в мою сторону и сразу метнулась к Джеймсу. Её яростное лицо обдавало ненавистью.
– Тебе сложно открыть? – взревела она.
Джеймс не потрудился поднять глаз, отвечая монотонной холодностью.
– Убирайся к дьяволу.
– Это после того что с нами было?!
Для большей убедительности Каприс громко кричала, размахивая руками. Право, женские истерики так банальны!
– После того, как я жестоко истязал тебя?
Я поняла, что Джеймс хотел отмыться от грязи сплетен Каприс, вылитой на него.
– Нам нужно поговорить, Джеймс, – Каприс замялась, вероятно вспомнив, что я нахожусь за спиной. – Белла, я попрошу тебя выйти.
– Она останется, – тем же пренебрежением ответил Джеймс. – Хочешь – говори, нет – убирайся.
Каприс была поражена, и я – не менее. Джеймс не заботился о манерах. Застывшая гримаса на его ехидном лице была многозначна, и рассудить её не всякий мог. Думается, Джеймс был рад случаю вдоволь потешиться; и в то же время предпочёл бы никогда в жизни не открывать дверь ни для одной из дочерей Медичи. Они забавляли его и навивали скуку.
Каприс ломала руки. Её всклочному характеру смущение было неприсуще, но тогда ей было неловко вести в открытую довольно личную беседу.
– Джеймс, ты так жесток ко мне… Нам было так хорошо вместе. Вспомни, той ночью ты говорил, что у меня есть всё, чтобы увлечь мужчину и подчинить его себе. Ты ошибся… я невольна перед тобой и твоим равнодушием. Прошу, сжалься! Неужели ты не видишь, как я беспомощно влюблена в тебя?
Джеймс поразмыслил с минуту.
– Вижу… что не влюблена. Твои чувства лишены искренности и напитаны ядом. Они иного характера, нежели о котором говоришь ты.
– Чушь! Я люблю тебя!
– Нет. В тебе говорит дух лидерства. Ты хочешь затмить сестру и доказать всем, что ты лучше её. А теперь уходи.
– Ты женишься на ней? Она тебе больше по нраву? Как ты можешь так поступать со мной после того, как я отдала тебе свои честь и достоинство? Подарила тебе всё, что у меня было! Играла в твои грязные игры! А теперь ты выбросил меня, как использованную шляпу, и такой чистенький, с незапачканной репутацией пойдешь под венец с моей сестрой, сделав вид, что ничего не произошло?
Джеймс не обмолвился, хотя Каприс продолжала сыпать бессмысленными вопросами, кидаясь то к нему, то по комнате, как дикая свирепая кошка. Она была крайне уязвлена. Её лицо исказилось злобой и досадой, и, наблюдая за ней, я никак не могла взять в толк, почему Каприс заслуживала многочисленные симпатии мужчин. Должно быть, многие различали в ней пыл и красоту. Но тот пыл обладал разрушающим действием, а красота была корыстной приманкой. Как только появлялся поклонник, Каприс впускала в него жало коварных помыслов, обесточивала и забирала силу. В природе так расчётливо поступает самка богомола, уничтожая того, кто некогда был ей близок плотью. Помимо корыстолюбия в Каприс присутствовала ещё одна утомительная особенность – её было слишком «много» во всем: в разговоре, где болтала громче всех; в действиях и взглядах, которые расточала с пристальной дотошностью охотника. Дома будто бы всё вертелось только вокруг неё, и порой казалось, старшие Медичи забывали, что у них есть ещё и младшая дочь Летиция. То, что безвозмездно прощалось Каприс – другой не сходило с рук. Летиция была довольно смиренной, чтобы оказывать неуважение к старшим, что объяснялось проживанием на родине. Каприс в детстве перенесла тяжёлый грипп и долго лечилась в Германии. Это оказало существенное влияние на формирование пренебрежительного поведения. Порой она забывалась, что перед ней не обычная немка-горничная, а почитаемые родители, ровно как в те минуты позабылась, что непристойно столь вызывающе вести себя в доме постороннего мужчины.
Джеймс продолжил сохранять молчаливую позу. Его равнодушие удивляло. В той картине жестокого романтизма различалась нерушимая власть мужского самообладания, сковывающая льдом безразличия, а также ничтожность человеческого духа. Мы – рабы мыслей, иллюзии чувств. И беспомощность Каприс служила наглядным примером слабости. До конца я не могла судить о водах, наполняющих её внутренний мир. Откровению со мной она поддавалась только, когда дело касалось сводной сестры. Кроме того, много ли я смыслила в любви в те годы? Был ли тот случай проявлением любви или нелегкой погоней за первенство – оба варианта выглядели убого.
В конце концов Каприс сдалась.
– Женившись на ней, ты разобьешь моё сердце… – пролепетала она.
– Мне всё равно на тебя, твои чувства и твою мольбу. Проваливай к дьяволу.
Не умея достойно терпеть поражение, Каприс огляделась по сторонам и, увидев стопку писем на столе, схватила связку и швырнула на пол – это последнее, чем она могла смягчить рану ужаленного самолюбия. Джеймс повернул голову в ту минуту, когда Каприс, оттолкнув меня в сторону, вылетела из дома Кемелли, захлопнув дверь.
– Что вы об этом скажите? – спросил Джеймс, растягивая на губах таинственную улыбку.
– Это отвратительно! – воскликнула я. – Вы были непростительно грубы с Каприс.
– Я лишь вёл себя так, как позволяла она. Это дешевый спектакль, не более. Она слишком вжилась в одну роль, чтобы другие играть талантливее.
Те слова Джеймса открыли мне тогда глаза на причину его безжалостности к Каприс. Я часто задумывалась над ними и, наконец, поняла, что главный кирпичик, благодаря которому строится та или иная связь между двумя людьми – это присутствие в них чувства самодостоинства, уважения самого себя, границ дозволенного. Согласно этому на подсознательном уровне оценивается самомнение другого человека и выбирается соответствующая модель поведения по отношению к нему. Есть в этом некая зеркальность: что отдаешь в мир, то и получаешь.
Джеймс долго наблюдал за Каприс. Сама того не замечая, она потеряла к себе уважение тем, что позволяла издеваться над собой – именно так Джеймс и поступал, напоминая картину, где самый кровожадный хищник прежде, чем кинуться на жертву, сначала изучает её, ищет слабые стороны, сопоставляет силу своей силе. Ни с одним львом не станет сражаться гиена; трусливо поджав хвост, она умчит в прерии и станет выжидать. И, только когда лев ослабнет, она снова кинется в борьбу за лидерство…
– Почему вы избегаете Летицию? – вдруг спросила я.
– Прочтите одно из писем, – предложил Джеймс. – Неважно какое. Уверен, они похожи как две капли воды. Возможно, тогда ваш вопрос станет бесполезным.
Мне вспомнился дядюшка Джузеппе, который с детства прививал мне элементарные нормы; он говорил: «Нельзя читать чужих писем. Письмо обладает особыми правами, и вникать в тайный смысл послания равносильно зайти в комнату чужого дома, где хозяин дома наг.» Джеймс был настойчив. Неясно, зачем ему понадобилось, чтоб я познала суть его интриг, все-таки я забрала последнее порванное письмо.
Выйдя из дома Кемелли, я застала Каприс на веранде. Она ходила взад-вперёд, покусывая пальцы. Завидев меня, она подскочила ближе и крепко обняла.
– Прости! Не знаю, что на меня нашло… Словно бес вселился! Я не хотела тебя толкать. Ты же понимаешь, я не могу обидеть…
Каприс замялась, и я не без иронии добавила.
– Калеку?
Она отстранилась, а в её круглых знойных глазах витало сострадание, от которого хотелось убежать.
– Говори. Не стесняйся! – сказала я, желая поставить её в затруднительное положение. А получилось совсем наоборот.
– Белла, мне правда жаль. Мы скоро выйдем замуж: я, Летиция… Тебе, наверно, обидно и больно смотреть на счастье других. Ведь вряд ли кто-то мечтает жениться на ущербной.
Слегка оторопевшая, я старалась проникнуть в беспардонные глаза Каприс. Она смотрела придирчиво, наглым взглядом бесчестия. Она была неглупа и вполне соображала, какую рану могла нанести подобными словами невольному игроку того антракта; она хотела отомстить мне за момент позора, свидетелем которого я стала.
– Ты знала, что женой Джеймса станет Летиция, а не ты, – неожиданно сказала я.
Каприс растерялась, пряча глаза. Я продолжала натиск.
– Ты соврала Летиции, что Джеймс женится на тебе, чтобы нанести ей удар. Вдобавок втянула в эту бесчестную игру доброе имя Терезы.
Каприс метнула на меня гневный взгляд.
– Не могла я сидеть, сложа руки. Джеймс неровня ей! Летиция – ангел, а Джеймс – сатана. Он обязательно её погубит!
– Ложь! Ты и не думала о сестре. Тебе хотелось досадить ей, и ты выбрала самый жестокий метод. Это гнусно и подло! Прежде, чем жалеть меня, пожалей лучше себя. Физическое уродство ничто по сравнению с моральным…
10
Вечером, когда домочадцы Гвидиче разбрелись по комнатам, я спустилась вниз в столовую, чтобы прочесть письмо Летиции. Там горел свет керосиновой лампы, за столом сидела жена Антонио – Доротея. Гладко приглаженные волосы её были зачесаны назад в солидную прическу, а плечи прикрывал большой кружевной платок. Она немного сутулилась и, вероятно, пребывала в трепетных раздумьях, поскольку шум моих шагов не заставил её обернуться. Я села рядом; Доротея смахнула рукой слезу, бегущую по щеке, и поспешно выпрямилась.
– Дороти, что случилось? – поинтересовалась я.
– Ничего особенного. Услышала музыку со двора и слегка задумалась. Grazie.
Она продемонстрировала улыбку: такую мягкую, безмятежную и счастливую. Я не поверила ей. Её лукавство только оживило мой интерес. Я никогда не замечала в ней неистовой грусти, а уж тем более не заставала в слезах.
Доротея была одной из тех людей, которыми нельзя ни восхищаться. Точнее не сказать: примерная мать семейства, обладающая набором самых отменных качеств. Встречая такого человека, сложно поверить, что перед тобой чистой воды идеал. Это сразу наталкивает на поиски порочных истоков внутри благочестивой натуры. В Доротее я не сыскала греховного. Она была разной в соответствии с ситуацией: нежной и целомудренной – когда возилась с детьми; любящей и доброй – с супругом; элегантной, изящной – при выходе в свет. Да и помимо аристократичного характера в ней присутствовала гармония души и тела. Её утонченную фигуру многие находили привлекательной. Она имела довольно приличные округленные формы. Красивое загорелое лицо Доротеи легко бы вписалось в эпоху Возрождения: над светло-изумрудными распахнутыми глазами парили изящные тёмные брови, и взгляд у неё был всегда томный, очень притягательный. Помнится, один приезжий художник родом из Венеции, Альфредо Риччи, так увлекся благолепием синьоры, что попросил у Антонио разрешения написать портрет Доротеи. Антонио только что не поколотил наглеца.
– Она будто тень Мадонны! – приговаривал Альфредо. – Bellissimo[9 - Прекрасна (итал.)!]! Я беспомощно влюблён!
Доротея всегда держалась холодно в разговоре с другими мужчинами, воздыхателей вовсе сторонилась. Их счастливый союз с Антонио вызывал зависть. Они никогда не ругались, что делало их брак прочным, как гранит. Всякий раз, когда они спускались вместе по лестнице, и Антонио галантно подавал руку Доротее на последней ступени, я была готова отвесить низкий поклон за невероятную теплоту, которая исходила от четы. Вокруг них витала святая любовь!
Находясь в обществе, Доротея всегда следила за беседой, чтобы своевременно положению вставить меткое словцо; речь её изливалась связным плавным водопадом. Она явно избегала случаев, когда могла кого-то невольно обидеть или унизить. Однако, в ту злосчастную минуту она явно хотела избавиться от моего присутствия. Мы не были близки – Доротея не воспринимала меня всерьёз в силу разницы в возрасте. Ее сердце что-то мучило, что-то неистовое и мятежное, но Доротея не собиралась открыться мне.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36329185?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
«Прекрасную фигуру (итал.)»
2
Запеченный рулет из свинины без костей.
3
Иначе Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (1445 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1445) – 1510 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1510) гг.) – великий итальянский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) живописец (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) эпохи Возрождения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), представитель флорентийской школы живописи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8).
4
Известный портрет Рафаэля Санти (1483 -1520 гг.) – великого итальянского живописца, графика и архитектора, написанный около 1505-1506 гг. Высокий Ренессанс.
5
Картина Альбрехта Дюрера (1471 – 1528 гг.) – немецкого живописца и графика, созданная в 1505 г. Северное Возрождение.
6
Итальянская выпечка.
7
Дорогой (итал.).
8
Произведение для скрипичного концерта венецианского композитора Антонио Вивальди, написанное в 1723 году.
9
Прекрасна (итал.)!
Елена Валентиновна Малахова
Книга повествует воспоминания пожилой Изабеллы Гвидиче о выдающемся человеке, именуемом в простонародье Сатаной. За долгие годы своей жизни ей довелось стать свидетелем роковой истории и разобраться, за какие грехи Джеймса Кемелли – сына известного адвоката в Лондоне, окрестили, как исчадие тартара. Кто же он был на самом деле: гений или дьявол?
Елена Малахова
Триумф и прах
Для оформления обложки книги использовалась иллюстрация автора.
И найдете вы там, где не ищите;
и обретете всё из ничего.
1
Не помню, сколько мне исполнилось тогда. Определённо, я была старше подростка, но значительно моложе возраста, когда в одиночку справляются о нише, уготованной тебе в мире грёз и возможностей. Признаться, в те далёкие годы люди виделись мне экраном кинематографа, а их истории – фильмом, воспринимаемым исключительно верой на слово. Эта вера не давала беспристрастно заглянуть за кулисы правды, раскрывающей личность тех, о ком рождаются сплетни. Однажды та невероятная правда полностью изменила мою жизнь.
Случилось это благодаря человеку, чьё имя в творческих кругах нашего времени произносят возвышенно, не скрывая восторга и трепета; тем не менее, имя до сих пор не утратило и осудительной репутации в глазах светского общества. Разумеется, мало кто знал его как Джеймса Кемелли; да и гения, подспудного в недрах своеобразной его натуры, в те годы удалось разглядеть не многим.
Пожалуй, первое, что приходит на ум о человеке с прозвищем Сатана, включает в себя безнравственность поведения и притягательную внешность повесы; возможно, некоторые вообразили бы вместо глаз у него пылающие угли, а также языки пламени, бьющие из ушей. Совершенно не таким созерцала Джеймса Кемелли я. И прежде, чем увидеть Джеймса воочию, я столкнулась с порочащей критикой семьи Гвидиче и её близкого окружения.
Дело обстояло в сентябре. В Италии намечался ежегодный праздник винограда, и мой пожилой дядя Джузеппе взял меня с собой в гости к тетушке Адалии. Вот уже десять лет она справлялась с плантацией в одиночку после того, как овдовела, и дядя с удовольствием навещал её. День нашего приезда выдался жарким. Безоблачное небо томилось под золотом солнечных лучей. Обед был накрыт в кирпичном, обветшалом доме с тремя этажами, типичном для сельских плантаций. Стол ломился изобилием, коим тетушка славилась на протяжении многих лет. В её итальянской натуре – впрочем, как и в характере остальных участников ужина – присутствовали гостеприимство и почитание стародавних традиций, одна из которых гласила, что друзья и соседи приравниваются к степени кровного родства. По той самой причине за столом присутствовали не только члены семьи Гвидиче: Антонио (младший из трех сыновей тети Адалии) с женой Доротеей и малыми продолжателями рода: мальчиком Орландо и девочкой Лукрецией; но и Агостина Медичи с дочерями: Летицией и Каприс. Беседа шла оживленная. Говорили о познавательных поездках дяди Джузеппе по Европе, обсудили предстоящий праздник. Потом дядя Джузеппе вышел на улицу, желая искурить табаку, за ним – Антонио, а тётя Адалия внесла ризотто и передала его по кругу.
Я глядела на неё с любопытством незнающего. Хотя уважаемая вдова была старше дяди Джузеппе, она сумела сохранить, как принято выражаться в Италии: «bella figura[1 - «Прекрасную фигуру (итал.)»]». При этом она обладала неприметной наружностью: мелкие серые глаза; такие же серые волосы, гладко зачесанные в пучок, а нос выглядел слишком крупным на фоне аккуратного овала лица. Она получила прекрасное воспитание; чопорность нравов её родителей была взята за основу её благопристойности, и с годами те принципы и привычки лишь укоренились в ней завидной частотой проявления в свете. Впечатление тетя Адалия производила суровое. Строгость голоса, присущая ей, останавливала любую откровенность собеседника, порой вводила в ступор, и лишь мягкие черты её лица, измаянные солнцем, зачастую спасали положение.
В отличии от пышнотелой тёти Адалии Агостина Медичи выглядела утомленной, высохшей, сморщенной, как курага. Её тонкие губы; морщины, обтянувшие кожу наглядной сетью, служили намёком на скорую старость. Впавшие, будто Желоб Тонга, щеки её обнажали скулы. За счёт уродливой худобы платье сидело на ней свободно и безвкусно. Зная в какое болото, отнюдь не красящее женщину, тащит её время, она всячески старалась компенсировать невзрачность лица слоем розоватой пудры. Без малейшей прозорливости в её темных глазах различалась злоба на всё насущное; от её колкого, пронзительного взгляда хотелось спрятаться. Она пристально посмотрела на тётю Адалию, севшую за стол, и разговор поменял истоки.
– Уильям Кемелли уже приехал? – хладнокровно осведомилась Агостина.
Тётя подняла на неё свои выцветшие, благородные глаза.
– Нет, он будет к вечеру. Похоже, прибытие поезда задерживается.
– Слава пресвятой Мадонне! – Агостина Медичи перекрестилась. – Мы избежали отвратительного общества и неизбежного скандала!
За нерадивым диалогом женщин прослеживалось некое волнение, охватившее присутствующих. Глаза Каприс засверкали; она силилась скрыть довольную улыбку, но едва ли. Летиция, напротив, была необычайно робкой, и после упоминания о семье Кемелли взгляд её стал до предела смущённым. Тогда я не понимала, что оживлённую реакцию невест на выданье вызвал вовсе не синьор Уильям, а другой человек. Я старалась держаться беспристрастной; однако, та атмосфера, что повисла в те минуты, толкала меня вопросом излиться наружу.
– Что плохого в обществе этого человека?
С немалой долей высокомерия взирая на меня, Агостина сделала глоток сухого вина, так и не удостоив ответом.
– И не спрашивай, Белла… – с откровенным пренебрежением сказала тётя. – Мало кому приятно об этом вспоминать.
– Верно, Ада! – подхватила Агостина. Сделав паузу, она процедила с презрением. – Поговаривают, Уильям вновь привезёт этого мерзкого дьявола?..
Её сухощавое лицо исказилось отвращением, а руки потянулись за салфеткой, уголками которой затем она промокнула манерно вытянутые губы.
Летиция опечалилась, сильнее опуская голову, а Каприс вспыхнула глазами.
– Мама! Прошу, не говори так о нём!
– Не влезай, Каприс! – Агостина заимела оскорбленный вид. – Где твои манеры?! Пожалуй, Европа вытрясла из тебя сущность благовоспитанной Италии!
В дверях появилась Тереза – чернокожая, пышная, точно взбитая перина, женщина в годах. Она была дочерью торговца полотном, замуж не вышла и работала на плантациях Гвидиче и дома синьора Кемелли бог знает сколько времени. К числу её прелестей любой бы отнёс широкую, бесподобную улыбку: зубы ровные, крупные и белоснежные. Я бы, скорее, подчеркнула момент, когда её мясистые щеки в процессе улыбки или смеха заслоняли разрез больших, на выкате, чёрных глаз. Она была немного прозаична, и в то же время необычайно мила в белых, размашистых юбках и серой чалме.
Тётя Адалия любезно пригласила Терезу отобедать с нами. Поставив блюдо поркетта[2 - Запеченный рулет из свинины без костей.] на стол, Тереза сказала:
– Не желаю участвовать в балагане жалких сплетен. Вы снова судите бедного мальчика, а ведь он наполовину сирота!
– Его никто не судит, Тереза! – деликатно поправила тётя Адалия. – Поступки этого англичанина давно перешли все мыслимые границы. Вспомни, в том году он испортил половину урожая, когда его беспардонный конь пустился по виноградникам.
– Ничего удивительного: каков хозяин – таков конь! – добавила Агостина, порождая волну смеха, которой заразилась тётя, а Тереза, обиженно всплеснув руками, ретировалась на кухню.
Когда смех перестал сотрясать столовую, и несколько минут все молча разделывались с поркеттой, с улицы вернулись дядя и Антонио, вдохновляя женщин снова говорить о богатом урожае винограда и благодати южной природы.
После такой непонятной дискуссии во мне взыграло любопытство, способное подчинить себе любого беспристрастного наблюдателя. Меня стало интересовать семейство Кемелли, и в продолжении дня я искала возможности расспросить Терезу о синьоре и его дьявольском спутнике.
Когда мне все-таки удалось улучить время наедине в просторах столовой комнаты, Терезу обуяло исступление.
– Мой бедный мальчик, – причитала она, – судьба с ним так жестока! Ох, чувствуя я, погубят они коня!
Тереза перескакивала с одной мысли на другую, продолжая натирать посуду.
– Я так понимаю, Уильям Кемелли родом из Англии. Зачем ему понадобилось обзаводиться плантацией в Италии?
– Синьор Уильям был женат на Бьянке. Её покойный отец, дон Диего, оставил ей плантацию в наследство, – мягкий голос Терезы окрасила горечь. – Когда бедняжка умерла, Уильям забросил усадьбу. Знала бы ты, какой чудесной, кристально чистой души была Бьянка! – Тереза замялась. Её задумчивые глаза опустились на тарелку, затем поглядели в окно. – Ох, и погубят они коня!
Было довольно трудно уследить за ходом бегающих мыслей Терезы, и я старалась упорядочить полученные сведения.
– От чего умерла Бьянка?
– Заражение крови, кажется. Уильям тяжело перенес трагедию. Он забрал бедного мальчика в Англию сразу после похорон. Я видела, как синьор переживает, и предложила оставить Джеймса здесь, под моим присмотром. Уильям пророчил сыну грандиозное будущее и отдал его учиться в Лондоне. Теперь они приезжают редко, в основном на праздник винограда.
Я молча вникала. Терезу охватила охота говорить.
– В прошлом году Джеймс купил лошадь. Помню, как говорила ему: «Зачем такая нужна? Глазища чёрные, непроглядные, точно бездна. Ещё уродлива на один глаз. А сама, как смерть – жуткая!». А Джеймс полюбил её, – после недолгой заминки Тереза добавила, – да… думаю, полюбил…
Неуверенность её заявления смущала. Могло показаться, в сказанном Тереза убеждает себя, нежели меня.
– Почему Джеймса считают дьяволом? – спросила я, дотирая последнюю тарелку.
Тереза махнула рукой.
– Чепуха! Они несправедливы к нему. Пх! Возомнили, что он родом из преисподней… А ведь он бедный мальчик! Как же ему нелегко!
После того разговора с Терезой стало понятно, что она была вдохновлена Джеймсом Кемелли, как мир искусства вдохновлен Сандро Боттичелли[3 - Иначе Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (1445 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1445) – 1510 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1510) гг.) – великий итальянский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) живописец (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) эпохи Возрождения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), представитель флорентийской школы живописи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8).] и его несравненной Венерой. Я прониклась к Джеймсу, ещё не видя его.
Казалось бы, тайна исчерпала себя, но не тут-то было…
2
В южных районах существует традиция, именуемая Passeggiata, когда после обеда все домочадцы без исключения совершают прогулку. Исполняя безукоризненно то, что годами закладывалось народом, участники трапезы вышли на улицу и поделились на группы согласно интересам: впереди следовали мужчины, затем – тётя и синьора Агостина, а позади – я и две сестры Медичи.
Каприс болтала без умолку, рассказывая о проведенной поре в Германии и замужних сверстницах. Ей поскорее хотелось стать уважаемой синьорой, как все те, кто обзавелся супругом и собственным домом. Она восторгалась жизнью в браке и на ходу придумала имена пятерым нерождённым детям. Руками она изображала не вполне уместные жесты, при этом зычно смеялась и запрокидывала голову. Не взирая на развязную веселость, её взгляд оставался пристальным, едким и заставлял чувствовать себя неуютно. Видимо, Каприс старалась продемонстрировать, что человек, открыто глядящий на собеседника, не хранит за душою камня потаенного греха.
Застенчивая Летиция не обронила ни слова, что выглядело не под стать местным, говорливым девицам. Она напоминала натурщицу картины «Дама с единорогом[4 - Известный портрет Рафаэля Санти (1483 -1520 гг.) – великого итальянского живописца, графика и архитектора, написанный около 1505-1506 гг. Высокий Ренессанс.]». На её овальном лице выгодно смотрелись чёрные, широко поставленные глаза. Высокий лоб и узкий, аккуратный рот выдавали прямое отношение рода Медичи к буржуазной общине. Длинные, слегка вьющиеся волосы переливались золотом, а руки истончали бесподобную нежность кожи.
Летиция приходилась Каприс сводной сестрой (вдовец Адриано женился на Агостине, уже имея дочь Летицию). Вероятно, поэтому разница между ними была ощутима. Если Летиция оживляла в памяти картину Рафаэля, то Каприс будто сошла с «Портрета молодой венецианки[5 - Картина Альбрехта Дюрера (1471 – 1528 гг.) – немецкого живописца и графика, созданная в 1505 г. Северное Возрождение.]». Она имела длинные, рыжеватые волосы, орлиный нос и крупные черты. Они придавали её расплывчатому лицу мужеподобный вид, что в значительной степени усугублялось покатым подбородком, сильно выступающим вперёд на фоне скошенного лба. Её живые, бегающие глаза полнились лукавством. Внимательно за нами наблюдая, Каприс подметила наше молчание и замыслила дурное. Вид у неё стал кичливый и дерзкий. Она схватила меня под руку, пронзая Летицию, идущую в шаге от нас, издевательским взглядом.
– Слышала новость: Летицию замуж выдают?
Молниеносно подняв глаза на сестру, Летиция покраснела.
– Не болтай, лгунья! – вскричала она. – Матушке он не по нраву, значит, не будет её благословения.
– Как отец решит, так и будет! – отпарировала Каприс. – И ты знаешь об этом не хуже меня.
– Лгунья! – повторила Летиция.
От злости сестры задор Каприс только возрастал, и она продолжила вести беседу со мной, делая вид, что мы наедине.
– Он такой очаровательный. Только разговаривает плохо и когда ест, громко чавкает. А ещё у него огромные передние зубы. Их желтизна напоминает золото ацтеков. Что не говори, самая достойная партия для бесхарактерной особы!
Щеки Летиции вспыхнули пуще прежнего, даже слегка крючковатый нос и тот покраснел с досады. С моей стороны безучастность – порок, относящий мир назад, к этапу самобытности – нельзя называть жестом благородства. Однако, взаимосвязь двух сестёр выглядела крайне интересной, и прерывать столь драматичную сцену я не посмела.
– Не стесняйся! Расскажи Белле, как ты влюбилась в Джеймса Кемелли и в прошлом году отсылала ему письма. Мы так «далеко» живём друг от друга, что ответ так до сих пор и не пришёл.
Издевки сестры окончательно вывели Летицию из душевного равновесия. Ее губы задрожали. Она силилась не заплакать, но слезы безвольно наполнили глаза кроткой девушки. В тот момент она выглядела агнцем; невинной жертвой, роль которой бесценна в театре высокой драмы.
Каприс тоже менялась на глазах. В ней будто засела тысяча чертей, и те искушали её на истязание сводной сестры.
– Прекрати, безбожница! – кричала Летиция. – Лгунья!
На секунду Каприс отразила циничную улыбку, и её крепкие руки по неизвестным причинам затряслись.
– Или расскажи, как своровала снимок Джеймса и лобзала его под одеялом!
– Каприс, хватит! – вмешалась я. – Сестрам подобает жить в мире и согласии.
Каприс метнула на меня укоризненный взгляд: он обвинял меня в предательстве. Сотрясаясь всем телом, она направилась к дому Медичи и лишь изредка оборачивалась, чтобы снова бросить свой гневный, испепеляющий взор.
Летиция выглядела потерянной и старалась не встречаться со мной глазами. Она тихонько сказала:
– Извини, Белла… Я лучше пойду.
3
Я крайне озадачилась перепалкой сестёр. Они были несколько старше меня, и тот возраст требовал знаний этикета, а также навыков применения их при посторонних людях. Вместо этого они вели себя вопиюще; словно невоспитанные дети, не сумевшие поделить игрушку, которой по сути являлся Джеймс Кемелли – человек, чьё общество Агостина Медичи и тетушка Адалия отказывались воспринимать. Я посчитала разумным забыть ту неловкую историю, и, впрочем, мне бы то удалось, если бы не вечер того же дня.
Погода воцарилась приветливая, и, не смотря на жар прогретого воздуха плантаций, внутри дома Гвидиче витала легкая прохлада. Обстановку в доме нельзя было назвать богатой – тётушка не заостряла внимания на качестве мебели, зато знала, как выгодно расставить её, создавая эффект зажиточности. Ранее её навязчиво преследовало желание тратить итальянские лиры; после кончины супруга тётушка Адалия потеряла тягу к расточительству. Плантация требовала немалых затрат и полного контроля, и она понимала это. Однако, при всей своей приобретенной бережливости она не могла устоять перед шикарными обедами, которые давала чаще соседей, и совершенно не скупилась на изыски в блюдах. Потому на столе всегда значились элитные вина, поркетта и свежая чамбелла[6 - Итальянская выпечка.]. Она старалась компенсировать расходы, экономя на одежде, и объясняла свой сдержанный вкус нежеланием выряжаться при статусе вдовы. Ее скудный гардероб прятал в себе длинные юбки и платья, преимущественно недорогих материй, и подобные стилю рубашки, и очень редко, на праздник она снисходила до кринолина.
Не изменяя привычкам, в тот вечер тётя спустилась в скромном, длинном платье блекло-коричневого цвета. Семья Гвидиче толпилась у накрытого стола, ожидая последнего гостя, о котором я не ведала. На сей раз Медичи не пришли, и оставалось только догадываться, что могло послужить причиной.
– Снова он опаздывает, – ворчал дядя Джузеппе, успев проголодаться, – на месте его отца я бы внушительно потолковал с ним о манерах.
Дядя Джузеппе нахмурился. Созерцая высокий лоб с выразительно очерченными буграми и несуразно вздернутый нос дяди, навряд ли человек со стороны счел бы его представителем древнего итальянского рода. Он больше походил на скандинава или англичанина. Хотя ростом был невысок, в широких плечах его таилась мужественность. Чернявые, прямые волосы, укороченные по старинке, и тёмную, густую бороду разбавляла редкая, запоздалая седина.
В его светлых глазах примечалось иссякнувшее в конец терпение; дядя принялся шагать по комнате вдоль расставленных стульев. Тереза, сверкая белыми зубами, порхала из столовой с горячими блюдами, лишний раз улучая момент приобнять меня или поцеловать в макушку. Тётя Адалия тоже нервничала, но виду не подавала. Антонио и Доротея сдержанно поджидали у стола, то и дело поглядывая на старинные часы.
Мы обождали ещё пятнадцать минут.
– До чего же невоспитанный! – сердито сказала тётя Адалия, – точно вырос в диких джунглях! В конце концов, всему есть предел! Время ужина было оговорено, может, он вовсе не придёт… Давайте начнем трапезу. Да благословит Господь пищу нашу насущную…
Все сели. Она прочла короткую молитву, в обязательном порядке читаемую до вкушения пищи. Вся семья склонила головы, соединив ладони вместе, и прилежно слушала тётю. Когда настало время перекреститься, завершая ритуал, в дверь позвонили. Тереза ринулась открывать.
Молодой гость, стоящий на пороге, выглядел не старше тридцати лет и бросался в глаза одеянием неместного пошива: тёмный сюртук, светлые брюки и шёлковый жилет облагораживали его подтянутый силуэт. Войдя, он небрежно снял шляпу с короткими полями и, передав её Терезе, любезно поздоровался. Гвидиче встали; дядя Джузеппе и Антонио подали ему руку, а тётушка Адалия изящно поцеловала гостя в обе щеки.
– Caro[7 - Дорогой (итал.).], как я рада! Вознесём хвалу небесам за такого чудного гостя!
С интересом глядела я на обряд приветствия, и сперва он показался необычайно милым. Враждебность тёти в отношении гостя улетучилась. Она держалась обходительно, не давая повода заподозрить, какое презрение терзает её душу при одном упоминании о нём.
Гость снисходительно улыбнулся. Тётушка пригласила его занять свободное место справа от неё, и мы приступили к ужину в напряжённой обстановке. Холодные закуски сменились горячими блюдами, и тогда завязалась неординарная беседа.
– Благодарю, – без экспансивности сказал гость, – ужин был отменным.
Он улыбнулся.
Трудно подобрать слова, могущие донести читателю меткие представления о том, что являла та улыбка. Она состояла из превосходства и назидания, в то же время считалась бы милой, не присутствуй в серо-голубых глазах блеск, унижающий достоинство. И что самое неприятное: при взгляде на неё чувствуешь себя абсолютным глупцом.
Тетушка не смутилась его улыбкой, всем своим видом показывая, что скудный комплимент гостя пришелся ей по душе. Она расцвела, обнажая в глазах искру девичьего задора.
– Caro, ты знаешь, я не люблю похвалу! – тётушка Адалия провела рукой по серым волосам. – Святая обязанность женщины уметь порадовать мужчину вкусным яством.
Я поняла, что её ответ был отнюдь небескорыстным. Непонятно откуда возникшая скромность указывала на то, что тётя не восполнила утробы тщеславия и нарывалась на очередную похвалу.
Гость оказался скуп на доброе слово.
– Получается, женщины созданы для того, чтобы ублажать мужчин? – бесцеремонно спросил он. – Звучит унизительно.
Тётя Адалия смутилась.
– Разумеется нет!
– Вы утверждаете обратное, – перебил гость. – И на то указывает Библия, поведав о сотворении Адама и только потом Евы.
Вмешался дядя Джузеппе.
– Сынок, подобные разговоры портят ужин…
– Я его не начинал, – спокойно продолжал гость, не снимаю с лица ядовитую усмешку, – я всего-навсего сказал, что ужин был отменным, без намёка на вытекающие.
Все как-то приметно оживились, в особенности Антонио поменялся в лице. Благородный, крупный нос через широкие ноздри шумно выдыхал воздух. Черные глаза блестели, создавая своим блеском конкуренцию густой копне вьющихся до плеч волос. Доротея медленно пережёвывала мясо, смотря то на гостя, то на тётю, и выглядела шаблоном женственности – ей хотелось подражать. Она располагала к себе не только красотой и округлыми формами, правильно подчеркнутыми шелковым смарагдовым платьем – в её характере утвердились покладистость и манеры, достойные светского общества, что, на мой взгляд, и завоевало сердце Антонио. Сам же итальянец по натуре прослыл неуступчивым и вспыльчивым человеком. Его разозлила прямолинейность гостя. Обращаясь к нему, Антонио взял голосом высокую тональность.
– В Италии никто не ущемляет права женщины. А ваши слова – дискриминация!
Каждое сказанное слово он гневно цедил сквозь зубы, сильнее сжимая в руке вилку. Было удивительно наблюдать, как в присутствии матери Антонио впервые встрял в разговор. Такое поведение расценивалось, как непристойное, тем не менее, он уже не думал об этом.
Усмехнувшись, гость воззрел на Антонио с брезгливым презрением.
– Полагаю, именно в условиях полного равенства ваша жена целый вечер молчит… – его голос звучал сухо и колко. – А что касается ранее затронутой темы: я говорю не конкретно о правах, скорее о смысле человеческой жизни.
Тётушка Адалия стала темнее тучи. Назревающие распри портили святость вечернего ужина, но горячность итальянского народа ни с чем несравнима! Дюжая эмоциональность могла заставить чувствовать себя не в своей тарелке любого умиротворенного иностранца, не привыкшего к ярким сценам. С ранних детских лет меня воспитывал дядя Джузеппе на юге Исландии, что способствовало формированию иного взгляда на коммуникацию. Но нельзя не восхищаться столь рьяной демонстрацией чувств! В тот момент они виделись воинами на поле битвы, где повышенные тона и крик использовались, как верный способ устрашить соперника и заставить его обратиться в бегство.
– Да что ты знаешь о смысле человеческой жизни, невежа?! – Антонио подскочил, бросая вилку на стол.
Я и Доротея встрепенулись от неожиданности, гость оставался покойным.
– Нельзя знать наверняка, – мирно рассуждал он. – Можно располагать мнением и свято верить в его подлинность. Не существует абсолютного мерила, которое облачит мысли в истинное заключение, единое для всех.
Широкая улыбка гостя стала более приторной. Смотреть на неё было невыносимо! Дядя Джузеппе нахмурил лоб. Характер у него был мягкий и терпеливый, но подобные выходки стерпеть было невозможно.
– Хватит с меня неуважения, синьор! – грозно проговорил дядя, вставая из-за стола. – Наша семья гостеприимна, но таким гостям мы больше не рады.
Гость посерьезнел.
– Вы правы. Подобные вечера – пустая трата времени. Чао!
Он встал, отвесив небрежный поклон головой, взял шляпу и поспешно удалился. Когда дверь хлопнула, тётушка побелела до смерти.
– Мама! – вскричал Антонио. – Вам плохо?
Антонио подскочил к матери; следом кинулась Доротея, участливо взяв её за руку, и дядя Джузеппе. Тётя тяжело и поверхностно дышала.
– Белла, скорее неси воды! – скомандовал Антонио.
Я живо исполнила просьбу, и тут же с кухни выскочила перепуганная Тереза. Крупные глаза её были на выкате.
– Ада, что с тобой?!
Тетя Адалия не могла говорить. Пересохшие губы слегка дрожали. Она устало бегала глазами по столу. Антонио горячо припал губами к чахлой руке матери, и в его черных глазах отражались страх и подлинное волнение. Доротея поднесла стакан воды к устам тети, но та лишь открывала рот, как рыба, не сделав ни глоточка.
– Расступитесь! – приказал дядя Джузеппе.
Он подхватил тетю на руки и унес наверх. Антонио пустился за ним, переступая по три ступени лестницы. Доротея захватила холодной воды и тоже поднялась.
Пока Тереза побежала за доктором, я металась из угла в угол в гостиной. Вся эта суматоха случилась так внезапно, что времени размышлять над случаем не было. Я была охвачена паническим переживанием за тетю. Она обладала крепким здоровьем, болела редко, да и то простудой в лёгкой форме. Но, учитывая преклонность её лет, всякое могло случиться.
Прошло несколько часов; доктор ушёл, и я поднялась к тёте в спальню. Накрытая простыней она отдыхала на кровати, а её неподвижные руки лежали по швам. Печальные, серые глаза были открыты, устало и медленно моргая. Чопорность изрядно въелась в её бледное, точно снег, лицо.
– Тётушка, я вас не потревожу?
– Входи, – чуть слышно ответила она, – мне уже лучше.
Разговор с тётей всегда давался мне нелегко. Я тщательно подбирала слова, боясь сказать лишнего, и заслужить тем самым её немилость. А в тот вечер вдобавок мне не хотелось навредить её состоянию.
– Вы нас так напугали… – осторожно сказала я.
– В моем возрасте возможно и не такое, caro! Агостина предупреждала, что позвать его сюда будет нелепой ошибкой. Видит пресвятая Мадонна, я лишь старалась угодить ему!
По щекам тёти Адалии заструились слезы. Она осушила их простыней, но они текли снова и снова. Поднимаясь к ней, я не собиралась затрагивать имени неизвестного гостя, чтобы тем самым не спровоцировать ее на новое волнение. Однако, тётя заговорила о нем первой, и я нашла в себе смелость осведомиться, кем был тот человек, что приходил на ужин. Отвечая, тётя отрешенно уставилась в сторону.
– Если кто-нибудь хотя бы раз в жизни видел, как выглядит зло, то непременно скажет, что этим злом был Джеймс Кемелли!
Описав события того сентябрьского дня, пожалуй, следовало бы поставить точку в тайне дьявольского прозвища. Вполне понятно, откуда берут корни ненавистные кривотолки. Хотя, увидев Джеймса Кемелли таким, каким он сидел за столом, во мне поселилось разочарование. Я искренне поддалась фантазии, воображая на его месте редкостного красавца, покорителя сердец посредством обаятельных жестов и мимики.
Джеймс Кемелли был отнюдь не таким. Не созерцала я в нём невероятного обаяния, красивых глаз или необычайной выправки. У него был длинный острый нос, прямой, как линейка. Русые, пушистые волосы слегка кучерявились возле лба и темени, а на висках были короче и прямее. Глаза неузкие, некрупные, ясные и внушительные. Выбритый подбородок не смотрелся выбритым: темные вкрапления выглядывали из-под светлой матовой кожи. Фигура высокая, жилистая в меру, в меру упитанная. С виду он производил впечатление заурядного адвоката или поверенного в дела зажиточного сэра. Тогда я начала сомневаться, что Джеймс Кемелли вообще может кому-либо понравиться. Дальнейшее развитие событий в доме Гвидиче опровергло мои домыслы.
Прежде, чем изложить ту странную роковую историю, предлагаю вернуться в день неудачного ужина.
Я любила размышлять, когда никто не мешал; когда тишина – главный союзник, создающий ауру мироздания спокойных мыслей. В поисках уединения я вышла на улицу во двор. Кровавый закат терялся в тропах обихоженной плантации, бросая последние лучи солнечной благодати, как прощальные объятия. Размазанные по небу облака светились тёмным золотом. Подвязанные кусты винограда, все как один: бравые солдаты одной шеренги, еле слышно перешептывались листьями. На изумрудных холмах стелилась ровная, душистая трава; а кустарники и низкорослые деревья, завершая южный этюд, украшали шапками покатые поляны.
Природное великолепие Италии ни с чем несравнимо! Божественное благословение пролилось на землю богатыми холмами, историческими руинами, непревзойденными фонтанами, виллами и бесподобными соборами. Их живая, завораживающая красота впитывается душой и оставляет в ней восторженную благодарность неземной силе за создание этой красоты. Не зря именно здесь родились величайшие гении всех времен, а также многие направления искусства и литературы. Эта невероятная, тонкая чувственность природы вдохновляет!
Восхищаясь элизиумом на земле, я села на скамью у деревянной изгороди. Чей-то приятный голос не дал мне насладиться угасающим днем в безмолвии.
– Ваше волнение только усугубляет вашу проблему.
Я повернула голову в сторону голоса. В шаге находился Джеймс Кемелли, который, должно быть, увидел меня с веранды дома Кемелли, и бесшумно подошёл.
– О чём это вы? – сконфуженно спросила я.
– О вашей ноге. Вы сильно волочите её, когда идете. И чем больше вы хотите скрыть уродство, делая упор на другую, тем оно становится куда более явным.
Я густо покраснела. Люди, знавшие о моей хромоте, ставшей следствием врожденного дефекта костей, старались всячески меня жалеть. Та жалость, наверняка, поднималась из недр возвышенных чувств, и большая часть планеты считает сопереживание проявлением сердоболия и высокой нравственности. Я мало верила жалости; ибо все известные мне случаи сострадания служат ярким примером бесчестности этих людей перед обществом и самими собой. Вместо того, чтобы оказать надлежащую помощь, люди сострадают издалека, в мыслях; словом, а не делом.
Мне не пришло в голову ничего, что могло бы послужить достойным ответом его дерзости. Джеймс Кемелли присел рядом, продолжая речь.
– Подобное волнение и важность чужого суждения о вашем несовершенстве мешают жить полноценно. Чего стоят жизнь и людское мнение? Абсолютно ничего! В том и разница между мной и вами: я не придаю внимание мелочам.
– По-вашему, лучше ходить бесчувственным грубияном и плевать людям в душу?
Джеймс усмехнулся.
– Пожалуй, вы намекаете на меня… Я не плюю в душу. Я произношу речь, а общество расценивает её так, как выгодно обществу. Это человеческие мнения, и они переменчивы. Сегодня вы – лорд, завтра – нищий. Добро и зло – понятия относительные.
В некоторой степени я была согласна с Джеймсом. Изрядно увлекаясь чтением газеты «Churchill», зачастую попадаются строчки читательской критики, порочащей и однобокой, что наталкивало на мысль о людской зависти, тяге отвергать новую точку зрения, защищая от разрушений старые, привычные убеждения. Вместо того, чтобы, к примеру, с наслаждаться трудами Андреа Лессо – известного философа итальянской современности, раскрывающего истину за истину в журнале «Il profeta» – читатели закрывают глаза на тонкость и мудрость сути изложенного, и с щепетильной внимательностью ищут недостатки. Они с нетерпением ждут выхода свежей статьи философа с целью вновь излить «свет» своего невежества неучтивой рецензией.
Не взирая на солидарность его изречению, я не могла ни возразить Джеймсу Кемелли. Какая-то строптивая часть меня призывала к протесту. В силу напряженности нашего диалога я не сумела сразу аргументированно дать отпор.
– Вздор! – сказала я, не придумав ничего существенного в свое оправдание. – Очевидно, вы плаваете на поверхности.
– А вы слишком глубоко ныряете без воздуха, – улыбаясь, Джеймс проникновенно взглянул на меня. – Как по-вашему, Микеланджело был хорошим человеком?
– Разве я могу судить Микеланджело? Где я, и где он?! Он выдающийся гений! Ему не было равных в искусстве скульпторы, и по сей день его место на пьедестале никому не удалось занять.
– Безусловно. Искусство его красит, как и он искусство. Но красят ли его методы достижения апогея? Всем известно, что Микеланджело создавал скульптуры людей, причём точность деталей тела была доведена до совершенства. Это стало возможным только благодаря работе с мертвыми телами. Прежде, чем возводить скульптуру, он дотошно капался в трупах, тем самым оскверняя память об усопших.
– Микеланджело – победитель; над победителями суд не вершат, – немного помолчав, я прибавила. – Стало быть, вы считаете его недостойным человеком?
– Я не думал об этом буквально. Вас занимают мнения, меня только противоречия.
Он замолчал. В ту минуту я не видела в нём отродья тартара, образ которого так сильно прирос к Джеймсу Кемелли. Он походил на увлеченного мыслителя в поиске ответов на бесконечные вопросы.
Намереваясь изменить течение разговора в сторону инцидента в доме Гвидиче, я рассуждала бесцеремонно.
– Итак, вам безразличны люди, мнения, добро и зло. Тогда зачем вы явились на ужин, куда идти не желали?
Джеймс пристально поглядел вдаль.
– Увы, в противовес личных желаний есть сила, над которой пока я не властен.
– И что это за сила?
Лицо Джеймса исказилось – ему стал неприятен разговор. Вставая, он сухо сказал.
– Желаю, чтоб этой ночью вы спали. Без чувств и мыслей.
– Ничего ужасней я не слышала! Разве в Лондоне не принято желать доброй ночи? Или вам в тягость соблюдать даже эту общепринятую формальность?
– Добро и зло – понятия относительные…
Не глядя мне в глаза, он приподнял шляпу в знак уважения и спешно удалился.
4
Два дня не видела я Джеймса Кемелли и семью Медичи. Погода ухудшилась. Тучи затянули небо, и назревал дождь. Ненастье сказывалось на моей хромой ноге, потому я долго не могла предаться забвению. В доме воцарилась тишина – спали все, кроме меня.
Не сумев победить бессонницу, во второй половине ночи я спустилась на веранду. Воздух был свежим и теплым. Ночь возлежала на холмах, и лишь тусклые фонари выполняли роль посланников дневного света, не отдавая землю царству тьмы. Мой взгляд жадно блуждал по плантации. Чинные виноградники сонно дремали, и вдруг посреди ровных кустов мелькнула тень. Я вгляделась в полумрак – тень была человеческая. Легким парением она скользила от ряда к ряду и периодически оборачивалась назад. Моё тело бросило в жар. Первой идеей, пришедшей в голову, было разбудить дядю Джузеппе, чтобы тот задержал вора. Но опасность миновала нашу плантацию: тень метнулась к дому Кемелли и, остановившись, стала озираться по сторонам. По чёрному длинному одеянию, скорее всего платью, я поняла, что это была женщина. Лица было не разглядеть: до самых глаз она прикрывалась чем-то похожим на чадру. Убедившись в отсутствии людей, она повернулась к дому и сразу исчезла на темной веранде.
Я была обескуражена. Кому понадобилось ночью идти в дом того, чьё имя не произносят вслух? Сперва возникло предположение, что это могла быть Тереза. Но та не стала бы прятаться; да и пышную фигуру Терезы ни с чем не перепутаешь. Я вспомнила, что в доме живёт Уильям Кемелли, которого ещё не видела. Будучи вдовцом, он вполне мог обзавестись любовницей… В догадках я вернулась в спальню.
На следующий день мы завтракали у Медичи. Глава семьи, Адриано Медичи, – человек неприметного роста с густыми, смоляными усами, хитрым взглядом и слишком шумный, говорил, не переставая, и потому составил прекрасную партию дядюшке Джузеппе. Дети Антонио, похожие на него от волос до кончика носа, вели себя неприлично: носились по дому, кричали, хватали грязными руками со стола булочки. Старшины семейств глядели на них снисходительно, а Доротея, преисполненная спокойствием, терпеливо улыбалась при взгляде на них. Признаться, более тихой и смиренной жены здесь я не встречала!
Каприс, на удивление, была молчаливой и более дерганной, чем обычно. Её руки дрожали, что сильно бросалось в глаза. Она вертела в руках салфетку, поочерёдно столовые приборы, то и дело поправляла лёгкий палантин на шее. К чему она укуталась в него – было непонятно. Солнце разогрело с утра, и духота изнуряла и без дополнительного слоя одежды.
За столом не сидела Летиция, и я осведомилась у Каприс, где она.
– Ей не здоровится. К обеду будет.
Разговаривать Каприс была не настроена.
После завтрака, когда мужчины уединились, раскуривая самокрутки на улице, а женщины и дети отправились дышать воздухом плантаций, я решила проведать Летицию.
Трехэтажный дом Медичи мало отличался от дома Гвидиче. Белые потолки были высокими, а выбеленные стены добавляли просторным комнатам немалого света. Дом украшали изыски декора, помпезные вазы, ковры, репродукции картин эпохи Возрождения и всякая подобная мелочь, способная внести уюта в любую обстановку.
Комната Летиции располагалась на втором этаже. Окна выходили во двор, тесно граничащий с верандой дома Кемелли. Я постучала в дверь – никто не ответил; я повторилась, и тихий, слегка хрипловатый голос разрешил мне войти. Я отворила дверь и увидела, как Летиция лежит на кровати ничком в подушку; руки вцепились в неё безжалостной хваткой. Белокурые, нечёсанные волосы небрежно прикрывали плечи, а согнутые ноги скрадывала длинная сорочка.
– Ты заболела, Летти?
Ответом мне послужили громкие внезапные рыдания. Недоумевая, я подскочила к ней и пала на колени.
– Что с тобой?
– Я ненавижу её! Она специально это сделала!
– О ком ты? И что она сделала?
Летиция зарыдала ещё хлеще, стискивая подушку пальцами. Я была растеряна. Моя склонность к состраданию никуда не годилась, зато в тот момент я искренне прониклась к Летиции и стала гладить её по волосам, понимая, что ей необходимо время успокоиться. Я выжидала. Рыдания не прекращались несколько минут, после чего Летиция присела и повернулась ко мне лицом. Её стройное тело как прежде передёргивалось – некогда уравновешенная девушка больше не выглядела таковой. Опухшие от слёз веки демонстрировали фиолетовые прожилки, благодаря которым узкие, красные глаза имели лихорадочный вид, а круги под ними напоминали тёмные колодцы. В ту минуту никто б не нашёл в ней сходства с шедевром Рафаэля. Она страдала поистине нечеловеческой болью.
– Каприс уничтожила меня, – жалобно лепетала Летиция. – Прошлую ночь она провела с ним!
Я вспыхнула щеками, понимая, что обсуждение перетекает в русло тайных отношений между женщиной и мужчиной, которые ранее я ни с кем не затрагивала. Мне едва удалось взять себя в руки.
– С кем с ним?
– С Джеймсом Кемелли конечно!
Она продолжала всхлипывать, уронив взгляд на руки, перебирающие сорочку. Откровенные подробности тоже вгоняли её в краску, но её лицо и без того пылало красными пятнами, чтобы выдавать стыд. Она говорила ломанным, срывающимся голосом, и каждое изречение заставляло её свежую рану на сердце кровоточить.
– Не может быть! – успокаивала я. – Каприс, верно, пошутила или захотела тебя подразнить.
– Нет! Вчера она отправила ему письмо, предлагая встречу. Не простую встречу…
Измученные слезами глаза Летиции переполняла влага.
– Откуда тебе известно о письме?
– Она хвасталась, что написала Джеймсу, а потом дала прочитать его ответ.
Летиция приподняла подушку и протянула мне конверт, весь помятый и влажный от слез. Я взглянула ей в глаза, выражая сомнение и нерешительность. Читать чужие письма – дурной тон. Во мне боролись нравственность и любопытство, затуманивающее рассудок. Мне представилось, что там обнаружится хоть малая доля романтизма, которую, возможно, Джеймс Кемелли прячет от посторонних глаз. Эта мысль подкупила меня, и я, вскрыв конверт, прочла.
«В полночь приходи на веранду. Я спущусь.
Джеймс Кемелли. »
Не обнаружив любовного признания, я испытала искреннее разочарование.
– Теперь ты убедилась?! – Летиция снова залилась слезами. – Боже… Как мне это пережить?!
В письме и не пахло романтикой, которую я жаждала там отыскать. Зато оно даровало мне верный способ утешить Летицию, ибо ранее я не знала, как лучше это сделать.
– Послушай, здесь нет ничего такого, что указывало бы на его любовь к Каприс или на то, о чем подозреваешь ты. Смею предположить, они всего лишь совершили прогулку вместе.
– Нет, Белла! Я застала её в спальне. Она одела чёрное платье и спустилась во двор, а вернулась только на рассвете. Эту злосчастную ночь они провели вместе!
Рыдая с новой силой, Летиция бросилась лицом в подушку. Я была удивлена тем, что тень женщины, увиденная мной ночью, принадлежала Каприс, и, как выяснилось, любовницей обзавелся не Уильям Кемелли, а его сын…
При всем своем изрядном потрясении, вызванном отнюдь неблагородными поступками Джеймса, полного интереса к нему я не потеряла. Мне хотелось разобраться, что обе сестры разглядели в нём такого, чего не увидела я. И почему Каприс скрывала шею за материей палантина?
5
Вечером мы прогуливались на холмах. Угнетающая духота парила над землёй, создавая климат пустынного зноя. Тётя Адалия полностью оправилась от того неприятного ужина и неустанно чирикала бог весть о чём с Агостиной Медичи. Они шли быстрым шагом, словно торопились навстречу заветным мечтам, и ввиду своей хромоты я не поспевала за ними. Бросив затею их догнать, я вертела головой, осматривая усадьбу. На безоблачном небе догуливало заходящее солнце, укутываясь в рубиновые оттенки, а холмистые поляны, ковром сбегающие с горизонта к плантациям, неистово умиляли взор.
Меня ослепляло упоение Италией! На её бесконечных холмах; узких улочках города; в шумной суете Рима, забывшем о войне, так долго терзавшей народ, я чувствовала себя чужестранкой. И в то же время переживала безудержную любовь к Италии, зная, что в моей крови течёт спокойствие итальянских вершин и буйство горных рек; зная, что именно Италия – моя единственная Родина и Родина всех тех, кто мне дорог; зная, что нигде не обрету большего покоя, чем на плантациях, дарующих щедрые плоды возделанных земель. Та любовь жила в самых отдаленных уголках моего хладнокровного сердца, и всякий раз, возвращаясь сюда, она, точно Христово воскресение, поднималась всё выше и дарила мне радость и успокоение.
Опьяненная тем чувством, я не сразу различила позади себя приближабщийся топот скачущей лошади, а, когда ясность вернулась к моим мыслям – я оглянулась и увидела Джеймса Кемелли. Стегая лошадь, он стремительно направлялся ко мне.
– Вы не силитесь скрывать хромоту, – мягко отозвался он, сдерживая лошадь подле меня, – так намного лучше!
Меня злило повышенное внимание к моему несовершенству. Было куда полезней, если бы о нем помнили Агостина и тётя Адалия, тогда бы я не плелась позади и сумела избежать того разговора. Пожалуй, Кемелли был единственным человеком, которого занимали чужие беды только потому, что использовались им, как инструмент в проверке на уязвимость человеческого существа.
– С вашей стороны весьма странно заметить это и не заметить противоречия самому себе, – с улыбкой отпарировала я.
Приторное лицо Джеймса выдавало заинтересованность. Он благородно сдерживал поводья, пока лошадь нетерпеливо перебирала копытами, порываясь вперед.
– Продолжайте.
– Вы утверждали недавно, что не придаете внимания мелочам. А сами только и делаете, что ищите их в окружающем мире.
– Ничего подобного. Я попросту положил начало беседе, которая не имела бы и минуты развития, скажи я о чудесной погоде вместо вашей хромой ноги.
Слегка обескураженная его речью, я замолчала. Джеймс спрыгнул на землю и взял поводья в руки. Мне вспомнились ярые возмущения Терезы в адрес лошади. Это был вороной конь фризской породы, достойный восхищения. Струясь черным гладким шелком, ровная шерстка отливала на солнце блеском, а густая, волнистая грива и такой же густой хвост едва не касались земли. Конь был бесподобен! Если не считать бельма на чёрном глазу.
– Желаете прокатиться?
– Как вы себе это представляете? Порой мне ходить сложно, не то что скакать на лошади.
Джеймс издал тихий смешок.
– Леонардо да Винчи страдал дисплексией, однако, это не помешало ему написать «Джоконду».
Размышляя над словами Джеймса, я посмотрела вперед, где за ближайшим холмом скрылись тётя Адалия и синьора Агостина. Мной обуревало желание воспользоваться предложением Кемелли. С другой стороны, угадывая, как отнесутся обе семьи к моей дружбе с исчадием ада (не говоря уже о Летиции, изнемогающей от любви к Джеймсу), я сочла нужным отказать своим желаниям.
– Пожалуй, вы назовёте меня безвольной, я не Леонардо да Винчи…
Уголки его бескровного рта медленно поползли вверх: отвратительная гримаса насмешки на лице Джеймса Кемелли несопоставима ни с чем!
– Очень зря, – сказал он и, подскочив на лошадь, вскоре затерялся за горизонтом.
Я вспомнила о Каприс. Её демонстративное рвение насолить сестре пугало жестокостью проявления. Она обходилась с Летицией, как сварливая вредная хозяйка, не желающая считаться с правами прислуги. В ней не было тяги к искусству, наукам или поэзии, которая практически всем прививалась с детства. Отсутствовало в ней и стремление к независимости положения. Совсем наоборот – она томилась ожиданием момента, когда какой-нибудь франт попросит её руки; она с головой окунется в светское общество и будет устраивать званные обеды. Стараясь убедить всех вокруг какой достопочтенной и заботливой матерью станет, она с экспансивностью няни кидалась к детям Доротеи. Видя, как те обременены её присутствием, она заливалась с досады пунцовой краской.
– Как же дурно воспитаны эти детёныши! – негодовала Каприс на Лукрецию и Орландо. – Лишены усидчивости и хороших манер. И кому будут нужны такие оболтусы?
Она забывала, что сама росла вздорной, бесшабашной девицей, и мало что изменилось по достижении совершеннолетия. Она всегда старалась привлечь к себе внимание окружения. Ревностное самолюбие жалило ее снова и снова, когда внимания удостаивали Летицию, которая отнюдь – была целомудренной и застенчивой девушкой. Несвойственные Летиции вспышки гнева, свидетелем которых я была недавно, отражали степень её небывалых чувств к Джеймсу Кемелли. Возможно, это была первая невинная любовь, ради которой в юности частенько подумывают расстаться с жизнью, и лишь спустя годы подобные мысли выглядят смехотворными и детскими. Я полагала, что вскоре Летицию отпустят чары духовной любви…
Меня мучил вопрос, почему Джеймс не ответил Летиции взаимностью или на худой конец не подарил ей один из своих холодных ответов в коротком письме? Почему написал Каприс, если со стороны наблюдателя Летиция располагала большими достоинствами? Мужские начала также темны для женских, как яркий солнечный свет для незрячего путника. Их зарево ощутимо, и в то же время непредсказуемо; их можно принять, но не постичь силой женского представления.
Ещё большей интригой, чем от логичности действий Джеймса, веяло от поведения Каприс за столом у Медичи. Она была сама не своя, закрывая на тысячу замков некую тайну, известную только ей, и тот страх, что о тайне прознают все на свете, терзал её существо. Она не снимала палантин ни дома, ни на улице, когда выходила на прогулки. Мои домыслы становились один кошмарнее другого.
Правда оказалась страшнее всех моих предположений…
6
Вплоть до позднего вечера семья Гвидиче собирала виноград на плантации. Закончив полевые работы, я расположилась с Терезой на веранде. Теплый день подходил к завершению, и отсутствие духоты приносило наслаждение.
– Давно ты служишь дому Кемелли? – спросила я Терезу, которая отбирала виноград на выделку вина.
– Давно, caro. Я помню Джеймса ещё мальчишкой, – Тереза мечтательно обнажила зубы. – Он был озорным и непослушным. Тянул у отца табак из табакерки, всё ломал и топтал палисадники. Я всегда говорила, Уильям был слишком строг с ним. Поэтому Джеймс и стал таким, каким его свет видит. Ты уже слышала, как Джеймс играет на скрипке?
– Нет, а он играет?
Тереза издала удивленный возглас восхищения.
– О! Ничего подобного мои уши никогда не слышали! Он делает это утром, на рассвете, когда синьор Уильям уезжает по делам.
– Почему утром? Отец против музыки?
– Разумеется. Уильям – уважаемый адвокат в Лондоне, считает, что заниматься такой чепухой ему не по статусу. К тому же он готовится передать дела сыну, потому Джеймс работает в его прославленной конторе адвокатом. Мне кажется, там у моего бедного мальчика ничего не клеится.
– С чего ты взяла?
– Уильям недоволен им, – Тереза поджала наливные губы. – Бедный мальчишка! Ах, как бесподобно он владеет скрипкой!
Изумленная до крайности, я задумалась. По натуре своей Джеймс Кемелли был бесчувственным и грубым, тогда как в музыке без патетичности чувств не обойтись. Мне было трудно представить его в роли сентиментальности. Зато он располагал всеми необходимыми талантами для практики адвоката, учитывая, как авторитарно способен опровергать и запутать человека даже в его собственном мнении.
Услышав об Уильяме Кемелли, особенно о характерной для него строгости, мне не терпелось посмотреть на него своими глазами. Вскоре та встреча состоялась, причём в нелепой, порочащей обстановке. Но сперва хочу вернуться несколькими часами позже после разговора с Терезой.
Гуляя перед сном на холме в одиночку, я увидела Летицию и вздумала её нагнать. Сделать это оказалось не просто. Я окликала, а Летиция шла и шла, всё быстрее, спотыкаясь на ровной тропинке и едва не падая.
– Летиция, подожди!
Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы сократить расстояние между нами. Когда всё же поравнялась с ней – облик Летиции меня поразил. Её бледное, без кровинки лицо рисовало непобедимый испуг, а в глазах пробегала та же тень несокрушимого страха.
– Что с тобой? Ты больна?
– Белла, это ужасно! Я не знаю, как теперь жить… Я безжалостно растоптана… Мне хочется умереть!
– Я не понимаю, что случилось?
Летицию качнуло в сторону. Я схватила ее за плечо, уберегая от падения.
– Пойдём, я отведу тебя домой.
– Нет! – вскричала Летиция, – только не домой! Не надо домой! Давай останемся здесь!
Растерянность моя набирала обороты.
– Хорошо, давай присядем. Ты едва на ногах держишься!
Я помогла ей сесть на траву, расправляя подол её юбки, и села рядом. Ладони Летиции были мертвецки холодными.
– Не знаю, как можно рассказать о таком… Но Каприс рассказала, причём во всех унизительных подробностях!
Предположение, что речь пойдет о Джеймсе, оказалось пророческим. Стараясь держаться покойной, я спросила.
– Может, тогда и не стоит рассказывать? Забудь об этом и всё.
– Нет, я не могу держать всё в себе! – Летиция помолчала минуту-другую; пока я глазами бегала по её мраморному умалишенному лицу, она смотрела вниз. – Он истязал её той ночью… Она прикрывает шею платком, чтобы родители не догадались!
Я обомлела и некоторое время сидела неподвижно, глядя перед собой. Зарожденные мысли имели слишком расплывчатые догадки случившегося. Возжелав развеять туман кошмарных картин, я совладала с собой.
– Что значит истязал? Он её бил?
– Не совсем так… – голос Летиции задрожал, а в глазах появилось отчаяние. – Он делал это во время…
Летиция не сумела договорить и, закрыв багровое от стыда лицо трясущимися руками, горько заплакала.
– Он настоящее чудовище! – во весь голос рыдала она. – Чудовище…
– Ну а почему ты плачешь? – нелепый вопрос вырвался у меня из груди немедля, нисколько не конфузя её.
– Потому что я всё равно его люблю…
7
Откровенный рассказ Летиции привел меня в исступление. Я была крайне возмущена и, не смотря на юность лет и воспитание, не старалась скрывать своих чувств. Понимая, что репутации Каприс и Летиции безвозвратно запятнаны, я видела своим долгом восстановить справедливость, будто бы разоблачение Джеймса помогло бы отмыть их честь. Потеряв контроль, я не заботилась, что подумает обо мне семья Гвидиче, увидев, как стучу в дом Кемелли; не помышляла, что скажет Летиция, прознав о визите к её возлюбленному; а уж тем более не думала, как расценит вторжение сам Джеймс. Стучала я с такой силой, что, пожалуй, нехотя задумаешься о катастрофе, постигнувшей мир.
Дверь отворилась, но не рукой Терезы, для которой была уготована речь: «Где этот мерзавец? Твой милый мальчик, его растерзать мало!»; а рукой самого Джеймса Кемелли. Он безмятежно улыбался.
– Я рад вам. Входите!
– Не надо со мной любезничать!
Кемелли вкрадчиво оглядел меня. Непоколебимая улыбка не исчезла с его бледно-розовых губ.
– Что ж, так даже лучше. Что вам угодно?
– Как вы могли так поступить с Каприс?! – моя интонация звучала утвердительно. – Вы чудовище! К сожалению, я не сумею поколотить вас, но это сможет сделать Адриано Медичи, который всё узнает!
Джеймс расхохотался искренним, неподражаемым смехом, точно я выдала великолепную шутку. Его хладнокровие уязвляло мою добродетель. Казалось, он был готов к любой нападке.
– Вы ещё слишком юны, чтобы лезть в это дело.
– Посмотрим, хватит ли вам смелости дерзить, когда всем станет известно, что Джеймс Кемелли сделал с бедной девушкой!
– Как видите, мне-то всё равно, – сухо говорил он, – ибо до сих пор мы беседуем на улице, а не в доме, где нет посторонних ушей. А вот бедным рабам чужого мнения придется отдуваться перед светом благодаря вам.
Он был прав. Разбирательство о непристойном случае на улице могло скомпрометировать нечаянных свидетелей на сплетни. Толкнув его рукой, я зашла в дом.
В отличии от внутреннего убранства итальянских домиков здесь царила роскошь английских стилей. Я затрудняюсь до конца определить, что это был за стиль. Должно быть колониальный. Спектр цветов был сдержанным, приглушенным, несколько мрачным, потому в огромных апартаментах присутствовал полумрак, который не имел отношения к вечернему времени суток. Посредине гостиной находился круглый стол из тёмного дерева, а вокруг него расставлены кресла, обитые дорогой тканью, с вычурными ножками. Стол прикрывала кружевная скатерть, где поблескивал чайный сервиз, графин с вином и чистые бокалы, а в вазе благоухали полевые цветы. Начиная лестницей, ведущей на второй этаж, заканчивая входной дверью, на полу возлежал ярко-пурпурный индийский ковёр. Стену украшали художественные работы Рембрандта и Рафаэля Санти, а также массивные часы в духе английских традиций – деликатный вкус хозяина дома явно не знавал конкуренции.
Я повернулась лицом к Джеймсу, стараясь вложить в силу взгляда как можно больше устрашающей авторитетности.
– Это омерзительно! То, что вы позволили себе, не должно оставаться безнаказанным!
Продолжая ухмыляться, Джеймс направился к столику, налил красного вина и лениво устроился в кресле.
– Что так смутило вас?
– Вы истязали Каприс!
– Нет.
– Вы её били!
– Нет.
Я начинала терять терпение.
– Она обо всем рассказала. Как по-вашему, кому больше веры: вам или ей?
Джеймс отпил из бокала и, с равнодушной грациозностью перебирая его в руке, следил, как вино, точно багровая кровь, медленной волной скользит по хрустальным стенкам. Он отчужденно прищурился, словно в голову проникло осознание того, чем тяготился обремененный разум, и до боли безразличным тоном сказал.
– Смотря, кто возьмется верить.
– Опять вы пытаетесь меня запутать! На сей раз не выйдет!
Мои жалкие угрозы никак не трогали его – Кемелли оставался безучастным и непринужденным. Он снова приложился к бокалу, затем, ловко вскочив с кресла, вернул его на стол и достал трубку. Набив её до отказа, он закурил и размеренным шагом направился к стене, где висели часы.
– Время… – говоря монотонно, он остановился возле них, слегка запрокинув голову. – Оно коварно, согласитесь? Репутация его сомнительна. Время обвиняют в многочисленных убийствах, но те обвинители забывают, что благодаря определенному времени происходит и рождение, без которого не было бы убийства, – он затянулся трубкой и продолжил на выдохе. – Вы правда считаете, что обсуждать с вами столь взрослые откровения будет правильным?
Я покраснела. Летя сломя голову, чтобы восстановить баланс между добром и злом, я была абсолютно не готова вдаваться в подробности произошедшего. Однако, контекст о времени меня насторожил. Что он хотел этим сказать?
– Если подобные мерзости вы опишите слогом искусного прозаика, мне нечего тут делать, – брезгливо сказала я. – Так что ограничьтесь двумя словами.
Он воздержался пару секунд, по-прежнему стоя ко мне спиной.
– Я делал лишь то, что позволяла она.
– Но на ней следы истязаний!
– Это называется несколько иначе…
Он резко обернулся, лукаво глядя мне в глаза. Беседа была деликатной. Кемелли рассуждал беспристрастно, без амбиций, смущений, а я чувствовала себя крайне неловко и пожалела, что предалась воле исступления.
– Вы полюбили Каприс? – наконец выдавила я, пытаясь сгладить уничтожающе стыдливую атмосферу.
– Нет.
– Тогда зачем вы согласились провести с ней ночь?
– Инстинкты. Я вам противен?
– Более чем вы сумели бы себе представить.
Джеймс хмыкнул, принимаясь мерить комнату шагами исследователя.
– В таком случае, вы презираете не меня, а природу, которая создала меня таким.
– Вы животное! – воскликнула я.
– Отчасти так, – он снова приложил трубку к губам.
– Вы не думаете о чувствах других! Неужели вам никогда не бывает гадко от себя самого?
– Нет. Я принимаю всё явным, а не в призрачной дымке ложного восприятия. Право, я не знаю о каких чувствах идёт речь! Каприс не любит меня. Она хотела получить удовольствие – она его получила. Я в ответе за то, что сделал, но не за то, каким образом вынесла в свет эту ночь Каприс.
Последние слова Джеймса заставили меня задуматься. Каприс действительно была заинтересована в том, чтобы Летиция считала Джеймса чудовищем. Потому приложила колоссальные усилия для убеждения сестры, не забывая обогатить события искаженным смыслом. Пожалуй, коварству завистливой женщины в природе нет равных…
8
На следующий день чуть свет в мою комнату постучали. Глубокие раздумья и сон, где Летиция падает в омут, не дали полноценно отдохнуть. Разбитой я встала с кровати и открыла дверь.
– Белла, мне срочно нужна твоя помощь! – выдала Летиция, залетая в комнату. Её лицо рдело, а глаза переливались отчаянием. Она говорила так быстро, что была непонятна суть её просьбы. – Нужно скорее всё сделать, пока он не вернулся! Я видела, Джеймс дома, в кабинете отца. Кабинет на первом этаже, первая дверь налево. Запомнила?
Она протянула неподписанный конверт и повернула меня к шкафу, подразумевая, что мне надлежало одеться. Я вспыхнула, поворачиваясь к ней лицом.
– Объясни по порядку, чего ты от меня хочешь?
– Ради всего святого, сделай для меня эту малость! – Летиция крепко вцепилась в мои руки. – Я больше никогда тебя ни о чем не попрошу! Клянусь! Тереза сказала, Уильям собирается женить Джеймса на Каприс. Это мой последний шанс! Надо чтобы Джеймс прочел моё письмо до прихода отца. Тогда он не станет жениться на ней! Белла, не бросай меня в беде! Умоляю!
Из глаз Летиции брызнули слезы, заставившие меня наскоро совершить туалет и быстро (насколько позволяла нога) прийти к дому Кемелли. Я громко постучала несколько раз, но мне никто не отворил. И тогда я набралась дерзости тихонько войти.
В доме летала тишина; не было посторонних звуков и шагов, и стоило полагать, в доме действительно никого не было. Слева находилась дверь, где по мнению Летиции располагался кабинет старшего Кемелли и там должен находиться Джеймс. Не нарушая этикета, я постучала и спокойно вошла. Джеймса в комнате не оказалось. Ближе к окну располагались письменный стол с выдвижными ящиками и прилежно сложенной макулатурой и два широких кресла, под ногами персидский ковёр, сбоку закрытый шкаф – пышная обстановка этого дома не обошла стороной и эту комнату, почитающую строгость за успех решаемых здесь моментов.
Я собиралась уходить, как вдруг со стороны двери послышались чьи-то расторопные шаги. Они приближались очень быстро, и времени на раздумья оставались секунды. Я предположила, что в кабинет направляется Джеймс, что было мне на руку; но моё присутствие в чужом доме при таких обстоятельствах выглядело крайне нелепо и подозрительно. Меня охватило стыдливое волнение. Что если в кабинет поспешает сам Уильям Кемелли собственной персоной? Страшно представить, каким образом придется объясниться, почему нахожусь в кабинете без положенного разрешения хозяина. Моё сердце отчаянно металось в груди.
– Чудесная выдалась прогулка, – сказал мужской, сипловатый голос.
Не найдя лучшего убежища, я открыла шкаф (в одной стороне лежали книги, в другой – висели сюртуки) спряталась в одежде и стала наблюдать сквозь щель между закрытыми дверцами. Дверь в кабинет распахнулась; показалась статная, мужественная фигура мужчины лет пятидесяти, полностью седого, с гладкими приглаженными волосами. Черты его маленького лица были необычайно благородны. На пальцах ухоженных рук отливали блеском драгоценные перстни, в кармане – часы на цепочке, в глазу – монокль; одежда опрятна и новомодна. Это и есть Уильям Кемелли, подумалось мне. Вторым был Адриано Медичи.
Уильям обошёл стол и сел в кресло, жестом показывая на свободное место напротив.
– Благодарю, – сказал Адриано. – Уильям, так о чем ты хотел поговорить?
Синьор Кемелли достал сигареты из стола и предложил Медичи. Тот угостился одной со словами благодарности; вскоре оба пускали сизый дым, копаясь в собственных мыслях. У меня дрожали ноги. Шкаф был сделан из добротного дерева, и щелей практически не было, кроме той, что оставила. Воздуха становилось всё меньше; да и тот представлял собой смрад, в котором смешались духи, запахи старой одежды, пыли, и от него кружилась голова. Моей задачей было не впадать в отчаяние.
– Дорогой друг, – чувственно сказал Уильям, стряхивая пепел. – Ты знаешь, семья Кемелли владеет плантацией десятки лет, и мы прекрасно знаем о семьях друг друга…
Адриано Медичи понимающе кивал, и Кемелли продолжал вкрадчивым, деликатным тоном.
– Да, мы уроженцы разных стран. Но на пороге современности нет смысла отделять одних от других. Насколько мне известно, ты собираешься выдать дочерей замуж, а я планирую положить конец холостяцкой жизни сына. Почему бы нам не избавиться от проблем обоюдно? Давай обручим моего сына Джеймса и твою дочь Летицию.
Поочередно потирая пальцем размашистые, черные усы, Адриано старался выглядеть деловитым, но блеск хитрых маленьких глаз выдавал его. Он слегка помедлил, отяжеляя воздух интригой своего решения. Кемелли ждал с присущим достоинством английских джентльменов.
– Caro! Клянусь, я польщен твоим предложением. Оно требует некоторого времени на размышление. Все-таки обе мои дочери – достойные девушки, и многие в Италии почтут за честь сродниться с нами.
Было понятно, что Медичи набивал себе цену. По всей видимости Уильям сразу раскусил честолюбивые помыслы гостя и сдержанно улыбнулся.
– Согласен. Не зря же и я не устоял от такой выгодной сделки.
Они обменялись улыбками, как два предусмотрительных торговца, боящихся упустить удачу, чувствуя, как та ускользает у них из рук. Адриано ещё немного подумал.
– Видишь ли… – неторопливо изрёк он. – Твоё предложение смутило меня не своей внезапностью, а сутью.
– Без пояснений наш диалог обречён на провал, дорогой друг, – ответил Уильям. – Что мешает тебе согласиться на их брак?
– Пойми меня правильно, Уилл. Мои девочки имеют небольшую разницу в возрасте, тем не менее, сперва я бы хотел выдать замуж Каприс, а не Летицию.
Уильям галантно склонил голову и взглянул на собеседника смеющимися глазами.
– Понимаю, Каприс – прекрасная партия. Она красивая и бойкая. Но мне бы хотелось, чтобы жена Джеймса обладала такими качествами, как смирение и мудрость. Не сочти за оскорбление, я ни в коем случае не хочу задеть твои отцовские чувства. Однако, смею заверить, что Джеймс и Летиция больше подходят друг другу.
Адриано помолчал, делая глубокую затяжку сигаретой. Я предположила, что ответ у него был готов тут же, и лишь для большей важности он тянул время. Уильям глядел на него тем же величественным взором, продолжая спокойно курить.
– Что ж, по рукам: Летиция так Летиция. В конце концов я устрою судьбу обеих дочерей, и не важно сейчас или несколько позже.
– Абсолютная правда.
То, как Уильям держался в переговорах, сулило ему достижение немалых побед. Для мужчины он имел довольно мягкий, красочный голос, что могло сослужить ему службу на сцене; его жесты – эталон учтивости, его мимика благородна и своевременна; галантность сочеталась в нём с королевским достоинством. Удивительно, что Джеймс не унаследовал ни одну из богатства черт любезного характера синьора Кемелли.
Они докурили сигареты в гробовом молчании. Определённо, друзьями их было не назвать. Вопреки тому выражали взаимные почёт и радушие.
– Мы ждём вас завтра на обед, – вставая, сказал Медичи, – обсудим детали обручения.
Они пожали руки, и Адриано удалился.
Пораженная открытием, что женой Джеймса станет не Каприс, а Летиция, я снова убедилась, что полагаться на слухи глупо, даже если первоисточником служила уважаемая женщина Тереза. У меня спирало дух от мысли, что Уильям откроет шкаф и обнаружит меня там. Я металась между позором и паническим отчаянием рассекретить себя. Пока мною совершался выбор, синьор Уильям встал с места и повернулся лицом к окну. Сложив руки за спиной, он размышлял. Его задумчивость не улетучилась даже, когда в кабинет энергично постучали.
– Войдите.
Дверь отворилась, и показался Джеймс.
– Ты хотел меня видеть? – спросил он отца безучастным голосом.
Не оборачиваясь, Уильям жестом указал на кресло. Джеймс повиновался.
– Ты уже не мальчик, Джеймс. Скоро тебе исполнится двадцать девять, а ты до сих пор не определился в жизни. Я не смогу жить вечно, не смогу контролировать твои действия, которые без надлежащего контроля покинут чертоги здравого смысла, что в свою очередь лишит тебя счастья. Ты бездарно ведешь контору. Увы, наше дело под твоим руководством выроет себе могилу на загубленных возможностях. Я нашёл выход. Я надеюсь, семейное положение пойдёт тебе на пользу.
Уильям повернулся к сыну, вероятно, не понимая его реакции. Казалось бы, тот момент, когда решается будущее, имеет огромное значение для каждого человека. Джеймс все также оставался безучастным, словно собственная судьба виделась ему игрой, где он повинен предопределению. Он слушал внимательно, не выказывая ни взором, ни мимикой того изумленного пренебрежения, на которое рассчитывал Уильям. Лицо Джеймса отдавало тайной. Вспоминая тот день и развитие последующих событий стало многое ясно о Джеймсе Кемелли. Только не тогда. Сидя в шкафу, я не знала, что прячется за стеной его серьезности.
Уильям плеснул в стакан воды и, сделав глоток, утер капли пота, выступившие на висках.
– Я назначил твоё обручение с дочерью Медичи, –Джеймс по-прежнему молчал, продолжая смотреть равнодушно. Уильям глядел на него свысока. – Даже не спросишь на какой из дочерей?
– Обручение назначено, – спокойно молвил Джеймс. – Есть ли разница?
Искушенный провокацией Уильям окончательно рассердился.
– Прекрати извиваться, словно уж на сковородке, делая из меня тирана! – гневно вскричал он. – Пойми ты наконец, я хочу для тебя лучшей доли! Одиночество – незавидная участь. При таком отношении к судьбе один ты погибнешь. Что дано тебе жизнью кроме абстрактности мышления, которая только мешает жить как все нормальные люди?
– Кто определяет, что нормально, а что – нет? И на основании чего выносят вердикт в пользу того или иного?
– Хватит меня дурачить своими философскими размышлениями! Кем ты себя возомнил?! Мудрецом? Миссией?
– Нет. Я ни тот и ни другой. Я всё, и я ничто. Я преследую иные цели.
– Интересно какие? – Уильям навис телом над столом. – Только не говори, что музыка достойна почестей! Музыка – ограниченный род занятий. Принесет ли она истинное удовольствие, когда по воле злого рока, к примеру, ты лишишься слуха или зрения? Женщина – самый проверенный способ согреться ночами; и телом, и душой. Кому ты будешь нужен, когда превратишься в беспомощное, жалкое насекомое? Может быть, скрипка даст тебе пищу, подогреет суп или приласкает в горькие часы? Ах, прекрати эту шекспирщину!
Джеймс вызывающе посмотрел в глаза отцу.
– Если говорить о музыке, которая снаружи – ты прав, она действительно несовершенна и хороша при определённых обстоятельствах. Но музыка, рожденная и оживающая внутри, не нуждается в условностях. Она идеальна.
– Джеймс, твои сужденья легкомысленны, поверхностны! Нельзя прожить увлеченьями – нужно зарабатывать себе на хлеб. Я сколотил немалое состояние, но ты не получишь ни крупицы из того, если не бросишь валять дурака!
Джеймс не сводил ясных, проникновенных глаз с отца. Во взгляде Уильяма говорили твердыня и злость. Джеймс поспешно встал:
– Доброго дня, – мягко сказал он и сразу удалился.
Я припомнила слова Джеймса, сказанные им при первой встрече наедине: «Добро и зло – понятия относительные», и мне показалось, в ту самую минуту заявленного добра он отцу не желал.
Когда шаги сына стали отдаляться, Уильям тяжело вздохнул и тоже покинул кабинет.
9
Уже спустя многие годы меня спрашивали: каким вам виделся великий гений Джеймс Кемелли? Я затруднялась дать конкретный ответ. Наши беседы были мимолетны, а выводы запутанны. Описать в двух словах противоречивую натуру, в которой по юности блуждал сам гений, было невозможно. На первый взгляд Джеймс представлял собой обычную геометрическую фигуру, мало отличную от других фигур, живущих по законам науки и повинную общим правилам. На самом деле это было заблуждение. Стоило лишь углубиться в биографию, знакомую единицам, и становилось понятным, что та повинность Джеймса была наигранной видимостью. Ввиду некоторых сил, упомянутых им в одном из наших разговоров и понятую мной значительно позже, видимость сохранялась многие годы. Но никакая сила невластна спасти урожай от налетевшей саранчи. Джеймс служил урожаем для несравненного дара, который будто саранча зародился в теле младенца и остался пожирать его до конца бренных дней.
Избирательность памяти – вещь уникальная. Признаться, начинаю забывать многие встречи, суть разговоров; иногда не помню, куда положила свои очки для чтения или записную книжку; зато воспоминания, связанные с Джеймсом, не боятся палача, именуемого временем. Они будут существовать в памяти, пока дышащее тело не покинет жизнь.
Я помню, как сейчас, тот день, когда отсиживалась в шкафу кабинета Кемелли. Ноги дрожали, тело бил озноб от стыда возможной развязки. К счастью, мне удалось остаться незамеченной. Я проскочила в гостиную к парадной двери как раз, когда Джеймс спускался по лестнице.
– Вы снова пришли читать мне нотации? – спросил он сухо. – Спешу огорчить: сегодня я в ужасном расположении духа.
То было правдой: Джеймс был необычайно хмур; редкие бесформенные брови сдвинулись, а в глазах жила пустота.
– Нет, я пришла отдать вам это.
Я протянула ему письмо Летиции. Джеймс устало посмотрел на него, вялым движением взял послание и тут же порвал его пополам, протягивая назад его кусочки. Я остолбенела, глядя на изничтоженное письмо, на которое Летиция возлагала святую веру. Джеймс отошёл к патефону у дальней стены, где располагался секретер с ящиками, и поставил музыкальную пластину. По комнате разнеслась торжественная мелодия «Времена года. Осень[8 - Произведение для скрипичного концерта венецианского композитора Антонио Вивальди, написанное в 1723 году.]». Точно прикованная, я стояла на месте, стараясь вернуть себе дар речи и способность формулировать вопросы. Джеймс не отрывал глаз от крутящейся пластинки.
– Вам не интересно, что там написано!? – удивленно спросила я.
– Мне всё равно.
– Даже не спросите от кого оно?
– Я не жду писем. Всё равно.
– А я скажу от кого. Может, тогда вы задумаете все-таки его прочесть.
Не дожидаясь моего ответа, Джеймс открыл ящик секретера и достал стопку писем, связанную шпагатом.
– Вот, прочтите… если вам любопытно, – Джеймс небрежно швырнул её на круглый стол. – Уверен, автор у них один и тот же.
Я взглянула на верхнее письмо. На белом запечатанном конверте посередине красивым, прилежным почерком выведено: «Джеймсу Кемелли». Казалось, каждая буква обычного имени несла в себе ту безвинную прелесть любви, что переполняла душу отправителя. Когда Каприс говорила о письмах Летиции к Джеймсу, я полагала, она отправила одно, два письма – не более. На деле их было порядка шестидесяти! Я подняла глаза на Джеймса. Он выглядел отчужденным, изредка касаясь указательным пальцем играющей пластины. В его глазах не было ясности и фанатизма к загадочным фразочкам, вносящим путаницы в сознание тех, кто состоял с ним в диалоге. Душа словно покинула его тело, и слова «мой бедный мальчик» из уст Терезы подошли бы как нельзя кстати. Мне не терпелось разобраться в его личности так, как это делает врач, надеясь сыскать недуг у тяжелобольного. Я смотрела то на него, то на стопку нераспечатанных писем.
– Вы не вскрыли ни одного конверта?
– Одно вскрыл и пожалел об этом.
Наш разговор прервал стук в дверь. С каждой секундой он становился громче. Лицо Джеймса возвращало себе ровный тон повседневности; он даже не сдвинулся с места. А неизвестный гость продолжал настойчиво тарабанить.
– Разве не слышите, в дверь стучат? – не выдержала я.
– Пускай.
Он говорил сухо, равнодушно, точно рот открывался без его воли на то; только потому, что из мозга поступали нервные импульсы. Я продолжала взывать к его совести.
– Открывать в вашем доме я не могу. Так не принято!
– Так не открывайте же.
Стук не прекращался, и спустя несколько мгновений, не выдержав, я повернулась к двери и открыла её. Не растрачиваясь на любезности, в комнату влетела Каприс, возбуждённая и румяная от досады, что ей не оказали должного внимания. Приравнивая меня к мебели роскошной гостиной, она даже не взглянула в мою сторону и сразу метнулась к Джеймсу. Её яростное лицо обдавало ненавистью.
– Тебе сложно открыть? – взревела она.
Джеймс не потрудился поднять глаз, отвечая монотонной холодностью.
– Убирайся к дьяволу.
– Это после того что с нами было?!
Для большей убедительности Каприс громко кричала, размахивая руками. Право, женские истерики так банальны!
– После того, как я жестоко истязал тебя?
Я поняла, что Джеймс хотел отмыться от грязи сплетен Каприс, вылитой на него.
– Нам нужно поговорить, Джеймс, – Каприс замялась, вероятно вспомнив, что я нахожусь за спиной. – Белла, я попрошу тебя выйти.
– Она останется, – тем же пренебрежением ответил Джеймс. – Хочешь – говори, нет – убирайся.
Каприс была поражена, и я – не менее. Джеймс не заботился о манерах. Застывшая гримаса на его ехидном лице была многозначна, и рассудить её не всякий мог. Думается, Джеймс был рад случаю вдоволь потешиться; и в то же время предпочёл бы никогда в жизни не открывать дверь ни для одной из дочерей Медичи. Они забавляли его и навивали скуку.
Каприс ломала руки. Её всклочному характеру смущение было неприсуще, но тогда ей было неловко вести в открытую довольно личную беседу.
– Джеймс, ты так жесток ко мне… Нам было так хорошо вместе. Вспомни, той ночью ты говорил, что у меня есть всё, чтобы увлечь мужчину и подчинить его себе. Ты ошибся… я невольна перед тобой и твоим равнодушием. Прошу, сжалься! Неужели ты не видишь, как я беспомощно влюблена в тебя?
Джеймс поразмыслил с минуту.
– Вижу… что не влюблена. Твои чувства лишены искренности и напитаны ядом. Они иного характера, нежели о котором говоришь ты.
– Чушь! Я люблю тебя!
– Нет. В тебе говорит дух лидерства. Ты хочешь затмить сестру и доказать всем, что ты лучше её. А теперь уходи.
– Ты женишься на ней? Она тебе больше по нраву? Как ты можешь так поступать со мной после того, как я отдала тебе свои честь и достоинство? Подарила тебе всё, что у меня было! Играла в твои грязные игры! А теперь ты выбросил меня, как использованную шляпу, и такой чистенький, с незапачканной репутацией пойдешь под венец с моей сестрой, сделав вид, что ничего не произошло?
Джеймс не обмолвился, хотя Каприс продолжала сыпать бессмысленными вопросами, кидаясь то к нему, то по комнате, как дикая свирепая кошка. Она была крайне уязвлена. Её лицо исказилось злобой и досадой, и, наблюдая за ней, я никак не могла взять в толк, почему Каприс заслуживала многочисленные симпатии мужчин. Должно быть, многие различали в ней пыл и красоту. Но тот пыл обладал разрушающим действием, а красота была корыстной приманкой. Как только появлялся поклонник, Каприс впускала в него жало коварных помыслов, обесточивала и забирала силу. В природе так расчётливо поступает самка богомола, уничтожая того, кто некогда был ей близок плотью. Помимо корыстолюбия в Каприс присутствовала ещё одна утомительная особенность – её было слишком «много» во всем: в разговоре, где болтала громче всех; в действиях и взглядах, которые расточала с пристальной дотошностью охотника. Дома будто бы всё вертелось только вокруг неё, и порой казалось, старшие Медичи забывали, что у них есть ещё и младшая дочь Летиция. То, что безвозмездно прощалось Каприс – другой не сходило с рук. Летиция была довольно смиренной, чтобы оказывать неуважение к старшим, что объяснялось проживанием на родине. Каприс в детстве перенесла тяжёлый грипп и долго лечилась в Германии. Это оказало существенное влияние на формирование пренебрежительного поведения. Порой она забывалась, что перед ней не обычная немка-горничная, а почитаемые родители, ровно как в те минуты позабылась, что непристойно столь вызывающе вести себя в доме постороннего мужчины.
Джеймс продолжил сохранять молчаливую позу. Его равнодушие удивляло. В той картине жестокого романтизма различалась нерушимая власть мужского самообладания, сковывающая льдом безразличия, а также ничтожность человеческого духа. Мы – рабы мыслей, иллюзии чувств. И беспомощность Каприс служила наглядным примером слабости. До конца я не могла судить о водах, наполняющих её внутренний мир. Откровению со мной она поддавалась только, когда дело касалось сводной сестры. Кроме того, много ли я смыслила в любви в те годы? Был ли тот случай проявлением любви или нелегкой погоней за первенство – оба варианта выглядели убого.
В конце концов Каприс сдалась.
– Женившись на ней, ты разобьешь моё сердце… – пролепетала она.
– Мне всё равно на тебя, твои чувства и твою мольбу. Проваливай к дьяволу.
Не умея достойно терпеть поражение, Каприс огляделась по сторонам и, увидев стопку писем на столе, схватила связку и швырнула на пол – это последнее, чем она могла смягчить рану ужаленного самолюбия. Джеймс повернул голову в ту минуту, когда Каприс, оттолкнув меня в сторону, вылетела из дома Кемелли, захлопнув дверь.
– Что вы об этом скажите? – спросил Джеймс, растягивая на губах таинственную улыбку.
– Это отвратительно! – воскликнула я. – Вы были непростительно грубы с Каприс.
– Я лишь вёл себя так, как позволяла она. Это дешевый спектакль, не более. Она слишком вжилась в одну роль, чтобы другие играть талантливее.
Те слова Джеймса открыли мне тогда глаза на причину его безжалостности к Каприс. Я часто задумывалась над ними и, наконец, поняла, что главный кирпичик, благодаря которому строится та или иная связь между двумя людьми – это присутствие в них чувства самодостоинства, уважения самого себя, границ дозволенного. Согласно этому на подсознательном уровне оценивается самомнение другого человека и выбирается соответствующая модель поведения по отношению к нему. Есть в этом некая зеркальность: что отдаешь в мир, то и получаешь.
Джеймс долго наблюдал за Каприс. Сама того не замечая, она потеряла к себе уважение тем, что позволяла издеваться над собой – именно так Джеймс и поступал, напоминая картину, где самый кровожадный хищник прежде, чем кинуться на жертву, сначала изучает её, ищет слабые стороны, сопоставляет силу своей силе. Ни с одним львом не станет сражаться гиена; трусливо поджав хвост, она умчит в прерии и станет выжидать. И, только когда лев ослабнет, она снова кинется в борьбу за лидерство…
– Почему вы избегаете Летицию? – вдруг спросила я.
– Прочтите одно из писем, – предложил Джеймс. – Неважно какое. Уверен, они похожи как две капли воды. Возможно, тогда ваш вопрос станет бесполезным.
Мне вспомнился дядюшка Джузеппе, который с детства прививал мне элементарные нормы; он говорил: «Нельзя читать чужих писем. Письмо обладает особыми правами, и вникать в тайный смысл послания равносильно зайти в комнату чужого дома, где хозяин дома наг.» Джеймс был настойчив. Неясно, зачем ему понадобилось, чтоб я познала суть его интриг, все-таки я забрала последнее порванное письмо.
Выйдя из дома Кемелли, я застала Каприс на веранде. Она ходила взад-вперёд, покусывая пальцы. Завидев меня, она подскочила ближе и крепко обняла.
– Прости! Не знаю, что на меня нашло… Словно бес вселился! Я не хотела тебя толкать. Ты же понимаешь, я не могу обидеть…
Каприс замялась, и я не без иронии добавила.
– Калеку?
Она отстранилась, а в её круглых знойных глазах витало сострадание, от которого хотелось убежать.
– Говори. Не стесняйся! – сказала я, желая поставить её в затруднительное положение. А получилось совсем наоборот.
– Белла, мне правда жаль. Мы скоро выйдем замуж: я, Летиция… Тебе, наверно, обидно и больно смотреть на счастье других. Ведь вряд ли кто-то мечтает жениться на ущербной.
Слегка оторопевшая, я старалась проникнуть в беспардонные глаза Каприс. Она смотрела придирчиво, наглым взглядом бесчестия. Она была неглупа и вполне соображала, какую рану могла нанести подобными словами невольному игроку того антракта; она хотела отомстить мне за момент позора, свидетелем которого я стала.
– Ты знала, что женой Джеймса станет Летиция, а не ты, – неожиданно сказала я.
Каприс растерялась, пряча глаза. Я продолжала натиск.
– Ты соврала Летиции, что Джеймс женится на тебе, чтобы нанести ей удар. Вдобавок втянула в эту бесчестную игру доброе имя Терезы.
Каприс метнула на меня гневный взгляд.
– Не могла я сидеть, сложа руки. Джеймс неровня ей! Летиция – ангел, а Джеймс – сатана. Он обязательно её погубит!
– Ложь! Ты и не думала о сестре. Тебе хотелось досадить ей, и ты выбрала самый жестокий метод. Это гнусно и подло! Прежде, чем жалеть меня, пожалей лучше себя. Физическое уродство ничто по сравнению с моральным…
10
Вечером, когда домочадцы Гвидиче разбрелись по комнатам, я спустилась вниз в столовую, чтобы прочесть письмо Летиции. Там горел свет керосиновой лампы, за столом сидела жена Антонио – Доротея. Гладко приглаженные волосы её были зачесаны назад в солидную прическу, а плечи прикрывал большой кружевной платок. Она немного сутулилась и, вероятно, пребывала в трепетных раздумьях, поскольку шум моих шагов не заставил её обернуться. Я села рядом; Доротея смахнула рукой слезу, бегущую по щеке, и поспешно выпрямилась.
– Дороти, что случилось? – поинтересовалась я.
– Ничего особенного. Услышала музыку со двора и слегка задумалась. Grazie.
Она продемонстрировала улыбку: такую мягкую, безмятежную и счастливую. Я не поверила ей. Её лукавство только оживило мой интерес. Я никогда не замечала в ней неистовой грусти, а уж тем более не заставала в слезах.
Доротея была одной из тех людей, которыми нельзя ни восхищаться. Точнее не сказать: примерная мать семейства, обладающая набором самых отменных качеств. Встречая такого человека, сложно поверить, что перед тобой чистой воды идеал. Это сразу наталкивает на поиски порочных истоков внутри благочестивой натуры. В Доротее я не сыскала греховного. Она была разной в соответствии с ситуацией: нежной и целомудренной – когда возилась с детьми; любящей и доброй – с супругом; элегантной, изящной – при выходе в свет. Да и помимо аристократичного характера в ней присутствовала гармония души и тела. Её утонченную фигуру многие находили привлекательной. Она имела довольно приличные округленные формы. Красивое загорелое лицо Доротеи легко бы вписалось в эпоху Возрождения: над светло-изумрудными распахнутыми глазами парили изящные тёмные брови, и взгляд у неё был всегда томный, очень притягательный. Помнится, один приезжий художник родом из Венеции, Альфредо Риччи, так увлекся благолепием синьоры, что попросил у Антонио разрешения написать портрет Доротеи. Антонио только что не поколотил наглеца.
– Она будто тень Мадонны! – приговаривал Альфредо. – Bellissimo[9 - Прекрасна (итал.)!]! Я беспомощно влюблён!
Доротея всегда держалась холодно в разговоре с другими мужчинами, воздыхателей вовсе сторонилась. Их счастливый союз с Антонио вызывал зависть. Они никогда не ругались, что делало их брак прочным, как гранит. Всякий раз, когда они спускались вместе по лестнице, и Антонио галантно подавал руку Доротее на последней ступени, я была готова отвесить низкий поклон за невероятную теплоту, которая исходила от четы. Вокруг них витала святая любовь!
Находясь в обществе, Доротея всегда следила за беседой, чтобы своевременно положению вставить меткое словцо; речь её изливалась связным плавным водопадом. Она явно избегала случаев, когда могла кого-то невольно обидеть или унизить. Однако, в ту злосчастную минуту она явно хотела избавиться от моего присутствия. Мы не были близки – Доротея не воспринимала меня всерьёз в силу разницы в возрасте. Ее сердце что-то мучило, что-то неистовое и мятежное, но Доротея не собиралась открыться мне.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36329185?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
«Прекрасную фигуру (итал.)»
2
Запеченный рулет из свинины без костей.
3
Иначе Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (1445 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1445) – 1510 (https://ru.wikipedia.org/wiki/1510) гг.) – великий итальянский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) живописец (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) эпохи Возрождения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), представитель флорентийской школы живописи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8).
4
Известный портрет Рафаэля Санти (1483 -1520 гг.) – великого итальянского живописца, графика и архитектора, написанный около 1505-1506 гг. Высокий Ренессанс.
5
Картина Альбрехта Дюрера (1471 – 1528 гг.) – немецкого живописца и графика, созданная в 1505 г. Северное Возрождение.
6
Итальянская выпечка.
7
Дорогой (итал.).
8
Произведение для скрипичного концерта венецианского композитора Антонио Вивальди, написанное в 1723 году.
9
Прекрасна (итал.)!
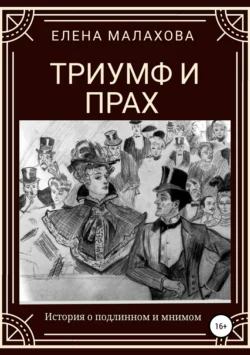
Елена Малахова
Тип: электронная книга
Жанр: Философия и логика
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 04.01.2025
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Книга повествует воспоминания пожилой Изабеллы Гвидиче о выдающемся человеке, именуемом в простонародье Сатаной. За долгие годы своей жизни ей довелось стать свидетелем роковой истории и разобраться, за какие грехи Джеймса Кемелли – сына известного адвоката в Лондоне, окрестили, как исчадие тартара. Кто же он был на самом деле: гений или дьявол?