Не первое лирическое отступление от правил (сборник)
Не первое лирическое отступление от правил (сборник)
Андрей Вадимович Макаревич
Андрей Вадимович Макаревич – писатель, безусловно. Легенда русской музыки, поэт, художник. Вечный юноша с лицом Ноя, ибо на его «пьяном корабле» мы все плавали.
«Старый корабль»… Между тем, думается, в строчках будущей Wiki Андрей останется писателем, подтверждением тому «Не первое лирическое отступление от правил», и не последнее, ибо мальчики не сдаются.
Андрей Макаревич
Не первое лирическое отступление от правил
© А. Макаревич, текст, иллюстрации, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Лирические отступления
Первое лирическое отступление
Господи Боже, до чего же неловок и хрупок человек, как тонка и прозрачна его кожа, как ненадежны сочленения и суставы – и как же он при этом беспечен, заносчив и самонадеян! Еще пару часов назад вы полагали себя полным хозяином собственной жизни, а сейчас стоите, дрожа, в больничном коридоре и с запоздалой осторожностью поддерживаете левой рукой то, что совсем недавно было вашей правой, а теперь она чужая, при малейшем движении гнется не там, где должна, и вы чувствуете, как внутри нее что-то противно задевает друг о друга и всякий раз при этом холодный пот выступает у вас на лбу и тоненько бежит по спине – не от боли, нет, – от ужаса перед внезапной своей беспомощностью. И вас ведут на рентген, а вы уже знаете, что там случилось – когда что-то действительно случается, ощущения не обманывают. И вот на черной пленке ваша прозрачная ручка, и цыплячья косточка внутри нее сломана ровно пополам, и вокруг маленькие крошки. А дальше вам облепили плечо и руку противным холодным гипсом, он нагрелся, застывая, на шее у вас повисла неудобная незнакомая тяжесть, и – на выход, ждать, когда освободится место в палате. Но вы не уходите, потому что совершенно невозможно вернуться в ту, нормальную жизнь в таком виде и состоянии даже на время, и вы мечтаете только об одном – чтобы все, что с вами должны здесь проделать, началось и кончилось как можно скорее. Поэтому обреченно бродите туда и обратно по коридору, глядя в больничные окна – там слякоть, голые деревья, проезжают грязные машины, идут озабоченные люди и не ведают своего счастья.
А знаете, чем пахнет больница? Во-первых, чем-то, чем наводят чистоту, но не бытовую, человеческую, а после того, как кто-то уже умер. Хлорка, карболка? А еще – столовой пионерлагеря: перловый суп, подгоревший лук, маргарин. А еще – тем, чем пахнет в кабинете зубного врача: это смесь запаха то ли спирта, то ли эфира с запахом человеческого страха. А мимо стремительно проходит главный врач, и еще утро, а у него уже усталое лицо, и вдруг ловишь себя на том, что специально торчишь в коридоре у него на пути, чтобы он тебя увидел и поскорее положил в палату, а это глупость – койка от этого раньше не освободится, и все равно торчишь, потому что лечь хочется немыслимо, и когда он проходит, пытаешься поймать его глаза, и не получается – он про тебя помнит, но не тобой занята сейчас его голова – вас тут много, а он один.
И вот наконец койка свободна, но это ты по старой памяти думал, что взлетишь на нее, как птица, и лежать будет удобно, и хотя над ней висит специальная ручка, как в трамвае, для здоровой руки – карабкаешься на нее медленно и неуклюже, а когда вскарабкался – оказалось, что лежать совсем невозможно: нет такой позы, чтобы твоей каменной руке стало удобно, и вот тут она начинает болеть. Начинает уверенно, не спеша, с расчетом на длинную дистанцию. И проваливаешься в какой-то липкий черно-белый полусон, где нет ни времени ни мыслей, и только бывшая твоя рука, пульсируя на острие боли, не дает отплыть от убогого причала реальности.
Вечером приходит маленькая круглая медсестра. Она несет на подносике, как официант в ресторане, твои уколы. Она хохотуха, и вдруг понимаешь, что это она не чтобы тебя утешить, а просто у нее такой характер, и от этого почему-то становится легко.
И совсем уже легко становится утром, когда тебя переложили на каталку, накрыли простыней и везут по коридору в операционную, это совершенно новое смешное ощущение, тебя так еще ни разу не катали, ты едешь, как торт на праздник, и больничные лампы пролетают над тобой, и больные в коридоре заглядывают в твою каталку, как в блюдо – кого это там повезли, и вообще разница только в том, что везут тебя головой вперед. Везут уверенно и быстро, и ты совершенно успокоился, потому что с этой минуты от тебя уже ничего не зависит. А еще потому что во всех движениях врачей ощущается безошибочность, граничащая с автоматизмом – это у тебя все пока впервые, а у них каждый день такой, значит, правда, ничего особенного. А операционная недалеко, и неясно, за что тебе такая честь – прокатиться на тележке, и немножко неловко, и предлагаешь дойти самостоятельно. Смеются – нельзя.
И вот операционная наехала на тебя, знакомый уже врач – ты узнал его по глазам, на всех повязки – он шутит, над тобой огромная космическая лампа, все очень торжественно. И даже мысль о том, что сейчас этот чужой тебе человек полезет маленьким острым ножичком внутрь тебя, живого, не пугает. Интересно только, как ты будешь засыпать. Тебя уже однажды в жизни усыпляли наркозом, и ты тогда не заметил, как уснул, и сейчас изо всех сил стараешься не пропустить это мгновение. И все равно ничего не выходит, и ты уже в палате, все кончилось, тебя перекладывают на твою койку, и тебе хорошо и весело, потому что из всех ощущений боль возвращается последней. Рука твоя поверх гипса забинтована, оттуда торчит коктейльная трубочка, на нее надет пластмассовый стакан с крышкой, туда из трубочки капает что-то коричневое. Ты представляешь, как эта трубочка уходит под бинтами в самую сердцевину твоей руки, и тебе становится нехорошо. Лучше не смотреть на нее. Но! Тебя починили! Этот доктор залез внутрь тебя и сделал что-то совершенно тебе непонятное – все починил! И теперь твое возвращение к жизни – только вопрос времени! И вот тут хочется есть.
Масса всего нового неожиданного, но уже не трагического. Тебе в палату привозят обед: большие серые кастрюли, красным написано – «ПЕРВОЕ», – и оказывается, что с помощью левой руки вилка попадает в рот легко, а вот ложка – никак! К тому же тумбочка возле твоей кровати устроена так, что сесть за нее как за стол невозможно – упираются колени, и ложку с супом приходится нести очень далеко, это даже здоровому не под силу, и суп капает на пижаму и пока еще девственно белый гипс.
Твой сосед по палате – милейший пожилой человек, но у него все время посетители, а к тебе никто не приходит – ты сам всем запретил, ты не хочешь, чтобы тебя видели с закапанным супом гипсом и за это жалели. А у него все время родственники, они очень тихо разговаривают, но все равно слышно, и встаешь и уходишь шататься в коридор, а там совершенно нечего делать, всю наглядную экспозицию по замене суставов ты уже выучил наизусть, а от прохожих по коридору хочется спрятаться – уж очень ты нехорошо выглядишь, – а родственники от соседа все никак не уходят, а если уходит один, то через полчаса приходит другой, и это невыносимо. К тому же ты уже третьи сутки пытаешься разгадать загадку: под потолком у вас в палате висит маленький телевизор, у вас на двоих один пультик, вы соревнуетесь в воспитанности и все время уступаете его друг другу. В промежутках гуляете по программам, пытаясь найти хоть что-то интересное. Но как только это интересное находится, ваш сосед тут же переключает канал! Он образованный человек, интеллигентный до застенчивости, и, казалось бы, вас должно интересовать одно и то же – что за ерунда? На Земле так много непонятного.
На пятый день все-таки припираются вдруг друзья-музыканты – с поллитрой, солеными огурцами, бородинским хлебом и домашней селедкой в баночке. Ты собирался сердиться – чего приперлись, – а самому вдруг приятно. Черт нас самих разберет. И выпиваем стоя, разложив газету на холодильнике, как положено, и наливаем соседу, и выясняется, что за пять дней я совершенно забыл вкус водки – наверно, когда организм начинает сам себя чинить, он все ненужное выбрасывает – делает генеральную уборку в доме. И друзья ушли, сосед дремлет, а ты лежишь, захмелевший (от ста пятидесяти-то!) и вдруг ловишь себя на мысли, что строишь планы, как будто ты уже здоров и ничего такого не было.
Все, что ли – домой?
Второе лирическое отступление
А знаете, какая самая большая пытка? Это та, которая вплотную прилипает к самой большой радости. И происходит это совершенно одинаково – будь ты в Гамбурге, Нью-Йорке или Омске, ибо наш человек везде одинаков, а последние годы даже более одинаков вдали от родины.
И вот ты отыграл концерт, и он опять получился отличный, хотя никаких предпосылок к этому, казалось, не было – и аппаратура так себе, и самочувствие, и вообще. И когда ты, согретый этим неожиданным счастьем, наконец оказываешься в гримерке и начинаешь стаскивать через голову мокрую рубаху – тут-то все и начинается. Никакие просьбы по поводу того, чтобы к тебе в комнату хотя бы десять минут никого не пускали, не работают. Дверь не запирается, а если вдруг и запирается – в нее будут барабанить, как милиция с ордером на обыск. И вот всовывается первая морда, он толстый и вспотевший, и на лице его еще следы песни «Поворот», которую он только что громко кричал вместе со всеми, а у тебя еще руки не вынуты из мокрой рубашки, и даже когда вынешь, ты его все равно не выпихнешь за дверь, потому что он, как террорист заложника, ведет перед собой бледную немощную девочку лет шести – дочку, и конечно фотографироваться надо будет с ней, хотя ей это на фиг не нужно, она не понимает, куда попала, и ей так же, как и тебе, хочется, чтобы все это быстрее закончилось. И становится тоскливо ясно, что чем объяснять этому толстому, что не надо сюда заходить как к себе домой, проще дать ему щелкнуть, и пусть идет к чертовой матери, но тебе надо сначала хоть что-то на себя накинуть, хотя толстому все равно – он может и так. Потом он будет долго устанавливать ребенка перед тобой, а сам обязательно в это время расскажет, что он рос на твоих песнях и где слушал тебя в восемьдесят втором году, и присутствие шестилетней заложницы не позволит заткнуть ему рот, а лицо его будет светиться таким счастьем и любовью, что у тебя опустятся руки. Наконец он сделал все, что хотел, и уходит, пятясь, но это только начало группового изнасилования. Потому что дверной проем уже заполнен подошедшими. Их объединяет общее выражение лиц. Так смотрит три дня голодавший на жареного цыпленка. Помните старинный фильм про нашествие зомби в универмаг? Они идут небыстро и даже как-то неуверенно, но спасения от них нет. В последнюю секунду удается, как в кино, захлопнуть дверь и прислонить к ней своего директора, но смысла в этом уже никакого нет – ты в осаде. И с тоской вспоминаешь короткий опыт гастролей по загранице, только по настоящей, не русскоязычной – там даже к самой начинающей школьной группе за кулисы не пропустят ни одного человека, даже если за него попросят музыканты. В общем, находится компромисс – за дверью собирают бумажки, билеты, пластинки, сигаретные пачки и заносят в комнату ворохом – на всем этом надо будет сейчас расписаться. Это уже легче, хотя настроение подпорчено, и расписываешься не глядя, и одеваешься быстро, и сквозь строй в коридоре пробегаешь в автобус, правда, по пути надо сфотографироваться с охраной, которая пропустила к тебе всю эту шоблу, с пожарниками и с родственниками организаторов концерта – это святое. И вот ты наконец в автобусе, и все музыканты здесь, и вас везут ужинать в ресторан. Думаете, все? Не тут-то было!
Если это зарубеж, то ты десять раз накануне попросил – пусть это будет какой угодно ресторан: китайский, итальянский, японский, местный – только не русский! Не потому что ты русофоб. А потому что в русском групповое изнасилование будет продолжено. Называться он будет обязательно «Тройка», или «Матрешка», или «Самовар», и умный хозяин уже продал места тем, кто мечтает пообщаться и выпить с артистами, за это артистов, может быть, даже накормят бесплатно, и вообще у него с устроителем концертов свой договор – мы завтра уедем, а им тут вместе жить. И поэтому после лживых заверений тебя все-таки подвозят к ненавистной «Тройке», а ты ослаблен концертом, не знаешь города, и время такое, что все остальное уже закрыто. Устроитель прячет глаза, клянется, что тут «только свои», ему бесполезно объяснять, что его «свои» – это совсем не твои «свои», а жрать хочется, и стискивая зубы входишь внутрь. В этот момент раздаются аплодисменты, а лабухи на сцене обрывают на полуслове «Владимирский централ» и переходят на «Марионетки», и ты идешь быстро, опустив глаза, за свой стол уже не в силах ничего изменить и не понимаешь, почему за твоим столом не шесть мест по числу музыкантов, а двадцать четыре? А это как раз «свои». Если все происходит на родине, то помимо организаторов гастролей и спонсоров за столом располагаются: первый зам. губернатора, главный судья, главный гаишник, главный милиционер и главный бандит – все с женами. В случае заграницы ты даже предположить не можешь, что за люди сидят за твоим столом, мало того – это тебе совершенно неинтересно, и когда тебе их представляют – через силу улыбаешься и киваешь головой, хотя ни черта не расслышал, лабухи опять взялись за «централ», и нет никакой силы и возможности объяснить этим неплохим, наверное, людям, что ты свой концерт сегодня уже отработал и просто хочешь побыть в тишине один или с друзьями, но никак не в их компании, и будут кричать тебе через стол, прорываясь сквозь ресторанный гвалт и брызгая закуской, и чокаться с тобой за «группу нашей юности», и рассказывать какую-то ерунду, и заглядывать в глаза, а ты все будешь притворяться, что слушаешь, а станут опять фотографироваться, положив руку тебе на плечо и приставив с другой стороны пышную, как клумба, жену. И если тебе удалось в обход всего этого быстро выпить свои сто грамм, проглотить кусок мяса, незаметно выскользнуть из-за стола и сбежать в гостиницу – тебе повезло. А количество совместно выпитого находится в прямом соответствии со степенью взаимного уважения – они готовы были выпить с тобой ведро, и никого ты, ей-богу, не хотел обидеть, но совершенно невозможно заставить себя напиваться с этими незнакомыми дядьками и играть роль, которую они для тебя придумали.
И разговоры, конечно, будут: «Чего это он? Важный какой-то». – «Да нет, приболел просто…» – «Да ну! Вот Якубович приезжал – так тот нормальный мужик. Гуляли так гуляли!»
Простите меня.
Третье лирическое отступление
Вы когда-нибудь видели, как мужики идут за вином? Нет, сейчас эта картина уже выглядит крайне размыто – исчез порыв, ушла битва. Достаточно протянуть руку с деньгами, и в нее вложат любую бутылку согласно вашим запросам и благосостоянию. Нет-нет, представьте себе какой-нибудь летний крымский городок – скажем, Гурзуф начала семидесятых. Утро, как правило, безлюдно – последние гуляки только-только расползлись из кустов, у пансионатов метут дорожки, пляжи еще пусты, первые пожилые пары и мамы с малышами занимают лежаки. Солнце поднимается выше, отчего море делается синей, подул ветерок, открывается «Блинная» на набережной, тетка, звеня ключами, отмыкает цистерну с надписью «Пиво», и рядом с ней тут же вырастает очередь с трехлитровыми банками, и вот – смотрите, мужики пошли за вином. О, эту походку, это выражение лиц не спутать ни с чем, и однажды увидев эту картину, запомнишь ее навсегда. Читается она только со стороны – если ты сам в рядах идущих, ты не увидишь ее красоты. Так пловец в открытом море не замечает течения. Идут по двое – по трое, собранно и энергично, хотя без суеты и с достоинством, и выражение лиц у них всегда вдохновенно-серьезное. Идут ПО ДЕЛУ. Дело не пустяковое, так как магазин в городке один, в лучшем случае два, одиннадцать пробьет через семь минут, а идти пятнадцать, и еще неизвестно, что там останется и что вообще завезли (впрочем, я несколько сгущаю краски – завозили обычно вволю.) А еще на их лицах – ответственность за тех, кто остался, не пошел в поход, но скинулся, и теперь только от идущих зависит, каким будет сегодняшний вечер и сколько радости он принесет.
В одиннадцать уже невероятно жарко, из четырех стеклянных дверей в магазин открыта одна, туда поочередно впихиваются страждущие с деньгами в потных кулаках и выдавливаются совсем уже мокрые, в прилипших рубашках, но счастливые – с вином. Жара усугубляется тем, что по набережной бродит милиционер в полной боевой выкладке и удаляет за пределы своей видимости отдыхающих в шортах и майках («Граждане, вам тут не пляж! Это городская набережная!») Внутри магазина – ад. Если на улице просто очень жарко, то внутри температура приближается к температуре внутри доменной печи – о кондиционерах жители страны советов еще не слыхали. Плотное мокрое месиво, состоящее исключительно из мужчин средних лет, медленно ползет вдоль прилавка. Сначала увидеть, что там дают, потом догрести, доплыть до кассы, обменять деньги на чек из толстой серой бумаги, сохранить силы для главного рывка к прилавку, обменять чек на тяжелые некрасивые бутылки темного стекла, вырваться на волю, пробуравив напирающую снаружи толпу, ничего не разбить и не потерять сознания – это вам как? На такие дела посылали самых надежных.
(Вообще отношение к делу – не просто работе, упаси бог! А к ДЕЛУ, возвышающему мужчин, отличает последних от женщин. Я однажды наблюдал в дикой Африке, как два местных жителя, пока их жены в количестве девяти штук копались в рисовом болоте – каждая с младенцем за спиной, – эти двое занимались ДЕЛОМ. Они вели бизнес. У дороги они расстелили газету, на которой был представлен товар – спички поштучно и макароны поштучно (именно поштучно, а не попачечно.) Торговля шла плохо. Точнее, она совсем не шла, и это спасало бизнес, так как спичек было полкоробка, и макарон – полпачки, и поставок не предвиделось. Но видели бы вы этих гордых негоциантов!)
Так вот, похожая облеченность миссией написана была на лицах Мужчин, Идущих за Вином. На этом сходство заканчивалось, так как, в отличие от застывшего во времени африканского процесса, процесс крымский развивался и давал результаты – вино удавалось взять (как правило.) Если не удавалось – надо было ближе к вечеру пристроиться к компании, представителям которой это удалось. И если халява не переходила в систему, то удавалось это всегда – портвейн, как я уже говорил, вселял в людские сердца доброту (до определенного предела, разумеется.) Мало того, он уравнивал употребляющих, и в какой-то момент вы себя чувствовали счастливыми составляющими одной огромной компании, а может быть даже, и страны. Возможно, в этом и заключалось скрытое воспитательное действие напитка, называемого в СССР «портвейн», и может быть, именно поэтому он так настойчиво и предлагался населению одной пятой земного шара.
Впрочем, пили на юге не только портвейн. Пили, конечно, и сухое – от отчаянья, когда портвейн кончался, и даже всякие игристые – типа «Донского красного». Коньяк не пили из-за дороговизны, а водку, видимо, из-за невозможности ее охлаждения – если в средней полосе водка комнатной температуры еще идет, то горячая в Крыму – уже с трудом. К тому же действие водки отличается от действия портвейна и поэтому менее подходит к состоянию южного отдыха. Русский человек, выпив лишнее количество водки, как правило, перестает любить человечество в лице отдельных его представителей, и гармония нарушается дракой. (Удивительно – на евреев эта особенность не распространяется – они от водки любят человечество еще сильней. Этот феномен заслуживает детального изучения.)
Также, конечно, в Крыму пилось пиво, но не как самодостаточный алкогольный напиток, а как средство, связывающее послевкусие вчерашнего праздника с сегодняшним грядущим. В этом качестве пиво выполняло задачу на сто процентов.
И вообще, скажу я вам – все особенности и нюансы тогдашней жизни соответствовали особенностям и нюансам тогдашнего кайфа. Ушла навсегда (хотелось бы) та жизнь, нет больше магазинов с названием «Гастроном» или «Вина-воды» (в Сочи даже был «Специализированный магазин по продаже водки населению» – как название?), да и напитки сменили вкус, и бутылки выглядят куда нарядней, и давиться за ними уже не надо. И никакой я ностальгии не испытываю ни по совку, ни по собственной молодости – разве что посидеть ночью на прохладной гальке гурзуфского пляжа под еле слышный плеск прибоя и треньканье расстроенной гитары в компании малознакомых ребят и девушек, красота которых только угадывается в темноте, передавая по кругу теплую от их рук бутылку портвейна «Кавказ».
Макаризмы
про Красоту
Отец одно время преподавал на первом курсе Московского архитектурного. Первый курс назывался ФОП – факультет общей подготовки. Он выходил к этим юным, победившим в жестоком конкурсе, прошедшим суровые вступительные экзамены без пяти минут гениям, ставил мелом на доске две точки – на расстоянии чуть больше метра друг от друга – и стремительно соединял их идеальной прямой. Потом предлагал студентам проделать то же самое. Ни у кого не получалось. Даже близко. «Вот за этим, – говорил отец, – вы сюда и поступили».
И за этим тоже.
Идеальный художник – это идеальный глаз плюс идеальная рука. И работают они в жесткой сцепке, как единый организм. Так было всегда, когда художник рисовал. До недавнего времени. Пока не появился концепт. Он как бы не отрицает ни глаза, ни руки, но делает их не главными, не обязательными. Главное – идея. А прямая линия – вообще чушь: компьютер дает такую линию, что прямее не бывает.
Что такое красота? У Даля нет ответа: «Красота, краса, украса, услада». В историко-этимологическом словаре современного русского языка – «то, что доставляет эстетическое наслаждение». Спасибо, объяснили. В Большом энциклопедическом словаре вообще бред: «Красота – квантовое число, характеризующее адроны». Я подумал, я с ума сошел. Толковый словарь русского языка Ушакова – нет объяснения! Словари кончились.
По-моему красота – это когда через наше корявое, рукотворное, бытовое вдруг проступает божественное совершенство. Оно бесконечно далеко от нас, но оно есть, вот оно, и это для меня одно из бесспорных доказательств существования Всевышнего. И ты не можешь объяснить, почему эта линия заставляет твое сердце чаще биться, почему это лицо на холсте светится тихим светом и слезы наворачиваются у тебя на глаза. Чувствуешь, а объяснить не можешь. Вот в словарях и пусто.
Гоните к черту тех, кто будет вам объяснять, что красота – понятие субъективное, у каждой эпохи, у каждого этноса свое представление о красоте. Это они так маскируют свое убожество. Они путают конфету и фантик. Фантики меняются, это правда. Меняются моды, направления, стили. А божественный свет – непреходящ. Он проступает из древних наскальных изображений и из фресок Феофана Грека, из холстов Боттичелли и Модильяни, из «Пьеты» Микеланджело и трактирных вывесок Пиросмани. Или не проступает. Из «Черного квадрата» ничего не проступает. Черный квадрат – и все. Ломать – не строить.
Мне семь лет, и я смотрю, как отец рисует. У нас с ним одна комнатка на двоих, у стены – мой раздвижной диванчик, у окна – его рабочий стол. Отец берет новый лист, несколько секунд смотрит на него, сощурясь, и вдруг стремительно проходит по нему толстой кистью, движения его резки и непредсказуемы, и через пару минут я, затаив дыхание, вижу, как разрозненные линии и пятна соединяются в портрет женщины необыкновенной красоты. Образы этих женщин рождались у отца в голове – почему, как, откуда? Еще минута – и работа ложится сохнуть на пол рядом с двумя другими. Отец берет новый лист. Он будет рисовать, пока на полу не останется места. Я наблюдаю почти каждый день, как рождается Красота под рукой безупречного художника. Я готов наблюдать за этим бесконечно.
Как же мне повезло!
Ничего не хочу
Я понял наконец, за что я так не люблю зиму. Просто я сам себе зимой не нравлюсь. Вернее, нравлюсь еще меньше, чем в теплое время года. Я начинаю отвратительно себя вести. Масса вещей вдруг становятся – необязательными, что ли? Например, подарил друг-музыкант свою новую пластинку. И музыкант хороший, и пластинку хвалят, и летом я бы ее завел тут же весь в нетерпении, а вот лежит она у меня вторую неделю нераспечатанная. Возьму в руки и положу обратно на стол: не хочу. Да и стол рабочий давно надо бы разгрести: банки с краской, бумага, мусор какой-то – работать не сядешь. Не хочу. Постоишь над ним, вздохнешь – и пошел на кухню. Ничего не хочу.
Отчасти дело, видимо, в коротком дне. Мало того, что он короткий – он еще и сокращается, и это особенно противно. Обычный дневной замах не умещается в это шестичасовое относительно светлое время суток, называемое по привычке «днем». Только разогнался – а уже стемнело. Все – садись, пей. Чукчи думают, что человек произошел от медведя. У меня в предках явно был медведь. Может быть, шатун. Потому что впасть в полноценную спячку все-таки не получается – среда не отпускает и не до конца позволяет физиология. Давняя неосуществленная мечта: выяснив у секретных метеослужб предполагаемую дату первого снега, накануне погрузиться в самолет с минимальным набором необходимого и улететь туда, где люди всю жизнь ходят в майках и шортах и снег этот видели только в американском фильме ужасов «Послезавтра». А домой можно вернуться в конце апреля, когда этот самый снег уже сошел, вокруг вовсю орут птицы и весна просто висит в воздухе. Как-нибудь обязательно попробую.
И вдруг! Какого-нибудь двадцать шестого декабря (еще и новый год не наступил!) ты вдруг понимаешь, что день стал на минуту длиннее! Минута – пустяк, но завтра добавится еще одна! А послезавтра – еще! Делишки-то идут к весне! И все, оказывается, такой ерунды вполне достаточно. Раскопал на столе пластинку, распечатал, послушал – отличная пластинка! Разгреб стол, сел рисовать. Хорошо! А потом Новый год просвистит молниеносно, числа третьего выйдешь на улицу – а все разъехались, каникулы. Дороги пустые. Сел в машину, едешь себе. Неважно куда. Просто хорошо. Едешь и думаешь: «Делишки идут к весне!»
Думаете, психика, да?
про Любовь
Несколько лет назад меня пригласили участвовать в благотворительной акции «Раскрась корову». В мире такие акции проводят довольно часто, но в нашей стране это случилось впервые. Разным художникам раздали белоснежных пластиковых коров в натуральную величину, каждый расписал свою как мог, а потом их продали на аукционе. Я быстро придумал для своей коровы довольно смешную концепцию, сделал все за пару дней, и, помню, работа моя очень хорошо продалась – было приятно, не зря старался. С тех пор меня не покидало ощущение, что я не до конца высказался в этом жанре. Я решил продолжить – уже для себя. Оставалось найти собственно корову. Я вспомнил, что в прошлом году что-то похожее видел в магазине «Твой дом». В магазине мне сказали, что да, была у них такая корова, но никто ее так и не купил, и теперь она стоит на складе. Я поехал на склад в какую-то глухомань, и веселые толстые дядьки выволокли из лабиринта коробок и контейнеров и поставили передо мной роскошную корову – белую в черных пятнах и с большими грустными стеклянными глазами. Корова томилась на складе давно, была вся в пыли, на ней имелись утраты, и мне продали ее за полцены. Мой пес Гек, бернский пастух, человек добрейший и мечтательный, увидев корову, жутко перепугался. Он спрятался за кустом и оттуда наблюдал, трепеща, как два грузчика затаскивают в гараж непонятное чудовище. Заставить его подойти и познакомиться с коровой было невозможно. Наутро я приступил к работе. Я решил сделать корову черно-золотой. Такое черненое золото можно увидеть на древних японских украшениях и эфесах самурайских мечей, сочетание невероятно благородное. Первым делом я покрыл всю корову матовой черной краской из аэрозольного баллончика. Гек поборол страх, пришел в гараж и завороженно наблюдал, как животное на глазах меняет цвет. Потом настало время золочения. Дело это кропотливое и нудное – надо намазать небольшой участок коровы клеем, потом плотно прижать к нему кусок пленки с золотой амальгамой и, когда клей застынет, резко сорвать пленку – позолота останется на поверхности. Постепенно корова покрывалась золотой патиной – получалось даже красивее, чем я ожидал.
И случилось невероятное – Гек влюбился. Он лежал у ног медленно золотеющей коровы и, улыбаясь, смотрел на нее блаженными глазами идиота. Таких глаз я не видел у него никогда – ни во время любовных игр со всякими, извините, суками, ни в дни, когда он, прыгая, встречал меня у ворот после долгой разлуки. Нет, это было что-то совсем иное. Он забыл про еду, питье и отказывался покидать гараж. Утром я заставал его у ног возлюбленной в той же позе, что и вчера. Три дня ушло у меня на процесс золочения, и три дня Гек не покидал свой пост. По-моему, он даже не отлучался пописать. На четвертый день с золотом было покончено, оставалось покрыть корову лаком. Лак жутко пах, я чуть не терял сознание, Гек морщился, но оставался неподвижным. Это была вахта безнадежно влюбленного раба у ног недоступной королевы.
Еще день корова сохла, а потом настало время искать ей место. Вещь немаленькая, в комнату не поставишь. К тому же мне хотелось поднять ее высоко, как знамя. И два мужика за бутылку помогли мне затащить ее на второй этаж и выставить на единственный балкончик – она чудом вошла во все двери и вот теперь скромно сияла золотыми боками прямо над входом в дом. Туда Геку уже было не добраться, а он и не рвался – он знал, что несчастная его любовь обречена. Теперь он сидел у порога дома, задрав голову, и неотрывно смотрел ввысь. К вечеру ветер стихал, и тогда было слышно, что он тихонько поет.
Я даже хотел написать сказку про неразделенное чувство сторожевого пса и золотой коровы, но вспомнил, что все это уже давным-давно сделал Андерсен.
SISTEMA
Система непобедима. Она воспроизводит саму себя. Система представляет собой цепочку элементов, взаимосвязанных по одному принципу. Казалось бы, замени любой кирпичик на инородный, и система рухнет. Но именно поэтому ничего инородного система внутрь себя не допускает. Ни под каким видом.
Скучно? Сейчас объясню.
Вот режиссер заказал композитору музыку для фильма. Композитор – халтурщик и записал всю музыку на дешевой корейской электронной клавишной игрушке. На такой пукалке даже корейские пионеры к музицированию не допускаются. А он записал все – рояль, скрипки, трубы, барабаны. Нет, конечно, платили бы серьезные деньги – он бы позвал на запись государственный оркестр кинематографии с дирижером Скрипкой. А тут – на какие шиши?
В общем, звучит чудовищно. А режиссер эту музыку покупает. И вставляет в фильм. Ну, во-первых, у него что-то с ушами. А во-вторых, бюджет и правда позорный, он и этот-то еле выбил, а надо еще на актеров, на производство, на павильоны, на натуру… Ну и себя не обидеть. И не думает он о том, что такая музыка – уже волчий билет на любой международный фестиваль: не возьмут там такое. Он на эти международные фестивали не очень-то и рвется. Подумаешь! У нас свои есть. «Кинотавр». Чем не Канны?
А актеры тоже не очень-то рвались в этом кино сниматься. Потому что все понимают. А с другой стороны, окончили ВГИК, подавали надежды, год, два – не звонит Скорсезе! И Сокуров не звонит. А кушать надо. А на театральную зарплату не покушаешь. Да и там у них, между нами говоря, не Петер Штайн ставит. Некоторые, у кого психика покрепче, снимаются в рекламе прокладок. И в сериале «Счастливы вместе – 12». Но не у всех же актеров такая крепкая психика. Она обычно расшатана профессией. Вот и пошли с надеждой – а вдруг что получится! Бывают же чудеса. Все-таки кино. Полный метр.
Не получится. Потому что сценарист на фильме был как раз очень известный. И в силу этого исключительно востребованный. И именно на этом отрезке времени он интенсивно работал сразу над двумя сериалами. Ну, так получилось. Он, конечно, к этим сериалам относился с должной иронией и даже некоторым презрением. А киносценарий писал для искусства. Для вечности. Но вот на эту самую вечность все время не хватало то сил, то времени. Нет, задумано было неплохо. Но – недотянул. По объективным причинам. Он и не думал, что режиссер этот сценарий возьмет. А ему что-то там вдруг понравилось. Он, правда, просил кое-что переделать и дописать, но когда? Не жизнь, а сплошной цейтнот!
Ой, я забыл про оператора. Оператор как раз мечтал на этом фильме поработать. Потому что всю жизнь снимал телевизионные программы. В основном кулинарные. И они у него очень хорошо получались. И на телевидении его хвалили. Но хотелось в искусство. Пленка, полный метр. Он правда очень старался. Но у него не очень получалось не кастрюли снимать. Оказывается, разучился, сбил планку. Да и не очень-то умел, видимо. А режиссер сначала думал пригласить вместо него великого, а тот занят. С Германом снимает. Уже двенадцать лет.
А зритель постоял-постоял перед афишей, да и не пошел на фильм. Во-первых, вон в соседнем зале «Аватар против чужих» дают. А во-вторых, если все-таки кто-то из знакомых посмотрит и окажется, что можно смотреть, посмотрим дома. На пиратском диске.
Приятного просмотра!
про «Они и Мы»
Представьте себе: много лет подряд вы дважды в день пробегали мимо старинного покосившегося особнячка с темными немытыми окнами и заколоченным входом. И вдруг – чудо: особнячок поправили, отремонтировали, отмыли, окна его чисто сияют, а табличка у входа говорит о том, что отныне домик этот принадлежит некой частной компании или, не дай бог, частному лицу, и стоит он теперь на вашей улице красавец красавцем. И вот тут вы чувствуете, как в глубине души у вас поднимается волна праведного гнева: как же так? Пересмотреть результаты грабительской приватизации!
Послушайте. Этот дом не стал вашим и не был вашим (вы же никогда не воспринимали буквально слова песни «И все вокруг советское, и все вокруг мое!» – вы же не совсем идиот, верно?). Так вот: единственное, что изменилось для вас – он из развалюхи превратился в украшение города и сейчас радует вам глаз. Недовольны? Хорошо – если он вам так нужен, вы, в принципе, можете сегодня его купить. Если новый хозяин не против, цена реальна, а у вас есть деньги. Опять плохо?
Разруха-то в головах.
Ладно, другая ситуация. Вот вы едете по трассе в полном соответствии с установленным законом скоростным режимом, и вдруг, сдувая вас с дороги, мимо с космической скоростью пролетает лихач и уносится за горизонт – навстречу неизбежному. Ваши действия? Предупредите дорожно-патрульную службу? Да вы что, с ума сошли? Это же называется «настучать»!
А знаете почему? Потому что в силу специфических особенностей истории нашей страны население четко делит себя на две категории: это «мы» (ну то есть все мы) и «они» – то есть государство с подвластными ему силовыми структурами. И «они» вполне могут посадить «нас». Любого. Мы «их» – нет. Так что это же кто-то из «нас» проехал. А чего, молодец, не бздит. Как же можно своих-то сдавать? Ну а если это был кто-то из «них» – так им можно.
Знаете, ни в одной стране мира я не наблюдал такого забавно расщепленного сознания. Нет, там тоже есть «мы» и «они». Мы – это законопослушные граждане и они – это преступники, нарушающие закон. И не важно, чем человек при этом занимается. Нет, важно: если он полицейский и он нарушил закон, которому призван служить, – он будет наказан строже. У нас наоборот, верно?
Все понимаю. Ни у одной страны нет таких ярких лагерных традиций. И все это было вчера. Да и кончилось ли? Поинтересуйтесь процентом оправдательных приговоров – ахнете: он окажется ниже, чем в тридцатые годы. Наш министр внутренних дел, выступая с высокой трибуны в день милиции, сообщил, что эта самая милиция сегодня еще тверже стоит на страже российской государственности. И прозвучала эта фраза в его исполнении по всем телевизионным каналам. «Вот тебе и раз, – подумал я, – а я-то полагал, что милиция стоит на страже нашей с вами безопасности – моя милиция меня бережет. Разве не так?» А никто и не заметил. Дня не проходит, чтобы нам не сообщили о новом милицейском преступлении – тут застрелили, там забили насмерть… И знаете что? Мы привыкли! Ну да, можно понять – жил в стрессовой ситуации, на две семьи… Вот и убил человека. Он не хотел.
Мне страшно. За своего сына, например. Они, двадцатилетние, очень хорошо знают – не окажется при себе паспорта, заберут в участок. А там могут убить – случайно.
Что со всем этим делать?
Да, а домик-то надо бы вернуть. Обратно государству. Непорядок.
про Метро
Еду в машине, стиснув зубы, слушаю очередной рекламный шедевр – какой-то хлюст приторно-элитным голосом вещает про экстрамодные очки стоимостью с автомобиль: «Наш адрес – «Супер-хаус» в Барвихе!» И – с издевочкой: «Метро там, к сожалению, нет». Дескать – не для вас, чумазых. Убил бы хама.
В детстве я обожал метро – настоящее подземное царство! И там еще ездят поезда! Стоишь у края платформы, а из черной пещеры тоннеля сначала дует теплый ветер, потом загораются в глубине два глаза, они несутся на тебя, и вот – с восхитительным звуком – поезд! Шипит, останавливается. Поезда немножко похожи на игрушечные, потому что чуть меньше настоящих – скучных и зеленых. Изнутри они такого волшебного желто-блестящего цвета (да еще с какими-то елочками!), кажется, их покрасили гоголем-моголем и он еще не застыл – хочется лизнуть. Два ряда хромированных стоек: возьмешься рукой, отпустишь, и как на зеркале, медленно тает матовый след. А можно прислониться лбом к дверному стеклу (хотя на нем как раз написано: «Не прислоняться!») и смотреть в пролетающую темноту – там, оказывается, не совсем черно, а видны стены тоннеля, то плоские, то покатые, и бесконечные кабели, а то вдруг откроется второй путь, и по нему пронесется встречный сверкающий поезд – так быстро и близко, что твой вагон качнет упругим вихрем. А еще иногда видны совсем уж загадочные, уходящие во тьму пространства лесенки, дверцы с непонятными надписями, и ясно, что за ними живут какие-то таинственные секретные люди. Это же с ума сойти!
А чтобы попасть в это подземное царство, надо было купить в кассе с полукруглым окошечком билет – один или целую книжечку. Билет стоит пять копеек, а книжечка – пятьдесят. Билет на тонкой хрустящей желтой бумаге, на нем мелким черным шрифтом какие-то глупости и цифры, посередине – большая красная буква «М» и внизу – красная сеточка с надписью «Контроль». Этот контроль при входе отрывает тетенька в кителе и красном берете – прямо как в кино! Интересно, сохранился у кого-нибудь такой билетик – хоть один? Уже потом, когда я учился в школе, в метро поставили чудо техники – автоматы, все в полированном дереве, как серванты. Проход стоил пятачок. А выменять их можно было в другом автомате – железном и сером, он висел на стене. Бросаешь гривенник – с грохотом вылетают два пятачка. Мы почти в космосе!
Сколько раз я спускался в метро? Десять тысяч раз? Или двадцать? И как же давно это было!
Недавно я ехал на съемку и страшно опаздывал. Москва безнадежно стояла. И тогда я бросил машину практически посреди Таганской площади и кинулся в метро. Входя в стеклянные двери, заробел – даже не знаю, сколько сегодня стоит вход и как платить! Вроде как решил неожиданно зайти к человеку, которого не видел сто лет – вспомнит ли, узнаю ли? Ничего – подсмотрел, разобрался.
Внизу ничего не изменилось. Ну, почти. Очень боялся, что на меня набросятся с автографами – ничего подобного: видимо, мой образ не проецировался на образ пассажира метро – не узнавали. Только вдруг подошел уже в вагоне один знакомый (бизнесмен, между прочим!) и, совершенно не удивившись, продолжил беседу, которую мы с ним вчера прервали по телефону. Ни фига себе! Доехал за десять минут.
А вы? «Метро там, к сожалению, нет…» Ну и плохо, что нет!
Сомали – не берем!!!
Я радуюсь, когда кто-то кому-то начинает при мне доказывать, что у России свой путь и никто ей не указ. Конечно, свой, какой же еще! У нас другой не получается. При всем желании.
Я коллекционирую истории, произошедшие со мной на просторах Родины в разное время, в разных местах. Объединяет их одно – они непереводимы на иностранные языки. То есть перевести можно, и даже дословно, но смысл от иностранца ускользнет, как ни бейся.
Ну например. Летел я несколько лет назад из Нью-Йорка в Москву. Летел «Аэрофлотом», в бизнес-классе – не хухры-мухры. Самолет причалил к Шереметьево, я прошел по коридору метров сто и понял, что оставил в салоне на сиденье фотоаппарат. Большой и дорогой. Я кинулся обратно – путь был уже перекрыт. Аппарат я купил совсем недавно, и было его исключительно жалко. Его и фоток, в нем хранившихся. И я побежал искать начальника смены – есть такая должность в аэропорту, решает все вопросы. Я нашел его – довольно быстро! – и рассказал о своем горе. Он нахмурился и (внимание!) спросил меня: «Сколько прошло времени?» «Минут пятнадцать», – ответил я. «Боюсь, что уже поздно», – сказал начальник смены. Какие там иностранцы – даже я сперва не понял смысла услышанного. Как это поздно, там же сейчас, наверно, убирают! «Вот именно», – с тоской произнес начальник. Нет, я, конечно, не успокоился, мы дозвонились до команды уборщиков, и они поклялись, что никаких фотоаппаратов в салоне обнаружено не было. Ну естественно – поздновато задергался: пятнадцать минут! Прав был начальник.
Скажите – вы можете себе представить такую ситуацию в любом аэропорту цивилизованного мира (ладно, Сомали не берем!). И будет ли эта команда уборщиков работать завтра? У нас – будет. Других нет. А нам ведь даже не очень удивительно, правда?
Или вот. Звонят мне с нашей большой и известной радиостанции. «Здравствуйте, – говорят. – С Национального радио беспокоят. Поздравляем вас! Ваша песня из последнего альбома лидирует в хитах и по итогам года тянет на премию «Золотой магнитофон!» Так что пожалте такого-то декабря в Кремлевский дворец на торжественное вручение!» Я обрадовался. Не так-то уж часто подобное происходит, приятно. «Спасибо огромное, – говорю. – Вот только именно этого декабря мы на гастролях. Но это же не страшно, правда?» В трубке – мучительное молчание. «А-а! – догадываюсь я. – Вы, наверно, даете премии только тем, кто приходит на вручение, да?» «Ну вы понимаете, – бормочут на том конце. – Это же все-таки шоу…»
Понимаю. Будет другая песня лидировать – того, кто приедет. Хрен с ней, с премией, переживем. Странно только, что в Каннах или в Голливуде такая система не практикуется – «Оскаров» бы сэкономили. Не доехал, скажем, Кэмерон до Лос-Анджелеса – куку ему с маком, а не «Оскара»! А надо приезжать. У нас тут шоу. Так нет – корячатся, унижаются, через продюсеров высокую награду передают – дураки, ей-богу.
Так каким, говорите, Россия путем пойдет? Своим, только своим. Долго идти будем.
Звонок телефона в осеннем лесу
История эта случилась много лет назад. Неожиданно в самом конце сентября вдруг пошли опята. Люди несли мимо моего дома полные корзины, и я не выдержал. Я разгреб дела, освободил полдня и пошел в лес, благо лес был через дорогу. Со мной отправилась моя знакомая девушка – кажется, это я ее уговорил. Я обожаю ходить в лес. Не только в лес – мне необходима дикая природа. И если на протяжении полугода я до нее не добрался – я болею. В лесу, на воде, под водой со мной что-то происходит на биологическом уровне – я заряжаюсь, как батарейка, а голова начинает работать сама по себе, не отвлекаясь на окружающие глупости и звуки, и слышит только то, что ей надо слышать. Поэтому девушка в данном контексте была совершенно необязательна – просто так уж получилось.
Стояла пасмурная безветренная погода. В лесу было прохладно и так тихо, как бывает тихо только в осеннем лесу: птицы уже не поют, комары не зудят, и шаги твои по опавшей листве звучат неестественно громко, а от звука падающего желудя вздрагиваешь, как от выстрела. Опят оказалось не так много, как я предполагал, и ушли мы довольно далеко. Девушка на поверку оказалась совсем не лесной породы, грибы собирать не умела, боялась потеряться и при этом все время исчезала куда-то из поля зрения. В конце концов она потеряла свой дорогой красивый мобильник и очень расстроилась. Выходило, по ее предположениям, что случилось это, когда она склонилась над каким-то мухомором. Надежды вернуться и найти именно это место не было никакой. И тогда я достал свой телефон и набрал ее номер. И где-то на самом краю земли, еле прорываясь сквозь вселенскую тишину леса, защебетал веселенький звоночек. Он доносился из таких далей, что поначалу направление определить было почти невозможно. Пришлось разделить окружающее нас пространство пополам, а потом еще пополам. Я шел на звук и молил бога, чтобы в звонящем телефоне не сдохла батарейка. Минут через пятнадцать я вышел прямо на него: он лежал, зарывшись в бурые листья, и из последних сил мигал зелененьким.
Вот удивительно: и дома, в котором я жил, уже давно нет, и девушка та бог знает где, а я до сих пор вспоминаю эту картину – еле слышный далекий звонок телефона в лесу.
про Благородство
Я тогда еще был совсем маленьким – кажется, только пошел в школу. Летом родственники забрали меня к себе на дачу в Купавну. За фанерным дачным поселком тянулись бесконечные искусственные пруды – рыбхоз. В них разводили карпов. Охранял пруды сторож дядя Володя – сухой седой дед, похожий на писателя Сергея Сергеевича Смирнова, и его овчарка Дези. Кстати, интересно, что в годы моего детства каждую вторую овчарку звали Дези. Сейчас и имени-то такого нет. Я дружил и с дядей Володей, и с его овчаркой.
Однажды вечером они вдвоем зашли к нам на дачу, и дядя Володя между делом сказал, что на рассвете он собирается на охоту – на куликов. Я просто весь задрожал – так мне хотелось попасть на настоящую охоту. Наблюдая за моим страданиями, дядя Володя сказал, что запросто может взять меня с собой – пройдет мимо нашей дачи, тихонько стукнет мне в окно, и мы отправимся вместе.
На охоту!
Не надо говорить, что всю ночь я не сомкнул глаз. Я боялся, что задремлю, дядя Володя стукнет тихонько, как обещал, а я не услышу, и он уйдет один. Светать начало часа в четыре. В пять было уже светло, а дядя Володя все не шел. Потом утро стало превращаться в день, подул ветерок, начали просыпаться дачники в соседних домиках, и было понятно, что время охоты прошло, а я все ждал. В десять часов я не выдержал и отправился в сторожку к дяде Володе.
Дверь была открыта, дядя Володя тяжело спал на топчане прямо в одежде, Дези спала на полу у его ног. Видно было, что вчера они сильно выпили. Дези учуяла меня, проснулась, застучала хвостом по полу, дядя Володя тоже проснулся, увидел мое горе и все понял. И тогда он сказал: ничего, проспали, конечно, но раз собирались – на охоту все равно пойдем. И снял со стены двустволку.
Мы вышли втроем из сторожки. Стоял жаркий летний день, кулики, если они вообще здесь водились, давно улетели на свои болота. Метрах в пятнадцати от нас в дорожной пыли возились воробьи. Дядя Володя замер, тихо шепнул мне: «Давай!» – и протянул огромное тяжелое ружье. Я прицелился и оглушительно бабахнул. Меня чуть не убило отдачей, я временно потерял слух. А дядя Володя нагнулся и собрал на ладонь пять насмерть убитых воробьев. «Отличный выстрел, – произнес он, – в два часа жду тебя на шурпу».
К двум часам слух ко мне частично вернулся, и я пришел к дяде Володе на шурпу. Стол был накрыт скромно и с достоинством, в шурпе плавали все пять добытых птиц, и лучшей шурпы я не едал. И мы сидели втроем за столом, не спеша пировали и говорили о всяких важных охотничьих делах.
Вот скажите – это мне так повезло с дядей Володей или раньше люди вообще были почутче? Или и то и другое?
Ядро с бригантины
В самом начале восьмидесятых «Машина» приехала на гастроли в Днепропетровск – впервые. Работали мы, как водится, во дворце спорта целую неделю – по два концерта в день. Сейчас это трудно себе представить. В первый день ко мне подошли два довольно лохматых местных парня – Паша и Саша – с огромным отечественным бобинным магнитофоном. Они попросили разрешить им подключиться к нашему пульту, чтобы записать концерт. В то время это был еще единственный способ распространения наших песен – пластинка «Мелодии» посвященная фестивалю в Тбилиси, с двумя произведениями «Машины» появится позже. У меня обычно такие просьбы возражений не вызывали, а ребята мне понравились, и я позвал нашего звукорежиссера Наиля и, зная, что он втихаря иногда берет за такую услугу деньги, проникновенно его попросил ребят подключить и с деньгами не приставать. Мы разговорились, и не помню, почему разговор коснулся подводной охоты. Я к этому времени уже был совершенно помешан на подводном мире, но не подозревал, что охота возможна в наших реках и озерах – мне казалось, что вода в них недостаточно прозрачна. Как выяснилось, я ошибался. Ребята вовсю охотятся в Днепре, а Паша даже сам делает подводные ружья. Увидев, как я задрожал, ребята предложили мне завтра же утром отправиться с ними понырять – костюм и ружье они дадут.
Как вы думаете – спал я ночь? Это я сейчас такой спокойный.
Рано утром мы выехали на пашиных «Жигулях» в сторону Запорожья. Минут через сорок мы съехали с асфальта на грунтовку, пересекли поле и скоро уткнулись в большую воду – берег Днепра сворачивал от реки перпендикулярно, образуя огромный залив. Место называлось «Губа». Пока я отчаянно пытался влезть в привезенный для меня отечественный гидрокостюм «Садко» (изготавливали его, я подозреваю, на той же фабрике, что и автопокрышки, и из того же материала, и при попытке втиснуть ноги в штанины и руки в рукава в голове начинала играть старинная детская песенка про кузнечика с рефреном «Коленками назад»). Паша и Саша уже ловко натянули на себя эти вериги – ко всему человек, подлец, привыкает! – Саша первый зашел в воду, проплыл пару метров, отчаянно затрубил, Паша бросился к нему на помощь, и через минуту они в четыре руки выволокли на берег – нет, это был не сазан, а какой-то теленок, я такого увидел впервые в жизни, он весил килограммов четырнадцать. В общем, если бы мне показали весь этот эпизод в кино, я бы долго смеялся – чушь, так не бывает!
Я чуть с ума не сошел. Вот это места, вот это охота!
Я тут же вогнал себя в костюм, дрожащими руками принял незнакомое ружье и тихо поклялся – без добычи не выходить. Я не имел ни малейшего представления о технике местной охоты и проплавал часа четыре, прежде чем мне удалось-таки подстрелить сазанчика. Сазанчик был не в пример мельче, а я к этому моменту уже посинел от холода – костюм «Садко» страшно осложнял движения, но зато совершенно не грел, – но все это было не важно: новая страница была открыта!
Мы подружились с ребятами, и я стал ездить к ним на охоту регулярно. А потом Паша (практически уже Павел Сергеевич) создал клуб любителей подводной охоты, нарек его «Андреевский Смак», и могу сказать что живет и процветает этот клуб по сей день, хотя с охотой в Днепре стало гораздо хуже. Происходит это исчезновение из мировых вод всего живого по всей планете и с пугающей скоростью, и всех причин мы, боюсь, не узнаем никогда, хотя, разумеется, человек играет в этом процессе основную роль. Каких-то тридцать пять лет!
Ну да ладно.
В 2004 году Паша ошарашил меня известием – в районе Хортицы ребята нашли на дне остатки деревянных боевых посудин – много! Скорее всего, петровских времен! Я побросал все и помчался в Днепропетровск.
Дно Днепра в этих местах песчаное, а скорость и сила течения задается плотиной, стоящей выше по реке (это, кстати, одна из причин того, что рыба исчезла, а вода стала мутной – нельзя безнаказно вмешиваться в течение реки, это ее жизнь.) Периодически, обычно в половодье, плотину открывают, песчаное дно размывается потоком, и самые удивительные предметы открываются взору ныряльщика. Однажды я пер в Москву большую берцовую кость мамонта, найденную на дне в районе Днепродзержинска. Величиной она была практически с меня и весила как хороший покойник. В этот раз половодье было особенно сильным, плотину приоткрыли больше, чем обычно, и останки флотилии выступили из песка. Вообще дерево хорошо сохраняется в пресной воде, но тут спасительную роль сыграл как раз песок – корабли были им «законсервированы». Показавшись, они сразу начали разрушаться течением.
В 1999 году ребята из института подводной археологии нашли на дне и подняли казацкую «Чайку» – большую ладью тех же времен. Ладью законсервировали и выставили в музее острова Хортица. Но здесь лежали более мощные и серьезные посудины.
Это ощущение нельзя передать словами. Вот берег, камни, на песке загорают мальчики и девочки. Ты заходишь в воду, делаешь несколько движений ластами, и на тебя выдвигается из темноты огромный покатый борт старинного корабля. Вот это ничтожное расстояние между жизнью сегодняшней и глубоко прошлой, загадочной, всегда вызывало у меня обильное появление мурашек на коже.
К моменту моего приезда археологи уже обследовали объекты, и выяснилось следующее. Построена была эта флотилия действительно во времена Петра Первого для похода в Крым. На сравнительно небольшом участке дна найдено более сорока посудин, разных по водоизмещению и предназначению (одна, например, была гружена якорями; литой якорь в те времена стоил бешеных денег.) А стояло их тут, согласно историческим свидетельствам, около четырехсот. Строили казаки под руководством русских офицеров. Судно, на которое погружался я, – бригантина, разработанная в 1710 году галерным мастером Петром Меншиковым. Прямых аналогов в Европе не имела. Пригодна для похода и по реке, и по морю. Вот что пишет о бригантине друг Петра, вице-адмирал Наум Синявин: «Корабли сии на море безопасны, понеже на оных имеются палубы и гребля, и ходить могут не токмо способным ветром, но и противным ветром лавируют и имеют на себе четыре пушки трехфунтовые (они называются фальконеты. – А. М.) и людей посадить можно на каждый по пятьдесят человек з двоемесячным правиантом». (из «Истории отечественного судостроения», СПб, 1994, т. 1, с. 220) Длина 21 метр, высота бортов около четырех. Ходила эта бригантина с другими кораблями в поход на Очаков в 1737 году и вернулась с победой – на корме ее обнаружился очаг, сложенный из очаковского сланца. (А на очаге стоял котел, а в котле лежала ложка! Вот такие вещи действуют на меня сильнее всего!) А дальше случилось следующее. Известно, что флотилия привезла из Очакова чуму, к тому же Елизавета в отличие от Петра не уделяла боевому флоту должного внимания. В 1739 году случился сильный ледоход, и флотилию подавило льдами.
В общем, мы решили поднять уникальный боевой корабль. Создали российско-украинский проект «Запорожская бригантина», меня выбрали президентом, хоть я и брыкался. Медлить было нельзя – течение на Хортице сильное, и бригантина разрушалась на глазах. Археологи тщательно произвели обмеры. Инженеры разработали систему подъема – это было совсем непростым делом: поднять и доставить на берег двадцатиметровый корабль при том, что определить насколько он сохранил прочность, практически невозможно. После подъема и просушки его следовало немедленно разобрать и законсервировать – дерево, пролежавшее в воде двести пятьдесят лет, может, высохнув, рассыпаться в порошок. Каждая деталь погружается в ванну с консервантом (который производится в Германии и стоит совсем недешево – а представляете, сколько его нужно?). По счастью, в специальном ангаре на острове Хортица, где уже стояла к этому моменту запорожская «Чайка» оставалось место в аккурат для бригантины. Как чувствовали!
Составили смету. Она получилась немаленькой, но украинский предприниматель Виктор Пинчук взял все затраты на себя. Спасибо ему за это.
Теперь предстояло дождаться зимы (зимой вода прозрачней), аккуратно раскопать бригантину (она была наполовину погружена в грунт, это тонны и тонны песка), затем подвести под нее ремни, закрепить их равномерно по всему корпусу, потом краном приподнять корабль, погрузить в воду специально изготовленную платформу на колесах, подвести ее под бригантину, опустить бригантину на платформу, закрепить, вытащить платформу на берег и отбуксировать в ангар (по счастью, не очень далеко) для демонтажа и консервации. Ну как, все просто, да?
В момент откапывания корпуса (песок забирал мощный насос со специально пригнанной баржи) случались удивительные находки: это на суше время лежит в земле слоями – чем глубже, тем древнее. А песок речного дна в постоянном движении, и времена тут перемешаны: рядом друг с другом лежали несколько ядер от фальконетов с бригантины, ручная граната РГД-1 времен Второй мировой и потрясающей красоты костяной крючок для ловли рыбы – археологи сказали что ему не менее пятнадцати тысяч лет. Судя по размеру крючка, пятнадцать тысяч лет назад рыбка здесь ловилась совсем немаленькая: крючок с трудом умещался на ладони. Я такой совершенной по форме вещи не видел никогда: очень хотелось утащить крючок домой, но совесть взяла верх, и он уехал в музей.
Всю зиму шли напряженные подводные работы – необходимо было поднять бригантину до наступления весны, когда вода поднимется и плотину опять откроют. Я страшно нервничал, но понимал, что самому сейчас ехать туда не надо – ускорить я все равно ничего не мог, не хотелось мешать работе специалистов. И вот был назначен день подъема.
На берегу Хортицы собралось огромное количество народа. Приехал митрополит, прочитал молитву и благословил нас на подъем. К этому моменту ремни уже были заведены под бригантину, платформа находилась под водой. Кран на барже заработал, и ремни медленно – очень медленно! – поползли вверх. Я поймал себя на том, что сейчас я впервые увижу бригантину целиком – вода в Днепре не настолько прозрачная, чтобы видеть на двадцать метров, поэтому при погружениях я все время рассматривал какой-то фрагмент судна – то нос, то борта, то корму. Рулевое перо (огромное!) и мачта вообще лежали в стороне, достаточно далеко. Тишина стояла необыкновенная, по-моему, люди старались даже не дышать, только тарахтела лебедка крана. И вот из воды показался покатый черный борт. Спустя двести семьдесят лет бригантина возвращалась к людям. В какое-то мгновение раздался негромкий треск – в тишине он прозвучал как гром, борт корабля чуть-чуть просел, по толпе пронеслось: «Ах-х-х-х!» Но все обошлось, тревога оказалась ложной. Мы сделали это!
В ангаре, где бригантину разобрали до гвоздика и уложили фрагменты в ванны с раствором, я поразился еще раз: дерево было темным, местами почти черным (та часть, которая хранилась под слоем песка – светлее), а вот просмоленные канаты, которые частично сохранились на юферсах и лежали свернутые в бухточку на палубе, выглядели так, как будто их сплели вчера. Пенька оказалась долговечней дуба.
Я держу в руках ядро от фальконета и пытаюсь услышать голоса тех, кто правил судном, поднимал парус, командовал: «Заряжай!». Когда приходилось идти на веслах, они пели песни – протяжные, казацкие. Чьими прапрапрадедами были эти люди, о чем они говорили? Мне кажется, я вот-вот услышу.
А бригантина уже несколько лет стоит в музее острова Хортица. Окажетесь в тех местах – непременно сходите посмотреть.
Пьяный и Выпивший
Ну да, я понимаю, что живем мы все в эпоху патриархата (а другой-то, по моему ощущению, и не было – сказки это все про амазонок) – и тем не менее. Пьяного мужика мы прощаем. Все. И мужчины, и, между прочим, женщины. Ну, выпил мужик. С кем не бывает. «С кем не бывает» подразумевает только мужскую часть населения планеты. Пьяную женщину не прощает никто. Не будем сейчас обсуждать, кто в этом состоянии противней – не в этом дело. Все равно несправедливо, правда? А вот интересно, почему?
Может быть, потому, что пьяный (ну ладно, выпивший) раскрывается? Ничего плохого в этом нет, просто мужчина никогда не позиционировал себя в этом мире как загадку. Ну раскрылся, и чего такого мы узнали?
А вот женщина – загадка. Во всяком случае так принято считать. И вдруг – на тебе: выпила, раскрылась, и никакой загадки, сами себе мы все напридумывали. Ничего там нет, одно дно.
Знавал я женщин, умевших пить. То есть выпивать, не пьянея. Интересное дело: становились они моими товарищами, даже близкими друзьями, но из категории Женщин мое сознание (или подсознание?) их вычеркивало. Сидим и пьем. И все.
Есть, правда, одна тонкость. «Пьяный» и «Выпивший» – не одно и то же. Даже у мужиков. Хотя близко. У женщин – дистанция несравнимо ощутимей. Выпившая – слегка – женщина может быть очаровательной. Мало того – она может, слегка выпив, вдруг СТАТЬ очаровательной – совершенно неожиданно для отвернувшихся было от нее мужчин. И вот уже они бегут обратно, на ходу сбрасывая пальто и возвращая обаяние на лица. Что это? Зацвела сирень, побежало по проводам электричество, зайцы запрыгали, самолеты залетали. Каких-то пятьдесят грамм!
Милые женщины. Выпивайте, прошу вас. По чуть-чуть. И мир будет вращаться вокруг вас. И дары его упадут к ногам вашим. Только не перебирайте, умоляю. Нам – можно. Вам – нет.
про Дом
Лет двадцать назад, помню, одна журналисточка спросила у меня, почему в песнях «Машины» так часто звучит слово «дом». Я удивился – не обращал внимания – стал считать. Оказалось, и вправду очень часто попадается. Что-то я там такое имел в виду.
Если говорить о буквальном значении слова «дом» – не думаю, что то, что являлось домом в моей юной жизни, могло вдохновить меня на песню или хотя бы на поэтический образ. Довольно долго мы жили в коммуналке в самом центре Москвы, и это было отнюдь не поэтическое место, какие бы старые песни о главном нам сейчас ни пели. Помню в основном богатое смешение запахов – от социально-общественных до глубоко личных. Социально-общественным пахла (нет, все-таки воняла) рыжая мастика, которой жильцы по очереди согласно расписанию натирали пол – паркет из трех пород дерева, русский классицизм, оставшийся от хозяев-графьев, и его строгий рисунок проступал сквозь рыжую гадость, как лик иконы сквозь копоть. Социально-общественным пахло на кухне, где на четырех плитах одновременно булькала, испуская пар, нехорошая еда. Тут же сушилось на веревке кое-какое бельишко – предмет постоянных скандалов. Сейчас с придыханием говорят, что решили наконец вернуться к нормативам, по которым в те светлые времена делали для трудящихся еду – колбасу, сыр, пельмени и прочие радости. Ну-ну. Нет, нормативы наверняка были, но какое же отношение они имели к тому, что время от времени выбрасывали в магазины? Ничего – лет через десять умрет последний человек, который помнит, что это было на самом деле, и врать можно будет уже без оглядки.
Про личные запахи умолчу – скажу только что палитра была богатая. Утлая общая раковина-ванна с постоянно забитым сливом возможности помыться не давала, в баню полагалось ходить раз в неделю (это полагалось!), дезодорантов советская власть еще не ведала, а одеколон «Шипр» и духи «Красная Москва» картину скорее обогащали. В общем, вряд ли все вышеописанное вдохновило бы автора на создание произведения, воспевающего дом. Впрочем, автор в те годы был крайне молод и никаких песен еще не писал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/andrey-makarevich/ne-pervoe-liricheskoe-otstuplenie-ot-pravil/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Андрей Вадимович Макаревич
Андрей Вадимович Макаревич – писатель, безусловно. Легенда русской музыки, поэт, художник. Вечный юноша с лицом Ноя, ибо на его «пьяном корабле» мы все плавали.
«Старый корабль»… Между тем, думается, в строчках будущей Wiki Андрей останется писателем, подтверждением тому «Не первое лирическое отступление от правил», и не последнее, ибо мальчики не сдаются.
Андрей Макаревич
Не первое лирическое отступление от правил
© А. Макаревич, текст, иллюстрации, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Лирические отступления
Первое лирическое отступление
Господи Боже, до чего же неловок и хрупок человек, как тонка и прозрачна его кожа, как ненадежны сочленения и суставы – и как же он при этом беспечен, заносчив и самонадеян! Еще пару часов назад вы полагали себя полным хозяином собственной жизни, а сейчас стоите, дрожа, в больничном коридоре и с запоздалой осторожностью поддерживаете левой рукой то, что совсем недавно было вашей правой, а теперь она чужая, при малейшем движении гнется не там, где должна, и вы чувствуете, как внутри нее что-то противно задевает друг о друга и всякий раз при этом холодный пот выступает у вас на лбу и тоненько бежит по спине – не от боли, нет, – от ужаса перед внезапной своей беспомощностью. И вас ведут на рентген, а вы уже знаете, что там случилось – когда что-то действительно случается, ощущения не обманывают. И вот на черной пленке ваша прозрачная ручка, и цыплячья косточка внутри нее сломана ровно пополам, и вокруг маленькие крошки. А дальше вам облепили плечо и руку противным холодным гипсом, он нагрелся, застывая, на шее у вас повисла неудобная незнакомая тяжесть, и – на выход, ждать, когда освободится место в палате. Но вы не уходите, потому что совершенно невозможно вернуться в ту, нормальную жизнь в таком виде и состоянии даже на время, и вы мечтаете только об одном – чтобы все, что с вами должны здесь проделать, началось и кончилось как можно скорее. Поэтому обреченно бродите туда и обратно по коридору, глядя в больничные окна – там слякоть, голые деревья, проезжают грязные машины, идут озабоченные люди и не ведают своего счастья.
А знаете, чем пахнет больница? Во-первых, чем-то, чем наводят чистоту, но не бытовую, человеческую, а после того, как кто-то уже умер. Хлорка, карболка? А еще – столовой пионерлагеря: перловый суп, подгоревший лук, маргарин. А еще – тем, чем пахнет в кабинете зубного врача: это смесь запаха то ли спирта, то ли эфира с запахом человеческого страха. А мимо стремительно проходит главный врач, и еще утро, а у него уже усталое лицо, и вдруг ловишь себя на том, что специально торчишь в коридоре у него на пути, чтобы он тебя увидел и поскорее положил в палату, а это глупость – койка от этого раньше не освободится, и все равно торчишь, потому что лечь хочется немыслимо, и когда он проходит, пытаешься поймать его глаза, и не получается – он про тебя помнит, но не тобой занята сейчас его голова – вас тут много, а он один.
И вот наконец койка свободна, но это ты по старой памяти думал, что взлетишь на нее, как птица, и лежать будет удобно, и хотя над ней висит специальная ручка, как в трамвае, для здоровой руки – карабкаешься на нее медленно и неуклюже, а когда вскарабкался – оказалось, что лежать совсем невозможно: нет такой позы, чтобы твоей каменной руке стало удобно, и вот тут она начинает болеть. Начинает уверенно, не спеша, с расчетом на длинную дистанцию. И проваливаешься в какой-то липкий черно-белый полусон, где нет ни времени ни мыслей, и только бывшая твоя рука, пульсируя на острие боли, не дает отплыть от убогого причала реальности.
Вечером приходит маленькая круглая медсестра. Она несет на подносике, как официант в ресторане, твои уколы. Она хохотуха, и вдруг понимаешь, что это она не чтобы тебя утешить, а просто у нее такой характер, и от этого почему-то становится легко.
И совсем уже легко становится утром, когда тебя переложили на каталку, накрыли простыней и везут по коридору в операционную, это совершенно новое смешное ощущение, тебя так еще ни разу не катали, ты едешь, как торт на праздник, и больничные лампы пролетают над тобой, и больные в коридоре заглядывают в твою каталку, как в блюдо – кого это там повезли, и вообще разница только в том, что везут тебя головой вперед. Везут уверенно и быстро, и ты совершенно успокоился, потому что с этой минуты от тебя уже ничего не зависит. А еще потому что во всех движениях врачей ощущается безошибочность, граничащая с автоматизмом – это у тебя все пока впервые, а у них каждый день такой, значит, правда, ничего особенного. А операционная недалеко, и неясно, за что тебе такая честь – прокатиться на тележке, и немножко неловко, и предлагаешь дойти самостоятельно. Смеются – нельзя.
И вот операционная наехала на тебя, знакомый уже врач – ты узнал его по глазам, на всех повязки – он шутит, над тобой огромная космическая лампа, все очень торжественно. И даже мысль о том, что сейчас этот чужой тебе человек полезет маленьким острым ножичком внутрь тебя, живого, не пугает. Интересно только, как ты будешь засыпать. Тебя уже однажды в жизни усыпляли наркозом, и ты тогда не заметил, как уснул, и сейчас изо всех сил стараешься не пропустить это мгновение. И все равно ничего не выходит, и ты уже в палате, все кончилось, тебя перекладывают на твою койку, и тебе хорошо и весело, потому что из всех ощущений боль возвращается последней. Рука твоя поверх гипса забинтована, оттуда торчит коктейльная трубочка, на нее надет пластмассовый стакан с крышкой, туда из трубочки капает что-то коричневое. Ты представляешь, как эта трубочка уходит под бинтами в самую сердцевину твоей руки, и тебе становится нехорошо. Лучше не смотреть на нее. Но! Тебя починили! Этот доктор залез внутрь тебя и сделал что-то совершенно тебе непонятное – все починил! И теперь твое возвращение к жизни – только вопрос времени! И вот тут хочется есть.
Масса всего нового неожиданного, но уже не трагического. Тебе в палату привозят обед: большие серые кастрюли, красным написано – «ПЕРВОЕ», – и оказывается, что с помощью левой руки вилка попадает в рот легко, а вот ложка – никак! К тому же тумбочка возле твоей кровати устроена так, что сесть за нее как за стол невозможно – упираются колени, и ложку с супом приходится нести очень далеко, это даже здоровому не под силу, и суп капает на пижаму и пока еще девственно белый гипс.
Твой сосед по палате – милейший пожилой человек, но у него все время посетители, а к тебе никто не приходит – ты сам всем запретил, ты не хочешь, чтобы тебя видели с закапанным супом гипсом и за это жалели. А у него все время родственники, они очень тихо разговаривают, но все равно слышно, и встаешь и уходишь шататься в коридор, а там совершенно нечего делать, всю наглядную экспозицию по замене суставов ты уже выучил наизусть, а от прохожих по коридору хочется спрятаться – уж очень ты нехорошо выглядишь, – а родственники от соседа все никак не уходят, а если уходит один, то через полчаса приходит другой, и это невыносимо. К тому же ты уже третьи сутки пытаешься разгадать загадку: под потолком у вас в палате висит маленький телевизор, у вас на двоих один пультик, вы соревнуетесь в воспитанности и все время уступаете его друг другу. В промежутках гуляете по программам, пытаясь найти хоть что-то интересное. Но как только это интересное находится, ваш сосед тут же переключает канал! Он образованный человек, интеллигентный до застенчивости, и, казалось бы, вас должно интересовать одно и то же – что за ерунда? На Земле так много непонятного.
На пятый день все-таки припираются вдруг друзья-музыканты – с поллитрой, солеными огурцами, бородинским хлебом и домашней селедкой в баночке. Ты собирался сердиться – чего приперлись, – а самому вдруг приятно. Черт нас самих разберет. И выпиваем стоя, разложив газету на холодильнике, как положено, и наливаем соседу, и выясняется, что за пять дней я совершенно забыл вкус водки – наверно, когда организм начинает сам себя чинить, он все ненужное выбрасывает – делает генеральную уборку в доме. И друзья ушли, сосед дремлет, а ты лежишь, захмелевший (от ста пятидесяти-то!) и вдруг ловишь себя на мысли, что строишь планы, как будто ты уже здоров и ничего такого не было.
Все, что ли – домой?
Второе лирическое отступление
А знаете, какая самая большая пытка? Это та, которая вплотную прилипает к самой большой радости. И происходит это совершенно одинаково – будь ты в Гамбурге, Нью-Йорке или Омске, ибо наш человек везде одинаков, а последние годы даже более одинаков вдали от родины.
И вот ты отыграл концерт, и он опять получился отличный, хотя никаких предпосылок к этому, казалось, не было – и аппаратура так себе, и самочувствие, и вообще. И когда ты, согретый этим неожиданным счастьем, наконец оказываешься в гримерке и начинаешь стаскивать через голову мокрую рубаху – тут-то все и начинается. Никакие просьбы по поводу того, чтобы к тебе в комнату хотя бы десять минут никого не пускали, не работают. Дверь не запирается, а если вдруг и запирается – в нее будут барабанить, как милиция с ордером на обыск. И вот всовывается первая морда, он толстый и вспотевший, и на лице его еще следы песни «Поворот», которую он только что громко кричал вместе со всеми, а у тебя еще руки не вынуты из мокрой рубашки, и даже когда вынешь, ты его все равно не выпихнешь за дверь, потому что он, как террорист заложника, ведет перед собой бледную немощную девочку лет шести – дочку, и конечно фотографироваться надо будет с ней, хотя ей это на фиг не нужно, она не понимает, куда попала, и ей так же, как и тебе, хочется, чтобы все это быстрее закончилось. И становится тоскливо ясно, что чем объяснять этому толстому, что не надо сюда заходить как к себе домой, проще дать ему щелкнуть, и пусть идет к чертовой матери, но тебе надо сначала хоть что-то на себя накинуть, хотя толстому все равно – он может и так. Потом он будет долго устанавливать ребенка перед тобой, а сам обязательно в это время расскажет, что он рос на твоих песнях и где слушал тебя в восемьдесят втором году, и присутствие шестилетней заложницы не позволит заткнуть ему рот, а лицо его будет светиться таким счастьем и любовью, что у тебя опустятся руки. Наконец он сделал все, что хотел, и уходит, пятясь, но это только начало группового изнасилования. Потому что дверной проем уже заполнен подошедшими. Их объединяет общее выражение лиц. Так смотрит три дня голодавший на жареного цыпленка. Помните старинный фильм про нашествие зомби в универмаг? Они идут небыстро и даже как-то неуверенно, но спасения от них нет. В последнюю секунду удается, как в кино, захлопнуть дверь и прислонить к ней своего директора, но смысла в этом уже никакого нет – ты в осаде. И с тоской вспоминаешь короткий опыт гастролей по загранице, только по настоящей, не русскоязычной – там даже к самой начинающей школьной группе за кулисы не пропустят ни одного человека, даже если за него попросят музыканты. В общем, находится компромисс – за дверью собирают бумажки, билеты, пластинки, сигаретные пачки и заносят в комнату ворохом – на всем этом надо будет сейчас расписаться. Это уже легче, хотя настроение подпорчено, и расписываешься не глядя, и одеваешься быстро, и сквозь строй в коридоре пробегаешь в автобус, правда, по пути надо сфотографироваться с охраной, которая пропустила к тебе всю эту шоблу, с пожарниками и с родственниками организаторов концерта – это святое. И вот ты наконец в автобусе, и все музыканты здесь, и вас везут ужинать в ресторан. Думаете, все? Не тут-то было!
Если это зарубеж, то ты десять раз накануне попросил – пусть это будет какой угодно ресторан: китайский, итальянский, японский, местный – только не русский! Не потому что ты русофоб. А потому что в русском групповое изнасилование будет продолжено. Называться он будет обязательно «Тройка», или «Матрешка», или «Самовар», и умный хозяин уже продал места тем, кто мечтает пообщаться и выпить с артистами, за это артистов, может быть, даже накормят бесплатно, и вообще у него с устроителем концертов свой договор – мы завтра уедем, а им тут вместе жить. И поэтому после лживых заверений тебя все-таки подвозят к ненавистной «Тройке», а ты ослаблен концертом, не знаешь города, и время такое, что все остальное уже закрыто. Устроитель прячет глаза, клянется, что тут «только свои», ему бесполезно объяснять, что его «свои» – это совсем не твои «свои», а жрать хочется, и стискивая зубы входишь внутрь. В этот момент раздаются аплодисменты, а лабухи на сцене обрывают на полуслове «Владимирский централ» и переходят на «Марионетки», и ты идешь быстро, опустив глаза, за свой стол уже не в силах ничего изменить и не понимаешь, почему за твоим столом не шесть мест по числу музыкантов, а двадцать четыре? А это как раз «свои». Если все происходит на родине, то помимо организаторов гастролей и спонсоров за столом располагаются: первый зам. губернатора, главный судья, главный гаишник, главный милиционер и главный бандит – все с женами. В случае заграницы ты даже предположить не можешь, что за люди сидят за твоим столом, мало того – это тебе совершенно неинтересно, и когда тебе их представляют – через силу улыбаешься и киваешь головой, хотя ни черта не расслышал, лабухи опять взялись за «централ», и нет никакой силы и возможности объяснить этим неплохим, наверное, людям, что ты свой концерт сегодня уже отработал и просто хочешь побыть в тишине один или с друзьями, но никак не в их компании, и будут кричать тебе через стол, прорываясь сквозь ресторанный гвалт и брызгая закуской, и чокаться с тобой за «группу нашей юности», и рассказывать какую-то ерунду, и заглядывать в глаза, а ты все будешь притворяться, что слушаешь, а станут опять фотографироваться, положив руку тебе на плечо и приставив с другой стороны пышную, как клумба, жену. И если тебе удалось в обход всего этого быстро выпить свои сто грамм, проглотить кусок мяса, незаметно выскользнуть из-за стола и сбежать в гостиницу – тебе повезло. А количество совместно выпитого находится в прямом соответствии со степенью взаимного уважения – они готовы были выпить с тобой ведро, и никого ты, ей-богу, не хотел обидеть, но совершенно невозможно заставить себя напиваться с этими незнакомыми дядьками и играть роль, которую они для тебя придумали.
И разговоры, конечно, будут: «Чего это он? Важный какой-то». – «Да нет, приболел просто…» – «Да ну! Вот Якубович приезжал – так тот нормальный мужик. Гуляли так гуляли!»
Простите меня.
Третье лирическое отступление
Вы когда-нибудь видели, как мужики идут за вином? Нет, сейчас эта картина уже выглядит крайне размыто – исчез порыв, ушла битва. Достаточно протянуть руку с деньгами, и в нее вложат любую бутылку согласно вашим запросам и благосостоянию. Нет-нет, представьте себе какой-нибудь летний крымский городок – скажем, Гурзуф начала семидесятых. Утро, как правило, безлюдно – последние гуляки только-только расползлись из кустов, у пансионатов метут дорожки, пляжи еще пусты, первые пожилые пары и мамы с малышами занимают лежаки. Солнце поднимается выше, отчего море делается синей, подул ветерок, открывается «Блинная» на набережной, тетка, звеня ключами, отмыкает цистерну с надписью «Пиво», и рядом с ней тут же вырастает очередь с трехлитровыми банками, и вот – смотрите, мужики пошли за вином. О, эту походку, это выражение лиц не спутать ни с чем, и однажды увидев эту картину, запомнишь ее навсегда. Читается она только со стороны – если ты сам в рядах идущих, ты не увидишь ее красоты. Так пловец в открытом море не замечает течения. Идут по двое – по трое, собранно и энергично, хотя без суеты и с достоинством, и выражение лиц у них всегда вдохновенно-серьезное. Идут ПО ДЕЛУ. Дело не пустяковое, так как магазин в городке один, в лучшем случае два, одиннадцать пробьет через семь минут, а идти пятнадцать, и еще неизвестно, что там останется и что вообще завезли (впрочем, я несколько сгущаю краски – завозили обычно вволю.) А еще на их лицах – ответственность за тех, кто остался, не пошел в поход, но скинулся, и теперь только от идущих зависит, каким будет сегодняшний вечер и сколько радости он принесет.
В одиннадцать уже невероятно жарко, из четырех стеклянных дверей в магазин открыта одна, туда поочередно впихиваются страждущие с деньгами в потных кулаках и выдавливаются совсем уже мокрые, в прилипших рубашках, но счастливые – с вином. Жара усугубляется тем, что по набережной бродит милиционер в полной боевой выкладке и удаляет за пределы своей видимости отдыхающих в шортах и майках («Граждане, вам тут не пляж! Это городская набережная!») Внутри магазина – ад. Если на улице просто очень жарко, то внутри температура приближается к температуре внутри доменной печи – о кондиционерах жители страны советов еще не слыхали. Плотное мокрое месиво, состоящее исключительно из мужчин средних лет, медленно ползет вдоль прилавка. Сначала увидеть, что там дают, потом догрести, доплыть до кассы, обменять деньги на чек из толстой серой бумаги, сохранить силы для главного рывка к прилавку, обменять чек на тяжелые некрасивые бутылки темного стекла, вырваться на волю, пробуравив напирающую снаружи толпу, ничего не разбить и не потерять сознания – это вам как? На такие дела посылали самых надежных.
(Вообще отношение к делу – не просто работе, упаси бог! А к ДЕЛУ, возвышающему мужчин, отличает последних от женщин. Я однажды наблюдал в дикой Африке, как два местных жителя, пока их жены в количестве девяти штук копались в рисовом болоте – каждая с младенцем за спиной, – эти двое занимались ДЕЛОМ. Они вели бизнес. У дороги они расстелили газету, на которой был представлен товар – спички поштучно и макароны поштучно (именно поштучно, а не попачечно.) Торговля шла плохо. Точнее, она совсем не шла, и это спасало бизнес, так как спичек было полкоробка, и макарон – полпачки, и поставок не предвиделось. Но видели бы вы этих гордых негоциантов!)
Так вот, похожая облеченность миссией написана была на лицах Мужчин, Идущих за Вином. На этом сходство заканчивалось, так как, в отличие от застывшего во времени африканского процесса, процесс крымский развивался и давал результаты – вино удавалось взять (как правило.) Если не удавалось – надо было ближе к вечеру пристроиться к компании, представителям которой это удалось. И если халява не переходила в систему, то удавалось это всегда – портвейн, как я уже говорил, вселял в людские сердца доброту (до определенного предела, разумеется.) Мало того, он уравнивал употребляющих, и в какой-то момент вы себя чувствовали счастливыми составляющими одной огромной компании, а может быть даже, и страны. Возможно, в этом и заключалось скрытое воспитательное действие напитка, называемого в СССР «портвейн», и может быть, именно поэтому он так настойчиво и предлагался населению одной пятой земного шара.
Впрочем, пили на юге не только портвейн. Пили, конечно, и сухое – от отчаянья, когда портвейн кончался, и даже всякие игристые – типа «Донского красного». Коньяк не пили из-за дороговизны, а водку, видимо, из-за невозможности ее охлаждения – если в средней полосе водка комнатной температуры еще идет, то горячая в Крыму – уже с трудом. К тому же действие водки отличается от действия портвейна и поэтому менее подходит к состоянию южного отдыха. Русский человек, выпив лишнее количество водки, как правило, перестает любить человечество в лице отдельных его представителей, и гармония нарушается дракой. (Удивительно – на евреев эта особенность не распространяется – они от водки любят человечество еще сильней. Этот феномен заслуживает детального изучения.)
Также, конечно, в Крыму пилось пиво, но не как самодостаточный алкогольный напиток, а как средство, связывающее послевкусие вчерашнего праздника с сегодняшним грядущим. В этом качестве пиво выполняло задачу на сто процентов.
И вообще, скажу я вам – все особенности и нюансы тогдашней жизни соответствовали особенностям и нюансам тогдашнего кайфа. Ушла навсегда (хотелось бы) та жизнь, нет больше магазинов с названием «Гастроном» или «Вина-воды» (в Сочи даже был «Специализированный магазин по продаже водки населению» – как название?), да и напитки сменили вкус, и бутылки выглядят куда нарядней, и давиться за ними уже не надо. И никакой я ностальгии не испытываю ни по совку, ни по собственной молодости – разве что посидеть ночью на прохладной гальке гурзуфского пляжа под еле слышный плеск прибоя и треньканье расстроенной гитары в компании малознакомых ребят и девушек, красота которых только угадывается в темноте, передавая по кругу теплую от их рук бутылку портвейна «Кавказ».
Макаризмы
про Красоту
Отец одно время преподавал на первом курсе Московского архитектурного. Первый курс назывался ФОП – факультет общей подготовки. Он выходил к этим юным, победившим в жестоком конкурсе, прошедшим суровые вступительные экзамены без пяти минут гениям, ставил мелом на доске две точки – на расстоянии чуть больше метра друг от друга – и стремительно соединял их идеальной прямой. Потом предлагал студентам проделать то же самое. Ни у кого не получалось. Даже близко. «Вот за этим, – говорил отец, – вы сюда и поступили».
И за этим тоже.
Идеальный художник – это идеальный глаз плюс идеальная рука. И работают они в жесткой сцепке, как единый организм. Так было всегда, когда художник рисовал. До недавнего времени. Пока не появился концепт. Он как бы не отрицает ни глаза, ни руки, но делает их не главными, не обязательными. Главное – идея. А прямая линия – вообще чушь: компьютер дает такую линию, что прямее не бывает.
Что такое красота? У Даля нет ответа: «Красота, краса, украса, услада». В историко-этимологическом словаре современного русского языка – «то, что доставляет эстетическое наслаждение». Спасибо, объяснили. В Большом энциклопедическом словаре вообще бред: «Красота – квантовое число, характеризующее адроны». Я подумал, я с ума сошел. Толковый словарь русского языка Ушакова – нет объяснения! Словари кончились.
По-моему красота – это когда через наше корявое, рукотворное, бытовое вдруг проступает божественное совершенство. Оно бесконечно далеко от нас, но оно есть, вот оно, и это для меня одно из бесспорных доказательств существования Всевышнего. И ты не можешь объяснить, почему эта линия заставляет твое сердце чаще биться, почему это лицо на холсте светится тихим светом и слезы наворачиваются у тебя на глаза. Чувствуешь, а объяснить не можешь. Вот в словарях и пусто.
Гоните к черту тех, кто будет вам объяснять, что красота – понятие субъективное, у каждой эпохи, у каждого этноса свое представление о красоте. Это они так маскируют свое убожество. Они путают конфету и фантик. Фантики меняются, это правда. Меняются моды, направления, стили. А божественный свет – непреходящ. Он проступает из древних наскальных изображений и из фресок Феофана Грека, из холстов Боттичелли и Модильяни, из «Пьеты» Микеланджело и трактирных вывесок Пиросмани. Или не проступает. Из «Черного квадрата» ничего не проступает. Черный квадрат – и все. Ломать – не строить.
Мне семь лет, и я смотрю, как отец рисует. У нас с ним одна комнатка на двоих, у стены – мой раздвижной диванчик, у окна – его рабочий стол. Отец берет новый лист, несколько секунд смотрит на него, сощурясь, и вдруг стремительно проходит по нему толстой кистью, движения его резки и непредсказуемы, и через пару минут я, затаив дыхание, вижу, как разрозненные линии и пятна соединяются в портрет женщины необыкновенной красоты. Образы этих женщин рождались у отца в голове – почему, как, откуда? Еще минута – и работа ложится сохнуть на пол рядом с двумя другими. Отец берет новый лист. Он будет рисовать, пока на полу не останется места. Я наблюдаю почти каждый день, как рождается Красота под рукой безупречного художника. Я готов наблюдать за этим бесконечно.
Как же мне повезло!
Ничего не хочу
Я понял наконец, за что я так не люблю зиму. Просто я сам себе зимой не нравлюсь. Вернее, нравлюсь еще меньше, чем в теплое время года. Я начинаю отвратительно себя вести. Масса вещей вдруг становятся – необязательными, что ли? Например, подарил друг-музыкант свою новую пластинку. И музыкант хороший, и пластинку хвалят, и летом я бы ее завел тут же весь в нетерпении, а вот лежит она у меня вторую неделю нераспечатанная. Возьму в руки и положу обратно на стол: не хочу. Да и стол рабочий давно надо бы разгрести: банки с краской, бумага, мусор какой-то – работать не сядешь. Не хочу. Постоишь над ним, вздохнешь – и пошел на кухню. Ничего не хочу.
Отчасти дело, видимо, в коротком дне. Мало того, что он короткий – он еще и сокращается, и это особенно противно. Обычный дневной замах не умещается в это шестичасовое относительно светлое время суток, называемое по привычке «днем». Только разогнался – а уже стемнело. Все – садись, пей. Чукчи думают, что человек произошел от медведя. У меня в предках явно был медведь. Может быть, шатун. Потому что впасть в полноценную спячку все-таки не получается – среда не отпускает и не до конца позволяет физиология. Давняя неосуществленная мечта: выяснив у секретных метеослужб предполагаемую дату первого снега, накануне погрузиться в самолет с минимальным набором необходимого и улететь туда, где люди всю жизнь ходят в майках и шортах и снег этот видели только в американском фильме ужасов «Послезавтра». А домой можно вернуться в конце апреля, когда этот самый снег уже сошел, вокруг вовсю орут птицы и весна просто висит в воздухе. Как-нибудь обязательно попробую.
И вдруг! Какого-нибудь двадцать шестого декабря (еще и новый год не наступил!) ты вдруг понимаешь, что день стал на минуту длиннее! Минута – пустяк, но завтра добавится еще одна! А послезавтра – еще! Делишки-то идут к весне! И все, оказывается, такой ерунды вполне достаточно. Раскопал на столе пластинку, распечатал, послушал – отличная пластинка! Разгреб стол, сел рисовать. Хорошо! А потом Новый год просвистит молниеносно, числа третьего выйдешь на улицу – а все разъехались, каникулы. Дороги пустые. Сел в машину, едешь себе. Неважно куда. Просто хорошо. Едешь и думаешь: «Делишки идут к весне!»
Думаете, психика, да?
про Любовь
Несколько лет назад меня пригласили участвовать в благотворительной акции «Раскрась корову». В мире такие акции проводят довольно часто, но в нашей стране это случилось впервые. Разным художникам раздали белоснежных пластиковых коров в натуральную величину, каждый расписал свою как мог, а потом их продали на аукционе. Я быстро придумал для своей коровы довольно смешную концепцию, сделал все за пару дней, и, помню, работа моя очень хорошо продалась – было приятно, не зря старался. С тех пор меня не покидало ощущение, что я не до конца высказался в этом жанре. Я решил продолжить – уже для себя. Оставалось найти собственно корову. Я вспомнил, что в прошлом году что-то похожее видел в магазине «Твой дом». В магазине мне сказали, что да, была у них такая корова, но никто ее так и не купил, и теперь она стоит на складе. Я поехал на склад в какую-то глухомань, и веселые толстые дядьки выволокли из лабиринта коробок и контейнеров и поставили передо мной роскошную корову – белую в черных пятнах и с большими грустными стеклянными глазами. Корова томилась на складе давно, была вся в пыли, на ней имелись утраты, и мне продали ее за полцены. Мой пес Гек, бернский пастух, человек добрейший и мечтательный, увидев корову, жутко перепугался. Он спрятался за кустом и оттуда наблюдал, трепеща, как два грузчика затаскивают в гараж непонятное чудовище. Заставить его подойти и познакомиться с коровой было невозможно. Наутро я приступил к работе. Я решил сделать корову черно-золотой. Такое черненое золото можно увидеть на древних японских украшениях и эфесах самурайских мечей, сочетание невероятно благородное. Первым делом я покрыл всю корову матовой черной краской из аэрозольного баллончика. Гек поборол страх, пришел в гараж и завороженно наблюдал, как животное на глазах меняет цвет. Потом настало время золочения. Дело это кропотливое и нудное – надо намазать небольшой участок коровы клеем, потом плотно прижать к нему кусок пленки с золотой амальгамой и, когда клей застынет, резко сорвать пленку – позолота останется на поверхности. Постепенно корова покрывалась золотой патиной – получалось даже красивее, чем я ожидал.
И случилось невероятное – Гек влюбился. Он лежал у ног медленно золотеющей коровы и, улыбаясь, смотрел на нее блаженными глазами идиота. Таких глаз я не видел у него никогда – ни во время любовных игр со всякими, извините, суками, ни в дни, когда он, прыгая, встречал меня у ворот после долгой разлуки. Нет, это было что-то совсем иное. Он забыл про еду, питье и отказывался покидать гараж. Утром я заставал его у ног возлюбленной в той же позе, что и вчера. Три дня ушло у меня на процесс золочения, и три дня Гек не покидал свой пост. По-моему, он даже не отлучался пописать. На четвертый день с золотом было покончено, оставалось покрыть корову лаком. Лак жутко пах, я чуть не терял сознание, Гек морщился, но оставался неподвижным. Это была вахта безнадежно влюбленного раба у ног недоступной королевы.
Еще день корова сохла, а потом настало время искать ей место. Вещь немаленькая, в комнату не поставишь. К тому же мне хотелось поднять ее высоко, как знамя. И два мужика за бутылку помогли мне затащить ее на второй этаж и выставить на единственный балкончик – она чудом вошла во все двери и вот теперь скромно сияла золотыми боками прямо над входом в дом. Туда Геку уже было не добраться, а он и не рвался – он знал, что несчастная его любовь обречена. Теперь он сидел у порога дома, задрав голову, и неотрывно смотрел ввысь. К вечеру ветер стихал, и тогда было слышно, что он тихонько поет.
Я даже хотел написать сказку про неразделенное чувство сторожевого пса и золотой коровы, но вспомнил, что все это уже давным-давно сделал Андерсен.
SISTEMA
Система непобедима. Она воспроизводит саму себя. Система представляет собой цепочку элементов, взаимосвязанных по одному принципу. Казалось бы, замени любой кирпичик на инородный, и система рухнет. Но именно поэтому ничего инородного система внутрь себя не допускает. Ни под каким видом.
Скучно? Сейчас объясню.
Вот режиссер заказал композитору музыку для фильма. Композитор – халтурщик и записал всю музыку на дешевой корейской электронной клавишной игрушке. На такой пукалке даже корейские пионеры к музицированию не допускаются. А он записал все – рояль, скрипки, трубы, барабаны. Нет, конечно, платили бы серьезные деньги – он бы позвал на запись государственный оркестр кинематографии с дирижером Скрипкой. А тут – на какие шиши?
В общем, звучит чудовищно. А режиссер эту музыку покупает. И вставляет в фильм. Ну, во-первых, у него что-то с ушами. А во-вторых, бюджет и правда позорный, он и этот-то еле выбил, а надо еще на актеров, на производство, на павильоны, на натуру… Ну и себя не обидеть. И не думает он о том, что такая музыка – уже волчий билет на любой международный фестиваль: не возьмут там такое. Он на эти международные фестивали не очень-то и рвется. Подумаешь! У нас свои есть. «Кинотавр». Чем не Канны?
А актеры тоже не очень-то рвались в этом кино сниматься. Потому что все понимают. А с другой стороны, окончили ВГИК, подавали надежды, год, два – не звонит Скорсезе! И Сокуров не звонит. А кушать надо. А на театральную зарплату не покушаешь. Да и там у них, между нами говоря, не Петер Штайн ставит. Некоторые, у кого психика покрепче, снимаются в рекламе прокладок. И в сериале «Счастливы вместе – 12». Но не у всех же актеров такая крепкая психика. Она обычно расшатана профессией. Вот и пошли с надеждой – а вдруг что получится! Бывают же чудеса. Все-таки кино. Полный метр.
Не получится. Потому что сценарист на фильме был как раз очень известный. И в силу этого исключительно востребованный. И именно на этом отрезке времени он интенсивно работал сразу над двумя сериалами. Ну, так получилось. Он, конечно, к этим сериалам относился с должной иронией и даже некоторым презрением. А киносценарий писал для искусства. Для вечности. Но вот на эту самую вечность все время не хватало то сил, то времени. Нет, задумано было неплохо. Но – недотянул. По объективным причинам. Он и не думал, что режиссер этот сценарий возьмет. А ему что-то там вдруг понравилось. Он, правда, просил кое-что переделать и дописать, но когда? Не жизнь, а сплошной цейтнот!
Ой, я забыл про оператора. Оператор как раз мечтал на этом фильме поработать. Потому что всю жизнь снимал телевизионные программы. В основном кулинарные. И они у него очень хорошо получались. И на телевидении его хвалили. Но хотелось в искусство. Пленка, полный метр. Он правда очень старался. Но у него не очень получалось не кастрюли снимать. Оказывается, разучился, сбил планку. Да и не очень-то умел, видимо. А режиссер сначала думал пригласить вместо него великого, а тот занят. С Германом снимает. Уже двенадцать лет.
А зритель постоял-постоял перед афишей, да и не пошел на фильм. Во-первых, вон в соседнем зале «Аватар против чужих» дают. А во-вторых, если все-таки кто-то из знакомых посмотрит и окажется, что можно смотреть, посмотрим дома. На пиратском диске.
Приятного просмотра!
про «Они и Мы»
Представьте себе: много лет подряд вы дважды в день пробегали мимо старинного покосившегося особнячка с темными немытыми окнами и заколоченным входом. И вдруг – чудо: особнячок поправили, отремонтировали, отмыли, окна его чисто сияют, а табличка у входа говорит о том, что отныне домик этот принадлежит некой частной компании или, не дай бог, частному лицу, и стоит он теперь на вашей улице красавец красавцем. И вот тут вы чувствуете, как в глубине души у вас поднимается волна праведного гнева: как же так? Пересмотреть результаты грабительской приватизации!
Послушайте. Этот дом не стал вашим и не был вашим (вы же никогда не воспринимали буквально слова песни «И все вокруг советское, и все вокруг мое!» – вы же не совсем идиот, верно?). Так вот: единственное, что изменилось для вас – он из развалюхи превратился в украшение города и сейчас радует вам глаз. Недовольны? Хорошо – если он вам так нужен, вы, в принципе, можете сегодня его купить. Если новый хозяин не против, цена реальна, а у вас есть деньги. Опять плохо?
Разруха-то в головах.
Ладно, другая ситуация. Вот вы едете по трассе в полном соответствии с установленным законом скоростным режимом, и вдруг, сдувая вас с дороги, мимо с космической скоростью пролетает лихач и уносится за горизонт – навстречу неизбежному. Ваши действия? Предупредите дорожно-патрульную службу? Да вы что, с ума сошли? Это же называется «настучать»!
А знаете почему? Потому что в силу специфических особенностей истории нашей страны население четко делит себя на две категории: это «мы» (ну то есть все мы) и «они» – то есть государство с подвластными ему силовыми структурами. И «они» вполне могут посадить «нас». Любого. Мы «их» – нет. Так что это же кто-то из «нас» проехал. А чего, молодец, не бздит. Как же можно своих-то сдавать? Ну а если это был кто-то из «них» – так им можно.
Знаете, ни в одной стране мира я не наблюдал такого забавно расщепленного сознания. Нет, там тоже есть «мы» и «они». Мы – это законопослушные граждане и они – это преступники, нарушающие закон. И не важно, чем человек при этом занимается. Нет, важно: если он полицейский и он нарушил закон, которому призван служить, – он будет наказан строже. У нас наоборот, верно?
Все понимаю. Ни у одной страны нет таких ярких лагерных традиций. И все это было вчера. Да и кончилось ли? Поинтересуйтесь процентом оправдательных приговоров – ахнете: он окажется ниже, чем в тридцатые годы. Наш министр внутренних дел, выступая с высокой трибуны в день милиции, сообщил, что эта самая милиция сегодня еще тверже стоит на страже российской государственности. И прозвучала эта фраза в его исполнении по всем телевизионным каналам. «Вот тебе и раз, – подумал я, – а я-то полагал, что милиция стоит на страже нашей с вами безопасности – моя милиция меня бережет. Разве не так?» А никто и не заметил. Дня не проходит, чтобы нам не сообщили о новом милицейском преступлении – тут застрелили, там забили насмерть… И знаете что? Мы привыкли! Ну да, можно понять – жил в стрессовой ситуации, на две семьи… Вот и убил человека. Он не хотел.
Мне страшно. За своего сына, например. Они, двадцатилетние, очень хорошо знают – не окажется при себе паспорта, заберут в участок. А там могут убить – случайно.
Что со всем этим делать?
Да, а домик-то надо бы вернуть. Обратно государству. Непорядок.
про Метро
Еду в машине, стиснув зубы, слушаю очередной рекламный шедевр – какой-то хлюст приторно-элитным голосом вещает про экстрамодные очки стоимостью с автомобиль: «Наш адрес – «Супер-хаус» в Барвихе!» И – с издевочкой: «Метро там, к сожалению, нет». Дескать – не для вас, чумазых. Убил бы хама.
В детстве я обожал метро – настоящее подземное царство! И там еще ездят поезда! Стоишь у края платформы, а из черной пещеры тоннеля сначала дует теплый ветер, потом загораются в глубине два глаза, они несутся на тебя, и вот – с восхитительным звуком – поезд! Шипит, останавливается. Поезда немножко похожи на игрушечные, потому что чуть меньше настоящих – скучных и зеленых. Изнутри они такого волшебного желто-блестящего цвета (да еще с какими-то елочками!), кажется, их покрасили гоголем-моголем и он еще не застыл – хочется лизнуть. Два ряда хромированных стоек: возьмешься рукой, отпустишь, и как на зеркале, медленно тает матовый след. А можно прислониться лбом к дверному стеклу (хотя на нем как раз написано: «Не прислоняться!») и смотреть в пролетающую темноту – там, оказывается, не совсем черно, а видны стены тоннеля, то плоские, то покатые, и бесконечные кабели, а то вдруг откроется второй путь, и по нему пронесется встречный сверкающий поезд – так быстро и близко, что твой вагон качнет упругим вихрем. А еще иногда видны совсем уж загадочные, уходящие во тьму пространства лесенки, дверцы с непонятными надписями, и ясно, что за ними живут какие-то таинственные секретные люди. Это же с ума сойти!
А чтобы попасть в это подземное царство, надо было купить в кассе с полукруглым окошечком билет – один или целую книжечку. Билет стоит пять копеек, а книжечка – пятьдесят. Билет на тонкой хрустящей желтой бумаге, на нем мелким черным шрифтом какие-то глупости и цифры, посередине – большая красная буква «М» и внизу – красная сеточка с надписью «Контроль». Этот контроль при входе отрывает тетенька в кителе и красном берете – прямо как в кино! Интересно, сохранился у кого-нибудь такой билетик – хоть один? Уже потом, когда я учился в школе, в метро поставили чудо техники – автоматы, все в полированном дереве, как серванты. Проход стоил пятачок. А выменять их можно было в другом автомате – железном и сером, он висел на стене. Бросаешь гривенник – с грохотом вылетают два пятачка. Мы почти в космосе!
Сколько раз я спускался в метро? Десять тысяч раз? Или двадцать? И как же давно это было!
Недавно я ехал на съемку и страшно опаздывал. Москва безнадежно стояла. И тогда я бросил машину практически посреди Таганской площади и кинулся в метро. Входя в стеклянные двери, заробел – даже не знаю, сколько сегодня стоит вход и как платить! Вроде как решил неожиданно зайти к человеку, которого не видел сто лет – вспомнит ли, узнаю ли? Ничего – подсмотрел, разобрался.
Внизу ничего не изменилось. Ну, почти. Очень боялся, что на меня набросятся с автографами – ничего подобного: видимо, мой образ не проецировался на образ пассажира метро – не узнавали. Только вдруг подошел уже в вагоне один знакомый (бизнесмен, между прочим!) и, совершенно не удивившись, продолжил беседу, которую мы с ним вчера прервали по телефону. Ни фига себе! Доехал за десять минут.
А вы? «Метро там, к сожалению, нет…» Ну и плохо, что нет!
Сомали – не берем!!!
Я радуюсь, когда кто-то кому-то начинает при мне доказывать, что у России свой путь и никто ей не указ. Конечно, свой, какой же еще! У нас другой не получается. При всем желании.
Я коллекционирую истории, произошедшие со мной на просторах Родины в разное время, в разных местах. Объединяет их одно – они непереводимы на иностранные языки. То есть перевести можно, и даже дословно, но смысл от иностранца ускользнет, как ни бейся.
Ну например. Летел я несколько лет назад из Нью-Йорка в Москву. Летел «Аэрофлотом», в бизнес-классе – не хухры-мухры. Самолет причалил к Шереметьево, я прошел по коридору метров сто и понял, что оставил в салоне на сиденье фотоаппарат. Большой и дорогой. Я кинулся обратно – путь был уже перекрыт. Аппарат я купил совсем недавно, и было его исключительно жалко. Его и фоток, в нем хранившихся. И я побежал искать начальника смены – есть такая должность в аэропорту, решает все вопросы. Я нашел его – довольно быстро! – и рассказал о своем горе. Он нахмурился и (внимание!) спросил меня: «Сколько прошло времени?» «Минут пятнадцать», – ответил я. «Боюсь, что уже поздно», – сказал начальник смены. Какие там иностранцы – даже я сперва не понял смысла услышанного. Как это поздно, там же сейчас, наверно, убирают! «Вот именно», – с тоской произнес начальник. Нет, я, конечно, не успокоился, мы дозвонились до команды уборщиков, и они поклялись, что никаких фотоаппаратов в салоне обнаружено не было. Ну естественно – поздновато задергался: пятнадцать минут! Прав был начальник.
Скажите – вы можете себе представить такую ситуацию в любом аэропорту цивилизованного мира (ладно, Сомали не берем!). И будет ли эта команда уборщиков работать завтра? У нас – будет. Других нет. А нам ведь даже не очень удивительно, правда?
Или вот. Звонят мне с нашей большой и известной радиостанции. «Здравствуйте, – говорят. – С Национального радио беспокоят. Поздравляем вас! Ваша песня из последнего альбома лидирует в хитах и по итогам года тянет на премию «Золотой магнитофон!» Так что пожалте такого-то декабря в Кремлевский дворец на торжественное вручение!» Я обрадовался. Не так-то уж часто подобное происходит, приятно. «Спасибо огромное, – говорю. – Вот только именно этого декабря мы на гастролях. Но это же не страшно, правда?» В трубке – мучительное молчание. «А-а! – догадываюсь я. – Вы, наверно, даете премии только тем, кто приходит на вручение, да?» «Ну вы понимаете, – бормочут на том конце. – Это же все-таки шоу…»
Понимаю. Будет другая песня лидировать – того, кто приедет. Хрен с ней, с премией, переживем. Странно только, что в Каннах или в Голливуде такая система не практикуется – «Оскаров» бы сэкономили. Не доехал, скажем, Кэмерон до Лос-Анджелеса – куку ему с маком, а не «Оскара»! А надо приезжать. У нас тут шоу. Так нет – корячатся, унижаются, через продюсеров высокую награду передают – дураки, ей-богу.
Так каким, говорите, Россия путем пойдет? Своим, только своим. Долго идти будем.
Звонок телефона в осеннем лесу
История эта случилась много лет назад. Неожиданно в самом конце сентября вдруг пошли опята. Люди несли мимо моего дома полные корзины, и я не выдержал. Я разгреб дела, освободил полдня и пошел в лес, благо лес был через дорогу. Со мной отправилась моя знакомая девушка – кажется, это я ее уговорил. Я обожаю ходить в лес. Не только в лес – мне необходима дикая природа. И если на протяжении полугода я до нее не добрался – я болею. В лесу, на воде, под водой со мной что-то происходит на биологическом уровне – я заряжаюсь, как батарейка, а голова начинает работать сама по себе, не отвлекаясь на окружающие глупости и звуки, и слышит только то, что ей надо слышать. Поэтому девушка в данном контексте была совершенно необязательна – просто так уж получилось.
Стояла пасмурная безветренная погода. В лесу было прохладно и так тихо, как бывает тихо только в осеннем лесу: птицы уже не поют, комары не зудят, и шаги твои по опавшей листве звучат неестественно громко, а от звука падающего желудя вздрагиваешь, как от выстрела. Опят оказалось не так много, как я предполагал, и ушли мы довольно далеко. Девушка на поверку оказалась совсем не лесной породы, грибы собирать не умела, боялась потеряться и при этом все время исчезала куда-то из поля зрения. В конце концов она потеряла свой дорогой красивый мобильник и очень расстроилась. Выходило, по ее предположениям, что случилось это, когда она склонилась над каким-то мухомором. Надежды вернуться и найти именно это место не было никакой. И тогда я достал свой телефон и набрал ее номер. И где-то на самом краю земли, еле прорываясь сквозь вселенскую тишину леса, защебетал веселенький звоночек. Он доносился из таких далей, что поначалу направление определить было почти невозможно. Пришлось разделить окружающее нас пространство пополам, а потом еще пополам. Я шел на звук и молил бога, чтобы в звонящем телефоне не сдохла батарейка. Минут через пятнадцать я вышел прямо на него: он лежал, зарывшись в бурые листья, и из последних сил мигал зелененьким.
Вот удивительно: и дома, в котором я жил, уже давно нет, и девушка та бог знает где, а я до сих пор вспоминаю эту картину – еле слышный далекий звонок телефона в лесу.
про Благородство
Я тогда еще был совсем маленьким – кажется, только пошел в школу. Летом родственники забрали меня к себе на дачу в Купавну. За фанерным дачным поселком тянулись бесконечные искусственные пруды – рыбхоз. В них разводили карпов. Охранял пруды сторож дядя Володя – сухой седой дед, похожий на писателя Сергея Сергеевича Смирнова, и его овчарка Дези. Кстати, интересно, что в годы моего детства каждую вторую овчарку звали Дези. Сейчас и имени-то такого нет. Я дружил и с дядей Володей, и с его овчаркой.
Однажды вечером они вдвоем зашли к нам на дачу, и дядя Володя между делом сказал, что на рассвете он собирается на охоту – на куликов. Я просто весь задрожал – так мне хотелось попасть на настоящую охоту. Наблюдая за моим страданиями, дядя Володя сказал, что запросто может взять меня с собой – пройдет мимо нашей дачи, тихонько стукнет мне в окно, и мы отправимся вместе.
На охоту!
Не надо говорить, что всю ночь я не сомкнул глаз. Я боялся, что задремлю, дядя Володя стукнет тихонько, как обещал, а я не услышу, и он уйдет один. Светать начало часа в четыре. В пять было уже светло, а дядя Володя все не шел. Потом утро стало превращаться в день, подул ветерок, начали просыпаться дачники в соседних домиках, и было понятно, что время охоты прошло, а я все ждал. В десять часов я не выдержал и отправился в сторожку к дяде Володе.
Дверь была открыта, дядя Володя тяжело спал на топчане прямо в одежде, Дези спала на полу у его ног. Видно было, что вчера они сильно выпили. Дези учуяла меня, проснулась, застучала хвостом по полу, дядя Володя тоже проснулся, увидел мое горе и все понял. И тогда он сказал: ничего, проспали, конечно, но раз собирались – на охоту все равно пойдем. И снял со стены двустволку.
Мы вышли втроем из сторожки. Стоял жаркий летний день, кулики, если они вообще здесь водились, давно улетели на свои болота. Метрах в пятнадцати от нас в дорожной пыли возились воробьи. Дядя Володя замер, тихо шепнул мне: «Давай!» – и протянул огромное тяжелое ружье. Я прицелился и оглушительно бабахнул. Меня чуть не убило отдачей, я временно потерял слух. А дядя Володя нагнулся и собрал на ладонь пять насмерть убитых воробьев. «Отличный выстрел, – произнес он, – в два часа жду тебя на шурпу».
К двум часам слух ко мне частично вернулся, и я пришел к дяде Володе на шурпу. Стол был накрыт скромно и с достоинством, в шурпе плавали все пять добытых птиц, и лучшей шурпы я не едал. И мы сидели втроем за столом, не спеша пировали и говорили о всяких важных охотничьих делах.
Вот скажите – это мне так повезло с дядей Володей или раньше люди вообще были почутче? Или и то и другое?
Ядро с бригантины
В самом начале восьмидесятых «Машина» приехала на гастроли в Днепропетровск – впервые. Работали мы, как водится, во дворце спорта целую неделю – по два концерта в день. Сейчас это трудно себе представить. В первый день ко мне подошли два довольно лохматых местных парня – Паша и Саша – с огромным отечественным бобинным магнитофоном. Они попросили разрешить им подключиться к нашему пульту, чтобы записать концерт. В то время это был еще единственный способ распространения наших песен – пластинка «Мелодии» посвященная фестивалю в Тбилиси, с двумя произведениями «Машины» появится позже. У меня обычно такие просьбы возражений не вызывали, а ребята мне понравились, и я позвал нашего звукорежиссера Наиля и, зная, что он втихаря иногда берет за такую услугу деньги, проникновенно его попросил ребят подключить и с деньгами не приставать. Мы разговорились, и не помню, почему разговор коснулся подводной охоты. Я к этому времени уже был совершенно помешан на подводном мире, но не подозревал, что охота возможна в наших реках и озерах – мне казалось, что вода в них недостаточно прозрачна. Как выяснилось, я ошибался. Ребята вовсю охотятся в Днепре, а Паша даже сам делает подводные ружья. Увидев, как я задрожал, ребята предложили мне завтра же утром отправиться с ними понырять – костюм и ружье они дадут.
Как вы думаете – спал я ночь? Это я сейчас такой спокойный.
Рано утром мы выехали на пашиных «Жигулях» в сторону Запорожья. Минут через сорок мы съехали с асфальта на грунтовку, пересекли поле и скоро уткнулись в большую воду – берег Днепра сворачивал от реки перпендикулярно, образуя огромный залив. Место называлось «Губа». Пока я отчаянно пытался влезть в привезенный для меня отечественный гидрокостюм «Садко» (изготавливали его, я подозреваю, на той же фабрике, что и автопокрышки, и из того же материала, и при попытке втиснуть ноги в штанины и руки в рукава в голове начинала играть старинная детская песенка про кузнечика с рефреном «Коленками назад»). Паша и Саша уже ловко натянули на себя эти вериги – ко всему человек, подлец, привыкает! – Саша первый зашел в воду, проплыл пару метров, отчаянно затрубил, Паша бросился к нему на помощь, и через минуту они в четыре руки выволокли на берег – нет, это был не сазан, а какой-то теленок, я такого увидел впервые в жизни, он весил килограммов четырнадцать. В общем, если бы мне показали весь этот эпизод в кино, я бы долго смеялся – чушь, так не бывает!
Я чуть с ума не сошел. Вот это места, вот это охота!
Я тут же вогнал себя в костюм, дрожащими руками принял незнакомое ружье и тихо поклялся – без добычи не выходить. Я не имел ни малейшего представления о технике местной охоты и проплавал часа четыре, прежде чем мне удалось-таки подстрелить сазанчика. Сазанчик был не в пример мельче, а я к этому моменту уже посинел от холода – костюм «Садко» страшно осложнял движения, но зато совершенно не грел, – но все это было не важно: новая страница была открыта!
Мы подружились с ребятами, и я стал ездить к ним на охоту регулярно. А потом Паша (практически уже Павел Сергеевич) создал клуб любителей подводной охоты, нарек его «Андреевский Смак», и могу сказать что живет и процветает этот клуб по сей день, хотя с охотой в Днепре стало гораздо хуже. Происходит это исчезновение из мировых вод всего живого по всей планете и с пугающей скоростью, и всех причин мы, боюсь, не узнаем никогда, хотя, разумеется, человек играет в этом процессе основную роль. Каких-то тридцать пять лет!
Ну да ладно.
В 2004 году Паша ошарашил меня известием – в районе Хортицы ребята нашли на дне остатки деревянных боевых посудин – много! Скорее всего, петровских времен! Я побросал все и помчался в Днепропетровск.
Дно Днепра в этих местах песчаное, а скорость и сила течения задается плотиной, стоящей выше по реке (это, кстати, одна из причин того, что рыба исчезла, а вода стала мутной – нельзя безнаказно вмешиваться в течение реки, это ее жизнь.) Периодически, обычно в половодье, плотину открывают, песчаное дно размывается потоком, и самые удивительные предметы открываются взору ныряльщика. Однажды я пер в Москву большую берцовую кость мамонта, найденную на дне в районе Днепродзержинска. Величиной она была практически с меня и весила как хороший покойник. В этот раз половодье было особенно сильным, плотину приоткрыли больше, чем обычно, и останки флотилии выступили из песка. Вообще дерево хорошо сохраняется в пресной воде, но тут спасительную роль сыграл как раз песок – корабли были им «законсервированы». Показавшись, они сразу начали разрушаться течением.
В 1999 году ребята из института подводной археологии нашли на дне и подняли казацкую «Чайку» – большую ладью тех же времен. Ладью законсервировали и выставили в музее острова Хортица. Но здесь лежали более мощные и серьезные посудины.
Это ощущение нельзя передать словами. Вот берег, камни, на песке загорают мальчики и девочки. Ты заходишь в воду, делаешь несколько движений ластами, и на тебя выдвигается из темноты огромный покатый борт старинного корабля. Вот это ничтожное расстояние между жизнью сегодняшней и глубоко прошлой, загадочной, всегда вызывало у меня обильное появление мурашек на коже.
К моменту моего приезда археологи уже обследовали объекты, и выяснилось следующее. Построена была эта флотилия действительно во времена Петра Первого для похода в Крым. На сравнительно небольшом участке дна найдено более сорока посудин, разных по водоизмещению и предназначению (одна, например, была гружена якорями; литой якорь в те времена стоил бешеных денег.) А стояло их тут, согласно историческим свидетельствам, около четырехсот. Строили казаки под руководством русских офицеров. Судно, на которое погружался я, – бригантина, разработанная в 1710 году галерным мастером Петром Меншиковым. Прямых аналогов в Европе не имела. Пригодна для похода и по реке, и по морю. Вот что пишет о бригантине друг Петра, вице-адмирал Наум Синявин: «Корабли сии на море безопасны, понеже на оных имеются палубы и гребля, и ходить могут не токмо способным ветром, но и противным ветром лавируют и имеют на себе четыре пушки трехфунтовые (они называются фальконеты. – А. М.) и людей посадить можно на каждый по пятьдесят человек з двоемесячным правиантом». (из «Истории отечественного судостроения», СПб, 1994, т. 1, с. 220) Длина 21 метр, высота бортов около четырех. Ходила эта бригантина с другими кораблями в поход на Очаков в 1737 году и вернулась с победой – на корме ее обнаружился очаг, сложенный из очаковского сланца. (А на очаге стоял котел, а в котле лежала ложка! Вот такие вещи действуют на меня сильнее всего!) А дальше случилось следующее. Известно, что флотилия привезла из Очакова чуму, к тому же Елизавета в отличие от Петра не уделяла боевому флоту должного внимания. В 1739 году случился сильный ледоход, и флотилию подавило льдами.
В общем, мы решили поднять уникальный боевой корабль. Создали российско-украинский проект «Запорожская бригантина», меня выбрали президентом, хоть я и брыкался. Медлить было нельзя – течение на Хортице сильное, и бригантина разрушалась на глазах. Археологи тщательно произвели обмеры. Инженеры разработали систему подъема – это было совсем непростым делом: поднять и доставить на берег двадцатиметровый корабль при том, что определить насколько он сохранил прочность, практически невозможно. После подъема и просушки его следовало немедленно разобрать и законсервировать – дерево, пролежавшее в воде двести пятьдесят лет, может, высохнув, рассыпаться в порошок. Каждая деталь погружается в ванну с консервантом (который производится в Германии и стоит совсем недешево – а представляете, сколько его нужно?). По счастью, в специальном ангаре на острове Хортица, где уже стояла к этому моменту запорожская «Чайка» оставалось место в аккурат для бригантины. Как чувствовали!
Составили смету. Она получилась немаленькой, но украинский предприниматель Виктор Пинчук взял все затраты на себя. Спасибо ему за это.
Теперь предстояло дождаться зимы (зимой вода прозрачней), аккуратно раскопать бригантину (она была наполовину погружена в грунт, это тонны и тонны песка), затем подвести под нее ремни, закрепить их равномерно по всему корпусу, потом краном приподнять корабль, погрузить в воду специально изготовленную платформу на колесах, подвести ее под бригантину, опустить бригантину на платформу, закрепить, вытащить платформу на берег и отбуксировать в ангар (по счастью, не очень далеко) для демонтажа и консервации. Ну как, все просто, да?
В момент откапывания корпуса (песок забирал мощный насос со специально пригнанной баржи) случались удивительные находки: это на суше время лежит в земле слоями – чем глубже, тем древнее. А песок речного дна в постоянном движении, и времена тут перемешаны: рядом друг с другом лежали несколько ядер от фальконетов с бригантины, ручная граната РГД-1 времен Второй мировой и потрясающей красоты костяной крючок для ловли рыбы – археологи сказали что ему не менее пятнадцати тысяч лет. Судя по размеру крючка, пятнадцать тысяч лет назад рыбка здесь ловилась совсем немаленькая: крючок с трудом умещался на ладони. Я такой совершенной по форме вещи не видел никогда: очень хотелось утащить крючок домой, но совесть взяла верх, и он уехал в музей.
Всю зиму шли напряженные подводные работы – необходимо было поднять бригантину до наступления весны, когда вода поднимется и плотину опять откроют. Я страшно нервничал, но понимал, что самому сейчас ехать туда не надо – ускорить я все равно ничего не мог, не хотелось мешать работе специалистов. И вот был назначен день подъема.
На берегу Хортицы собралось огромное количество народа. Приехал митрополит, прочитал молитву и благословил нас на подъем. К этому моменту ремни уже были заведены под бригантину, платформа находилась под водой. Кран на барже заработал, и ремни медленно – очень медленно! – поползли вверх. Я поймал себя на том, что сейчас я впервые увижу бригантину целиком – вода в Днепре не настолько прозрачная, чтобы видеть на двадцать метров, поэтому при погружениях я все время рассматривал какой-то фрагмент судна – то нос, то борта, то корму. Рулевое перо (огромное!) и мачта вообще лежали в стороне, достаточно далеко. Тишина стояла необыкновенная, по-моему, люди старались даже не дышать, только тарахтела лебедка крана. И вот из воды показался покатый черный борт. Спустя двести семьдесят лет бригантина возвращалась к людям. В какое-то мгновение раздался негромкий треск – в тишине он прозвучал как гром, борт корабля чуть-чуть просел, по толпе пронеслось: «Ах-х-х-х!» Но все обошлось, тревога оказалась ложной. Мы сделали это!
В ангаре, где бригантину разобрали до гвоздика и уложили фрагменты в ванны с раствором, я поразился еще раз: дерево было темным, местами почти черным (та часть, которая хранилась под слоем песка – светлее), а вот просмоленные канаты, которые частично сохранились на юферсах и лежали свернутые в бухточку на палубе, выглядели так, как будто их сплели вчера. Пенька оказалась долговечней дуба.
Я держу в руках ядро от фальконета и пытаюсь услышать голоса тех, кто правил судном, поднимал парус, командовал: «Заряжай!». Когда приходилось идти на веслах, они пели песни – протяжные, казацкие. Чьими прапрапрадедами были эти люди, о чем они говорили? Мне кажется, я вот-вот услышу.
А бригантина уже несколько лет стоит в музее острова Хортица. Окажетесь в тех местах – непременно сходите посмотреть.
Пьяный и Выпивший
Ну да, я понимаю, что живем мы все в эпоху патриархата (а другой-то, по моему ощущению, и не было – сказки это все про амазонок) – и тем не менее. Пьяного мужика мы прощаем. Все. И мужчины, и, между прочим, женщины. Ну, выпил мужик. С кем не бывает. «С кем не бывает» подразумевает только мужскую часть населения планеты. Пьяную женщину не прощает никто. Не будем сейчас обсуждать, кто в этом состоянии противней – не в этом дело. Все равно несправедливо, правда? А вот интересно, почему?
Может быть, потому, что пьяный (ну ладно, выпивший) раскрывается? Ничего плохого в этом нет, просто мужчина никогда не позиционировал себя в этом мире как загадку. Ну раскрылся, и чего такого мы узнали?
А вот женщина – загадка. Во всяком случае так принято считать. И вдруг – на тебе: выпила, раскрылась, и никакой загадки, сами себе мы все напридумывали. Ничего там нет, одно дно.
Знавал я женщин, умевших пить. То есть выпивать, не пьянея. Интересное дело: становились они моими товарищами, даже близкими друзьями, но из категории Женщин мое сознание (или подсознание?) их вычеркивало. Сидим и пьем. И все.
Есть, правда, одна тонкость. «Пьяный» и «Выпивший» – не одно и то же. Даже у мужиков. Хотя близко. У женщин – дистанция несравнимо ощутимей. Выпившая – слегка – женщина может быть очаровательной. Мало того – она может, слегка выпив, вдруг СТАТЬ очаровательной – совершенно неожиданно для отвернувшихся было от нее мужчин. И вот уже они бегут обратно, на ходу сбрасывая пальто и возвращая обаяние на лица. Что это? Зацвела сирень, побежало по проводам электричество, зайцы запрыгали, самолеты залетали. Каких-то пятьдесят грамм!
Милые женщины. Выпивайте, прошу вас. По чуть-чуть. И мир будет вращаться вокруг вас. И дары его упадут к ногам вашим. Только не перебирайте, умоляю. Нам – можно. Вам – нет.
про Дом
Лет двадцать назад, помню, одна журналисточка спросила у меня, почему в песнях «Машины» так часто звучит слово «дом». Я удивился – не обращал внимания – стал считать. Оказалось, и вправду очень часто попадается. Что-то я там такое имел в виду.
Если говорить о буквальном значении слова «дом» – не думаю, что то, что являлось домом в моей юной жизни, могло вдохновить меня на песню или хотя бы на поэтический образ. Довольно долго мы жили в коммуналке в самом центре Москвы, и это было отнюдь не поэтическое место, какие бы старые песни о главном нам сейчас ни пели. Помню в основном богатое смешение запахов – от социально-общественных до глубоко личных. Социально-общественным пахла (нет, все-таки воняла) рыжая мастика, которой жильцы по очереди согласно расписанию натирали пол – паркет из трех пород дерева, русский классицизм, оставшийся от хозяев-графьев, и его строгий рисунок проступал сквозь рыжую гадость, как лик иконы сквозь копоть. Социально-общественным пахло на кухне, где на четырех плитах одновременно булькала, испуская пар, нехорошая еда. Тут же сушилось на веревке кое-какое бельишко – предмет постоянных скандалов. Сейчас с придыханием говорят, что решили наконец вернуться к нормативам, по которым в те светлые времена делали для трудящихся еду – колбасу, сыр, пельмени и прочие радости. Ну-ну. Нет, нормативы наверняка были, но какое же отношение они имели к тому, что время от времени выбрасывали в магазины? Ничего – лет через десять умрет последний человек, который помнит, что это было на самом деле, и врать можно будет уже без оглядки.
Про личные запахи умолчу – скажу только что палитра была богатая. Утлая общая раковина-ванна с постоянно забитым сливом возможности помыться не давала, в баню полагалось ходить раз в неделю (это полагалось!), дезодорантов советская власть еще не ведала, а одеколон «Шипр» и духи «Красная Москва» картину скорее обогащали. В общем, вряд ли все вышеописанное вдохновило бы автора на создание произведения, воспевающего дом. Впрочем, автор в те годы был крайне молод и никаких песен еще не писал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/andrey-makarevich/ne-pervoe-liricheskoe-otstuplenie-ot-pravil/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
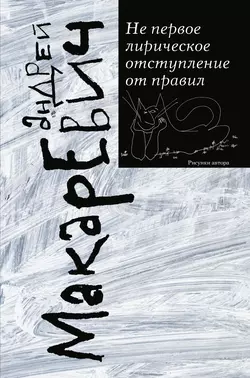
Андрей Макаревич
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Стоимость: 479.00 ₽
Издательство: АСТ
Дата публикации: 01.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Андрей Вадимович Макаревич – писатель, безусловно. Легенда русской музыки, поэт, художник. Вечный юноша с лицом Ноя, ибо на его «пьяном корабле» мы все плавали.