Заххок
Заххок
Владимир Николаевич Медведев
Постсоветский Таджикистан охвачен гражданской войной. Убит известный врач, его семья вынуждена скрываться у родственников в горном кишлаке. Русская жена и дети-полукровки приноравливаются к местной жизни, в которой царят незнакомые им жестокие законы веками не меняющегося уклада. Одни и те же события показаны глазами нескольких участников – и у каждого из них свое особое отношение к происходящему, мотивы для ненависти и собственные границы человечности.
Роман «Заххок» – финалист премий «Русский Букер», «НОС» и «Ясная Поляна». Это многослойное переосмысление новейшей истории, звучащее одновременно и как философская притча, и захватывающий детективный боевик.
Владимир Медведев
Заххок
Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав
Издатель Павел Подкосов
Главный редактор Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта Ирина Серёгина
Художественное оформление и макет Юрий Буга
Ассистент редакции Мария Короченская
Корректоры Елена Сметанникова, Ольга Смирнова
Верстка Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© В. Медведев, 2024
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
* * *
Людмиле с любовью
1
Андрей
Налегаю на лопату и выворачиваю…
Ни хера себе! Череп.
Человеческий.
Присаживаюсь на корточки, разглядываю. Ни разу не видел мертвецов. Но это и не мертвец. Кость. Тыква с кривыми зубами и дырами для глаз. И все же жалость наглухо накатила. «Да, – думаю, – залетел кто-то по-черному. Убили, голову отрезали и во дворе закопали…»
Слышу:
– Чего сидишь?
Поднимаю голову. На краю котлована – пластиковые шлепанцы «найк». Из них босые пальцы торчат. Над ними пижамные штаны в полоску. Еще выше круглое брюхо. А совсем уж в вышине, в утреннем небе, – широченная байская ряха. Хакбердыев, хозяин. Вот этот, точняк, и убил. Двор-то его собственный.
Ненавижу таких гадов. Не хозяин он мне, я только пашу на него. Дом строю. А он таращится, будто я его собственность.
– Почему не работаешь?
– Череп нашел, – огрызаюсь. – Тут у вас что, кладбище?
Пялится, будто оценивает. И толкует этак важно:
– Знаешь, как говорят: под каждым следом коня зарыты две сотни глаз.
Мудрец, блин! Да эта пословица каждому в Таджикистане известна. До нас, типа, столько прошло поколений, что, где ни копни – везде лежит сто человек. Нашел себе алиби!
А он переспрашивает, вроде как с угрозой:
– Ты понял? – И пальцем указывает: – Это… сюда неси.
Терпеть не могу, когда приказывают. Я не бобик – прыгать из ямы с костью в зубах. Встал и швырнул череп баскетбольным броском. Он принял пас на удивление четко. Лишь глазом черным зыркнул:
– Работай давай… Копай.
Уходя, обернулся:
– Хорошо работай. Ты ведь Муродова сын? Смотри, хорошо землю копай. А то отца опозоришь.
И отвалил, шлепая «найками».
Я посмотрел-посмотрел, как он шествует по своей усадьбе, держа череп у бедра, будто мяч. «Ах ты, басмач, – думаю. – Да гори оно огнем!» Плюнул, вылез из ямы и пошел в дальний конец двора, где Равиль и Карл сколачивали опалубку под фундамент. Иду и прикалываюсь: пузо выпятил, шаркаю кедами, как хозяин шлепанцами. Подошел и кричу ребятам:
– Эй, почему медленно работаете? Плохо молотком стучать будете, секир-башка вам исделаим.
Равиль гвоздь в доску загнал, голову рыжую поднял и спрашивает:
– Что ты ему пульнул?
– Башку твоего предшественника – бугра, что старый дом строил.
В общем, рассказал про череп. Карл интересуется:
– Какой он? С мясом, с волосами?
– Гладкий.
Карл у нас в любой теме спец:
– Лет двадцать в земле лежит. Не меньше.
Равиль c ходу ввязался:
– Бери уж тысячу.
– Может, и столько. Почва сухая.
Равиль мне подмигивает:
– А миллион не хочешь? Андрюха, да ты первого человека откопал. Могилу святого Деда Адама нашел.
Карл пальцем у виска крутит:
– Думаешь, если Ватан – райцентр, значит, и рай здесь был?
Равиль языком цокает:
– Э-э, брат-джон, у тебя в голове, оказывается, совсем масла нет. Совсем не знаешь, где живешь. У нас все было. Райский сад был. Александр Македонский был. Товарищ Саидакрам Мирзорезоев из Совета министров тоже был. В центре мира живешь.
Это про наш-то зачуханный Ватан? Я его и райцентром не назвал бы. Даже в шутку. Свалил бы из него куда глаза глядят. Вот только податься некуда. В Россию вырваться – денег нет. А в Таджикистане второй год войнушка идет. И вокруг одни торгаши и бандиты.
– Слушай, – спрашиваю Равиля, – как думаешь, зачем он черепушку уволок?
– Кто?
– Ну этот… басмач… Хакбердыев.
– Спроси чего полегче. Может, похоронит. Националы любят хоронить, им Аллах за это грехи прощает.
– Нет, тут другое что-то. Зуб даю, хочет улику подальше спрятать. Он же бандит.
– Да ну! Просто торгаш.
– По мне, все торгаши – бандиты.
Равиль усмехается:
– Хорош мудрить, Андрюха. Иди трудись, ищи остальные кости.
– Хорош приказывать, – огрызаюсь.
Ну, блин, тоже мне большой начальник.
Рою и думаю: может, череп и впрямь древний, но этот-то, басмач, все равно – бандюга. С чего он гнусно лыбился? «Отца не опозорь». О чем это? Отец ведь тоже собирался что-то сказать. Вчера по Интернациональной иду, а он навстречу. Как всегда, в белой рубашке, отглаженных черных брюках. Гладко выбрит. Туфли блестят – будто только что из операционной. И с ходу:
«Андрей, сынок, надо эту работу бросать».
«А чего? Хорошая работа. На свежем воздухе. Физкультура. И деньги платят».
«Пред людьми неудобно. Говорить станут: доктор о своих детях совсем не заботится. Нехорошо. В моем положении…»
Так, да?! Я не стерпел:
«Мое личное дело, на кого работаю. А вы… вы не о нас… только о своем положении и думаете!»
Никогда прежде ему не грубил. Просто – я сам того не ожидал – обида наружу вылезла. Он ведь внимания не обращает на то, как я к нему тянусь. Будто нет меня. Кинет иногда пару слов мимоходом, как кость, и хорош. Я из-за этого раньше даже плакал по ночам. А теперь, когда его самого коснулось, то немедленно: «Андрюша, сынок…»
Да знаю я, знаю, что несправедливо на него окрысился. Не по делу. Он как-никак думает, заботится. И о матушке, и обо мне с Заринкой. Когда год назад началась войнушка, мы без него не выжили бы. Конечно, в поселке не стреляли, не убивали, но жрать-то было нечего. Матушке перестали платить зарплату в библиотеке. Националам легче – у каждого огород, родня в кишлаке. А у нас? Подохли бы с голоду, да отец поддержал. Это позже Равиль взял меня в бригаду…
Думал, отец рассердится. А он:
«Андрей, сейчас трудное время. На забывай, война идет. Надо быть очень осторожным. Ты еще многого не понимаешь. Знаешь, на каких людей работаешь? Они любой зацепке рады, лишь бы мне навредить».
«У меня даже имени не спросили…»
Но отец не слушал.
«Сейчас нет времени объяснять. Вечером…» – И отвалил.
Поговорили, называется, отец с сыном. Я ждал допоздна и еще больше обиделся. Выходит, и на этот раз – как всегда. Матушка тоже сердилась и переспрашивала:
«Так он сказал тебе, что придет?»
Она напекла пирожков с картошкой. Убеждена, он их любит. Я-то знаю: он картошку терпеть не может. Матушка укутала блюдо чистым полотенцем, чтобы пирожки оставались горячими. Но они все-таки остыли…
Рою и размышляю: что отец собирался рассказать? Сто пудов, про торгаша. Не зря спрашивал: «Знаешь, у кого работаешь?» А я сегодня череп нарыл. Одно к одному. Это же, блин, детектив! Если отец вечером опять не придет, то пойду к нему спросить, что он имел в виду. Хотя он не любит, когда без предупреждения. Вспомнил, и опять обида взяла.
Слышу, на улице за забором кто-то сигналит, будто ненормальный. И орет:
– Андрей! Эй, Андрей!
Вылезаю из ямы, подхожу к забору. Ну кто там еще? Белый фургон – скорая помощь. За рулем – черт худой, усатый, черномазый. Али, водитель больничный. Мы с ним вроде как кореша. Кричит из окна кабины:
– Андрей, садись быстро. Поехали!
Он всегда как на пожар. Всю дорогу одно: «быстро-быстро», «давай по-быстрому». А меня злость разбирает. Вчера отец времени для меня не нашел, а сегодня даже машину прислал. Бросай, сынок, дела и – к нему. Быстро-быстро!
– У тебя, – спрашиваю, – лед, что ль, в жопе загорелся?
– Братан, кончай базарить, – Али кричит. – Времени нет!
Ништяк себе заход.
– Ну ты, Эйнштейн, пространство-то хоть осталось? – спрашиваю.
С юмором у Али – всю дорогу проблемы. Не врубается.
– Эй, садись, говорю!
– А дальше что? Лекцию о времени прочитаешь?
– Отца твоего убили.
Я сначала не понял. Он по новой:
– Твоего отца! Убили!
Я понял, но не поверил, а когда поверил, время исчезло. И пространство, наверное, тоже. Пока я ехал, за ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворились и глухие глинобитные заборы на окраине поселка, и высокие тополя вдоль дороги, и пустые хлопковые поля, расстилавшиеся до дальних гор. Я будто оглох и онемел. Голос Али доносился до меня откуда-то со стороны, из другого измерения: главврач приказ дал… туда ехать… тело забрать… крюк сделал… за тобой заехал…
Остановились на краю какого-то солончака. Кучка людей. Рядом – черная волжанка. Я выпрыгнул из кабины. Люди оглянулись, расступились. Отец лежал на спине. На одежду, перепачканную грязью, налипли репьи, будто его волокли по земле. Кровоподтек на пол-лица.
Я будто ослеп. Не видел ближних холмов и дальних гор. Не видел стоящих вокруг. Видел только глубокую борозду поперек его шеи. Тонкую линию, прорезающую вспухшую плоть. Я будто оглох. Не слышал, как шуршит ветер. Не слышал, как шепчутся окружающие. Немного погодя разобрал, что рядом, но будто за какой-то стеной, говорят:
– Ну что ж, надо тело забрать.
Сначала я даже не понял. Захлестывало чувство страшной непоправимости. Меня будто на куски разрывало. И зовет кто-то. Меня. По имени. Озираюсь. Районный прокурор. Стараюсь понять, что он говорит.
– Большое горе, Андрей… Очень тебе сочувствую. Крепись…
Кивает Али:
– Давай, грузи.
Али распахнул задние дверцы фургона, выволок раскладные брезентовые носилки и разложил их рядом с отцом. Я очнулся:
– А следствие?!
– Дело трудное, – говорит прокурор. – Свидетелей нет. Очень трудное дело. Но разберемся. Следствие проведем обязательно.
Врет он! Никакого следствия не будет. У него это на морде лица написано большими буквами.
Я закричал:
– Почему следы затоптали?! Даже собака не найдет.
– Андрей, – мягко сказал прокурор, – собака в таких случаях не нужна.
Его глаза будто закрыты какой-то заслонкой. Как таджики говорят, на лицо ослиную шкуру натянул. Я огляделся. Следователя – его все в поселке знают – среди стоящих вокруг людей не было.
– Где следователь?! Где фотограф?
– Андрей, – сказал прокурор, – не учи меня, как надо работать.
– Почему не начинаете следствие?!
– Обязательно начнем. Проведем расследование, выясним… Обязательно, непременно.
– Ничего не выясните! Вы… все на тормозах спустите.
– Андрей, я тебя прощаю. Ты нехорошие слова сказал, но понимаю, что чувствуешь. Мне тоже горько. Твой отец моим другом был. Очень хорошим другом…
Но у меня от бешенства сорвало крышу, и я плохо соображал, что говорю.
– Не хотите следствие проводить, да? Мне самому, что ль, расследовать?
Прокурор перебил меня по-русски:
– Ты умный парень, не делай глупостей. Сам знаешь, время сейчас опасное. Не надо такие слова говорить. Пожалеешь.
– Угрожаете?
– Ты кто такой, чтоб я тебе угрожал?!
Прокурор жабры раздул, дерьмо из него так и поперло:
– Учишь, как следствие вести? Научись сначала со старшими разговаривать! Что ты вообще знаешь? Тебе брюхо распори, в нем и буквы «алеф» не найдешь… Ты как твой отец! Тот хоть людей лечил, оттого его и терпели. А тебя за что терпеть?!
Я окончательно взорвался:
– Отца терпели?! Если бы он вас не лечил, вы все бы передохли! От обжорства. Я сам найду, кто его убил! В поселке ничего не добьюсь, в Душанбе поеду. Пусть пришлют бригаду. Я ваш гадюшник разворошу. Я найду, кто…
Он глаза выкатил, смотрит на меня, будто сожрать хочет, но обуздал себя. Отвернулся. Скомандовал, ни на кого не глядя:
– Забирайте.
Никто даже не шевельнулся.
Меня трясло, но я не хотел, чтобы к отцу прикасались чужие. Нагнулся и подсунул руки под плечи отца. Посмотрел на Али… Он поколебался, подошел и неохотно взялся за ноги. Мы приподняли тело. Оно было очень тяжелым и прогибалось пониже пояса.
– Сафаров, помоги, – приказал прокурор.
Водитель прокурорский подошел, ухватился за ремень отцовых брюк и потянул. Мы подняли тело повыше. Голова отца откинулась назад. Мы подтащили тело к носилкам. Я постарался опустить его, чтобы голова не стукнулась о брезент. Вдвоем с Али мы взялись за ручки носилок, отнесли их к скорой помощи и задвинули в фургон. Я сел рядом с носилками. Скорая тронулась. Я придерживал отца, чтобы его не мотало на ухабах. Только тут я заметил на смуглых и крепких отцовых руках ссадины и синяки. Его держали. Он был сильным. Один человек с ним бы не справился. Их было несколько. Я гнал от себя страшные картины того. Не мог их вытерпеть. Гасил их, но они вспыхивали вновь и вновь.
Очнулся я, когда щелкнул замок. Али раскрыл дверцы.
– Брат, давай вынесем…
Я вытер сухие, без слез глаза и взялся за ручки носилок. Брезентовое ложе, лязгая нижними скобами, поехало по металлическим полозьям. К распахнутой скорой подскочили парни в белах халатах. Перехватили носилки, понесли.
Спрыгиваю на землю. Домик, беленный известкой, в глубине больничного двора. Морг. Люди у входа. Застыли неподвижно. Молча. Как тени. Отец на носилках уплывает в раскрытую дверь морга.
Вхожу. Комната какая-то. Отец лежит на высоком узком столе, покрытом клеенкой. По ту сторону стола – врачи. Перешептываются тихо. Один – впереди. Главврач. Остальные за ним, чуть позади. Как на утреннем обходе.
Отцу в лицо не смотрю. Не могу. Черные туфли покрыты грязью. Лезу в карман, достаю платок. Хочу, чтоб опять блестели…
Кто-то что-то говорит… Это главврач.
– Большое горе… но наш коллектив… надо проводить достойно… товарищ Шарипов займется…
Врач в белом ему на ухо шепчет. Главврач кивает:
– Да, товарищи, мы родственникам в кишлак сообщили. Они очень просили вскрытие не делать. Прокуратура тоже не возражает…
Чувствую чью-то руку на плече. Мама. Не услышал, как вошла. Она тяжело оперлась на меня. Замерла, глядя на отца. Я маму крепко обнимаю. Чтобы почувствовала, что я рядом. Что я с ней. Живой.
Мама глубоко вздохнула. Слегка повела плечами, высвобождаясь. Коснулась моей руки ласково: «Спасибо, я держусь». Еще раз вздохнула. Шагнула вперед, к столу. Постояла, глядя отцу в лицо. Поправила воротник рубашки, завернувшийся, измазанный грязью. Нежно провела пальцами по щеке отца. Подняла глаза на главврача.
– Я заберу его. Дайте мне, пожалуйста, машину.
Главврач изумился:
– Куда заберете?
– Домой.
Главврач на маму смотрит подозрительно.
– Зачем домой? Похоронить надо.
Мама будто не слышит.
– И если можно, скажите плотнику дяде Васе, чтобы сколотил гроб. Я заплачу.
Главврач допер наконец.
– Вера, вы нас обижаете… Мы сами похороним. Не беспокойтесь, сделаем как надо. Я тотчас пошлю санитаров рыть могилу. До вечера времени еще много…
Мама говорит ровно, без выражения:
– Он должен провести ночь дома.
Главврач хмурится. Знаю, что он думает. «Моя больница. Мой персонал. Я главный. Я начальник. Мне решать, как работать, как хоронить. Откуда русской женщине знать, как положено погребать? По нашему закону, не по русскому, не по советскому…»
Но вслух другое произносит:
– Вера-джон, национальные традиции тоже уважать надо…
Знаю, о чем он думает. «Что люди в поселке скажут, если позволю не по закону похоронить? Скажут, Хакимов совсем никакого авторитета не имеет. А может, Хакимов не знает, как правильно? Может, его не учили?»
Тот врач, что прежде ему на ухо шептал, опять шепчет. Главврач молчит, думает. Что шептун ему посоветовал? Что им известно такое, чего мы не знаем?! Главврач продолжает:
– Вера-джон… – Помолчал, на шептуна кивает: – Акмол Ходжиевич правильно говорит. Вы столько лет с покойным Умаром вместе жили… Его сын рядом стоит… Конечно, правильно будет, если вы сами его похороните…
Почему? Почему он легко уступил? И что шептун опять ему шепчет?
Главврач приказывает:
– Дядю Васю позовите.
Кто-то из врачей огибает стол, мимо нас проскальзывает. Все молчат. Мама вдруг спрашивает тревожно:
– Где твоя рубаха, Андрей?
– Какая рубаха?
– Почему ты голый?
Оглядываю себя: на мне нет рубахи.
– Не знаю…
– Почему ты раздет?! Что случилось? Где ты был?
– Я копал…
У мамы в глазах ужас:
– Копал?.. Что ты копал?!
– Мама, я на работе… Фундамент…
Она дух перевела. Какой-то странный, незнакомый жест у нее появился – рукой по щеке проводит, будто что-то с лица смахивает.
– Слава богу… Я подумала… Ах, не знаю… – И вдруг ни с того ни с сего: – Андрей, надо одеться.
– Во что?
– Не спорь со мной! Сейчас же оденься!! Ты слышал? Сейчас же.
– Мама!!!
Она будто опомнилась:
– Ах да, конечно…
Входит дядя Вася. Перекрестился. Слежу, как он разматывает складной плотницкий метр, и думаю, почему он измеряет стол, а не отца? Зачем берет так широко?
– Почему не записываешь? – строго спрашивает главврач.
– Голова-то пока на плечах. К вечеру сделаем, – буркнул дядя Вася и ушел.
Санитары перенесли отца назад, в скорую, Али завел двигатель, мама села рядом с ним, а я – в фургон возле отца, и мы повезли его к нам домой.
Дома мама велела мне разложить в большой комнате стол, за которым мы обычно обедаем, когда приходил отец. Али помог внести отца в дом и уложить на стол. Мама приказала нагреть воду в ведрах. Прилетела из школы Заринка, они с мамой обнялись и зарыдали.
Мама выгнала из комнаты нас с Зариной и сама обмыла тело. Хотел помочь, но она резко меня оборвала. Я только подтаскивал к закрытой двери ведра с горячей водой и выплескивал на улицу таз, который она выставляла.
Примчался Равиль.
– Пошли выйдем.
Мы вышли на крыльцо. Он зашептал:
– Куда ты полез? Камикадзе. Летчик, блядь, герой Гастелло. Надо было тихо-тихо промолчать. Затаиться, как Ленин в мавзолее. Тихо-тихо все разузнать. Матушку с сестрой вывезти. Кого надо, тихо-тихо замочить. И тихо смыться. Войнушка все прикроет. Так и батю твоего кончили.
– Кто?! Ты знаешь!
– Ни хрена я не знаю.
– Знаешь!
– За кого ты меня держишь? Кто я, по-твоему?! Шорох идет. И ничего конкретного. Первый день, что ли, в Ватане живешь? Бздит народ. Никто вслух не скажет. Шуршат разное…
– Кто? Хакбердыев, торгаш, да?
– Слушай, на твоего пахана многие зуб точили…
– Но почему?! Что он им сделал?!
– Андрюха, уезжать надо. Вам теперь в Ватане не жить.
– С места не двинусь, пока не разберусь.
– Псих, замочат же. Думаешь, одного тебя? Всех троих порешат, и ни одна собака не пикнет.
– Некуда, Равиль. Некуда. И денег ни копья.
Он кулаком о перила:
– Вот засада! – Потер лицо ладонями. – Андрюха, я у Хакбердыева аванс попрошу. Ты не приходи. Вообще, сиди дома как мышка. Похороните и втихаря слиняете.
– Я матушке еще ничего не говорил. Она не знает.
– Тебя, дурака, не жалко. Матушку твою и сеструху жаль. Распустил, блядь, язык… Напугал старушку толстым хером. Да им по барабану – что в Душанбе жалуйся, что в Москву, что в Париж. Но они не прощают. У нас и за меньшее убивали.
Опять – они. Знает он, татарин ушлый, знает!
– Равиль, как брата прошу, кто?
– Хорош геройствовать. О матери, о матери думай… Ну ладно, Андрюха, держись. Если что, кликни – я сразу… Сейчас бежать надо, извини. Завтра с утра я у тебя. Как штык. Отпросимся с Карлом у кровососа. Не отпустит – долбись он конем, сами уйдем.
Обнял меня, лбом ко лбу прислонился и убыл. Я не в обиде. Знаю, остался бы, если б мог.
Наконец мама выложила в коридор груду мокрых простыней и поставила пустые ведра. Когда она позвала нас, отец лежал на столе со сложенными на груди руками, одетый в териленовый костюм, который обычно висит у нас в шифоньере. Воротник рубашки был поднят, уголки зашпилены булавкой, чтобы скрыть рубец на шее. Стол накрыт нашей лучшей, праздничной скатертью. Не представляю, как мама одна управилась.
Она сидела у отца в головах, опустив лоб на стол.
– Дети, вы, наверное, проголодались. Зарина, приготовь для вас что-нибудь, – сказала, не поднимая головы.
– Мам, мы не хотим, – Зарина подошла к маме и крепко обняла.
– Андрюша, поставь стулья для себя и Зарины, – сказала мама. – И принеси с кухни свечи.
Я пододвинул два стула. Зарина присела, не разжимая объятий.
Входная дверь раскрыта настежь. Заходили поглядеть соседские женщины. Пару раз я выходил на крыльцо и видел, что какие-то незнакомые парни слоняются вокруг нашего дома. Один бес заглянул из коридора в комнату.
– Чего надо? – спросил я грубо.
Он покосился злобно, но ушел.
Немного погодя дядя Вася привез громадный гроб, обитый черным сатином. Они с Али внесли сначала домовину, затем крышку. На крышке – крест из белых матерчатых полос. Мама сухо спросила:
– А крест зачем?
– Вы ж вроде эт самое… по-нашему будете погребать…
Мама глянула на него как-то странно и отрезала:
– Нет, не по-нашему.
Дядя Вася озадачился:
– И то правда. Покойник-то некрещеный. Мне бы раньше сообразить… Что ж теперь? Снимать? А то, может, оставим? Хоть и не нашей веры, а все же…
– Какая теперь разница, – сказала мама. – Если хотите, оставьте.
Дядя Вася обрадовался:
– Так-то оно лучше. Все на том свете полегче придется. Может, за своего примут, если с крестом. Глядишь, там с ним и встретитесь…
– Нет, – сказала мама. – Теперь уж никогда.
Мы установили гроб на две табуретки, перенесли в него отца и водрузили на стол. Они уехали. Начало темнеть. Я закрыл входную дверь и задвинул засов. Хотел зажечь свет, но мама сказала: не надо. Лампочку она оставила только в коридоре, а большую комнату освещали четыре свечи на столе, по две с каждой стороны гроба. В темноте огоньки казались очень яркими. Мы сидели у стола. Внезапно погасла светлая полоса, которая падала в комнату из коридора.
– Опять отключили электричество, – мама загасила две свечи. – До утра, наверное, не хватит…
Я подошел к наглухо закупоренному окну. Мама сказала, что нельзя, чтоб сквозняк, – от него лицо темнеет. У соседей светились окна. Значит, не в поселке отключили, а у нас какая-то сволочь отрезала… И вдруг к стеклу, с той стороны, прилипли три расплывчатые рожи. Уверен, те же бесы, что днем бродили вокруг. Лиц не различить. Да я и запомнил-то лишь того, что совался в комнату. Опустил шторы. Они погалдели и затихли. Ушли?
Я тайком принес из кухни топор и незаметно пристроил возле ножки моего стула.
Мама вдруг начала напевно, но как-то нерешительно:
Закатилось ясно солнышко,
Догорели светлы звездочки,
Провожаю твою душеньку
В дальний путь за темну реченьку.
Потом громче. Уверенно и будто забывшись:
Пусть идет она по бережку,
Переходит вброд по камешкам,
Пусть плывет чрез воды чистые
На заветную ту сторону.
Она его провожала. Я не знал, как проститься. Не верил, что больше с ним не увижусь. Гроб мы зароем, а когда-нибудь – не сегодня, не завтра – я увижу, как идет он по улице в отглаженной рубахе и начищенных до блеска туфлях, будто только что вышел из операционной, и, может быть, нам удастся поговорить. И я смогу все ему сказать…
Там забудешь муку смертную,
Позабудешь нас, оставшихся.
Мама вздохнула:
– Ах, глупости это…
Мы сидели, молчали, я прислушивался, но за окнами пока было тихо.
– Идите поспите немного, – сказала мама. – Завтра трудный день.
– Мам, мы не хотим, – сказала Заринка. – Я с тобой посижу.
– Иди, иди… Ты совсем измучена. И еще… мне хочется побыть с ним наедине. Поспи часок.
Зарина молча мне кивнула, мы зажгли свечу и вышли на кухню.
– Папа любил здесь сидеть, – сказала Зарина. – Мама, когда он приходил, всегда в большой комнате накрывала. А ему на кухне нравилось.
– Откуда ты знаешь?
– Он мне сам сказал.
– Конечно! Ты же его любимица! «Ай, Зариночка, моя девочка». С тобой-то он разговаривал.
– Как тебе не стыдно! Он тебя любил. И его все любили.
Как же! Всеобщий любимец! Я-то видел – матушка приводила нас в больницу, когда мы болели, – как вокруг него вьются медсестрички. «Ах, Умар Мирбобоевич!» «Да, Умар Мирбобоевич!» Даже мне перепадало: «Ах, Андрюшечка, ах, Умара Мирбобоевича сынок. Ах, какой симпатичный – весь в папочку». На матушку, понятно, – ноль внимания. Будто ее и нет. Он и жил-то отдельно от нас, в своей квартире. В двухэтажках. Кочевал то от нас к себе, то от себя к нам. Когда он у нас не ночевал, матушка нам объясняла: «Срочная операция. Ночное дежурство». Это я, когда подрос, стал догадываться, что за ночные дежурства. Иногда, конечно, на самом деле дежурил. Не знаю, почему он нас не бросил. Все же верным был. Как-то в нем сочетались ветреность и постоянство. Да и второй такой русской женщины, как наша матушка, в Ватане днем с огнем не сыщешь…
Я сказал:
– Да, точняк, любили! Залюбили до смерти.
– Уважали и любили. По-настоящему… А ты… ты будто папу осуждаешь.
– Мы же о нем ничего не знаем.
– Это ты не знаешь! Я все знаю.
– Ну тогда расскажи, почему его убили… Ты хоть слышала, с кем он дружбу водил? Со свиньями жирными, с прокурорами, торгашами… Какие у него с ними были дела? Расскажи! Ты же все знаешь! Или, может, он с чьей-нибудь женой…
– Дурак! – крикнула Зарина. – Не смей плохо говорить о папе!
Вскочила и ушла. Заперлась в своей комнате. Я вернулся к отцу и вновь погрузился в темноту и неподвижное время.
Свечи догорели. Я зажег две новые и вдруг услышал, что к нашему дому подъезжает машина. Грузовик. Остановился. Хлопнули дверцы. Голоса. В дверь громко постучали. Началось!
Мама подняла голову, проговорила устало, рассеянно:
– Открой, Андрюша.
– Мама, подожди! Я должен тебе рассказать…
– Не сейчас… Иди и узнай, кто это.
– Мамочка, не надо! Понимаешь, сегодня, когда… Ну, когда я туда приехал…
– Андрей, прекрати. Ты же слышишь, кто-то пришел…
Постучали опять. Она нетерпеливо встала.
– Я сама открою.
И пошла со свечой, прикрывая ладонью пламя, чтоб не погасло.
– Мама, не отпирай!
Я схватил топор, выскочил в коридор и заслонил ей дорогу.
– Это пришли… за нами…
– Почему за нами? К нам.
В дверь опять постучали. Громче и настойчивей.
Я крикнул:
– Нас убить!
– Андрюшенька, я понимаю… На тебя такое свалилось. На всех нас… Теперь тебе чудятся всякие страхи…
– Мама, выслушай же меня!
Стук. Пока только стучат. Потом начнут ломать.
– Отойди, Андрей, – сказала она строго. – За дверью ждут.
Я выкрикнул:
– Кто ждет?! Да ты знаешь, кто?!
– Милиция… Телеграмма…
Она протянула руку, чтобы отодвинуть меня. Я уперся.
– Андрей! Господи, да что с ним творится?
Гневно и раздельно:
– Сей-час же про-пусти! Драться с тобой прикажешь?
Я понял: она не отступится. И слушать не станет.
– А ну-ка, марш с дороги!
Ненавижу это слово! Марш спать. Марш мыть руки. А ну-ка, марш делать уроки. Всю жизнь одно и слышу: марш, марш, марш. Я что, солдат? Кукла, чтоб она меня дергала за веревочки? И все равно: дернет – я делаю. Да гори оно огнем. Марш, да?! Так точно! Слушаюсь! Служу Советскому Союзу! Назло врагам, на счастье маме… Я четко развернулся на сто восемьдесят градусов.
– Андрюшка, не открывай! – крикнула Заринка.
По-любому ничего не изменишь. Прятаться бесполезно. Подожгут дом. Вышибут дверь. Выбьют окна. Лучше сразу. Лицом к лицу. Заслоню. Положу, сколько смогу… Я шагнул к двери. В правой руке – наготове топор. Левой откинул в сторону засов…
– Что ты делаешь! – закричала Зарина.
…и распахнул дверь. На пороге стоял отец.
Меня как током ударило. В голове загудело и затрещало, словно включился мощный трансформатор. Топорище выскользнуло из ладони, и топор глухо стукнул об пол где-то далеко внизу, в подземном мире. Меня бросило к отцу – обнять (я не обнимал его много лет – с тех пор, как вырос), но страшная тяжесть удержала на месте. Я не мог шевельнуться. Просто стоял и смотрел. Я знал, что он вернется! Тело, что лежит на столе позади, за моей спиной, в темной комнате со свечами, – это не отец. Кто-то чужой, незнакомый. А сам он – передо мной, на крыльце. Живой. Я с самого начала был уверен, что это случится. Не ждал, что сегодня.
Фары грузовика, что стоял на улице перед нашим домом, светили отцу в спину. Одет он был в легкий чапан из бекасаба, который всегда надевал у себя дома. Блестящая ткань светилась узкой полоской по контуру фигуры, окружая ее сияющим ореолом. Лицо в тени. Но я угадывал черты, знакомые, родные… И лишь одно было чужим и страшным – усы. Откуда у него усы? Когда они успели вырасти? Где-то в стороне возникла мысль, как бы подуманная кем-то другим: у мертвых продолжают расти волосы. Но почему выросли за один день?
Я сказал:
– Папа.
Давным-давно не обращаюсь к нему так. Сейчас само вырвалось. Беззвучно. Отец шагнул вперед и обнял меня. Я закричал. От отца всегда пахло ароматной туалетной водой и еле уловимым запахом лекарств. Тот, кто крепко обхватил меня, пахнул совсем по-другому. Дымом, молоком, сухим навозом, горными травами, бензином и пылью.
Я рванулся назад и услышал, как мама произнесла нерешительно:
– Джоруб?..
Свеча сзади поднялась и осветила лицо обнимавшего меня человека. Он сказал:
– Вера, Вера-джон…
– Да, Джоруб, – ответила мама. – Да, его нет…
И я понял, кто это. Отцов младший брат. Я его давно не видел, тысячу лет он в Ватан не приезжал. На отца совсем не похож. Нет, похож, конечно. Очень сильно похож. Сразу понятно, что братья. В общем, не знаю.
Он отпустил меня, я посторонился, он вошел. Теперь я увидел, что на крыльце стоит какой-то старик. Сухой, невысокий, с белой бородкой, с кучей медалей на груди. Я догадался, что это дед. Почти не помнил его.
Дед и Джоруб, войдя в дом, остановились возле гроба и заплакали, обнявшись. Плакали как дети. Всхлипывая и утирая слезы. Обнимаясь, поддерживая друг друга. Джоруб широким движением схватил меня, притянул к себе. Мне не хотелось к нему подходить. Я не хотел, чтобы он меня обнимал. Было как-то неприятно после того, как я его за отца принял. Но я вытерпел. Ждал, когда он уберет руки. Но вдруг внутри что-то отпустило. Я целый день не мог заплакать. В их тесном круге я зарыдал, легко и свободно. Я обнял деда и прижался к нему. Слышал, как он шепчет. Говорит как бы сам с собой. Или с отцом.
– Бедный мой сын. Бедный, бедный. Горестный мой сын. Так красиво началась твоя жизнь. Стал ученым человеком. Лечил людей. Люди тебя уважали. И так несчастно ты умер… – Он будто забыл о нас, стоящих рядом. – Если захотели тебя убить, почему не ударили ножом?
Вошел высокий стройный парень, горный орел. Шофер, который их привез.
– Ако Джоруб, ехать пора. Путь долгий.
Дед, утирая слезы, сказал по-русски:
– Доченька, надо в дорогу его собрать.
– Я собрала, – сказала мама. – Обмыла, обрядила. И вот гроб…
– Спасибо, доченька, – сказал дед. – Но гроба не надо. Зачем гроб? Закутаем его.
– Шер, ты тоже помоги, – сказал Джоруб шоферу.
Мама молча раскрыла дверцу шифоньера и выложила на стул стопку чистого постельного белья. Взяла верхнюю накрахмаленную простыню, начала ее разворачивать.
– Как же так? – проговорила она вдруг. – Если без гроба, то на грязном полу?
Она сунула простыню Джорубу и решительно потянула со стены большой ковер, который отец притащил на новоселье, когда лет десять назад выбил для нас типовой совхозный домик на окраине. Ковер не поддавался. Мама рванула, сдернула грузное полотнище с гвоздей, оно обрушилось, тяжело складываясь наискось. Полетели с комода на пол вазочки, статуэтки.
– Постелите в кузове.
Шер, горный орел, подлетел, присел, помог маме скатать ковер, взвалил его на плечо и вышел. Когда он вернулся, мы все – мама и Зарина тоже – накренили гроб, приподняли отца, переложили на простыню, расстеленную рядом, и укутали с головы до ног.
Никогда не думал, что выносить мертвых – это тоже работа. Наподобие перетаскивания вещей при переезде. Тоже сноровка нужна, тоже кто-то распоряжается, как тащить, куда нести и где класть или ставить.
Мама с Зариной потянулись было к длинному белому свертку, лежащему на столе.
– Женщинам нельзя, – застенчиво распорядился дед. – Только мужчинам разрешено.
Подняли вчетвером. Дед, хоть и старый, тоже помогал.
– Вы неправильно несете! – вскрикнула мама. – Надо ногами. Ногами вперед.
Я приостановился, но дед сказал:
– Человек, когда рождается, выходит из утробы головой вперед. И когда умирает, из дома должен выходить, как и пришел – вперед головой.
Мы пронесли отца через дверь навстречу ослепительно сияющим фарам. Мама с Зариной шли следом. Мы уложили отца на ковер, на пол кузова, и встали у откинутого заднего борта, глядя на белеющий в темноте кокон. Я помог Шеру поднять борт. Вот и все. Отец уезжает от меня. Навсегда.
Несколько минут назад кипела работа, похожая на переезд в новое жилье, каждый был занят делом, но вдруг все кончилось, делать было больше нечего, наступила внезапная тишина, дед с Джорубом уедут, а мы останемся одни на темной улице, в темном опустевшем доме. Когда они появились, я почувствовал: мы в безопасности, а теперь это временное чувство разом улетучилось. Я спиной ощущал взгляды врагов, следивших за нами из темноты. Может быть, они бросятся на нас, едва отъедет машина, а мы не успеем даже вбежать в дом. Мама ни за что не побежит, она ни о чем не подозревает…
– Ну что ж, Джоруб, поезжайте с богом, – сказала она. – Может быть, даже и хорошо, что вы его забираете. Наверное, так лучше…
Он протянул ей руку:
– Эх, Вера…
Шер перебил его:
– Ако Джоруб, видите, те стоят? Вы в дом вошли, они к машине подошли. Один на подножку запрыгнул. «Что, братан? Откуда приехал?» Я сказал. Он говорит: «К вам, кишлачным, претензий нет. Берите, уезжайте быстрее. Мы сами разберемся». Я не знал, что покойного Умара убили, спросил: «В чем будете разбираться? Человек умер, значит, так Бог захотел». Он говорит: «С этими русскими разберемся». Ако Джоруб, что делать будем? Их много.
Джоруб оглянулся.
– Вера, зайдем в дом. – Водителю: – Шер, в кабине посиди. Если что, крикни…
Горный орел открыл дверцу, пошарил под сиденьем и вытащил заводную ручку.
– Рядом постою. Посмотрю, чтоб в кузов не забрались…
Мы все – наша семья и дед с Джорубом – вошли в дом. Пол в темной большой комнате пересекала световая полоса от фар, бьющих с улицы в коридор. Холщовая завеса на дверце шифоньера сорвалась, повисла на кончике, и зеркало в полутьме мерцало призрачным светом, как волшебная дверь.
Мама подняла опрокинутый стул, спросила устало:
– Ну что еще?.. Джоруб, что сказал водитель? – Таджикского-то она не знает.
Джоруб замялся – сам толком не понимал обстановку. Один я знал, что происходит. Сказал:
– Мама, я объясню… – и выложил, как было.
– Уезжать надо с нами, – сказал Джоруб. – В кишлаке не достанут.
Я думал, мама откажется, и она отказалась, но Джоруб с дедом в конце концов ее уговорили. Вещи мы собрали быстро. Нищему одеться – только подпоясаться.
– Много не берите, – сказал Джоруб. – Дома все есть.
Вышли на крыльцо, таща сумки. Мама и Зарина – в черном, в черных платочках.
– Запри, Андрюша, – сказала мама, протягивая мне ключи.
Я запер входную дверь пустого дома. Опустевшей утробы.
Мама с дедом сели в кабину. Зарина, я и Джоруб опустились на пол у передней стенки кузова, в головах кокона. Грузовик сдал назад, мазнул светом фар по кучке бесов, издали следивших за нашим бегством, и поплыл по темным улицам Ватана, по Карла Маркса, по Колхозной, Резо Резоева, Розы Люксембург, по Чорчинор, и выехал на мост через Ак-Су. От моста дорога пошла на подъем. Ватан развернулся передо мной от края до края – темное смутное пространство, кое-где обозначенное тусклыми огоньками. Я покидал наш поселок без радости и без сожаления. Я вообще перестал что-либо чувствовать. Ни о чем не думал. Будто спал наяву. Мне чудилось, что и я, как покойник, вместе с отцом уплываю во тьму вперед головой, спиной вперед…
Не знаю, сколько прошло времени. Несколько раз нас останавливали какие-то люди с оружием, карабкались на борт, заглядывали в кузов, светили фонариками, о чем-то спрашивали… Я не вникал, не интересовался. Боевики, погранцы – какая разница? Джоруб спрыгивал на землю, дед выходил из кабины, толковали с военными. Пусть разбираются сами… Встречный ветер похолодел, небо начало светлеть, обрисовались две гряды вершин по обе стороны дороги, и вскоре можно было различить реку – далеко внизу, слева, под обрывом.
Начала болеть голова. Подташнивало. Я знал: сказывается тутак, горная болезнь. Но мне было до лампочки.
– Замерз, Андрюшка? – спросила Зарина и обняла меня, чтобы согреть.
2
Зарина
В полусне мне чудилось, что папа пришел к нам домой. Он живой, веселый, но почему-то очень странно одет. В белую ночную рубашку. Длинную, до пят, накрахмаленную и отглаженную…
Сквозь дрему я услышала, как дядя Джоруб сказал:
– Талхак.
Он смотрел вперед, стоя во весь рост и держась за передний борт кузова. Я вскочила на ноги, примостилась с ним рядом и увидела, что уже светло, а мы въезжаем в широкое ущелье. После дороги, стиснутой скалами, оно показалось мне очень просторным. Горы раздвинулись. Солнце ярко освещало левый склон. Верх его был крутым, почти отвесным, а низ широкими ступенями спускался к реке на дне ущелья, и там, на пологом откосе, среди нежно-зеленых прозрачных деревьев и крохотных распаханных полей теснились домики с плоскими крышами… Правый склон ущелья оставался серым и холодным. У его подножия, на другой стороне реки, смутно виднелись дворы и домики. Утренняя тень делила кишлак вдоль по реке на две половины – светлую и темную.
Солнечная сторона выглядела как волшебное селение из сказки. Я с детства воображала, как в нем побываю. Забиралась к папе на колени: «Папочка, а когда мы поедем в Талхак?» Он смеялся, гладил меня по голове: «Станешь большая – повезу тебя в Талхак, всем покажу, какая у меня дочка».
Он по-русски чисто говорил, с небольшим акцентом. Мне это ужасно нравилось и казалось очень милым. Никто на свете не умеет говорить, как мой папа. Я все спрашивала его: «Ну когда же поедем? Когда?» Мама сердилась: «Не приставай к отцу с глупыми просьбами». – «Ну почему?! Мне очень туда хочется…» – «Он занят на работе. У него нет ни минутки свободной». Мама всегда нам это говорила. Особенно когда папа вдруг куда-то пропадал и долго не приходил.
Однажды мы с Андрюшкой случайно узнали, что у папы в кишлаке есть другая семья. Значит, у нас есть сестрички и братишки! Папины дети. Другие дети. Я часто пыталась представить, какие они. Сможем ли мы с ними подружиться? Мне ужасно хотелось, чтобы папа про них рассказал. Но ни разу не попросила. Хоть и несмышленыш, а чувствовала: мама обидится, если папа будет о них рассказывать. Почему? Что в этом обидного? Когда была маленькой, не понимала. Теперь, кажется, понимаю. Я ведь тоже одно время ревновала папу к этим незнакомым детям. Пока не начала их жалеть. К нам-то с Андрюшкой папа приходил часто, а они видели его раз в год. Как они, наверное, по нему скучали… Теперь я о нем тоскую. Так, что сердце разрывается… Я не заплакала. Это ледяной ветер бил в лицо и вышибал из глаз слезы.
Зато грузовик зарыдал вместо меня. Шер, наш шофер, загудел во всю мочь. Хотел людей в кишлаке предупредить, что мы приехали, а вышло, словно машина завыла от горя. С ревом и воем мы промчались по мосту через речку и остановились на маленькой площади перед небольшим зданием из грубого камня, с куполом на плоской крыше. Видимо, это была мечеть.
Нас встретили несколько человек. Они, наверное, ждали, когда привезут нашего папу. Откинули задний борт кузова. Мы – дядя Джоруб, Андрюшка и я – спрыгнули на землю, а мама с дедушкой вышли из кабины. Люди стали подходить и обнимать дедушку и дядю Джоруба. Многие плакали. Похоже, папу любили. Андрея они тоже обнимали. Мы с мамой стояли в сторонке. Мама крепко меня к себе прижала:
– Ты совсем ледяная.
Я действительно вся дрожала. Не знаю, от холода или от волнения. Стали подходить еще люди, только мужчины, и вскоре собралась небольшая толпа. Один – маленький, тощий, хромоногий, весь какой-то черный – особенно суетился:
– Носилки надо, носилки… Без носилок не донесем. Улица узкая, неудобно… И покойник, наверное, еще не закоченел.
Мне стало обидно, что говорят, словно про какой-то груз, но за папу вступился высокий, широкоплечий старик с большой белой бородой. Я с первого взгляда его приметила – ну прямо Илья Муромец! Вот он и проговорил степенно:
– Гостя в дом на носилках не несут. На носилках его выносят.
И все с ним согласились:
– Почтенный Додихудо верно сказал.
А черный обиделся, скривился и пробормотал словно про себя, но чтоб услышали:
– Этого гостя из города привезли. Ему, наверное, все равно…
Все деликатно сделали вид, что не слышали. Несколько мужчин залезли в кузов, подняли папу и передали стоявшим внизу, а те целой гурьбой – человек, наверное, десять – подняли на плечи и побежали по извилистой улочке, круто идущей вверх. Мы подхватили сумки и поспешили за папой. Пройдя с десяток шагов, я оглянулась и увидела, что дедушка сильно от нас отстал. Ему было трудно идти на подъем. Я остановилась и подождала его. Мы шли по узкому проходу между низкими заборами, сложенными из камня, и молчали. Бедный, бедный папочка… Я по-прежнему не могла поверить в то, что он умер. Мне казалось, что я вижу какой-то нелепый сон, и горе неподвижно застыло где-то у меня в глубине, как черная вода в бездонном колодце.
Когда мы подошли к папиному дому, дверь в заборе была распахнута, а возле на улочке толпились люди. Они расступились, мы с дедушкой вошли во двор, где тоже стояли люди, молча. Никто из них, пока мы шли к дому, даже не кивнул дедушке. Будто не видели его. На похоронах нельзя здороваться…
Папа лежал на полу в низкой полутемной комнате, освещенной тремя глиняными светильниками. Мебели почти никакой. Буфет с парадной посудой да пара сундуков, на которых высились стопки красных ватных одеял. Ни стола, ни стульев. Пол застлан ковром. Посередине – папочка, завернутый в белое. Сидевшие вокруг тихо плакали. Мама сидела с другими женщинами, справа у стены, в полутьме.
Дедушка вошел, но никто даже не шелохнулся. Это похоронный обычай – не вставать, когда входит кто-то, даже старший. Мужчины потеснились, чтобы дедушка мог сесть возле папы. Он тяжело опустился на войлочный палас и сразу же обнял Андрюшку. Похоже, Андрей ему папу напоминает. А я пробралась к маме. Она подняла на меня измученный взгляд и молча кивнула. Сидевшая рядом с мамой женщина в синем платье встала, я немедленно догадалась, кто она. Папина другая жена! Я ее такой и представляла. Настоящая царица. Высокая, стройная. Светильник освещал лицо, которое показалось мне очень красивым. Прямой нос с горбинкой, большие глаза, брови дугой. Она обняла меня.
– Бедная девочка, сирота…
Мы сели. Я примостилась между мамой и этой ласковой царицей. Я уже знала, что ее зовут Бахшандой – дедушка по дороге сказал. Все плакали, и я тоже не сумела удержаться. Рыдала, пока в дверь не заглянул какой-то человек и негромко сказал:
– Выносите гостя. Обмывальщики пришли.
Дядя Джоруб поднялся на ноги, за ним остальные. Мужчины подняли нашего папу, закутанного в простыню, и унесли. Женщины заголосили. Я хотела встать и пойти за папой, но одна тетка, сидевшая сзади, прошептала, всхлипывая:
– Нельзя, доченька. Женщинам запрещено смотреть, как мужчину обмывают.
Мама взяла меня за руку. А та же задняя тетенька – тихонько:
– Доченька, скажи своей маме… Если хочет, может быть, платок снимет.
Я шепотом перевела мамочке.
– Зачем? – спросила мама и потуже затянула узел своей черной косынки.
Женщины в комнате были покрыты платками. Все, кроме здешней папиной жены, у которой длинные черные волосы были распущены. Мама огляделась и, кажется, сама поняла. Пожала плечами и сняла косынку. Тетушка, сидевшая позади, опять прошептала – теперь уже маме:
– Невестка, может, волосы захотите распустить?
Я перевела.
– Ах, меня, кажется, принимают в клуб законных вдов, – проговорила мама, но принялась вытаскивать заколки из тугого узла своих льняных волос, которыми я всегда любуюсь.
Казалось, она тоже не совсем понимала, что папа умер. Потом нас позвали. Я увидела, что перед домом лежит штуковина, на вид похожая на грубо сколоченную лестницу, приподнятую над землей на невысоких подставках. Это были погребальные носилки, на них укладывали папу, обряженного в белый саван. Его лицо было по-прежнему закрыто.
Тетя Бахшанда сошла с веранды и медленно двинулась к носилкам. Я не могла оторвать от нее взгляда. Мне сначала даже казалось, что она ничуть не горюет, а просто идет посмотреть, что лежит на носилках, как если бы… ну не знаю… ну как если бы во двор притащили мешок муки. Неужели она совсем не любила нашего папу?
И вдруг она будто ожила и заголосила:
О, дом мой, дом мой! Дом мой, разрушенный дом…
Я знала, что это древнее вдовье причитание. Слышала его недавно у нас в Ватане, когда у соседки умер муж, и представить не могла, что скоро завопят над моим папой, а наш дом будет разрушен…
О, дом мой, дом мой, без крыши четыре стены.
Царь мой ушел, остался дутор без струны,
Кувшин без воды, душа без тела.
Дом мой, дом мой, дом опустелый.
Тетя Бахшанда била себя в грудь и царапала лицо:
Гости пришли, не встанешь, не скажешь: «Салом»,
Заждался тебя твой конь под седлом,
Твоя чаша средь лета покрылась льдом.
Дом мой, дом мой, разрушенный дом.
Она причитала так яростно и отчаянно, что у меня побежали по коже мурашки и опять навернулись на глаза слезы. Я сдерживала их изо всех сил. Потом человек в белой чалме – видимо, мулло – оглядел двор:
– Сын… Пусть сын тоже понесет.
Андрюшка, мрачный, вылез из угла, где сидел, опустив голову на колени, и подошел к носилкам. Вместе с другими мужчинами понес на плечах нашего папу. Мулло пошел впереди. Какая-то девочка побежала за носилками. Мы, женщины, остались во дворе. Все чего-то ждали.
Вдруг девчонки, стоящие на плоской крыше дома, закричали:
– Мулло джанозу читает!
Мне объяснили, что одну из моих сводных сестриц послали на пригорок, с которого открывается вид и на дом, и на кладбище, чтобы она подала знак, когда начнется заупокойная молитва. Все женщины во дворе присели на корточки и забормотали отходную по моему папе.
Кончили молиться, и закипела бурная деятельность – подготовка к поминкам. Но не в нашем дворе, а в соседском.
– В доме, где покойник лежал, нельзя еду готовить.
– Еда нечистой сделается. Осквернится.
Меня обидело, что они говорят, словно папа какой-то заразный. Но я понимала… Это как если бы он заболел какой-нибудь опасной болезнью. И хоть мы его сильно любим, а все равно боялись бы инфекции. Понимала, но было обидно. Хотелось остаться одной, но меня никто никуда и не тащил. Мама ушла вместе со всеми, а я прошла через дом на задний двор, где тупо уставилась на овец в загоне. Они были живыми, и я опять заплакала. А потом побрела к соседям. По улице мне навстречу какой-то дядька тащил на веревке маленькую тощую корову.
– Эй, девушка, позови свою старшую мать.
Это он про тетю Бахшанду! Она, конечно, замечательная, я полюбила ее с первого взгляда, но чтоб назвать мамой… Никогда! Я сказала сердито:
– Мама у меня одна. Нет ни старшей, ни младшей.
Дядька сказал по-русски:
– Эх, девочка, теперь не в городе живешь. У нас немного по-другому. Тебе потихоньку привыкать надо.
– У вас что… – я замялась и вдруг ляпнула, словно пионерка (не нашла слов, чтобы по-другому спросить): – Разве не советская власть?
Дядька вздохнул:
– Не знаю, что тебе сказать. Наверное, не советская. Россия от нас ушла, и советская власть пропала. Теперь не знаю, в каком веке живем.
Он еще раз вздохнул:
– Вообще-то Зухуршо теперь власть.
Из вежливости я спросила:
– Кто это?
– Э, девочка, в голову не бери. Тебе зачем знать?
Незачем. Я в Ватане-то толком не знала, кто в начальниках ходит. А в кишлаке и подавно не интересно, что за Зухуршо такой. Я отправилась искать тетю Бахшанду. Не нашла, зато наткнулась на ту женщину с неприметным добрым лицом, что посоветовала маме распустить волосы.
– Корову привели…
– Иди, дочка, скажи, чтоб на задний двор отвели.
Я заколебалась.
– Может, лучше… у тети Бахшанды спросить…
– Не стоит ее утруждать. Мы с тобой сами решим.
– Да? А вы…
– Я жена твоего дяди. Дильбар меня зовут.
Стало немного проясняться, кто кому кем приходится.
– А этот человек с коровой? Такой статный, лихой, с усами…
В это время я увидела, что лихой и усатый, не дождавшись указаний, заводит коровенку во двор.
– Нет, он нам не родня, – сказала тетя Дильбар. – Это Гиёз, парторг.
Он же буренку зарезал и разделал. Мясо сварили с лапшой в огромном закопченном котле, и мы до ночи таскали в наш двор деревянные блюда с «похлебкой смерти», как называют поминальную еду. Поминавшие сидели на разостланных на земле паласах и кошмах: накормили мы, наверное, весь кишлак.
Умаялись до смерти. Спать нас с мамой уложили в маленькой каморке, в пристройке на заднем дворе. Кажется, это было что-то похожее на кладовую. Бросили на земляной пол палас, а на него – тонкие матрасики, курпачи, и одеяла. Мы упали на них, но долго не могли уснуть. Папина смерть давила меня, как тяжеленная могильная плита. Теперь, когда не надо было ничего делать, ни с кем разговаривать, притворяться спокойной, я не могла пошевелиться, вздохнуть или просто подумать о чем-либо. Даже плакать не могла.
Утром, когда мама еще спала, я вышла во двор и увидела в дверях курятника тетю Бахшанду с рыжим петухом в руках. Я вспомнила, как вчера, при первой встрече, она меня приласкала, совсем как родная, разлетелась к ней и воскликнула:
– Доброе утро, тетушка!
Она холодно глянула, молча кивнула и пошла мимо. Я сначала оторопела, а затем выругала себя: человек от горя не отошел, а ты лезешь с приветствиями. Потом подумала: а у меня разве не горе?! Может, я обидела ее обращением? А как ее называть? К родным теткам и к любым вообще старшим женщинам обращаются со словом «тетушка». А она мне кто? Если по-русски, то мачеха. Но ведь мачеха – это когда мамы нет. А на таджикский лад? Нет, так я тоже не хочу. Выходит, с какой стороны ни посмотри, Бахшанда – мне чужая. Придется вести себя посдержаннее…
Она остановись, сунула мне петуха и приказала сухо:
– Идем.
Я поплелась за ней. На переднем дворе нас ждала небольшая компания – тетя Дильбар и две соседки, которые вчера особенно хлопотали на поминках. Одна – полная тетенька в коричневом платье – была похожа на большую кубышку из темной глины с круглыми боками. Я про себя сразу стала ее называть тетушка Кубышка. Другая – низенькая, пышная, белая. На вид – точь-в-точь мягкая лепешечка из сдобного теста. Тетушка Лепешка.
Тетя Бахшанда приказала мне:
– Позови брата.
Андрей ночевал в пристройке для гостей, мехмонхоне. Прижимая к себе петуха, я постучала в дверь. Братец выглянул мрачный, встрепанный…
– Эй, парень, иди сюда. Отрубишь петуху голову, – крикнула тетя Бахшанда.
Он буркнул:
– Сами рубите.
Тетя Бахшанда бровь заломила, но объяснила сквозь зубы:
– Женщинам убивать запрещено. Твой дядя ушел, в доме одни женщины. А ты… все же мужского полу.
– Убивать не стану!
И захлопнул дверь. Бедный Андрей! Никак не может с собой совладать. Ходит мрачнее тучи, на всех огрызается. Будто он один на всем свете страдает. Я свое горе заперла глубоко внутри и старалась держаться как обычно, чтоб не опозорить папочку. Чтоб люди не подумали, что папа воспитал нас невежливыми и слабыми. Я поспешила на защиту Андрюшки:
– Брат очень переживает.
Соседки тактично потупились – показывали тете Бахшанде, что не заметили, как Андрюшка ей нагрубил. Тетушка Кубышка сказала:
– Дом надо очистить.
– Надо в нем кровь пролить, чтобы от скверны смерти избавиться, – добавила тетушка Лепешка.
– Если обряды не соблюсти, покойник вредить будет, – сообщила тетушка Кубышка.
Тетя Дильбар ничего не сказала и куда-то ушла. Тетя Бахшанда грозно молчала.
– Подождем, пока дядя Джоруб вернется, – предложила я.
– Давай-ка, девочка, свяжем петуху ноги, – сказала тетушка Кубышка. – Наверное, сестрица Дильбар сделает мужскую работу.
Пришлось мне держать бедную птицу, а пока мы возились с веревочкой, вернулась тетя Дильбар с большой оранжевой морковкой в руке. Рядом с центральным столбом веранды стоял чурбачок, на который положен был топор. Петушиная плаха. Тетя Дильбар подошла к чурбачку и задрала до пояса подол своего красного платья. Мне бросилось в глаза, что верх длинных атласных шальвар с красивым цветным узором пошит из грубого серого карбоса. Тетя Дильбар сунула себе в промежность морковку, зажала ее между ногами и взяла топор.
– Подай петуха, доченька.
Я подошла к ней вплотную, прижимая к груди несчастного петела. Тетя Дильбар ухватила затрепыхавшегося петуха и…
Одним словом, отрубила ему голову.
Я теперь, наверное, всякий раз при виде морковки буду вспоминать, как хлопал крыльями, замирая, петух, подвешенный на центральном столбе за связанные ноги, и как дергался обрубок его шеи и брызгала оттуда черная кровь… Но больше всего меня поразило, что тетя Дильбар убивала петуха настолько деловито и равнодушно, словно дергала репу из грядки. Бесчувственная она, что ли?
А у меня было смутно на душе. Прежде я видела, как убивают животных. Наши соседи в Ватане готовились к свадьбе, и мы, дети, смотрели, как режут барана. Было страшно, но я решила: раз взрослые делают такое, то, наверное… ну, видимо, так надо, что ли… О смерти я вообще не задумывалась. Теперь только о ней и думаю. Когда папу убили, мне стала отвратительна любая смерть. Петух был такой глупый и беззащитный. Андрюшка хоть грубиян, но молодец, что отказался. А я? Смалодушничала. Пошла у тетушек на поводу. Я мысленно дала себе слово: больше никогда в жизни никому не поддаваться. А то, что папа может нам навредить, это глупость какая-то. Соседкам простительно – им папа чужой. Но тетя Бахшанда…
Я позже к ней подошла и прямо спросила, верит ли она в эту ерунду. Она неохотно, но все-таки ответила:
– Покойный, да не передаст ему земля мои слова, мало семьей интересовался. Не думаю, что его дух будет о нас помнить. Если и навредит, то разве что случайно.
Нет, она папу не любила! Да и с нами почему-то не слишком любезна. Вечером я нечаянно подслушала ее разговор с дядей Джорубом.
Мне не хотелось видеть людей. Даже маму или Андрея. Я забралась на плоскую глиняную крышу нашей пристройки, легла на спину и стала смотреть в небо. В Ватане никогда не бывает такого черного, глубокого неба и столько звезд. Крыша была очень холодной. В горах даже днем: на солнце – как в бане, в тени – как в холодильнике. «Крыша одна, погоды две. С этой стороны крыши – холод, с другой – зной». Это тетя Дильбар сказала. Пословица здешняя.
Я насмерть продрогла, но это было даже лучше – пыталась представить, что умерла. Каково это – быть мертвым? Я стала думать о папе. Он сейчас тоже лежит, смотрит вверх невидящими глазами, но над ним не звездное небо, а черный глухой слой земли. Наверное, земля – это небо мертвых.
Внизу, на земле, слышались чьи-то шаги, шуршало сено. Видимо, кто-то бросал корм овцам в загончике. Я услышала, как тетя Бахшанда сказала:
– Ако Джоруб, зачем вы этих людей к нам привезли?
Дядя Джоруб вздохнул:
– Нам они родные. В городе их убить собирались. Кто, кроме нас, детей покойного Умара защитит?
А она:
– Э, ако… Может, вам эта его джалаб приглянулась?
Маму проституткой назвала! Я хотела соскочить с крыши и заорать: «Не смейте говорить такое о моей маме!» Но хватило ума сдержаться. Подумала: ну сейчас дядя Джоруб ей выдаст. И вдруг услышала, как он мямлит:
– Не надо так говорить. Вера – хорошая женщина. Теперь, когда жизнь моего брата окончилась, у тебя и причины-то нет с ней враждовать…
А она:
– Дети! Дети – причина. Моим детям придется с ее детьми делить хлеб, которого и без того не хватает. Эта джалаб будет мой хлеб есть.
– Не беда, – залопотал дядя Джоруб. – Они работать станут. Ты сама знаешь: много людей – много работников.
А она:
– Работники? Эти русские из города ничего не умеют. – Помолчала и спросила: – Задумали их с нами жить оставить?
– Куда они поедут? Сама, невестка, сообрази – война. Они по дороге даже десяти километров не проедут. Остановят, ограбят, убьют. Такое сделают, что и говорить страшно. Пусть с нами живут, пока в мире спокойно не станет. А дальше – как Бог захочет.
Она помолчала, потом сказала резко:
– Верхнее поле. Надо расчистить и распахать. Едоков стало больше, земли нужно больше. Прежде хватало, покойный деньги присылал. А теперь вам в совхозе ничего не платят. Покойный ушел, нужно искать, откуда хлеб брать. Я давно о том думала, но рук не хватало. Пусть работают. Только вы, ако, сами ей скажите. Я с ней разговаривать не желаю.
Дядя Джоруб:
– Эх, невестка, не для женщины и подростков эта работа. Для сильных мужиков.
– В этом доме нет ни одного мужика, – отрезала Бахшанда, и я услышала легкие решительные шаги. Она ушла.
Ляпнула бы она такое моему папе! Уж он бы ей рога обломал. Нет, не зря у дяди Джоруба такое глупое и смешное имя. По-таджикски оно означает просто «веник». Видимо, у дедушки умирали несколько младенцев подряд, вот и дали новорожденному дядюшке такое имя, чтобы обмануть болезнь. Называют веником, значит, он не ребенок, а просто пучок веток, метелка. К веникам болезнь не цепляется. К ним цепляются злые невестки. Подметают ими как хотят.
Назавтра дядя Джоруб – он же дядя Веник или, еще лучше, Метелка – повел нас на поле. Мы поднялись по тропе в гору и вышли к скале, под которой я увидела площадку размером с баскетбольную. Ну, может быть, чуть побольше.
– Вот земля, – сказал дядя Метелка. – Верхнее поле.
И это поле?! Если на земле что и росло, то одни камни. Обломки скалы. Маленькие, побольше и очень большие. Так называемое поле было настолько завалено каменьями, что молодая зеленая травка пробивалась лишь кое-где.
Дядюшка Метелка произнес: «Йо, бисмилло», нагнулся, поднял большой угловатый камень и оттащил на самый край баскетбольной площадки. Оказывается, он очень сильный, наш дядюшка. Его даже уважать можно. Ухватил другую глыбу, подволок, положил рядом с первой. Андрюшка скинул рубашку и тоже принялся за дело. Подключились и мы с мамой…
Теперь понятно, почему здешние поля со всех сторон окружены заборами. Не слишком высокими – едва в половину человеческого роста. Наш-то наверняка получится повыше.
Потом дядя Джоруб ушел. Мы перекусили лепешками с водой и продолжили работать. Кучка камней росла. Забор начнем выкладывать позже. И я представила, каким он будет. Вот я уже забираюсь Андрею на плечи, чтобы дотянуться и положить камень в верхний ряд. А забор растет и растет. Вот он вырос до самого неба. Мы приставляем к нему хлипкие самодельные лестницы и карабкаемся по ним, а камни на поле никак не убывают…
Через несколько дней я поняла, что время измеряется не сутками, часами и минутами, а кучками камней. Прошла одна куча. Другая. Третья… Было славно по утрам окидывать взглядом наш каменный календарь. Вот если б Бахшанда не лютовала. Она маму невзлюбила, придирается ко всякой мелочи. Не туда воду после стирки вылила. Не так села. Не так встала. Перечислять противно. Недавно – не помню, в какую именно кучу, – опять завела:
– Вера, ты хоть какое-нибудь дело хорошо сделать умеешь? Опять все испортила. Сказали верблюду: «Подмигни», а он огород разорил.
Я вступилась:
– Тетушка, не говорите грубо с моей мамой.
Она и ухом не повела:
– Ты, Вера, даже дочь не сумела научить, как со старшими разговаривать.
Я сказала:
– Если чем-то недовольны, меня ругайте. Маму не троньте.
Она уперла руки в бока.
– Эге, корова легла, теленок встал.
Я крикнула:
– И она вам не корова!
Она рукой махнула:
– Ты как твоя мать. Неумелая, невоспитанная.
Дядя Джоруб попытался ее урезонить:
– Женщина, оставь девочку в покое. Хоть с детьми не воюй.
Она как с цепи сорвалась:
– Дети?! Что вы про детей знаете? Если чего не узнали, у своей бесплодной жены спросите. Вы, коровий врач, тысячи коров осеменили… Почему жену осеменить не можете?
Я думала, дядя Джоруб ее убьет. Побледнел, кулаки сжал, но сдержался, повернулся и ушел. Она крикнула вслед:
– Или эту белую русскую корову оплодотворите. Пусть еще одного невоспитанного ублюдка родит.
Как хорошо, что мама не понимает по-таджикски.
3
Джоруб
Слышал я – старики рассказывают, – что в древности овцы могли говорить как люди. Пас их святой пророк Ибрагим, а пастбища в те времена были райские – ведь и экология была совсем другой, не такой, как нынче. Говорят, овцы спустились к людям с небес, а потому они – животные из рая. Но они даже райской экологией были недовольны. Хором кричали: «Трава невкусная. Вода соленая». И святой пророк вел отару в другую долину, но капризные животные ворчали: «Плохо, все плохо. Найди для нас пастбище получше». В конце концов святой Ибрагим устал слушать бесконечные жалобы и в гневе лишил овец дара речи.
Честное слово, иногда сожалею, что язык не отобрали также у женщин. Уши болят от их свар. Когда я решил увезти Веру с детьми к нам в Талхак, то помыслить не мог, что жены покойного брата начнут меж собой войну. Что им теперь делить? Но, как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод, соловей Талхака:
Если ревности пламя охватит покорную пери,
Берегитесь той девы и люди, и дикие звери.
Прежде Бахшанда воевала с Дильбар за женское главенство в доме. Теперь, когда появилась Вера, началась новая война. Я много раз наблюдал такое у коров, когда в стадо пускают новенькую. Старожилки толкаются, трутся боками, пока не выяснят, какое место ей занять. Пастухи не вмешиваются – среди коров не проведешь партсобрание, им не прикажешь: «Вот эту уважаемую корову к нам из района прислали. Теперь она у вас раисом-председателем будет», или: «Эта телка – дочка одного большого быка, уступите ей хорошее местечко». Иной раз коровья война долго идет. Но я в женские розни не встреваю. Сами разберутся. Не зря сказано: ссоры меж родственниками – что весеннее облако.
Но, может быть, облака рассеются скорее, чем я ожидаю. Вчера приходили сваты от Гиёза, парторга. Сам раис за него Бахшанду сватал. Собрались старейшины нашего кауна. Главный – мой отец, но по такому случаю обращались не к нему, а к папаше невесты, старому Бехбуду. Раис произнес торжественно:
– Время прошло, душа Умара успокоилась, забыла о земных делах. Хотим посватать его вдову, почтенную Бахшанду.
Старый Бехбуд – человек веселый, слова без шутки не скажет, но ответил серьезно:
– Согласно шариату следует подождать четыре месяца и десять дней. Надо убедиться, что вдова не ждет ребенка.
– Это верно, – согласился раис. – Однако все мы знаем, что покойный Умар целый год отсутствовал. Откуда взяться ребенку?
– Ваша правда, но закон есть закон.
– Может, мулло даст разрешение, учитывая обстоятельства.
Старый Бехбуд вежливо удивился:
– О каких обстоятельствах говорите? Почему такая спешка?
– Ваша дочь – женщина видная. Хотелось бы заранее договориться…
Опасаются, что кто-нибудь опередит. Смешно. Неужто вдовцы Талхака наперебой бросятся нашу непокорную пери сватать?
– Мы бы сейчас с вами условились, а брак заключим, когда пройдет положенный срок.
Старый Бехбуд задумался.
– Иншалло. Как Бог захочет.
Не решился обещать, собственную дочь боится. Будет, как Бахшанда решит.
Так проходят наши дни. А сегодня утром Ибод, мой племянник, закричал во дворе:
– Дядя Джоруб! Эй, дядя Джоруб!
Я вышел к нему. Ибод стоял в воротах, опершись на длинный посох из дерева иргай, закаленный огнем и отполированный временем. Красавец парень, в младшую мою сестричку. Лицо смуглое, гладкое, солнцем и ветром, как пастушья палка, вылощенное. Под глазом – огромный синяк. Я встревожился:
– Что случилось?
– Ничего не случилось. Мы овец пригнали.
Я крикнул:
– Эй, женщина, принеси сумку.
Наедине зову жену по имени, но приличия должно соблюдать даже при родном племяннике. Дильбар вынесла кофр с медикаментами. Ибод сумку перехватил:
– Дайте, дядя, я понесу.
Повесил кофр на шею, мы вышли из кишлака и двинулись вверх по тропе, ведущей к большому летнему пастбищу нашего кишлака.
Тот, кто взглянет на наши горы с высоты, увидит длинный каньон Санговар – Каменное ущелье, по дну которого течет река Оби-Санг. В нижней части каньона, у входа, расположился кишлак Ворух. От середины каньона, как ветка от ствола, отходит на запад Талх-Дара, Горькое ущелье. В нем помещается наше селение Талхак. В верхней части каньона притулился кишлак Дехаи-Боло, Верхнее селение.
Большое пастбище (а есть у нас и малое) раскинулось в стороне, словно драгоценный зеленый ковер. Некогда оно было общим. Наши предки договорились пользоваться им совместно с жителями Верхнего селения. В один год на нем паслись стада Талхака, а в следующий – скот соседей. Но во времена эмира Музаффара некий богач из Верхнего селения силой завладел общей землей и даже, говорят, ездил в Бухару, чтобы выправить на нее бумаги.
Звали его Подшокулом, но прозывали Торбой. Рассказывают, что приехал Торба в столицу и – прямо к воротам Арка, эмирского дворца. Начальник караула окликнул: «Куда прешь, деревенщина?!» Торба приосанился гордо: «Иди и скажи эмиру, что к нему Подшокул из Дехаи-Боло прибыл». Начальник удивился, послал аскера во дворец с донесением.
Сказка, конечно. Бюрократия в прошлом была не слабее нынешней. Знающий ученый человек, историк из Душанбе, кандидат наук, говорил, что в Бухаре окно имелось, откуда рука высовывалась, и надо было в эту руку деньги вложить и прошение сунуть. А далее уж шло оно по тамошним инстанциям, так что в действительности Торба мог пробиться на прием только к какому-нибудь мелкому чиновнику.
Рассказывают, однако, что аскер к воротам вернулся и повел Торбу в Арк, в палату к самому государю. Эмир Торбу увидел, обрадовался: «Добро пожаловать, дорогой Подшокул. Как живешь? Как жена? Как дети? Сам здоров ли» Почести оказал и спросил: «Ну, какая у тебя забота?» Торба рассказал, эмир задумался: «Сложное дело, очень сложное. Но не беспокойся, мы решим его по всей справедливости. И уж конечно, такого, как ты, уважаемого человека, нашего верного слугу, не обделить постараемся».
Торба обрадовался, а эмир из серебряного чайника в китайскую фарфоровую пиалу чаю налил и Торбе протянул. Торба пиалу принял, к губам поднес… Что такое?! Раз понюхал, еще раз понюхал, в третий раз понюхал. Отхлебнуть не решился и спросить побоялся, не лошадиной ли мочой его потчуют? А эмир нахмурился грозно: «Что ж не пьешь? Не по вкусу тебе наше угощение?»
Торба залебезил: «Вкус отменный, благоухает, как весенний сад. Но мы, грубые мужики, драгоценные чаи распивать недостойны. Осмелюсь спросить, из каких дальних стран такой замечательный напиток?»
Нахмурился эмир: «Забыл ты, что писал древний поэт:
Глупец, за чужестранным не гонись,
Ты на свое, родное, оглянись.
Чай этот не из Хитоя, не из Хиндустона привезен, из наших монарших конюшен доставлен, от любимого нашего жеребца».
У Торбы руки задрожали, драгоценный чай выплеснулся, по парадному чапану-халату потек. А эмир, то заметив, окончательно разгневался: «Вижу, брезгуешь нашим гостеприимством». Хлопнул в ладоши, вбежал наукар с саблей. Эмир приказал: «Руби голову этому неблагодарному смерду. В сторону отведи, чтобы наш царский дастархон мужицкой кровью не осквернить».
Поставили Торбу на колени. Он закричал: «Пощадите! Выпью, выпью этот чай!» Правда, его односельчане, люди из Дехаи-Боло, по-иному предают: Торба, мол, сказал: «Чем опозоренным быть, лучше вообще не жить».
Так или не так сказал, но эмир подал знак: «Руби». Палач саблю занес, Торба в мыслях с жизнью простился, глаза закрыл, но в это время ковер на стене откинулся, и в зал вошел некий благородный муж в золотом халате, в белой чалме, с большой бородой, а за ним огромная свита. Оказалось, подшутили над Торбой, послали к нему шута эмирского, одетого по-царски. А сам эмир Музаффар, его военачальники, придворные, улемы-мудрецы и все знатные люди Бухары сидели в соседнем покое и смотрели в щелку, как деревенщина пастбище добывает.
Говорят, Торба не одну пиалу, а целый чайник лошадиной мочи вылакал, и эмир Музаффар настолько развеселился, что отдал ему пастбище. Односельчане Торбы говорят: он пить отказался, эмир за мужество его еще и чином наградил. Другие говорят: вазиром, министром назначил. Вот мы и присвоили Верхнему кишлаку прозвание Вазирон, то есть «Министры».
Было не было, но большое пастбище перешло к Торбе, а он брал плату с тех, кто пас скот. Только после революции была восстановлена справедливость. Наш односельчанин Саид-бедняк стал председателем ревкома в Калай-Хумбе и вернул пастбище Талхаку в полную собственность.
Путь нам с Ибодом предстоял неблизкий. Большое пастбище лежит высоко в горах. Племянник шел впереди быстрым, размеренным шагом, по пастушьей привычке положив на плечи посох и закинув на него руки. Я спросил:
– С кем подрался?
Он пробормотал, не оборачиваясь:
– Ни с кем.
Не хочет рассказывать – не надо. Но постепенно, слово за слово он все же поведал, что произошло. С холодами мы отгоняем овец на зимовку в Дангару, за сотни километров от наших мест, а весной возвращаем обратно. Перегон – дело трудное и для пастухов, и для овец. Случаются потери. А в нынешнем году они оказались особенно велики. Чабанов перехватила по дороге какая-то банда и отняла десяток овец.
Выходит, война уже до наших мест добралась. До сих пор спокойно было. Слишком уж далеко до больших дорог. Но правительство вытеснило оппозицию из центральных районов, и вооруженные отряды и банды отступили на Дарваз.
Понятно, почему Ибод мрачен. Стыдно ему. Чувствует себя униженным. Ровесники, такие же, как он, крестьянские парни, обросшие молодой бородой, с оружием, с зелеными повязками на голове, отняли овец, перешучиваясь и усмехаясь. И в придачу побили деревенщину.
К середине дня мы с Ибодом поднялись к пастбищу. На краю его лежит огромный Дед-камень, обломок скалы, обросший чешуйками мха, живого и мертвого. Из-под мохового покрова проступают загадочные знаки, которые выбили наши древние предки. Ныне никто не знает, о чем те знаки говорят. Священный этот камень исцеляет от многих болезней, и невдалеке от него – там, где тропа вступает на пастбище, – высится харсанг, большая куча камней, которую сложили в знак благодарности те, кто приходили лечиться…
Слева от Дед-камня стоит домик, сложенный из скальных обломков. Рядом на траве был расстелен дастархон, лежали переметные сумы, не разобранные после дороги. На каменном очаге установлен большой котел, и Гул, пастух, шуровал в вареве шумовкой. Овцы паслись невдалеке на пологом склоне. Завидев меня, Гул поспешил навстречу.
– Хорошо, что пришли, муаллим. Неладные дела. Кто-то гонит сюда отару. Джав поехал посмотреть, кто такие. Что делать будем?
– Пойдем навстречу.
Мы спешно двинулись к верхнему, восточному краю. И вдруг из-за среза возвышения, ограничивающего пастбище, вылетел всадник. Это был Джав, наш чабан. Подскакав, крикнул, не сходя с лошади:
– Вазиронцы идут!
И тут из-за гребня выскочили три собаки. Наши псы молча ринулись к ним. Впереди летел Джангал, огромный алабай-волкодав без ушей и хвоста, за ним – молодой кобель. Наши псы встретились с чужаками, обнюхали взаимно друг друга и разошлись шагов на десять. Каждая стая отступила в сторону своей отары. Будь силы равны, начали бы драться. Но чужаки без драки признали превосходство наших собак. Джангал поднял ногу и помочился. Показал: вот граница моей территории, и сел охранять рубеж. Чужой вожак обозначил свою границу, за ней уселся его отряд.
Мы поравнялись с Джангалом, несущим стражу, и в это время на гребне показалась фигура человека, а вслед за ней – овцы. Отара сползала вниз по склону, как стекает густая патока, если накренить деревянное блюдо.
Человек, шагавший впереди овечьего гурта, был мне знаком. Это Ёр, пятидесятилетний мужик, силач, богач, прямой праправнук Подшокула, того самого Торбы. Удивительно, что столь богатый и уважаемый человек шел со стадом как простой пастух.
– Здравствуй, Ёр, – крикнул я.
– Ва-алейкум, – мрачно ответил Ёр и продолжал шагать, пока не остановился прямо передо мной.
– Уйди с дороги.
– Не спеши, Ёр, – сказал я. – Давай поговорим.
– Говорить не о чем. Гони с нашей земли своих баранов. Тех и этих, – он кивнул на нашу отару, затем на чабанов, стоящих рядом со мной.
– Мы не бараны! – крикнул мой племянник Ибод. – Это вы – навозники, конскую мочу пьете.
– Уйми щенка, – угрожающе произнес Ёр.
Тем временем стекающая по откосу отара захлестнула нас, и мы оказались как бы на островке среди блеющего потока. Подоспели вазиронские чабаны и встали рядом с Ёром. Он вел с собой целое войско. Человек десять, не меньше. Был меж ними, как на беду, несчастный Малах, немой от рождения. Говорить он не умел, только мычал. Овцы и собаки хорошо его понимали.
– Это наша земля, не ваша, – сказал я.
– Испокон веков была нашей, – сказал Ёр.
Немой неистово загугукал, размахивая пастушьим посохом.
– Эта наша земля, – повторил Ёр. – Голодранец Саид-бедняк подло отобрал ее и отдал вам, талхакцам. Но нынче, хвала Аллаху, настало время справедливости…
Я понял, к чему он клонит. Три месяца назад власть над всеми кишлаками каньона Санговар захватил полевой командир Зухуршо. Взял он в жены девушку из Верхнего селения, и сила перешла теперь на сторону соседей. Но я не сдавался. Обернулся и указал на нижний край пастбища:
– Ёр, посмотри, где лежит камень. Сам Бог его положил, чтобы люди знали: отсюда начинается пастбище Талхака.
– Голову не морочь, – ответил Ёр. – Всевышний положил камень, чтобы закрыть вам дорогу на эту землю.
Я сменил тактику:
– Нет, Ёр, наши и ваши деды понимали этот Божий знак по-иному: в справедливости будьте тверды как камень. Давай вернемся к дедовским заветам, будем пасти поочередно. На этот раз мы пришли раньше вас. Право первенства за нами. Если не согласен, соберем стариков из обоих кишлаков, пусть рассудят очередность. А не то разделим пастбище на две половины – и нам, и вам. На целое лето не хватит, но что-нибудь придумаем.
Я не хотел столкновения. Человеческая неразумность была виной тому, что началась стычка.
– Ёр, что с ними говорить! – загалдели вазиронцы. – Дурака словом не проймешь, камня гвоздем не пробьешь.
– Пробьем! Мы всегда их били.
Это неправда. В прошлых войнах из-за пастбища иногда мы вазиронцев побивали, иногда они нас.
– Вы, талхакцы, охочи до чужого! – кричали вазиронцы.
– И жены ваши за чужим кером охотятся…
Немой Малах тоже не молчал. Мычал и замахивался палкой. Один Бог знает, что он хотел высказать. Может быть: «Братья, разойдемся с миром».
Напротив немого стоял Ибод, мой племянник. Бедный парень – опять новая несправедливость, новое унижение: отняли овец, теперь отнимают пастбище. Немой вновь замахнулся, Ибод не выдержал, кулаком ударил его в лицо.
– Зачем бьешь?! – закричали вазиронцы.
Но сражение еще не началось. Немой от удара отшатнулся, утерся левой рукой, увидел на ней кровь, замычал, перехватил палку покрепче, размахнулся и шарахнул Ибода по голове. Пастушьи посохи из кизила закаляют в огне, мажут маслом и долго держат на солнце, отчего они становятся твердыми, как железо. Ибод упал.
– Эй, чего творишь?! – закричали наши.
Я убеждал себя, что надо во что бы то ни стало избежать драки, и крикнул Ёру:
– Останови своих, а я уйму наших.
Он презрительно хмыкнул и с силой толкнул меня в грудь. И мгновенно сзади выпрыгнул Джангал и вцепился ему в руку. Ёр попятился, запнулся, упал. Джангал молча встал над ним, не выпуская руки из пасти.
– Э-э, пес! – заорал я.
Джангал отпустил Ёра. Немедленно на нашего пса бросился чужой вожак. Волкодавы сцепились в схватке. Овцы шарахнулись в стороны, освободив место для боя.
Лишь тот, кто не знаком с животным миром, считает, что овцы – тупые создания, равнодушные ко всему, кроме корма. На самом деле они очень любопытны и предаются зрелищам с тем же бескорыстным интересом, что и люди. Столпившись вокруг, они наблюдали, как бьются собаки и люди.
Вазиронцев было много, нас мало. Они одолели, мы отступили. Мы отбежали шагов на десять и приостановились. Вазиронцы погнались было вслед, но тоже встали. Овцы продолжали глазеть, как, визжа и рыча, дерутся собаки. Я оглядел наших ребят и спросил, тяжело дыша:
– Где Ибод?
Потом собачий клубок откатился в сторону, я увидел Ибода. Вернее, его спину, видневшуюся из травы. Я пошел к парню. Поднял обе руки вверх и закричал:
– Сулх! Сулх! Мир!
Вазиронцы смотрели на меня с ненавистью. Ёр сидел на земле, держась за укушенную руку.
– Куда идешь? – сказал он. – Тебе в другую сторону надо, с пастбища долой.
– Там Ибод, мой племянник, лежит.
– Поднимется.
Но пропустил. Я подошел к Ибоду. Бедный юноша лежал ничком, уткнувшись лицом в куст жгучего югана. Я перевернул племянника на спину и увидел, что он мертв. Меня охватил гнев, я сел, сжал голову руками. И только когда почувствовал, что могу владеть собой, встал и пошел к вазиронцам. Ёр по-прежнему сидел, завернув до плеча рукав чапана. Один из пастухов, присев на корточки, накладывал на рану размятые листья подорожника. Немой Малах держал наготове полосу ткани, оторванную от подола рубахи.
Я сказал:
– Ёр, вы человека убили. Сына моей сестры.
– Он первым ударил, – ответил Ёр.
На меня он не смотрел – опустив глаза, следил, как немой неловко накладывает повязку. Я был не в силах тут же отомстить вазиронцам за смерть Ибода, но был обязан позаботиться об отаре.
– Дай-ка мне, – я присел, размотал тряпку на руке Ёра и начал бинтовать заново. Справедливости нет в этом мире. Приходится лечить врага, чтобы его задобрить. Говорят: врага убивай сахаром. – Ёр, разреши оставить овец, отвезти покойного домой. Ты мусульманин, позволь достойно похоронить человека…
Ёр опустил рукав на повязку.
– Заприте отару в загоне. А после похорон – долой с нашего пастбища.
Мы отнесли тело Ибода к камню, завернули в кошму, перекинули через седло и повезли в Талхак.
К полуночи мы с Джавом, который вел лошадь под уздцы, вышли на крутой спуск, ведущий к кишлаку. Сердце всегда радуется, когда ночью спускаешься с гор и видишь: внизу в теплой домашней темноте рассыпались огоньки. Оттуда поднимаются сладкие запахи дыма, коровьего кизяка, соломы. Кишлак дремлет в ущелье, как дитя в утробе. Но сейчас меня не утешал даже вид родного селения. Как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод:
Отраднее влачить сундук с песком в пустыне,
Чем матери нести весть скорбную о сыне.
По темным улицам мы добрались до дома, где живет моя сестра Бозигуль, и остановились у калитки в заборе.
– Дядя Сангин! Эй, дядя Сангин! – закричал Джав.
Мой зять Сангин вышел в портках и длинной рубахе, неподпоясанный, с керосиновой лампой в руке. Увидел меня, хитро ухмыльнулся:
– Эх! Я думал, бык забрел, мычит… Оказалось – шурин. Наверное, по той русской белой женщине соскучился? Ночью, чтоб никто не видел, пришел.
Я молчал.
– Не угадал? – продолжал Сангин. – Может, пару совхозных баранов тайком зарезал? Одного мне привез.
Он шагнул к лошади и протянул лампу, чтобы разглядеть сверток, перекинутый через седло. Я крепко обнял его и сказал:
– Сангин, брат… это Ибод.
Он окаменел под моими руками. Слабо прошептал:
– Плохая шутка, брат. Нельзя так шутить.
Я обнял его еще крепче. Он простонал:
– Богом клянусь, этого не может быть!
Я сказал:
– Брат, Аллах лучше знает.
Он выронил лампу, стекло разбилось, огонь погас. Сангин обхватил меня, прижался лбом к моему плечу и заплакал. Что я мог ему сказать? Чем утешить? Сангин поднял голову:
– Как он умер?
– Вазиронцы его убили. На большом пастбище.
Я ощущал, как напряглись его мышцы. Он грубо и злобно сжимал меня, как борец противника, но я понимал, что борется он со своей яростью. Сангин оттолкнул меня, подошел к калитке, распахнул и сказал буднично:
– Заводите.
Джав потянул за узду, завел лошадь во двор. Мы начали развязывать шерстяную веревку, которая притягивала тело Ибода к седлу. Сангин, скрестив руки на груди, смотрел, как мы работаем. Из дома высунулся малыш, младший сын моей сестры, которого все называют Воробышком, и подбежал к Сангину:
– Дадо, а что это? Что нам привезли?
Сангин словно не слышал. Стоял как каменный. Воробышек нетерпеливо дернул его за полу:
– Эй, дадо! Что привезли?!
Сангин опустил глаза, погладил малыша по голове.
– Беги, приведи мать.
Воробышек побежал в дом, то и дело оглядываясь. Мы сняли сверток с лошади. Сангин сказал:
– Кладите, – и указал место посреди двора.
В этот миг я услышал вопль, который ожег сердце, как огнем. Кричала моя сестра Бозигуль. Она вышла из дома, увидела Ибода, лежащего на попоне. Бросилась к сыну, приникла к телу и вопила без слов, как раненый зверь. Все женщины, бывшие в доме, – старая мать Сангина, сестра, жена его брата, две дочери, – выскочив во двор, завыли:
– Ой, во-о-о-ой! Вайдод!
На крик во двор Сангина, как бывает всегда, когда в чей-то дом приходит смерть, начали собираться ближние соседи, рыдая и спрашивая:
– Как умер бедный Ибод?
И Джав объяснял:
– Вазиронцы его убили. Большое пастбище отобрали…
Весть об убийстве пронеслась по всем улицам. Вскоре явились уважаемые люди: мулло Раззак, раис, Гиёз-парторг, сельсовет Бахрулло, престарелый Додихудо… Мужики сбежались – Шер, Дахмарда, Ёдгор, Табар, Зирак, хромой Забардаст и другие, – столпились у забора в мрачном молчании. Многие не поместились и с темной улицы заглядывали в освещенный керосиновыми лампами двор. Сангин время от времени оглядывал приходивших, будто чего-то ждал. Мулло Раззак подошел к моей сестре, сказал мягко:
– Закон не велит слишком сильно горевать по ушедшим. Это грех. Нельзя Божьей воле противиться.
Женщины подоспели, оторвали мою сестру Бозигуль от Ибода, отвели в сторону. Бозигуль ударила себя по лицу, разодрала ногтями щеки, разорвала ворот платья. Мой шурин Сангин вышел вперед и, став над телом, закричал:
– Люди, посмотрите на моего сына! На мертвого посмотрите. Вы знаете, кто его убийцы. Позволим ли, чтобы вазиронцы убивали наших детей? Мужчины мы или трусы?!
Мужики, столпившиеся вне двора на темной улице, вспыхнули, как солома от искры:
– Месть! Месть!
– В тот раз Зирака покалечили, теперь Ибода жизни лишили!
– Прогоним их с нашего пастбища.
– Война!
Мы, горцы, мирный народ. Возделываем скудные поля, пасем скот и терпеливо покоряемся произволу властей. Но когда несправедливость перехлестывает через край, в нас вскипает кровь предков, прогнавших с наших гор солдат Искандара Зулкарнайна, Александра Македонского. На чужое не заримся, но за себя постоять способны. Старые люди еще помнят, как во время войны – не этой, нынешней, а прошлой, которую теперь называют борьбой с басмачеством, – к нам прислали отряд милиции, чтобы подавить волнения. И вновь показал себя характер горца, как об этом рассказывает стих:
Страна Дарваз – ущелье меж гор, для битвы нет здесь мест,
И у людей с изначальных пор ни ружей, ни сабель нет.
Но однажды из горной страны Шугнан пришел милисы? отряд.
В топоры и лопаты их встретил народ, бил их и стар, и млад,
И милиса?, не в силах терпеть, ночью бежали назад.
Правду скажу: и меня захлестнула жажда мести. Бедный Ибод! Я любил покойного мальчика и не мог смириться с его гибелью. Гнев и боль жгли сердце…
Престарелый Додихудо поднял вверх посох, показывая, что хочет говорить. Крики постепенно смолкли.
– Мы не знаем, как умер покойный Ибод, – сказал Додихудо. – Намеренно его убили или случайно? Не знаем, кто лишил его жизни. Пусть Джоруб нам расскажет.
Медленно, с усилием заставляя себя произнести каждый звук, я сказал:
– Глухонемой Малах его ударил… по Божьей воле вышло, что удар… оказался слишком сильным… Это была случайность. Немой не хотел убивать…
Мой шурин Сангин яростно зарычал, будто сделался немым, неспособным выразить чувства. Я понял, что он никогда не простит мне слова, умаляющие вину убийцы. Но я не мог солгать.
– Вы слышали, что сказал Джоруб, – возвысил голос престарелый Додихудо. – Вазиронцы не виновны в смерти покойного Ибода.
Простодушный Зирак, стоявший рядом, спросил удивленно:
– Почему так говоришь? Разве Малах не в Верхнем селении живет? Разве их община не должна за него ответ держать?
Престарелый Додихудо пояснил:
– Да, глухонемой в Вазироне родился, но он неполноценный. Никто не знает толком, девона? ли Малах, безумен он или смышлен. Лишенный слуха и голоса, он стоит ближе к животным, которых Аллах не наградил даром речи, чем к людям. А потому вазиронцы за него не в ответе, как если бы покойного Ибода загрыз пес.
Народ призадумался, вслух обсуждая слова Додихудо, а вперед выступил мулло Раззак:
– Мы не можем знать, кто направил руку Малаха. Если Аллах, то обязаны смириться с его волей.
– А если Иблис, шайтон?! – крикнули из толпы.
– Тем более, – сказал мулло, – тем более нельзя поддаваться страстям. Шайтон всегда стремится подтолкнуть людей к безумию и ненависти. Успокойтесь и расходитесь по своим домам. Пусть несчастный Сангин и его семья приготовят покойного к погребению.
– Пастбище! Как с пастбищем быть?! – закричали в народе.
– Терпение, – сказал престарелый Додихудо. – Не зря говорится: «Потерпи один раз, не будешь тысячу раз сожалеть». И еще говорят: «Торопливая кошка родила слепого котенка». Не будем спешить. Завтра попробуем договориться с вазиронцами. Как-нибудь решим этот вопрос…
Наверное, он был прав. Мне пришлось нехотя это признать.
Еще немного, и холодная рассудительность погасила бы пламя общей ярости. Но из темной толпы за забором в освещенный двор выкарабкался Шокир по прозвищу Горох, черный, скособоченный на одну сторону, как корявый куст, выросший на боку отвесной скалы. Он проковылял к телу Ибода и неистово прокричал:
– Что толку болтать зря?! Речами за кровь не отплатишь. Словами землю не вернешь. Не станем утра дожидаться, сейчас выступим! Кто мужчина – с нами идите. У кого какое оружие дома есть, возьмите, к мечети приходите. Фонари захватите. Биться будем. Война!
Так он вновь раздул искру гнева, которая тлела в народе. Никто в этот раз не стал над ним насмехаться. Никто не подумал, что к битве призывает хромоногий, который сам биться не в силах. Не задумались о том, куда он зовет – на пастбище или в Верхнее селение, а также о том, что идти куда-либо ночью не только неразумно, но и бессмысленно. Когда вспыхивает огонь, горит и сухое, и сырое. Мужики закричали:
– Офарин! Правильно сказал!
– Баракалло!
– С Божьей помощью воевать будем.
Некоторые уже повернулись, чтоб бежать за оружием и фонарями, когда вперед вновь вышел престарелый Додихудо. Народ вновь остановился, крики смолкли.
– Крови хотите? – негромко спросил престарелый Додихудо в наступившей тишине. – Будет кровь, много крови… В другое время мы, наверное, смогли бы вазиронцев одолеть, за кровь Ибода отомстить. Но сейчас в нижнем селении, в Ворухе, боевики Зухуршо стоят, а сам Зухуршо на дочке Ёра из Верхнего селения женат. Как думаете, позволит он, чтоб мы его тестя обидели? Нам не отомстит ли? Кровью Талхак не зальет ли?
И столь же негромко ответил ему Шер, совхозный водитель, который стоял в головах покойного, скрестив руки на груди:
– Не о мести речь. О чести.
Престарелый Додихудо возразил:
– Речь о том, чтоб людей зря не погубить. Уступить обстоятельствам – не бесчестье.
– Да, такова мудрость стариков, – сказал Шер. – Мы же…
Додихудо не дал ему договорить:
– Кто дал тебе разрешение осуждать эту мудрость?! Ее наши предки нам передали. Отцы и деды единственно благодаря ей выжить сумели…
– Мы так жить не хотим, – сказал Шер. – Отцы и деды скудно жили, во всем уступая, всем подчиняясь. Это мудрость слабых. Другое время пришло. Время сильных.
С улицы, из темноты, его поддержали молодые голоса:
– Шер правильно говорит!
– Не хотим!
– Нельзя чести лишаться, – сказал Шер. – Несправедливость нельзя прощать. Если мы сейчас вазиронцам наше пастбище без боя отдадим, то покажем, что мы слабы. Слабых любой может ограбить. Сначала пастбище отберут, потом…
– Все, что захотят, отнимут! – выкрикнул за воротами какой-то юнец.
– За женами, невестами придут! – крикнул другой.
И во двор постепенно, один за другим, просочились молодые неженатые парни – Табар, Ёрак, Сухроб, Дахмарда, Паймон, Динак – и встали позади Шера.
– Завтра, когда рассветет, соберем молодежь, возьмем оружие, какое есть, и пойдем на пастбище, – сказал Шер. – Прогоним вазиронцев, поставим караул.
– Зухуршо… – начал престарелый Додихудо.
Шер, не дав ему договорить, воскликнул запальчиво:
– Трусость! Мы…
Но и он не сумел закончить.
– Щенок! – гневно крикнул раис. – Невежа, хайвон, животное! Почему старшего перебил?! Кто тебя учил?! Себя и своего отца опозорил.
Шер повинился, хотя и с достоинством:
– Извините, муаллим. Пожалуйста, извините. Я невежливым быть не хотел, непочтительность невольно проявил, вашу речь прервал. Собирался только сказать, что Зухуршо в наше ущелье мы не пустим. В узких проходах завалы, засады устроим, он не пройдет.
Додихудо покачал головой:
– Даже если враг с муху, считай, что он больше слона.
Шер не ответил, лишь сказал:
– Завтра, – и двинулся со двора.
Молодежь потянулась за ним, но престарелый Додихудо встал у выхода и раскинул руки, преграждая путь:
– Мы, старики, запрещаем! Не даем разрешения начать войну.
В недавние времена ни одна душа не осмелилась бы молвить хоть слово поперек. Сейчас толпа на улице взорвалась криками:
– Война!
– Сдурели? Против стариков идете!
– Война всех погубит!
– Сколько терпеть можно?! Война!
– Прав Додихудо!
И послышалась в общем гомоне возня, предвещающая начало драки. Тогда мулло Раззак, отошедший прежде в сторону, вышел на свет и поднял руку.
– Мулло! Мулло дайте сказать! – крикнул кто-то.
Не сразу, но народ затих. Мулло сказал:
– Коли нет меж вами согласия и даже стариков не слушаете, то спросим у святого эшона Ваххоба. Как они решат, так и поступим.
Все загомонили, соглашаясь.
– Уважаемых людей пошлем, – сказал мулло.
– К эшону! – завопил Горох, вырвал из рук Джава фонарь и вознес над головой. – Для народа я на все готов. Почтенным людям путь освещать буду.
И усмехнулся хитро: ловко, дескать, примазался к делегации.
В народе заворчали:
– Не дело это – Шокира к святому эшону допускать.
Однако из уважения к покойному Ибоду не стали затевать свару над его телом.
Отправились мы в путь – раис, престарелый Додихудо, Гиёз-парторг, Шер и я. Шокир ковылял впереди, как легендарный герой с факелом, ведущий за собой народ. И я, выплыв на миг из глубины своего горя, невольно усмехнулся: наш Шокир – к каждой чашке ложка, к каждой лепешке шкварки. Да только ложка кривая, а шкварки прогорклые. То ли родился таким, то ли судьба искривила после того давнего случая…
Шокир в то время учился в Душанбе, приехал домой на каникулы. Мать сварила похлебку из гороха, его любимую, он наелся до отвала, пошел на вечерний намоз. Молиться начальство запрещало, мечети в Талхаке не было, но люди собирались в алоу-хоне, доме огня. Шокир, как все, расстелил молитвенный коврик, стал совершать ракаты. Едва согнется, как сзади кто-то шепчет: пу-у-у-уф. Коснется пола лбом, а сзади: фу-у-уф. Сначала тихо, затем все громче. Уже ворчит: хр-р. Рычит: др-р, др-р-р! Соседи отодвигаются, да отодвинуться некуда. Ни дыхнуть, ни захохотать. В мечети смеяться – грех. А бедняга Шокир до конца намоза наружу выбежать не мог. И зловонное рычание сдержать был не в силах. С тех пор и прозвали его Горохом.
От позора сбежал он из Талхака и пропал. Даже на похороны отца и матери не приезжал. Никто не знал, где он жил, чем занимался. Когда война началась, как щепка с крыши упала: Шокир вернулся. Хромой, без чемодана, без узелка, в том же старом костюме, в котором и по сей день ходит. Что с ним приключилось, от какой беды прятался – кто ведает? Наверное, совсем некуда было скрыться, раз в Талхак приехал. На пустое место. Сестры замужем, в доме отца дальние родичи-бедняки живут. Они его и приютили. Кривой, злобный, он желчность свою вначале не выказывал. Гордый человек, нищеты стыдился и искоса, с опаской в людей вглядывался – помнят ли?
Сейчас он ковылял по тропе впереди меня. Мы к тому времени миновали верхний мост через Оби-Санг и поднимались к святому месту – мазору. Я спросил:
– Шокир, зачем людей будоражил?
Как ни удивительно, он ответил искренне:
– Увлекся я, брат…
– Если этак поступать, никакого авторитета среди народа не будет.
Он остановился, опустил фонарь.
– Это вы, уважаемые, богатые, за свой авторитет дрожите. Шокиру терять нечего. Думаешь, сладко мне у вас? Живу как на зоне. Старики – как вертухаи. За каждым шагом следят. Куда идешь? Что несешь? Почему то сказал? Почему так сделал? А я зэком быть не желаю. Я, может, сам вертухаем стать хочу.
Удивили меня не мысли его, а жаргон.
– Ты разве и в тюрьме побывал?
– Сейчас срок тяну. Здесь, у вас…
Я поднял голову и указал на низкие звезды, крупные, как слезы счастья.
– Посмотри. Разве над тюрьмой может быть такое небо?
В ответ он буркнул:
– Убери людей, и это было бы лучшее место во всем мире.
Я подумал: «Бедный парень», а вслух сказал:
– Без людей даже горы мертвы.
Шокир скривился:
– Сбились вы в кучу, как бараны на заснеженном уступе, друг друга своим теплом греете. Почему меня внутрь не пускаете?..
Я не успел ответить. Спутники нагнали нас, Шер закричал снизу:
– Почтенные, отчего пробка на трассе?
Шокир без слов поднял фонарь, заковылял вверх по тропе.
Мазор возвышается над кишлаком на склоне хребта Хазрати-Хусейн. Поднимаясь к нему, чувствуешь, что приближаешься к святому месту. Деревья словно из другого мира прорастают – не такие, как повсюду. И в воздухе словно волшебная мелодия постоянно звучит.
Гробница святого Ходжи, предка нынешнего эшона, невысока, в мой рост. Над кубом из обтесанного камня высится купол. И, как всегда по ночам, поставлен на гробнице горящий светильник, древний чирог – плошка с фитилем, опущенным в масло. В жилище эшона, чуть поодаль от мавзолея, окна темны.
– Почивают, – молвил престарелый Додихудо нерешительно. – Для дневных забот сил набираются. Дозволено ли сон святого человека нарушать?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/vladimir-medvedev-11320766/zahhok-24305334/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Владимир Николаевич Медведев
Постсоветский Таджикистан охвачен гражданской войной. Убит известный врач, его семья вынуждена скрываться у родственников в горном кишлаке. Русская жена и дети-полукровки приноравливаются к местной жизни, в которой царят незнакомые им жестокие законы веками не меняющегося уклада. Одни и те же события показаны глазами нескольких участников – и у каждого из них свое особое отношение к происходящему, мотивы для ненависти и собственные границы человечности.
Роман «Заххок» – финалист премий «Русский Букер», «НОС» и «Ясная Поляна». Это многослойное переосмысление новейшей истории, звучащее одновременно и как философская притча, и захватывающий детективный боевик.
Владимир Медведев
Заххок
Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав
Издатель Павел Подкосов
Главный редактор Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта Ирина Серёгина
Художественное оформление и макет Юрий Буга
Ассистент редакции Мария Короченская
Корректоры Елена Сметанникова, Ольга Смирнова
Верстка Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© В. Медведев, 2024
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
* * *
Людмиле с любовью
1
Андрей
Налегаю на лопату и выворачиваю…
Ни хера себе! Череп.
Человеческий.
Присаживаюсь на корточки, разглядываю. Ни разу не видел мертвецов. Но это и не мертвец. Кость. Тыква с кривыми зубами и дырами для глаз. И все же жалость наглухо накатила. «Да, – думаю, – залетел кто-то по-черному. Убили, голову отрезали и во дворе закопали…»
Слышу:
– Чего сидишь?
Поднимаю голову. На краю котлована – пластиковые шлепанцы «найк». Из них босые пальцы торчат. Над ними пижамные штаны в полоску. Еще выше круглое брюхо. А совсем уж в вышине, в утреннем небе, – широченная байская ряха. Хакбердыев, хозяин. Вот этот, точняк, и убил. Двор-то его собственный.
Ненавижу таких гадов. Не хозяин он мне, я только пашу на него. Дом строю. А он таращится, будто я его собственность.
– Почему не работаешь?
– Череп нашел, – огрызаюсь. – Тут у вас что, кладбище?
Пялится, будто оценивает. И толкует этак важно:
– Знаешь, как говорят: под каждым следом коня зарыты две сотни глаз.
Мудрец, блин! Да эта пословица каждому в Таджикистане известна. До нас, типа, столько прошло поколений, что, где ни копни – везде лежит сто человек. Нашел себе алиби!
А он переспрашивает, вроде как с угрозой:
– Ты понял? – И пальцем указывает: – Это… сюда неси.
Терпеть не могу, когда приказывают. Я не бобик – прыгать из ямы с костью в зубах. Встал и швырнул череп баскетбольным броском. Он принял пас на удивление четко. Лишь глазом черным зыркнул:
– Работай давай… Копай.
Уходя, обернулся:
– Хорошо работай. Ты ведь Муродова сын? Смотри, хорошо землю копай. А то отца опозоришь.
И отвалил, шлепая «найками».
Я посмотрел-посмотрел, как он шествует по своей усадьбе, держа череп у бедра, будто мяч. «Ах ты, басмач, – думаю. – Да гори оно огнем!» Плюнул, вылез из ямы и пошел в дальний конец двора, где Равиль и Карл сколачивали опалубку под фундамент. Иду и прикалываюсь: пузо выпятил, шаркаю кедами, как хозяин шлепанцами. Подошел и кричу ребятам:
– Эй, почему медленно работаете? Плохо молотком стучать будете, секир-башка вам исделаим.
Равиль гвоздь в доску загнал, голову рыжую поднял и спрашивает:
– Что ты ему пульнул?
– Башку твоего предшественника – бугра, что старый дом строил.
В общем, рассказал про череп. Карл интересуется:
– Какой он? С мясом, с волосами?
– Гладкий.
Карл у нас в любой теме спец:
– Лет двадцать в земле лежит. Не меньше.
Равиль c ходу ввязался:
– Бери уж тысячу.
– Может, и столько. Почва сухая.
Равиль мне подмигивает:
– А миллион не хочешь? Андрюха, да ты первого человека откопал. Могилу святого Деда Адама нашел.
Карл пальцем у виска крутит:
– Думаешь, если Ватан – райцентр, значит, и рай здесь был?
Равиль языком цокает:
– Э-э, брат-джон, у тебя в голове, оказывается, совсем масла нет. Совсем не знаешь, где живешь. У нас все было. Райский сад был. Александр Македонский был. Товарищ Саидакрам Мирзорезоев из Совета министров тоже был. В центре мира живешь.
Это про наш-то зачуханный Ватан? Я его и райцентром не назвал бы. Даже в шутку. Свалил бы из него куда глаза глядят. Вот только податься некуда. В Россию вырваться – денег нет. А в Таджикистане второй год войнушка идет. И вокруг одни торгаши и бандиты.
– Слушай, – спрашиваю Равиля, – как думаешь, зачем он черепушку уволок?
– Кто?
– Ну этот… басмач… Хакбердыев.
– Спроси чего полегче. Может, похоронит. Националы любят хоронить, им Аллах за это грехи прощает.
– Нет, тут другое что-то. Зуб даю, хочет улику подальше спрятать. Он же бандит.
– Да ну! Просто торгаш.
– По мне, все торгаши – бандиты.
Равиль усмехается:
– Хорош мудрить, Андрюха. Иди трудись, ищи остальные кости.
– Хорош приказывать, – огрызаюсь.
Ну, блин, тоже мне большой начальник.
Рою и думаю: может, череп и впрямь древний, но этот-то, басмач, все равно – бандюга. С чего он гнусно лыбился? «Отца не опозорь». О чем это? Отец ведь тоже собирался что-то сказать. Вчера по Интернациональной иду, а он навстречу. Как всегда, в белой рубашке, отглаженных черных брюках. Гладко выбрит. Туфли блестят – будто только что из операционной. И с ходу:
«Андрей, сынок, надо эту работу бросать».
«А чего? Хорошая работа. На свежем воздухе. Физкультура. И деньги платят».
«Пред людьми неудобно. Говорить станут: доктор о своих детях совсем не заботится. Нехорошо. В моем положении…»
Так, да?! Я не стерпел:
«Мое личное дело, на кого работаю. А вы… вы не о нас… только о своем положении и думаете!»
Никогда прежде ему не грубил. Просто – я сам того не ожидал – обида наружу вылезла. Он ведь внимания не обращает на то, как я к нему тянусь. Будто нет меня. Кинет иногда пару слов мимоходом, как кость, и хорош. Я из-за этого раньше даже плакал по ночам. А теперь, когда его самого коснулось, то немедленно: «Андрюша, сынок…»
Да знаю я, знаю, что несправедливо на него окрысился. Не по делу. Он как-никак думает, заботится. И о матушке, и обо мне с Заринкой. Когда год назад началась войнушка, мы без него не выжили бы. Конечно, в поселке не стреляли, не убивали, но жрать-то было нечего. Матушке перестали платить зарплату в библиотеке. Националам легче – у каждого огород, родня в кишлаке. А у нас? Подохли бы с голоду, да отец поддержал. Это позже Равиль взял меня в бригаду…
Думал, отец рассердится. А он:
«Андрей, сейчас трудное время. На забывай, война идет. Надо быть очень осторожным. Ты еще многого не понимаешь. Знаешь, на каких людей работаешь? Они любой зацепке рады, лишь бы мне навредить».
«У меня даже имени не спросили…»
Но отец не слушал.
«Сейчас нет времени объяснять. Вечером…» – И отвалил.
Поговорили, называется, отец с сыном. Я ждал допоздна и еще больше обиделся. Выходит, и на этот раз – как всегда. Матушка тоже сердилась и переспрашивала:
«Так он сказал тебе, что придет?»
Она напекла пирожков с картошкой. Убеждена, он их любит. Я-то знаю: он картошку терпеть не может. Матушка укутала блюдо чистым полотенцем, чтобы пирожки оставались горячими. Но они все-таки остыли…
Рою и размышляю: что отец собирался рассказать? Сто пудов, про торгаша. Не зря спрашивал: «Знаешь, у кого работаешь?» А я сегодня череп нарыл. Одно к одному. Это же, блин, детектив! Если отец вечером опять не придет, то пойду к нему спросить, что он имел в виду. Хотя он не любит, когда без предупреждения. Вспомнил, и опять обида взяла.
Слышу, на улице за забором кто-то сигналит, будто ненормальный. И орет:
– Андрей! Эй, Андрей!
Вылезаю из ямы, подхожу к забору. Ну кто там еще? Белый фургон – скорая помощь. За рулем – черт худой, усатый, черномазый. Али, водитель больничный. Мы с ним вроде как кореша. Кричит из окна кабины:
– Андрей, садись быстро. Поехали!
Он всегда как на пожар. Всю дорогу одно: «быстро-быстро», «давай по-быстрому». А меня злость разбирает. Вчера отец времени для меня не нашел, а сегодня даже машину прислал. Бросай, сынок, дела и – к нему. Быстро-быстро!
– У тебя, – спрашиваю, – лед, что ль, в жопе загорелся?
– Братан, кончай базарить, – Али кричит. – Времени нет!
Ништяк себе заход.
– Ну ты, Эйнштейн, пространство-то хоть осталось? – спрашиваю.
С юмором у Али – всю дорогу проблемы. Не врубается.
– Эй, садись, говорю!
– А дальше что? Лекцию о времени прочитаешь?
– Отца твоего убили.
Я сначала не понял. Он по новой:
– Твоего отца! Убили!
Я понял, но не поверил, а когда поверил, время исчезло. И пространство, наверное, тоже. Пока я ехал, за ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворились и глухие глинобитные заборы на окраине поселка, и высокие тополя вдоль дороги, и пустые хлопковые поля, расстилавшиеся до дальних гор. Я будто оглох и онемел. Голос Али доносился до меня откуда-то со стороны, из другого измерения: главврач приказ дал… туда ехать… тело забрать… крюк сделал… за тобой заехал…
Остановились на краю какого-то солончака. Кучка людей. Рядом – черная волжанка. Я выпрыгнул из кабины. Люди оглянулись, расступились. Отец лежал на спине. На одежду, перепачканную грязью, налипли репьи, будто его волокли по земле. Кровоподтек на пол-лица.
Я будто ослеп. Не видел ближних холмов и дальних гор. Не видел стоящих вокруг. Видел только глубокую борозду поперек его шеи. Тонкую линию, прорезающую вспухшую плоть. Я будто оглох. Не слышал, как шуршит ветер. Не слышал, как шепчутся окружающие. Немного погодя разобрал, что рядом, но будто за какой-то стеной, говорят:
– Ну что ж, надо тело забрать.
Сначала я даже не понял. Захлестывало чувство страшной непоправимости. Меня будто на куски разрывало. И зовет кто-то. Меня. По имени. Озираюсь. Районный прокурор. Стараюсь понять, что он говорит.
– Большое горе, Андрей… Очень тебе сочувствую. Крепись…
Кивает Али:
– Давай, грузи.
Али распахнул задние дверцы фургона, выволок раскладные брезентовые носилки и разложил их рядом с отцом. Я очнулся:
– А следствие?!
– Дело трудное, – говорит прокурор. – Свидетелей нет. Очень трудное дело. Но разберемся. Следствие проведем обязательно.
Врет он! Никакого следствия не будет. У него это на морде лица написано большими буквами.
Я закричал:
– Почему следы затоптали?! Даже собака не найдет.
– Андрей, – мягко сказал прокурор, – собака в таких случаях не нужна.
Его глаза будто закрыты какой-то заслонкой. Как таджики говорят, на лицо ослиную шкуру натянул. Я огляделся. Следователя – его все в поселке знают – среди стоящих вокруг людей не было.
– Где следователь?! Где фотограф?
– Андрей, – сказал прокурор, – не учи меня, как надо работать.
– Почему не начинаете следствие?!
– Обязательно начнем. Проведем расследование, выясним… Обязательно, непременно.
– Ничего не выясните! Вы… все на тормозах спустите.
– Андрей, я тебя прощаю. Ты нехорошие слова сказал, но понимаю, что чувствуешь. Мне тоже горько. Твой отец моим другом был. Очень хорошим другом…
Но у меня от бешенства сорвало крышу, и я плохо соображал, что говорю.
– Не хотите следствие проводить, да? Мне самому, что ль, расследовать?
Прокурор перебил меня по-русски:
– Ты умный парень, не делай глупостей. Сам знаешь, время сейчас опасное. Не надо такие слова говорить. Пожалеешь.
– Угрожаете?
– Ты кто такой, чтоб я тебе угрожал?!
Прокурор жабры раздул, дерьмо из него так и поперло:
– Учишь, как следствие вести? Научись сначала со старшими разговаривать! Что ты вообще знаешь? Тебе брюхо распори, в нем и буквы «алеф» не найдешь… Ты как твой отец! Тот хоть людей лечил, оттого его и терпели. А тебя за что терпеть?!
Я окончательно взорвался:
– Отца терпели?! Если бы он вас не лечил, вы все бы передохли! От обжорства. Я сам найду, кто его убил! В поселке ничего не добьюсь, в Душанбе поеду. Пусть пришлют бригаду. Я ваш гадюшник разворошу. Я найду, кто…
Он глаза выкатил, смотрит на меня, будто сожрать хочет, но обуздал себя. Отвернулся. Скомандовал, ни на кого не глядя:
– Забирайте.
Никто даже не шевельнулся.
Меня трясло, но я не хотел, чтобы к отцу прикасались чужие. Нагнулся и подсунул руки под плечи отца. Посмотрел на Али… Он поколебался, подошел и неохотно взялся за ноги. Мы приподняли тело. Оно было очень тяжелым и прогибалось пониже пояса.
– Сафаров, помоги, – приказал прокурор.
Водитель прокурорский подошел, ухватился за ремень отцовых брюк и потянул. Мы подняли тело повыше. Голова отца откинулась назад. Мы подтащили тело к носилкам. Я постарался опустить его, чтобы голова не стукнулась о брезент. Вдвоем с Али мы взялись за ручки носилок, отнесли их к скорой помощи и задвинули в фургон. Я сел рядом с носилками. Скорая тронулась. Я придерживал отца, чтобы его не мотало на ухабах. Только тут я заметил на смуглых и крепких отцовых руках ссадины и синяки. Его держали. Он был сильным. Один человек с ним бы не справился. Их было несколько. Я гнал от себя страшные картины того. Не мог их вытерпеть. Гасил их, но они вспыхивали вновь и вновь.
Очнулся я, когда щелкнул замок. Али раскрыл дверцы.
– Брат, давай вынесем…
Я вытер сухие, без слез глаза и взялся за ручки носилок. Брезентовое ложе, лязгая нижними скобами, поехало по металлическим полозьям. К распахнутой скорой подскочили парни в белах халатах. Перехватили носилки, понесли.
Спрыгиваю на землю. Домик, беленный известкой, в глубине больничного двора. Морг. Люди у входа. Застыли неподвижно. Молча. Как тени. Отец на носилках уплывает в раскрытую дверь морга.
Вхожу. Комната какая-то. Отец лежит на высоком узком столе, покрытом клеенкой. По ту сторону стола – врачи. Перешептываются тихо. Один – впереди. Главврач. Остальные за ним, чуть позади. Как на утреннем обходе.
Отцу в лицо не смотрю. Не могу. Черные туфли покрыты грязью. Лезу в карман, достаю платок. Хочу, чтоб опять блестели…
Кто-то что-то говорит… Это главврач.
– Большое горе… но наш коллектив… надо проводить достойно… товарищ Шарипов займется…
Врач в белом ему на ухо шепчет. Главврач кивает:
– Да, товарищи, мы родственникам в кишлак сообщили. Они очень просили вскрытие не делать. Прокуратура тоже не возражает…
Чувствую чью-то руку на плече. Мама. Не услышал, как вошла. Она тяжело оперлась на меня. Замерла, глядя на отца. Я маму крепко обнимаю. Чтобы почувствовала, что я рядом. Что я с ней. Живой.
Мама глубоко вздохнула. Слегка повела плечами, высвобождаясь. Коснулась моей руки ласково: «Спасибо, я держусь». Еще раз вздохнула. Шагнула вперед, к столу. Постояла, глядя отцу в лицо. Поправила воротник рубашки, завернувшийся, измазанный грязью. Нежно провела пальцами по щеке отца. Подняла глаза на главврача.
– Я заберу его. Дайте мне, пожалуйста, машину.
Главврач изумился:
– Куда заберете?
– Домой.
Главврач на маму смотрит подозрительно.
– Зачем домой? Похоронить надо.
Мама будто не слышит.
– И если можно, скажите плотнику дяде Васе, чтобы сколотил гроб. Я заплачу.
Главврач допер наконец.
– Вера, вы нас обижаете… Мы сами похороним. Не беспокойтесь, сделаем как надо. Я тотчас пошлю санитаров рыть могилу. До вечера времени еще много…
Мама говорит ровно, без выражения:
– Он должен провести ночь дома.
Главврач хмурится. Знаю, что он думает. «Моя больница. Мой персонал. Я главный. Я начальник. Мне решать, как работать, как хоронить. Откуда русской женщине знать, как положено погребать? По нашему закону, не по русскому, не по советскому…»
Но вслух другое произносит:
– Вера-джон, национальные традиции тоже уважать надо…
Знаю, о чем он думает. «Что люди в поселке скажут, если позволю не по закону похоронить? Скажут, Хакимов совсем никакого авторитета не имеет. А может, Хакимов не знает, как правильно? Может, его не учили?»
Тот врач, что прежде ему на ухо шептал, опять шепчет. Главврач молчит, думает. Что шептун ему посоветовал? Что им известно такое, чего мы не знаем?! Главврач продолжает:
– Вера-джон… – Помолчал, на шептуна кивает: – Акмол Ходжиевич правильно говорит. Вы столько лет с покойным Умаром вместе жили… Его сын рядом стоит… Конечно, правильно будет, если вы сами его похороните…
Почему? Почему он легко уступил? И что шептун опять ему шепчет?
Главврач приказывает:
– Дядю Васю позовите.
Кто-то из врачей огибает стол, мимо нас проскальзывает. Все молчат. Мама вдруг спрашивает тревожно:
– Где твоя рубаха, Андрей?
– Какая рубаха?
– Почему ты голый?
Оглядываю себя: на мне нет рубахи.
– Не знаю…
– Почему ты раздет?! Что случилось? Где ты был?
– Я копал…
У мамы в глазах ужас:
– Копал?.. Что ты копал?!
– Мама, я на работе… Фундамент…
Она дух перевела. Какой-то странный, незнакомый жест у нее появился – рукой по щеке проводит, будто что-то с лица смахивает.
– Слава богу… Я подумала… Ах, не знаю… – И вдруг ни с того ни с сего: – Андрей, надо одеться.
– Во что?
– Не спорь со мной! Сейчас же оденься!! Ты слышал? Сейчас же.
– Мама!!!
Она будто опомнилась:
– Ах да, конечно…
Входит дядя Вася. Перекрестился. Слежу, как он разматывает складной плотницкий метр, и думаю, почему он измеряет стол, а не отца? Зачем берет так широко?
– Почему не записываешь? – строго спрашивает главврач.
– Голова-то пока на плечах. К вечеру сделаем, – буркнул дядя Вася и ушел.
Санитары перенесли отца назад, в скорую, Али завел двигатель, мама села рядом с ним, а я – в фургон возле отца, и мы повезли его к нам домой.
Дома мама велела мне разложить в большой комнате стол, за которым мы обычно обедаем, когда приходил отец. Али помог внести отца в дом и уложить на стол. Мама приказала нагреть воду в ведрах. Прилетела из школы Заринка, они с мамой обнялись и зарыдали.
Мама выгнала из комнаты нас с Зариной и сама обмыла тело. Хотел помочь, но она резко меня оборвала. Я только подтаскивал к закрытой двери ведра с горячей водой и выплескивал на улицу таз, который она выставляла.
Примчался Равиль.
– Пошли выйдем.
Мы вышли на крыльцо. Он зашептал:
– Куда ты полез? Камикадзе. Летчик, блядь, герой Гастелло. Надо было тихо-тихо промолчать. Затаиться, как Ленин в мавзолее. Тихо-тихо все разузнать. Матушку с сестрой вывезти. Кого надо, тихо-тихо замочить. И тихо смыться. Войнушка все прикроет. Так и батю твоего кончили.
– Кто?! Ты знаешь!
– Ни хрена я не знаю.
– Знаешь!
– За кого ты меня держишь? Кто я, по-твоему?! Шорох идет. И ничего конкретного. Первый день, что ли, в Ватане живешь? Бздит народ. Никто вслух не скажет. Шуршат разное…
– Кто? Хакбердыев, торгаш, да?
– Слушай, на твоего пахана многие зуб точили…
– Но почему?! Что он им сделал?!
– Андрюха, уезжать надо. Вам теперь в Ватане не жить.
– С места не двинусь, пока не разберусь.
– Псих, замочат же. Думаешь, одного тебя? Всех троих порешат, и ни одна собака не пикнет.
– Некуда, Равиль. Некуда. И денег ни копья.
Он кулаком о перила:
– Вот засада! – Потер лицо ладонями. – Андрюха, я у Хакбердыева аванс попрошу. Ты не приходи. Вообще, сиди дома как мышка. Похороните и втихаря слиняете.
– Я матушке еще ничего не говорил. Она не знает.
– Тебя, дурака, не жалко. Матушку твою и сеструху жаль. Распустил, блядь, язык… Напугал старушку толстым хером. Да им по барабану – что в Душанбе жалуйся, что в Москву, что в Париж. Но они не прощают. У нас и за меньшее убивали.
Опять – они. Знает он, татарин ушлый, знает!
– Равиль, как брата прошу, кто?
– Хорош геройствовать. О матери, о матери думай… Ну ладно, Андрюха, держись. Если что, кликни – я сразу… Сейчас бежать надо, извини. Завтра с утра я у тебя. Как штык. Отпросимся с Карлом у кровососа. Не отпустит – долбись он конем, сами уйдем.
Обнял меня, лбом ко лбу прислонился и убыл. Я не в обиде. Знаю, остался бы, если б мог.
Наконец мама выложила в коридор груду мокрых простыней и поставила пустые ведра. Когда она позвала нас, отец лежал на столе со сложенными на груди руками, одетый в териленовый костюм, который обычно висит у нас в шифоньере. Воротник рубашки был поднят, уголки зашпилены булавкой, чтобы скрыть рубец на шее. Стол накрыт нашей лучшей, праздничной скатертью. Не представляю, как мама одна управилась.
Она сидела у отца в головах, опустив лоб на стол.
– Дети, вы, наверное, проголодались. Зарина, приготовь для вас что-нибудь, – сказала, не поднимая головы.
– Мам, мы не хотим, – Зарина подошла к маме и крепко обняла.
– Андрюша, поставь стулья для себя и Зарины, – сказала мама. – И принеси с кухни свечи.
Я пододвинул два стула. Зарина присела, не разжимая объятий.
Входная дверь раскрыта настежь. Заходили поглядеть соседские женщины. Пару раз я выходил на крыльцо и видел, что какие-то незнакомые парни слоняются вокруг нашего дома. Один бес заглянул из коридора в комнату.
– Чего надо? – спросил я грубо.
Он покосился злобно, но ушел.
Немного погодя дядя Вася привез громадный гроб, обитый черным сатином. Они с Али внесли сначала домовину, затем крышку. На крышке – крест из белых матерчатых полос. Мама сухо спросила:
– А крест зачем?
– Вы ж вроде эт самое… по-нашему будете погребать…
Мама глянула на него как-то странно и отрезала:
– Нет, не по-нашему.
Дядя Вася озадачился:
– И то правда. Покойник-то некрещеный. Мне бы раньше сообразить… Что ж теперь? Снимать? А то, может, оставим? Хоть и не нашей веры, а все же…
– Какая теперь разница, – сказала мама. – Если хотите, оставьте.
Дядя Вася обрадовался:
– Так-то оно лучше. Все на том свете полегче придется. Может, за своего примут, если с крестом. Глядишь, там с ним и встретитесь…
– Нет, – сказала мама. – Теперь уж никогда.
Мы установили гроб на две табуретки, перенесли в него отца и водрузили на стол. Они уехали. Начало темнеть. Я закрыл входную дверь и задвинул засов. Хотел зажечь свет, но мама сказала: не надо. Лампочку она оставила только в коридоре, а большую комнату освещали четыре свечи на столе, по две с каждой стороны гроба. В темноте огоньки казались очень яркими. Мы сидели у стола. Внезапно погасла светлая полоса, которая падала в комнату из коридора.
– Опять отключили электричество, – мама загасила две свечи. – До утра, наверное, не хватит…
Я подошел к наглухо закупоренному окну. Мама сказала, что нельзя, чтоб сквозняк, – от него лицо темнеет. У соседей светились окна. Значит, не в поселке отключили, а у нас какая-то сволочь отрезала… И вдруг к стеклу, с той стороны, прилипли три расплывчатые рожи. Уверен, те же бесы, что днем бродили вокруг. Лиц не различить. Да я и запомнил-то лишь того, что совался в комнату. Опустил шторы. Они погалдели и затихли. Ушли?
Я тайком принес из кухни топор и незаметно пристроил возле ножки моего стула.
Мама вдруг начала напевно, но как-то нерешительно:
Закатилось ясно солнышко,
Догорели светлы звездочки,
Провожаю твою душеньку
В дальний путь за темну реченьку.
Потом громче. Уверенно и будто забывшись:
Пусть идет она по бережку,
Переходит вброд по камешкам,
Пусть плывет чрез воды чистые
На заветную ту сторону.
Она его провожала. Я не знал, как проститься. Не верил, что больше с ним не увижусь. Гроб мы зароем, а когда-нибудь – не сегодня, не завтра – я увижу, как идет он по улице в отглаженной рубахе и начищенных до блеска туфлях, будто только что вышел из операционной, и, может быть, нам удастся поговорить. И я смогу все ему сказать…
Там забудешь муку смертную,
Позабудешь нас, оставшихся.
Мама вздохнула:
– Ах, глупости это…
Мы сидели, молчали, я прислушивался, но за окнами пока было тихо.
– Идите поспите немного, – сказала мама. – Завтра трудный день.
– Мам, мы не хотим, – сказала Заринка. – Я с тобой посижу.
– Иди, иди… Ты совсем измучена. И еще… мне хочется побыть с ним наедине. Поспи часок.
Зарина молча мне кивнула, мы зажгли свечу и вышли на кухню.
– Папа любил здесь сидеть, – сказала Зарина. – Мама, когда он приходил, всегда в большой комнате накрывала. А ему на кухне нравилось.
– Откуда ты знаешь?
– Он мне сам сказал.
– Конечно! Ты же его любимица! «Ай, Зариночка, моя девочка». С тобой-то он разговаривал.
– Как тебе не стыдно! Он тебя любил. И его все любили.
Как же! Всеобщий любимец! Я-то видел – матушка приводила нас в больницу, когда мы болели, – как вокруг него вьются медсестрички. «Ах, Умар Мирбобоевич!» «Да, Умар Мирбобоевич!» Даже мне перепадало: «Ах, Андрюшечка, ах, Умара Мирбобоевича сынок. Ах, какой симпатичный – весь в папочку». На матушку, понятно, – ноль внимания. Будто ее и нет. Он и жил-то отдельно от нас, в своей квартире. В двухэтажках. Кочевал то от нас к себе, то от себя к нам. Когда он у нас не ночевал, матушка нам объясняла: «Срочная операция. Ночное дежурство». Это я, когда подрос, стал догадываться, что за ночные дежурства. Иногда, конечно, на самом деле дежурил. Не знаю, почему он нас не бросил. Все же верным был. Как-то в нем сочетались ветреность и постоянство. Да и второй такой русской женщины, как наша матушка, в Ватане днем с огнем не сыщешь…
Я сказал:
– Да, точняк, любили! Залюбили до смерти.
– Уважали и любили. По-настоящему… А ты… ты будто папу осуждаешь.
– Мы же о нем ничего не знаем.
– Это ты не знаешь! Я все знаю.
– Ну тогда расскажи, почему его убили… Ты хоть слышала, с кем он дружбу водил? Со свиньями жирными, с прокурорами, торгашами… Какие у него с ними были дела? Расскажи! Ты же все знаешь! Или, может, он с чьей-нибудь женой…
– Дурак! – крикнула Зарина. – Не смей плохо говорить о папе!
Вскочила и ушла. Заперлась в своей комнате. Я вернулся к отцу и вновь погрузился в темноту и неподвижное время.
Свечи догорели. Я зажег две новые и вдруг услышал, что к нашему дому подъезжает машина. Грузовик. Остановился. Хлопнули дверцы. Голоса. В дверь громко постучали. Началось!
Мама подняла голову, проговорила устало, рассеянно:
– Открой, Андрюша.
– Мама, подожди! Я должен тебе рассказать…
– Не сейчас… Иди и узнай, кто это.
– Мамочка, не надо! Понимаешь, сегодня, когда… Ну, когда я туда приехал…
– Андрей, прекрати. Ты же слышишь, кто-то пришел…
Постучали опять. Она нетерпеливо встала.
– Я сама открою.
И пошла со свечой, прикрывая ладонью пламя, чтоб не погасло.
– Мама, не отпирай!
Я схватил топор, выскочил в коридор и заслонил ей дорогу.
– Это пришли… за нами…
– Почему за нами? К нам.
В дверь опять постучали. Громче и настойчивей.
Я крикнул:
– Нас убить!
– Андрюшенька, я понимаю… На тебя такое свалилось. На всех нас… Теперь тебе чудятся всякие страхи…
– Мама, выслушай же меня!
Стук. Пока только стучат. Потом начнут ломать.
– Отойди, Андрей, – сказала она строго. – За дверью ждут.
Я выкрикнул:
– Кто ждет?! Да ты знаешь, кто?!
– Милиция… Телеграмма…
Она протянула руку, чтобы отодвинуть меня. Я уперся.
– Андрей! Господи, да что с ним творится?
Гневно и раздельно:
– Сей-час же про-пусти! Драться с тобой прикажешь?
Я понял: она не отступится. И слушать не станет.
– А ну-ка, марш с дороги!
Ненавижу это слово! Марш спать. Марш мыть руки. А ну-ка, марш делать уроки. Всю жизнь одно и слышу: марш, марш, марш. Я что, солдат? Кукла, чтоб она меня дергала за веревочки? И все равно: дернет – я делаю. Да гори оно огнем. Марш, да?! Так точно! Слушаюсь! Служу Советскому Союзу! Назло врагам, на счастье маме… Я четко развернулся на сто восемьдесят градусов.
– Андрюшка, не открывай! – крикнула Заринка.
По-любому ничего не изменишь. Прятаться бесполезно. Подожгут дом. Вышибут дверь. Выбьют окна. Лучше сразу. Лицом к лицу. Заслоню. Положу, сколько смогу… Я шагнул к двери. В правой руке – наготове топор. Левой откинул в сторону засов…
– Что ты делаешь! – закричала Зарина.
…и распахнул дверь. На пороге стоял отец.
Меня как током ударило. В голове загудело и затрещало, словно включился мощный трансформатор. Топорище выскользнуло из ладони, и топор глухо стукнул об пол где-то далеко внизу, в подземном мире. Меня бросило к отцу – обнять (я не обнимал его много лет – с тех пор, как вырос), но страшная тяжесть удержала на месте. Я не мог шевельнуться. Просто стоял и смотрел. Я знал, что он вернется! Тело, что лежит на столе позади, за моей спиной, в темной комнате со свечами, – это не отец. Кто-то чужой, незнакомый. А сам он – передо мной, на крыльце. Живой. Я с самого начала был уверен, что это случится. Не ждал, что сегодня.
Фары грузовика, что стоял на улице перед нашим домом, светили отцу в спину. Одет он был в легкий чапан из бекасаба, который всегда надевал у себя дома. Блестящая ткань светилась узкой полоской по контуру фигуры, окружая ее сияющим ореолом. Лицо в тени. Но я угадывал черты, знакомые, родные… И лишь одно было чужим и страшным – усы. Откуда у него усы? Когда они успели вырасти? Где-то в стороне возникла мысль, как бы подуманная кем-то другим: у мертвых продолжают расти волосы. Но почему выросли за один день?
Я сказал:
– Папа.
Давным-давно не обращаюсь к нему так. Сейчас само вырвалось. Беззвучно. Отец шагнул вперед и обнял меня. Я закричал. От отца всегда пахло ароматной туалетной водой и еле уловимым запахом лекарств. Тот, кто крепко обхватил меня, пахнул совсем по-другому. Дымом, молоком, сухим навозом, горными травами, бензином и пылью.
Я рванулся назад и услышал, как мама произнесла нерешительно:
– Джоруб?..
Свеча сзади поднялась и осветила лицо обнимавшего меня человека. Он сказал:
– Вера, Вера-джон…
– Да, Джоруб, – ответила мама. – Да, его нет…
И я понял, кто это. Отцов младший брат. Я его давно не видел, тысячу лет он в Ватан не приезжал. На отца совсем не похож. Нет, похож, конечно. Очень сильно похож. Сразу понятно, что братья. В общем, не знаю.
Он отпустил меня, я посторонился, он вошел. Теперь я увидел, что на крыльце стоит какой-то старик. Сухой, невысокий, с белой бородкой, с кучей медалей на груди. Я догадался, что это дед. Почти не помнил его.
Дед и Джоруб, войдя в дом, остановились возле гроба и заплакали, обнявшись. Плакали как дети. Всхлипывая и утирая слезы. Обнимаясь, поддерживая друг друга. Джоруб широким движением схватил меня, притянул к себе. Мне не хотелось к нему подходить. Я не хотел, чтобы он меня обнимал. Было как-то неприятно после того, как я его за отца принял. Но я вытерпел. Ждал, когда он уберет руки. Но вдруг внутри что-то отпустило. Я целый день не мог заплакать. В их тесном круге я зарыдал, легко и свободно. Я обнял деда и прижался к нему. Слышал, как он шепчет. Говорит как бы сам с собой. Или с отцом.
– Бедный мой сын. Бедный, бедный. Горестный мой сын. Так красиво началась твоя жизнь. Стал ученым человеком. Лечил людей. Люди тебя уважали. И так несчастно ты умер… – Он будто забыл о нас, стоящих рядом. – Если захотели тебя убить, почему не ударили ножом?
Вошел высокий стройный парень, горный орел. Шофер, который их привез.
– Ако Джоруб, ехать пора. Путь долгий.
Дед, утирая слезы, сказал по-русски:
– Доченька, надо в дорогу его собрать.
– Я собрала, – сказала мама. – Обмыла, обрядила. И вот гроб…
– Спасибо, доченька, – сказал дед. – Но гроба не надо. Зачем гроб? Закутаем его.
– Шер, ты тоже помоги, – сказал Джоруб шоферу.
Мама молча раскрыла дверцу шифоньера и выложила на стул стопку чистого постельного белья. Взяла верхнюю накрахмаленную простыню, начала ее разворачивать.
– Как же так? – проговорила она вдруг. – Если без гроба, то на грязном полу?
Она сунула простыню Джорубу и решительно потянула со стены большой ковер, который отец притащил на новоселье, когда лет десять назад выбил для нас типовой совхозный домик на окраине. Ковер не поддавался. Мама рванула, сдернула грузное полотнище с гвоздей, оно обрушилось, тяжело складываясь наискось. Полетели с комода на пол вазочки, статуэтки.
– Постелите в кузове.
Шер, горный орел, подлетел, присел, помог маме скатать ковер, взвалил его на плечо и вышел. Когда он вернулся, мы все – мама и Зарина тоже – накренили гроб, приподняли отца, переложили на простыню, расстеленную рядом, и укутали с головы до ног.
Никогда не думал, что выносить мертвых – это тоже работа. Наподобие перетаскивания вещей при переезде. Тоже сноровка нужна, тоже кто-то распоряжается, как тащить, куда нести и где класть или ставить.
Мама с Зариной потянулись было к длинному белому свертку, лежащему на столе.
– Женщинам нельзя, – застенчиво распорядился дед. – Только мужчинам разрешено.
Подняли вчетвером. Дед, хоть и старый, тоже помогал.
– Вы неправильно несете! – вскрикнула мама. – Надо ногами. Ногами вперед.
Я приостановился, но дед сказал:
– Человек, когда рождается, выходит из утробы головой вперед. И когда умирает, из дома должен выходить, как и пришел – вперед головой.
Мы пронесли отца через дверь навстречу ослепительно сияющим фарам. Мама с Зариной шли следом. Мы уложили отца на ковер, на пол кузова, и встали у откинутого заднего борта, глядя на белеющий в темноте кокон. Я помог Шеру поднять борт. Вот и все. Отец уезжает от меня. Навсегда.
Несколько минут назад кипела работа, похожая на переезд в новое жилье, каждый был занят делом, но вдруг все кончилось, делать было больше нечего, наступила внезапная тишина, дед с Джорубом уедут, а мы останемся одни на темной улице, в темном опустевшем доме. Когда они появились, я почувствовал: мы в безопасности, а теперь это временное чувство разом улетучилось. Я спиной ощущал взгляды врагов, следивших за нами из темноты. Может быть, они бросятся на нас, едва отъедет машина, а мы не успеем даже вбежать в дом. Мама ни за что не побежит, она ни о чем не подозревает…
– Ну что ж, Джоруб, поезжайте с богом, – сказала она. – Может быть, даже и хорошо, что вы его забираете. Наверное, так лучше…
Он протянул ей руку:
– Эх, Вера…
Шер перебил его:
– Ако Джоруб, видите, те стоят? Вы в дом вошли, они к машине подошли. Один на подножку запрыгнул. «Что, братан? Откуда приехал?» Я сказал. Он говорит: «К вам, кишлачным, претензий нет. Берите, уезжайте быстрее. Мы сами разберемся». Я не знал, что покойного Умара убили, спросил: «В чем будете разбираться? Человек умер, значит, так Бог захотел». Он говорит: «С этими русскими разберемся». Ако Джоруб, что делать будем? Их много.
Джоруб оглянулся.
– Вера, зайдем в дом. – Водителю: – Шер, в кабине посиди. Если что, крикни…
Горный орел открыл дверцу, пошарил под сиденьем и вытащил заводную ручку.
– Рядом постою. Посмотрю, чтоб в кузов не забрались…
Мы все – наша семья и дед с Джорубом – вошли в дом. Пол в темной большой комнате пересекала световая полоса от фар, бьющих с улицы в коридор. Холщовая завеса на дверце шифоньера сорвалась, повисла на кончике, и зеркало в полутьме мерцало призрачным светом, как волшебная дверь.
Мама подняла опрокинутый стул, спросила устало:
– Ну что еще?.. Джоруб, что сказал водитель? – Таджикского-то она не знает.
Джоруб замялся – сам толком не понимал обстановку. Один я знал, что происходит. Сказал:
– Мама, я объясню… – и выложил, как было.
– Уезжать надо с нами, – сказал Джоруб. – В кишлаке не достанут.
Я думал, мама откажется, и она отказалась, но Джоруб с дедом в конце концов ее уговорили. Вещи мы собрали быстро. Нищему одеться – только подпоясаться.
– Много не берите, – сказал Джоруб. – Дома все есть.
Вышли на крыльцо, таща сумки. Мама и Зарина – в черном, в черных платочках.
– Запри, Андрюша, – сказала мама, протягивая мне ключи.
Я запер входную дверь пустого дома. Опустевшей утробы.
Мама с дедом сели в кабину. Зарина, я и Джоруб опустились на пол у передней стенки кузова, в головах кокона. Грузовик сдал назад, мазнул светом фар по кучке бесов, издали следивших за нашим бегством, и поплыл по темным улицам Ватана, по Карла Маркса, по Колхозной, Резо Резоева, Розы Люксембург, по Чорчинор, и выехал на мост через Ак-Су. От моста дорога пошла на подъем. Ватан развернулся передо мной от края до края – темное смутное пространство, кое-где обозначенное тусклыми огоньками. Я покидал наш поселок без радости и без сожаления. Я вообще перестал что-либо чувствовать. Ни о чем не думал. Будто спал наяву. Мне чудилось, что и я, как покойник, вместе с отцом уплываю во тьму вперед головой, спиной вперед…
Не знаю, сколько прошло времени. Несколько раз нас останавливали какие-то люди с оружием, карабкались на борт, заглядывали в кузов, светили фонариками, о чем-то спрашивали… Я не вникал, не интересовался. Боевики, погранцы – какая разница? Джоруб спрыгивал на землю, дед выходил из кабины, толковали с военными. Пусть разбираются сами… Встречный ветер похолодел, небо начало светлеть, обрисовались две гряды вершин по обе стороны дороги, и вскоре можно было различить реку – далеко внизу, слева, под обрывом.
Начала болеть голова. Подташнивало. Я знал: сказывается тутак, горная болезнь. Но мне было до лампочки.
– Замерз, Андрюшка? – спросила Зарина и обняла меня, чтобы согреть.
2
Зарина
В полусне мне чудилось, что папа пришел к нам домой. Он живой, веселый, но почему-то очень странно одет. В белую ночную рубашку. Длинную, до пят, накрахмаленную и отглаженную…
Сквозь дрему я услышала, как дядя Джоруб сказал:
– Талхак.
Он смотрел вперед, стоя во весь рост и держась за передний борт кузова. Я вскочила на ноги, примостилась с ним рядом и увидела, что уже светло, а мы въезжаем в широкое ущелье. После дороги, стиснутой скалами, оно показалось мне очень просторным. Горы раздвинулись. Солнце ярко освещало левый склон. Верх его был крутым, почти отвесным, а низ широкими ступенями спускался к реке на дне ущелья, и там, на пологом откосе, среди нежно-зеленых прозрачных деревьев и крохотных распаханных полей теснились домики с плоскими крышами… Правый склон ущелья оставался серым и холодным. У его подножия, на другой стороне реки, смутно виднелись дворы и домики. Утренняя тень делила кишлак вдоль по реке на две половины – светлую и темную.
Солнечная сторона выглядела как волшебное селение из сказки. Я с детства воображала, как в нем побываю. Забиралась к папе на колени: «Папочка, а когда мы поедем в Талхак?» Он смеялся, гладил меня по голове: «Станешь большая – повезу тебя в Талхак, всем покажу, какая у меня дочка».
Он по-русски чисто говорил, с небольшим акцентом. Мне это ужасно нравилось и казалось очень милым. Никто на свете не умеет говорить, как мой папа. Я все спрашивала его: «Ну когда же поедем? Когда?» Мама сердилась: «Не приставай к отцу с глупыми просьбами». – «Ну почему?! Мне очень туда хочется…» – «Он занят на работе. У него нет ни минутки свободной». Мама всегда нам это говорила. Особенно когда папа вдруг куда-то пропадал и долго не приходил.
Однажды мы с Андрюшкой случайно узнали, что у папы в кишлаке есть другая семья. Значит, у нас есть сестрички и братишки! Папины дети. Другие дети. Я часто пыталась представить, какие они. Сможем ли мы с ними подружиться? Мне ужасно хотелось, чтобы папа про них рассказал. Но ни разу не попросила. Хоть и несмышленыш, а чувствовала: мама обидится, если папа будет о них рассказывать. Почему? Что в этом обидного? Когда была маленькой, не понимала. Теперь, кажется, понимаю. Я ведь тоже одно время ревновала папу к этим незнакомым детям. Пока не начала их жалеть. К нам-то с Андрюшкой папа приходил часто, а они видели его раз в год. Как они, наверное, по нему скучали… Теперь я о нем тоскую. Так, что сердце разрывается… Я не заплакала. Это ледяной ветер бил в лицо и вышибал из глаз слезы.
Зато грузовик зарыдал вместо меня. Шер, наш шофер, загудел во всю мочь. Хотел людей в кишлаке предупредить, что мы приехали, а вышло, словно машина завыла от горя. С ревом и воем мы промчались по мосту через речку и остановились на маленькой площади перед небольшим зданием из грубого камня, с куполом на плоской крыше. Видимо, это была мечеть.
Нас встретили несколько человек. Они, наверное, ждали, когда привезут нашего папу. Откинули задний борт кузова. Мы – дядя Джоруб, Андрюшка и я – спрыгнули на землю, а мама с дедушкой вышли из кабины. Люди стали подходить и обнимать дедушку и дядю Джоруба. Многие плакали. Похоже, папу любили. Андрея они тоже обнимали. Мы с мамой стояли в сторонке. Мама крепко меня к себе прижала:
– Ты совсем ледяная.
Я действительно вся дрожала. Не знаю, от холода или от волнения. Стали подходить еще люди, только мужчины, и вскоре собралась небольшая толпа. Один – маленький, тощий, хромоногий, весь какой-то черный – особенно суетился:
– Носилки надо, носилки… Без носилок не донесем. Улица узкая, неудобно… И покойник, наверное, еще не закоченел.
Мне стало обидно, что говорят, словно про какой-то груз, но за папу вступился высокий, широкоплечий старик с большой белой бородой. Я с первого взгляда его приметила – ну прямо Илья Муромец! Вот он и проговорил степенно:
– Гостя в дом на носилках не несут. На носилках его выносят.
И все с ним согласились:
– Почтенный Додихудо верно сказал.
А черный обиделся, скривился и пробормотал словно про себя, но чтоб услышали:
– Этого гостя из города привезли. Ему, наверное, все равно…
Все деликатно сделали вид, что не слышали. Несколько мужчин залезли в кузов, подняли папу и передали стоявшим внизу, а те целой гурьбой – человек, наверное, десять – подняли на плечи и побежали по извилистой улочке, круто идущей вверх. Мы подхватили сумки и поспешили за папой. Пройдя с десяток шагов, я оглянулась и увидела, что дедушка сильно от нас отстал. Ему было трудно идти на подъем. Я остановилась и подождала его. Мы шли по узкому проходу между низкими заборами, сложенными из камня, и молчали. Бедный, бедный папочка… Я по-прежнему не могла поверить в то, что он умер. Мне казалось, что я вижу какой-то нелепый сон, и горе неподвижно застыло где-то у меня в глубине, как черная вода в бездонном колодце.
Когда мы подошли к папиному дому, дверь в заборе была распахнута, а возле на улочке толпились люди. Они расступились, мы с дедушкой вошли во двор, где тоже стояли люди, молча. Никто из них, пока мы шли к дому, даже не кивнул дедушке. Будто не видели его. На похоронах нельзя здороваться…
Папа лежал на полу в низкой полутемной комнате, освещенной тремя глиняными светильниками. Мебели почти никакой. Буфет с парадной посудой да пара сундуков, на которых высились стопки красных ватных одеял. Ни стола, ни стульев. Пол застлан ковром. Посередине – папочка, завернутый в белое. Сидевшие вокруг тихо плакали. Мама сидела с другими женщинами, справа у стены, в полутьме.
Дедушка вошел, но никто даже не шелохнулся. Это похоронный обычай – не вставать, когда входит кто-то, даже старший. Мужчины потеснились, чтобы дедушка мог сесть возле папы. Он тяжело опустился на войлочный палас и сразу же обнял Андрюшку. Похоже, Андрей ему папу напоминает. А я пробралась к маме. Она подняла на меня измученный взгляд и молча кивнула. Сидевшая рядом с мамой женщина в синем платье встала, я немедленно догадалась, кто она. Папина другая жена! Я ее такой и представляла. Настоящая царица. Высокая, стройная. Светильник освещал лицо, которое показалось мне очень красивым. Прямой нос с горбинкой, большие глаза, брови дугой. Она обняла меня.
– Бедная девочка, сирота…
Мы сели. Я примостилась между мамой и этой ласковой царицей. Я уже знала, что ее зовут Бахшандой – дедушка по дороге сказал. Все плакали, и я тоже не сумела удержаться. Рыдала, пока в дверь не заглянул какой-то человек и негромко сказал:
– Выносите гостя. Обмывальщики пришли.
Дядя Джоруб поднялся на ноги, за ним остальные. Мужчины подняли нашего папу, закутанного в простыню, и унесли. Женщины заголосили. Я хотела встать и пойти за папой, но одна тетка, сидевшая сзади, прошептала, всхлипывая:
– Нельзя, доченька. Женщинам запрещено смотреть, как мужчину обмывают.
Мама взяла меня за руку. А та же задняя тетенька – тихонько:
– Доченька, скажи своей маме… Если хочет, может быть, платок снимет.
Я шепотом перевела мамочке.
– Зачем? – спросила мама и потуже затянула узел своей черной косынки.
Женщины в комнате были покрыты платками. Все, кроме здешней папиной жены, у которой длинные черные волосы были распущены. Мама огляделась и, кажется, сама поняла. Пожала плечами и сняла косынку. Тетушка, сидевшая позади, опять прошептала – теперь уже маме:
– Невестка, может, волосы захотите распустить?
Я перевела.
– Ах, меня, кажется, принимают в клуб законных вдов, – проговорила мама, но принялась вытаскивать заколки из тугого узла своих льняных волос, которыми я всегда любуюсь.
Казалось, она тоже не совсем понимала, что папа умер. Потом нас позвали. Я увидела, что перед домом лежит штуковина, на вид похожая на грубо сколоченную лестницу, приподнятую над землей на невысоких подставках. Это были погребальные носилки, на них укладывали папу, обряженного в белый саван. Его лицо было по-прежнему закрыто.
Тетя Бахшанда сошла с веранды и медленно двинулась к носилкам. Я не могла оторвать от нее взгляда. Мне сначала даже казалось, что она ничуть не горюет, а просто идет посмотреть, что лежит на носилках, как если бы… ну не знаю… ну как если бы во двор притащили мешок муки. Неужели она совсем не любила нашего папу?
И вдруг она будто ожила и заголосила:
О, дом мой, дом мой! Дом мой, разрушенный дом…
Я знала, что это древнее вдовье причитание. Слышала его недавно у нас в Ватане, когда у соседки умер муж, и представить не могла, что скоро завопят над моим папой, а наш дом будет разрушен…
О, дом мой, дом мой, без крыши четыре стены.
Царь мой ушел, остался дутор без струны,
Кувшин без воды, душа без тела.
Дом мой, дом мой, дом опустелый.
Тетя Бахшанда била себя в грудь и царапала лицо:
Гости пришли, не встанешь, не скажешь: «Салом»,
Заждался тебя твой конь под седлом,
Твоя чаша средь лета покрылась льдом.
Дом мой, дом мой, разрушенный дом.
Она причитала так яростно и отчаянно, что у меня побежали по коже мурашки и опять навернулись на глаза слезы. Я сдерживала их изо всех сил. Потом человек в белой чалме – видимо, мулло – оглядел двор:
– Сын… Пусть сын тоже понесет.
Андрюшка, мрачный, вылез из угла, где сидел, опустив голову на колени, и подошел к носилкам. Вместе с другими мужчинами понес на плечах нашего папу. Мулло пошел впереди. Какая-то девочка побежала за носилками. Мы, женщины, остались во дворе. Все чего-то ждали.
Вдруг девчонки, стоящие на плоской крыше дома, закричали:
– Мулло джанозу читает!
Мне объяснили, что одну из моих сводных сестриц послали на пригорок, с которого открывается вид и на дом, и на кладбище, чтобы она подала знак, когда начнется заупокойная молитва. Все женщины во дворе присели на корточки и забормотали отходную по моему папе.
Кончили молиться, и закипела бурная деятельность – подготовка к поминкам. Но не в нашем дворе, а в соседском.
– В доме, где покойник лежал, нельзя еду готовить.
– Еда нечистой сделается. Осквернится.
Меня обидело, что они говорят, словно папа какой-то заразный. Но я понимала… Это как если бы он заболел какой-нибудь опасной болезнью. И хоть мы его сильно любим, а все равно боялись бы инфекции. Понимала, но было обидно. Хотелось остаться одной, но меня никто никуда и не тащил. Мама ушла вместе со всеми, а я прошла через дом на задний двор, где тупо уставилась на овец в загоне. Они были живыми, и я опять заплакала. А потом побрела к соседям. По улице мне навстречу какой-то дядька тащил на веревке маленькую тощую корову.
– Эй, девушка, позови свою старшую мать.
Это он про тетю Бахшанду! Она, конечно, замечательная, я полюбила ее с первого взгляда, но чтоб назвать мамой… Никогда! Я сказала сердито:
– Мама у меня одна. Нет ни старшей, ни младшей.
Дядька сказал по-русски:
– Эх, девочка, теперь не в городе живешь. У нас немного по-другому. Тебе потихоньку привыкать надо.
– У вас что… – я замялась и вдруг ляпнула, словно пионерка (не нашла слов, чтобы по-другому спросить): – Разве не советская власть?
Дядька вздохнул:
– Не знаю, что тебе сказать. Наверное, не советская. Россия от нас ушла, и советская власть пропала. Теперь не знаю, в каком веке живем.
Он еще раз вздохнул:
– Вообще-то Зухуршо теперь власть.
Из вежливости я спросила:
– Кто это?
– Э, девочка, в голову не бери. Тебе зачем знать?
Незачем. Я в Ватане-то толком не знала, кто в начальниках ходит. А в кишлаке и подавно не интересно, что за Зухуршо такой. Я отправилась искать тетю Бахшанду. Не нашла, зато наткнулась на ту женщину с неприметным добрым лицом, что посоветовала маме распустить волосы.
– Корову привели…
– Иди, дочка, скажи, чтоб на задний двор отвели.
Я заколебалась.
– Может, лучше… у тети Бахшанды спросить…
– Не стоит ее утруждать. Мы с тобой сами решим.
– Да? А вы…
– Я жена твоего дяди. Дильбар меня зовут.
Стало немного проясняться, кто кому кем приходится.
– А этот человек с коровой? Такой статный, лихой, с усами…
В это время я увидела, что лихой и усатый, не дождавшись указаний, заводит коровенку во двор.
– Нет, он нам не родня, – сказала тетя Дильбар. – Это Гиёз, парторг.
Он же буренку зарезал и разделал. Мясо сварили с лапшой в огромном закопченном котле, и мы до ночи таскали в наш двор деревянные блюда с «похлебкой смерти», как называют поминальную еду. Поминавшие сидели на разостланных на земле паласах и кошмах: накормили мы, наверное, весь кишлак.
Умаялись до смерти. Спать нас с мамой уложили в маленькой каморке, в пристройке на заднем дворе. Кажется, это было что-то похожее на кладовую. Бросили на земляной пол палас, а на него – тонкие матрасики, курпачи, и одеяла. Мы упали на них, но долго не могли уснуть. Папина смерть давила меня, как тяжеленная могильная плита. Теперь, когда не надо было ничего делать, ни с кем разговаривать, притворяться спокойной, я не могла пошевелиться, вздохнуть или просто подумать о чем-либо. Даже плакать не могла.
Утром, когда мама еще спала, я вышла во двор и увидела в дверях курятника тетю Бахшанду с рыжим петухом в руках. Я вспомнила, как вчера, при первой встрече, она меня приласкала, совсем как родная, разлетелась к ней и воскликнула:
– Доброе утро, тетушка!
Она холодно глянула, молча кивнула и пошла мимо. Я сначала оторопела, а затем выругала себя: человек от горя не отошел, а ты лезешь с приветствиями. Потом подумала: а у меня разве не горе?! Может, я обидела ее обращением? А как ее называть? К родным теткам и к любым вообще старшим женщинам обращаются со словом «тетушка». А она мне кто? Если по-русски, то мачеха. Но ведь мачеха – это когда мамы нет. А на таджикский лад? Нет, так я тоже не хочу. Выходит, с какой стороны ни посмотри, Бахшанда – мне чужая. Придется вести себя посдержаннее…
Она остановись, сунула мне петуха и приказала сухо:
– Идем.
Я поплелась за ней. На переднем дворе нас ждала небольшая компания – тетя Дильбар и две соседки, которые вчера особенно хлопотали на поминках. Одна – полная тетенька в коричневом платье – была похожа на большую кубышку из темной глины с круглыми боками. Я про себя сразу стала ее называть тетушка Кубышка. Другая – низенькая, пышная, белая. На вид – точь-в-точь мягкая лепешечка из сдобного теста. Тетушка Лепешка.
Тетя Бахшанда приказала мне:
– Позови брата.
Андрей ночевал в пристройке для гостей, мехмонхоне. Прижимая к себе петуха, я постучала в дверь. Братец выглянул мрачный, встрепанный…
– Эй, парень, иди сюда. Отрубишь петуху голову, – крикнула тетя Бахшанда.
Он буркнул:
– Сами рубите.
Тетя Бахшанда бровь заломила, но объяснила сквозь зубы:
– Женщинам убивать запрещено. Твой дядя ушел, в доме одни женщины. А ты… все же мужского полу.
– Убивать не стану!
И захлопнул дверь. Бедный Андрей! Никак не может с собой совладать. Ходит мрачнее тучи, на всех огрызается. Будто он один на всем свете страдает. Я свое горе заперла глубоко внутри и старалась держаться как обычно, чтоб не опозорить папочку. Чтоб люди не подумали, что папа воспитал нас невежливыми и слабыми. Я поспешила на защиту Андрюшки:
– Брат очень переживает.
Соседки тактично потупились – показывали тете Бахшанде, что не заметили, как Андрюшка ей нагрубил. Тетушка Кубышка сказала:
– Дом надо очистить.
– Надо в нем кровь пролить, чтобы от скверны смерти избавиться, – добавила тетушка Лепешка.
– Если обряды не соблюсти, покойник вредить будет, – сообщила тетушка Кубышка.
Тетя Дильбар ничего не сказала и куда-то ушла. Тетя Бахшанда грозно молчала.
– Подождем, пока дядя Джоруб вернется, – предложила я.
– Давай-ка, девочка, свяжем петуху ноги, – сказала тетушка Кубышка. – Наверное, сестрица Дильбар сделает мужскую работу.
Пришлось мне держать бедную птицу, а пока мы возились с веревочкой, вернулась тетя Дильбар с большой оранжевой морковкой в руке. Рядом с центральным столбом веранды стоял чурбачок, на который положен был топор. Петушиная плаха. Тетя Дильбар подошла к чурбачку и задрала до пояса подол своего красного платья. Мне бросилось в глаза, что верх длинных атласных шальвар с красивым цветным узором пошит из грубого серого карбоса. Тетя Дильбар сунула себе в промежность морковку, зажала ее между ногами и взяла топор.
– Подай петуха, доченька.
Я подошла к ней вплотную, прижимая к груди несчастного петела. Тетя Дильбар ухватила затрепыхавшегося петуха и…
Одним словом, отрубила ему голову.
Я теперь, наверное, всякий раз при виде морковки буду вспоминать, как хлопал крыльями, замирая, петух, подвешенный на центральном столбе за связанные ноги, и как дергался обрубок его шеи и брызгала оттуда черная кровь… Но больше всего меня поразило, что тетя Дильбар убивала петуха настолько деловито и равнодушно, словно дергала репу из грядки. Бесчувственная она, что ли?
А у меня было смутно на душе. Прежде я видела, как убивают животных. Наши соседи в Ватане готовились к свадьбе, и мы, дети, смотрели, как режут барана. Было страшно, но я решила: раз взрослые делают такое, то, наверное… ну, видимо, так надо, что ли… О смерти я вообще не задумывалась. Теперь только о ней и думаю. Когда папу убили, мне стала отвратительна любая смерть. Петух был такой глупый и беззащитный. Андрюшка хоть грубиян, но молодец, что отказался. А я? Смалодушничала. Пошла у тетушек на поводу. Я мысленно дала себе слово: больше никогда в жизни никому не поддаваться. А то, что папа может нам навредить, это глупость какая-то. Соседкам простительно – им папа чужой. Но тетя Бахшанда…
Я позже к ней подошла и прямо спросила, верит ли она в эту ерунду. Она неохотно, но все-таки ответила:
– Покойный, да не передаст ему земля мои слова, мало семьей интересовался. Не думаю, что его дух будет о нас помнить. Если и навредит, то разве что случайно.
Нет, она папу не любила! Да и с нами почему-то не слишком любезна. Вечером я нечаянно подслушала ее разговор с дядей Джорубом.
Мне не хотелось видеть людей. Даже маму или Андрея. Я забралась на плоскую глиняную крышу нашей пристройки, легла на спину и стала смотреть в небо. В Ватане никогда не бывает такого черного, глубокого неба и столько звезд. Крыша была очень холодной. В горах даже днем: на солнце – как в бане, в тени – как в холодильнике. «Крыша одна, погоды две. С этой стороны крыши – холод, с другой – зной». Это тетя Дильбар сказала. Пословица здешняя.
Я насмерть продрогла, но это было даже лучше – пыталась представить, что умерла. Каково это – быть мертвым? Я стала думать о папе. Он сейчас тоже лежит, смотрит вверх невидящими глазами, но над ним не звездное небо, а черный глухой слой земли. Наверное, земля – это небо мертвых.
Внизу, на земле, слышались чьи-то шаги, шуршало сено. Видимо, кто-то бросал корм овцам в загончике. Я услышала, как тетя Бахшанда сказала:
– Ако Джоруб, зачем вы этих людей к нам привезли?
Дядя Джоруб вздохнул:
– Нам они родные. В городе их убить собирались. Кто, кроме нас, детей покойного Умара защитит?
А она:
– Э, ако… Может, вам эта его джалаб приглянулась?
Маму проституткой назвала! Я хотела соскочить с крыши и заорать: «Не смейте говорить такое о моей маме!» Но хватило ума сдержаться. Подумала: ну сейчас дядя Джоруб ей выдаст. И вдруг услышала, как он мямлит:
– Не надо так говорить. Вера – хорошая женщина. Теперь, когда жизнь моего брата окончилась, у тебя и причины-то нет с ней враждовать…
А она:
– Дети! Дети – причина. Моим детям придется с ее детьми делить хлеб, которого и без того не хватает. Эта джалаб будет мой хлеб есть.
– Не беда, – залопотал дядя Джоруб. – Они работать станут. Ты сама знаешь: много людей – много работников.
А она:
– Работники? Эти русские из города ничего не умеют. – Помолчала и спросила: – Задумали их с нами жить оставить?
– Куда они поедут? Сама, невестка, сообрази – война. Они по дороге даже десяти километров не проедут. Остановят, ограбят, убьют. Такое сделают, что и говорить страшно. Пусть с нами живут, пока в мире спокойно не станет. А дальше – как Бог захочет.
Она помолчала, потом сказала резко:
– Верхнее поле. Надо расчистить и распахать. Едоков стало больше, земли нужно больше. Прежде хватало, покойный деньги присылал. А теперь вам в совхозе ничего не платят. Покойный ушел, нужно искать, откуда хлеб брать. Я давно о том думала, но рук не хватало. Пусть работают. Только вы, ако, сами ей скажите. Я с ней разговаривать не желаю.
Дядя Джоруб:
– Эх, невестка, не для женщины и подростков эта работа. Для сильных мужиков.
– В этом доме нет ни одного мужика, – отрезала Бахшанда, и я услышала легкие решительные шаги. Она ушла.
Ляпнула бы она такое моему папе! Уж он бы ей рога обломал. Нет, не зря у дяди Джоруба такое глупое и смешное имя. По-таджикски оно означает просто «веник». Видимо, у дедушки умирали несколько младенцев подряд, вот и дали новорожденному дядюшке такое имя, чтобы обмануть болезнь. Называют веником, значит, он не ребенок, а просто пучок веток, метелка. К веникам болезнь не цепляется. К ним цепляются злые невестки. Подметают ими как хотят.
Назавтра дядя Джоруб – он же дядя Веник или, еще лучше, Метелка – повел нас на поле. Мы поднялись по тропе в гору и вышли к скале, под которой я увидела площадку размером с баскетбольную. Ну, может быть, чуть побольше.
– Вот земля, – сказал дядя Метелка. – Верхнее поле.
И это поле?! Если на земле что и росло, то одни камни. Обломки скалы. Маленькие, побольше и очень большие. Так называемое поле было настолько завалено каменьями, что молодая зеленая травка пробивалась лишь кое-где.
Дядюшка Метелка произнес: «Йо, бисмилло», нагнулся, поднял большой угловатый камень и оттащил на самый край баскетбольной площадки. Оказывается, он очень сильный, наш дядюшка. Его даже уважать можно. Ухватил другую глыбу, подволок, положил рядом с первой. Андрюшка скинул рубашку и тоже принялся за дело. Подключились и мы с мамой…
Теперь понятно, почему здешние поля со всех сторон окружены заборами. Не слишком высокими – едва в половину человеческого роста. Наш-то наверняка получится повыше.
Потом дядя Джоруб ушел. Мы перекусили лепешками с водой и продолжили работать. Кучка камней росла. Забор начнем выкладывать позже. И я представила, каким он будет. Вот я уже забираюсь Андрею на плечи, чтобы дотянуться и положить камень в верхний ряд. А забор растет и растет. Вот он вырос до самого неба. Мы приставляем к нему хлипкие самодельные лестницы и карабкаемся по ним, а камни на поле никак не убывают…
Через несколько дней я поняла, что время измеряется не сутками, часами и минутами, а кучками камней. Прошла одна куча. Другая. Третья… Было славно по утрам окидывать взглядом наш каменный календарь. Вот если б Бахшанда не лютовала. Она маму невзлюбила, придирается ко всякой мелочи. Не туда воду после стирки вылила. Не так села. Не так встала. Перечислять противно. Недавно – не помню, в какую именно кучу, – опять завела:
– Вера, ты хоть какое-нибудь дело хорошо сделать умеешь? Опять все испортила. Сказали верблюду: «Подмигни», а он огород разорил.
Я вступилась:
– Тетушка, не говорите грубо с моей мамой.
Она и ухом не повела:
– Ты, Вера, даже дочь не сумела научить, как со старшими разговаривать.
Я сказала:
– Если чем-то недовольны, меня ругайте. Маму не троньте.
Она уперла руки в бока.
– Эге, корова легла, теленок встал.
Я крикнула:
– И она вам не корова!
Она рукой махнула:
– Ты как твоя мать. Неумелая, невоспитанная.
Дядя Джоруб попытался ее урезонить:
– Женщина, оставь девочку в покое. Хоть с детьми не воюй.
Она как с цепи сорвалась:
– Дети?! Что вы про детей знаете? Если чего не узнали, у своей бесплодной жены спросите. Вы, коровий врач, тысячи коров осеменили… Почему жену осеменить не можете?
Я думала, дядя Джоруб ее убьет. Побледнел, кулаки сжал, но сдержался, повернулся и ушел. Она крикнула вслед:
– Или эту белую русскую корову оплодотворите. Пусть еще одного невоспитанного ублюдка родит.
Как хорошо, что мама не понимает по-таджикски.
3
Джоруб
Слышал я – старики рассказывают, – что в древности овцы могли говорить как люди. Пас их святой пророк Ибрагим, а пастбища в те времена были райские – ведь и экология была совсем другой, не такой, как нынче. Говорят, овцы спустились к людям с небес, а потому они – животные из рая. Но они даже райской экологией были недовольны. Хором кричали: «Трава невкусная. Вода соленая». И святой пророк вел отару в другую долину, но капризные животные ворчали: «Плохо, все плохо. Найди для нас пастбище получше». В конце концов святой Ибрагим устал слушать бесконечные жалобы и в гневе лишил овец дара речи.
Честное слово, иногда сожалею, что язык не отобрали также у женщин. Уши болят от их свар. Когда я решил увезти Веру с детьми к нам в Талхак, то помыслить не мог, что жены покойного брата начнут меж собой войну. Что им теперь делить? Но, как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод, соловей Талхака:
Если ревности пламя охватит покорную пери,
Берегитесь той девы и люди, и дикие звери.
Прежде Бахшанда воевала с Дильбар за женское главенство в доме. Теперь, когда появилась Вера, началась новая война. Я много раз наблюдал такое у коров, когда в стадо пускают новенькую. Старожилки толкаются, трутся боками, пока не выяснят, какое место ей занять. Пастухи не вмешиваются – среди коров не проведешь партсобрание, им не прикажешь: «Вот эту уважаемую корову к нам из района прислали. Теперь она у вас раисом-председателем будет», или: «Эта телка – дочка одного большого быка, уступите ей хорошее местечко». Иной раз коровья война долго идет. Но я в женские розни не встреваю. Сами разберутся. Не зря сказано: ссоры меж родственниками – что весеннее облако.
Но, может быть, облака рассеются скорее, чем я ожидаю. Вчера приходили сваты от Гиёза, парторга. Сам раис за него Бахшанду сватал. Собрались старейшины нашего кауна. Главный – мой отец, но по такому случаю обращались не к нему, а к папаше невесты, старому Бехбуду. Раис произнес торжественно:
– Время прошло, душа Умара успокоилась, забыла о земных делах. Хотим посватать его вдову, почтенную Бахшанду.
Старый Бехбуд – человек веселый, слова без шутки не скажет, но ответил серьезно:
– Согласно шариату следует подождать четыре месяца и десять дней. Надо убедиться, что вдова не ждет ребенка.
– Это верно, – согласился раис. – Однако все мы знаем, что покойный Умар целый год отсутствовал. Откуда взяться ребенку?
– Ваша правда, но закон есть закон.
– Может, мулло даст разрешение, учитывая обстоятельства.
Старый Бехбуд вежливо удивился:
– О каких обстоятельствах говорите? Почему такая спешка?
– Ваша дочь – женщина видная. Хотелось бы заранее договориться…
Опасаются, что кто-нибудь опередит. Смешно. Неужто вдовцы Талхака наперебой бросятся нашу непокорную пери сватать?
– Мы бы сейчас с вами условились, а брак заключим, когда пройдет положенный срок.
Старый Бехбуд задумался.
– Иншалло. Как Бог захочет.
Не решился обещать, собственную дочь боится. Будет, как Бахшанда решит.
Так проходят наши дни. А сегодня утром Ибод, мой племянник, закричал во дворе:
– Дядя Джоруб! Эй, дядя Джоруб!
Я вышел к нему. Ибод стоял в воротах, опершись на длинный посох из дерева иргай, закаленный огнем и отполированный временем. Красавец парень, в младшую мою сестричку. Лицо смуглое, гладкое, солнцем и ветром, как пастушья палка, вылощенное. Под глазом – огромный синяк. Я встревожился:
– Что случилось?
– Ничего не случилось. Мы овец пригнали.
Я крикнул:
– Эй, женщина, принеси сумку.
Наедине зову жену по имени, но приличия должно соблюдать даже при родном племяннике. Дильбар вынесла кофр с медикаментами. Ибод сумку перехватил:
– Дайте, дядя, я понесу.
Повесил кофр на шею, мы вышли из кишлака и двинулись вверх по тропе, ведущей к большому летнему пастбищу нашего кишлака.
Тот, кто взглянет на наши горы с высоты, увидит длинный каньон Санговар – Каменное ущелье, по дну которого течет река Оби-Санг. В нижней части каньона, у входа, расположился кишлак Ворух. От середины каньона, как ветка от ствола, отходит на запад Талх-Дара, Горькое ущелье. В нем помещается наше селение Талхак. В верхней части каньона притулился кишлак Дехаи-Боло, Верхнее селение.
Большое пастбище (а есть у нас и малое) раскинулось в стороне, словно драгоценный зеленый ковер. Некогда оно было общим. Наши предки договорились пользоваться им совместно с жителями Верхнего селения. В один год на нем паслись стада Талхака, а в следующий – скот соседей. Но во времена эмира Музаффара некий богач из Верхнего селения силой завладел общей землей и даже, говорят, ездил в Бухару, чтобы выправить на нее бумаги.
Звали его Подшокулом, но прозывали Торбой. Рассказывают, что приехал Торба в столицу и – прямо к воротам Арка, эмирского дворца. Начальник караула окликнул: «Куда прешь, деревенщина?!» Торба приосанился гордо: «Иди и скажи эмиру, что к нему Подшокул из Дехаи-Боло прибыл». Начальник удивился, послал аскера во дворец с донесением.
Сказка, конечно. Бюрократия в прошлом была не слабее нынешней. Знающий ученый человек, историк из Душанбе, кандидат наук, говорил, что в Бухаре окно имелось, откуда рука высовывалась, и надо было в эту руку деньги вложить и прошение сунуть. А далее уж шло оно по тамошним инстанциям, так что в действительности Торба мог пробиться на прием только к какому-нибудь мелкому чиновнику.
Рассказывают, однако, что аскер к воротам вернулся и повел Торбу в Арк, в палату к самому государю. Эмир Торбу увидел, обрадовался: «Добро пожаловать, дорогой Подшокул. Как живешь? Как жена? Как дети? Сам здоров ли» Почести оказал и спросил: «Ну, какая у тебя забота?» Торба рассказал, эмир задумался: «Сложное дело, очень сложное. Но не беспокойся, мы решим его по всей справедливости. И уж конечно, такого, как ты, уважаемого человека, нашего верного слугу, не обделить постараемся».
Торба обрадовался, а эмир из серебряного чайника в китайскую фарфоровую пиалу чаю налил и Торбе протянул. Торба пиалу принял, к губам поднес… Что такое?! Раз понюхал, еще раз понюхал, в третий раз понюхал. Отхлебнуть не решился и спросить побоялся, не лошадиной ли мочой его потчуют? А эмир нахмурился грозно: «Что ж не пьешь? Не по вкусу тебе наше угощение?»
Торба залебезил: «Вкус отменный, благоухает, как весенний сад. Но мы, грубые мужики, драгоценные чаи распивать недостойны. Осмелюсь спросить, из каких дальних стран такой замечательный напиток?»
Нахмурился эмир: «Забыл ты, что писал древний поэт:
Глупец, за чужестранным не гонись,
Ты на свое, родное, оглянись.
Чай этот не из Хитоя, не из Хиндустона привезен, из наших монарших конюшен доставлен, от любимого нашего жеребца».
У Торбы руки задрожали, драгоценный чай выплеснулся, по парадному чапану-халату потек. А эмир, то заметив, окончательно разгневался: «Вижу, брезгуешь нашим гостеприимством». Хлопнул в ладоши, вбежал наукар с саблей. Эмир приказал: «Руби голову этому неблагодарному смерду. В сторону отведи, чтобы наш царский дастархон мужицкой кровью не осквернить».
Поставили Торбу на колени. Он закричал: «Пощадите! Выпью, выпью этот чай!» Правда, его односельчане, люди из Дехаи-Боло, по-иному предают: Торба, мол, сказал: «Чем опозоренным быть, лучше вообще не жить».
Так или не так сказал, но эмир подал знак: «Руби». Палач саблю занес, Торба в мыслях с жизнью простился, глаза закрыл, но в это время ковер на стене откинулся, и в зал вошел некий благородный муж в золотом халате, в белой чалме, с большой бородой, а за ним огромная свита. Оказалось, подшутили над Торбой, послали к нему шута эмирского, одетого по-царски. А сам эмир Музаффар, его военачальники, придворные, улемы-мудрецы и все знатные люди Бухары сидели в соседнем покое и смотрели в щелку, как деревенщина пастбище добывает.
Говорят, Торба не одну пиалу, а целый чайник лошадиной мочи вылакал, и эмир Музаффар настолько развеселился, что отдал ему пастбище. Односельчане Торбы говорят: он пить отказался, эмир за мужество его еще и чином наградил. Другие говорят: вазиром, министром назначил. Вот мы и присвоили Верхнему кишлаку прозвание Вазирон, то есть «Министры».
Было не было, но большое пастбище перешло к Торбе, а он брал плату с тех, кто пас скот. Только после революции была восстановлена справедливость. Наш односельчанин Саид-бедняк стал председателем ревкома в Калай-Хумбе и вернул пастбище Талхаку в полную собственность.
Путь нам с Ибодом предстоял неблизкий. Большое пастбище лежит высоко в горах. Племянник шел впереди быстрым, размеренным шагом, по пастушьей привычке положив на плечи посох и закинув на него руки. Я спросил:
– С кем подрался?
Он пробормотал, не оборачиваясь:
– Ни с кем.
Не хочет рассказывать – не надо. Но постепенно, слово за слово он все же поведал, что произошло. С холодами мы отгоняем овец на зимовку в Дангару, за сотни километров от наших мест, а весной возвращаем обратно. Перегон – дело трудное и для пастухов, и для овец. Случаются потери. А в нынешнем году они оказались особенно велики. Чабанов перехватила по дороге какая-то банда и отняла десяток овец.
Выходит, война уже до наших мест добралась. До сих пор спокойно было. Слишком уж далеко до больших дорог. Но правительство вытеснило оппозицию из центральных районов, и вооруженные отряды и банды отступили на Дарваз.
Понятно, почему Ибод мрачен. Стыдно ему. Чувствует себя униженным. Ровесники, такие же, как он, крестьянские парни, обросшие молодой бородой, с оружием, с зелеными повязками на голове, отняли овец, перешучиваясь и усмехаясь. И в придачу побили деревенщину.
К середине дня мы с Ибодом поднялись к пастбищу. На краю его лежит огромный Дед-камень, обломок скалы, обросший чешуйками мха, живого и мертвого. Из-под мохового покрова проступают загадочные знаки, которые выбили наши древние предки. Ныне никто не знает, о чем те знаки говорят. Священный этот камень исцеляет от многих болезней, и невдалеке от него – там, где тропа вступает на пастбище, – высится харсанг, большая куча камней, которую сложили в знак благодарности те, кто приходили лечиться…
Слева от Дед-камня стоит домик, сложенный из скальных обломков. Рядом на траве был расстелен дастархон, лежали переметные сумы, не разобранные после дороги. На каменном очаге установлен большой котел, и Гул, пастух, шуровал в вареве шумовкой. Овцы паслись невдалеке на пологом склоне. Завидев меня, Гул поспешил навстречу.
– Хорошо, что пришли, муаллим. Неладные дела. Кто-то гонит сюда отару. Джав поехал посмотреть, кто такие. Что делать будем?
– Пойдем навстречу.
Мы спешно двинулись к верхнему, восточному краю. И вдруг из-за среза возвышения, ограничивающего пастбище, вылетел всадник. Это был Джав, наш чабан. Подскакав, крикнул, не сходя с лошади:
– Вазиронцы идут!
И тут из-за гребня выскочили три собаки. Наши псы молча ринулись к ним. Впереди летел Джангал, огромный алабай-волкодав без ушей и хвоста, за ним – молодой кобель. Наши псы встретились с чужаками, обнюхали взаимно друг друга и разошлись шагов на десять. Каждая стая отступила в сторону своей отары. Будь силы равны, начали бы драться. Но чужаки без драки признали превосходство наших собак. Джангал поднял ногу и помочился. Показал: вот граница моей территории, и сел охранять рубеж. Чужой вожак обозначил свою границу, за ней уселся его отряд.
Мы поравнялись с Джангалом, несущим стражу, и в это время на гребне показалась фигура человека, а вслед за ней – овцы. Отара сползала вниз по склону, как стекает густая патока, если накренить деревянное блюдо.
Человек, шагавший впереди овечьего гурта, был мне знаком. Это Ёр, пятидесятилетний мужик, силач, богач, прямой праправнук Подшокула, того самого Торбы. Удивительно, что столь богатый и уважаемый человек шел со стадом как простой пастух.
– Здравствуй, Ёр, – крикнул я.
– Ва-алейкум, – мрачно ответил Ёр и продолжал шагать, пока не остановился прямо передо мной.
– Уйди с дороги.
– Не спеши, Ёр, – сказал я. – Давай поговорим.
– Говорить не о чем. Гони с нашей земли своих баранов. Тех и этих, – он кивнул на нашу отару, затем на чабанов, стоящих рядом со мной.
– Мы не бараны! – крикнул мой племянник Ибод. – Это вы – навозники, конскую мочу пьете.
– Уйми щенка, – угрожающе произнес Ёр.
Тем временем стекающая по откосу отара захлестнула нас, и мы оказались как бы на островке среди блеющего потока. Подоспели вазиронские чабаны и встали рядом с Ёром. Он вел с собой целое войско. Человек десять, не меньше. Был меж ними, как на беду, несчастный Малах, немой от рождения. Говорить он не умел, только мычал. Овцы и собаки хорошо его понимали.
– Это наша земля, не ваша, – сказал я.
– Испокон веков была нашей, – сказал Ёр.
Немой неистово загугукал, размахивая пастушьим посохом.
– Эта наша земля, – повторил Ёр. – Голодранец Саид-бедняк подло отобрал ее и отдал вам, талхакцам. Но нынче, хвала Аллаху, настало время справедливости…
Я понял, к чему он клонит. Три месяца назад власть над всеми кишлаками каньона Санговар захватил полевой командир Зухуршо. Взял он в жены девушку из Верхнего селения, и сила перешла теперь на сторону соседей. Но я не сдавался. Обернулся и указал на нижний край пастбища:
– Ёр, посмотри, где лежит камень. Сам Бог его положил, чтобы люди знали: отсюда начинается пастбище Талхака.
– Голову не морочь, – ответил Ёр. – Всевышний положил камень, чтобы закрыть вам дорогу на эту землю.
Я сменил тактику:
– Нет, Ёр, наши и ваши деды понимали этот Божий знак по-иному: в справедливости будьте тверды как камень. Давай вернемся к дедовским заветам, будем пасти поочередно. На этот раз мы пришли раньше вас. Право первенства за нами. Если не согласен, соберем стариков из обоих кишлаков, пусть рассудят очередность. А не то разделим пастбище на две половины – и нам, и вам. На целое лето не хватит, но что-нибудь придумаем.
Я не хотел столкновения. Человеческая неразумность была виной тому, что началась стычка.
– Ёр, что с ними говорить! – загалдели вазиронцы. – Дурака словом не проймешь, камня гвоздем не пробьешь.
– Пробьем! Мы всегда их били.
Это неправда. В прошлых войнах из-за пастбища иногда мы вазиронцев побивали, иногда они нас.
– Вы, талхакцы, охочи до чужого! – кричали вазиронцы.
– И жены ваши за чужим кером охотятся…
Немой Малах тоже не молчал. Мычал и замахивался палкой. Один Бог знает, что он хотел высказать. Может быть: «Братья, разойдемся с миром».
Напротив немого стоял Ибод, мой племянник. Бедный парень – опять новая несправедливость, новое унижение: отняли овец, теперь отнимают пастбище. Немой вновь замахнулся, Ибод не выдержал, кулаком ударил его в лицо.
– Зачем бьешь?! – закричали вазиронцы.
Но сражение еще не началось. Немой от удара отшатнулся, утерся левой рукой, увидел на ней кровь, замычал, перехватил палку покрепче, размахнулся и шарахнул Ибода по голове. Пастушьи посохи из кизила закаляют в огне, мажут маслом и долго держат на солнце, отчего они становятся твердыми, как железо. Ибод упал.
– Эй, чего творишь?! – закричали наши.
Я убеждал себя, что надо во что бы то ни стало избежать драки, и крикнул Ёру:
– Останови своих, а я уйму наших.
Он презрительно хмыкнул и с силой толкнул меня в грудь. И мгновенно сзади выпрыгнул Джангал и вцепился ему в руку. Ёр попятился, запнулся, упал. Джангал молча встал над ним, не выпуская руки из пасти.
– Э-э, пес! – заорал я.
Джангал отпустил Ёра. Немедленно на нашего пса бросился чужой вожак. Волкодавы сцепились в схватке. Овцы шарахнулись в стороны, освободив место для боя.
Лишь тот, кто не знаком с животным миром, считает, что овцы – тупые создания, равнодушные ко всему, кроме корма. На самом деле они очень любопытны и предаются зрелищам с тем же бескорыстным интересом, что и люди. Столпившись вокруг, они наблюдали, как бьются собаки и люди.
Вазиронцев было много, нас мало. Они одолели, мы отступили. Мы отбежали шагов на десять и приостановились. Вазиронцы погнались было вслед, но тоже встали. Овцы продолжали глазеть, как, визжа и рыча, дерутся собаки. Я оглядел наших ребят и спросил, тяжело дыша:
– Где Ибод?
Потом собачий клубок откатился в сторону, я увидел Ибода. Вернее, его спину, видневшуюся из травы. Я пошел к парню. Поднял обе руки вверх и закричал:
– Сулх! Сулх! Мир!
Вазиронцы смотрели на меня с ненавистью. Ёр сидел на земле, держась за укушенную руку.
– Куда идешь? – сказал он. – Тебе в другую сторону надо, с пастбища долой.
– Там Ибод, мой племянник, лежит.
– Поднимется.
Но пропустил. Я подошел к Ибоду. Бедный юноша лежал ничком, уткнувшись лицом в куст жгучего югана. Я перевернул племянника на спину и увидел, что он мертв. Меня охватил гнев, я сел, сжал голову руками. И только когда почувствовал, что могу владеть собой, встал и пошел к вазиронцам. Ёр по-прежнему сидел, завернув до плеча рукав чапана. Один из пастухов, присев на корточки, накладывал на рану размятые листья подорожника. Немой Малах держал наготове полосу ткани, оторванную от подола рубахи.
Я сказал:
– Ёр, вы человека убили. Сына моей сестры.
– Он первым ударил, – ответил Ёр.
На меня он не смотрел – опустив глаза, следил, как немой неловко накладывает повязку. Я был не в силах тут же отомстить вазиронцам за смерть Ибода, но был обязан позаботиться об отаре.
– Дай-ка мне, – я присел, размотал тряпку на руке Ёра и начал бинтовать заново. Справедливости нет в этом мире. Приходится лечить врага, чтобы его задобрить. Говорят: врага убивай сахаром. – Ёр, разреши оставить овец, отвезти покойного домой. Ты мусульманин, позволь достойно похоронить человека…
Ёр опустил рукав на повязку.
– Заприте отару в загоне. А после похорон – долой с нашего пастбища.
Мы отнесли тело Ибода к камню, завернули в кошму, перекинули через седло и повезли в Талхак.
К полуночи мы с Джавом, который вел лошадь под уздцы, вышли на крутой спуск, ведущий к кишлаку. Сердце всегда радуется, когда ночью спускаешься с гор и видишь: внизу в теплой домашней темноте рассыпались огоньки. Оттуда поднимаются сладкие запахи дыма, коровьего кизяка, соломы. Кишлак дремлет в ущелье, как дитя в утробе. Но сейчас меня не утешал даже вид родного селения. Как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод:
Отраднее влачить сундук с песком в пустыне,
Чем матери нести весть скорбную о сыне.
По темным улицам мы добрались до дома, где живет моя сестра Бозигуль, и остановились у калитки в заборе.
– Дядя Сангин! Эй, дядя Сангин! – закричал Джав.
Мой зять Сангин вышел в портках и длинной рубахе, неподпоясанный, с керосиновой лампой в руке. Увидел меня, хитро ухмыльнулся:
– Эх! Я думал, бык забрел, мычит… Оказалось – шурин. Наверное, по той русской белой женщине соскучился? Ночью, чтоб никто не видел, пришел.
Я молчал.
– Не угадал? – продолжал Сангин. – Может, пару совхозных баранов тайком зарезал? Одного мне привез.
Он шагнул к лошади и протянул лампу, чтобы разглядеть сверток, перекинутый через седло. Я крепко обнял его и сказал:
– Сангин, брат… это Ибод.
Он окаменел под моими руками. Слабо прошептал:
– Плохая шутка, брат. Нельзя так шутить.
Я обнял его еще крепче. Он простонал:
– Богом клянусь, этого не может быть!
Я сказал:
– Брат, Аллах лучше знает.
Он выронил лампу, стекло разбилось, огонь погас. Сангин обхватил меня, прижался лбом к моему плечу и заплакал. Что я мог ему сказать? Чем утешить? Сангин поднял голову:
– Как он умер?
– Вазиронцы его убили. На большом пастбище.
Я ощущал, как напряглись его мышцы. Он грубо и злобно сжимал меня, как борец противника, но я понимал, что борется он со своей яростью. Сангин оттолкнул меня, подошел к калитке, распахнул и сказал буднично:
– Заводите.
Джав потянул за узду, завел лошадь во двор. Мы начали развязывать шерстяную веревку, которая притягивала тело Ибода к седлу. Сангин, скрестив руки на груди, смотрел, как мы работаем. Из дома высунулся малыш, младший сын моей сестры, которого все называют Воробышком, и подбежал к Сангину:
– Дадо, а что это? Что нам привезли?
Сангин словно не слышал. Стоял как каменный. Воробышек нетерпеливо дернул его за полу:
– Эй, дадо! Что привезли?!
Сангин опустил глаза, погладил малыша по голове.
– Беги, приведи мать.
Воробышек побежал в дом, то и дело оглядываясь. Мы сняли сверток с лошади. Сангин сказал:
– Кладите, – и указал место посреди двора.
В этот миг я услышал вопль, который ожег сердце, как огнем. Кричала моя сестра Бозигуль. Она вышла из дома, увидела Ибода, лежащего на попоне. Бросилась к сыну, приникла к телу и вопила без слов, как раненый зверь. Все женщины, бывшие в доме, – старая мать Сангина, сестра, жена его брата, две дочери, – выскочив во двор, завыли:
– Ой, во-о-о-ой! Вайдод!
На крик во двор Сангина, как бывает всегда, когда в чей-то дом приходит смерть, начали собираться ближние соседи, рыдая и спрашивая:
– Как умер бедный Ибод?
И Джав объяснял:
– Вазиронцы его убили. Большое пастбище отобрали…
Весть об убийстве пронеслась по всем улицам. Вскоре явились уважаемые люди: мулло Раззак, раис, Гиёз-парторг, сельсовет Бахрулло, престарелый Додихудо… Мужики сбежались – Шер, Дахмарда, Ёдгор, Табар, Зирак, хромой Забардаст и другие, – столпились у забора в мрачном молчании. Многие не поместились и с темной улицы заглядывали в освещенный керосиновыми лампами двор. Сангин время от времени оглядывал приходивших, будто чего-то ждал. Мулло Раззак подошел к моей сестре, сказал мягко:
– Закон не велит слишком сильно горевать по ушедшим. Это грех. Нельзя Божьей воле противиться.
Женщины подоспели, оторвали мою сестру Бозигуль от Ибода, отвели в сторону. Бозигуль ударила себя по лицу, разодрала ногтями щеки, разорвала ворот платья. Мой шурин Сангин вышел вперед и, став над телом, закричал:
– Люди, посмотрите на моего сына! На мертвого посмотрите. Вы знаете, кто его убийцы. Позволим ли, чтобы вазиронцы убивали наших детей? Мужчины мы или трусы?!
Мужики, столпившиеся вне двора на темной улице, вспыхнули, как солома от искры:
– Месть! Месть!
– В тот раз Зирака покалечили, теперь Ибода жизни лишили!
– Прогоним их с нашего пастбища.
– Война!
Мы, горцы, мирный народ. Возделываем скудные поля, пасем скот и терпеливо покоряемся произволу властей. Но когда несправедливость перехлестывает через край, в нас вскипает кровь предков, прогнавших с наших гор солдат Искандара Зулкарнайна, Александра Македонского. На чужое не заримся, но за себя постоять способны. Старые люди еще помнят, как во время войны – не этой, нынешней, а прошлой, которую теперь называют борьбой с басмачеством, – к нам прислали отряд милиции, чтобы подавить волнения. И вновь показал себя характер горца, как об этом рассказывает стих:
Страна Дарваз – ущелье меж гор, для битвы нет здесь мест,
И у людей с изначальных пор ни ружей, ни сабель нет.
Но однажды из горной страны Шугнан пришел милисы? отряд.
В топоры и лопаты их встретил народ, бил их и стар, и млад,
И милиса?, не в силах терпеть, ночью бежали назад.
Правду скажу: и меня захлестнула жажда мести. Бедный Ибод! Я любил покойного мальчика и не мог смириться с его гибелью. Гнев и боль жгли сердце…
Престарелый Додихудо поднял вверх посох, показывая, что хочет говорить. Крики постепенно смолкли.
– Мы не знаем, как умер покойный Ибод, – сказал Додихудо. – Намеренно его убили или случайно? Не знаем, кто лишил его жизни. Пусть Джоруб нам расскажет.
Медленно, с усилием заставляя себя произнести каждый звук, я сказал:
– Глухонемой Малах его ударил… по Божьей воле вышло, что удар… оказался слишком сильным… Это была случайность. Немой не хотел убивать…
Мой шурин Сангин яростно зарычал, будто сделался немым, неспособным выразить чувства. Я понял, что он никогда не простит мне слова, умаляющие вину убийцы. Но я не мог солгать.
– Вы слышали, что сказал Джоруб, – возвысил голос престарелый Додихудо. – Вазиронцы не виновны в смерти покойного Ибода.
Простодушный Зирак, стоявший рядом, спросил удивленно:
– Почему так говоришь? Разве Малах не в Верхнем селении живет? Разве их община не должна за него ответ держать?
Престарелый Додихудо пояснил:
– Да, глухонемой в Вазироне родился, но он неполноценный. Никто не знает толком, девона? ли Малах, безумен он или смышлен. Лишенный слуха и голоса, он стоит ближе к животным, которых Аллах не наградил даром речи, чем к людям. А потому вазиронцы за него не в ответе, как если бы покойного Ибода загрыз пес.
Народ призадумался, вслух обсуждая слова Додихудо, а вперед выступил мулло Раззак:
– Мы не можем знать, кто направил руку Малаха. Если Аллах, то обязаны смириться с его волей.
– А если Иблис, шайтон?! – крикнули из толпы.
– Тем более, – сказал мулло, – тем более нельзя поддаваться страстям. Шайтон всегда стремится подтолкнуть людей к безумию и ненависти. Успокойтесь и расходитесь по своим домам. Пусть несчастный Сангин и его семья приготовят покойного к погребению.
– Пастбище! Как с пастбищем быть?! – закричали в народе.
– Терпение, – сказал престарелый Додихудо. – Не зря говорится: «Потерпи один раз, не будешь тысячу раз сожалеть». И еще говорят: «Торопливая кошка родила слепого котенка». Не будем спешить. Завтра попробуем договориться с вазиронцами. Как-нибудь решим этот вопрос…
Наверное, он был прав. Мне пришлось нехотя это признать.
Еще немного, и холодная рассудительность погасила бы пламя общей ярости. Но из темной толпы за забором в освещенный двор выкарабкался Шокир по прозвищу Горох, черный, скособоченный на одну сторону, как корявый куст, выросший на боку отвесной скалы. Он проковылял к телу Ибода и неистово прокричал:
– Что толку болтать зря?! Речами за кровь не отплатишь. Словами землю не вернешь. Не станем утра дожидаться, сейчас выступим! Кто мужчина – с нами идите. У кого какое оружие дома есть, возьмите, к мечети приходите. Фонари захватите. Биться будем. Война!
Так он вновь раздул искру гнева, которая тлела в народе. Никто в этот раз не стал над ним насмехаться. Никто не подумал, что к битве призывает хромоногий, который сам биться не в силах. Не задумались о том, куда он зовет – на пастбище или в Верхнее селение, а также о том, что идти куда-либо ночью не только неразумно, но и бессмысленно. Когда вспыхивает огонь, горит и сухое, и сырое. Мужики закричали:
– Офарин! Правильно сказал!
– Баракалло!
– С Божьей помощью воевать будем.
Некоторые уже повернулись, чтоб бежать за оружием и фонарями, когда вперед вновь вышел престарелый Додихудо. Народ вновь остановился, крики смолкли.
– Крови хотите? – негромко спросил престарелый Додихудо в наступившей тишине. – Будет кровь, много крови… В другое время мы, наверное, смогли бы вазиронцев одолеть, за кровь Ибода отомстить. Но сейчас в нижнем селении, в Ворухе, боевики Зухуршо стоят, а сам Зухуршо на дочке Ёра из Верхнего селения женат. Как думаете, позволит он, чтоб мы его тестя обидели? Нам не отомстит ли? Кровью Талхак не зальет ли?
И столь же негромко ответил ему Шер, совхозный водитель, который стоял в головах покойного, скрестив руки на груди:
– Не о мести речь. О чести.
Престарелый Додихудо возразил:
– Речь о том, чтоб людей зря не погубить. Уступить обстоятельствам – не бесчестье.
– Да, такова мудрость стариков, – сказал Шер. – Мы же…
Додихудо не дал ему договорить:
– Кто дал тебе разрешение осуждать эту мудрость?! Ее наши предки нам передали. Отцы и деды единственно благодаря ей выжить сумели…
– Мы так жить не хотим, – сказал Шер. – Отцы и деды скудно жили, во всем уступая, всем подчиняясь. Это мудрость слабых. Другое время пришло. Время сильных.
С улицы, из темноты, его поддержали молодые голоса:
– Шер правильно говорит!
– Не хотим!
– Нельзя чести лишаться, – сказал Шер. – Несправедливость нельзя прощать. Если мы сейчас вазиронцам наше пастбище без боя отдадим, то покажем, что мы слабы. Слабых любой может ограбить. Сначала пастбище отберут, потом…
– Все, что захотят, отнимут! – выкрикнул за воротами какой-то юнец.
– За женами, невестами придут! – крикнул другой.
И во двор постепенно, один за другим, просочились молодые неженатые парни – Табар, Ёрак, Сухроб, Дахмарда, Паймон, Динак – и встали позади Шера.
– Завтра, когда рассветет, соберем молодежь, возьмем оружие, какое есть, и пойдем на пастбище, – сказал Шер. – Прогоним вазиронцев, поставим караул.
– Зухуршо… – начал престарелый Додихудо.
Шер, не дав ему договорить, воскликнул запальчиво:
– Трусость! Мы…
Но и он не сумел закончить.
– Щенок! – гневно крикнул раис. – Невежа, хайвон, животное! Почему старшего перебил?! Кто тебя учил?! Себя и своего отца опозорил.
Шер повинился, хотя и с достоинством:
– Извините, муаллим. Пожалуйста, извините. Я невежливым быть не хотел, непочтительность невольно проявил, вашу речь прервал. Собирался только сказать, что Зухуршо в наше ущелье мы не пустим. В узких проходах завалы, засады устроим, он не пройдет.
Додихудо покачал головой:
– Даже если враг с муху, считай, что он больше слона.
Шер не ответил, лишь сказал:
– Завтра, – и двинулся со двора.
Молодежь потянулась за ним, но престарелый Додихудо встал у выхода и раскинул руки, преграждая путь:
– Мы, старики, запрещаем! Не даем разрешения начать войну.
В недавние времена ни одна душа не осмелилась бы молвить хоть слово поперек. Сейчас толпа на улице взорвалась криками:
– Война!
– Сдурели? Против стариков идете!
– Война всех погубит!
– Сколько терпеть можно?! Война!
– Прав Додихудо!
И послышалась в общем гомоне возня, предвещающая начало драки. Тогда мулло Раззак, отошедший прежде в сторону, вышел на свет и поднял руку.
– Мулло! Мулло дайте сказать! – крикнул кто-то.
Не сразу, но народ затих. Мулло сказал:
– Коли нет меж вами согласия и даже стариков не слушаете, то спросим у святого эшона Ваххоба. Как они решат, так и поступим.
Все загомонили, соглашаясь.
– Уважаемых людей пошлем, – сказал мулло.
– К эшону! – завопил Горох, вырвал из рук Джава фонарь и вознес над головой. – Для народа я на все готов. Почтенным людям путь освещать буду.
И усмехнулся хитро: ловко, дескать, примазался к делегации.
В народе заворчали:
– Не дело это – Шокира к святому эшону допускать.
Однако из уважения к покойному Ибоду не стали затевать свару над его телом.
Отправились мы в путь – раис, престарелый Додихудо, Гиёз-парторг, Шер и я. Шокир ковылял впереди, как легендарный герой с факелом, ведущий за собой народ. И я, выплыв на миг из глубины своего горя, невольно усмехнулся: наш Шокир – к каждой чашке ложка, к каждой лепешке шкварки. Да только ложка кривая, а шкварки прогорклые. То ли родился таким, то ли судьба искривила после того давнего случая…
Шокир в то время учился в Душанбе, приехал домой на каникулы. Мать сварила похлебку из гороха, его любимую, он наелся до отвала, пошел на вечерний намоз. Молиться начальство запрещало, мечети в Талхаке не было, но люди собирались в алоу-хоне, доме огня. Шокир, как все, расстелил молитвенный коврик, стал совершать ракаты. Едва согнется, как сзади кто-то шепчет: пу-у-у-уф. Коснется пола лбом, а сзади: фу-у-уф. Сначала тихо, затем все громче. Уже ворчит: хр-р. Рычит: др-р, др-р-р! Соседи отодвигаются, да отодвинуться некуда. Ни дыхнуть, ни захохотать. В мечети смеяться – грех. А бедняга Шокир до конца намоза наружу выбежать не мог. И зловонное рычание сдержать был не в силах. С тех пор и прозвали его Горохом.
От позора сбежал он из Талхака и пропал. Даже на похороны отца и матери не приезжал. Никто не знал, где он жил, чем занимался. Когда война началась, как щепка с крыши упала: Шокир вернулся. Хромой, без чемодана, без узелка, в том же старом костюме, в котором и по сей день ходит. Что с ним приключилось, от какой беды прятался – кто ведает? Наверное, совсем некуда было скрыться, раз в Талхак приехал. На пустое место. Сестры замужем, в доме отца дальние родичи-бедняки живут. Они его и приютили. Кривой, злобный, он желчность свою вначале не выказывал. Гордый человек, нищеты стыдился и искоса, с опаской в людей вглядывался – помнят ли?
Сейчас он ковылял по тропе впереди меня. Мы к тому времени миновали верхний мост через Оби-Санг и поднимались к святому месту – мазору. Я спросил:
– Шокир, зачем людей будоражил?
Как ни удивительно, он ответил искренне:
– Увлекся я, брат…
– Если этак поступать, никакого авторитета среди народа не будет.
Он остановился, опустил фонарь.
– Это вы, уважаемые, богатые, за свой авторитет дрожите. Шокиру терять нечего. Думаешь, сладко мне у вас? Живу как на зоне. Старики – как вертухаи. За каждым шагом следят. Куда идешь? Что несешь? Почему то сказал? Почему так сделал? А я зэком быть не желаю. Я, может, сам вертухаем стать хочу.
Удивили меня не мысли его, а жаргон.
– Ты разве и в тюрьме побывал?
– Сейчас срок тяну. Здесь, у вас…
Я поднял голову и указал на низкие звезды, крупные, как слезы счастья.
– Посмотри. Разве над тюрьмой может быть такое небо?
В ответ он буркнул:
– Убери людей, и это было бы лучшее место во всем мире.
Я подумал: «Бедный парень», а вслух сказал:
– Без людей даже горы мертвы.
Шокир скривился:
– Сбились вы в кучу, как бараны на заснеженном уступе, друг друга своим теплом греете. Почему меня внутрь не пускаете?..
Я не успел ответить. Спутники нагнали нас, Шер закричал снизу:
– Почтенные, отчего пробка на трассе?
Шокир без слов поднял фонарь, заковылял вверх по тропе.
Мазор возвышается над кишлаком на склоне хребта Хазрати-Хусейн. Поднимаясь к нему, чувствуешь, что приближаешься к святому месту. Деревья словно из другого мира прорастают – не такие, как повсюду. И в воздухе словно волшебная мелодия постоянно звучит.
Гробница святого Ходжи, предка нынешнего эшона, невысока, в мой рост. Над кубом из обтесанного камня высится купол. И, как всегда по ночам, поставлен на гробнице горящий светильник, древний чирог – плошка с фитилем, опущенным в масло. В жилище эшона, чуть поодаль от мавзолея, окна темны.
– Почивают, – молвил престарелый Додихудо нерешительно. – Для дневных забот сил набираются. Дозволено ли сон святого человека нарушать?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/vladimir-medvedev-11320766/zahhok-24305334/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
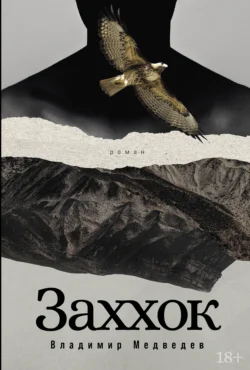
Владимир Медведев
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Стоимость: 349.00 ₽
Издательство: Альпина Диджитал
Дата публикации: 23.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Постсоветский Таджикистан охвачен гражданской войной. Убит известный врач, его семья вынуждена скрываться у родственников в горном кишлаке. Русская жена и дети-полукровки приноравливаются к местной жизни, в которой царят незнакомые им жестокие законы веками не меняющегося уклада. Одни и те же события показаны глазами нескольких участников – и у каждого из них свое особое отношение к происходящему, мотивы для ненависти и собственные границы человечности.