Молитва Каина
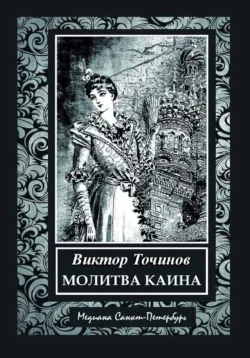
Виктор Точинов
Тип: электронная книга
Жанр: Мистика
Язык: на русском языке
Стоимость: 129.00 ₽
Статус: В продаже
Издательство: Точинов Виктор
Дата публикации: 14.08.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Произведение Виктора Точинова, представляющее собой журнальный вариант романа, основано на историческом материале и описывает времена Екатерины Великой. В центре авторского внимания кровавое столкновение представителя, как сейчас говорят, спецслужб и государственного преступника, сдобренное некоторым количеством фантастических реалий. Как всегда, у Виктора Точинова, – острый увлекательный сюжет и проработанный язык.