Девять рассказов
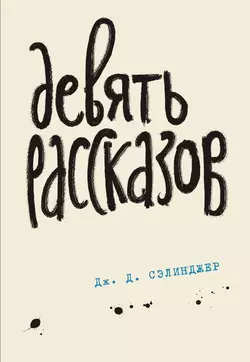
Джером Дэвид Сэлинджер
Тип: электронная книга
Жанр: Классическая проза
Язык: на русском языке
Стоимость: 279.00 ₽
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 19.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Писатель-классик, писатель-загадка, на пике карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Его книги, включая культовый роман «Над пропастью во ржи», стали переломной вехой в истории мировой литературы и сделались настольными для многих поколений бунтарей: от битников и хиппи до представителей современных радикальных молодежных движений.