Рубайат в классическом переводе Германа Плисецкого
Рубайат в классическом переводе Германа Плисецкого
Омар Хайям
Дмитрий Германович Плисецкий
Золотая серия поэзии (Эксмо)
Знаменитые четверостишия-рубаи Омара Хайама (ок. 1048 – ок. 1123) переводятся на русский язык уже более ста лет, но с особым успехом – начиная с 70-х годов XX века. В сборник, который вы держите в руках, вошли рубаи, переведенные замечательным поэтом и переводчиком восточной поэзии Германом Плисецким. «Хайам Германа Плисецкого убеждает прежде всего потому, что в его переводах старый иранский мудрец – действительно великий поэт» (Б. Слуцкий).
Дополнительную ценность сборнику придают вступительное эссе Самуила Лурье «Бином Хайама», предисловие самого поэта-переводчика и послесловие с рассказом о его судьбе.
Омар Хайам
Рубайат в классическом переводе Германа Плисецкого
© Плисецкий Г. Б., перевод на русский язык, наследники, 2014
© Плисецкий Д. Г., составление, 2014
© Лурье С., вступ. ст., 2014
© Оформление. ООО «Издательство
* * *
Бином Хайама
Не знаю, как вы, – а я, собираясь на необитаемый остров, непременно прихватил бы с собою Омара Хайама. Это практично: на весах любой таможни 66 четверостиший стрелку не потревожат, – и вот вам сопутствует лучший в мире собутыльник.
Положим, воображаемый. Но ведь и на выпивку рассчитывать не приходится, это во-первых. А во-вторых – для чего же и алкоголь, если не для той единственной минуты – и скоротечной! – когда очнувшаяся душа взмахнет рукой и скажет необыкновенным (не исключено, что настоящим своим) голосом, звонким от одиночества, что-нибудь такое:
Виночерпий, бездонный кувшин приготовь!
Пусть без устали хлещет из горлышка кровь.
Эта влага мне стала единственным другом,
Ибо все изменили – и друг, и любовь.
Собственно говоря, человек для того и пьет вот уже сколько тысячелетий, чтобы иногда почувствовать себя Омаром Хайамом. То есть дать Здравому Смыслу шанс поговорить начистоту с Начальником Бытия. Дескать, так и так: допустим, жалоб нет, питанием и прогулками доволен, книги тоже попадаются интересные, – допустим, а все-таки: зачем я тут? и на фига мне соблюдать эти ваши правила распорядка и ходить на общие, и наблюдать мерзкие повадки блатных, и трепетать перед вертухаями, если мне светит неизбежная вышка, причем неизвестно за что?
Да, я всего лишь особь, организм, тварь, а мироздание величаво и прекрасно, и я в нем ничего не значу и знаю это, и только этим, с позволения сказать, знанием и отличаюсь от какой-нибудь сосны или, там, пальмы. У вас, наверное, какие-нибудь замечательные замыслы и цели. Мне догадываться о них не положено. Ни жалости, ни снисхождения тоже не ждать. Я – говорящая пылинка, которая очень скоро замолчит навсегда. Что ж, превосходно. Я не нужен – значит, ничего не должен.
Нежным женским лицом и зеленой травой
Буду я наслаждаться, покуда живой.
Пил вино, пью вино и, наверное, буду
Пить вино до минуты своей роковой!
Меняю ваше мироздание на дозу этилового спирта, в данных исторических условиях – на тыквенную бутыль красной финиковой бормотухи. Потому что в мироздании нет свободы, а в бормотухе она есть. Ненастоящая? Конечно: тут всё ненастоящее, реальна только смерть.
Да пребудет вино неразлучно с тобой!
Пей с любою подругой из чаши любой
Виноградную кровь, ибо в черную глину
Превращает людей небосвод голубой.
А я у меня один. И у вас другого меня не будет. И с моей точки зрения – с точки зрения пальмы или пылинки, зачем-то наделенной здравым смыслом, – это жестоко и неумно. И обидно. Фантазия пусть подслащивает эту обиду литературой, философией, религией. А Здравый Смысл предпочитает асимметричный ответ, а именно – финиковую.
В жизни трезвым я не был, и к Богу на суд
В Судный день меня пьяного принесут!
До зари я лобзаю любезную чашу,
Обнимаю за шею любезный сосуд.
Вообще-то никто не видел Хайама пьяным. Он, может быть, и не прикасался к спиртному, и все свои застолья сочинил – как Бунин приключения в темных аллеях. Кстати, Хайам тоже толкует о приключениях, но как бы на уровне теоретических рекомендаций:
С той, чей стан – кипарис, а уста – словно лал,
В сад любви удались и наполни бокал,
Пока рок неминуемый, волк ненасытный,
Эту плоть, как рубашку, с тебя не сорвал!
Тотчас виден геометр, мастер уравнений: задери девушке рубашку, пока с тебя не сорвали тело. И астроном, автор календаря – лучшего, говорят, в мире (а впрочем, ненужного): тут секунда в космической цене.
Брось молиться, неси нам вина, богомол,
Разобьем свою добрую славу об пол.
Всё равно ты судьбу за подол не ухватишь —
Ухвати хоть красавицу за подол!
И видно также, что не красавицы у него на уме. Живи он столетием раньше да попади ко двору Владимира Красна Солнышка, была бы сейчас Российская Федерация крупнейшим мусульманским государством. Ведь только и не понравился в исламе нашему равноапостольному – безусловный запрет на вино. Так он и отрезал в 986 году исламским богословам: ваша религия для нас неприемлема, поскольку веселие Руси – алкоголизм. Омар Хайам полюбился бы великому князю. Вдвоем они сочинили бы, пожалуй, славную веру, и она завоевала бы весь мир.
Не у тех, кто во прах государства поверг, —
Лишь у пьяных душа устремляется вверх!
Надо пить: в понедельник, во вторник, в субботу,
В воскресение, в пятницу, в среду, в четверг.
Но Хайам служил султану – и непонятно, как и почему жил довольно долго и умер своей смертью. Какие бы ни были математические заслуги, критиковать в самиздате самое передовое, официальное и притом единственно верное учение – за это ни в одиннадцатом веке, ни в двенадцатом по головке не гладили. Остается предположить, что империя сельджукидов была отчасти правовое государство: не пойман – не автор; тексты ходят по рукам, мало ли кому припишет их неизвестный составитель рукописного сборника… И, наверное, Хайам был гениальный конспиратор. Ни единого автографа не оставил. И прижизненных сборников тоже не нашлось ни одного.
Не горюй, что забудется имя твое.
Пусть тебя утешает хмельное питье.
До того, как суставы твои распадутся —
Утешайся с любимой, лаская ее.
Это жутко осложнило жизнь филологам: в дошедших до нас диванах (или как они там, эти сборники, зовутся), – под именем Хайама живут чуть ли не полторы тысячи рубаи (название жанра; во множественном числе – рубайат). Стихи подражателей, стихи пародистов, любые стихи о выпивке – всё у потомков сходило за Хайама. Это как если через триста-четыреста лет всё, что написано по-русски четырехстопным ямбом, будет считаться наследием Пушкина. Возможно, персидских читателей такое положение устраивало, – но в 1859 году один британец издал поэму «Рубайат Омара Хайама» – издал на свои деньги, анонимно, – а звали его мистер Эдвард Фитцджеральд, – и этот вольный перевод сделался, говорят, самым популярным поэтическим произведением, когда-либо написанным на английском языке.
Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла,
Словно пьяная ночь, беспросветно прошла.
Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью,
Как меж пальцев песок, незаметно прошла!
С этих пор человечество взялось за Хайама всерьез, и к нашим дням осталось только 66, как уже сказано, четверостиший, насчет которых никто не сомневается. Еще штук четыреста – очень возможно, что написаны действительно Омаром Хайамом, родившимся около 1048 года в Нишапуре, там же умершим и похороненным около 1123 года. Остальную тысячу рубаи – Бог знает, кто сочинил. В самом лучшем русском издании – Омар Хайам. Рубаи. «Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1986 – тысяча триста тридцать три четверостишия.
Мы уйдем без следа – ни имен, ни примет.
Этот мир простоит еще тысячи лет.
Нас и раньше тут не было – после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.
А в золотые свои годы так называемая советская власть издавала Хайама понемножку. Он и ей умудрился насолить:
Чем за общее счастье без толку страдать —
Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.
Лучше друга к себе привязать добротою,
Чем от пут человечество освобождать.
Ах, какое это было чтение в эпоху Застоя! Тут еще необходимо сказать про Германа Плисецкого. Дело в том, что Хайама у нас переводили разные замечательные мастера – ярче других И. Тхоржевский, точней – О. Румер, душевней – Г. Семенов, – но Плисецкий дал ему вечную жизнь в русском языке. Он передал в рубаи Хайама презрение и отчаяние советского интеллигента, как бы начертив маршрут Исфахан – Петушки, далее – Нигде.
Не осталось мужей, коих мог уважать.
Лишь вино продолжает меня ублажать.
Не отдергивай руку от ручки кувшинной,
Если в старости некому руку пожать.
Тысячи лет как не бывало. Старик Палаточник, или Палаткин (так переводится имя Хайам), оказался одним из нас. Как если бы он бежал из Советского Союза и совершил вынужденную посадку в средневековой Персии. Он открыл бином Ньютона задолго до Ньютона – и раньше, чем следовало.
Когда повсюду еще воспевались героические походы рыжих муравьев на муравьев черных (если половец не сдается – его уничтожают, а сдается – обращают в рабство; пусть это самое «Слово о полку» – подделка, но ведь правдоподобная), Хайам уже осознал, что суетиться не стоит – мироздание подобно империи: управляется законом неблагоприятных для человека случайностей. Необозримый концлагерь, где единственный неоспоримый факт – смертный приговор, а принадлежит лично нам лишь неопределенное время отсрочки; хорошо на это время пристроиться придурком в КВЧ[1 - КВЧ – культурно-воспитательная часть в зоне.] (например – звездочетом к султану), – но достоин зависти, а также вправе считать себя живым, счастливым и свободным – только тот, кто выпил с утра. Он и сам играл в такое жалкое блаженство, но больше для виду – назло Начальнику, если он есть. А про себя строил всю жизнь уравнение судьбы, в котором человек – хоть и переменная величина, и притом бесконечно малая, но все-таки не равная нулю, – потому что если не на что надеяться, то нечего бояться.
Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
Нет из мрака возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце!
И бояться не надо, о сердце мое!
Вот эти четыре строчки на необитаемом острове пригодятся. Не хотелось бы их позабыть.
Самуил Лурье
Живая личность поэта
Стихи такого поэта, как Омар Хайам, возможно, не нуждаются в предисловии. Но поскольку время его творчества отделено от нас восемью веками, я решаюсь добавить несколько слов от себя. Всё, что я узнал о Хайаме, всё, что понял в нем за время работы, – всё это без остатка ушло в переводы. Итог – перед читателем. Но мне хочется сказать о том, как постепенно менялось мое собственное представление о переводимом поэте, как живая логика его стихов изменяла предвзятый, односторонний образ, существовавший в моем воображении.
Ибо помимо поэтических и переводческих традиций существует еще инерция восприятия. Сложный поэт нередко упрощен, иногда (невольно) на первый план выступает одна какая-нибудь его черта, затеняя собой остальные. Так возникают «байронизм», «киплингианство», «есенинщина». То же произошло и с Хайамом. У многих, и у меня в том числе, сложился образ этакого веселого старца, с неизменной чашей в руке, между делом изрекающего истины. (Кабачки имени Омара Хайама, открывшиеся в начале XX века в Европе и Америке, – только крайнее выражение этого понимания поэта.)
Несоответствие этого шаблона истинной поэзии Хайама я почувствовал уже при работе над пробными четверостишиями. Из двадцати надо было перевести на выбор десять. Я решил перевести все двадцать, а потом отобрать из них лучшие. И оказалось, что лицо Хайама определяют не гедонические мотивы, а четверостишия, полные сосредоточенного, скорбного размышления. Именно они определили выбор стихотворного размера для перевода, именно они получились удачней других.
Чем больше я погружался в работу, тем дальше отходил от первоначального образа-схемы. Количество выпитого вина в тексте не убавлялось, но как бы уходило в придаточное предложение, становилось орнаментом. И постепенно сквозь стихотворные строки стал проступать облик совсем другого человека.
Спорщик с Богом, бесстрашный ум, чуждый иллюзий, ученый, и в стихе стремящийся к точной формуле, к афоризму, – таков Хайам, астроном и математик. Каждое четверостишие – уравнение. Ученый по-новому комбинирует известные ему величины, стремясь найти Неизвестное. Четверостишия слагаются в серии. Одна и та же мысль варьируется многократно, рассматривается с разных сторон. Посылки все те же, а выводы порой прямо противоположны. Не думаю, что «противоречивость» Хайама может служить основанием для того, чтобы отвергать его авторство в доброй половине четверостиший (так полагали многие ученые востоковеды). Есть в этих крайностях высшее единство – живая личность поэта, стоящая над собственной исследовательской мыслью, примиряющая противоречия.
Если уж говорить о сомнительной принадлежности Хайаму некоторых четверостиший, то они отличаются не противоположностью суждений, а принципом поэтической организации. Так, мне кажется, что Хайаму чуждо «живописание». Он точно, четко мыслит в стихе, а не рисует картины. Поэтому несколько чужеродными мне представляются немногие пейзажные четверостишия. Внимательный читатель без труда отыщет их. В этом отличие Хайама от других великих персидских поэтов и в этом, может быть, секрет его широкой популярности за пределами родной страны.
Точность, немногословность, отсутствие случайного, симметрия формы – всё это роднит рубаи Хайама с математической формулой. Форма хайамовского рубаи необычайно дисциплинирует переводчика, ставит жесткие границы, и в то же время сама подсказывает приемы работы. Упомяну из них то, что я назвал бы «взаимозаменяемостью деталей» у Хайама. Полстроки, целая строка, а порой и двустишие целиком повторяются в разных четверостишиях, могут быть перенесены из одного в другое. Что это? Позднейшие варианты? Я предпочитаю думать, что это поэтический принцип, и полностью использовал его в переводе.
Как Хайам на протяжении своей долгой жизни возвращался к важным для него мыслям, пересматривая их снова и снова, так и мы, переводчики, будем еще не раз возвращаться к его творчеству, казалось бы, столь ясному и осознанному, но каждый раз открывающему новые возможности, новую точку зрения. Работа эта, как я убедился на собственном опыте, практически бесконечна. Перечитывая сделанное, вдруг видишь места, которые можно усилить. Но стоит улучшить одно четверостишие, как соседнее начинает выглядеть слабым. Чтобы издать книгу, нужно было однажды остановиться.
Герман Плисецкий
Рубайат
1
Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно, —
Вот последний секрет из постигнутых мной.
2
Я – школяр в этом лучшем из лучших миров.
Труд мой тяжек: учитель уж больно суров!
До седин я у жизни хожу в подмастерьях,
Всё еще не зачислен в разряд мастеров…
3
И пылинка – живою частицей была,
Черным локоном, длинной ресницей была.
Пыль с лица вытирай осторожно и нежно:
Пыль, возможно, Зухрой яснолицей была!
4
Тот усердствует слишком, кричит: «Это – я!»
В кошельке золотишком бренчит: «Это – я!»
Но едва лишь успеет наладить делишки —
Смерть в окно к хвастунишке стучит: «Это – я!»
5
Этот старый кувшин безутешней вдовца
С полки, в лавке гончарной, кричит без конца:
«Где, – кричит он, – гончар, продавец, покупатель?
Нет на свете купца, гончара, продавца!»
6
Я однажды кувшин говорящий купил.
«Был я шахом! – кувшин безутешно вопил. —
Стал я прахом. Гончар меня вызвал из праха —
Сделал бывшего шаха утехой кутил».
7
Этот старый кувшин на столе бедняка
Был всесильным везиром в былые века.
Эта чаша, которую держит рука, —
Грудь умершей красавицы или щека…
8
Когда плачут весной облака – не грусти.
Прикажи себе чашу вина принести.
Травка эта, которая радует взоры,
Завтра будет из нашего праха расти.
9
Был ли в самом начале у мира исток?
Вот загадка, которую задал нам Бог.
Мудрецы толковали о ней, как хотели, —
Ни один разгадать ее толком не смог.
10
Видишь этого мальчика, старый мудрец?
Он песком забавляется – строит дворец.
Дай совет ему: «Будь осторожен, юнец,
С прахом мудрых голов и влюбленных сердец!»
11
Управляется мир Четырьмя и Семью.
Раб магических чисел – смиряюсь и пью.
Всё равно семь планет и четыре стихии
В грош не ставят свободную волю мою!
12
В колыбели – младенец, покойник – в гробу:
Вот и всё, что известно про нашу судьбу.
Выпей чашу до дна – и не спрашивай много:
Господин не откроет секрета рабу.
13
Я познание сделал своим ремеслом,
Я знаком с высшей правдой и с низменным злом.
Все тугие узлы я распутал на свете,
Кроме смерти, завязанной мертвым узлом.
14
Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,
Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,
Ни былой, ни грядущей минуте не верь,
Верь минуте текущей – будь счастлив теперь!
15
Месяца месяцами сменялись до нас,
Мудрецы мудрецами сменялись до нас.
Эти мертвые камни у нас под ногами
Прежде были зрачками пленительных глаз.
16
Как жар-птица, как в сказочном замке княжна,
В сердце истина скрытно храниться должна.
И жемчужине, чтобы налиться сияньем,
Точно так же глубокая тайна нужна.
17
Не тверди нам о том, что в раю – благодать.
Прикажи нам вина поскорее подать.
Звук пустой – эти гурии, розы, фонтаны…
Лучше пить, чем о жизни загробной гадать!
18
Ты едва ли былых мудрецов превзойдешь,
Вечной тайны разгадку едва ли найдешь.
Чем не рай тебе – эта лужайка земная?
После смерти едва ли в другой попадешь…
19
Знай, рожденный в рубашке любимец судьбы:
Твой шатер подпирают гнилые столбы.
Если плотью душа, как палаткой, укрыта —
Берегись, ибо колья палатки слабы!
20
Те, что веруют слепо, – пути не найдут.
Тех, кто мыслит, – сомнения вечно гнетут.
Опасаюсь, что голос раздастся однажды:
«О невежды! Дорога не там и не тут!»
21
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
22
Недостойно – стремиться к тарелке любой,
Словно жадная муха, рискуя собой.
Лучше пусть у Хайама ни крошки не будет,
Чем подлец его будет кормить на убой!
23
Если труженик, в поте лица своего
Добывающий хлеб, не стяжал ничего —
Почему он ничтожеству кланяться должен
Или даже тому, кто не хуже его?
24
Вижу смутную землю – обитель скорбей,
Вижу смертных, спешащих к могиле своей,
Вижу славных царей, луноликих красавиц,
Отблиставших и ставших добычей червей.
25
Не одерживал смертный над небом побед.
Всех подряд пожирает земля-людоед.
Ты пока еще цел? И бахвалишься этим?
Погоди: попадешь муравьям на обед!
26
Всё, что видим мы, – видимость только одна.
Далеко от поверхности мира до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей – не видна.
27
Даже самые светлые в мире умы
Не смогли разогнать окружающей тьмы.
Рассказали нам несколько сказочек на ночь —
И отправились, мудрые, спать, как и мы.
28
Удивленья достойны поступки Творца!
Переполнены горечью наши сердца.
Мы уходим из этого мира, не зная
Ни начала, ни смысла его, ни конца.
29
Круг небес ослепляет нас блеском своим,
Ни конца, ни начала его мы не зрим,
Смысл его недоступен для логики нашей,
Меркой разума нашего неизмерим.
30
В поднебесье – светил ослепительных тьма,
Помыкая тобою, блуждает сама.
О мудрец! Заблуждаясь, в сомненьях теряясь,
Не теряй путеводную нитку ума!
31
Если истина вечно уходит из рук —
Не пытайся понять непонятное, друг.
Чашу в руки бери, оставайся невеждой,
Нету смысла, поверь, в изученье наук!
32
Ты с душою расстанешься скоро, поверь,
Ждет за темной завесою тайная дверь.
Пей вино! Ибо ты – неизвестно откуда.
Веселись! Неизвестно – куда же отсель…
33
Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
Нет из мрака возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце,
И бояться не надо, о сердце мое!
34
Когда с телом душа распростится, скорбя,
Кирпичами из глины придавят тебя.
Век минует – и глиною ставшее тело
Пустят в новое дело, киркою долбя.
35
Где мудрец, мирозданья постигший секрет?
Смысла в жизни ищи до конца своих лет:
Всё равно ничего достоверного нет —
Только саван, в который ты будешь одет…
36
Тот, кто следует разуму, – доит быка,
Мудрость нынче убыточна наверняка!
В наше время доходней валять дурака,
Ибо разум сегодня в цене чеснока.
37
Здесь владыки блистали в парче и в шелку,
К ним гонцы подлетали на полном скаку.
Где всё это? В зубчатых развалинах башни
Сиротливо кукушка кукует: «Ку-ку…»[2 - Игра слов: «ку» на фарси означает «где?»]
38
Этот старый дворец называется – мир.
Это царский, царями покинутый пир.
Белый полдень сменяется полночью черной,
Превращается в прах за кумиром кумир.
39
Где могучий Бахрам за онагром скакал —
Там теперь обитают лиса и шакал.
Видел ты, как охотник, расставив капканы,
Сам, бедняга, в глубокую яму попал?
40
Если низменной похоти станешь рабом —
Будешь в старости пуст, как покинутый дом.
Оглянись на себя и подумай о том,
Кто ты есть, где ты есть и – куда же потом?
41
В прах судьбою растертые видятся мне,
Под землей распростертые видятся мне.
Сколько я ни вперяюсь во мрак запредельный —
Только мертвые, мертвые видятся мне…
42
Вижу: птица сидит на стене городской,
Держит череп в когтях, повторяет с тоской:
«Шах великий! Где войск твоих трубные клики?
Где твоих барабанов торжественный бой?»
43
Я вчера наблюдал, как вращается круг,
Как спокойно, не помня чинов и заслуг,
Лепит чаши гончар из голов и из рук,
Из великих царей и последних пьянчуг.
44
Эй, гончар! И доколе ты будешь, злодей,
Издеваться над глиной, над прахом людей?
Ты, я вижу, ладонь самого Фаридуна
Хочешь в дело пустить? Ты – безумец, ей-ей!
45
Я кувшин что есть силы об камень хватил.
В этот вечер я лишнего, видно, хватил.
«О несчастный! – кувшин возопил. – И с тобою
Точно так же поступят, как ты поступил!»
46
Сам я слышал вчера в мастерской гончара —
Глина тайны свои выдавать начала:
«Не топчи меня! – глина ему говорила. —
Я сама человеком была лишь вчера».
47
Поглядите на мастера глиняных дел:
Месит глину прилежно, умён и умел.
Приглядитесь внимательней: мастер – безумен,
Ибо это не глина, а месиво тел!
48
Этот винный кувшин на столе бедняка
Был влюбленным красавцем в былые века.
Это вовсе не ручка на горле кувшинном,
А обвившая шею любимой рука.
49
Ни держава, ни полная злата казна
Не сравнятся с хорошею чаркой вина!
Ни венец Кей-Хосрова, ни трон Фаридуна
Не дороже затычки от кувшина?!
50
На зеленых коврах хорасанских полей
Вырастают тюльпаны из крови царей,
Вырастают фиалки из праха красавиц,
Из пленительных родинок между бровей…
51
В этой тленной Вселенной в положенный срок
Превращаются в прах человек и цветок.
Кабы прах испарялся у нас из-под ног —
С неба лился б на землю кровавый поток!
52
Поутру просыпается роза моя,
На ветру распускается роза моя.
О жестокое небо! Едва распустилась —
И уже осыпается роза моя.
53
Половина друзей моих погребена.
Всем живым уготована участь одна.
Вместе пившие с нами на празднике жизни
Раньше нас свою чашу испили до дна.
54
Книга жизни моей перелистана – жаль!
От весны, от веселья осталась печаль.
Юность – птица: не помню, когда прилетела
И когда унеслась, легкокрылая, вдаль.
55
Мастер, шьющий палатки из шелка ума,
И тебя не минует внезапная тьма.
О Хайам! Оборвется непрочная нитка.
Жизнь твоя на толкучке пойдет задарма.
56
Мы – послушные куклы в руках у Творца!
Это сказано мною не ради словца.
Нас на сцену из мрака выводит Всевышний
И швыряет в сундук, доведя до конца.
57
Даже гений – творенья венец и краса —
Путь земной совершает за четверть часа.
Но в кармане земли и в подоле у неба
Живы люди – покуда стоят небеса!
58
Люди тлеют в могилах, ничем становясь.
Распадается атомов тесная связь.
Что же это за влага хмельная, которой
Опоила их жизнь и повергнула в грязь?
59
Я спустился однажды в гончарный подвал,
Там над глиной гончар, как всегда, колдовал.
Мне внезапно открылось: прекрасную чашу
Он из праха отца моего создавал!
60
Разорвался у розы подол на ветру.
Соловей наслаждался в саду поутру.
Наслаждайся и ты, ибо роза – мгновенна,
Шепчет юная роза: «Любуйся! Умру…»
61
Жизнь уходит из рук, надвигается мгла,
Смерть терзает сердца и кромсает тела,
Возвратившихся нет из загробного мира,
У кого бы мне справиться: как там дела?
62
В детстве ходим за истиной к учителям,
После – ходят за истиной к нашим дверям.
Где же истина? Мы появились из капли.
Станем – прахом. Вот смысл этой сказки, Хайам!
63
О невежды! Наш облик телесный – ничто,
Да и весь этот мир поднебесный – ничто.
Веселитесь же, тленные пленники мига,
Ибо миг в этой камере тесной – ничто!
64
Всё, что в мире нам радует взоры, – ничто.
Все стремления наши и споры – ничто.
Все вершины Земли, все просторы – ничто.
Всё, что мы волочем в свои норы, – ничто.
65
В этом мире ты мудрым слывешь? Ну и что?
Всем пример и совет подаешь? Ну и что?
До? ста лет ты намерен прожить? Допускаю.
Может быть, до двухсот проживешь. Ну и что?
66
Что есть счастье? Ничтожная малость. Ничто.
Что от прожитой жизни осталось? Ничто.
Был я жарко пылавшей свечой наслажденья.
Всё, казалось, – мое. Оказалось – ничто.
67
Если будешь всю жизнь наслаждений искать:
Пить вино, слушать чанг и красавиц ласкать,
Всё равно тебе с этим придется расстаться.
Жизнь похожа на сон. Но не вечно же спать!
68
Вот беспутный гуляка, хмельной ветрогон:
Деньги, истину, жизнь – всё поставит на кон!
Шариат и Коран – для него не закон.
Кто на свете, скажите, смелее, чем он?
69
В Божий храм не пускайте меня на порог.
Я – безбожник. Таким сотворил меня Бог.
Я подобен блуднице, чья вера – порок.
Рады б грешники в рай – да не знают дорог.
70
Этот мир – эти горы, долины, моря —
Как волшебный фонарь. Словно лампа – заря.
Жизнь твоя – на стекло нанесенный рисунок,
Неподвижно застывший внутри фонаря.
71
Я нигде преклонить головы не могу.
Верить в мир замогильный – увы! – не могу.
Верить в то, что, истлевши, восстану из праха
Хоть бы стеблем зеленой травы, – не могу.
72
Ты не очень-то щедр, всемогущий Творец:
Сколько в мире тобою разбитых сердец!
Губ рубиновых, мускусных локонов сколько
Ты, как скряга, упрятал в бездонный ларец!
73
Жизнь – пустыня, по ней мы бредем нагишом.
Смертный, полный гордыни, ты просто смешон!
Ты для каждого шага находишь причину —
Между тем он давно в небесах предрешен.
74
Вместо солнца весь мир озарить – не могу,
В тайну сущего дверь отворить – не могу.
В море мыслей нашел я жемчужину смысла,
Но от страха ее просверлить не могу.
75
Ухожу, ибо в этой обители бед,
В жизни сей ничего постоянного нет.
Пусть смеется лишь тот уходящему вслед,
Кто прожить собирается тысячу лет.
76
Так как собственной смерти отсрочить нельзя,
Так как свыше указана смертным стезя,
Так как вечные вещи не слепишь из воска —
То и плакать об этом не стоит, друзья!
77
Мы источник веселья – и скорби рудник.
Мы вместилище скверны – и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, многолик.
Он ничтожен – и он же безмерно велик!
78
Ты не волен в желаньях своих и делах?
Будь, однако, доволен: так хочет Аллах!
Следуй разуму: помни, что бренное тело —
Только искра и капля, только ветер и прах…
79
Веселись! Ибо нас не спросили вчера.
Эту кашу без нас заварили вчера.
Мы не сами грешили и пили вчера —
Всё за нас в небесах предрешили вчера.
80
Бренность мира узрев, горевать погоди!
Верь: недаром колотится сердце в груди.
Не горюй о минувшем: что было – то сплыло.
Не горюй о грядущем: туман впереди…
81
Если б мог я найти путеводную нить,
Если б мог я надежду на рай сохранить —
Не томился бы я в этой тесной темнице,
А спешил место жительства переменить!
82
В этом замкнутом круге – крути не крути —
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/omar-hayyam/rubayat-v-klassicheskom-perevode-germana-pliseckogo-9595653/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
КВЧ – культурно-воспитательная часть в зоне.
2
Игра слов: «ку» на фарси означает «где?»
Омар Хайям
Дмитрий Германович Плисецкий
Золотая серия поэзии (Эксмо)
Знаменитые четверостишия-рубаи Омара Хайама (ок. 1048 – ок. 1123) переводятся на русский язык уже более ста лет, но с особым успехом – начиная с 70-х годов XX века. В сборник, который вы держите в руках, вошли рубаи, переведенные замечательным поэтом и переводчиком восточной поэзии Германом Плисецким. «Хайам Германа Плисецкого убеждает прежде всего потому, что в его переводах старый иранский мудрец – действительно великий поэт» (Б. Слуцкий).
Дополнительную ценность сборнику придают вступительное эссе Самуила Лурье «Бином Хайама», предисловие самого поэта-переводчика и послесловие с рассказом о его судьбе.
Омар Хайам
Рубайат в классическом переводе Германа Плисецкого
© Плисецкий Г. Б., перевод на русский язык, наследники, 2014
© Плисецкий Д. Г., составление, 2014
© Лурье С., вступ. ст., 2014
© Оформление. ООО «Издательство
* * *
Бином Хайама
Не знаю, как вы, – а я, собираясь на необитаемый остров, непременно прихватил бы с собою Омара Хайама. Это практично: на весах любой таможни 66 четверостиший стрелку не потревожат, – и вот вам сопутствует лучший в мире собутыльник.
Положим, воображаемый. Но ведь и на выпивку рассчитывать не приходится, это во-первых. А во-вторых – для чего же и алкоголь, если не для той единственной минуты – и скоротечной! – когда очнувшаяся душа взмахнет рукой и скажет необыкновенным (не исключено, что настоящим своим) голосом, звонким от одиночества, что-нибудь такое:
Виночерпий, бездонный кувшин приготовь!
Пусть без устали хлещет из горлышка кровь.
Эта влага мне стала единственным другом,
Ибо все изменили – и друг, и любовь.
Собственно говоря, человек для того и пьет вот уже сколько тысячелетий, чтобы иногда почувствовать себя Омаром Хайамом. То есть дать Здравому Смыслу шанс поговорить начистоту с Начальником Бытия. Дескать, так и так: допустим, жалоб нет, питанием и прогулками доволен, книги тоже попадаются интересные, – допустим, а все-таки: зачем я тут? и на фига мне соблюдать эти ваши правила распорядка и ходить на общие, и наблюдать мерзкие повадки блатных, и трепетать перед вертухаями, если мне светит неизбежная вышка, причем неизвестно за что?
Да, я всего лишь особь, организм, тварь, а мироздание величаво и прекрасно, и я в нем ничего не значу и знаю это, и только этим, с позволения сказать, знанием и отличаюсь от какой-нибудь сосны или, там, пальмы. У вас, наверное, какие-нибудь замечательные замыслы и цели. Мне догадываться о них не положено. Ни жалости, ни снисхождения тоже не ждать. Я – говорящая пылинка, которая очень скоро замолчит навсегда. Что ж, превосходно. Я не нужен – значит, ничего не должен.
Нежным женским лицом и зеленой травой
Буду я наслаждаться, покуда живой.
Пил вино, пью вино и, наверное, буду
Пить вино до минуты своей роковой!
Меняю ваше мироздание на дозу этилового спирта, в данных исторических условиях – на тыквенную бутыль красной финиковой бормотухи. Потому что в мироздании нет свободы, а в бормотухе она есть. Ненастоящая? Конечно: тут всё ненастоящее, реальна только смерть.
Да пребудет вино неразлучно с тобой!
Пей с любою подругой из чаши любой
Виноградную кровь, ибо в черную глину
Превращает людей небосвод голубой.
А я у меня один. И у вас другого меня не будет. И с моей точки зрения – с точки зрения пальмы или пылинки, зачем-то наделенной здравым смыслом, – это жестоко и неумно. И обидно. Фантазия пусть подслащивает эту обиду литературой, философией, религией. А Здравый Смысл предпочитает асимметричный ответ, а именно – финиковую.
В жизни трезвым я не был, и к Богу на суд
В Судный день меня пьяного принесут!
До зари я лобзаю любезную чашу,
Обнимаю за шею любезный сосуд.
Вообще-то никто не видел Хайама пьяным. Он, может быть, и не прикасался к спиртному, и все свои застолья сочинил – как Бунин приключения в темных аллеях. Кстати, Хайам тоже толкует о приключениях, но как бы на уровне теоретических рекомендаций:
С той, чей стан – кипарис, а уста – словно лал,
В сад любви удались и наполни бокал,
Пока рок неминуемый, волк ненасытный,
Эту плоть, как рубашку, с тебя не сорвал!
Тотчас виден геометр, мастер уравнений: задери девушке рубашку, пока с тебя не сорвали тело. И астроном, автор календаря – лучшего, говорят, в мире (а впрочем, ненужного): тут секунда в космической цене.
Брось молиться, неси нам вина, богомол,
Разобьем свою добрую славу об пол.
Всё равно ты судьбу за подол не ухватишь —
Ухвати хоть красавицу за подол!
И видно также, что не красавицы у него на уме. Живи он столетием раньше да попади ко двору Владимира Красна Солнышка, была бы сейчас Российская Федерация крупнейшим мусульманским государством. Ведь только и не понравился в исламе нашему равноапостольному – безусловный запрет на вино. Так он и отрезал в 986 году исламским богословам: ваша религия для нас неприемлема, поскольку веселие Руси – алкоголизм. Омар Хайам полюбился бы великому князю. Вдвоем они сочинили бы, пожалуй, славную веру, и она завоевала бы весь мир.
Не у тех, кто во прах государства поверг, —
Лишь у пьяных душа устремляется вверх!
Надо пить: в понедельник, во вторник, в субботу,
В воскресение, в пятницу, в среду, в четверг.
Но Хайам служил султану – и непонятно, как и почему жил довольно долго и умер своей смертью. Какие бы ни были математические заслуги, критиковать в самиздате самое передовое, официальное и притом единственно верное учение – за это ни в одиннадцатом веке, ни в двенадцатом по головке не гладили. Остается предположить, что империя сельджукидов была отчасти правовое государство: не пойман – не автор; тексты ходят по рукам, мало ли кому припишет их неизвестный составитель рукописного сборника… И, наверное, Хайам был гениальный конспиратор. Ни единого автографа не оставил. И прижизненных сборников тоже не нашлось ни одного.
Не горюй, что забудется имя твое.
Пусть тебя утешает хмельное питье.
До того, как суставы твои распадутся —
Утешайся с любимой, лаская ее.
Это жутко осложнило жизнь филологам: в дошедших до нас диванах (или как они там, эти сборники, зовутся), – под именем Хайама живут чуть ли не полторы тысячи рубаи (название жанра; во множественном числе – рубайат). Стихи подражателей, стихи пародистов, любые стихи о выпивке – всё у потомков сходило за Хайама. Это как если через триста-четыреста лет всё, что написано по-русски четырехстопным ямбом, будет считаться наследием Пушкина. Возможно, персидских читателей такое положение устраивало, – но в 1859 году один британец издал поэму «Рубайат Омара Хайама» – издал на свои деньги, анонимно, – а звали его мистер Эдвард Фитцджеральд, – и этот вольный перевод сделался, говорят, самым популярным поэтическим произведением, когда-либо написанным на английском языке.
Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла,
Словно пьяная ночь, беспросветно прошла.
Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью,
Как меж пальцев песок, незаметно прошла!
С этих пор человечество взялось за Хайама всерьез, и к нашим дням осталось только 66, как уже сказано, четверостиший, насчет которых никто не сомневается. Еще штук четыреста – очень возможно, что написаны действительно Омаром Хайамом, родившимся около 1048 года в Нишапуре, там же умершим и похороненным около 1123 года. Остальную тысячу рубаи – Бог знает, кто сочинил. В самом лучшем русском издании – Омар Хайам. Рубаи. «Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1986 – тысяча триста тридцать три четверостишия.
Мы уйдем без следа – ни имен, ни примет.
Этот мир простоит еще тысячи лет.
Нас и раньше тут не было – после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.
А в золотые свои годы так называемая советская власть издавала Хайама понемножку. Он и ей умудрился насолить:
Чем за общее счастье без толку страдать —
Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.
Лучше друга к себе привязать добротою,
Чем от пут человечество освобождать.
Ах, какое это было чтение в эпоху Застоя! Тут еще необходимо сказать про Германа Плисецкого. Дело в том, что Хайама у нас переводили разные замечательные мастера – ярче других И. Тхоржевский, точней – О. Румер, душевней – Г. Семенов, – но Плисецкий дал ему вечную жизнь в русском языке. Он передал в рубаи Хайама презрение и отчаяние советского интеллигента, как бы начертив маршрут Исфахан – Петушки, далее – Нигде.
Не осталось мужей, коих мог уважать.
Лишь вино продолжает меня ублажать.
Не отдергивай руку от ручки кувшинной,
Если в старости некому руку пожать.
Тысячи лет как не бывало. Старик Палаточник, или Палаткин (так переводится имя Хайам), оказался одним из нас. Как если бы он бежал из Советского Союза и совершил вынужденную посадку в средневековой Персии. Он открыл бином Ньютона задолго до Ньютона – и раньше, чем следовало.
Когда повсюду еще воспевались героические походы рыжих муравьев на муравьев черных (если половец не сдается – его уничтожают, а сдается – обращают в рабство; пусть это самое «Слово о полку» – подделка, но ведь правдоподобная), Хайам уже осознал, что суетиться не стоит – мироздание подобно империи: управляется законом неблагоприятных для человека случайностей. Необозримый концлагерь, где единственный неоспоримый факт – смертный приговор, а принадлежит лично нам лишь неопределенное время отсрочки; хорошо на это время пристроиться придурком в КВЧ[1 - КВЧ – культурно-воспитательная часть в зоне.] (например – звездочетом к султану), – но достоин зависти, а также вправе считать себя живым, счастливым и свободным – только тот, кто выпил с утра. Он и сам играл в такое жалкое блаженство, но больше для виду – назло Начальнику, если он есть. А про себя строил всю жизнь уравнение судьбы, в котором человек – хоть и переменная величина, и притом бесконечно малая, но все-таки не равная нулю, – потому что если не на что надеяться, то нечего бояться.
Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
Нет из мрака возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце!
И бояться не надо, о сердце мое!
Вот эти четыре строчки на необитаемом острове пригодятся. Не хотелось бы их позабыть.
Самуил Лурье
Живая личность поэта
Стихи такого поэта, как Омар Хайам, возможно, не нуждаются в предисловии. Но поскольку время его творчества отделено от нас восемью веками, я решаюсь добавить несколько слов от себя. Всё, что я узнал о Хайаме, всё, что понял в нем за время работы, – всё это без остатка ушло в переводы. Итог – перед читателем. Но мне хочется сказать о том, как постепенно менялось мое собственное представление о переводимом поэте, как живая логика его стихов изменяла предвзятый, односторонний образ, существовавший в моем воображении.
Ибо помимо поэтических и переводческих традиций существует еще инерция восприятия. Сложный поэт нередко упрощен, иногда (невольно) на первый план выступает одна какая-нибудь его черта, затеняя собой остальные. Так возникают «байронизм», «киплингианство», «есенинщина». То же произошло и с Хайамом. У многих, и у меня в том числе, сложился образ этакого веселого старца, с неизменной чашей в руке, между делом изрекающего истины. (Кабачки имени Омара Хайама, открывшиеся в начале XX века в Европе и Америке, – только крайнее выражение этого понимания поэта.)
Несоответствие этого шаблона истинной поэзии Хайама я почувствовал уже при работе над пробными четверостишиями. Из двадцати надо было перевести на выбор десять. Я решил перевести все двадцать, а потом отобрать из них лучшие. И оказалось, что лицо Хайама определяют не гедонические мотивы, а четверостишия, полные сосредоточенного, скорбного размышления. Именно они определили выбор стихотворного размера для перевода, именно они получились удачней других.
Чем больше я погружался в работу, тем дальше отходил от первоначального образа-схемы. Количество выпитого вина в тексте не убавлялось, но как бы уходило в придаточное предложение, становилось орнаментом. И постепенно сквозь стихотворные строки стал проступать облик совсем другого человека.
Спорщик с Богом, бесстрашный ум, чуждый иллюзий, ученый, и в стихе стремящийся к точной формуле, к афоризму, – таков Хайам, астроном и математик. Каждое четверостишие – уравнение. Ученый по-новому комбинирует известные ему величины, стремясь найти Неизвестное. Четверостишия слагаются в серии. Одна и та же мысль варьируется многократно, рассматривается с разных сторон. Посылки все те же, а выводы порой прямо противоположны. Не думаю, что «противоречивость» Хайама может служить основанием для того, чтобы отвергать его авторство в доброй половине четверостиший (так полагали многие ученые востоковеды). Есть в этих крайностях высшее единство – живая личность поэта, стоящая над собственной исследовательской мыслью, примиряющая противоречия.
Если уж говорить о сомнительной принадлежности Хайаму некоторых четверостиший, то они отличаются не противоположностью суждений, а принципом поэтической организации. Так, мне кажется, что Хайаму чуждо «живописание». Он точно, четко мыслит в стихе, а не рисует картины. Поэтому несколько чужеродными мне представляются немногие пейзажные четверостишия. Внимательный читатель без труда отыщет их. В этом отличие Хайама от других великих персидских поэтов и в этом, может быть, секрет его широкой популярности за пределами родной страны.
Точность, немногословность, отсутствие случайного, симметрия формы – всё это роднит рубаи Хайама с математической формулой. Форма хайамовского рубаи необычайно дисциплинирует переводчика, ставит жесткие границы, и в то же время сама подсказывает приемы работы. Упомяну из них то, что я назвал бы «взаимозаменяемостью деталей» у Хайама. Полстроки, целая строка, а порой и двустишие целиком повторяются в разных четверостишиях, могут быть перенесены из одного в другое. Что это? Позднейшие варианты? Я предпочитаю думать, что это поэтический принцип, и полностью использовал его в переводе.
Как Хайам на протяжении своей долгой жизни возвращался к важным для него мыслям, пересматривая их снова и снова, так и мы, переводчики, будем еще не раз возвращаться к его творчеству, казалось бы, столь ясному и осознанному, но каждый раз открывающему новые возможности, новую точку зрения. Работа эта, как я убедился на собственном опыте, практически бесконечна. Перечитывая сделанное, вдруг видишь места, которые можно усилить. Но стоит улучшить одно четверостишие, как соседнее начинает выглядеть слабым. Чтобы издать книгу, нужно было однажды остановиться.
Герман Плисецкий
Рубайат
1
Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно, —
Вот последний секрет из постигнутых мной.
2
Я – школяр в этом лучшем из лучших миров.
Труд мой тяжек: учитель уж больно суров!
До седин я у жизни хожу в подмастерьях,
Всё еще не зачислен в разряд мастеров…
3
И пылинка – живою частицей была,
Черным локоном, длинной ресницей была.
Пыль с лица вытирай осторожно и нежно:
Пыль, возможно, Зухрой яснолицей была!
4
Тот усердствует слишком, кричит: «Это – я!»
В кошельке золотишком бренчит: «Это – я!»
Но едва лишь успеет наладить делишки —
Смерть в окно к хвастунишке стучит: «Это – я!»
5
Этот старый кувшин безутешней вдовца
С полки, в лавке гончарной, кричит без конца:
«Где, – кричит он, – гончар, продавец, покупатель?
Нет на свете купца, гончара, продавца!»
6
Я однажды кувшин говорящий купил.
«Был я шахом! – кувшин безутешно вопил. —
Стал я прахом. Гончар меня вызвал из праха —
Сделал бывшего шаха утехой кутил».
7
Этот старый кувшин на столе бедняка
Был всесильным везиром в былые века.
Эта чаша, которую держит рука, —
Грудь умершей красавицы или щека…
8
Когда плачут весной облака – не грусти.
Прикажи себе чашу вина принести.
Травка эта, которая радует взоры,
Завтра будет из нашего праха расти.
9
Был ли в самом начале у мира исток?
Вот загадка, которую задал нам Бог.
Мудрецы толковали о ней, как хотели, —
Ни один разгадать ее толком не смог.
10
Видишь этого мальчика, старый мудрец?
Он песком забавляется – строит дворец.
Дай совет ему: «Будь осторожен, юнец,
С прахом мудрых голов и влюбленных сердец!»
11
Управляется мир Четырьмя и Семью.
Раб магических чисел – смиряюсь и пью.
Всё равно семь планет и четыре стихии
В грош не ставят свободную волю мою!
12
В колыбели – младенец, покойник – в гробу:
Вот и всё, что известно про нашу судьбу.
Выпей чашу до дна – и не спрашивай много:
Господин не откроет секрета рабу.
13
Я познание сделал своим ремеслом,
Я знаком с высшей правдой и с низменным злом.
Все тугие узлы я распутал на свете,
Кроме смерти, завязанной мертвым узлом.
14
Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,
Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,
Ни былой, ни грядущей минуте не верь,
Верь минуте текущей – будь счастлив теперь!
15
Месяца месяцами сменялись до нас,
Мудрецы мудрецами сменялись до нас.
Эти мертвые камни у нас под ногами
Прежде были зрачками пленительных глаз.
16
Как жар-птица, как в сказочном замке княжна,
В сердце истина скрытно храниться должна.
И жемчужине, чтобы налиться сияньем,
Точно так же глубокая тайна нужна.
17
Не тверди нам о том, что в раю – благодать.
Прикажи нам вина поскорее подать.
Звук пустой – эти гурии, розы, фонтаны…
Лучше пить, чем о жизни загробной гадать!
18
Ты едва ли былых мудрецов превзойдешь,
Вечной тайны разгадку едва ли найдешь.
Чем не рай тебе – эта лужайка земная?
После смерти едва ли в другой попадешь…
19
Знай, рожденный в рубашке любимец судьбы:
Твой шатер подпирают гнилые столбы.
Если плотью душа, как палаткой, укрыта —
Берегись, ибо колья палатки слабы!
20
Те, что веруют слепо, – пути не найдут.
Тех, кто мыслит, – сомнения вечно гнетут.
Опасаюсь, что голос раздастся однажды:
«О невежды! Дорога не там и не тут!»
21
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
22
Недостойно – стремиться к тарелке любой,
Словно жадная муха, рискуя собой.
Лучше пусть у Хайама ни крошки не будет,
Чем подлец его будет кормить на убой!
23
Если труженик, в поте лица своего
Добывающий хлеб, не стяжал ничего —
Почему он ничтожеству кланяться должен
Или даже тому, кто не хуже его?
24
Вижу смутную землю – обитель скорбей,
Вижу смертных, спешащих к могиле своей,
Вижу славных царей, луноликих красавиц,
Отблиставших и ставших добычей червей.
25
Не одерживал смертный над небом побед.
Всех подряд пожирает земля-людоед.
Ты пока еще цел? И бахвалишься этим?
Погоди: попадешь муравьям на обед!
26
Всё, что видим мы, – видимость только одна.
Далеко от поверхности мира до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей – не видна.
27
Даже самые светлые в мире умы
Не смогли разогнать окружающей тьмы.
Рассказали нам несколько сказочек на ночь —
И отправились, мудрые, спать, как и мы.
28
Удивленья достойны поступки Творца!
Переполнены горечью наши сердца.
Мы уходим из этого мира, не зная
Ни начала, ни смысла его, ни конца.
29
Круг небес ослепляет нас блеском своим,
Ни конца, ни начала его мы не зрим,
Смысл его недоступен для логики нашей,
Меркой разума нашего неизмерим.
30
В поднебесье – светил ослепительных тьма,
Помыкая тобою, блуждает сама.
О мудрец! Заблуждаясь, в сомненьях теряясь,
Не теряй путеводную нитку ума!
31
Если истина вечно уходит из рук —
Не пытайся понять непонятное, друг.
Чашу в руки бери, оставайся невеждой,
Нету смысла, поверь, в изученье наук!
32
Ты с душою расстанешься скоро, поверь,
Ждет за темной завесою тайная дверь.
Пей вино! Ибо ты – неизвестно откуда.
Веселись! Неизвестно – куда же отсель…
33
Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
Нет из мрака возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце,
И бояться не надо, о сердце мое!
34
Когда с телом душа распростится, скорбя,
Кирпичами из глины придавят тебя.
Век минует – и глиною ставшее тело
Пустят в новое дело, киркою долбя.
35
Где мудрец, мирозданья постигший секрет?
Смысла в жизни ищи до конца своих лет:
Всё равно ничего достоверного нет —
Только саван, в который ты будешь одет…
36
Тот, кто следует разуму, – доит быка,
Мудрость нынче убыточна наверняка!
В наше время доходней валять дурака,
Ибо разум сегодня в цене чеснока.
37
Здесь владыки блистали в парче и в шелку,
К ним гонцы подлетали на полном скаку.
Где всё это? В зубчатых развалинах башни
Сиротливо кукушка кукует: «Ку-ку…»[2 - Игра слов: «ку» на фарси означает «где?»]
38
Этот старый дворец называется – мир.
Это царский, царями покинутый пир.
Белый полдень сменяется полночью черной,
Превращается в прах за кумиром кумир.
39
Где могучий Бахрам за онагром скакал —
Там теперь обитают лиса и шакал.
Видел ты, как охотник, расставив капканы,
Сам, бедняга, в глубокую яму попал?
40
Если низменной похоти станешь рабом —
Будешь в старости пуст, как покинутый дом.
Оглянись на себя и подумай о том,
Кто ты есть, где ты есть и – куда же потом?
41
В прах судьбою растертые видятся мне,
Под землей распростертые видятся мне.
Сколько я ни вперяюсь во мрак запредельный —
Только мертвые, мертвые видятся мне…
42
Вижу: птица сидит на стене городской,
Держит череп в когтях, повторяет с тоской:
«Шах великий! Где войск твоих трубные клики?
Где твоих барабанов торжественный бой?»
43
Я вчера наблюдал, как вращается круг,
Как спокойно, не помня чинов и заслуг,
Лепит чаши гончар из голов и из рук,
Из великих царей и последних пьянчуг.
44
Эй, гончар! И доколе ты будешь, злодей,
Издеваться над глиной, над прахом людей?
Ты, я вижу, ладонь самого Фаридуна
Хочешь в дело пустить? Ты – безумец, ей-ей!
45
Я кувшин что есть силы об камень хватил.
В этот вечер я лишнего, видно, хватил.
«О несчастный! – кувшин возопил. – И с тобою
Точно так же поступят, как ты поступил!»
46
Сам я слышал вчера в мастерской гончара —
Глина тайны свои выдавать начала:
«Не топчи меня! – глина ему говорила. —
Я сама человеком была лишь вчера».
47
Поглядите на мастера глиняных дел:
Месит глину прилежно, умён и умел.
Приглядитесь внимательней: мастер – безумен,
Ибо это не глина, а месиво тел!
48
Этот винный кувшин на столе бедняка
Был влюбленным красавцем в былые века.
Это вовсе не ручка на горле кувшинном,
А обвившая шею любимой рука.
49
Ни держава, ни полная злата казна
Не сравнятся с хорошею чаркой вина!
Ни венец Кей-Хосрова, ни трон Фаридуна
Не дороже затычки от кувшина?!
50
На зеленых коврах хорасанских полей
Вырастают тюльпаны из крови царей,
Вырастают фиалки из праха красавиц,
Из пленительных родинок между бровей…
51
В этой тленной Вселенной в положенный срок
Превращаются в прах человек и цветок.
Кабы прах испарялся у нас из-под ног —
С неба лился б на землю кровавый поток!
52
Поутру просыпается роза моя,
На ветру распускается роза моя.
О жестокое небо! Едва распустилась —
И уже осыпается роза моя.
53
Половина друзей моих погребена.
Всем живым уготована участь одна.
Вместе пившие с нами на празднике жизни
Раньше нас свою чашу испили до дна.
54
Книга жизни моей перелистана – жаль!
От весны, от веселья осталась печаль.
Юность – птица: не помню, когда прилетела
И когда унеслась, легкокрылая, вдаль.
55
Мастер, шьющий палатки из шелка ума,
И тебя не минует внезапная тьма.
О Хайам! Оборвется непрочная нитка.
Жизнь твоя на толкучке пойдет задарма.
56
Мы – послушные куклы в руках у Творца!
Это сказано мною не ради словца.
Нас на сцену из мрака выводит Всевышний
И швыряет в сундук, доведя до конца.
57
Даже гений – творенья венец и краса —
Путь земной совершает за четверть часа.
Но в кармане земли и в подоле у неба
Живы люди – покуда стоят небеса!
58
Люди тлеют в могилах, ничем становясь.
Распадается атомов тесная связь.
Что же это за влага хмельная, которой
Опоила их жизнь и повергнула в грязь?
59
Я спустился однажды в гончарный подвал,
Там над глиной гончар, как всегда, колдовал.
Мне внезапно открылось: прекрасную чашу
Он из праха отца моего создавал!
60
Разорвался у розы подол на ветру.
Соловей наслаждался в саду поутру.
Наслаждайся и ты, ибо роза – мгновенна,
Шепчет юная роза: «Любуйся! Умру…»
61
Жизнь уходит из рук, надвигается мгла,
Смерть терзает сердца и кромсает тела,
Возвратившихся нет из загробного мира,
У кого бы мне справиться: как там дела?
62
В детстве ходим за истиной к учителям,
После – ходят за истиной к нашим дверям.
Где же истина? Мы появились из капли.
Станем – прахом. Вот смысл этой сказки, Хайам!
63
О невежды! Наш облик телесный – ничто,
Да и весь этот мир поднебесный – ничто.
Веселитесь же, тленные пленники мига,
Ибо миг в этой камере тесной – ничто!
64
Всё, что в мире нам радует взоры, – ничто.
Все стремления наши и споры – ничто.
Все вершины Земли, все просторы – ничто.
Всё, что мы волочем в свои норы, – ничто.
65
В этом мире ты мудрым слывешь? Ну и что?
Всем пример и совет подаешь? Ну и что?
До? ста лет ты намерен прожить? Допускаю.
Может быть, до двухсот проживешь. Ну и что?
66
Что есть счастье? Ничтожная малость. Ничто.
Что от прожитой жизни осталось? Ничто.
Был я жарко пылавшей свечой наслажденья.
Всё, казалось, – мое. Оказалось – ничто.
67
Если будешь всю жизнь наслаждений искать:
Пить вино, слушать чанг и красавиц ласкать,
Всё равно тебе с этим придется расстаться.
Жизнь похожа на сон. Но не вечно же спать!
68
Вот беспутный гуляка, хмельной ветрогон:
Деньги, истину, жизнь – всё поставит на кон!
Шариат и Коран – для него не закон.
Кто на свете, скажите, смелее, чем он?
69
В Божий храм не пускайте меня на порог.
Я – безбожник. Таким сотворил меня Бог.
Я подобен блуднице, чья вера – порок.
Рады б грешники в рай – да не знают дорог.
70
Этот мир – эти горы, долины, моря —
Как волшебный фонарь. Словно лампа – заря.
Жизнь твоя – на стекло нанесенный рисунок,
Неподвижно застывший внутри фонаря.
71
Я нигде преклонить головы не могу.
Верить в мир замогильный – увы! – не могу.
Верить в то, что, истлевши, восстану из праха
Хоть бы стеблем зеленой травы, – не могу.
72
Ты не очень-то щедр, всемогущий Творец:
Сколько в мире тобою разбитых сердец!
Губ рубиновых, мускусных локонов сколько
Ты, как скряга, упрятал в бездонный ларец!
73
Жизнь – пустыня, по ней мы бредем нагишом.
Смертный, полный гордыни, ты просто смешон!
Ты для каждого шага находишь причину —
Между тем он давно в небесах предрешен.
74
Вместо солнца весь мир озарить – не могу,
В тайну сущего дверь отворить – не могу.
В море мыслей нашел я жемчужину смысла,
Но от страха ее просверлить не могу.
75
Ухожу, ибо в этой обители бед,
В жизни сей ничего постоянного нет.
Пусть смеется лишь тот уходящему вслед,
Кто прожить собирается тысячу лет.
76
Так как собственной смерти отсрочить нельзя,
Так как свыше указана смертным стезя,
Так как вечные вещи не слепишь из воска —
То и плакать об этом не стоит, друзья!
77
Мы источник веселья – и скорби рудник.
Мы вместилище скверны – и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, многолик.
Он ничтожен – и он же безмерно велик!
78
Ты не волен в желаньях своих и делах?
Будь, однако, доволен: так хочет Аллах!
Следуй разуму: помни, что бренное тело —
Только искра и капля, только ветер и прах…
79
Веселись! Ибо нас не спросили вчера.
Эту кашу без нас заварили вчера.
Мы не сами грешили и пили вчера —
Всё за нас в небесах предрешили вчера.
80
Бренность мира узрев, горевать погоди!
Верь: недаром колотится сердце в груди.
Не горюй о минувшем: что было – то сплыло.
Не горюй о грядущем: туман впереди…
81
Если б мог я найти путеводную нить,
Если б мог я надежду на рай сохранить —
Не томился бы я в этой тесной темнице,
А спешил место жительства переменить!
82
В этом замкнутом круге – крути не крути —
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/omar-hayyam/rubayat-v-klassicheskom-perevode-germana-pliseckogo-9595653/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
КВЧ – культурно-воспитательная часть в зоне.
2
Игра слов: «ку» на фарси означает «где?»
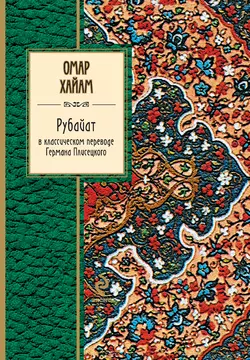
Омар Хайям
Тип: электронная книга
Жанр: Стихи и поэзия
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 25.06.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Знаменитые четверостишия-рубаи Омара Хайама (ок. 1048 – ок. 1123) переводятся на русский язык уже более ста лет, но с особым успехом – начиная с 70-х годов XX века. В сборник, который вы держите в руках, вошли рубаи, переведенные замечательным поэтом и переводчиком восточной поэзии Германом Плисецким. «Хайам Германа Плисецкого убеждает прежде всего потому, что в его переводах старый иранский мудрец – действительно великий поэт» (Б. Слуцкий).