Записки кавалериста. Мемуары о первой мировой войне
Записки кавалериста. Мемуары о первой мировой войне
Николай Степанович Гумилев
Алексей Алексеевич Брусилов
Ярчайший представитель поэзии Серебряного века, Николай Степанович Гумилёв, ушел на фронт добровольцем в 1914 году, невзирая на то, что еще в 1907 году он был освобожден от воинской повинности. Книга «Записки кавалериста» – документальная повесть о первых годах проведенных им в рядах 1-го эскадрона Лейб-Гвардии уланского полка. Перед нами – живые картины войны, представленные глазами не столько великого поэта-акмеиста, сколько кавалериста, мужественно разделившего тяготы военной жизни вместе с рядовыми солдатами.
Н.С. Гумилев, А.А. Брусилов
Записки кавалериста. Воспоминания
Н.С. Гумилев
Записки кавалериста
Глава 1
Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы – поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы – это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. «Вы – наши отцы, – говорит кавалерист пехотинцу, – за вами как за каменной стеной».
Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и странном языке пулемет лепетал непонятное. Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест. Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня. На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном сгорю не имело смысла: он отступал не расстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый поворотить – совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов. По трясущемуся, наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.
Мы были в Германии. Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения – каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремленья вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами? Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.
Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.
Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверно, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из «монтекристо». Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезающими, то – я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздавшуюся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взвившееся шагах в пяти от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно ноя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и, как последнее впечатление, я запомнил крупную фигуру в черной шинели с каской на голове, на четвереньках с медвежьей ухваткой вылезавшую из соломы. Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника, это – единственное оправдание всей жизни кавалериста.
На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась штукатурка да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.
Глава 2
Самое тяжелое для кавалериста на войне – это ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уйдет из-под самого носа одураченного врага. Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко-чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод, и молча целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними. О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром в прикуску, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для спанья по всему полу, – никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас!! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах, вместо традиционного ответа «Вшистко германи забрали» хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок, и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченного хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!
Отряд русских солдат, идущих на фронт
Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была – заставить заговорить артиллерию, и та действительно заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья – в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: «Правее, правее!» Мы повернули и галопом стали уходить. Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение. На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения. Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами. Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма.
Немецкие солдаты
Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное, утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать – всегда радость, но наступать по неприятельской земле, – это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцеватее усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг.
Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок. Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков.
Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома. Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями: «Серьезный барин, наверно генерал… ну, и вредный, надо быть, когда ругается…»
Вот за лесом послышалась ружейная пальба – партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали подвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую-частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидали забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав, в чем дело, но отступающие враги, наверно, долго и напряженно ломали голову, кто это там храбро сражается с наступающими русскими. Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников.
Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедлял аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того, чтобы опять вскочить на лошадь.
Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы, не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное. Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежавшую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке, наколол дров, растопил печь и как был в шинели бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже заполночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел в кухню, мечтая погреться у пылающих углей.
И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею. На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трехстах от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат, или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от семнадцати до сорока трех лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы. В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски, она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил. о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать громкое: «Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?»
Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо крыш каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска «Ресторан». Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.
Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат, но когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещенье.
Глава 3
Южная Польша – одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне. Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, – словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство. В таких местах, что бы ты ни делал – любил или воевал, – все представляется значительным и чудесным. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда, наконец, один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?
Русские войска в Варшаве
На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело. Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга. Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие – мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а… а… а …» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод – те же медленность и неуклонность. Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «ложись… прицел восемьсот… эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет как нужно что в должный момент нам скомандуют идти в атаку, или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.
Поздно ночью мы отошли на бивак в большое имение.
В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался, или вернее выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидимой дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности. Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно. Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой, словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное – первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных. Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести проехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся: на той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко-чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати. Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий, пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу, Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи. Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности. Но вот и конец пахотному полю – и зачем только люди придумали земледелие?! – вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился. Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.
Глава 4
Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я. Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи». В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, – дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему. Вправо и влево, почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути. До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса. Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего «вольного», когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: «Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка. Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.
Немецкое военное снаряжение
На другой день уже смерклось, и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдятся напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я. Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охраненья. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стреляли. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем. Светила полная луна, но на наше счастье она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я – по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад. Вот я совсем один, посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыханье, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное уменье подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно. Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение – и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, нет, это бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля ноет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов тра-тра-тра, и пули свистят, ноют, визжат. Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба не действительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но увы! – ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и назло судьбе все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться, или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако, ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.
Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то, что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной, головешки теплится робкий, тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие, диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи. Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Каббалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу Землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цыгарку и с наслаждением выкуривал ее в руках: курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.
В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроилась стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.
Глава 5
Было решено выравнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали; он, скользя по земле и по деревьям, последовал на нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас. Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в «Войне и мире» посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу – это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: «Так… отлично… задержитесь еще немного… все идет хорошо…» И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно. Мы, уланы, беседовали со степенными, бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей. К обеду до нас дошел слух, что пять человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок. По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где «кози», то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и наконец объявили, что «кози» именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: «Ничего, пойдем, я знаю, куда идти». Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций. В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони – гусарский разъезд. «Вот и кози!» – воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. «Ну-ка, дядя, покажи себя», – попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.
Нижние чины лейб-гвардии Гусарского полка в парадном обмундировании, 1910-е гг.
Урядник Сибирской полусотни 3-й сотни лейб-гвардии Свободно-Казачьего полка. 1914 г.
На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ним отошли версты за четыре, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом – вольноопределяющийся, куда? – и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. «Не проедете, – сказали они, – вон уже где палят». Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я поворотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки. На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил:
– Ну, что, не проехали?
– Никак нет, там уже неприятель.
– Вы его сами видели?
– Так точно, сам. – Он повернулся к своим ординарцам: – Пальба из всех орудий по местечку.
Кубанские казаки в мае 1916 года
Я поехал дальше. Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем, с донесением всегда посылают двоих, и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников – нас преследовали; они поняли, что нас только двое. В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака: двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней.
– Что там у вас? – спросил я бородача.
– Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?
– Восемь конных.
Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали.
– Ну, поедем, что ли! – вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него. Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурину пригодится, – говорили они, – у него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки. Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.
К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки… и отшатнулись, услыша громовой голос толстого, старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое, – кричал он, – мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!» Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров: «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин: «Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!» Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал:
– Вы вольноопределяющийся?
– Доброволец.
– Чем прежде занимались?
– Был писателем.
– Настоящим?
– Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги.
– Теперь пишете какие-нибудь записки?
– Пишу.
Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным:
– Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились.
Я искренно обещал ему это.
– Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!
И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.
Глава 6
Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу, и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи, и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать. Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии: холмы, из-за которых можно было неожиданно показываться, и овраги, по которым легко было уходить. Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел – это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив небольшой пригорок, помчался на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка – никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеже нарубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих. бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу, и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.
Казак лейб-гвардии Казачьего полка
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/nikolay-gumilev/zapiski-kavalerista-memuary-o-pervoy-mirovoy-voyne/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Николай Степанович Гумилев
Алексей Алексеевич Брусилов
Ярчайший представитель поэзии Серебряного века, Николай Степанович Гумилёв, ушел на фронт добровольцем в 1914 году, невзирая на то, что еще в 1907 году он был освобожден от воинской повинности. Книга «Записки кавалериста» – документальная повесть о первых годах проведенных им в рядах 1-го эскадрона Лейб-Гвардии уланского полка. Перед нами – живые картины войны, представленные глазами не столько великого поэта-акмеиста, сколько кавалериста, мужественно разделившего тяготы военной жизни вместе с рядовыми солдатами.
Н.С. Гумилев, А.А. Брусилов
Записки кавалериста. Воспоминания
Н.С. Гумилев
Записки кавалериста
Глава 1
Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы – поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы – это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. «Вы – наши отцы, – говорит кавалерист пехотинцу, – за вами как за каменной стеной».
Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и странном языке пулемет лепетал непонятное. Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест. Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня. На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном сгорю не имело смысла: он отступал не расстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый поворотить – совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов. По трясущемуся, наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.
Мы были в Германии. Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения – каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремленья вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами? Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.
Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.
Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверно, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из «монтекристо». Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезающими, то – я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздавшуюся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взвившееся шагах в пяти от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно ноя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и, как последнее впечатление, я запомнил крупную фигуру в черной шинели с каской на голове, на четвереньках с медвежьей ухваткой вылезавшую из соломы. Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника, это – единственное оправдание всей жизни кавалериста.
На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась штукатурка да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.
Глава 2
Самое тяжелое для кавалериста на войне – это ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уйдет из-под самого носа одураченного врага. Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко-чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод, и молча целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними. О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром в прикуску, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для спанья по всему полу, – никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас!! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах, вместо традиционного ответа «Вшистко германи забрали» хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок, и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченного хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!
Отряд русских солдат, идущих на фронт
Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была – заставить заговорить артиллерию, и та действительно заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья – в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: «Правее, правее!» Мы повернули и галопом стали уходить. Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение. На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения. Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами. Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма.
Немецкие солдаты
Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное, утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать – всегда радость, но наступать по неприятельской земле, – это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцеватее усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг.
Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок. Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков.
Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома. Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями: «Серьезный барин, наверно генерал… ну, и вредный, надо быть, когда ругается…»
Вот за лесом послышалась ружейная пальба – партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали подвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую-частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидали забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав, в чем дело, но отступающие враги, наверно, долго и напряженно ломали голову, кто это там храбро сражается с наступающими русскими. Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников.
Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедлял аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того, чтобы опять вскочить на лошадь.
Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы, не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное. Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежавшую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке, наколол дров, растопил печь и как был в шинели бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже заполночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел в кухню, мечтая погреться у пылающих углей.
И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею. На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трехстах от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат, или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от семнадцати до сорока трех лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы. В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски, она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил. о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать громкое: «Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?»
Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо крыш каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска «Ресторан». Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.
Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат, но когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещенье.
Глава 3
Южная Польша – одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне. Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, – словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство. В таких местах, что бы ты ни делал – любил или воевал, – все представляется значительным и чудесным. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда, наконец, один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?
Русские войска в Варшаве
На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело. Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга. Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие – мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а… а… а …» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод – те же медленность и неуклонность. Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «ложись… прицел восемьсот… эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет как нужно что в должный момент нам скомандуют идти в атаку, или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.
Поздно ночью мы отошли на бивак в большое имение.
В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался, или вернее выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидимой дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности. Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно. Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой, словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное – первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных. Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести проехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся: на той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко-чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати. Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий, пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу, Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи. Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности. Но вот и конец пахотному полю – и зачем только люди придумали земледелие?! – вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился. Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.
Глава 4
Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я. Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи». В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, – дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему. Вправо и влево, почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути. До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса. Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего «вольного», когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: «Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка. Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.
Немецкое военное снаряжение
На другой день уже смерклось, и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдятся напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я. Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охраненья. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стреляли. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем. Светила полная луна, но на наше счастье она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я – по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад. Вот я совсем один, посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыханье, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное уменье подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно. Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение – и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, нет, это бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля ноет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов тра-тра-тра, и пули свистят, ноют, визжат. Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба не действительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но увы! – ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и назло судьбе все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться, или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако, ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.
Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то, что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной, головешки теплится робкий, тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие, диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи. Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Каббалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу Землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цыгарку и с наслаждением выкуривал ее в руках: курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.
В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроилась стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.
Глава 5
Было решено выравнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали; он, скользя по земле и по деревьям, последовал на нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас. Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в «Войне и мире» посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу – это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: «Так… отлично… задержитесь еще немного… все идет хорошо…» И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно. Мы, уланы, беседовали со степенными, бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей. К обеду до нас дошел слух, что пять человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок. По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где «кози», то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и наконец объявили, что «кози» именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: «Ничего, пойдем, я знаю, куда идти». Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций. В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони – гусарский разъезд. «Вот и кози!» – воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. «Ну-ка, дядя, покажи себя», – попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.
Нижние чины лейб-гвардии Гусарского полка в парадном обмундировании, 1910-е гг.
Урядник Сибирской полусотни 3-й сотни лейб-гвардии Свободно-Казачьего полка. 1914 г.
На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ним отошли версты за четыре, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом – вольноопределяющийся, куда? – и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. «Не проедете, – сказали они, – вон уже где палят». Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я поворотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки. На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил:
– Ну, что, не проехали?
– Никак нет, там уже неприятель.
– Вы его сами видели?
– Так точно, сам. – Он повернулся к своим ординарцам: – Пальба из всех орудий по местечку.
Кубанские казаки в мае 1916 года
Я поехал дальше. Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем, с донесением всегда посылают двоих, и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников – нас преследовали; они поняли, что нас только двое. В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака: двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней.
– Что там у вас? – спросил я бородача.
– Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?
– Восемь конных.
Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали.
– Ну, поедем, что ли! – вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него. Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурину пригодится, – говорили они, – у него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки. Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.
К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки… и отшатнулись, услыша громовой голос толстого, старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое, – кричал он, – мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!» Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров: «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин: «Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!» Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал:
– Вы вольноопределяющийся?
– Доброволец.
– Чем прежде занимались?
– Был писателем.
– Настоящим?
– Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги.
– Теперь пишете какие-нибудь записки?
– Пишу.
Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным:
– Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились.
Я искренно обещал ему это.
– Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!
И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.
Глава 6
Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу, и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи, и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать. Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии: холмы, из-за которых можно было неожиданно показываться, и овраги, по которым легко было уходить. Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел – это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив небольшой пригорок, помчался на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка – никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеже нарубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих. бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу, и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.
Казак лейб-гвардии Казачьего полка
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/nikolay-gumilev/zapiski-kavalerista-memuary-o-pervoy-mirovoy-voyne/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
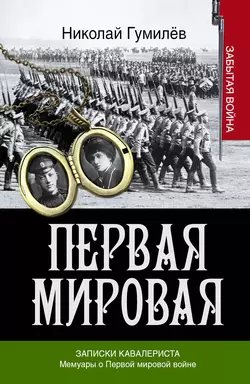
Николай Гумилев и Алексей Брусилов
Тип: электронная книга
Жанр: Биографии и мемуары
Язык: на русском языке
Издательство: АСТ
Дата публикации: 01.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Ярчайший представитель поэзии Серебряного века, Николай Степанович Гумилёв, ушел на фронт добровольцем в 1914 году, невзирая на то, что еще в 1907 году он был освобожден от воинской повинности. Книга «Записки кавалериста» – документальная повесть о первых годах проведенных им в рядах 1-го эскадрона Лейб-Гвардии уланского полка. Перед нами – живые картины войны, представленные глазами не столько великого поэта-акмеиста, сколько кавалериста, мужественно разделившего тяготы военной жизни вместе с рядовыми солдатами.