Альманах «Истоки». Выпуск 16
Альманах «Истоки». Выпуск 16
Евгения Славороссова
Ирина Антонова
Альманах «Истоки» #16
«Истоки» – это альманах, как теперь говорят, с историей. Когда-то, в середине 70-х годов прошлого века, он зародился в недрах издательства «Молодая гвардия» как издание для молодых, и долгое время придерживался этой концепции. Потом, правда, предоставил свои страницы и авторам более основательного возраста.
Выпуск № 16 альманаха «Истоки» посвящён знаменательным датам русской и мировой культуры – 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 100-летию со дня рождения испанского поэта Федерико Гарсия Лорки (1923)г., трагически рано окончивших земной путь.
В ярком и глубоком эссе, открывающем альманах, И. Егорова-Нерли тонко и эмоционально доказывает точки сближения судеб и творчества двух великих поэтов. В поэтический венок А. Пушкину вошли стихи авторов «Истоков», как ушедших, так и ныне живущих. Отдельными островками идут подборки стихов, связанные с пушкинской темой Ю. Влодова, И. Егоровой-Нерли и поэтов Петербурга.
Альманах «Истоки». Выпуск 16
Составители Ирина Антонова и Евгения Славороссова
Рисунки Светланы Ринго и Фёдора Славоросова
АЛЕКСАНДР ПУШКИН
19 ОКТЯБРЯ 1825 (фрагмент)
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА
MEMENTO
«Стихи о канте хондо», 1921
Когда умру,
схороните меня с гитарой
в речном песке.
Когда умру…
В апельсиновой роще старой,
в любом цветке.
Когда умру,
буду флюгером я на крыше,
на ветру.
Тише…
когда умру!
Перевод И. Тыняновой
© Ирина Егорова-Нерли, обложка, графическое оформление, иллюстрации, 2024
Традиции и современность
Ирина Егорова-Нерли
Кругосветные путешестия Пушкина и непредсказуемые взлёты Лорки
Эссе
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг…
А. С. Пушкин
Поэзия – невозможность,
Становящаяся возможной.
Ф.Г. Лорка
Когда Господь Бог целует и награждает юное существо своим даром, то не спрашивает о согласии – нисходит Благодать и продолжается течение звука в действии Слова. Истинный поэт с рождения обречён на творческое служение. Да, «каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит…», – подсказал нам Булат Окуджава, ведь и самое дыхание поэта – через Слово – ведёт его своим путём и ниспосланным свыше провидением.
Казалось бы, если дано, то дерзай и воплощай!.. Однако остаются вопросы, замедляющие движение его замыслов, но не нарушающие исполнения Божьего Промысла.
Какая традиция правит кровеносной системой чувств? Как жить? – Быть внутри общества и одновременно свободным в своих рассуждениях и планах? Невольно вспоминаются строфы А.С. Пушкина о духовном пути своего нравственного самосовершенствования из его стихотворения «Поэту» 1830 года:
Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
И это пишет знаменитый поэт России, который уже давно «пережил свои желанья и разлюбил свои мечты…» И, хотя Пушкин идёт кругами своей земной жизни, – тема, заявленная в эссе юбилейным пушкинским годом, передвигает авторские строки Александра Сергеевича в поэтический мир его бесконечных завоеваний.
Приглашая к диалогу читателя и оглядываясь на прошедший 2023 год, я могу только добавить: Федерико Гарсиа Лорка достоин стоять рядом с Пушкиным – испанский поэт высказал своё всеобъемлющее великое Слово накануне поминальных служб его родной Испании. Тому пример и мои строфы о беспокойном Федерико – стойком рыцаре искусства:
Полёт – это танец,
И нет ему равных:
Танцует испанец
На собственных ранах.
Летит будто птица,
Конём бойко скачет —
Упасть не боится
В сердечной отдаче.
Ведь жизнь – лишь минута
Пред вечным полётом:
Кто мучится люто —
Был с Богом и чёртом?
Но сердце свой выбор
Вручило поэту,
Чтоб с правдой средь игр
Скитаться по свету…
Сейчас я думаю, что Пушкин и Лорка соотнесены друг с другом пророческой вестью о необходимости сбережения мира и сохранения общечеловеческих ценностей.
Талант живёт, а гений гибнет,
Утратив помысел мирской…
Когда нас гений вдруг покинет —
Талант поманит за собой.
И всё по правилам расскажет —
Всем объяснит, как дальше жить:
Где гений глупостью промажет —
Талант не даст легко грешить.
Талант силён и крепко слажен;
Всей полнотой, как жизнь, живуч…
Но гений нам, как воздух, важен —
Как между туч летящий луч!
Гениям позволено недостижимое! И нам иногда кажется, что невозможное досягаемо: ведь, испытав потрясение от произведения искусства, мы чувствуем себя иными людьми… И несмотря ни на что отрадно сознавать, что каждому надо идти по своей лестнице, даже если не знаешь итога пути, а ступеньки подымаются в небо. А там, как в стихах Ф.Г. Лорки, «бубны в руках у ангелов и деревьев» рассыпаются звёздным звуком, исчезая в утреннем свете, подобно тому, как «лампада бледнеет пред ясным восходом зари» и «ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума…» Пушкинские цитаты усиливают метафору Лорки, ибо по призванию Федерико божественное начало в человеческой природе – это его «поэтическое переживание», ещё и «неизречённый дар», которому нет ни границ, ни пределов – «одна упоительная свобода»: Где вдохновенье, Там хозяин – гений: Его творенье – Явь преображений. Воистину – для настоящей поэзии нет барьеров!
И действительно в 2024 году две эпохальные даты в истории мировой литературы сошлись в крепкую броню цифр, уточняющих неподвластную человеческому разуму логику Бытия. Мы отмечаем 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина! А это – дистанция двух веков и ежеминутное существование пушкинских строчек в культурном пространстве России. В предыдущем 2023 году вздрогнуло сердце каждого неравнодушного испанца – исполнилось 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки. Это знаковое событие будто тревожная заря предваряло длинный июньский день пушкинского торжества. Поэты встретились в едином «продыхе света» и, как признанные гении, вышли за рамки сиюминутных споров, суетных суждений и строгой критики. Будто следу написанному сценарию, они прожили почти равную по годам жизнь. Даты их рождения разделяет почти целый век! Летние месяцы также вплотную движутся рядом! 6 июня и 5 июля – дни широкого солнечного света и летнего изобилия зелени. 1799-й и 1898-й – это годы истекающего века и уже предвещающие рубеж следующего столетия. Их уход их земной жизни загадочен и жесток!
Дуэль А.С. Пушкина – это защита дворянской чести, репутации семьи в высшем Свете Петербурга. Убийство Лорки, конечно, – следствие роковой открытости характера и высокого звания поэта на испанской земле. Неслучайно в испанских романсах, так любимых Федерико, бродячие музыканты веками воспевали королей и смелых воинов, принявших мученический крест во имя долга, чести и любви. Не так ли и на русской почве – на пороге вынужденной дуэли и своей гибели – «способность лёгкую страдать» у Пушкина затмило его чувство долга, а это не иначе, как следствие выбранного им к роману «Капитанская дочка» эпиграфа-пословицы: «Береги честь смолоду». Родословный почин и прозорливый дар стихотворца не давали покоя душе поэта и справедливости ради всегда подталкивали к решительным поступкам…
Пушкин по линии своего батюшки был потомком старинного дворянского рода и унаследовал «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» – к семейным узам и устоям. Его мать, внучка «арапа Петра Великого», подарила ему горячую кровь африканских владык, правящих на берегах синего Нила.
Пушкин юркий, как птенчик, —
Заводной соловей,
И кудрей русый венчик —
След короны царей!
С восьми лет Пушкин почувствовал страсть к сочинительству… И не мудрено! Ведь дом Пушкиных был открыт Н.М. Карамзину и юному Жуковскому, а дядя будущего поэта Василий Львович тоже писал стихи. В свою очередь отец Пушкина слыл книгочеем и почитателем французской литературы. Но детские годы Пушкина – это и незабываемые сказки его няни Арины Родионовны, приучившей шаловливое дитя к дыханию живой речи и красоте народного языка былин и сказаний. Счастливые лицейские годы не прошли даром!
Юность Пушкина – предтеча
На пару лицейских дней,
Глаз мерцающие свечи
В буйстве дружеских идей.
Ах, вчерашние мальчишки,
Дети знати роковой!
Пушкин юн, но зреют книжки
И слова текут рекой.
Лицеисты и смутьяны,
Знали ль вы, о чём поют
Царскосельские поляны
И в кувшинках старый пруд?
Цицерон, Овидий? Кто же?
Иль почетный Апулей?
Это он, наш Пушкин, Боже,
Дружит с музыкой аллей…
Первый всплеск! И жар бессонный,
Комнатушка на замке?
А в душе играют звоны,
И перо скрипит в руке…
Эти годы – трамплины в страну поэзии к великим темам и значительным поэтическим формам.
Благословение Г.Р. Державина, приятельские отношения с Денисом Давыдовым, увлечение стихами К.Н. Батюшкова и И.А. Крылова, покровительство П.А. Вяземского и дружба с Петром Чаадаевым воодушевляли пылкую натуру молодого поэта. «Руслани Людмила», «Песня о вещем Олеге», «Кавказский пленник»… Увесистая рукопись стихов… Жизнь стремительно расширяла его творческие возможности: Пушкин спешил от одного замысла к другому…
А разве мятежный Федерико, испанский поэт и художник, драматург и музыкант, не так же интересен по глубинным, иберийским корням своего происхождения? Во многих ли странах так вольно переплелись разные народы и в религии, периоды рабства и борьбы за независимость? Реконкиста испанской души пламенеет в музыкальном истоке ритмов Испании, вобравшей в себя Аль-Андалус (араб. VIII век н. э.).
Именно на юге Испании в городке Фуэнте-Вакерес (исп. «источник пастухов») в семье богатого землевладельца, благоволившей к занятиям искусством и наукой, родился Федерико Гарсиа Лорка. Уже в 11 лет он будет жить в Гранаде и останется влюблённым на всю жизнь в этот древний андалузский город, где арабская архитектура и народные песни будоражили буйством красок палитру его чувств. Альгамбра – Мавританский дворец в Гранаде – приют его юных муз, как Царское Село для Александра Сергеевича Пушкина.
Первая книга Лорки «Впечатления и пейзажи» – романтические, песенные стихи и заметки о родной земле, о красоте золотых лагун и волшебных гор. Испанский поэт и педагог Хорхе Гильен утверждал, что «в Лорке жив песнопевец иной – допечатный – эры, когда стихи не издавали, а пели». Даже будучи под влиянием сюрреализма, а это направление главенствовало в Мадридском университете, Лорка не изменил острому фольклорному рисунку своих стихов:
Когда умру,
Схороните меня с гитарой
В речном песке.
Когда умру…
В апельсиновой роще старой,
В любом цветке.
Как теоретик искусства, Федерико был близок с Луисом Бунюэлем и Сальвадором Дали – как поэт, жил образами и звуками природы:
Он слит с природой…
Он её звучанье,
И каждой нотой
Празднует страданье.
Его фламенко —
Будто стены скорби,
Рывок из плена
В громогласном споре!
Если Лорка говорил, не забывая свою бабушку-цыганку: «Я – как цыган – отвечу с готовностью: испанец – вопреки всему и всем», то Пушкин, как своим, владеющий французским языком и получивший в Лицее прозвище «Француз», ощутив тайну русского духа, создал свой женский идеал – образ Татьяны в романе «Евгений Онегин» и дал сам нравственную оценку своим произведениям: «Любовь и тайная Свобода /Внушали сердцу гимн простой, /И неподкупный голос мой /Был эхом русского народа».
Не уступая Пушкину и отдаваясь взрывной энергетике поэтического мышления, Лорка мечется между будущим и прошлым, между авангардом и классикой – творит на пике противоречий. Его язык метафор, следуя от Ветхого Завета до католических глубин, от античных интонаций до его «Андалузии слёзной», рождает беззаконный по форме – испанский по сути – творческий мир поэта! Будто подчиняясь потребности разобраться в себе и во всей испанской культуре, Федерико издаёт свои лекции о литературе, музыке, театре и живописи. Рождаются поэмы, трагедии, драмы: «Поэма о канте хондо», «Кровавая свадьба», «Йерма», праздничная драма «Дом Бернарды Альбы» и мн. др. Его «плач гитары» – будто плач всей испанской цивилизации перед гражданской войной в Испании. Это и предзнаменование, и навязчивый тяжёлый сон:
Так прощается с жизнью птица
Под угрозой змеиного жала.
О гитара, бедная жертва
Пяти проворных кинжалов.
Явлением для читающей России стала поэма Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (его «фонтан слёз»!), воспевающая неизлечимую боль любви, столкнувшей христианскую верность и мусульмайскую преданность. Конечно, это «поэтические слёзы» и самого Пушкина: это и накипевшая в нём досада от своего ссыльного униженного положения… А крымский юг России направил его поэтический зов на знойный восток – в край безрассудных наслаждений и пограничных страстей, тонко пропущенных через звуковую игру рифм, словно предрекающих роковую незащищённость любящего сердца.
А может, эта музыкальная линия строки, как струя падающей воды, и впрямь связывает нас через любовь крымского хана с мавританскими фонтанами Альгамбры?.. Не так ли, сродни молитве влюблённого, легли на бумагу и строчки стихотворения Пушкина «Талисман», в котором живёт неостывшее волнение поклонника красоты, уверовавшего в охраняющую магию кольца? «Только тайной мы живы…. Только тайной…», – мне чудится шёпот Федерико.
Или луна с востока
Ночь режет острым плугом? —
Сомнабулический Лорка
Водит рукой, как звуком…
«Таинственные сближения…», всю жизнь преследовавшие и Пушкина! Но это – путешествие в стихах, а в жизни незатейлива пушкинская карта «Прогулок по свету». С двадцати лет южная ссылка! Екатеринослав, Кавказ, Крым, Кишинёв и Одесса, Киевская губерния и неоднократно закрытый для него Петербург! Были в его жизни литературное общество «Арзамас» и дружеский для него круг «Союза благоденствия»… Вольнолюбивые настроения тревожил внутренний голос, требующий понять веяния времени и либеральный настрой великосветского общества: роман «Евгений Онегин» постепенно заполнял страницы его рукописей. Но, прибыв в новую ссылку – в село Михайловское, Пушкин закончил дорогую для него поэму «Цыганы». Это сочинение заставило поэта расстаться с оглушающей романтикой чувств и осознать суровые реалии жизни. Тема цыганщины, подхваченная С.В. Рахманиновым в его опере «Алеко», осталась как притча об одиноком бродяге и цыганском таборе, песенным вихрем пролетевшем по степи. Даже и после публикации поэмы «Цыганы» Пушкин пишет княгине З.А. Волконской с почтением и робкой грустью:
…Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.
Да, таков «божественный Глагол» Пушкина – в его плену нет слов случайных! Такова и родовая музыкальность Лорки, ведь путь испанского поэта – дуэнде: сверхчувство, сверхпоэзия, дух творчества и демон роковых бездн. «Звёзды, Архангелы, кони, цыгане – Ветер, земля и луна… Может, планеты живой содроганья Ловит гитары струна?» — в ритме Лорки я пишу о нём и не могу остаться в стороне! Как рыцарский девиз, и сейчас звучат слова Ф. Г. Лорки: «Это Гранада научила меня быть с теми, кого преследуют: с цыганами, неграми, евреями, маврами – ведь в каждом из нас есть что-то от них».
Как набухающие кровью, горят красные буквы названия его книги «Цыганское романсеро», в которой и крест огня осеняет дорогу смертного крика.
В народе говорят, что предчувствие своей смерти, как и мировых катаклизмов, преследует поэтов. Трагичность откровений Лорки – ключевой исток его существования. Его стихи – стон испанской земли, вызов своему времени. Его «Канте хондо» – кладезь испанских преданий, а «Романсеро» – многоголосье всех народов Испании и предсказанный итог его собственного пути. И, не замечая преград, Федерико движется по своей параболе и на новом витке взлетает всё выше и видит дальше – будто это он сам ищет свою вторую половину в ином мире и, ведомый бессонницей вдохновенья, взмывает в звёздную ночь песен и легенд… Его католическая Испания дышит цветами, благоухает молитвами, и живопись в слове цвет подбирает искусно. В сравнениях Лорки угадываются скульптурные слитки Фернана Леже, орнаменты и аппликации, похожие на декупаж Матисса и узоры мавританских дворцов.
Лорка-художник
Будто рисует стихами…
«Будь осторожней!» —
Ангел кричит ему в Храме.
Легко импровизировать, читая стихи поэта, потому что художественное видение Ф.Г. Лорки – это линия причудливого рисунка и коллаж символов «в берберском очарованье заклятий и арабесок».
Пушкин-художник тоже гениален в своих рисунках и набросках! Музыка пушкинского стиха, будто подчиняясь незримому лучу – дыханью души, пронизывает всю ткань повествования: и рисует, и живописует, и – как ускользающее от зрителя кино – дарит вольные воспоминания и требует повторного просмотра.
Рисунки Пушкина – стихи,
Что опоздало встретить слово…
Они, как чувства маяки
Иль сеть для знатного улова.
Рука поэта – инструмент,
Коль скорость мысли неподсудна.
Ведь там, где царствует момент,
Без вдохновенья выжить трудно.
А что в испанской высоте
Успел почуять Федерико?
Что отразила на листе
Его рисунков повилика?..
Как и следовало ожидать, поездка в Америку не прошла впустую для Лорки. Новые произведения «Поэт в Нью-Йорке», «Публика», «Когда пройдёт пять лет», «Драма без названья» и др., отрываясь от испанских драм, на новом повороте предваряли создание андалузских трагедий – его подлинных шедевров! По словам Лорки, мистерии американского периода – только игра, театр, фарс, но настоящая борьба жизни и смерти ждала его в Испании! Трагедии «Йерма» и «Кровавая свадьба» – послание к испанскому народу накануне зарождения фашизма. Оттого ли и смерть Ф.Г. Лорки – знак времени и свершившееся его пророчество о себе самом и о своём поколении: «Не просыпайся, жизнь моя, и слушай, Какие скрипки плещут моей кровью! Далёк рассвет и нет конца погоне!» Не это ли звук цыганского ветра при опасной скорости воображения поэта? Честь и Родина, народ и толпа, судьба и долг – вот понятия, поднимающие занавес его трагедий.
По смыслу – это те же пушкинские вопросы, «страсти роковые» и «ужасные сердца»! Но вера в предназначение человека побеждает в лирике Пушкина и «ложную мудрость», и «мрак заточенья», и «тревоги шумной суеты»… «Будь поэт и гражданин», – долгосрочным напутствием отдаются и в наши дни слова поэта-декабриста Рылеева. А в михайловском затишье Пушкин жил чтением и перо не выпускал из рук. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и русские летописи подогрели его интерес к вождям народных бунтов Степану Разину и Емельяну Пугачёву, но после восстания декабристов родилось стихотворение «Пророк»: судьба поэта и его дара – «глаголом жечь сердца людей» – была определена Словом в обязывающей жертвенности и Божией силе призвания.
Симфония душевных переживаний подталкивала Пушкина, как и его Татьяну, к сильному судьбоносному чувству, ведь и его «душа ждала кого-нибудь…» и, по признанию самого поэта, искала «небесные черты», за которыми он видел для себя «другую жизнь и берег дальний…» так и трагическая любовь Марии к Мазепе в поэме «Полтава» будто оживляла «возлюбленные тени» души Пушкина и озвучивала неосуществимый в жизни диалог с Ф.Г. Лоркой… Жизнь торопила поэта, не делая пауз для отдыха! Цензура не оставляла Пушкина без внимания: издание и чтение новых произведений было запрещено без царского просмотра. Ярким подтверждением этому стала драма «Борис Годунов».
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине,
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Пожалуй, так – вслед за Пушкиным – мог написать и Лорка, постоянно улавливающий в природе гул векового преследования. Что же касается Александра Сергеевича, то его Муза легко сочетала веселье и влюблённость в жизнь с исповедальным вопрошающим протестом:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?..
Мы читаем горькие пушкинские строки… Отчаяние Пушкина – это безверие поэта, встретившего шестикрылого серафима, но сомневающегося в своих человеческих возможностях. И безусловно по-отечески глубокий ответ митрополита Филарета (Дроздова) в опубликованной переписке с поэтом и есть светлая надежда христианской веры, спасающей в невзгодах и трудностях земного Бытия.
Оттого ли и знакомство с Н.Н. Гончаровой, первой красавицей Москвы, заставило думать об устройстве семейного очага и разбудило новые творческие силы поэта. Полнозвучная тишина болдинской осени разразилась неуправляемой кометой, озарившей небосклон поэтического пути поэта. Чудо его великих произведений навсегда связало болдинскую усадьбу с именем Пушкина.
Куда Всевышний направляет —
Поэт не сможет сам дойти:
Кто вслед за духом поспевает —
Идёт бесстрашно впереди.
А далеко ли сердце глянет
И высоко подымет дух?
Где Пушкин любит и страдает,
Там пламень Лорки не потух.
И жизнь – живая оболочка,
Природой вылепленный знак.
Что говорит душа, пророча —
Поэт воспел во временах.
Так и полёт Ф.Г. Лорки обогнал его страшное время и оставил его на той высоте, куда не долетят пули, не дотянутся ножи жандармерии или очередных фашистских молодчиков. Он сам – растворился в канте хондо – ушёл туда, где «эхо – тень кипариса» и «ветром крик повторился». И нет могилы поэта, нет ему места на земле! В своём романе «Волшебный свет» писатель Фернандо Мариас утверждает: «Поэт Лорка не мог умереть! – живёт подобно свету, помогающему всем влюблённым!» Вот и моё стихотворение написано об этом.
…Когда бессонными ночами
Двоится голос тишины,
Неуловимыми тенями
Витают в небе чьи-то сны.
То затворяясь в замке мрачном,
То с полноликою луной —
Закрывшись веером прозрачным,
Ступает память в мир иной.
Скользящий луч неугасимый
То замирает, то ведёт —
Как чей-то крик неутолимый
И утешает, и клянёт:
Сей дух – парящий над Альгамброй —
Как свет, взмывающий за край,
Вдруг в некий миг с влюблённой парой
Уходит в синий, звёздный рай.
Ведь всем – расстрелянным – не надо
Ни подаяний, ни речей:
Их поминает вся Гранада
Сияньем зорей и ночей.
Не примиряясь с их пропажей,
Неумирающий огонь
Расскажет всё, что ночь не скажет —
Опять мелькнёт крылатый конь.
Федерико Гарсиа Лорка, как и полагается величайшему поэту XX века, занял положенное ему место в испанской культуре и вернулся в столицу Испании на площадь Санта-Ана, а его душа – по замыслу скульптора Хулио Лопеса Эрнандеса – жаворонком трепещет в руках поэта и, конечно, поёт на многолюдных улицах Мадрида:
Памятник в Мадриде,
А в Гранаде дух…
Лорка, как в корриде,
Вновь в пространствах двух!
И в народном пенье
Он певцом живёт,
И в столичном бденье
По миру идёт:
Взгляды снова мечет
В будущих веках —
Птичка с ним щебечет,
Прыгая в руках.
А много ли путешествий совершил Пушкин в своей земно жизни? Что смог увидеть своими глазами или успел почувствовать, погружаясь в мир книг? Но воображение рисовало поэту иные страны и преодолевало любые расстояния… Уже в XXI веке не только по великой России, но и по всему свету поставлены памятники Александру Сергеевичу Пушкину! Это и Париж, Вена, Мехико, Сан-Пауло, Вашингтон… и остановить его стремительный путь – ПУТЕШЕСТВИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА – невозможно, как в прошлом веке, так и сейчас:
Опять спешит к далёкой цели —
Зовёт заветная строка…
И звук её, как трель свирели,
За ним летит через века.
Пушкинское стихотворение «Памятник» 1836 года – в поэтической форме оставленное нам завещание поэта.
…И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал…
ПУШКИН – СИМВОЛ РОССИИ – принадлежит своему Отечеству и всему Миру, а его Болдинская осень так и осталась для нас возжжённой свечой творческого счастья, о котором мечтает каждый поэт. «И голубина просинь в глазах стоит, как звон, И Болдинская осень Горит со всех сторон!» (Авт.)
Конечно, испанская тема Пушкина – одна из жемчужин болдинских драгоценностей слова, побеждающего временные ограничения его жизни. Так из болдинской глуши Пушкин и сам дошёл до стен Мадрида, предаваясь вдохновению, пел вместе с Лаурой и бешено её ревновал, как испанский гранд Дон Карлос; на мгновение стал Каменным гостем, не смирившимся с сердечной слабостью Донны Анны, и главное: Пушкин сказал своё слово о Дон Гуане!
…Дон Гуан! В каждом сердце привита
Грешных помыслов долгая сеть,
И твоих продолжателей свита
Все века о любви будет петь.
Это уже мои стихи – взгляд их XXI века… Но Пушкин не мог не знать, что для каждого Дон Гуана всегда есть свой Каменный гость на часах.
Вся правда о Пушкине живёт в его поэзии! Что было в личной жизни поэта, а чего и не было – нам до конца не узнать. Эти слова обращены и к Федерико Гарсиа Лорке!!!
Широко глаза расставлены,
Далеко видать душе:
В небеса ведут проталины —
Небеса близки уже.
Федерико – имя звонкое,
Как живой реки задор.
И строки звучанье тонкое
Ждёт финальных труб аккорд.
Портрет Лорки, написанный моими строчками, – это образ испанского поэта, не изменившего своему испанскому небу.
И что же в испанском небе не даёт покоя поэтам и художникам? Может это вертикально летящие облака Эль Греко или звуки огненного фламенко, собирающего поклонников по всему свету? «А небо в ночи сверкало, как круп вороной кобылы», – гласит нам ИСПАНСКАЯ ДОРОГА ЛОРКИ, на которой «смертное эхо затихло гвадалквивирской волной». Да, его Испания скоро будет погружена в ад войны – будет сожжена Герника, мирный город в стране басков. И необратимо «медленно день уходит поступью матадора/ И алым плащом заката /Обводит моря и долы». Небо Лорки – небо корриды!
А какое оно – пушкинское – небо России? Чистое, пасмурное, грозовое? «Небо с овчинку» или «светил небесных дивный хор?» или в Нём на высоком постаменте стоит Пушкин и всматривается вдаль?.. Ведь и «волю неба» поэт, как мог, исполнял и «с лирой странствовал на свете»: иначе не написал бы своё стихотворение «Пророк».
Так, побратимые воспламенённой красотой слова, движутся над нами бессмертное солнце А.С. Пушкина и холодная цыганская луна Ф.Г. Лорки: осенний червонный звон российских раздолий и серебряный сон испанской ночи, звонкая лазурь былинных далей Святогорья и пронзительная синь испанского неба Гранады. Так на стыке юбилеев двух великих поэтов столкнулись Русь, глянувшая в международные просторы, и древняя Испания, заявившая о прорыве из многовекового сплава цивилизаций в новаторскую поэтику испанского языка.
Корни вросли глубоко —
Кроны в космической быти…
Только поэту легко
Жить в откровенье наитий.
КРУГОСВЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПУШКИНА и НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ВЗЛЁТЫ ЛОРКИ – это невероятные открытия, сопряжённые с горячей отдачей души и неукротимой волей к познанию мира. Мы произносим короткое слово ПОЭТ – БУДТО УДАР, РАЗРЯД, ВСПЫШКА, НЕПРЕРЫВАЕМЫЙ СЛЕД – и чувствуем, как Аль-Андалус отзывается в пушкинских генах и кастильские облака, как паруса, проносятся над нижегородскими полесьями России. Нам кажется, что на страницах повести Пушкина «Египетские ночи» импровизатор-итальянец обводит публику пылающим взором героев «Кровавой свадьбы» Ф.Е Лорки, а петенера, испанская Кармен, почти уже готова пропеть жестокую песню из поэмы «Цыганы» А.С. Пушкина и может легко повторить слова Земфиры, признающей только язык страсти, рождающей цыганскую любовь – свободную от ответственности и всяческих обязательств.
А что предсказали нам Пушкин и Лорка, когда, как по острию ножа, прошли над потусторонней стихией мифа и вольного фольклора? Как жить с обнажённой, совестливой душой на грешной земле?.. Но неожиданно Федерико Гарсиа Лорка отвечает нам:
А мир светляков нахлынет —
И прошлое в нём потонет,
И крохотное сердечко
Раскроется на ладони.
По утверждению Лорки: «Миссия поэта дарить душу!» Не случайно его речь «О воображении и вдохновении» не оставляет равнодушным ни одного читателя.
Да и что XX век, а теперь и XXI век изобрели нового в общественной несправедливости и притеснении людей, ищущих человеческое отношение в бесчеловечной реальности войн и диверсий, терактов и нацистских преступлений?
Рука протянута во тьме – Глаза упрямо солнце ищут… А там, где бесы злобно рыщут – Луч приближается к тебе!» (Авт.) И нельзя не воскликнуть, слушая фламенко, уже своими стихами:
Аккорды… И голос дрожащий
От всех потрясений и войн.
– Фламенко, твой отзвук скорбящий
В жестокое время рождён!
Порой и в нынешнее время нам мерещатся ещё не отжившие в сознании отголоски крепостного права первой половины XIX века, и пушкинское стихотворение «Анчар» преследует воображение иносказательной безнаказанностью «непобедимого владыки». Неужели опять подтверждается пророчество Пушкина: «На всех стихиях человек – тиран, предатель или узник?»
А как быть с повторяющимся из века в век мучительным вопросом: жить по-своему или в общем доме европейского миропорядка, смиряясь с потерей самостоятельного существования? Не эти ли тяжбы и столкновения нашли отражение в программном стихотворении Пушкина «Клеветникам России»? А по какому праву те же франкисты, поднявшие мятеж против законно избранного республиканского правительства, развязали гражданскую войну, залившую кровью многострадальную землю Иберии?.. Спустя года перекличкой звучат мои строки:
Сжатые губы от боли
Дикого крика страшней:
В шквальном обстреле на поле
Лица испанских детей…
Их корабли увозили
От беспощадной войны.
Кем они стали и были —
Знают испанские сны.
Будто частью вещего сна или народного эпоса о преданьях старины глубокой слышатся нам и строки А.С. Пушкина:
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
«Ворон, где нам отобедать?
Как бы нам про то проведать?»
Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед:
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый…»
Александр Сергеевич Пушкин пережил Отечественную войну 1812 года, видел сгоревшую Москву и всё знал о великой победе и боевых потерях. ДУМА О БУДУЩЕМ РОССИИ красной нитью пронизывает произведения поэта.
У лукоморья Пушкин с нами,
Как вещий сказ, в летах живёт,
Но кот учёный вечерами
Златую цепь зубами рвёт…
Не леший там кота пугает
И не русалка жертву ждёт…
Кот круг за кругом пробегает:
Что будет? – знает наперёд!
Ему завыть? Да кто б услышал…
Сойти с ума? – себе во вред!
Когда поэт в России выжил —
Он в жизни больше, чем поэт!
О том и Лорка рвал рубаху:
Испанский дух – борьбы протест.
Поэта дар зовёт на плаху,
Как чудотворца тяжкий Крест!
А.С. Пушкин и Ф.Г. Лорка подняли свой КРЕСТ ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЫ: услышали своё небо и остались в нём навсегда.
P.S. Стихи и фрагменты статей Ф.Е Лорки, упоминаемые в эссе, представлены в переводах А. Гелескула, М. Цветаевой, И. Тыняновой…
Поэзия
Евгений Степанов
Поэт, прозаик, публицист, издатель, кинорежиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты «Литературные известия» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живёт в Москве и посёлке Быково (Московская область).
«Не бывает навечно разлук»
Светлой памяти Наталии Лихтенфельд
Неспроста
Архангел Михаил ведёт с Денницей бой.
Я, не жалея сил, веду борьбу с собой.
Я много говорил. Теперь сомкнул уста.
Архангел Гавриил явился неспроста.
Раздумья утекли в пустой бездонный чат.
Я шёл вокруг земли. Приковылял назад.
Я шёл, не зная сам, что счастье на кону.
Любил прекрасных дам. А, впрочем, нет – одну.
2022
Вдали
Ты шла по улицам земли.
Потом пришла в мою подкорку,
В мою судьбу, в мою каморку.
Наташа, Ната, Натали…
И вместе мы с тобой пошли.
И замаячил рай вдали.
1982
Лучи
Когда оттуда ринутся лучи…
Александр Блок
Подумать только – столько лет я продержался в этом мире,
Где каждый любит оглоед соперника мочить в сортире.
Я продержался потому, что ты была со мною рядом
И освещала эту тьму своим лучистым добрым взглядом.
А что теперь? Да хоть кричи от боли – стало очень худо.
А всё же тёплые лучи твои доходят и оттуда.
2023
Я знаю
Я принял жизнь за лотерею и, как мальчишка, проиграл.
Жена погибла, сам болею. Жизнь перешла за перевал.
Фиаско. Всё начать сначала я не смогу. Силёнок нет.
Стихи нелепы, денег мало, карьерных никаких побед.
Слезами-ливнями, печалью пропитана моя стезя,
Но и сейчас не привечаю уныния. Нельзя. Нельзя.
Я знаю, что свою эклогу я допишу когда-нибудь.
А если так угодно Богу, смогу её перечеркнуть.
Я знаю, что беда не вечна, не вечны морок и резня…
А на участке, как невеста, стоит берёза. Ждёт меня.
2022
Книга жалоб
Это была бы не книга мемуаров, а книга жалоб…
Фаина Раневская
Если б ты вернулась – я бы ожил и воскрес, как научил Христос.
И коней безумных бы стреножил, и забыл бы разом про артроз.
И тогда другая жизнь настала б. Только не начнется никогда.
Это не стихи, а книга жалоб. Это не поэзия – беда.
Провода обугленные – нервы. Холода кромешные – в груди.
…Водка. Чёрный хлебушек. Консервы. Горе, хоть на время уходи!..
2022
Домой
Боль, бессмысленность, усталость,
Слабенький иммунитет.
Слава Богу, мне осталось
Жить не очень много лет.
Я земной наелся каши,
Вижу свет иной вдали.
Я хочу домой, к Наташе,
И подальше от земли.
2023
Не бывает навечно разлук
Я в себе усмиряю испуг,
Сам с собою сражаюсь, как воин.
Не бывает навечно разлук.
Посему я не смят и спокоен.
2023
Доктор
Всё будет очень хорошо.
Живу и знаю – миг наступит:
И вечный добрый доктор-смерть
Сумеет излечить меня.
Душа взлетит и прямиком
Отправится к тебе навстречу.
И разлучаться никогда
С тех пор не будем больше мы.
И будет мягкая трава,
И будет небо голубое.
И будет маленький ручей
Втекать в одну большую реку.
2023
Всё это – ты
Мелодия, синичка в небе,
Ребёночек… Всё это – ты,
Уехавшая в звёздном кэбе
В Созвездье Вечной Красоты.
Я задержался на минутку
В своей нетопленой избе.
И жду такси или попутку
Туда – к тебе.
2023
А мы одной с тобою крови
А мы одной с тобою крови.
Как жаль, что годы упорхнули.
Я помню – мы с тобой в Тамбове.
Я помню – мы с тобой в Стамбуле,
Москве, Несебре и Берлине,
Санкт-Петербурге и Нью-Дели…
Точно папанинцы на льдине,
Сердцами мы друг друга грели.
Пусть жизнь земная жёстче джеба,
К нам оказалась слишком строгой, —
Когда приду к тебе на небо,
Опять пойдём одной дорогой.
2023
Иду к тебе
И по земле, и по воде
Иду к тебе, иду к тебе.
По небесам, как по тропинке,
Иду к тебе, жуя травинки.
Иду к тебе в любой стране.
А ты идёшь всю жизнь ко мне.
2023
Вместе
Я говорю себе: «Не сметь
Бродить в лесах тоски постылых!»
Ведь даже смерть, ведь даже смерть
Нас разлучить с тобой не в силах.
Мы вместе, на одной волне,
Здесь, на земле, теплом согретой.
…Покуда ты живёшь во мне —
Ты не уйдёшь из жизни этой.
2022
Там-и-здесь
Там нет обидчиков-задир, там нет страданий и в помине.
Постгорбачёвский злобный мир тебя не мучает отныне.
А здесь борьба, а здесь война – добро и зло в смертельной схватке.
А там речь ангелов слышна. А там, наверно, всё в порядке.
2022
Любовь – это когда альтернатива невозможна
Тону, но люди не заметят,
Что мой баркас идет ко дну.
Все люди мира не заменят
Тебя – одну.
2022
Посёлок
Мне отключить бы рацио
И память поскорей.
Что это, ампутация
Души моей?
Нет, это шанс единственный
Не спятить невзначай
И тихо жить средь лиственниц,
Берёз, односельчан.
2022
Эпистолярий
Ольга Наровчатова
Сохранение слова
В этом году исполняется 105 лет со дня рождения моего отца, Наровчатова Сергея Сергеевича, крупнейшего поэта фронтового поколения (1919–1981). Во время Великой Отечественной Войны он воевал на Брянском и Волховском фронтах, в блокадном Ленинграде, прошёл с боями Прибалтику, Польшу, Центральную Германию. Все военные годы наши поэты, военкоры, стремились поддерживать переписку, узнавали друг о друге и, что невероятно важно, посылали друзьям, близким и родным свои стихи, записи. Особая их миссия была – сохранение Слова. Каждый день мог быть последним, но правда о войне, обо всём пережитом должна дойти до потомков. Фронтовики сами творили Историю. И те, кто выжил, продолжал выполнять свой долг. Мой отец, в одном из стихотворений написал такие строки:
Тогда нам приказали снять шинели,
Не оставляя линии огня.
В этой публикации хочу представить трёх поэтов, поскольку сохранены исторические письма двух из них. Формат данной публикации не позволяет расширить этот список. Что означали друг для друга эти люди, читатель оценит. Речь идёт о Давиде Самойлове и Ольге Берггольц. Замечательный поэт Виктор Боков был связан с отцом уже в мирное время дружески, а, главное, не таким частым даже у поэтов – общим интересом к фольклору, оба в этом были мастера и сохраняли не просто Слово, а его народные, исконные традиции.
Теперь напомню читателю самые основные данные об этих поэтах.
Давид Самойлов (настоящая фамилия – Кауфман) (1920–1990) Теперь всему миру известны его строки:
…Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
1961 г.
Поэт, переводчик. Во время Великой Отечественной Войны был рядовым бойцом, разведчиком; на войну пошёл со студенческой скамьи добровольцем.
Ольга Берггольц (1910–1975)
Во время войны – она в осаждённом Ленинграде, где создала свои поэмы «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» (обе – в 1942 году). На гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища высечены слова поэта: «Никто не забыт, и ничто не забыто».
Виктор Боков (1914–2009)
Собиратель, творец и пропагандист русского фольклора. То же можно отнести к современной русской частушке. Опирался на традиции Кольцова, Есенина. Замечательный поэт-песенник: «Оренбургский пуховый платок» и др. В то же время – автор глубоко серьёзных, даже трагических стихов, где высветилась и тяжёлая часть его биографии.
Письмо Давида Самойлова к Сергею Наровчатову (1944)
Дорогой Серёжка! Поздравляю с прошедшими праздниками. Чорт (так в тексте. – Н.П.) знает, может и впрямь мы скоро увидимся. Вот бы было чудно; мы дёрнули бы доброго бимберу и трепались бы сутки, двое, вместо того, чтобы обмениваться бумажными «соображениями». Всё равно их все не упишешь.
Насчет Борькиных «трёх вариантов» – третий меня не устраивает. Второй – это если жрать будет нечего. Но всё равно, если я выберу второй, то только, чтобы доконать себя на первом.
То, что ты пишешь о своём «русском» цикле, как о «тактической» линии – совершенно правильно. Скажу даже больше – я вижу в этой твоей линии возможности для перерастания в нашу общую «стратегическую» линию. Нашу «стратегию» я вижу достаточно широкой для того, чтобы не предписывать никому манеры мыслить, выбирать слова и образы. Важно единство убеждений, цели, веры, принципов. Я думаю, что оно у нас есть и будет всегда. В этом наша сила.
О теме России и об интернационализме в литературе я думал в разных планах, и у меня сложилось вполне определённое убеждение по этому вопросу.
Осознавая себя как новое явление в искусстве (мои мысли об эстетике касаются всего искусства в целом), мы, прежде всего, должны осознать себя как явление русского искусства. На это есть ряд причин. Я не останавливаюсь на самой внутренней из них, т<ак> сказать, природной, что мы суть русские люди, люди, воспитанные Россией. Это лежит в самой основе нашего искусства.
Дело в том, что нынешний этап развития искусства ещё немыслим вне конкретных национальных форм. Может быть, искусство «космополитическое» по содержанию, для «космополитической» формы ещё нет достаточных исторических оснований.
«Письмо о восьми странах» – превосходная вещь. Комплименты ей не нужны. И ты знаешь, что мы привыкли говорить друг другу любую правду.
Целую тебя и жду новых писем.
Твой Д.
P.S. Праздновал я довольно бурно – после этого даже болел три дня. Получил маленькую медаль.
Д
<На письме-треугольнике:>
П. П. 57872-А
С. Наровчатову
__________________________
П. П. 42264 Д. Кауфман
<Три штемпеля с датами:>
17 11 44
18 11 44
4 12 44
<Штамп:> Просмотрено военной цензурой 06550
Это отношение Д. Самойлова к моему отцу продлилось до конца его жизни и было взаимным. Более того, оно в какой-то мере перенеслось и на меня. Когда несколько лет спустя, я обратилась к нему с просьбой принять участие в книге воспоминаний о Сергее Наровчатове (в чём принимала горячее участие редакция журнала «Новый Мир», и сама идея была, и, позднее, сбор материала именно бывших коллег моего отца), Давид Самойлов ответил мне письмом, которым я могу гордиться. Сама книга вышла в 1990 году: «С. Наровчатов в воспоминаниях современников», Москва, Сов. писатель. С моими воспоминаниями Давиду Самойлову дали ознакомиться ранее, в какой момент, я не знаю. Приведу его письмо, с которого и началась наша недолгая переписка. Хотя лично с ним я была хорошо знакома задолго до этого, и он даже пытался однажды помочь мне в одном актёрском мероприятии, совершенно независимом от моего отца. И, после его ухода из жизни, я посвятила ему стихотворение, которое назвала «Свет со стороны». Его творчество мне очень близко. Это был человек очень деликатный, с постоянным мягким чувством юмора, удивительно комфортным в общении. По крайней мере, таким он был для меня. В их общей молодости, моя мать, Нина Воркунова, оценила его очень высоко, когда он ещё никому не был известен, ещё до войны. А теперь, наконец, приведу его письмо ко мне.
Из Письма поэта Давида Самойлова Ольге Наровчатовой, дочери Сергея Наровчатова
27.11.86
Пярну
Дорогая Оля!
Спасибо за письмо. Сам давно собираюсь написать тебе, ибо часто думаю о Сергее, ты – его живое продолжение. Нет только привычки с тобой говорить. Надо бы её завести.
Хотел похвалить тебя за воспоминания об отце. Это лучшее, что о нём написано. Сам я никак не закончу начатого. Несколько раз принимался, а всё не получается. С таким же трудом пишет Лена Ржевская, но она, кажется, ближе к результату.
Мне бы хотелось описать Сергея в контексте с людьми, с которыми он рос, в соотношениях со временем. Мы ведь не всегда жили рядом, но всегда вместе.
Мы не только дружили умами, но и любили друг друга. В последнюю нашу встречу Сергей сказал:
– Мне тебя физически не хватает.
Наверное, я всё же к январю соберу свои записи. Пусть будет не целое, а несколько отрывков. Не знаю, успею ли написать целое.
Когда будешь составлять том собрания сочинений с письмами, могу дать тебе письма ко мне пярнуских лет. Но с возвратом. Есть ещё одно-два письма военного времени в моём фонде в ЦГАХИ.
Милая Оля! Твою жизнь по письму представляю себе. Сочувствую и понимаю. У меня к тебе – ответное чувство, вроде отцовского. Не забывай нашей взаимной тяги и обязательно пиши. Твои стихи хотел бы узнать, но только не присылай их мне – читать трудно. Лучше я тебя послушаю, когда буду в Москве в конце января. Если захочешь, звони мне в Пярну (8-014-44-42-780).
Дочь твоя мне очень нравится. Генов в ней заложено уйма. Вдруг из них образуется что-то необычайное.
В Москве подарю ей свою детскую книжку «Слонёнок пошёл учиться», если у вас её нет.
Живу я в отдалении от страстей внешних, тем и спасаюсь.
Рядом море.
Будь здорова. Скажи энергичной Теркелян, чтобы подождала.
Обнимаю тебя.
Твой Д. С.
Письмо Ольги Берггольц Сергею Наровчатову
Из письма Ольги Берггольц
г. Вильянди 12/VIII-45
Милый Серёжа!
Получила твою открытку с сообщением о том, что остаёшься там надолго и с обещанием письма – 18 июля, в день своего отъезда из Л-да. Я уж совсем после того, как Ты не ответил на три (3!) моих письма, решила, что ты зазнался и решил раззнакомиться со всеми не орденоносными знакомыми, и потому твоя открытка обрадовала меня.
Но в тот день мы уехали в некий городок Вильянди, откуда пишу и сейчас – на отдых. По приезде же сюда я буквально душевно развалилась на части, – такой сильной оказалась реакция на отдых после 4 лет непрерывного труда, да в особенности последних диких месяцев. Я тупо глядела на природу и паслась, паслась, паслась на траве и лишь недавно начала приходить в себя. И, кажется, уже относительно пришла. Но и сейчас я не могу ещё написать что-либо глубоко-принципиального, кроме того, что очень хорошо отношусь к тебе! Скажи, ты вполне доволен существующим своим положением? Не хочется ли тебе, в связи с капитуляцией япошек, принять цивильное положение, всерьёз заняться литературой и т. д. Мне думается, что пора. Воевал ты достойно, славно и полном смысле – с младых лет. Каковы же перспективы сейчас? М. 6. я могу чем-либо помочь тебе? Я, правда, смыслю в этих делах постыдно-мало, но ты напиши, м. 6. надо с кем-либо поговорить или что?
15 мая с/г видела твою милую, чудесную маму, она была на моём вечере в Лит. музее, потом мы ходили с ней, говорили о тебе. Она сказала, что ты прислал ей очень хорошие стихи, – почему не пришлёшь мне?
Она собиралась что-то предпринять, но не знала ещё твоего отношения к этому… В общем, с нетерпением буду ждать известий от тебя по этому поводу, стихов и т. д.
Ну, о себе я, собственно, всё написала. Отдых кончается, через неск. дней вернёмся на Троицкую. Дошёл ли до вас 5–6 № «Знамени», там моя поэма. Мне очень хотелось бы, чтоб ты прочёл и высказался. Вообще она ещё до опубликования возбудила в лит. среде много разговоров. Одни отнеслись с раздражением – «повторенье», «гиньоль», «почти бесстыдно», – другие, – многие, и среди них, напр. Такая строгая дама, как Е. Усиевич, – с восторгом, – и ряд из этих чит. заявил, что это – «единственное продолжение линии Маяковского», в смысле «Бесстрашной исповеди личности», и т. д. Мне очень занятно, что скажешь ты… Что же касается упрёков в «повторении», то в поэме (написанной, конечно, очень «старомодными стихами») я сама об этом заявила, говоря о себе и Ленинграде:
…Я к твоему пригвождена виденью,
Я вмерзла в твой неповторимый лед.
В общем, читай сам. Если нет журнала, я пришлю тебе рукопись или даже твой сборничек, – он, кажется, уже вышел. И в нём должен быть портрет, – если они его не испортят клише, – очень хороший и похожий.
Сколько мы опять с тобой не виделись? Более 1,5 лет? Юрка написал потрясающую и предерзостнейшую диссертацию, в сентябре защищает.
Целую нежно, пиши и не зазнавайся.
Адрес тот же.
Ольга Берггольц сыграла в жизни моего отца очень важную роль – и в общественном, и в личном плане. Лучше всего написал об этом он сам в своем глубоко личном «Ленинградском дневнике», по его определению. Кстати, оригинал этого дневника, также, как и данного письма, передан мной в дар и на постоянное хранение в Пушкинский Дом РАН, в С.-Петербурге. На той же основе там и другие документы – письма фронтовых лет, фото и автографы, и те, что относятся к окружению отца в разных временных отрезках. Это важно, так как подарено это в рукописный отдел, а это тоже Сохранение Слова.
С фронта мой отец писал Ольге Берггольц буквально рвущие душу стихи и письма, делился горем утрат и радостью Побед. Вот несколько строк из письма к Ольге: «29.IV. 1942 Оленька! Твоё письмо потрясло меня. Земной поклон тебе и твоему Городу. Мне трудно писать – так я ошеломлён тобой. Знаешь ли сама – что ты? Ты снова уехала туда. Я руку закусил, когда прочёл, в глазах темно стало. И всё-таки, это правильно, справедливо. Красивая ты моя! Сейчас, что ни день – это лист из книги Бытия».
Меня представила Ольге Берггольц моя бабушка Лидия Яковлевна Наровчатова. Я была подростком. «Серёжина дочка», – сказала бабушка. Ольга Берггольц была на 9 лет старше моего отца. Мне она показалась изнурённой. Она взглянула на меня бегло, но внимательно и ничего не сказала. Видимо, я была для неё, прежде всего, дочь Нины Воркуновой, в прошлом горячо любимой моим отцом. Они друг другу не симпатизировали.
Нина Воркунова – первая жена моего отца, покинувшая его, имела для этого повод, чего не хотел признавать муж. Позднее Ольга Берггольц пыталась даже выступить примиряющей стороной, но крайне неудачно. О неуместности этого можно быстро догадаться, если прочитать тот самый «Ленинградский дневник», где очень подробно отец описал то, что тогда в 40-ые годы было в его личной судьбе и как они все по-разному всё понимали. Сохранившуюся часть этого «Ленинградского дневника» я опубликовала в составленной мной книге «А главное, дул береговой ветер». Она вошла в издательскую программу Правительства Москвы (М. ЗаО Московские учебники – СиДипресс 2010, —272 с.) с моим предисловием.
ЭПИЛОГ
Вся эта публикация посвящена 105-летию со дня рождения Сергея Наровчатова, и хочется завершить её, вопреки всему, легко и даже весело. Хочется, по аналогии, вспомнить давно ушедший в прошлое, прекрасный Юбилей, на котором прозвучала балалайка поэта Виктора Бокова. Интересно обратить внимание на дату написания – 1979 г., 60-летний Юбилей отца. Знаменательно, что в частушках отражены разные этапы и события жизни друга. А заканчивается, заметьте, именем Александра Сергеевича Пушкина! И все герои этой публикации, по большому счёту – Победители. И жизнь прошла не зря.
Виктор Боков
Под балалайку
На 60-летии Сергея. Наровчатова в Политехническом
5 октября 1979 г.
Не пойду я на гулянье,
Некогда с девчатами,
Я пойду на юбилей
Сергея Наровчатова.
Шесть десятков – ой, ой, ой!
Шесть десятков – ай, ай, ай!
Мне, Серёжа, много больше,
Так что ты не унывай.
Ах да ох, да ух, да эх!
Это междометия.
Догоняй, Сергей Толстого
В смысле долголетия!
Незаметно мы, Серёжа,
Стали очень взрослыми,
Твой герой Буслаев Вася
Мне, как близкий родственник!
Юбиляру выпадали
Времена суровые,
Как солдат, Сергей достоин
Похвалы Суворова.
Я по озеру на лодочке,
А лодочка в камыш,
Ты, Сергей Сергеич, в классиках
Три дня уже стоишь!
Посидим с тобой, Серёжа,
Возле нашего пруда,
Я считаю это можно:
Ты теперь герой труда!
Ты, Серёжа, возглавляешь
Учрежденье бурное,
«Новый мир» почти планета,
Но литературная!
О тебе, Сергей Сергеич,
Скажут критики потом:
Был он сразу океаном,
Человеком и китом!
У тебя годков, Сережа,
Полная коробочка.
Пожелать тебе чего же?
Дай-то Бог здоровьичка!
Мы кончаем петь частушки,
Пусть Сергей лидирует,
Александр Сергеич Пушкин
Нам поаплодирует!
26 сент. 79 г., София, Незабравка,
3 окт. 79 г., Переделкино
Поэзия
Валерий Лебединский
Валерий Ефимович Лебединский родился в 1940 году в Кременчуге Полтавской области. Окончил два факультета Одесского государственного университета имени И. Мечникова: юридический (1965 г.) и исторический (1971 г.). Поэт, прозаик, драматург. Автор 18 книг, лауреат литературных премий. Член Союза писателей Москвы, Союза российских писателей и Союза журналистов России. Почётный член Международного союза писателей имени Святых Кирилла и Мефодия (Болгария). Главный редактор международного литературного альманаха «Муза» (Москва).
В тревожном и красочном мире
Там, за Очаковом, перед Херсоном
Там, за Очаковом, перед Херсоном,
Там, где в лимане речная вода,
Так изумляло днепровское лоно,
Так затихали морские суда.
После недавнего бального шторма,
Сразу сменившего яростный тон,
Нежилась тишь, как привычная норма,
Красил затишье глубинный затон.
Кроны шумящие, чудо-навесы,
Томные звуки немых островов
Словно вершили весь путь от Одессы,
Словно звучали привычнее слов.
Этим затишьем, слегка полусонным,
Встречей Днепра пароходом «Славянск»
Памятна кровная близость Херсона,
Есть и у памяти мера своя.
6 июля 2024 г.
Белой ночью
В Петербурге, вне тумана,
С разведенного моста
Для России негуманна
Эта финская верста.
То ли вся она сокрыта
В поддержании вражды,
То ль за дальностью гранита
Расплываются следы.
То ли нам грозил их лидер,
Насаждая непокой,
Только что прикажешь видеть
При политике такой?
2 июля 2024 г.
Место битвы под Полтавой
Это место овеяно славой,
И, пока не тревожила мгла,
Я прошёл через лес под Полтавой,
Там, где битва петровская шла.
В маете, под давлением стресса,
Что явились ко мне на порог,
Я запомнил ухоженность леса
И заботу о благе дорог.
Эта местность бывала любима,
Мир добра, полоса тишины.
Впрочем, было всё это до Крыма,
До Донбасса и новой войны.
А сейчас, в эту мрачную пору,
Где задули худые ветра,
Всё подверглось крутому разору
Вдоль батального поля Петра.
Захирела музейная слава,
Омрачилась святая пора.
С кем ты ныне, былая Полтава,
Боевая победа Петра?
29 декабря 2023 г.
От мечты о Хорасане
От мечты о Хорасане,
От поэзии высокой
К жутким строчкам об Иране,
Войнам Ближнего Востока.
Нервы рвёт больная дума,
И исходит кровью рана,
А Есенин из Батума
Грезит далью Тегерана.
Возвышает душу лира,
Грёзы строчек о Батуме,
Где-то есть дорога мира,
Где-то ждёт благоразумье.
13 апреля 2024 г.
Дочке Евгении
Помнишь ночь разведенья мостов
В полумгле предлежащего Питера,
Где на лоне небесных пластов
Диск Луны, как изящная литера?
А вдали, с небольшой высоты,
Над застывшей во блеске Невою
Полумгла разводила мосты
Красотой ледяной и немою.
И в мерцанье незримой свечи,
Что зажгли в полутьме звездопады,
Полухолод, продрогший в ночи,
Отводил полусонные взгляды.
27 января 2024 г
Проза
Алексеи Кебадзе
Ошибка
Из афганских рассказов
Жара в тот день и вправду была совершенно невыносимая. К железным частям оружия, к каскам, к броне притронуться было невозможно почти, а каменистая земля обжигала ноги даже сквозь подмётки ботинок. По крайней мере, казалось так. Им с Аникеевым досталась позиция замечательная: два больших камня, образующих подобие естественной бойницы, и хороший обзор вниз по склону, – почти до самого русла пересохшего ручья. К ним ещё утром приходил командир взвода лейтенант Пройдисвет.
– Хорошо устроились, парни! Если что, часа два здесь продержитесь?
– До дембеля продержимся, – усмехнулся Аникеев, и похлопал ладонью горячий каменный бок. Когда лейтенант ушел, он длинно сплюнул:
– Ну, а если не до дембеля, то часа полтора, думаю, продержимся.
Зной был такой, что горячий воздух дрожал, и был сухим, шершавым, – царапал горло. Мутился рассудок, и глаза слезились.
Смертельно хотелось пить, а последняя вода плескалась во фляжке на самом донышке, – тошнотворно-тёплая, с металлическим привкусом. Вообще, он давно заметил, что война почти всегда пахнет железом: железом пахло оружие, железом пахла кровь, железом пахла вода… «На речку бы сейчас, – тоскливо подумал он, поглядывая из-под раскаленной каски на выкатившееся в зенит солнце, – или хоть в душ сходить…»
– Газировки бы я холодной выпил, – прочитал его мысли Аникеев, – только без сиропа, за копейку…
В это время справа, на склоне высоты гулко застучали автоматные очереди и глухо ухнуло несколько взрывов. Первые выстрелы всегда бывают самыми громкими и неожиданными. Гвоздик приподнялся, и до рези в глазах стал всматриваться в горячее марево. От мгновенного напряжения пот сразу покатился по лицу, залил глаза.
– Слушай, Ника, – он, часто моргая, потянул Аникеева за рукав, – ты сходи вправо, к обрывчику, глянь, что там, а то отсюда ни хрена не видать.
Стрельба то утихала, то разгоралась вновь. Аникеев возвратился минуты через три и сказал, что возле сухого русла духи, похоже, прижали разведчиков:
– Может, огоньку туда брызнем?
Гвоздик встал на колени за камнем и долго смотрел вниз, на склон. Стрельба понемногу стихла.
«Значит, не они», – облегчённо подумал он, но тут же увидел разведчиков. Едва заметно мелькая между камней, они пробирались в полукилометре левее сухого ручья. Разведчики шли медленно. Двое тащили что-то тяжёлое. В замыкающем он узнал прапорщика Якимчука. Минут через двадцать они одолеют склон, а там уже начнётся сухое русло, и по нему они выйдут к нашим окопам. Гвоздик снова вгляделся в ту сторону и почувствовал, как у него беспокойно заколотилось сердце. На склоне появились преследователи.
Они расходились широкой дугой, и, похоже, собирались взять разведчиков в кольцо.
Прапорщика надо было прикрыть. Гвоздик лёг за пулемёт и повёл стволом в сторону тёмных фигурок, быстро мелькающих среди камней. Хотел уже дать очередь, но его остановила какая-то нерешительность, суетливость духов. Вместо того, чтобы стягивать кольцо вокруг разведчиков, они забирали то в одну сторону, то в другую. Потом неожиданно залегли и открыли беспорядочную стрельбу. Затем снова выдвинулись на склон и стали осторожно подниматься.
Он понял, что духи не видят разведчиков. Видно, Якимчуку как-то удалось оторваться от преследователей и незаметно свернуть к ручью. Там, скрытый между камнями, он уходил от погони. Уходил тихо и умело. Ещё четверть часа слепого тыканья духов из стороны в сторону, и разведчики будут у своих. Но продвигались они очень медленно.
– Ника, – сказал Гвоздик Аникееву, – погляди здесь, а я на тот край схожу. Как бы духи случайно к нам в стык не пробрались… Вон на восточный склон полезли.
– Ладно, – Аникеев улёгся у пулемёта, поправил сошки и проверил прицел. – Надо Якимчуку помочь.
– Не видят они его, скрытно Якимчук выйдет. Начнём стрелять, такая каша заварится, что он не выберется. Склон ведь насквозь простреливается. Может, и не разглядят духи, где разведчики.
Ещё десяток минут, и разведчики уйдут. Им ведь осталась какая-нибудь сотня метров. Но тут от цепочки отделились двое и, пригнувшись, перебежали через сухой ручей.
«Увидят», – снова подумал он, выглядывая из-за каменной стенки.
Но духи ничего не разглядели. Метров через двадцать один из них оступился неловко, подвернул ногу. Второй стал ему помогать. Значит, пока пронесло…
И в это мгновение за камнями яростно загрохотал ручной пулемёт. Гвоздик кинулся назад по ходу сообщения. Когда он вбежал на позицию, Аникеев уже вщёлкнул второй магазин.
– Стой! – сходу выкрикнул он сорвавшимся голосом, с размаху кинулся на землю и отшиб Аникеева от пулемёта. – Стой! Зачем стреляешь?
– Духи на разведчиков пошли… Двое, могли увидеть, – ответил Аникеев, растерянно моргая. – Чего ты кидаешься, как бешеный!
– Соображать надо! – яростно просипел Гвоздик. – Головой! Просил же тебя не стрелять…
Уже через минуту на склоне закипело, как в чайнике. Пулемётная очередь, так опрометчиво посланная Аникеевым, помогла духам сообразить, где находятся ускользнувшие от них разведчики. Те, которые пробирались по склону, развернулись и стали быстро догонять группу Якимчука.
Теперь уже Гвоздик посылал очередь за очередью, стараясь остановить духов, отрезающих Якимчуку дорогу. Но те быстро и ловко пробирались между камнями, укрываясь от огня.
Слева раскатисто ударил ПК. Это Умаров с высоты 14.0 пытался задержать духов, пересекающих ручей. Где-то ниже зарокотал ещё один станковый, потом по склону беглым огнём ударила минометная батарея. Батальон, как только мог, выручал разведчиков, попавших в беду в сотне метров от своих позиций. Гвоздик теперь уже не видел, где пробирается группа Якимчука.
Припав к прицелу, он ловил духов, мелькающих в камнях у подножья горы, и бил по ним короткими расчётливыми очередями. Позже он не мог толком вспомнить почти ничего, кроме приклада, больно отдающего в плечо, и грохота чужих и своих выстрелов. Непонятно было, долго ли продолжается это, и сколько прошло времени. Совсем близко разорвалась граната, – духи, видимо, засекли их позицию.
Гвоздик на мгновение оглох и ослеп, а когда приподнялся, плохо соображая ещё, выплёвывая кровь и песок, то увидел, что Якимчук всё-таки ушёл от преследователей. Он тяжело перевалился через стенку хода сообщения шагах в двадцати от пулемётчиков. За ним перепрыгнули двое разведчиков. Прапорщик был растерзанный, без каски, в грязи и царапинах. Голову стягивала наспех сделанная повязка с алыми пятнами крови. На скуле темнел свежий кровоподтёк.
Глаза у прапорщика были серые и тяжёлые, как пыльные камни вокруг. Якимчук, не мигая, уставился на пулемётчиков и метр за метром стал приближаться к ним, как слепой перебирая по каменной стенке растопыренными пальцами.
– Ты… Из пулемёта… Стрелял? – сипло спросил Якимчук, упершись в лицо Гвоздику своими безжизненными серокаменными глазами.
– Ты очередь дал?
– Я дал, – отозвался Аникеев. – К вам два духа наперерез пошли, а я их срезал…
– Сре-езал, – плачущим голосом повторил Якимчук, дёрнул щекой и, качнувшись всем корпусом, вдруг без размаха, коротко ударил Аникеева кулаком в лицо. – Срезал, значит…
Охнув, Аникеев сильно стукнулся каской о камень. Лицо его побелело, рука нашарила ремень автомата и рванула его к себе.
Гвоздик, едва успев наступить ногой на автомат Аникеева, крикнул испуганно:
– Якимчук! С ума ты сошёл, Якимчук?!
– Нет, ещё не сошёл, – тихо и устало ответил прапорщик. Глаза у него немножечко ожили. Плечи Якимчука обмякли, и он привалился спиной к камню, с таким напряжением откинув назад голову, будто изнутри его немилосердно жгло что-то. Так бывает, когда в живот ранят.
– Всю свадьбу вы нам этой очередью обосрали… – помолчав, заговорил он. – Ведь мы почти что проскочили… А теперь вот Максима Гречика ранили и Лёшу Лобанова убили… Из гранатомёта Лёшу накрыли, когда мы уже к самому ручью вышли. Суки! Гады паршивые!
Прапорщик ругался зло, грязно и долго, – хриплым, надтреснутым голосом – чтобы дать выход тому, что жгло его. Когда Якимчук ушёл, Аникеев спросил:
– За что он меня, Гвоздик?..
Лицо его жалко кривилось, и губы вздрагивали. Глубоко спрятанные под каской глаза блестели горячечно, – словно в голове у Аникеева вертелась одна-единственная мысль. Она давила, вытесняла все остальные. Гвоздику стало не по себе от этих мерцающих глаз.
– Контуженый он. Совсем не в себе был, – стараясь говорить спокойно, ответил он. – Не понимал, что делает.
– За что он меня по морде?.. – снова спросил Аникеев.
В горле у него булькало. Пальцы с такой силой сжались в кулак, что костяшки побелели, и ногти впились в ладонь. Не дожидаясь ответа, Аникеев спокойно сказал:
– Я, Гвоздик, теперь Якимчука убью… Как сменимся, вернёмся в батальон, найду и убью.
Услышав эти полные тихой ненависти слова товарища, Гвоздик поглядел в его мерцающие глаза и поверил, что Аникеев сделает именно так, как говорит. Он почувствовал, как в нём нарастает ярость. Но через несколько мгновений это чувство сменилось острой щемящей жалостью. Гвоздик понял, как тяжело сейчас Аникееву.
– Успокойся, Ника, – заговорил он. – Прапорщик вообще-то ударил тебя за дело. Хорошо ещё, что он пар здесь выпустил, а значит не доложит комбату, как ты чуть не сорвал выход разведгруппы к своим.
– Не, Якимчук не такой, он закладывать не станет…
Аникеев вздохнул. Рука, стиснутая в кулак, разжалась. Он пошевелил затекшими пальцами и огляделся тоскливо.
– Соображать надо, Ника, – повторил Гвоздик. – Проворнее головой работать. Тихоходная она у тебя какая-то.
– Вроде верно ты говоришь… – Аникеев провёл по лицу ладонью. – Значит, по-твоему, я виноват?
– Виноват, – подтвердил Гвоздик, разглядывая крупного, широколицего парня, с которым служил рядом уже шесть месяцев.
…А вечером вдруг пошёл дождь. Он кропил солдатские спины, камни, превращал пыль и песок в жёлтую жидкую грязь, которая стекала тонкими ручейками вниз, к подножию горы. И спал, наконец, выматывающий душу зной. В полночь пришла смена, первый взвод. Спиридонов разыскал его возле каменной амбразуры. Они молча закурили, пряча в горстях огоньки сигарет.
– Ну, как вы тут? – спросил Спиридонов тоном человека, мысли которого сейчас где-то очень далеко. Гвоздик коротко рассказал ему о событиях минувшего дня.
– Да-аа, – протянул Спиридонов всё с тем же отсутствующим выражением, – разведчики, они бо-орзые…
На том они и расстались.
Гвоздик ещё долго думал, – и тогда, и много позже. Думал, и никак не мог до конца понять, почему люди иногда бьют друг друга по лицу.
Харон
Домовитый Аникеев устроил крошечный костерок между валунами, и они вскипятили полный котелок воды. Уже заварился чай, когда прибежал запыхавшийся дневальный и позвал Гвоздика к телефону: «Срочно в штаб, ты летишь со Щербаком!» И Гвоздик поспешил по белой пыльной тропе вниз, в полковой городок, – к скопищу землянок и блиндажей, соединённых разветвлённой сетью окопов, – к развалинам покинутого кишлака.
– Почему выбор пал на него? Он не был другом Щербакова, плутовато улыбавшегося светловолосого парня из Могилёва, всего лишь месяц назад прибывшего в полк. Может, это было наказанием? За что? Да мало ли за что, – всегда отыщется повод наказать человека, а особенно – солдата. Или, наоборот, – поощ.рением, наградой, но тогда опять-таки – за что? Он не был лучше или хуже других, – обычный сержант, предпочитающий держаться подальше от вышестоящего начальства, не лезущий на рожон…
А если уж совсем по-справедливости, то почему не Лапоть?!..
…Лапоть, он же старший сержант Лопатин приказал: «Давай, Щербак!» Высокий, белоголовый Щербаков с облупленным носом медлил, только моргал растерянно. Месяц назад он ещё был в Союзе, готовился в учебке к этой непонятной войне, готовился, как все: что-то копал, маршировал по раскалённому плацу, выгружал ящики, ездил в горы чистить чьи-то пруды, один раз стрелял по мишени, один раз бросил гранату и время от времени получал очередную порцию сывороток под обе лопатки. Накачанный лекарствами и ежеутренними политинформациями, он наконец-то попал сюда. И вот реальность, как она есть: сильный, чёрный от солнца, ловкий командир посылает тебя, новичка, в полуразрушенный дом, ещё дымящийся от разрывов гранат: проверить, не остался ли там кто живой?
– Чё смотришь, воин? Вперёд!
Остальные молчат. Щербаков неуверенно встаёт, поправляет ремень с подсумками. Все ждут. Неподалёку гулко хлопают взрывы, стрекочет вертолёт. А здесь, – возле глиняного дома с плоской крышей, – удивительно тихо. Щербаков поудобнее перехватывает автомат и на полусогнутых ногах, сгорбившись, бежит.
– Вперёд! Вперёд, твою мать!.. – шипит вслед Лапоть. Солнце стоит в зените, тень маленькая, короткая. Небо плавится. Мёртвый, чадящий дом никак не отзывается на его появление.
Щербаков осторожно к нему приближается, медлит мгновенье – и исчезает внутри.
Тишина моментально взрывается грохотом очередей.
Щербаков судорожно цепляется за расщеплённый дверной косяк, сзади в него впиваются пули, и куртка на груди вздувается и лопается, расцветая безобразными багровыми бутонами. Он падает на колени, бледно сверкающие пунктиры устремляются в дверной проём, трассирующие пули застревают и тлеют в дереве, летит щепа. Щербаков ещё мгновение хватает пыль оскаленным ртом, потом утыкается лбом в землю.
Гвоздик теперь должен сопровождать его. Конечно, это наказание. Неизвестно, за что. Но всё-таки он побывает в Союзе, постарается попасть домой…
Из полка они полетели вертушкой в Баграм. В Баграме – морг сороковой армии, здесь паяют цинковые гробы. Зашёл посмотреть.
Справа составлены гробы без окошек. На цинковых столах мертвецы в чистом белье. Флегматичный солдат-очкарик посмотрел на Гвоздика с отрешённой улыбкой.
Вечером, когда перестали заходить на посадку и взлетать самолёты, бомбящие Панджшерское ущелье, этот солдат позвал Гвоздика в тень, и предложил ему чарс.
– Чарс чарует, – сказал очкарик, хотя и не был поэтом. – А спирт оглушает, – продолжал он, утирая испарину, – но это не по мне, я же не рыба!
Гвоздик привыкал к запаху. Этим густым запахом был насыщен воздух в Баграме. Даже в отдалении он чувствовался. И в столовой.
Каждый день прибывали новые сопровождающие и новые убитые, – некоторые прямо из Панджшера, – в грязной изорванной форме, в кедах, кирзачах, кроссовках, вовсе босые, безногие…
Начальник морга, – толстый, бледный, без знаков различия, – плавал в спиртовом облаке, отдавал распоряжения, пошучивал. Его подручные слепо натыкались на углы, виновато улыбались сопровождающим: те – воевали, а они всего лишь паяли гробы. А сопровождающие, – в свою очередь, – смотрели на этих работников с тайным ужасом, представляя себя на их месте.
Баграмская муха случайно залетела Гвоздику в рот, и он долго и яростно отплёвывался. Потом пожевал веточку верблюжьей колючки.
…Фабрика смерти неутомимо продолжала работать. Привезли обгоревших танкистов. Патологоанатом отсекал что-то, рассматривал, непринужденно беседуя с солдатом-очкариком. Тот отвечал с той же блуждающей улыбкой.
Было нестерпимо жарко. Мысли вязли. Гвоздику начинало казаться, что они уже никогда отсюда не выберутся. Щербаков давно уже исчез в цинковом пенале, и он его больше не видел. Временами Гвоздик вообще забывал, зачем он здесь. И остальные сопровождающие тоже забывали. Некоторые были даже в парадной форме, словно на дембель собрались. Сопровождающие маялись, как это обычно бывает на затянувшихся похоронах. Знакомиться ни с кем не хотелось. Все относились друг к другу со странным отчуждением. Или это было просто общее отупение. Все будто заснули с открытыми глазами. Что-то вяло говорили, смотрели, хлопая медленно веками… Баграмская истома одолевала всех.
– Не спите, воины! – гаркал добродушно толстый начальник, проплывая в своём спиртовом облаке.
Всё это было чудовищно и нелепо. Но однажды очарованный чарсом очкарик тихо сказал Гвоздику: «Когда привыкаешь, ЭТО становится понятнее, чем всё остальное». Он ждал, что Гвоздик ответит, но так и не дождался. Вновь погрузился в себя и больше ничего не говорил, – только усмехался чему-то, покачивая головой.
…Некоторые цинки всё же были с окошечками. Гвоздик заглянул в одно, но оно было чем-то заклеено изнутри, – похоже, просто белой бумагой. Он чувствовал отвращение к очкарику. Даже ненависть. Копошится здесь, как муха, философствует…
Подошёл начальник, – рыхлый, с налитыми кровью глазами, истекающий липким потом.
– Ничего, уже скоро, – дохнул он густым перегаром и похлопал Гвоздика по плечу.
Гвоздику страшно хотелось вымыться. Он часто сплёвывал, резко выдыхал отравленный смертью воздух, старался спать с закрытым ртом, а то и вовсе не спал. Ночь тянулась долго. И наступал новый день.
Но однажды они всё-таки вылетели. Пришлось изрядно попотеть, загружая транспортник, – цинки были запакованы в длинные деревянные ящики. Среди сопровождающих было двое офицеров, – капитан и подполковник, похожий на египтянина. Подполковник накануне явно принял лишку, на жаре его развезло, и в самолёте он вздыхал, мужественно борясь с приступами тошноты. Капитан был недоволен, хмурился. Солдаты равнодушно смотрели в редкие иллюминаторы. Железное нутро транспортника гулко гудело. Гвоздик подумал… Что? О чём он подумал? Пока самолёт набирал высоту, погружался в небо, а потом плыл в вышине, озаряемый солнцем, – не думал ни о чём, ни о ком…
Первая посадка была в Ташкенте. Выгрузили все деревянные ящики-саркофаги, перевезли их на какой-то дальний склад. Получили деньги – командировочные. Вдвоём со связистом Серёгой, – в последний день всё-таки познакомились, – они отправились в магазин, купили по бутылке тёплого лимонада и по две пачки печенья.
В двенадцать часов погрузились в новый транспортник, и начался их полёт по Союзу. Они сидели вдоль бортов, и тупо таращились в иллюминаторы, ни на мгновенье не забывая, кто в грузовом отсеке. Вернее, не кто, а что…
Всё-таки к этим обстоятельствам трудно было привыкнуть. Что там болтал баграмский гробовщик в очках? Что он имел в виду? Что смерть для него понятнее жизни?.. Кажется, так…
– Да пошёл он… Со своей философией!..
Вторая посадка – уже в Баку. На военном аэродроме оставили груз и тут же полетели дальше, в Махачкалу, здесь заночевали.
Искали долго места в гостинице. Поужинали в кафе на берегу моря. Дагестанцы, как водится, проявляли неумеренный гонор. Женщины оказались на удивление белокожими. Официантки смотрели княжнами. Впрочем, к ним, – команде «харонов», – все относились с подчёркнутой любезностью, сразу, с первого взгляда, распознавая их.
Всё-таки выглядели они диковато, что ни говори. Гвоздик посмотрел на них со стороны, выйдя покурить. Разношерстная вроде бы компания: кто в парадной форме, кто в полевой. Двое армян, калмык, украинцы, татарин… Одни моложе, другие немного постарше, но все чем-то неуловимо похожи, все одним миром мазаны, а точнее – одной войной. Гвоздик подумал, что теперь в любой толпе распознает своего. Или он ошибается?
И этот лихорадочный блеск в глазах со временем потускнеет?..
Море. Даже не верилось. В порту что-то грохотало, гудел маленький катер. Тянуло искупаться. Но в порту вода была грязной. Да и надо было ещё искать ночлег. Отыскали гостиницу прямо возле аэропорта. Купили в ресторане вина, но пили как-то неохотно, – только без конца курили, – одну за другой.
Назавтра вернулись в свой самолёт. Гробы, уложенные друг на друга вдоль бортов, стояли в грузовом отсеке. Чтобы не рассыпались, их стянули тросами. Запах проникал в пассажирский отсек. Но все, кажется, уже не обращали на него внимания. Запах тления – что, собственно, в этом такого? Вся земля набита гниющими останками. Гниют деревья, цветы, звери, птицы. Цветут, разлагаются, рассыпаются. Круговорот молекул…
Хотелось бы, конечно, чтобы с человеком всё было как-то по-другому. А как это – по-другому? Наверное, чтобы он враз бесследно исчезал…
Тяжёлый самолёт парил над Кавказскими горами. Летели в Ереван. Оба армянина волновались. Один невысокий, гибкий, с большими влажными чёрными глазами; второй – тяжёлый плечистый атлет, – рыжий, зеленоглазый, по виду годившийся первому в дяди. Арсен и Гагик… Косятся друг на друга. Скоро им придётся смотреть в глаза армянским женщинам. Сообщили им уже? Вдруг среди гор в зелени возникли крыши. Арсен взглянул в иллюминатор и мгновенно побледнел, судорожно сглотнул.
Самолёт пошёл на снижение. Заложило уши, неприятно отяжелели внутренности. Идя на посадку, лётчики всегда открывали хвостовые двери, проветривали грузовой отсек, чтобы можно было потом туда войти. И сейчас они летели над чудесным древним городом, над живым городом, захваченным движением дня. Летели, осыпая невидимым прахом головы тысяч куда-то спешащих или мирно отдыхающих горожан. Арсен не выдержал и встал. Гагик смерил его мрачным взглядом.
– Шореули… – сказал он. Арсен даже не посмотрел на него. Гвоздик немного знал парня, которого они сопровождали. Это был шофёр из третьей батареи, Ваче, – погиб в колонне с продовольствием. Вёз муку, и пуля попала ему прямо в висок. Хрупкий и печальный был этот Ваче. Но хрупкий – не значит изнеженный. Странно, но на войне Гвоздику не попадались изнеженные армяне.
Теперь всё позади. Вот благословенный Ереван, Ваче. Смрадной мумией, с червями в усах ты возвращаешься домой.
Плохо, плохо паяли ребята баграмские. И не только из-за спешки. Не только. Знали, что родители не поверят, будут вскрывать, – надо же убедиться… Говорят, случаются ошибки, – в цинке совсем не тот оказывается… Или вообще вместо тела – землица афганская… А то и ковры, женские шубки, японские магнитофоны, джинсы, наркотики, – контрабанда, случайно пришедшая не по адресу…
Синей краской на досках криво выведены фамилии, чтобы не перепутали: Иевлев, Щербаков, Власенко, Слободян, Юсупов, Мигранян, Татабеков… Вдруг там вместо трупов – несметные восточные сокровища?..
Шасси транспортника коснулись посадочной полосы. Арсен резко сел, – его придавила эта навалившаяся тяжесть замедления. Самолёт пробежал по бетонке, вздрагивая. Остановился… Ну вот и всё. Гагик надел фуражку.
В Ереване они пробыли не больше получаса. Но за это время умудрились попробовать армянского коньяку, – непонятно кто его прислал. Борттехник в замасленном комбинезоне подошёл, достал из широченных штанин две бутылки, сказал, что просили передать.
Неужели Гагик с Арсеном? Так быстро достали? Да они же вроде бы сразу укатили на грузовике?.. Неизвестно. А коньяк всем понравился. В нём играла горячая, весёлая сила.
Из Еревана взяли курс на Моздок. Оттуда – в Астрахань. Вот куда течёт река Волга. Сверху увидели зелено-жёлтые заросли, рукава и озера дельты, веер сверкающих на солнце проток… Железнодорожный мост, на левом берегу зелёные скверы, дома, причалы, посреди города на холме – астраханский кремль. Это уже Россия.
Было жарко, и от коньяка, выпитого чёрт-те-где, ещё за Большим кавказским хребтом, за тысячу километров отсюда, – ну или сколько там? – Ещё шумело в голове…
Астрахань, как Венеция, стояла в воде, – всюду мелькали каналы, мосты… Здесь Гвоздик распрощался со связистом Серёгой. Пора было обедать, их повезли в какую-то воинскую часть. Там солдаты смотрели на них, как дети, щупали хабэ, как будто солдатское обмундирование, – пусть и несколько иного покроя, – не одно и то же повсюду, от Балтики до Владивостока, от Мурманска до Кушки и Термеза. Их отвели в столовую, поставили на столы железные миски с борщом, кашей и не отходили от них, расспрашивали, как там и что. После обеда клонило в сон, но их повезли на аэродром, где ждал самолёт, – всё тот же мощный, вместительный катафалк.
Ну, а Астрахань что? Ловила рыбу, загружала баржи, слушала новости. Там, наверное, и о них что-нибудь проскальзывало: мол, воины-интернационалисты… А они, эти самые интернационалисты, были уже здесь, а вовсе не там, где «строили дороги и сажали сады». Прямо здесь вот тайком летели над страной, как воры. Как бледные тени никому не известных событий, происходящих на каменистых горных дорогах Гиндукуша, в ущелье Панджшер – и далее везде… Их самолёт тоже был только тенью, призраком. О таких рейсах не сообщалось. Да и как бы это могло звучать, на самом деле? «Чёрный тюльпан» пересёк границу СССР… Бортовые системы корабля работают нормально… Опытный экипаж… Группа сопровождающих лиц… Столько-то героев, с честью выполнивших интер…»
Мёртвых героев. Ваче Мигранян… Или Щербаков, например… Или…
Куда теперь? К другому морю, к другой реке – в Ростов-на-Дону. Мучительно хотелось курить.
…А духов выкурить можно было совсем по-другому. Совсем. Зачем так спешить? Например, дождаться корректировщиков, и гаубицы накрыли бы этот дом. Или танкистов – в дом можно было с разгона въехать на танке… Или вызвать вертушки… Ну, теперь-то что… Щербаку уже всё равно. И сержанту Лопатину. Да и вообще – всем…
Так думал Гвоздик, сидя в воздушном катафалке где-то между Астраханью и Ростовом-на-Дону
…Внизу уже донские степи? Облака, тени облаков на земле, какие-то реки… Вдруг засинела мощная жила. Так это же Дон и есть!
Нескончаемые поля. На берегах – сёла, утопающие в зелёных садах…
Перед Ростовом-на-Дону лётчики снова проветривали грузовой отсек. Привет из Баграма. Дыхание смерти на ваши крыши, в ваши окна.
Мир вашему дому…
Через час уже снова летели, кажется, в Донецк. Или сначала в Элисту? Но, возможно, в Элисту прилетели ещё до Ростова-на-Дону…
Потом садились в других городах, – посадок было много. Кто-то поначалу даже вёл маршрутный лист, но потом этот штурман высадился, – остался вместе со своим двухсотым грузом, – а продолжить, подхватить перо так никто и не удосужился: зачем это?
Кому оно надо?..
Летели и ночью. Земля внизу светилась цепочками огней. Над большими городами стояли мутные облака света. Чёрная земля казалась бездонной, безмерной. Самолёт тяжело гудел, раздвигая тьму крыльями с пульсирующими ранами, бьющими багровым светом, – как будто внутри иссечённые свинцом и осколками тела ещё кровоточили…
…Этот полёт казался нескончаемым. Поэтому Гвоздик даже немного растерялся, когда остался наконец один на аэродроме, возле длинного деревянного ящика с корявыми синими буквами «Щербаков». Самолёт полетел дальше, и Гвоздик ощутил неодолимую, свинцовую тяжесть. До сих пор он лишь наблюдал, как со своим грузом уходили другие. Теперь это предстояло сделать ему. Он покосился на ящик, и ему вдруг почудилось, что никакого Щербакова внутри нет. Возможно, Гвоздик просто обкурился, и теперь видит дурной сон. Старший сержант Лопатин… Ведь настигнет же и его когда-то воспоминание о Щербаке? И Лопатину тоже захочется, чтобы этот ящик был доверху наполнен сухим афганским песком, а Щербаков был бы жив и хитро улыбался, морща облупленный нос…
Но зачем тогда его, Гвоздика, сюда прислали? И главное, как он согласился? Как мог он согласиться? Нужно было наотрез отказаться – как наотрез отказался он лететь с Сашкой Волчковым… Неужели это его наказание за тот отказ?.. Нет, но кому-то же надо было… Или всё же так сильно захотелось побывать дома?..
Гвоздик озирался, стоя на краю взлётной полосы. Рядом безмолвно стоял дощатый уродливый саркофаг. «Щербаков».
– Может, о нём забыли? Приняли самолёт – проводили, а зачем он приземлялся, как-то запамятовали. Гвоздик закурил. Выкурил сигарету, вторую, третью… Аэродром был пуст. То есть, здесь были конечно самолёты, – два или три. Был и вертолёт. У приземистого кирпичного здания стояла машина, – правда не грузовик, – всего лишь «уазик». Но людей нигде не было видно. Низко нависало серое небо, вдалеке мрачно зеленели какие-то деревья. Ветер трепал яркий флажок на металлической мачте. Гвоздик оглядывался, и ему по-настоящему было страшно. Здесь он никого не знал, кроме Щербакова…
…Щербакова хоронил военкомат. На похоронах был сам военком, был пожилой отставник, работавший в военкомате кем-то вроде сторожа. Ещё – несколько солдат, две любопытных бабки, случайный подросток… Дело в том, что Игорь Щербаков оказался детдомовцем, и пока он был жив, никто в полку даже не знал об этом. Так что похороны прошли спокойно. Никто не вздрогнул, не заголосил, когда Щербаков ткнулся в родную могилёвскую глину. Так и должны хоронить солдат – быстро, чётко, без лишнего шума и слёз. Потому-то детдомовцы – наилучший контингент для всех рискованных государственных затей…
После похорон Щербакова он так и не поехал домой. Гвоздика неудержимо потащило дальше, – в Термез, словно что-то волокло его за шиворот. Он потом, позже, рассказывал всякую чушь про стечение каких-то туманных обстоятельств, – рассказывал и энергично тыкал большим пальцем за плечо…
В общем, покатил, – невыспавшийся, хмурый, – в Термез и там ещё с неделю проторчал, ожидая колонну. С голодухи они пошли ночью на склад, – вдвоём с таким же случайным бедолагой. Тот ужасно трусил, а Гвоздику было наплевать. Он знал, что любые охранники – люди, и когда-то бывают беспечны. Действительно, часовой вскоре устал ходить взад-вперёд под фонарем и скрылся в караулке. Тут они перебежали под стену склада, Гвоздик велел своему напарнику присесть, встал ему на плечи, выдавил стекло, забрался внутрь и отыскал ящики с консервами. Передал один ящик товарищу, вылез, а ящик они потом припрятали в степи. Консервы оказались ненавистной огнедышащей рыбой в томате, но они всё равно ходили их есть, – пока люто не затошнило от изжоги…
А вскоре пришла колонна. Его взял к себе в кабину водитель-чеченец, солдат. Его «КамАЗ» был нагружен углём.
С водителем Исой они сдружились, – тот на стоянках запросто добывал еду, – земляки у него были повсюду.
А так Гвоздик, наверное, помер бы с голоду. Почему-то русские земляками были, прямо сказать, неважнецкими. Как это у Тарковского, – в его «Андрее Рублёве»? «…Какой ты русский, морда владимирская?!..» – Гвоздик хрипло рассмеялся. И косяки Иса добрые доставал. Правда, сам никогда не курил почему-то.
Гвоздик ехал в «КамАЗе» с Исой и, вспоминая весь пройденный путь, представлял себя каким-то военным чиновником, сочиняющим реляцию высшему командованию. Он, конечно, здорово подустал, да и от чарса всё в глазах слегка двоилось. Порой ему даже становилось невыносимо смешно, что вот он так спокойно едет, жив-здоров.
Они ехали через Мазари-Шариф, Пули-Хумри, Саланг, потом вниз, сквозь Чарикарскую долину – сплошной сад с дувалами, башнями, – прямо в Баграм, где круг, наконец, замкнулся. И, конечно, Гвоздику всё это казалось странным. Он описал невероятную петлю, – в самолётах, поездах, машинах, – и возвращался.
Здесь, в Баграме, они расстались. Иса покатил с колонной дальше – в глиняный и каменный, зелёный и сине-купольный, поистине гигантский, после всех придорожных городишек, Кабул. А Гвоздик полетел на вертушке в полк. Он возвращался, размышляя о запутанных военных дорогах, и не знал, радоваться ему или плакать из-за того, что его занесло на одну из них…
Поэзия
Евгения Славороссова
Из книги «Времена года»
Сезоны
Ах, ветра дыханье, цветов колыханье
И свечек каштановых благоуханье.
Рассветный июнь, золотые закаты,
Зловещего грома глухие раскаты.
А летние ливни, летящие ливни,
Вонзаются в землю их острые бивни.
Весною каштаны, а осенью клёны
Нам душу пытают листвой раскалённой.
Ведь в мае крахмальном – мир сине-зелёный,
А осенью пламенем алым спалённый.
За грустью осенней, и горькой, и сладкой,
Зима проберётся с кошачьей повадкой
И скрипочку враз ледяную настроит
И нас успокоит, и мехом укроет.
Январская элегия
Сердце ноет болезненно-сладко.
Нету в роще январской тепла,
Как в душе моей смутной порядка.
Но любовь никуда не ушла.
В речке лёд, равнодушно слепящий,
И, хоть верится в это с трудом,
Не ушла, а царевною спящей
Безмятежно лежит подо льдом.
Февральская капель
Многое в жизни минута решает,
Время – мудрейший и опытный знахарь.
Снег ноздреватый, как тающий сахар,
В чашке полудня февраль размешает.
Чтобы нам не было грустно и тяжко,
Солнце сверкает серебряной саблей,
И разбивается первою каплей
Дня голубого бездонная чашка.
Накануне марта
Что нас ожидает
В лихорадке старта?
То февраль рыдает
Накануне марта.
Выберу дорогу,
Задохнусь от бега.
Смоет ли тревогу
Как остатки снега?
Выкрикнуть бы в поле:
«Что всё это значит?»
От внезапной боли
Юный дождь заплачет.
Больно – значит живы
Души-недотроги.
И слова не лживы
И верны дороги.
Фотография
Смотрит с фотографии старинной
Девочка в пальтишке с пелериной,
Смотрит, как нечасто смотрят дети,
Девочка в надвинутом берете.
Ей судьба – идти вослед идущим.
Кто она? Что ждёт её в грядущем?
Девочка с мечтою неземною,
Может, ты была когда-то мною?
Ей в глаза в апреле солнце свети.
Где она? Но кто же мне ответит?
Май. Нежность
Сегодня лишь нежность у нас на уме,
Прогулки, беспечные речи,
Когда так волшебно белеют во тьме
Каштанов пахучие свечи.
Сегодня прибоем вскипает сирень,
Глаза нам туманя лилово,
И майским теплом наполняется день,
И нежностью каждое слово.
Октябрьский дождь
Моим ли прихотям в угоду
Иль по другой причине, но
Бог вызвал чудную погоду,
Что я ждала уже давно.
Небесные разверзлись хляби,
Дождей отправив караван,
Спецы в своём небесном штабе
Наслали влажность и туман.
И пусть на улицах безлюдно,
Я всё же счастлива вполне:
И мне любить людей нетрудно
И под дождём не грустно мне.
А город сыростью пронизан,
Как будто рядом океан.
И капли скачут по карнизам,
И день октябрьской влагой пьян.
И на щеках моих не слёзы,
А дождь, присущий октябрю,
Ведь на дождливые прогнозы
Я положительно смотрю.
Ноябрьский сон
В пору тьмы и разрушенья —
В ноябре, во сне
Без звонка, без разрешенья
Ты пришёл ко мне.
И, вселив в меня тревогу:
Сплю я иль не сплю?
Прошептал ты мне: «Ей-Богу,
Я тебя люблю».
Из книги «Роза ветров»
Азбука Крыма
Возносятся к небу так чисто и хрупко
Весёлые кличи – Алушта, Алупка!
Как будто бы вскрикнул невидимый хор
С восторгом – Гурзуф, с придыханьем – Мисхор.
И длится минута от века до века.
То птицы кричат или дети Артека?
А звуки камнями срываются вниз,
Осколки летят – Кореиз, Симеиз!
О, воздух, сияющий в солнечном ветре.
Царапают небо вершины Ай-Петри.
Меж каменных рёбер родившийся крик,
Зелёного моря солёный язык.
Кто эти выписывал мысы и бухты —
Истории древней нестёртые буквы,
Кто горы и скалы рассыпав вот так,
Поставил сосны восклицательный знак?
Протяжная песня от века до века.
Дыхание тавра и скифа, и грека,
И облака пар, и Отечества дым
Смешались с горячим дыханьем моим.
Сигналят суда, проходящие мимо,
Учу на каникулах азбуку Крыма,
Машу кораблям загорелой рукой,
Шепчу: «Аю-Даг» и вздыхаю: «Джанкой»…
Рыбачье
Море – шёлковая скатерть,
Серебрится света скань.
На закате режет катер
Влаги ласковую ткань.
Пенит воду катер прыткий,
Хоть кончается сезон…
Яркий вид, как на открытке,
Втиснут в тесный горизонт.
Мальчик храбро ловит краба,
Берег вылизан волной.
О, бесценная отрада,
В жизни найденная мной!
Так не вечно равновесье,
Так мгновенен счастья срок…
Но уходит в поднебесье
Белоснежный катерок.
Я прильну к морскому лону,
Опущу в волну ладонь.
Виноградники по склону
Вверх ползут. В домах огонь
Зажигают. Быстрый вечер
Сходит вниз. Горит звезда.
Я не вечна, ты не вечен —
Вечны небо и вода.
Ждать удачи, жить иначе?
Не уйти отсюда прочь?
А над нами ветер плачет,
И цикада пилит ночь.
Вдруг сорвётся брань собачья,
И замрёт в руке рука…
И уснёт село рыбачье
Под миганье маяка.
Крымская ночь
Словно говор всякой нечисти,
Слышны сотни голосов
Металлических кузнечиков,
Металлических сверчков.
Не одна на берег выйду я
Там, где пляжа полоса.
Над затихшею Тавридою
Тёмной ночи голоса,
Марсианские, нездешние,
На Земле подобных нет.
Как целуемся поспешно мы,
Словно гибелен рассвет.
Всё укрыла ночь бездонная.
Но невидима во мгле
Киммерия дышит сонная.
Или мы не на Земле?
Не найду огня и света я…
Но, прорвав кромешный мрак,
Странной высится ракетою
В небо рвущийся маяк.
А кузнечики, как часики,
Нити времени стригут.
Мы с тобою соучастники
Тайн, рождающихся тут.
Морская соль
Метил печалью меня, как печатью —
Чудо морское иль Божье творенье?
Непостижимее страсти к зачатью
Тайна рождения стихотворенья.
Чёрного моря полная мера,
Но прижимаюсь к берегу сиро.
Море огромно, как эпос Гомера,
Я ж нарушаю гармонию мира.
В детстве средь буйной российской метели
Снилась мне синь за стеною зубчатой.
Эллин проносит в бронзовом теле
Счастье. На мне же тоски отпечаток.
Море в огромной каменной чаше,
Сразу пьянею к берегу выйдя.
В яшмовых водах солнышко пляшет.
О, Ифигения в чудной Тавриде!
Ящеркой смуглой лягу на камень —
Богом забытое Божье творенье,
Дал мне так много своими руками,
Не дал мне только умиротворенья.
Море проснётся, вспыхнет, бушуя,
Вздрогнет и снова размеренно дышит.
Всё, что сейчас на песке напишу я,
Море сотрёт. Кто ж об этом напишет?
В сладости лета соли крупинка,
Крупной, как слёзы, каменной соли.
Тянет настойчиво к морю тропинка.
Мне бы хоть каплю покоя и воли.
Мне б окунуться в праздничность эту,
Мне б раствориться в чистом просторе,
Солнцу дать губы, волосы – ветру,
Тело нагое выплеснуть в море!
Коктебель
У брега, где волны берут разбег
Неведомо сколько веков,
Рассыпался каменный человек
На тысячи мелких кусков.
Как будто однажды вздохнул истукан —
И вздох разорвал ему грудь,
Как будто устал и прилёг великан
У ласковых волн отдохнуть.
Угрюмого камня душа взорвалась,
И крик исказил его лик…
Мерцает зрачок его яшмовых глаз,
Сверкает, как кровь, сердолик.
О, жажда на миг разорвать свою цепь
И воздух свободы вдохнуть.
Раздвинуть усилием скальную крепь
И воле навстречу шагнуть —
И вырваться, словно из бренных одёж,
Из тягостных пут забытья,
И боль сладчайшей почувствовать дрожь
До самых глубин бытия.
Разрушить однажды надёжный свой дом,
Что чем-то похож на тюрьму…
А что бунтаря ожидает потом —
То ведомо только ему.
Девушка Крыма
Этот город, совсем непохожий
На московский запущенный двор.
Здесь я чувствую собственной кожей
Моря соль и дыхание гор.
Здесь я чувствую собственным нёбом
Виноградных кипение струй,
И пропитанный йодом и мёдом
Персик свеж, как во сне поцелуй.
Неужели вдыхала всё время
Лишь столичного воздуха дым,
Не росла в Черноморском Эдеме,
Что теперь называется Крым?
Неужели не я на скамейке
Целовалась средь роз
Не буянила в шумном семействе,
В итальянском кипенье страстей,
Где на кухне сияли прекрасно
Кабачок, баклажан, помидор,
Где пропахший оливковым маслом
Утопал в полутьме коридор?
Неужели в блаженстве и блажи,
Убаюкав тоскующий ум,
Не лежала на каменном пляже
Монотонный не слушала шум?
Неужели под синим инжиром
В окружении нежной родни
Не цвела безрассудным транжиром,
Расточая минуты и дни?
Но не я ли, беспечная, знала —
Не воротится прошлое вновь
И не я ли перо окунала
В шелковицы чернильную кровь?
Неужели на южном вокзале,
По лицу размывая тоску,
Не стояла? И это не я ли
Так хотела уехать в Москву?
Прощание с морем
Я жить без него не смогу. Я умру!
Я Чёрное море с собой заберу.
Чтоб видеть в окошке своём без труда,
Как в нём виноградная зреет вода,
Чтоб щупальцы солнце тянуло, как спрут,
Чтоб в море, как в жидкий нырнуть изумруд,
А вечером – нет, не по гальке с песком —
По лунной дорожке пройтись босиком.
Я жить без него не смогу, я умру.
Что делать мне в городе летом в жару?
Что делать с душою и телом весь год
Вдали от любимых немыслимых вод?
Прикажете мне задыхаться в тоске
От жажды, как бешеный пёс на песке,
Спешить на вокзал, где кругом толкотня —
Ужель от него оторвёте меня?
Я жить без него не смогу, я в волну
Горячее сердце своё зашвырну.
Плыви, моё сердце, чтоб век не рвалась
Солёная, кровная, вечная связь!
Бабочка зимы
О, Бабочка Зимы, мохнатый махаон,
Осыпал снег, взмахнув крылами, он —
И сразу мир открылся белый-белый…
Но помню изобилье изабеллы
У моря Чёрного. А, как меня хранил
Тот вечер цвета пролитых чернил.
О, черноглазие хмельной округи винной,
О, тёплый ливень, хлынувший лавиной.
Но заметает летней ночи сны
Крылом пушистым Бабочка Зимы.
Как сладок запах той поры минувшей!
Прожектор хищно щупал пляж уснувший.
А турки за морем? О, что там снилось им?..
Но Бабочка Зимы взмахнёт крылом своим,
За лесом белых пальм являясь перед взором,
Прильнёт к стеклу немыслимым узором.
На перекрёстках эпох
Наталья Божор
Сказание о дон Кихоте
Сервантес
К «Дон Кихоту» Сервантеса, как и к «Демону» Лермонтова, я возвращалась, чтобы понять. Не успев прочитать книгу, я открывала её вновь.
На тот алмазный трон, где столько лет
Марс восседал, от крови весь багровый,
Взошёл Ламанчец и рукой суровой
Над миром поднял стяг своих побед…
Начиная писать «Дон Кихота» как пародию на рыцарские романы, Сервантес становится пленником героя.
Испанский дворянин Алонсо Кехана (идальго), не в силах переносить повседневную жизнь и, начитавшись рыцарских романов, уходит в Сказку. Им движет благородное чувство – сложить подвиги к ногам своей Дамы.
Посвящение в рыцари происходит на постоялом дворе (волшебном дворце).
Вокруг Дон Кихота сплетается сеть очарованных Лун. Вместе с неутомимым Росинантом и верным оруженосцем Санчо Пансой Рыцарь Печального Образа (Рыцарь Львов) проходит по плетёному пути. Но Дульсинея ускользает от рыцаря.
Столь поучительны беседы Дон Кихота и Санчо: «Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле Небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги… Я тот, кто призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей Славы»…
Поэт и философ по своему душевному складу, защитник бедных и обездоленных, Дон Кихот близок Сервантесу. Героя можно назвать гуманистом эпохи Возрождения.
Роман – это культурный слой эпохи. Мавританские повести, плутовской роман, испанские романсеро, поэмы итальянского Ренессанса вошли в «Дон Кихота».
Подвигам Дон Кихота нет числа! Приключения в пещере Монтесиноса дороги рыцарю прежде всего потому, что в облике крестьянской девушки видит он Дульсинею Тобосскую!
Балагур Санчо пишет письмо жене своей Тересе Панса: «…Милая Тереса, козла пустили в огород, и в должности губернатора мы своё возьмём».
Обещанный Санчо Остров и губернаторство словно россыпь жемчужин.
Санчо говорит себе (и герцогине): «…голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушёл и, могу сказать по чистой совести, а чистая совесть – это великое дело: «Голышом я родился, голышом свой век прожить ухитрился».
Замок герцога Дон Кихот и Санчо покидают под песню Альтисидоры:
О, жестокосердый рыцарь!
Отпусти поводья малость,
Не спеши коня лихого
Острой шпорой в бок ужалить.
Блажен тот, кому Небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме Неба!
Потерпев в бою поражение от Рыцаря Белой Луны (Рыцаря Зеркал) и не встретив Дульсинею, Дон Кихот и Санчо Панса возвращаются в родное село.
Опадает пена, рушатся хрустальные дворцы… Почему так распорядился Сервантес? Одна ласточка ещё не делает весны.
Ты храбрейший сын Ламанчи,
Рыцарства краса и гордость,
Всех сокровищ аравийских
И прекрасней и дороже!
В Страну Очарованных Лун уходит Дон Кихот.
2017
Дон Кихот Ламанчский. Из графической серии С. Бродского
Поэзия
Андрей Ивонин
Тридцать первое декабря
Ритуальные проводы старого года.
Оливье на столе. Ожидание прихода
года нового. Снежная изморозь. Пар
изо рта на морозе. Яркой расцветки
мишура, запах хвои, еловые ветки.
И на тоненькой нитке серебряный шар.
Ни о чём разговоры, мечты, обещания.
Бесконечные хлопоты, встречи, прощания.
Нас бросает из крайности в крайность,
то в холод, то в жар.
И летит в безвоздушном пространстве планета,
для чего это всё, не давая ответа,
как на тоненькой нитке серебряный шар.
«Вздрогнула, тронулась, сдвинулась с места зима…»
Вздрогнула, тронулась, сдвинулась с места зима.
Площади, улицы, скверы, бульвары, дома —
всё покачнулось, очнулось, в глазах поплыло,
хрустнуло хрупко, как под ногами стекло.
Глаз до утра не сомкнёшь, и всю ночь напролёт
слышишь, как пенится воздух и крошится лёд.
Это весна, говоря с небесами на ты,
навстречу идёт, не стесняясь своей наготы.
Ветками верб чуть касаясь высоких небес,
тянется к солнцу привставший на цыпочки лес,
душу синичьими трелями разбередив:
Всё впереди – говорит тебе – всё впереди.
Всё впереди, всё исполнится точно и в срок.
Дай только время, немного терпенья, дружок,
и неудачи твои за сугробами канут во тьму.
Ты только верь. – И так хочется верить ему.
Без любви
Всё мертво без любви на печальной и зыбкой земле:
капли тёплых дождей в фонарями колеблемой мгле,
шорох листьев над нами и грома раскаты вдали.
Всё мертво без любви. Повторю: всё мертво без любви.
Всё мертво: и отвесные горы, и море, и лес,
краски летнего дня, и пылающий купол небес,
птичий щебет весной за окном, и журчанье воды
в торопливых ручьях, и осенних деревьев плоды.
И покой безмятежных пейзажей, и буйство стихий,
и манящих пространств бесконечность, и даже стихи —
ничего, ни копейки не стоят, увы, без неё.
Всё мертво без любви, всё мертво, как и сердце моё.
В зоне риска
Вот так. Теснее… Ближе… Близко-близко.
Ещё чуть-чуть… Почти боясь вздохнуть.
Я в миллиметре от… Я в зоне риска —
в глазах твоих рискую утонуть.
И глядя в них, произнесу украдкой:
Ни божий гнев, ни праведников суд,
меня уже от этой кары сладкой
не отвратят, не сдержат, не спасут.
Верую
Верую ныне, и присно,
и во веки веков
в твой силуэт, внезапно
возникший из ниоткуда
в пасмурный мартовский день.
В дробь каблуков
в такт биению сердца.
Верую в чудо.
Имя твоё повторяю
медленно и нараспев,
медленно, словно читаю
молитву, как “Отче
наш”. Вначале тихо,
почти про себя,
затем осмелев,
языком касаясь нёба, как неба,
всё громче и громче.
Пристально наблюдаю
за пируэтами птиц.
Чувствую, как прорастают
крылья и за моими плечами.
Верую в пену тяжёлых волос,
в удивлённые взмахи ресниц,
в губы и лоно твоё,
одинокими корчась ночами.
В прикосновение пальцев,
в солнечных глаз глубину,
в тёплые брызги апреля,
в неба бездонную синь.
Между другими, иными,
только в тебя одну
и верую. Ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Бабочка
Она как бабочка. Ея
воздушна суть.
Смотрю, дыханье затая, —
боюсь вспугнуть.
Над головою крыльев нимб,
легка пыльца.
Тончайшей линии изгиб —
овал лица.
Парит в оправе облаков.
Ещё виток.
Среди диковинных цветов
сама цветок.
А сердце ноет наперёд,
душа болит.
А вдруг она сейчас возьмёт
и улетит?
Урок геометрии
Губами
изучаю геометрию твоего тела:
овал лица,
окружность живота,
конусы грудей,
линии бедер.
Девушка спрашивает
Девушка спрашивает: «А ты правда поэт?»
«Да», – «А прочти что-нибудь!» – «Ладно».
Читаю: рондо, канцона, сонет…
Слушает. «Надо же, – говорит. – Складно!»
«Складно?» – Улыбаюсь. День выходной
тянется, и у поэта
на душе весна, а за стеной —
осень? Зима? Лето?
«День морозный, солнечный, бодрящий…»
День морозный, солнечный, бодрящий.
Выходи на улицу со мной!
Загляни в меня – я настоящий.
Слава богу, я ещё живой.
Я богам языческим подобен.
Мне любое дело по плечу.
Я ещё на многое способен
и ещё так многого хочу:
жить, любить, без удержу смеяться,
совершать ошибки и грехи,
у ночных подъездов целоваться,
песни слушать, сочинять стихи.
И ничто – ни тяготы, ни время —
не остудит моего огня.
Об одном прошу: ты только верь мне
и не останавливай меня!
«Нет ни завтра, ни после…»
Нет ни завтра, ни после,
а есть только здесь и сейчас.
И фонарь на углу,
и луна, что над домом повисла,
как и неба слюда,
не имеют значенья без нас.
Ни пространство, ни время без нас
не имеют резона и смысла.
Тихих улиц предутренний сон
и июльский рассвет,
полыхающий жарко
в оконной надтреснутой раме,
и отчётливый твой
на песке отпечатанный след
только здесь вместе с нами живут
и уйдут вместе с нами.
Ну, а я полной грудью дышу
и живу на бегу.
Только крепче стараюсь запомнить
любимые лица.
Что мне делать с любовью моей?
Ни с собой её взять не могу,
ни прохожим раздать —
лишь немного с тобой поделиться.
«Вдоль аллей гуляет ветер…»
Вдоль аллей гуляет ветер.
Улиц утренних прохлада.
Мелкий дождь над мокрым садом.
Губы, пахнущие дымом.
Знаешь, мне на этом свете
ничего почти не надо.
Только чувствовать —
ты рядом.
И любить.
И быть любимым.
«Когда, открыв глаза, проснёшься ночью…»
Когда, открыв глаза, проснёшься ночью,
поднимешься и, не включая свет,
всем существом вдруг ощутишь воочию,
что прошлого и будущего нет.
А есть лишь краткий миг, что мягче воска,
чуть зримый штрих, полутеней игра,
стежок тончайший, узкая полоска,
граница между завтра и вчера.
И станет легче. Скрипнет половица.
Забрезжит утро, будто в первый раз.
И что должно, конечно же, случится.
Немедленно, сегодня и сейчас.
И, внутренне прозрев, за мысли эти
держась как за спасительную нить,
стряхнёшь с себя тяжёлый груз столетий,
отпустишь боль и вновь захочешь жить.
На перекрёстках эпох
Наталья Божор
Мерцающее озеро
Джеймс Фенимор Купер
В ранних романах писателя «Лоцман», «Красный корсар» – романтика моря. В «Зверобое» мы слышим волну за кормой. «Зверобой» – одна из любимых книг М.Ю. Лермонтова.
Роман Джеймса Фенимора Купера «Зверобой или Первая Тропа Войны» входит в пятитомник писателя: «Пионеры», «Последний из Могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой».
Главный герой серии книг Купера Натти Бампо благодаря своей силе и мужеству приобретает в «Зверобое» почётное имя – Соколиный Глаз. Индейцы Рысь, Пантера погибают от руки Зверобоя.
Толи чёрный лебедь, то ли белый ворон.
Кто я: русский воин или враг поганый?
Скалят кони морды да во чистом поле.
Как вода из фляги хлещет кровь из раны.
Зверобой спешит на озеро Онтарио, на встречу с молодым могиканином, делаварским вождём Чингачгуком (Великим Змеем). Уа-та-Уа (Жимолость Холмов), невесту Великого Змея, похитило индейское племя Минги (гуроны). По дороге на озеро охотник встречает Гарри Марча (Непоседу).
Поклонюсь я в пояс голубым озёрам,
Златоглавым храмам, вековым дубравам.
Для меня погоны не были позором,
Для меня присяга не была забавой…
Зверобой ничего не ответил. Он стоял, опершись на карабин и любуясь восхитительным пейзажем… Место было прелестно, и теперь оно открылось перед взорами охотника во всей красоте: поверхность озера, гладкая, как зеркало, и прозрачная, как чистейший воздух, отражала вдоль всего восточного берега горы, покрытые тёмными соснами; деревья свисали над водой, образуя зелёные лиственные арки, сквозь которые сверкала вода в заливах…
Мерцающее Озеро, Блистающая Грусть…
На озере, на сваях, установлен Замок Тома Хаттера (Водяной Крысы), отца Джудит (Дикой Розы) и Хетти (Поникшей Лилии). Сын Хаттера погиб на бранном поле.
Поникшая Лилия отвязала пирогу, чтобы проникнуть в лагерь Мингов, спасти отца и Непоседу или погибнуть с ними. В руках у Хетти было Евангелие. Медведица с медвежатами сопровождали бесстрашную девушку.
А у чёрной речки конь мой обезумел.
Обагрится кровью Спас Нерукотворный.
За кого воюем – так я и не понял.
За кого умру я – так и не узнаем[1 - Слова и музыка в исполнении Юрия Евдокимова.].
Далее об индейцах рука писать отказывается.
– А где же ваша возлюбленная, Зверобой?
– Она в лесу, Джудит, она падает с ветвей деревьев с каплями дождя, росой ложится на траву, плывёт с облаками по небу, поёт с птицами, она во всех дарах, которыми мы обязаны благому Провидению…
Прекрасную Джудит Зверобой не успел (не смог) полюбить.
«Я следую моему высокому призванию…»
В долине солнце и цветы,
Я слышу голос нежный,
И сказку мне приносишь ты,
И отдых безмятежный.
2021
Возвращение
Ерий Влодов
(1932–2009)
Пушкин
Из книги «Портреты»
«О балы мои далекие!..»
О балы мои далекие!
Колокольца снежный звон!
Неопознанные локоны
В бликах елочных окон…
Зажигали свечи чистые…
Заполняли синевой…
Полонезами лучистыми
Плыли зимы над Невой.
И на санные излучины —
В запах милый, меховой —
Опускался кто-то мученный
С эфиопской головой…
И взлетали галки снежные
Из-под санного ножа!
И была метель мятежная
Оглушительно свежа!
«Когда на клейкий подоконник…»
Когда на клейкий подоконник
Зарю обронит глупый птах,
Когда пастух – сопливый конник
Промчится с гиком на устах
Я буду спать – башкой в тужурку,
В мышином сене и пыли…
Но в оловянную мазурку
Вхожу я с тёплой Натали…
И свечи светятся морозно!
И рыжий гений смотрит грозно!..
Ах, притча века – Натали!
Звенят браслеты грациозно,
И пахнут вольно и берёзно
Запястья сельские твои…
«Светлело, а гусиное перо…»
Светлело, а гусиное перо
Резвилось, как младенец неразумный,
И глаз косил безбожно и хитро
На этот мир – застенчивый, но шумный.
Пищала птаха, тихо зрел ранет,
Сварливый клён под окнами возился…
«Ужо тебе!» – воскликнул вдруг поэт,
И кулаком чернильным погрозился.
«Ужо тебе!» – и весело со лба
Смахнул волос воинственную смуту…
Не знала Русь, что вся её судьба
Решалась в эту самую минуту.
«Слетают листья с Болдинского сада…»
Слетают листья с Болдинского сада,
И свист синицы за душу берёт.
А в голубых глазах у Александра
Неяркое свечение берёз.
Суров арап великого Петра!
А внуку – только детские забавы…
Он засмеётся белыми зубами
Под лёгкий скрип гусиного пера.
«Ребятушки! Один у вас отец!..»
И на крыльце – Пугач в татарской бурке…
А на балах, в гранитном Петербурге
Позванивает шпорами Дантес…
На сотни верст глухой и гулкий лес…
Тебя, Россия, твой изгнанник пишет…
Вот он умолк… А, может быть, он слышит
Прощальный крик гусей из-под небес?!..
Она все ближе – тёплая зима,
Где выстрелы, как детские хлопушки,
Где в синий снег падёт руками Пушкин,
И из-под рук вдруг вырвется земля…
И Натали доложат: «Он убит».
Ей кто-то скажет: «Вы теперь свободны».
И с белых плеч сорвется мех соболий,
И медальон на шее задрожит.
Пробьётся луч весенний, золотой.
И будут бить на празднике из пушки.
И только под Михайловским, в церквушке,
Звонарь встревожит колокол литой…
Ну а пока – туманная пора.
Всё в липкой паутине бабье лето.
И небо – в голубых глазах поэта!
И нервный скрип гусиного пера…
«Под чугунным небосводом…»
Под чугунным небосводом,
Над крестьянским Чёрным бродом,
Где болотом пахнет муть,
Где ночами лезет жуть,
Над безвинной русской кровью,
Над захарканной любовью
Пушкин плачет у ольхи:
Жизни нет, а что – стихи?!..
«Пушкин с Гоголем сидели…»
Пушкин с Гоголем сидели,
Много пили, мало ели.
И, смакуя дым глотками,
Всё чадили чубуками.
Поболтать бы, да о чём? —
Лучше – ноги калачом.
Вдруг ощерился поэт:
Тридцать лет, а проку нет!
Недоступна мне пока
Глубь родного языка! —
По листу перо бежит,
Но – споткнётся, задрожит,
Что кораблик на волне…
Тайну чует в глубине!..
У Великого Хохла
Бровь к пробору поползла.
Усмехнулся? – вроде – нет.
Два кивка – и весь ответ.
Поболтать бы, да о чём?
Гоголь, вроде, не при чём.
Публикация Людмилы Осокиной (Влодовой)
Возвращение
Аркадий Славоросов
(1957–2005)
Агнцы огня
В полночь Адамантов неумолимо поднялся из-за стола, качнувшись. Он вырос из-за стола, как гриб, но со значением. В левой руке, на уровне сердца Адамантов держал рюмку, выпукло налитую водкой, с интеллигентным золотым ободком, прозрачную и холодную, как монокль.
– Я буду говорить о культуре, – сказал Адамантов и посмотрел. – Я буду говорить о культуре, дабы подвести итог. Некоторые видят в ней метафору божественного Слова. Иные – инструмент лжеца и отца лжи. Она вызывает ненависть экстремистов и восхищение либералов. И то и другое неоправданно и естественно. Ибо культура есть лишь зеркало – зеркало и ничего более.
Шестеро мужчин смотрели на Адамантова и, как это бывает с людьми, глядящими в одном направлении, имели вид несколько чеканный – собрание профилей, напоминая одновременно бандерлогов, внемлющих питону, телеболельщиков и истуканов с острова Пасхи. Лишь при последних словах оратора безгласный внутренний шепоток разочарования бегучей тенью размягчил их глиняные лица. Но низкий полумрак просторной горницы и увлечённое внимание к собственным словам рассеивали рыхлый взор Адамантова; он не заметил ничего.
– А что – не зеркало? – кривовато вышипел желтоглазый Стигматов, чуть склонившись к Ириневу.
– Зеркало – слишком ёмкий образ, – выкрикнул, будто выплюнул ненароком, требовательный Миша Гарутман.
Адамантов того и ждал, кивнул удовлетворенно, распластав мягкий подбородок по груди.
– Зеркало – чрезвычайно ёмкий образ, – сказал он куда-то внутрь. – Каков предмет, таков и образ (это прозвучало, пожалуй, несколько сварливо). – Зеркало может быть ловушкой бесконечного, но может стать и игрушкой праздной модницы, хуже – самоубийственным соблазном нарциссова сознания. В том и состоит двойственность культуры, её метафизическая диалектика…
Творцов заегозил на стуле. Неожиданно Никифоров, хозяин дома, подал голос из своего диванного угла, сказал глуховато: «Это вы всё о том же… Опасна всякая абсолютизация. Что – культура…» Иринев улыбнулся, высветив блестящими мелкими зубами своё и без того бледное лицо, процитировал тягуче: «Без излишней серьёзности, но с должным благоговением следует относиться ко всему».
– Вот-вот, – обрадовался Адамантов и чуть не расплескал водку. – Именно так. Весь мир двойственен, но мир – инструмент Божий, а культура – человеческий. Синергетика. Но стоит только придать ей (культуре) конечное значение – восхищение либералов, ненависть экстремистов – и останешься в эдакой камере смеха во веки веков. Отражением щётки отражение кучера чистит отражение кареты – вот ад. Ад рукотворен, – он уже начал торопиться и спотыкаться языком о редковатые зубы, подшепетывая и побрызгивая. – Но и путь в Зазеркалье, through the looking glass, кому он под силу? («Под слабость», – вставил Стигматов, и Творцов отчего-то злобно на него посмотрел). – Кто, подобно Алисе, сравнится чистотой и невинностью с ничего не отражающим зеркалом?
В последние времена, пожалуй, и средь «малых сих» не отыщешь такого. Но сами, сами-то творцы зеркал и отражений (я о присутствующих не говорю, мы не отражаемся), быть может, они знают выход? – он навис над столом, растопыря взгляд, странным образом обращая вопрошающие глаза ко всем сразу. Потом отпрянул на мгновение, подумал где-то там, вне круга матовой лампы и, подумав, кинул в себя сверкучую рюмку водки. Перекосившись – и закусить Адамантову было недосуг – вновь просунулся в свет, навис, вопрошая. Это подействовало. Шестеро мужчин зашуршали, завсхлипывали, задвигали междометиями и кусками фраз, довольно единодушно, но невнятно. Отчасти ловкий Адамантов подкупил их замечанием о присутствующих, отчасти объединяло их застоявшееся (как отсиженная часть тела) радостное недоверие к «Творцам зеркал и отражений», отчасти просто возможность сказать, не слушая, после долгого перерыва и выпитого вина – и все, это отлично понимая, оживились, как дети на переменке, чуть смущённые отчасти и подыгрывающие отчасти друг другу.
– А зачем им выход, собственно, – говорили они. – Янус, бог входов и выходов, с двумя ликами далеко ли уйдёшь, – говорили они. – Возведение в степень: литература о литературе, концептуализм, лишь бы подальше от дверей, от сквозняка, – говорили они. – Здесь ничего нет, – говорили они. – Купил вас Адамантов, – говорили они, – А Библия? – говорили они. – Климент Александрийский советовал не писать, – говорили они. – Третья перинатальная матрица, – говорили они, и лишь Никифоров, хозяин дома, безмолвствовал.
Так горница наполнилась, точно опавший было парус, ветром, сдержанным говором, и отчего-то явственной сделалась ночь, за пределами освещённого круга. Семеро мужчин пошевеливались в нём под матовым старомодным плафоном, светящейся медузой плавающем в зеленоватом сумраке старого дома. Скатерть на столе, вокруг которого расположились семеро мужчин, казалась от яркого света ослепительно белой, но и это только подчеркивало темноту дальних углов, дверных проёмов, низеньких окошек, за которыми ничего не было, кроме черноты, замкнувшей их маленький мир, словно кто-то вставил в окна лаковые листы копировальной бумаги. Но непроглядная чернь обозначала: ненастную мещёрскую ночь, полную стона и мокрого шатания природы, опасную, сырую, летящую безглазо. Непроглядная чернь (и сутулая темнота углов, дверных проёмов) подчёркивала только ослепительную белизну скатерти, уставленной закусками и выпивкой, яркий свет лампы под матовым пузырём, шевеление семерых мужчин в этом световом ковчежке, точно в витрине – если бы на них кто-нибудь смотрел со стороны. Семеро мужчин не обращали внимания вовне, и лишь Иринев бросал иногда пернатый летучий взгляд на скользкие стёкла.
– А я знаю к чему он всё это, – будто выдавил из себя между тем Стигматов (он и всегда говорил, будто гной выдавливал), болезненный и крупнолицый. – Это он про Авеседо.
– Да, – отпечатал Адамантов, выпрямляясь, и тень его качнула дом, – Авеседо и Дальман единственные, пожалуй, кто, если и не знает, где выход, то, во всяком случае, указывают на него, – Глумов издал короткий звук открываемой нарзанной бутылки, но взгляд Адамантова сделался латунным, и воздух вокруг него точно ощетинился колючим грозовым электричеством. Глумов не произнёс ни слова.
– Авеседо не только обнаруживает относительность и условность культуры. Он открывает её функцию, убедительнейше опровергая гуманистические лопотки о самоценности культуры, о том, что культура есть цель, а не средство. Культура – только средство, средство и материал. Человек – только средство, и, если отворачиваться от этого жестокого знания, мы никогда не выползем из смрадной ямы истории. Авеседо же использует материал всевозможных. культур, культурные архетипы самых разных времен и этносов, как строительные блоки для своих умозрительных конструкций и моделей, создавая восхитительное множество внутренних виртуальных миров, с лёгкостью и несерьёзностью свободы, свойственной Демиургу. Это уже выход – сотворённая и творимая им метакультура, обладает новым измерением, объёмом, в отличие от плоских опредмеченных образцов прошлого. Она контролируема и свободна одновременно, по правилам игры, в ней можно существовать, она – действует. Авеседо первый в человеческой истории – первый вышедший за пределы истории – подлинный творец, делатель новой реальности, – Адамантов говорил всё громче и голос его, утрачивая какие-то привычные частоты, становился незнакомым и словно отдельным от него, как у чревовещателя или человека, говорящего в мегафон.
Голос бродил по комнате, как ветер, сотрясающий стёкла. Это завораживало, и даже Стигматов не решался перебить его, только ощерился косорото в сторону Иринева и выкатил беззвучно: «Хайль, Авеседо!», – влажно блеснув волчьей десной.
– Но Дальман, – продолжал Адамантов, набрякая лицом в полумраке, неживым лицом медиума с гипсовыми веками, – идёт ещё дальше, простите за каламбур. Авеседо, интеллектуал, блистательный эрудит, энциклопедист, doctor univtrsalis своего рода, но при этом, точнее вследствие этого, игры его носят несколько кабинетный, библиотечный характер. Недоучка Дальман воспринимает культуру априорно и целиком, согласно «эффекту сотой обезьянки». Знаете? На каком-то архипелаге в Полинезии, проводя исследования с тамошними обезьянами, обнаружили удивительный феномен: обучая животных определённым целесообразным действиям, одну особь за другой, вдруг выяснили, что на каком-то этапе, примерно после сотой обученной обезьянки, происходит количественный и качественный скачок. ВСЕ обезьяны ВСЕГО архипелага оказывались владеющими данными навыками, не сообщаясь друг с другом вовсе. Это открытие приподнимает завесу над многими странностями человеческого сообщества. Сотая обезьянка Дальман, которого выгнали за хулиганство из общественной школы, долгие годы ведший полулюмпенское существование, алкоголик и эпилептик, легко и непринуждённо овладел искусством Луиса Авеседо. Конечно, конкретный фактический материал не был ему знаком, но в наш век справочников и энциклопедий это и не столь важно. Главное Дальман интуитивно познал те культурные архетипы, блоки и кирпичики, которыми пользовался до него Авеседо, и с неменьшим умением, но с большей непосредственностью принялся за строительство своей пугающей и притягивающей Вселенной. И главное, если во вселенную Авеседо нужно войти (и достаточно подготовленным), то вселенная Дальмана сама входит в мир, растворяя его в себе. Ибо не из Плиния или Винцента из Бове извлекал он эти кубики и очаровательные кварки, но из самой осклизлой глубины жизни, и туда же возвращал свои магические поделки. Он и сам, создание рефлекторно-интуитивное, не возводил той стеклянной границы между вымыслом и реальностью, подобно своему предшественнику. Не понять, где повествует он о себе, где о герое придуманном, где автобиография превращается в фантасмагорию, в миф, и наоборот. Да и он, как известно, не сознавал этого, постоянно сочиняя себя и окружающий мир, процеживая через своё сознание эмпирическую реальность, чтобы возвести её на неуязвимые блистающие уровни свободы. В одной из новелл Авеседо предвосхитил Дальмана, и Дальман пришёл; его чудесная Реальность незримо уже оккупировала определённые территории нашей дребезжащей действительности, пусть почти никто пока не замечает этого. И это – начало! – Адамантов всё каменел, каменел в течение монолога, какими-то гранитными складками проступало его лицо, чем-то напоминал он Говорящую Голову из детской сказки – только мерное движение жвал и оставалось признаком жизни в нём. И в то же время всё отрывался, отрывался, как летающим монумент, увлекая за собой всех, точно болтающихся в непрочной световой гондоле, куда-то сквозь небеса и хляби, сквозь незримый дождь слов, сквозь облак речи, к своей придуманной безупречной Пирамиде. Он всех замагнетизировал, говорящий сфинкс Адамантов, всех окаменил ядовитым взглядом Горгоны – даже округлый Творцов перестал ёрзать на стуле и застыл, напоминая скифский менгир, даже Иринев прикрыл глаза. Пока не раздался, точно крик петуха в ночи, спасительный голос Миши Гарутмана, в продолжение всей речи тайно пережевавшего бутерброд с ветчиной:
– А вот Набоков говорил, что всякая подлинная литература – это феномен языка, а не идей.
Обычная гарутмановская торопливая бестактность сыграла роль близорукости, он не рассмотрел, за бутербродом, грозного лика Горгоны, цроступившего в домашнем адамантовом лице, не поддался чарам, и сам развеял их, поперхнувшись своим петушиным восклицанием. И тут же взмыл воздушным шариком над лоснящимся лысовато сиденьем округлый Творцов, запричитал, наконец, готовно и с убеждённостью, проглатывая окончания:
– Неправда! Набоков двуязычный хитрец и фармазон! Всякая подлинная литература – именно литература идей, в универсальном, платоновском смысле. Только благодаря этому и возможен перевод…
Но тут уж все заговорили, под сурдинку наливая водку, закусывая грибками, зажестикулировали велируко, загомонили, как неспевшийся клирос, каждый своё, забывая облегчённо надоевшего Адамантова, задвигая его громоздкую потускневшую Пирамиду в тёмный угол беспамятства, да и сам он затерялся мгновенно, спав с лица, в этой бормотливой живой заросли застолья, и лишь Никифоров, хозяин дома, безмолвствовал.
Около двух пополуночи Миша Гарутман кричал весенним хрипом вожделеющего бойцовского кота:
– Что значит – вина? А как же: «Кто согрешил, он или родители его?» Кто, спрашивается, согрешил?
Но в крике его звучала обречённость. И еврейский глаз, обращённый к Ириневу, был затуманен смертной печалью немытого винограда.
Творцов и Стигматов, радостно рыскнув друг к другу несытыми взглядами, чуть не привстали из-за стола с той стороны, готовые по-волчьи пружинисто метнуться на жертву (Стигматов насмешливо оскалил свои жёлтые зубы; у него всё было жёлтое), а сбоку маячил, надменно улыбаясь одними ноздрями, загонщик Адамантов, но неожиданно Никифоров, хозяин дома, подал из угла голос. Он звучал глуховато, но очень внятно – каждое слово было отдельным, как новорожденный младенец:
– Ответ дан там же, чуть ниже. И в нём – залог спасения. Ни о какой вине не может быть и речи. Вина – понятие юридическое. Виновны ли в своих преступлениях клептоман, пироман, убийца параноик? Но всякий преступник – своего рода одержимый, а значит – соблазнённый, обманутый. Справедливо ли спрашивать с одураченного и запутавшегося? Разве он сам – не жертва зла? Ибо зло всегда внешне по отношению к человеку, и как бы не стремилось оно отождествиться с его внутренней сокровенной сутью, это не удаётся ему. Ни на ком нет реальной вины – и в этом залог спасения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71265835?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Слова и музыка в исполнении Юрия Евдокимова.
Евгения Славороссова
Ирина Антонова
Альманах «Истоки» #16
«Истоки» – это альманах, как теперь говорят, с историей. Когда-то, в середине 70-х годов прошлого века, он зародился в недрах издательства «Молодая гвардия» как издание для молодых, и долгое время придерживался этой концепции. Потом, правда, предоставил свои страницы и авторам более основательного возраста.
Выпуск № 16 альманаха «Истоки» посвящён знаменательным датам русской и мировой культуры – 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 100-летию со дня рождения испанского поэта Федерико Гарсия Лорки (1923)г., трагически рано окончивших земной путь.
В ярком и глубоком эссе, открывающем альманах, И. Егорова-Нерли тонко и эмоционально доказывает точки сближения судеб и творчества двух великих поэтов. В поэтический венок А. Пушкину вошли стихи авторов «Истоков», как ушедших, так и ныне живущих. Отдельными островками идут подборки стихов, связанные с пушкинской темой Ю. Влодова, И. Егоровой-Нерли и поэтов Петербурга.
Альманах «Истоки». Выпуск 16
Составители Ирина Антонова и Евгения Славороссова
Рисунки Светланы Ринго и Фёдора Славоросова
АЛЕКСАНДР ПУШКИН
19 ОКТЯБРЯ 1825 (фрагмент)
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА
MEMENTO
«Стихи о канте хондо», 1921
Когда умру,
схороните меня с гитарой
в речном песке.
Когда умру…
В апельсиновой роще старой,
в любом цветке.
Когда умру,
буду флюгером я на крыше,
на ветру.
Тише…
когда умру!
Перевод И. Тыняновой
© Ирина Егорова-Нерли, обложка, графическое оформление, иллюстрации, 2024
Традиции и современность
Ирина Егорова-Нерли
Кругосветные путешестия Пушкина и непредсказуемые взлёты Лорки
Эссе
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг…
А. С. Пушкин
Поэзия – невозможность,
Становящаяся возможной.
Ф.Г. Лорка
Когда Господь Бог целует и награждает юное существо своим даром, то не спрашивает о согласии – нисходит Благодать и продолжается течение звука в действии Слова. Истинный поэт с рождения обречён на творческое служение. Да, «каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит…», – подсказал нам Булат Окуджава, ведь и самое дыхание поэта – через Слово – ведёт его своим путём и ниспосланным свыше провидением.
Казалось бы, если дано, то дерзай и воплощай!.. Однако остаются вопросы, замедляющие движение его замыслов, но не нарушающие исполнения Божьего Промысла.
Какая традиция правит кровеносной системой чувств? Как жить? – Быть внутри общества и одновременно свободным в своих рассуждениях и планах? Невольно вспоминаются строфы А.С. Пушкина о духовном пути своего нравственного самосовершенствования из его стихотворения «Поэту» 1830 года:
Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
И это пишет знаменитый поэт России, который уже давно «пережил свои желанья и разлюбил свои мечты…» И, хотя Пушкин идёт кругами своей земной жизни, – тема, заявленная в эссе юбилейным пушкинским годом, передвигает авторские строки Александра Сергеевича в поэтический мир его бесконечных завоеваний.
Приглашая к диалогу читателя и оглядываясь на прошедший 2023 год, я могу только добавить: Федерико Гарсиа Лорка достоин стоять рядом с Пушкиным – испанский поэт высказал своё всеобъемлющее великое Слово накануне поминальных служб его родной Испании. Тому пример и мои строфы о беспокойном Федерико – стойком рыцаре искусства:
Полёт – это танец,
И нет ему равных:
Танцует испанец
На собственных ранах.
Летит будто птица,
Конём бойко скачет —
Упасть не боится
В сердечной отдаче.
Ведь жизнь – лишь минута
Пред вечным полётом:
Кто мучится люто —
Был с Богом и чёртом?
Но сердце свой выбор
Вручило поэту,
Чтоб с правдой средь игр
Скитаться по свету…
Сейчас я думаю, что Пушкин и Лорка соотнесены друг с другом пророческой вестью о необходимости сбережения мира и сохранения общечеловеческих ценностей.
Талант живёт, а гений гибнет,
Утратив помысел мирской…
Когда нас гений вдруг покинет —
Талант поманит за собой.
И всё по правилам расскажет —
Всем объяснит, как дальше жить:
Где гений глупостью промажет —
Талант не даст легко грешить.
Талант силён и крепко слажен;
Всей полнотой, как жизнь, живуч…
Но гений нам, как воздух, важен —
Как между туч летящий луч!
Гениям позволено недостижимое! И нам иногда кажется, что невозможное досягаемо: ведь, испытав потрясение от произведения искусства, мы чувствуем себя иными людьми… И несмотря ни на что отрадно сознавать, что каждому надо идти по своей лестнице, даже если не знаешь итога пути, а ступеньки подымаются в небо. А там, как в стихах Ф.Г. Лорки, «бубны в руках у ангелов и деревьев» рассыпаются звёздным звуком, исчезая в утреннем свете, подобно тому, как «лампада бледнеет пред ясным восходом зари» и «ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума…» Пушкинские цитаты усиливают метафору Лорки, ибо по призванию Федерико божественное начало в человеческой природе – это его «поэтическое переживание», ещё и «неизречённый дар», которому нет ни границ, ни пределов – «одна упоительная свобода»: Где вдохновенье, Там хозяин – гений: Его творенье – Явь преображений. Воистину – для настоящей поэзии нет барьеров!
И действительно в 2024 году две эпохальные даты в истории мировой литературы сошлись в крепкую броню цифр, уточняющих неподвластную человеческому разуму логику Бытия. Мы отмечаем 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина! А это – дистанция двух веков и ежеминутное существование пушкинских строчек в культурном пространстве России. В предыдущем 2023 году вздрогнуло сердце каждого неравнодушного испанца – исполнилось 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки. Это знаковое событие будто тревожная заря предваряло длинный июньский день пушкинского торжества. Поэты встретились в едином «продыхе света» и, как признанные гении, вышли за рамки сиюминутных споров, суетных суждений и строгой критики. Будто следу написанному сценарию, они прожили почти равную по годам жизнь. Даты их рождения разделяет почти целый век! Летние месяцы также вплотную движутся рядом! 6 июня и 5 июля – дни широкого солнечного света и летнего изобилия зелени. 1799-й и 1898-й – это годы истекающего века и уже предвещающие рубеж следующего столетия. Их уход их земной жизни загадочен и жесток!
Дуэль А.С. Пушкина – это защита дворянской чести, репутации семьи в высшем Свете Петербурга. Убийство Лорки, конечно, – следствие роковой открытости характера и высокого звания поэта на испанской земле. Неслучайно в испанских романсах, так любимых Федерико, бродячие музыканты веками воспевали королей и смелых воинов, принявших мученический крест во имя долга, чести и любви. Не так ли и на русской почве – на пороге вынужденной дуэли и своей гибели – «способность лёгкую страдать» у Пушкина затмило его чувство долга, а это не иначе, как следствие выбранного им к роману «Капитанская дочка» эпиграфа-пословицы: «Береги честь смолоду». Родословный почин и прозорливый дар стихотворца не давали покоя душе поэта и справедливости ради всегда подталкивали к решительным поступкам…
Пушкин по линии своего батюшки был потомком старинного дворянского рода и унаследовал «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» – к семейным узам и устоям. Его мать, внучка «арапа Петра Великого», подарила ему горячую кровь африканских владык, правящих на берегах синего Нила.
Пушкин юркий, как птенчик, —
Заводной соловей,
И кудрей русый венчик —
След короны царей!
С восьми лет Пушкин почувствовал страсть к сочинительству… И не мудрено! Ведь дом Пушкиных был открыт Н.М. Карамзину и юному Жуковскому, а дядя будущего поэта Василий Львович тоже писал стихи. В свою очередь отец Пушкина слыл книгочеем и почитателем французской литературы. Но детские годы Пушкина – это и незабываемые сказки его няни Арины Родионовны, приучившей шаловливое дитя к дыханию живой речи и красоте народного языка былин и сказаний. Счастливые лицейские годы не прошли даром!
Юность Пушкина – предтеча
На пару лицейских дней,
Глаз мерцающие свечи
В буйстве дружеских идей.
Ах, вчерашние мальчишки,
Дети знати роковой!
Пушкин юн, но зреют книжки
И слова текут рекой.
Лицеисты и смутьяны,
Знали ль вы, о чём поют
Царскосельские поляны
И в кувшинках старый пруд?
Цицерон, Овидий? Кто же?
Иль почетный Апулей?
Это он, наш Пушкин, Боже,
Дружит с музыкой аллей…
Первый всплеск! И жар бессонный,
Комнатушка на замке?
А в душе играют звоны,
И перо скрипит в руке…
Эти годы – трамплины в страну поэзии к великим темам и значительным поэтическим формам.
Благословение Г.Р. Державина, приятельские отношения с Денисом Давыдовым, увлечение стихами К.Н. Батюшкова и И.А. Крылова, покровительство П.А. Вяземского и дружба с Петром Чаадаевым воодушевляли пылкую натуру молодого поэта. «Руслани Людмила», «Песня о вещем Олеге», «Кавказский пленник»… Увесистая рукопись стихов… Жизнь стремительно расширяла его творческие возможности: Пушкин спешил от одного замысла к другому…
А разве мятежный Федерико, испанский поэт и художник, драматург и музыкант, не так же интересен по глубинным, иберийским корням своего происхождения? Во многих ли странах так вольно переплелись разные народы и в религии, периоды рабства и борьбы за независимость? Реконкиста испанской души пламенеет в музыкальном истоке ритмов Испании, вобравшей в себя Аль-Андалус (араб. VIII век н. э.).
Именно на юге Испании в городке Фуэнте-Вакерес (исп. «источник пастухов») в семье богатого землевладельца, благоволившей к занятиям искусством и наукой, родился Федерико Гарсиа Лорка. Уже в 11 лет он будет жить в Гранаде и останется влюблённым на всю жизнь в этот древний андалузский город, где арабская архитектура и народные песни будоражили буйством красок палитру его чувств. Альгамбра – Мавританский дворец в Гранаде – приют его юных муз, как Царское Село для Александра Сергеевича Пушкина.
Первая книга Лорки «Впечатления и пейзажи» – романтические, песенные стихи и заметки о родной земле, о красоте золотых лагун и волшебных гор. Испанский поэт и педагог Хорхе Гильен утверждал, что «в Лорке жив песнопевец иной – допечатный – эры, когда стихи не издавали, а пели». Даже будучи под влиянием сюрреализма, а это направление главенствовало в Мадридском университете, Лорка не изменил острому фольклорному рисунку своих стихов:
Когда умру,
Схороните меня с гитарой
В речном песке.
Когда умру…
В апельсиновой роще старой,
В любом цветке.
Как теоретик искусства, Федерико был близок с Луисом Бунюэлем и Сальвадором Дали – как поэт, жил образами и звуками природы:
Он слит с природой…
Он её звучанье,
И каждой нотой
Празднует страданье.
Его фламенко —
Будто стены скорби,
Рывок из плена
В громогласном споре!
Если Лорка говорил, не забывая свою бабушку-цыганку: «Я – как цыган – отвечу с готовностью: испанец – вопреки всему и всем», то Пушкин, как своим, владеющий французским языком и получивший в Лицее прозвище «Француз», ощутив тайну русского духа, создал свой женский идеал – образ Татьяны в романе «Евгений Онегин» и дал сам нравственную оценку своим произведениям: «Любовь и тайная Свобода /Внушали сердцу гимн простой, /И неподкупный голос мой /Был эхом русского народа».
Не уступая Пушкину и отдаваясь взрывной энергетике поэтического мышления, Лорка мечется между будущим и прошлым, между авангардом и классикой – творит на пике противоречий. Его язык метафор, следуя от Ветхого Завета до католических глубин, от античных интонаций до его «Андалузии слёзной», рождает беззаконный по форме – испанский по сути – творческий мир поэта! Будто подчиняясь потребности разобраться в себе и во всей испанской культуре, Федерико издаёт свои лекции о литературе, музыке, театре и живописи. Рождаются поэмы, трагедии, драмы: «Поэма о канте хондо», «Кровавая свадьба», «Йерма», праздничная драма «Дом Бернарды Альбы» и мн. др. Его «плач гитары» – будто плач всей испанской цивилизации перед гражданской войной в Испании. Это и предзнаменование, и навязчивый тяжёлый сон:
Так прощается с жизнью птица
Под угрозой змеиного жала.
О гитара, бедная жертва
Пяти проворных кинжалов.
Явлением для читающей России стала поэма Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (его «фонтан слёз»!), воспевающая неизлечимую боль любви, столкнувшей христианскую верность и мусульмайскую преданность. Конечно, это «поэтические слёзы» и самого Пушкина: это и накипевшая в нём досада от своего ссыльного униженного положения… А крымский юг России направил его поэтический зов на знойный восток – в край безрассудных наслаждений и пограничных страстей, тонко пропущенных через звуковую игру рифм, словно предрекающих роковую незащищённость любящего сердца.
А может, эта музыкальная линия строки, как струя падающей воды, и впрямь связывает нас через любовь крымского хана с мавританскими фонтанами Альгамбры?.. Не так ли, сродни молитве влюблённого, легли на бумагу и строчки стихотворения Пушкина «Талисман», в котором живёт неостывшее волнение поклонника красоты, уверовавшего в охраняющую магию кольца? «Только тайной мы живы…. Только тайной…», – мне чудится шёпот Федерико.
Или луна с востока
Ночь режет острым плугом? —
Сомнабулический Лорка
Водит рукой, как звуком…
«Таинственные сближения…», всю жизнь преследовавшие и Пушкина! Но это – путешествие в стихах, а в жизни незатейлива пушкинская карта «Прогулок по свету». С двадцати лет южная ссылка! Екатеринослав, Кавказ, Крым, Кишинёв и Одесса, Киевская губерния и неоднократно закрытый для него Петербург! Были в его жизни литературное общество «Арзамас» и дружеский для него круг «Союза благоденствия»… Вольнолюбивые настроения тревожил внутренний голос, требующий понять веяния времени и либеральный настрой великосветского общества: роман «Евгений Онегин» постепенно заполнял страницы его рукописей. Но, прибыв в новую ссылку – в село Михайловское, Пушкин закончил дорогую для него поэму «Цыганы». Это сочинение заставило поэта расстаться с оглушающей романтикой чувств и осознать суровые реалии жизни. Тема цыганщины, подхваченная С.В. Рахманиновым в его опере «Алеко», осталась как притча об одиноком бродяге и цыганском таборе, песенным вихрем пролетевшем по степи. Даже и после публикации поэмы «Цыганы» Пушкин пишет княгине З.А. Волконской с почтением и робкой грустью:
…Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.
Да, таков «божественный Глагол» Пушкина – в его плену нет слов случайных! Такова и родовая музыкальность Лорки, ведь путь испанского поэта – дуэнде: сверхчувство, сверхпоэзия, дух творчества и демон роковых бездн. «Звёзды, Архангелы, кони, цыгане – Ветер, земля и луна… Может, планеты живой содроганья Ловит гитары струна?» — в ритме Лорки я пишу о нём и не могу остаться в стороне! Как рыцарский девиз, и сейчас звучат слова Ф. Г. Лорки: «Это Гранада научила меня быть с теми, кого преследуют: с цыганами, неграми, евреями, маврами – ведь в каждом из нас есть что-то от них».
Как набухающие кровью, горят красные буквы названия его книги «Цыганское романсеро», в которой и крест огня осеняет дорогу смертного крика.
В народе говорят, что предчувствие своей смерти, как и мировых катаклизмов, преследует поэтов. Трагичность откровений Лорки – ключевой исток его существования. Его стихи – стон испанской земли, вызов своему времени. Его «Канте хондо» – кладезь испанских преданий, а «Романсеро» – многоголосье всех народов Испании и предсказанный итог его собственного пути. И, не замечая преград, Федерико движется по своей параболе и на новом витке взлетает всё выше и видит дальше – будто это он сам ищет свою вторую половину в ином мире и, ведомый бессонницей вдохновенья, взмывает в звёздную ночь песен и легенд… Его католическая Испания дышит цветами, благоухает молитвами, и живопись в слове цвет подбирает искусно. В сравнениях Лорки угадываются скульптурные слитки Фернана Леже, орнаменты и аппликации, похожие на декупаж Матисса и узоры мавританских дворцов.
Лорка-художник
Будто рисует стихами…
«Будь осторожней!» —
Ангел кричит ему в Храме.
Легко импровизировать, читая стихи поэта, потому что художественное видение Ф.Г. Лорки – это линия причудливого рисунка и коллаж символов «в берберском очарованье заклятий и арабесок».
Пушкин-художник тоже гениален в своих рисунках и набросках! Музыка пушкинского стиха, будто подчиняясь незримому лучу – дыханью души, пронизывает всю ткань повествования: и рисует, и живописует, и – как ускользающее от зрителя кино – дарит вольные воспоминания и требует повторного просмотра.
Рисунки Пушкина – стихи,
Что опоздало встретить слово…
Они, как чувства маяки
Иль сеть для знатного улова.
Рука поэта – инструмент,
Коль скорость мысли неподсудна.
Ведь там, где царствует момент,
Без вдохновенья выжить трудно.
А что в испанской высоте
Успел почуять Федерико?
Что отразила на листе
Его рисунков повилика?..
Как и следовало ожидать, поездка в Америку не прошла впустую для Лорки. Новые произведения «Поэт в Нью-Йорке», «Публика», «Когда пройдёт пять лет», «Драма без названья» и др., отрываясь от испанских драм, на новом повороте предваряли создание андалузских трагедий – его подлинных шедевров! По словам Лорки, мистерии американского периода – только игра, театр, фарс, но настоящая борьба жизни и смерти ждала его в Испании! Трагедии «Йерма» и «Кровавая свадьба» – послание к испанскому народу накануне зарождения фашизма. Оттого ли и смерть Ф.Г. Лорки – знак времени и свершившееся его пророчество о себе самом и о своём поколении: «Не просыпайся, жизнь моя, и слушай, Какие скрипки плещут моей кровью! Далёк рассвет и нет конца погоне!» Не это ли звук цыганского ветра при опасной скорости воображения поэта? Честь и Родина, народ и толпа, судьба и долг – вот понятия, поднимающие занавес его трагедий.
По смыслу – это те же пушкинские вопросы, «страсти роковые» и «ужасные сердца»! Но вера в предназначение человека побеждает в лирике Пушкина и «ложную мудрость», и «мрак заточенья», и «тревоги шумной суеты»… «Будь поэт и гражданин», – долгосрочным напутствием отдаются и в наши дни слова поэта-декабриста Рылеева. А в михайловском затишье Пушкин жил чтением и перо не выпускал из рук. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и русские летописи подогрели его интерес к вождям народных бунтов Степану Разину и Емельяну Пугачёву, но после восстания декабристов родилось стихотворение «Пророк»: судьба поэта и его дара – «глаголом жечь сердца людей» – была определена Словом в обязывающей жертвенности и Божией силе призвания.
Симфония душевных переживаний подталкивала Пушкина, как и его Татьяну, к сильному судьбоносному чувству, ведь и его «душа ждала кого-нибудь…» и, по признанию самого поэта, искала «небесные черты», за которыми он видел для себя «другую жизнь и берег дальний…» так и трагическая любовь Марии к Мазепе в поэме «Полтава» будто оживляла «возлюбленные тени» души Пушкина и озвучивала неосуществимый в жизни диалог с Ф.Г. Лоркой… Жизнь торопила поэта, не делая пауз для отдыха! Цензура не оставляла Пушкина без внимания: издание и чтение новых произведений было запрещено без царского просмотра. Ярким подтверждением этому стала драма «Борис Годунов».
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине,
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Пожалуй, так – вслед за Пушкиным – мог написать и Лорка, постоянно улавливающий в природе гул векового преследования. Что же касается Александра Сергеевича, то его Муза легко сочетала веселье и влюблённость в жизнь с исповедальным вопрошающим протестом:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?..
Мы читаем горькие пушкинские строки… Отчаяние Пушкина – это безверие поэта, встретившего шестикрылого серафима, но сомневающегося в своих человеческих возможностях. И безусловно по-отечески глубокий ответ митрополита Филарета (Дроздова) в опубликованной переписке с поэтом и есть светлая надежда христианской веры, спасающей в невзгодах и трудностях земного Бытия.
Оттого ли и знакомство с Н.Н. Гончаровой, первой красавицей Москвы, заставило думать об устройстве семейного очага и разбудило новые творческие силы поэта. Полнозвучная тишина болдинской осени разразилась неуправляемой кометой, озарившей небосклон поэтического пути поэта. Чудо его великих произведений навсегда связало болдинскую усадьбу с именем Пушкина.
Куда Всевышний направляет —
Поэт не сможет сам дойти:
Кто вслед за духом поспевает —
Идёт бесстрашно впереди.
А далеко ли сердце глянет
И высоко подымет дух?
Где Пушкин любит и страдает,
Там пламень Лорки не потух.
И жизнь – живая оболочка,
Природой вылепленный знак.
Что говорит душа, пророча —
Поэт воспел во временах.
Так и полёт Ф.Г. Лорки обогнал его страшное время и оставил его на той высоте, куда не долетят пули, не дотянутся ножи жандармерии или очередных фашистских молодчиков. Он сам – растворился в канте хондо – ушёл туда, где «эхо – тень кипариса» и «ветром крик повторился». И нет могилы поэта, нет ему места на земле! В своём романе «Волшебный свет» писатель Фернандо Мариас утверждает: «Поэт Лорка не мог умереть! – живёт подобно свету, помогающему всем влюблённым!» Вот и моё стихотворение написано об этом.
…Когда бессонными ночами
Двоится голос тишины,
Неуловимыми тенями
Витают в небе чьи-то сны.
То затворяясь в замке мрачном,
То с полноликою луной —
Закрывшись веером прозрачным,
Ступает память в мир иной.
Скользящий луч неугасимый
То замирает, то ведёт —
Как чей-то крик неутолимый
И утешает, и клянёт:
Сей дух – парящий над Альгамброй —
Как свет, взмывающий за край,
Вдруг в некий миг с влюблённой парой
Уходит в синий, звёздный рай.
Ведь всем – расстрелянным – не надо
Ни подаяний, ни речей:
Их поминает вся Гранада
Сияньем зорей и ночей.
Не примиряясь с их пропажей,
Неумирающий огонь
Расскажет всё, что ночь не скажет —
Опять мелькнёт крылатый конь.
Федерико Гарсиа Лорка, как и полагается величайшему поэту XX века, занял положенное ему место в испанской культуре и вернулся в столицу Испании на площадь Санта-Ана, а его душа – по замыслу скульптора Хулио Лопеса Эрнандеса – жаворонком трепещет в руках поэта и, конечно, поёт на многолюдных улицах Мадрида:
Памятник в Мадриде,
А в Гранаде дух…
Лорка, как в корриде,
Вновь в пространствах двух!
И в народном пенье
Он певцом живёт,
И в столичном бденье
По миру идёт:
Взгляды снова мечет
В будущих веках —
Птичка с ним щебечет,
Прыгая в руках.
А много ли путешествий совершил Пушкин в своей земно жизни? Что смог увидеть своими глазами или успел почувствовать, погружаясь в мир книг? Но воображение рисовало поэту иные страны и преодолевало любые расстояния… Уже в XXI веке не только по великой России, но и по всему свету поставлены памятники Александру Сергеевичу Пушкину! Это и Париж, Вена, Мехико, Сан-Пауло, Вашингтон… и остановить его стремительный путь – ПУТЕШЕСТВИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА – невозможно, как в прошлом веке, так и сейчас:
Опять спешит к далёкой цели —
Зовёт заветная строка…
И звук её, как трель свирели,
За ним летит через века.
Пушкинское стихотворение «Памятник» 1836 года – в поэтической форме оставленное нам завещание поэта.
…И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал…
ПУШКИН – СИМВОЛ РОССИИ – принадлежит своему Отечеству и всему Миру, а его Болдинская осень так и осталась для нас возжжённой свечой творческого счастья, о котором мечтает каждый поэт. «И голубина просинь в глазах стоит, как звон, И Болдинская осень Горит со всех сторон!» (Авт.)
Конечно, испанская тема Пушкина – одна из жемчужин болдинских драгоценностей слова, побеждающего временные ограничения его жизни. Так из болдинской глуши Пушкин и сам дошёл до стен Мадрида, предаваясь вдохновению, пел вместе с Лаурой и бешено её ревновал, как испанский гранд Дон Карлос; на мгновение стал Каменным гостем, не смирившимся с сердечной слабостью Донны Анны, и главное: Пушкин сказал своё слово о Дон Гуане!
…Дон Гуан! В каждом сердце привита
Грешных помыслов долгая сеть,
И твоих продолжателей свита
Все века о любви будет петь.
Это уже мои стихи – взгляд их XXI века… Но Пушкин не мог не знать, что для каждого Дон Гуана всегда есть свой Каменный гость на часах.
Вся правда о Пушкине живёт в его поэзии! Что было в личной жизни поэта, а чего и не было – нам до конца не узнать. Эти слова обращены и к Федерико Гарсиа Лорке!!!
Широко глаза расставлены,
Далеко видать душе:
В небеса ведут проталины —
Небеса близки уже.
Федерико – имя звонкое,
Как живой реки задор.
И строки звучанье тонкое
Ждёт финальных труб аккорд.
Портрет Лорки, написанный моими строчками, – это образ испанского поэта, не изменившего своему испанскому небу.
И что же в испанском небе не даёт покоя поэтам и художникам? Может это вертикально летящие облака Эль Греко или звуки огненного фламенко, собирающего поклонников по всему свету? «А небо в ночи сверкало, как круп вороной кобылы», – гласит нам ИСПАНСКАЯ ДОРОГА ЛОРКИ, на которой «смертное эхо затихло гвадалквивирской волной». Да, его Испания скоро будет погружена в ад войны – будет сожжена Герника, мирный город в стране басков. И необратимо «медленно день уходит поступью матадора/ И алым плащом заката /Обводит моря и долы». Небо Лорки – небо корриды!
А какое оно – пушкинское – небо России? Чистое, пасмурное, грозовое? «Небо с овчинку» или «светил небесных дивный хор?» или в Нём на высоком постаменте стоит Пушкин и всматривается вдаль?.. Ведь и «волю неба» поэт, как мог, исполнял и «с лирой странствовал на свете»: иначе не написал бы своё стихотворение «Пророк».
Так, побратимые воспламенённой красотой слова, движутся над нами бессмертное солнце А.С. Пушкина и холодная цыганская луна Ф.Г. Лорки: осенний червонный звон российских раздолий и серебряный сон испанской ночи, звонкая лазурь былинных далей Святогорья и пронзительная синь испанского неба Гранады. Так на стыке юбилеев двух великих поэтов столкнулись Русь, глянувшая в международные просторы, и древняя Испания, заявившая о прорыве из многовекового сплава цивилизаций в новаторскую поэтику испанского языка.
Корни вросли глубоко —
Кроны в космической быти…
Только поэту легко
Жить в откровенье наитий.
КРУГОСВЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПУШКИНА и НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ВЗЛЁТЫ ЛОРКИ – это невероятные открытия, сопряжённые с горячей отдачей души и неукротимой волей к познанию мира. Мы произносим короткое слово ПОЭТ – БУДТО УДАР, РАЗРЯД, ВСПЫШКА, НЕПРЕРЫВАЕМЫЙ СЛЕД – и чувствуем, как Аль-Андалус отзывается в пушкинских генах и кастильские облака, как паруса, проносятся над нижегородскими полесьями России. Нам кажется, что на страницах повести Пушкина «Египетские ночи» импровизатор-итальянец обводит публику пылающим взором героев «Кровавой свадьбы» Ф.Е Лорки, а петенера, испанская Кармен, почти уже готова пропеть жестокую песню из поэмы «Цыганы» А.С. Пушкина и может легко повторить слова Земфиры, признающей только язык страсти, рождающей цыганскую любовь – свободную от ответственности и всяческих обязательств.
А что предсказали нам Пушкин и Лорка, когда, как по острию ножа, прошли над потусторонней стихией мифа и вольного фольклора? Как жить с обнажённой, совестливой душой на грешной земле?.. Но неожиданно Федерико Гарсиа Лорка отвечает нам:
А мир светляков нахлынет —
И прошлое в нём потонет,
И крохотное сердечко
Раскроется на ладони.
По утверждению Лорки: «Миссия поэта дарить душу!» Не случайно его речь «О воображении и вдохновении» не оставляет равнодушным ни одного читателя.
Да и что XX век, а теперь и XXI век изобрели нового в общественной несправедливости и притеснении людей, ищущих человеческое отношение в бесчеловечной реальности войн и диверсий, терактов и нацистских преступлений?
Рука протянута во тьме – Глаза упрямо солнце ищут… А там, где бесы злобно рыщут – Луч приближается к тебе!» (Авт.) И нельзя не воскликнуть, слушая фламенко, уже своими стихами:
Аккорды… И голос дрожащий
От всех потрясений и войн.
– Фламенко, твой отзвук скорбящий
В жестокое время рождён!
Порой и в нынешнее время нам мерещатся ещё не отжившие в сознании отголоски крепостного права первой половины XIX века, и пушкинское стихотворение «Анчар» преследует воображение иносказательной безнаказанностью «непобедимого владыки». Неужели опять подтверждается пророчество Пушкина: «На всех стихиях человек – тиран, предатель или узник?»
А как быть с повторяющимся из века в век мучительным вопросом: жить по-своему или в общем доме европейского миропорядка, смиряясь с потерей самостоятельного существования? Не эти ли тяжбы и столкновения нашли отражение в программном стихотворении Пушкина «Клеветникам России»? А по какому праву те же франкисты, поднявшие мятеж против законно избранного республиканского правительства, развязали гражданскую войну, залившую кровью многострадальную землю Иберии?.. Спустя года перекличкой звучат мои строки:
Сжатые губы от боли
Дикого крика страшней:
В шквальном обстреле на поле
Лица испанских детей…
Их корабли увозили
От беспощадной войны.
Кем они стали и были —
Знают испанские сны.
Будто частью вещего сна или народного эпоса о преданьях старины глубокой слышатся нам и строки А.С. Пушкина:
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
«Ворон, где нам отобедать?
Как бы нам про то проведать?»
Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед:
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый…»
Александр Сергеевич Пушкин пережил Отечественную войну 1812 года, видел сгоревшую Москву и всё знал о великой победе и боевых потерях. ДУМА О БУДУЩЕМ РОССИИ красной нитью пронизывает произведения поэта.
У лукоморья Пушкин с нами,
Как вещий сказ, в летах живёт,
Но кот учёный вечерами
Златую цепь зубами рвёт…
Не леший там кота пугает
И не русалка жертву ждёт…
Кот круг за кругом пробегает:
Что будет? – знает наперёд!
Ему завыть? Да кто б услышал…
Сойти с ума? – себе во вред!
Когда поэт в России выжил —
Он в жизни больше, чем поэт!
О том и Лорка рвал рубаху:
Испанский дух – борьбы протест.
Поэта дар зовёт на плаху,
Как чудотворца тяжкий Крест!
А.С. Пушкин и Ф.Г. Лорка подняли свой КРЕСТ ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЫ: услышали своё небо и остались в нём навсегда.
P.S. Стихи и фрагменты статей Ф.Е Лорки, упоминаемые в эссе, представлены в переводах А. Гелескула, М. Цветаевой, И. Тыняновой…
Поэзия
Евгений Степанов
Поэт, прозаик, публицист, издатель, кинорежиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты «Литературные известия» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живёт в Москве и посёлке Быково (Московская область).
«Не бывает навечно разлук»
Светлой памяти Наталии Лихтенфельд
Неспроста
Архангел Михаил ведёт с Денницей бой.
Я, не жалея сил, веду борьбу с собой.
Я много говорил. Теперь сомкнул уста.
Архангел Гавриил явился неспроста.
Раздумья утекли в пустой бездонный чат.
Я шёл вокруг земли. Приковылял назад.
Я шёл, не зная сам, что счастье на кону.
Любил прекрасных дам. А, впрочем, нет – одну.
2022
Вдали
Ты шла по улицам земли.
Потом пришла в мою подкорку,
В мою судьбу, в мою каморку.
Наташа, Ната, Натали…
И вместе мы с тобой пошли.
И замаячил рай вдали.
1982
Лучи
Когда оттуда ринутся лучи…
Александр Блок
Подумать только – столько лет я продержался в этом мире,
Где каждый любит оглоед соперника мочить в сортире.
Я продержался потому, что ты была со мною рядом
И освещала эту тьму своим лучистым добрым взглядом.
А что теперь? Да хоть кричи от боли – стало очень худо.
А всё же тёплые лучи твои доходят и оттуда.
2023
Я знаю
Я принял жизнь за лотерею и, как мальчишка, проиграл.
Жена погибла, сам болею. Жизнь перешла за перевал.
Фиаско. Всё начать сначала я не смогу. Силёнок нет.
Стихи нелепы, денег мало, карьерных никаких побед.
Слезами-ливнями, печалью пропитана моя стезя,
Но и сейчас не привечаю уныния. Нельзя. Нельзя.
Я знаю, что свою эклогу я допишу когда-нибудь.
А если так угодно Богу, смогу её перечеркнуть.
Я знаю, что беда не вечна, не вечны морок и резня…
А на участке, как невеста, стоит берёза. Ждёт меня.
2022
Книга жалоб
Это была бы не книга мемуаров, а книга жалоб…
Фаина Раневская
Если б ты вернулась – я бы ожил и воскрес, как научил Христос.
И коней безумных бы стреножил, и забыл бы разом про артроз.
И тогда другая жизнь настала б. Только не начнется никогда.
Это не стихи, а книга жалоб. Это не поэзия – беда.
Провода обугленные – нервы. Холода кромешные – в груди.
…Водка. Чёрный хлебушек. Консервы. Горе, хоть на время уходи!..
2022
Домой
Боль, бессмысленность, усталость,
Слабенький иммунитет.
Слава Богу, мне осталось
Жить не очень много лет.
Я земной наелся каши,
Вижу свет иной вдали.
Я хочу домой, к Наташе,
И подальше от земли.
2023
Не бывает навечно разлук
Я в себе усмиряю испуг,
Сам с собою сражаюсь, как воин.
Не бывает навечно разлук.
Посему я не смят и спокоен.
2023
Доктор
Всё будет очень хорошо.
Живу и знаю – миг наступит:
И вечный добрый доктор-смерть
Сумеет излечить меня.
Душа взлетит и прямиком
Отправится к тебе навстречу.
И разлучаться никогда
С тех пор не будем больше мы.
И будет мягкая трава,
И будет небо голубое.
И будет маленький ручей
Втекать в одну большую реку.
2023
Всё это – ты
Мелодия, синичка в небе,
Ребёночек… Всё это – ты,
Уехавшая в звёздном кэбе
В Созвездье Вечной Красоты.
Я задержался на минутку
В своей нетопленой избе.
И жду такси или попутку
Туда – к тебе.
2023
А мы одной с тобою крови
А мы одной с тобою крови.
Как жаль, что годы упорхнули.
Я помню – мы с тобой в Тамбове.
Я помню – мы с тобой в Стамбуле,
Москве, Несебре и Берлине,
Санкт-Петербурге и Нью-Дели…
Точно папанинцы на льдине,
Сердцами мы друг друга грели.
Пусть жизнь земная жёстче джеба,
К нам оказалась слишком строгой, —
Когда приду к тебе на небо,
Опять пойдём одной дорогой.
2023
Иду к тебе
И по земле, и по воде
Иду к тебе, иду к тебе.
По небесам, как по тропинке,
Иду к тебе, жуя травинки.
Иду к тебе в любой стране.
А ты идёшь всю жизнь ко мне.
2023
Вместе
Я говорю себе: «Не сметь
Бродить в лесах тоски постылых!»
Ведь даже смерть, ведь даже смерть
Нас разлучить с тобой не в силах.
Мы вместе, на одной волне,
Здесь, на земле, теплом согретой.
…Покуда ты живёшь во мне —
Ты не уйдёшь из жизни этой.
2022
Там-и-здесь
Там нет обидчиков-задир, там нет страданий и в помине.
Постгорбачёвский злобный мир тебя не мучает отныне.
А здесь борьба, а здесь война – добро и зло в смертельной схватке.
А там речь ангелов слышна. А там, наверно, всё в порядке.
2022
Любовь – это когда альтернатива невозможна
Тону, но люди не заметят,
Что мой баркас идет ко дну.
Все люди мира не заменят
Тебя – одну.
2022
Посёлок
Мне отключить бы рацио
И память поскорей.
Что это, ампутация
Души моей?
Нет, это шанс единственный
Не спятить невзначай
И тихо жить средь лиственниц,
Берёз, односельчан.
2022
Эпистолярий
Ольга Наровчатова
Сохранение слова
В этом году исполняется 105 лет со дня рождения моего отца, Наровчатова Сергея Сергеевича, крупнейшего поэта фронтового поколения (1919–1981). Во время Великой Отечественной Войны он воевал на Брянском и Волховском фронтах, в блокадном Ленинграде, прошёл с боями Прибалтику, Польшу, Центральную Германию. Все военные годы наши поэты, военкоры, стремились поддерживать переписку, узнавали друг о друге и, что невероятно важно, посылали друзьям, близким и родным свои стихи, записи. Особая их миссия была – сохранение Слова. Каждый день мог быть последним, но правда о войне, обо всём пережитом должна дойти до потомков. Фронтовики сами творили Историю. И те, кто выжил, продолжал выполнять свой долг. Мой отец, в одном из стихотворений написал такие строки:
Тогда нам приказали снять шинели,
Не оставляя линии огня.
В этой публикации хочу представить трёх поэтов, поскольку сохранены исторические письма двух из них. Формат данной публикации не позволяет расширить этот список. Что означали друг для друга эти люди, читатель оценит. Речь идёт о Давиде Самойлове и Ольге Берггольц. Замечательный поэт Виктор Боков был связан с отцом уже в мирное время дружески, а, главное, не таким частым даже у поэтов – общим интересом к фольклору, оба в этом были мастера и сохраняли не просто Слово, а его народные, исконные традиции.
Теперь напомню читателю самые основные данные об этих поэтах.
Давид Самойлов (настоящая фамилия – Кауфман) (1920–1990) Теперь всему миру известны его строки:
…Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
1961 г.
Поэт, переводчик. Во время Великой Отечественной Войны был рядовым бойцом, разведчиком; на войну пошёл со студенческой скамьи добровольцем.
Ольга Берггольц (1910–1975)
Во время войны – она в осаждённом Ленинграде, где создала свои поэмы «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» (обе – в 1942 году). На гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища высечены слова поэта: «Никто не забыт, и ничто не забыто».
Виктор Боков (1914–2009)
Собиратель, творец и пропагандист русского фольклора. То же можно отнести к современной русской частушке. Опирался на традиции Кольцова, Есенина. Замечательный поэт-песенник: «Оренбургский пуховый платок» и др. В то же время – автор глубоко серьёзных, даже трагических стихов, где высветилась и тяжёлая часть его биографии.
Письмо Давида Самойлова к Сергею Наровчатову (1944)
Дорогой Серёжка! Поздравляю с прошедшими праздниками. Чорт (так в тексте. – Н.П.) знает, может и впрямь мы скоро увидимся. Вот бы было чудно; мы дёрнули бы доброго бимберу и трепались бы сутки, двое, вместо того, чтобы обмениваться бумажными «соображениями». Всё равно их все не упишешь.
Насчет Борькиных «трёх вариантов» – третий меня не устраивает. Второй – это если жрать будет нечего. Но всё равно, если я выберу второй, то только, чтобы доконать себя на первом.
То, что ты пишешь о своём «русском» цикле, как о «тактической» линии – совершенно правильно. Скажу даже больше – я вижу в этой твоей линии возможности для перерастания в нашу общую «стратегическую» линию. Нашу «стратегию» я вижу достаточно широкой для того, чтобы не предписывать никому манеры мыслить, выбирать слова и образы. Важно единство убеждений, цели, веры, принципов. Я думаю, что оно у нас есть и будет всегда. В этом наша сила.
О теме России и об интернационализме в литературе я думал в разных планах, и у меня сложилось вполне определённое убеждение по этому вопросу.
Осознавая себя как новое явление в искусстве (мои мысли об эстетике касаются всего искусства в целом), мы, прежде всего, должны осознать себя как явление русского искусства. На это есть ряд причин. Я не останавливаюсь на самой внутренней из них, т<ак> сказать, природной, что мы суть русские люди, люди, воспитанные Россией. Это лежит в самой основе нашего искусства.
Дело в том, что нынешний этап развития искусства ещё немыслим вне конкретных национальных форм. Может быть, искусство «космополитическое» по содержанию, для «космополитической» формы ещё нет достаточных исторических оснований.
«Письмо о восьми странах» – превосходная вещь. Комплименты ей не нужны. И ты знаешь, что мы привыкли говорить друг другу любую правду.
Целую тебя и жду новых писем.
Твой Д.
P.S. Праздновал я довольно бурно – после этого даже болел три дня. Получил маленькую медаль.
Д
<На письме-треугольнике:>
П. П. 57872-А
С. Наровчатову
__________________________
П. П. 42264 Д. Кауфман
<Три штемпеля с датами:>
17 11 44
18 11 44
4 12 44
<Штамп:> Просмотрено военной цензурой 06550
Это отношение Д. Самойлова к моему отцу продлилось до конца его жизни и было взаимным. Более того, оно в какой-то мере перенеслось и на меня. Когда несколько лет спустя, я обратилась к нему с просьбой принять участие в книге воспоминаний о Сергее Наровчатове (в чём принимала горячее участие редакция журнала «Новый Мир», и сама идея была, и, позднее, сбор материала именно бывших коллег моего отца), Давид Самойлов ответил мне письмом, которым я могу гордиться. Сама книга вышла в 1990 году: «С. Наровчатов в воспоминаниях современников», Москва, Сов. писатель. С моими воспоминаниями Давиду Самойлову дали ознакомиться ранее, в какой момент, я не знаю. Приведу его письмо, с которого и началась наша недолгая переписка. Хотя лично с ним я была хорошо знакома задолго до этого, и он даже пытался однажды помочь мне в одном актёрском мероприятии, совершенно независимом от моего отца. И, после его ухода из жизни, я посвятила ему стихотворение, которое назвала «Свет со стороны». Его творчество мне очень близко. Это был человек очень деликатный, с постоянным мягким чувством юмора, удивительно комфортным в общении. По крайней мере, таким он был для меня. В их общей молодости, моя мать, Нина Воркунова, оценила его очень высоко, когда он ещё никому не был известен, ещё до войны. А теперь, наконец, приведу его письмо ко мне.
Из Письма поэта Давида Самойлова Ольге Наровчатовой, дочери Сергея Наровчатова
27.11.86
Пярну
Дорогая Оля!
Спасибо за письмо. Сам давно собираюсь написать тебе, ибо часто думаю о Сергее, ты – его живое продолжение. Нет только привычки с тобой говорить. Надо бы её завести.
Хотел похвалить тебя за воспоминания об отце. Это лучшее, что о нём написано. Сам я никак не закончу начатого. Несколько раз принимался, а всё не получается. С таким же трудом пишет Лена Ржевская, но она, кажется, ближе к результату.
Мне бы хотелось описать Сергея в контексте с людьми, с которыми он рос, в соотношениях со временем. Мы ведь не всегда жили рядом, но всегда вместе.
Мы не только дружили умами, но и любили друг друга. В последнюю нашу встречу Сергей сказал:
– Мне тебя физически не хватает.
Наверное, я всё же к январю соберу свои записи. Пусть будет не целое, а несколько отрывков. Не знаю, успею ли написать целое.
Когда будешь составлять том собрания сочинений с письмами, могу дать тебе письма ко мне пярнуских лет. Но с возвратом. Есть ещё одно-два письма военного времени в моём фонде в ЦГАХИ.
Милая Оля! Твою жизнь по письму представляю себе. Сочувствую и понимаю. У меня к тебе – ответное чувство, вроде отцовского. Не забывай нашей взаимной тяги и обязательно пиши. Твои стихи хотел бы узнать, но только не присылай их мне – читать трудно. Лучше я тебя послушаю, когда буду в Москве в конце января. Если захочешь, звони мне в Пярну (8-014-44-42-780).
Дочь твоя мне очень нравится. Генов в ней заложено уйма. Вдруг из них образуется что-то необычайное.
В Москве подарю ей свою детскую книжку «Слонёнок пошёл учиться», если у вас её нет.
Живу я в отдалении от страстей внешних, тем и спасаюсь.
Рядом море.
Будь здорова. Скажи энергичной Теркелян, чтобы подождала.
Обнимаю тебя.
Твой Д. С.
Письмо Ольги Берггольц Сергею Наровчатову
Из письма Ольги Берггольц
г. Вильянди 12/VIII-45
Милый Серёжа!
Получила твою открытку с сообщением о том, что остаёшься там надолго и с обещанием письма – 18 июля, в день своего отъезда из Л-да. Я уж совсем после того, как Ты не ответил на три (3!) моих письма, решила, что ты зазнался и решил раззнакомиться со всеми не орденоносными знакомыми, и потому твоя открытка обрадовала меня.
Но в тот день мы уехали в некий городок Вильянди, откуда пишу и сейчас – на отдых. По приезде же сюда я буквально душевно развалилась на части, – такой сильной оказалась реакция на отдых после 4 лет непрерывного труда, да в особенности последних диких месяцев. Я тупо глядела на природу и паслась, паслась, паслась на траве и лишь недавно начала приходить в себя. И, кажется, уже относительно пришла. Но и сейчас я не могу ещё написать что-либо глубоко-принципиального, кроме того, что очень хорошо отношусь к тебе! Скажи, ты вполне доволен существующим своим положением? Не хочется ли тебе, в связи с капитуляцией япошек, принять цивильное положение, всерьёз заняться литературой и т. д. Мне думается, что пора. Воевал ты достойно, славно и полном смысле – с младых лет. Каковы же перспективы сейчас? М. 6. я могу чем-либо помочь тебе? Я, правда, смыслю в этих делах постыдно-мало, но ты напиши, м. 6. надо с кем-либо поговорить или что?
15 мая с/г видела твою милую, чудесную маму, она была на моём вечере в Лит. музее, потом мы ходили с ней, говорили о тебе. Она сказала, что ты прислал ей очень хорошие стихи, – почему не пришлёшь мне?
Она собиралась что-то предпринять, но не знала ещё твоего отношения к этому… В общем, с нетерпением буду ждать известий от тебя по этому поводу, стихов и т. д.
Ну, о себе я, собственно, всё написала. Отдых кончается, через неск. дней вернёмся на Троицкую. Дошёл ли до вас 5–6 № «Знамени», там моя поэма. Мне очень хотелось бы, чтоб ты прочёл и высказался. Вообще она ещё до опубликования возбудила в лит. среде много разговоров. Одни отнеслись с раздражением – «повторенье», «гиньоль», «почти бесстыдно», – другие, – многие, и среди них, напр. Такая строгая дама, как Е. Усиевич, – с восторгом, – и ряд из этих чит. заявил, что это – «единственное продолжение линии Маяковского», в смысле «Бесстрашной исповеди личности», и т. д. Мне очень занятно, что скажешь ты… Что же касается упрёков в «повторении», то в поэме (написанной, конечно, очень «старомодными стихами») я сама об этом заявила, говоря о себе и Ленинграде:
…Я к твоему пригвождена виденью,
Я вмерзла в твой неповторимый лед.
В общем, читай сам. Если нет журнала, я пришлю тебе рукопись или даже твой сборничек, – он, кажется, уже вышел. И в нём должен быть портрет, – если они его не испортят клише, – очень хороший и похожий.
Сколько мы опять с тобой не виделись? Более 1,5 лет? Юрка написал потрясающую и предерзостнейшую диссертацию, в сентябре защищает.
Целую нежно, пиши и не зазнавайся.
Адрес тот же.
Ольга Берггольц сыграла в жизни моего отца очень важную роль – и в общественном, и в личном плане. Лучше всего написал об этом он сам в своем глубоко личном «Ленинградском дневнике», по его определению. Кстати, оригинал этого дневника, также, как и данного письма, передан мной в дар и на постоянное хранение в Пушкинский Дом РАН, в С.-Петербурге. На той же основе там и другие документы – письма фронтовых лет, фото и автографы, и те, что относятся к окружению отца в разных временных отрезках. Это важно, так как подарено это в рукописный отдел, а это тоже Сохранение Слова.
С фронта мой отец писал Ольге Берггольц буквально рвущие душу стихи и письма, делился горем утрат и радостью Побед. Вот несколько строк из письма к Ольге: «29.IV. 1942 Оленька! Твоё письмо потрясло меня. Земной поклон тебе и твоему Городу. Мне трудно писать – так я ошеломлён тобой. Знаешь ли сама – что ты? Ты снова уехала туда. Я руку закусил, когда прочёл, в глазах темно стало. И всё-таки, это правильно, справедливо. Красивая ты моя! Сейчас, что ни день – это лист из книги Бытия».
Меня представила Ольге Берггольц моя бабушка Лидия Яковлевна Наровчатова. Я была подростком. «Серёжина дочка», – сказала бабушка. Ольга Берггольц была на 9 лет старше моего отца. Мне она показалась изнурённой. Она взглянула на меня бегло, но внимательно и ничего не сказала. Видимо, я была для неё, прежде всего, дочь Нины Воркуновой, в прошлом горячо любимой моим отцом. Они друг другу не симпатизировали.
Нина Воркунова – первая жена моего отца, покинувшая его, имела для этого повод, чего не хотел признавать муж. Позднее Ольга Берггольц пыталась даже выступить примиряющей стороной, но крайне неудачно. О неуместности этого можно быстро догадаться, если прочитать тот самый «Ленинградский дневник», где очень подробно отец описал то, что тогда в 40-ые годы было в его личной судьбе и как они все по-разному всё понимали. Сохранившуюся часть этого «Ленинградского дневника» я опубликовала в составленной мной книге «А главное, дул береговой ветер». Она вошла в издательскую программу Правительства Москвы (М. ЗаО Московские учебники – СиДипресс 2010, —272 с.) с моим предисловием.
ЭПИЛОГ
Вся эта публикация посвящена 105-летию со дня рождения Сергея Наровчатова, и хочется завершить её, вопреки всему, легко и даже весело. Хочется, по аналогии, вспомнить давно ушедший в прошлое, прекрасный Юбилей, на котором прозвучала балалайка поэта Виктора Бокова. Интересно обратить внимание на дату написания – 1979 г., 60-летний Юбилей отца. Знаменательно, что в частушках отражены разные этапы и события жизни друга. А заканчивается, заметьте, именем Александра Сергеевича Пушкина! И все герои этой публикации, по большому счёту – Победители. И жизнь прошла не зря.
Виктор Боков
Под балалайку
На 60-летии Сергея. Наровчатова в Политехническом
5 октября 1979 г.
Не пойду я на гулянье,
Некогда с девчатами,
Я пойду на юбилей
Сергея Наровчатова.
Шесть десятков – ой, ой, ой!
Шесть десятков – ай, ай, ай!
Мне, Серёжа, много больше,
Так что ты не унывай.
Ах да ох, да ух, да эх!
Это междометия.
Догоняй, Сергей Толстого
В смысле долголетия!
Незаметно мы, Серёжа,
Стали очень взрослыми,
Твой герой Буслаев Вася
Мне, как близкий родственник!
Юбиляру выпадали
Времена суровые,
Как солдат, Сергей достоин
Похвалы Суворова.
Я по озеру на лодочке,
А лодочка в камыш,
Ты, Сергей Сергеич, в классиках
Три дня уже стоишь!
Посидим с тобой, Серёжа,
Возле нашего пруда,
Я считаю это можно:
Ты теперь герой труда!
Ты, Серёжа, возглавляешь
Учрежденье бурное,
«Новый мир» почти планета,
Но литературная!
О тебе, Сергей Сергеич,
Скажут критики потом:
Был он сразу океаном,
Человеком и китом!
У тебя годков, Сережа,
Полная коробочка.
Пожелать тебе чего же?
Дай-то Бог здоровьичка!
Мы кончаем петь частушки,
Пусть Сергей лидирует,
Александр Сергеич Пушкин
Нам поаплодирует!
26 сент. 79 г., София, Незабравка,
3 окт. 79 г., Переделкино
Поэзия
Валерий Лебединский
Валерий Ефимович Лебединский родился в 1940 году в Кременчуге Полтавской области. Окончил два факультета Одесского государственного университета имени И. Мечникова: юридический (1965 г.) и исторический (1971 г.). Поэт, прозаик, драматург. Автор 18 книг, лауреат литературных премий. Член Союза писателей Москвы, Союза российских писателей и Союза журналистов России. Почётный член Международного союза писателей имени Святых Кирилла и Мефодия (Болгария). Главный редактор международного литературного альманаха «Муза» (Москва).
В тревожном и красочном мире
Там, за Очаковом, перед Херсоном
Там, за Очаковом, перед Херсоном,
Там, где в лимане речная вода,
Так изумляло днепровское лоно,
Так затихали морские суда.
После недавнего бального шторма,
Сразу сменившего яростный тон,
Нежилась тишь, как привычная норма,
Красил затишье глубинный затон.
Кроны шумящие, чудо-навесы,
Томные звуки немых островов
Словно вершили весь путь от Одессы,
Словно звучали привычнее слов.
Этим затишьем, слегка полусонным,
Встречей Днепра пароходом «Славянск»
Памятна кровная близость Херсона,
Есть и у памяти мера своя.
6 июля 2024 г.
Белой ночью
В Петербурге, вне тумана,
С разведенного моста
Для России негуманна
Эта финская верста.
То ли вся она сокрыта
В поддержании вражды,
То ль за дальностью гранита
Расплываются следы.
То ли нам грозил их лидер,
Насаждая непокой,
Только что прикажешь видеть
При политике такой?
2 июля 2024 г.
Место битвы под Полтавой
Это место овеяно славой,
И, пока не тревожила мгла,
Я прошёл через лес под Полтавой,
Там, где битва петровская шла.
В маете, под давлением стресса,
Что явились ко мне на порог,
Я запомнил ухоженность леса
И заботу о благе дорог.
Эта местность бывала любима,
Мир добра, полоса тишины.
Впрочем, было всё это до Крыма,
До Донбасса и новой войны.
А сейчас, в эту мрачную пору,
Где задули худые ветра,
Всё подверглось крутому разору
Вдоль батального поля Петра.
Захирела музейная слава,
Омрачилась святая пора.
С кем ты ныне, былая Полтава,
Боевая победа Петра?
29 декабря 2023 г.
От мечты о Хорасане
От мечты о Хорасане,
От поэзии высокой
К жутким строчкам об Иране,
Войнам Ближнего Востока.
Нервы рвёт больная дума,
И исходит кровью рана,
А Есенин из Батума
Грезит далью Тегерана.
Возвышает душу лира,
Грёзы строчек о Батуме,
Где-то есть дорога мира,
Где-то ждёт благоразумье.
13 апреля 2024 г.
Дочке Евгении
Помнишь ночь разведенья мостов
В полумгле предлежащего Питера,
Где на лоне небесных пластов
Диск Луны, как изящная литера?
А вдали, с небольшой высоты,
Над застывшей во блеске Невою
Полумгла разводила мосты
Красотой ледяной и немою.
И в мерцанье незримой свечи,
Что зажгли в полутьме звездопады,
Полухолод, продрогший в ночи,
Отводил полусонные взгляды.
27 января 2024 г
Проза
Алексеи Кебадзе
Ошибка
Из афганских рассказов
Жара в тот день и вправду была совершенно невыносимая. К железным частям оружия, к каскам, к броне притронуться было невозможно почти, а каменистая земля обжигала ноги даже сквозь подмётки ботинок. По крайней мере, казалось так. Им с Аникеевым досталась позиция замечательная: два больших камня, образующих подобие естественной бойницы, и хороший обзор вниз по склону, – почти до самого русла пересохшего ручья. К ним ещё утром приходил командир взвода лейтенант Пройдисвет.
– Хорошо устроились, парни! Если что, часа два здесь продержитесь?
– До дембеля продержимся, – усмехнулся Аникеев, и похлопал ладонью горячий каменный бок. Когда лейтенант ушел, он длинно сплюнул:
– Ну, а если не до дембеля, то часа полтора, думаю, продержимся.
Зной был такой, что горячий воздух дрожал, и был сухим, шершавым, – царапал горло. Мутился рассудок, и глаза слезились.
Смертельно хотелось пить, а последняя вода плескалась во фляжке на самом донышке, – тошнотворно-тёплая, с металлическим привкусом. Вообще, он давно заметил, что война почти всегда пахнет железом: железом пахло оружие, железом пахла кровь, железом пахла вода… «На речку бы сейчас, – тоскливо подумал он, поглядывая из-под раскаленной каски на выкатившееся в зенит солнце, – или хоть в душ сходить…»
– Газировки бы я холодной выпил, – прочитал его мысли Аникеев, – только без сиропа, за копейку…
В это время справа, на склоне высоты гулко застучали автоматные очереди и глухо ухнуло несколько взрывов. Первые выстрелы всегда бывают самыми громкими и неожиданными. Гвоздик приподнялся, и до рези в глазах стал всматриваться в горячее марево. От мгновенного напряжения пот сразу покатился по лицу, залил глаза.
– Слушай, Ника, – он, часто моргая, потянул Аникеева за рукав, – ты сходи вправо, к обрывчику, глянь, что там, а то отсюда ни хрена не видать.
Стрельба то утихала, то разгоралась вновь. Аникеев возвратился минуты через три и сказал, что возле сухого русла духи, похоже, прижали разведчиков:
– Может, огоньку туда брызнем?
Гвоздик встал на колени за камнем и долго смотрел вниз, на склон. Стрельба понемногу стихла.
«Значит, не они», – облегчённо подумал он, но тут же увидел разведчиков. Едва заметно мелькая между камней, они пробирались в полукилометре левее сухого ручья. Разведчики шли медленно. Двое тащили что-то тяжёлое. В замыкающем он узнал прапорщика Якимчука. Минут через двадцать они одолеют склон, а там уже начнётся сухое русло, и по нему они выйдут к нашим окопам. Гвоздик снова вгляделся в ту сторону и почувствовал, как у него беспокойно заколотилось сердце. На склоне появились преследователи.
Они расходились широкой дугой, и, похоже, собирались взять разведчиков в кольцо.
Прапорщика надо было прикрыть. Гвоздик лёг за пулемёт и повёл стволом в сторону тёмных фигурок, быстро мелькающих среди камней. Хотел уже дать очередь, но его остановила какая-то нерешительность, суетливость духов. Вместо того, чтобы стягивать кольцо вокруг разведчиков, они забирали то в одну сторону, то в другую. Потом неожиданно залегли и открыли беспорядочную стрельбу. Затем снова выдвинулись на склон и стали осторожно подниматься.
Он понял, что духи не видят разведчиков. Видно, Якимчуку как-то удалось оторваться от преследователей и незаметно свернуть к ручью. Там, скрытый между камнями, он уходил от погони. Уходил тихо и умело. Ещё четверть часа слепого тыканья духов из стороны в сторону, и разведчики будут у своих. Но продвигались они очень медленно.
– Ника, – сказал Гвоздик Аникееву, – погляди здесь, а я на тот край схожу. Как бы духи случайно к нам в стык не пробрались… Вон на восточный склон полезли.
– Ладно, – Аникеев улёгся у пулемёта, поправил сошки и проверил прицел. – Надо Якимчуку помочь.
– Не видят они его, скрытно Якимчук выйдет. Начнём стрелять, такая каша заварится, что он не выберется. Склон ведь насквозь простреливается. Может, и не разглядят духи, где разведчики.
Ещё десяток минут, и разведчики уйдут. Им ведь осталась какая-нибудь сотня метров. Но тут от цепочки отделились двое и, пригнувшись, перебежали через сухой ручей.
«Увидят», – снова подумал он, выглядывая из-за каменной стенки.
Но духи ничего не разглядели. Метров через двадцать один из них оступился неловко, подвернул ногу. Второй стал ему помогать. Значит, пока пронесло…
И в это мгновение за камнями яростно загрохотал ручной пулемёт. Гвоздик кинулся назад по ходу сообщения. Когда он вбежал на позицию, Аникеев уже вщёлкнул второй магазин.
– Стой! – сходу выкрикнул он сорвавшимся голосом, с размаху кинулся на землю и отшиб Аникеева от пулемёта. – Стой! Зачем стреляешь?
– Духи на разведчиков пошли… Двое, могли увидеть, – ответил Аникеев, растерянно моргая. – Чего ты кидаешься, как бешеный!
– Соображать надо! – яростно просипел Гвоздик. – Головой! Просил же тебя не стрелять…
Уже через минуту на склоне закипело, как в чайнике. Пулемётная очередь, так опрометчиво посланная Аникеевым, помогла духам сообразить, где находятся ускользнувшие от них разведчики. Те, которые пробирались по склону, развернулись и стали быстро догонять группу Якимчука.
Теперь уже Гвоздик посылал очередь за очередью, стараясь остановить духов, отрезающих Якимчуку дорогу. Но те быстро и ловко пробирались между камнями, укрываясь от огня.
Слева раскатисто ударил ПК. Это Умаров с высоты 14.0 пытался задержать духов, пересекающих ручей. Где-то ниже зарокотал ещё один станковый, потом по склону беглым огнём ударила минометная батарея. Батальон, как только мог, выручал разведчиков, попавших в беду в сотне метров от своих позиций. Гвоздик теперь уже не видел, где пробирается группа Якимчука.
Припав к прицелу, он ловил духов, мелькающих в камнях у подножья горы, и бил по ним короткими расчётливыми очередями. Позже он не мог толком вспомнить почти ничего, кроме приклада, больно отдающего в плечо, и грохота чужих и своих выстрелов. Непонятно было, долго ли продолжается это, и сколько прошло времени. Совсем близко разорвалась граната, – духи, видимо, засекли их позицию.
Гвоздик на мгновение оглох и ослеп, а когда приподнялся, плохо соображая ещё, выплёвывая кровь и песок, то увидел, что Якимчук всё-таки ушёл от преследователей. Он тяжело перевалился через стенку хода сообщения шагах в двадцати от пулемётчиков. За ним перепрыгнули двое разведчиков. Прапорщик был растерзанный, без каски, в грязи и царапинах. Голову стягивала наспех сделанная повязка с алыми пятнами крови. На скуле темнел свежий кровоподтёк.
Глаза у прапорщика были серые и тяжёлые, как пыльные камни вокруг. Якимчук, не мигая, уставился на пулемётчиков и метр за метром стал приближаться к ним, как слепой перебирая по каменной стенке растопыренными пальцами.
– Ты… Из пулемёта… Стрелял? – сипло спросил Якимчук, упершись в лицо Гвоздику своими безжизненными серокаменными глазами.
– Ты очередь дал?
– Я дал, – отозвался Аникеев. – К вам два духа наперерез пошли, а я их срезал…
– Сре-езал, – плачущим голосом повторил Якимчук, дёрнул щекой и, качнувшись всем корпусом, вдруг без размаха, коротко ударил Аникеева кулаком в лицо. – Срезал, значит…
Охнув, Аникеев сильно стукнулся каской о камень. Лицо его побелело, рука нашарила ремень автомата и рванула его к себе.
Гвоздик, едва успев наступить ногой на автомат Аникеева, крикнул испуганно:
– Якимчук! С ума ты сошёл, Якимчук?!
– Нет, ещё не сошёл, – тихо и устало ответил прапорщик. Глаза у него немножечко ожили. Плечи Якимчука обмякли, и он привалился спиной к камню, с таким напряжением откинув назад голову, будто изнутри его немилосердно жгло что-то. Так бывает, когда в живот ранят.
– Всю свадьбу вы нам этой очередью обосрали… – помолчав, заговорил он. – Ведь мы почти что проскочили… А теперь вот Максима Гречика ранили и Лёшу Лобанова убили… Из гранатомёта Лёшу накрыли, когда мы уже к самому ручью вышли. Суки! Гады паршивые!
Прапорщик ругался зло, грязно и долго, – хриплым, надтреснутым голосом – чтобы дать выход тому, что жгло его. Когда Якимчук ушёл, Аникеев спросил:
– За что он меня, Гвоздик?..
Лицо его жалко кривилось, и губы вздрагивали. Глубоко спрятанные под каской глаза блестели горячечно, – словно в голове у Аникеева вертелась одна-единственная мысль. Она давила, вытесняла все остальные. Гвоздику стало не по себе от этих мерцающих глаз.
– Контуженый он. Совсем не в себе был, – стараясь говорить спокойно, ответил он. – Не понимал, что делает.
– За что он меня по морде?.. – снова спросил Аникеев.
В горле у него булькало. Пальцы с такой силой сжались в кулак, что костяшки побелели, и ногти впились в ладонь. Не дожидаясь ответа, Аникеев спокойно сказал:
– Я, Гвоздик, теперь Якимчука убью… Как сменимся, вернёмся в батальон, найду и убью.
Услышав эти полные тихой ненависти слова товарища, Гвоздик поглядел в его мерцающие глаза и поверил, что Аникеев сделает именно так, как говорит. Он почувствовал, как в нём нарастает ярость. Но через несколько мгновений это чувство сменилось острой щемящей жалостью. Гвоздик понял, как тяжело сейчас Аникееву.
– Успокойся, Ника, – заговорил он. – Прапорщик вообще-то ударил тебя за дело. Хорошо ещё, что он пар здесь выпустил, а значит не доложит комбату, как ты чуть не сорвал выход разведгруппы к своим.
– Не, Якимчук не такой, он закладывать не станет…
Аникеев вздохнул. Рука, стиснутая в кулак, разжалась. Он пошевелил затекшими пальцами и огляделся тоскливо.
– Соображать надо, Ника, – повторил Гвоздик. – Проворнее головой работать. Тихоходная она у тебя какая-то.
– Вроде верно ты говоришь… – Аникеев провёл по лицу ладонью. – Значит, по-твоему, я виноват?
– Виноват, – подтвердил Гвоздик, разглядывая крупного, широколицего парня, с которым служил рядом уже шесть месяцев.
…А вечером вдруг пошёл дождь. Он кропил солдатские спины, камни, превращал пыль и песок в жёлтую жидкую грязь, которая стекала тонкими ручейками вниз, к подножию горы. И спал, наконец, выматывающий душу зной. В полночь пришла смена, первый взвод. Спиридонов разыскал его возле каменной амбразуры. Они молча закурили, пряча в горстях огоньки сигарет.
– Ну, как вы тут? – спросил Спиридонов тоном человека, мысли которого сейчас где-то очень далеко. Гвоздик коротко рассказал ему о событиях минувшего дня.
– Да-аа, – протянул Спиридонов всё с тем же отсутствующим выражением, – разведчики, они бо-орзые…
На том они и расстались.
Гвоздик ещё долго думал, – и тогда, и много позже. Думал, и никак не мог до конца понять, почему люди иногда бьют друг друга по лицу.
Харон
Домовитый Аникеев устроил крошечный костерок между валунами, и они вскипятили полный котелок воды. Уже заварился чай, когда прибежал запыхавшийся дневальный и позвал Гвоздика к телефону: «Срочно в штаб, ты летишь со Щербаком!» И Гвоздик поспешил по белой пыльной тропе вниз, в полковой городок, – к скопищу землянок и блиндажей, соединённых разветвлённой сетью окопов, – к развалинам покинутого кишлака.
– Почему выбор пал на него? Он не был другом Щербакова, плутовато улыбавшегося светловолосого парня из Могилёва, всего лишь месяц назад прибывшего в полк. Может, это было наказанием? За что? Да мало ли за что, – всегда отыщется повод наказать человека, а особенно – солдата. Или, наоборот, – поощ.рением, наградой, но тогда опять-таки – за что? Он не был лучше или хуже других, – обычный сержант, предпочитающий держаться подальше от вышестоящего начальства, не лезущий на рожон…
А если уж совсем по-справедливости, то почему не Лапоть?!..
…Лапоть, он же старший сержант Лопатин приказал: «Давай, Щербак!» Высокий, белоголовый Щербаков с облупленным носом медлил, только моргал растерянно. Месяц назад он ещё был в Союзе, готовился в учебке к этой непонятной войне, готовился, как все: что-то копал, маршировал по раскалённому плацу, выгружал ящики, ездил в горы чистить чьи-то пруды, один раз стрелял по мишени, один раз бросил гранату и время от времени получал очередную порцию сывороток под обе лопатки. Накачанный лекарствами и ежеутренними политинформациями, он наконец-то попал сюда. И вот реальность, как она есть: сильный, чёрный от солнца, ловкий командир посылает тебя, новичка, в полуразрушенный дом, ещё дымящийся от разрывов гранат: проверить, не остался ли там кто живой?
– Чё смотришь, воин? Вперёд!
Остальные молчат. Щербаков неуверенно встаёт, поправляет ремень с подсумками. Все ждут. Неподалёку гулко хлопают взрывы, стрекочет вертолёт. А здесь, – возле глиняного дома с плоской крышей, – удивительно тихо. Щербаков поудобнее перехватывает автомат и на полусогнутых ногах, сгорбившись, бежит.
– Вперёд! Вперёд, твою мать!.. – шипит вслед Лапоть. Солнце стоит в зените, тень маленькая, короткая. Небо плавится. Мёртвый, чадящий дом никак не отзывается на его появление.
Щербаков осторожно к нему приближается, медлит мгновенье – и исчезает внутри.
Тишина моментально взрывается грохотом очередей.
Щербаков судорожно цепляется за расщеплённый дверной косяк, сзади в него впиваются пули, и куртка на груди вздувается и лопается, расцветая безобразными багровыми бутонами. Он падает на колени, бледно сверкающие пунктиры устремляются в дверной проём, трассирующие пули застревают и тлеют в дереве, летит щепа. Щербаков ещё мгновение хватает пыль оскаленным ртом, потом утыкается лбом в землю.
Гвоздик теперь должен сопровождать его. Конечно, это наказание. Неизвестно, за что. Но всё-таки он побывает в Союзе, постарается попасть домой…
Из полка они полетели вертушкой в Баграм. В Баграме – морг сороковой армии, здесь паяют цинковые гробы. Зашёл посмотреть.
Справа составлены гробы без окошек. На цинковых столах мертвецы в чистом белье. Флегматичный солдат-очкарик посмотрел на Гвоздика с отрешённой улыбкой.
Вечером, когда перестали заходить на посадку и взлетать самолёты, бомбящие Панджшерское ущелье, этот солдат позвал Гвоздика в тень, и предложил ему чарс.
– Чарс чарует, – сказал очкарик, хотя и не был поэтом. – А спирт оглушает, – продолжал он, утирая испарину, – но это не по мне, я же не рыба!
Гвоздик привыкал к запаху. Этим густым запахом был насыщен воздух в Баграме. Даже в отдалении он чувствовался. И в столовой.
Каждый день прибывали новые сопровождающие и новые убитые, – некоторые прямо из Панджшера, – в грязной изорванной форме, в кедах, кирзачах, кроссовках, вовсе босые, безногие…
Начальник морга, – толстый, бледный, без знаков различия, – плавал в спиртовом облаке, отдавал распоряжения, пошучивал. Его подручные слепо натыкались на углы, виновато улыбались сопровождающим: те – воевали, а они всего лишь паяли гробы. А сопровождающие, – в свою очередь, – смотрели на этих работников с тайным ужасом, представляя себя на их месте.
Баграмская муха случайно залетела Гвоздику в рот, и он долго и яростно отплёвывался. Потом пожевал веточку верблюжьей колючки.
…Фабрика смерти неутомимо продолжала работать. Привезли обгоревших танкистов. Патологоанатом отсекал что-то, рассматривал, непринужденно беседуя с солдатом-очкариком. Тот отвечал с той же блуждающей улыбкой.
Было нестерпимо жарко. Мысли вязли. Гвоздику начинало казаться, что они уже никогда отсюда не выберутся. Щербаков давно уже исчез в цинковом пенале, и он его больше не видел. Временами Гвоздик вообще забывал, зачем он здесь. И остальные сопровождающие тоже забывали. Некоторые были даже в парадной форме, словно на дембель собрались. Сопровождающие маялись, как это обычно бывает на затянувшихся похоронах. Знакомиться ни с кем не хотелось. Все относились друг к другу со странным отчуждением. Или это было просто общее отупение. Все будто заснули с открытыми глазами. Что-то вяло говорили, смотрели, хлопая медленно веками… Баграмская истома одолевала всех.
– Не спите, воины! – гаркал добродушно толстый начальник, проплывая в своём спиртовом облаке.
Всё это было чудовищно и нелепо. Но однажды очарованный чарсом очкарик тихо сказал Гвоздику: «Когда привыкаешь, ЭТО становится понятнее, чем всё остальное». Он ждал, что Гвоздик ответит, но так и не дождался. Вновь погрузился в себя и больше ничего не говорил, – только усмехался чему-то, покачивая головой.
…Некоторые цинки всё же были с окошечками. Гвоздик заглянул в одно, но оно было чем-то заклеено изнутри, – похоже, просто белой бумагой. Он чувствовал отвращение к очкарику. Даже ненависть. Копошится здесь, как муха, философствует…
Подошёл начальник, – рыхлый, с налитыми кровью глазами, истекающий липким потом.
– Ничего, уже скоро, – дохнул он густым перегаром и похлопал Гвоздика по плечу.
Гвоздику страшно хотелось вымыться. Он часто сплёвывал, резко выдыхал отравленный смертью воздух, старался спать с закрытым ртом, а то и вовсе не спал. Ночь тянулась долго. И наступал новый день.
Но однажды они всё-таки вылетели. Пришлось изрядно попотеть, загружая транспортник, – цинки были запакованы в длинные деревянные ящики. Среди сопровождающих было двое офицеров, – капитан и подполковник, похожий на египтянина. Подполковник накануне явно принял лишку, на жаре его развезло, и в самолёте он вздыхал, мужественно борясь с приступами тошноты. Капитан был недоволен, хмурился. Солдаты равнодушно смотрели в редкие иллюминаторы. Железное нутро транспортника гулко гудело. Гвоздик подумал… Что? О чём он подумал? Пока самолёт набирал высоту, погружался в небо, а потом плыл в вышине, озаряемый солнцем, – не думал ни о чём, ни о ком…
Первая посадка была в Ташкенте. Выгрузили все деревянные ящики-саркофаги, перевезли их на какой-то дальний склад. Получили деньги – командировочные. Вдвоём со связистом Серёгой, – в последний день всё-таки познакомились, – они отправились в магазин, купили по бутылке тёплого лимонада и по две пачки печенья.
В двенадцать часов погрузились в новый транспортник, и начался их полёт по Союзу. Они сидели вдоль бортов, и тупо таращились в иллюминаторы, ни на мгновенье не забывая, кто в грузовом отсеке. Вернее, не кто, а что…
Всё-таки к этим обстоятельствам трудно было привыкнуть. Что там болтал баграмский гробовщик в очках? Что он имел в виду? Что смерть для него понятнее жизни?.. Кажется, так…
– Да пошёл он… Со своей философией!..
Вторая посадка – уже в Баку. На военном аэродроме оставили груз и тут же полетели дальше, в Махачкалу, здесь заночевали.
Искали долго места в гостинице. Поужинали в кафе на берегу моря. Дагестанцы, как водится, проявляли неумеренный гонор. Женщины оказались на удивление белокожими. Официантки смотрели княжнами. Впрочем, к ним, – команде «харонов», – все относились с подчёркнутой любезностью, сразу, с первого взгляда, распознавая их.
Всё-таки выглядели они диковато, что ни говори. Гвоздик посмотрел на них со стороны, выйдя покурить. Разношерстная вроде бы компания: кто в парадной форме, кто в полевой. Двое армян, калмык, украинцы, татарин… Одни моложе, другие немного постарше, но все чем-то неуловимо похожи, все одним миром мазаны, а точнее – одной войной. Гвоздик подумал, что теперь в любой толпе распознает своего. Или он ошибается?
И этот лихорадочный блеск в глазах со временем потускнеет?..
Море. Даже не верилось. В порту что-то грохотало, гудел маленький катер. Тянуло искупаться. Но в порту вода была грязной. Да и надо было ещё искать ночлег. Отыскали гостиницу прямо возле аэропорта. Купили в ресторане вина, но пили как-то неохотно, – только без конца курили, – одну за другой.
Назавтра вернулись в свой самолёт. Гробы, уложенные друг на друга вдоль бортов, стояли в грузовом отсеке. Чтобы не рассыпались, их стянули тросами. Запах проникал в пассажирский отсек. Но все, кажется, уже не обращали на него внимания. Запах тления – что, собственно, в этом такого? Вся земля набита гниющими останками. Гниют деревья, цветы, звери, птицы. Цветут, разлагаются, рассыпаются. Круговорот молекул…
Хотелось бы, конечно, чтобы с человеком всё было как-то по-другому. А как это – по-другому? Наверное, чтобы он враз бесследно исчезал…
Тяжёлый самолёт парил над Кавказскими горами. Летели в Ереван. Оба армянина волновались. Один невысокий, гибкий, с большими влажными чёрными глазами; второй – тяжёлый плечистый атлет, – рыжий, зеленоглазый, по виду годившийся первому в дяди. Арсен и Гагик… Косятся друг на друга. Скоро им придётся смотреть в глаза армянским женщинам. Сообщили им уже? Вдруг среди гор в зелени возникли крыши. Арсен взглянул в иллюминатор и мгновенно побледнел, судорожно сглотнул.
Самолёт пошёл на снижение. Заложило уши, неприятно отяжелели внутренности. Идя на посадку, лётчики всегда открывали хвостовые двери, проветривали грузовой отсек, чтобы можно было потом туда войти. И сейчас они летели над чудесным древним городом, над живым городом, захваченным движением дня. Летели, осыпая невидимым прахом головы тысяч куда-то спешащих или мирно отдыхающих горожан. Арсен не выдержал и встал. Гагик смерил его мрачным взглядом.
– Шореули… – сказал он. Арсен даже не посмотрел на него. Гвоздик немного знал парня, которого они сопровождали. Это был шофёр из третьей батареи, Ваче, – погиб в колонне с продовольствием. Вёз муку, и пуля попала ему прямо в висок. Хрупкий и печальный был этот Ваче. Но хрупкий – не значит изнеженный. Странно, но на войне Гвоздику не попадались изнеженные армяне.
Теперь всё позади. Вот благословенный Ереван, Ваче. Смрадной мумией, с червями в усах ты возвращаешься домой.
Плохо, плохо паяли ребята баграмские. И не только из-за спешки. Не только. Знали, что родители не поверят, будут вскрывать, – надо же убедиться… Говорят, случаются ошибки, – в цинке совсем не тот оказывается… Или вообще вместо тела – землица афганская… А то и ковры, женские шубки, японские магнитофоны, джинсы, наркотики, – контрабанда, случайно пришедшая не по адресу…
Синей краской на досках криво выведены фамилии, чтобы не перепутали: Иевлев, Щербаков, Власенко, Слободян, Юсупов, Мигранян, Татабеков… Вдруг там вместо трупов – несметные восточные сокровища?..
Шасси транспортника коснулись посадочной полосы. Арсен резко сел, – его придавила эта навалившаяся тяжесть замедления. Самолёт пробежал по бетонке, вздрагивая. Остановился… Ну вот и всё. Гагик надел фуражку.
В Ереване они пробыли не больше получаса. Но за это время умудрились попробовать армянского коньяку, – непонятно кто его прислал. Борттехник в замасленном комбинезоне подошёл, достал из широченных штанин две бутылки, сказал, что просили передать.
Неужели Гагик с Арсеном? Так быстро достали? Да они же вроде бы сразу укатили на грузовике?.. Неизвестно. А коньяк всем понравился. В нём играла горячая, весёлая сила.
Из Еревана взяли курс на Моздок. Оттуда – в Астрахань. Вот куда течёт река Волга. Сверху увидели зелено-жёлтые заросли, рукава и озера дельты, веер сверкающих на солнце проток… Железнодорожный мост, на левом берегу зелёные скверы, дома, причалы, посреди города на холме – астраханский кремль. Это уже Россия.
Было жарко, и от коньяка, выпитого чёрт-те-где, ещё за Большим кавказским хребтом, за тысячу километров отсюда, – ну или сколько там? – Ещё шумело в голове…
Астрахань, как Венеция, стояла в воде, – всюду мелькали каналы, мосты… Здесь Гвоздик распрощался со связистом Серёгой. Пора было обедать, их повезли в какую-то воинскую часть. Там солдаты смотрели на них, как дети, щупали хабэ, как будто солдатское обмундирование, – пусть и несколько иного покроя, – не одно и то же повсюду, от Балтики до Владивостока, от Мурманска до Кушки и Термеза. Их отвели в столовую, поставили на столы железные миски с борщом, кашей и не отходили от них, расспрашивали, как там и что. После обеда клонило в сон, но их повезли на аэродром, где ждал самолёт, – всё тот же мощный, вместительный катафалк.
Ну, а Астрахань что? Ловила рыбу, загружала баржи, слушала новости. Там, наверное, и о них что-нибудь проскальзывало: мол, воины-интернационалисты… А они, эти самые интернационалисты, были уже здесь, а вовсе не там, где «строили дороги и сажали сады». Прямо здесь вот тайком летели над страной, как воры. Как бледные тени никому не известных событий, происходящих на каменистых горных дорогах Гиндукуша, в ущелье Панджшер – и далее везде… Их самолёт тоже был только тенью, призраком. О таких рейсах не сообщалось. Да и как бы это могло звучать, на самом деле? «Чёрный тюльпан» пересёк границу СССР… Бортовые системы корабля работают нормально… Опытный экипаж… Группа сопровождающих лиц… Столько-то героев, с честью выполнивших интер…»
Мёртвых героев. Ваче Мигранян… Или Щербаков, например… Или…
Куда теперь? К другому морю, к другой реке – в Ростов-на-Дону. Мучительно хотелось курить.
…А духов выкурить можно было совсем по-другому. Совсем. Зачем так спешить? Например, дождаться корректировщиков, и гаубицы накрыли бы этот дом. Или танкистов – в дом можно было с разгона въехать на танке… Или вызвать вертушки… Ну, теперь-то что… Щербаку уже всё равно. И сержанту Лопатину. Да и вообще – всем…
Так думал Гвоздик, сидя в воздушном катафалке где-то между Астраханью и Ростовом-на-Дону
…Внизу уже донские степи? Облака, тени облаков на земле, какие-то реки… Вдруг засинела мощная жила. Так это же Дон и есть!
Нескончаемые поля. На берегах – сёла, утопающие в зелёных садах…
Перед Ростовом-на-Дону лётчики снова проветривали грузовой отсек. Привет из Баграма. Дыхание смерти на ваши крыши, в ваши окна.
Мир вашему дому…
Через час уже снова летели, кажется, в Донецк. Или сначала в Элисту? Но, возможно, в Элисту прилетели ещё до Ростова-на-Дону…
Потом садились в других городах, – посадок было много. Кто-то поначалу даже вёл маршрутный лист, но потом этот штурман высадился, – остался вместе со своим двухсотым грузом, – а продолжить, подхватить перо так никто и не удосужился: зачем это?
Кому оно надо?..
Летели и ночью. Земля внизу светилась цепочками огней. Над большими городами стояли мутные облака света. Чёрная земля казалась бездонной, безмерной. Самолёт тяжело гудел, раздвигая тьму крыльями с пульсирующими ранами, бьющими багровым светом, – как будто внутри иссечённые свинцом и осколками тела ещё кровоточили…
…Этот полёт казался нескончаемым. Поэтому Гвоздик даже немного растерялся, когда остался наконец один на аэродроме, возле длинного деревянного ящика с корявыми синими буквами «Щербаков». Самолёт полетел дальше, и Гвоздик ощутил неодолимую, свинцовую тяжесть. До сих пор он лишь наблюдал, как со своим грузом уходили другие. Теперь это предстояло сделать ему. Он покосился на ящик, и ему вдруг почудилось, что никакого Щербакова внутри нет. Возможно, Гвоздик просто обкурился, и теперь видит дурной сон. Старший сержант Лопатин… Ведь настигнет же и его когда-то воспоминание о Щербаке? И Лопатину тоже захочется, чтобы этот ящик был доверху наполнен сухим афганским песком, а Щербаков был бы жив и хитро улыбался, морща облупленный нос…
Но зачем тогда его, Гвоздика, сюда прислали? И главное, как он согласился? Как мог он согласиться? Нужно было наотрез отказаться – как наотрез отказался он лететь с Сашкой Волчковым… Неужели это его наказание за тот отказ?.. Нет, но кому-то же надо было… Или всё же так сильно захотелось побывать дома?..
Гвоздик озирался, стоя на краю взлётной полосы. Рядом безмолвно стоял дощатый уродливый саркофаг. «Щербаков».
– Может, о нём забыли? Приняли самолёт – проводили, а зачем он приземлялся, как-то запамятовали. Гвоздик закурил. Выкурил сигарету, вторую, третью… Аэродром был пуст. То есть, здесь были конечно самолёты, – два или три. Был и вертолёт. У приземистого кирпичного здания стояла машина, – правда не грузовик, – всего лишь «уазик». Но людей нигде не было видно. Низко нависало серое небо, вдалеке мрачно зеленели какие-то деревья. Ветер трепал яркий флажок на металлической мачте. Гвоздик оглядывался, и ему по-настоящему было страшно. Здесь он никого не знал, кроме Щербакова…
…Щербакова хоронил военкомат. На похоронах был сам военком, был пожилой отставник, работавший в военкомате кем-то вроде сторожа. Ещё – несколько солдат, две любопытных бабки, случайный подросток… Дело в том, что Игорь Щербаков оказался детдомовцем, и пока он был жив, никто в полку даже не знал об этом. Так что похороны прошли спокойно. Никто не вздрогнул, не заголосил, когда Щербаков ткнулся в родную могилёвскую глину. Так и должны хоронить солдат – быстро, чётко, без лишнего шума и слёз. Потому-то детдомовцы – наилучший контингент для всех рискованных государственных затей…
После похорон Щербакова он так и не поехал домой. Гвоздика неудержимо потащило дальше, – в Термез, словно что-то волокло его за шиворот. Он потом, позже, рассказывал всякую чушь про стечение каких-то туманных обстоятельств, – рассказывал и энергично тыкал большим пальцем за плечо…
В общем, покатил, – невыспавшийся, хмурый, – в Термез и там ещё с неделю проторчал, ожидая колонну. С голодухи они пошли ночью на склад, – вдвоём с таким же случайным бедолагой. Тот ужасно трусил, а Гвоздику было наплевать. Он знал, что любые охранники – люди, и когда-то бывают беспечны. Действительно, часовой вскоре устал ходить взад-вперёд под фонарем и скрылся в караулке. Тут они перебежали под стену склада, Гвоздик велел своему напарнику присесть, встал ему на плечи, выдавил стекло, забрался внутрь и отыскал ящики с консервами. Передал один ящик товарищу, вылез, а ящик они потом припрятали в степи. Консервы оказались ненавистной огнедышащей рыбой в томате, но они всё равно ходили их есть, – пока люто не затошнило от изжоги…
А вскоре пришла колонна. Его взял к себе в кабину водитель-чеченец, солдат. Его «КамАЗ» был нагружен углём.
С водителем Исой они сдружились, – тот на стоянках запросто добывал еду, – земляки у него были повсюду.
А так Гвоздик, наверное, помер бы с голоду. Почему-то русские земляками были, прямо сказать, неважнецкими. Как это у Тарковского, – в его «Андрее Рублёве»? «…Какой ты русский, морда владимирская?!..» – Гвоздик хрипло рассмеялся. И косяки Иса добрые доставал. Правда, сам никогда не курил почему-то.
Гвоздик ехал в «КамАЗе» с Исой и, вспоминая весь пройденный путь, представлял себя каким-то военным чиновником, сочиняющим реляцию высшему командованию. Он, конечно, здорово подустал, да и от чарса всё в глазах слегка двоилось. Порой ему даже становилось невыносимо смешно, что вот он так спокойно едет, жив-здоров.
Они ехали через Мазари-Шариф, Пули-Хумри, Саланг, потом вниз, сквозь Чарикарскую долину – сплошной сад с дувалами, башнями, – прямо в Баграм, где круг, наконец, замкнулся. И, конечно, Гвоздику всё это казалось странным. Он описал невероятную петлю, – в самолётах, поездах, машинах, – и возвращался.
Здесь, в Баграме, они расстались. Иса покатил с колонной дальше – в глиняный и каменный, зелёный и сине-купольный, поистине гигантский, после всех придорожных городишек, Кабул. А Гвоздик полетел на вертушке в полк. Он возвращался, размышляя о запутанных военных дорогах, и не знал, радоваться ему или плакать из-за того, что его занесло на одну из них…
Поэзия
Евгения Славороссова
Из книги «Времена года»
Сезоны
Ах, ветра дыханье, цветов колыханье
И свечек каштановых благоуханье.
Рассветный июнь, золотые закаты,
Зловещего грома глухие раскаты.
А летние ливни, летящие ливни,
Вонзаются в землю их острые бивни.
Весною каштаны, а осенью клёны
Нам душу пытают листвой раскалённой.
Ведь в мае крахмальном – мир сине-зелёный,
А осенью пламенем алым спалённый.
За грустью осенней, и горькой, и сладкой,
Зима проберётся с кошачьей повадкой
И скрипочку враз ледяную настроит
И нас успокоит, и мехом укроет.
Январская элегия
Сердце ноет болезненно-сладко.
Нету в роще январской тепла,
Как в душе моей смутной порядка.
Но любовь никуда не ушла.
В речке лёд, равнодушно слепящий,
И, хоть верится в это с трудом,
Не ушла, а царевною спящей
Безмятежно лежит подо льдом.
Февральская капель
Многое в жизни минута решает,
Время – мудрейший и опытный знахарь.
Снег ноздреватый, как тающий сахар,
В чашке полудня февраль размешает.
Чтобы нам не было грустно и тяжко,
Солнце сверкает серебряной саблей,
И разбивается первою каплей
Дня голубого бездонная чашка.
Накануне марта
Что нас ожидает
В лихорадке старта?
То февраль рыдает
Накануне марта.
Выберу дорогу,
Задохнусь от бега.
Смоет ли тревогу
Как остатки снега?
Выкрикнуть бы в поле:
«Что всё это значит?»
От внезапной боли
Юный дождь заплачет.
Больно – значит живы
Души-недотроги.
И слова не лживы
И верны дороги.
Фотография
Смотрит с фотографии старинной
Девочка в пальтишке с пелериной,
Смотрит, как нечасто смотрят дети,
Девочка в надвинутом берете.
Ей судьба – идти вослед идущим.
Кто она? Что ждёт её в грядущем?
Девочка с мечтою неземною,
Может, ты была когда-то мною?
Ей в глаза в апреле солнце свети.
Где она? Но кто же мне ответит?
Май. Нежность
Сегодня лишь нежность у нас на уме,
Прогулки, беспечные речи,
Когда так волшебно белеют во тьме
Каштанов пахучие свечи.
Сегодня прибоем вскипает сирень,
Глаза нам туманя лилово,
И майским теплом наполняется день,
И нежностью каждое слово.
Октябрьский дождь
Моим ли прихотям в угоду
Иль по другой причине, но
Бог вызвал чудную погоду,
Что я ждала уже давно.
Небесные разверзлись хляби,
Дождей отправив караван,
Спецы в своём небесном штабе
Наслали влажность и туман.
И пусть на улицах безлюдно,
Я всё же счастлива вполне:
И мне любить людей нетрудно
И под дождём не грустно мне.
А город сыростью пронизан,
Как будто рядом океан.
И капли скачут по карнизам,
И день октябрьской влагой пьян.
И на щеках моих не слёзы,
А дождь, присущий октябрю,
Ведь на дождливые прогнозы
Я положительно смотрю.
Ноябрьский сон
В пору тьмы и разрушенья —
В ноябре, во сне
Без звонка, без разрешенья
Ты пришёл ко мне.
И, вселив в меня тревогу:
Сплю я иль не сплю?
Прошептал ты мне: «Ей-Богу,
Я тебя люблю».
Из книги «Роза ветров»
Азбука Крыма
Возносятся к небу так чисто и хрупко
Весёлые кличи – Алушта, Алупка!
Как будто бы вскрикнул невидимый хор
С восторгом – Гурзуф, с придыханьем – Мисхор.
И длится минута от века до века.
То птицы кричат или дети Артека?
А звуки камнями срываются вниз,
Осколки летят – Кореиз, Симеиз!
О, воздух, сияющий в солнечном ветре.
Царапают небо вершины Ай-Петри.
Меж каменных рёбер родившийся крик,
Зелёного моря солёный язык.
Кто эти выписывал мысы и бухты —
Истории древней нестёртые буквы,
Кто горы и скалы рассыпав вот так,
Поставил сосны восклицательный знак?
Протяжная песня от века до века.
Дыхание тавра и скифа, и грека,
И облака пар, и Отечества дым
Смешались с горячим дыханьем моим.
Сигналят суда, проходящие мимо,
Учу на каникулах азбуку Крыма,
Машу кораблям загорелой рукой,
Шепчу: «Аю-Даг» и вздыхаю: «Джанкой»…
Рыбачье
Море – шёлковая скатерть,
Серебрится света скань.
На закате режет катер
Влаги ласковую ткань.
Пенит воду катер прыткий,
Хоть кончается сезон…
Яркий вид, как на открытке,
Втиснут в тесный горизонт.
Мальчик храбро ловит краба,
Берег вылизан волной.
О, бесценная отрада,
В жизни найденная мной!
Так не вечно равновесье,
Так мгновенен счастья срок…
Но уходит в поднебесье
Белоснежный катерок.
Я прильну к морскому лону,
Опущу в волну ладонь.
Виноградники по склону
Вверх ползут. В домах огонь
Зажигают. Быстрый вечер
Сходит вниз. Горит звезда.
Я не вечна, ты не вечен —
Вечны небо и вода.
Ждать удачи, жить иначе?
Не уйти отсюда прочь?
А над нами ветер плачет,
И цикада пилит ночь.
Вдруг сорвётся брань собачья,
И замрёт в руке рука…
И уснёт село рыбачье
Под миганье маяка.
Крымская ночь
Словно говор всякой нечисти,
Слышны сотни голосов
Металлических кузнечиков,
Металлических сверчков.
Не одна на берег выйду я
Там, где пляжа полоса.
Над затихшею Тавридою
Тёмной ночи голоса,
Марсианские, нездешние,
На Земле подобных нет.
Как целуемся поспешно мы,
Словно гибелен рассвет.
Всё укрыла ночь бездонная.
Но невидима во мгле
Киммерия дышит сонная.
Или мы не на Земле?
Не найду огня и света я…
Но, прорвав кромешный мрак,
Странной высится ракетою
В небо рвущийся маяк.
А кузнечики, как часики,
Нити времени стригут.
Мы с тобою соучастники
Тайн, рождающихся тут.
Морская соль
Метил печалью меня, как печатью —
Чудо морское иль Божье творенье?
Непостижимее страсти к зачатью
Тайна рождения стихотворенья.
Чёрного моря полная мера,
Но прижимаюсь к берегу сиро.
Море огромно, как эпос Гомера,
Я ж нарушаю гармонию мира.
В детстве средь буйной российской метели
Снилась мне синь за стеною зубчатой.
Эллин проносит в бронзовом теле
Счастье. На мне же тоски отпечаток.
Море в огромной каменной чаше,
Сразу пьянею к берегу выйдя.
В яшмовых водах солнышко пляшет.
О, Ифигения в чудной Тавриде!
Ящеркой смуглой лягу на камень —
Богом забытое Божье творенье,
Дал мне так много своими руками,
Не дал мне только умиротворенья.
Море проснётся, вспыхнет, бушуя,
Вздрогнет и снова размеренно дышит.
Всё, что сейчас на песке напишу я,
Море сотрёт. Кто ж об этом напишет?
В сладости лета соли крупинка,
Крупной, как слёзы, каменной соли.
Тянет настойчиво к морю тропинка.
Мне бы хоть каплю покоя и воли.
Мне б окунуться в праздничность эту,
Мне б раствориться в чистом просторе,
Солнцу дать губы, волосы – ветру,
Тело нагое выплеснуть в море!
Коктебель
У брега, где волны берут разбег
Неведомо сколько веков,
Рассыпался каменный человек
На тысячи мелких кусков.
Как будто однажды вздохнул истукан —
И вздох разорвал ему грудь,
Как будто устал и прилёг великан
У ласковых волн отдохнуть.
Угрюмого камня душа взорвалась,
И крик исказил его лик…
Мерцает зрачок его яшмовых глаз,
Сверкает, как кровь, сердолик.
О, жажда на миг разорвать свою цепь
И воздух свободы вдохнуть.
Раздвинуть усилием скальную крепь
И воле навстречу шагнуть —
И вырваться, словно из бренных одёж,
Из тягостных пут забытья,
И боль сладчайшей почувствовать дрожь
До самых глубин бытия.
Разрушить однажды надёжный свой дом,
Что чем-то похож на тюрьму…
А что бунтаря ожидает потом —
То ведомо только ему.
Девушка Крыма
Этот город, совсем непохожий
На московский запущенный двор.
Здесь я чувствую собственной кожей
Моря соль и дыхание гор.
Здесь я чувствую собственным нёбом
Виноградных кипение струй,
И пропитанный йодом и мёдом
Персик свеж, как во сне поцелуй.
Неужели вдыхала всё время
Лишь столичного воздуха дым,
Не росла в Черноморском Эдеме,
Что теперь называется Крым?
Неужели не я на скамейке
Целовалась средь роз
Не буянила в шумном семействе,
В итальянском кипенье страстей,
Где на кухне сияли прекрасно
Кабачок, баклажан, помидор,
Где пропахший оливковым маслом
Утопал в полутьме коридор?
Неужели в блаженстве и блажи,
Убаюкав тоскующий ум,
Не лежала на каменном пляже
Монотонный не слушала шум?
Неужели под синим инжиром
В окружении нежной родни
Не цвела безрассудным транжиром,
Расточая минуты и дни?
Но не я ли, беспечная, знала —
Не воротится прошлое вновь
И не я ли перо окунала
В шелковицы чернильную кровь?
Неужели на южном вокзале,
По лицу размывая тоску,
Не стояла? И это не я ли
Так хотела уехать в Москву?
Прощание с морем
Я жить без него не смогу. Я умру!
Я Чёрное море с собой заберу.
Чтоб видеть в окошке своём без труда,
Как в нём виноградная зреет вода,
Чтоб щупальцы солнце тянуло, как спрут,
Чтоб в море, как в жидкий нырнуть изумруд,
А вечером – нет, не по гальке с песком —
По лунной дорожке пройтись босиком.
Я жить без него не смогу, я умру.
Что делать мне в городе летом в жару?
Что делать с душою и телом весь год
Вдали от любимых немыслимых вод?
Прикажете мне задыхаться в тоске
От жажды, как бешеный пёс на песке,
Спешить на вокзал, где кругом толкотня —
Ужель от него оторвёте меня?
Я жить без него не смогу, я в волну
Горячее сердце своё зашвырну.
Плыви, моё сердце, чтоб век не рвалась
Солёная, кровная, вечная связь!
Бабочка зимы
О, Бабочка Зимы, мохнатый махаон,
Осыпал снег, взмахнув крылами, он —
И сразу мир открылся белый-белый…
Но помню изобилье изабеллы
У моря Чёрного. А, как меня хранил
Тот вечер цвета пролитых чернил.
О, черноглазие хмельной округи винной,
О, тёплый ливень, хлынувший лавиной.
Но заметает летней ночи сны
Крылом пушистым Бабочка Зимы.
Как сладок запах той поры минувшей!
Прожектор хищно щупал пляж уснувший.
А турки за морем? О, что там снилось им?..
Но Бабочка Зимы взмахнёт крылом своим,
За лесом белых пальм являясь перед взором,
Прильнёт к стеклу немыслимым узором.
На перекрёстках эпох
Наталья Божор
Сказание о дон Кихоте
Сервантес
К «Дон Кихоту» Сервантеса, как и к «Демону» Лермонтова, я возвращалась, чтобы понять. Не успев прочитать книгу, я открывала её вновь.
На тот алмазный трон, где столько лет
Марс восседал, от крови весь багровый,
Взошёл Ламанчец и рукой суровой
Над миром поднял стяг своих побед…
Начиная писать «Дон Кихота» как пародию на рыцарские романы, Сервантес становится пленником героя.
Испанский дворянин Алонсо Кехана (идальго), не в силах переносить повседневную жизнь и, начитавшись рыцарских романов, уходит в Сказку. Им движет благородное чувство – сложить подвиги к ногам своей Дамы.
Посвящение в рыцари происходит на постоялом дворе (волшебном дворце).
Вокруг Дон Кихота сплетается сеть очарованных Лун. Вместе с неутомимым Росинантом и верным оруженосцем Санчо Пансой Рыцарь Печального Образа (Рыцарь Львов) проходит по плетёному пути. Но Дульсинея ускользает от рыцаря.
Столь поучительны беседы Дон Кихота и Санчо: «Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле Небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги… Я тот, кто призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей Славы»…
Поэт и философ по своему душевному складу, защитник бедных и обездоленных, Дон Кихот близок Сервантесу. Героя можно назвать гуманистом эпохи Возрождения.
Роман – это культурный слой эпохи. Мавританские повести, плутовской роман, испанские романсеро, поэмы итальянского Ренессанса вошли в «Дон Кихота».
Подвигам Дон Кихота нет числа! Приключения в пещере Монтесиноса дороги рыцарю прежде всего потому, что в облике крестьянской девушки видит он Дульсинею Тобосскую!
Балагур Санчо пишет письмо жене своей Тересе Панса: «…Милая Тереса, козла пустили в огород, и в должности губернатора мы своё возьмём».
Обещанный Санчо Остров и губернаторство словно россыпь жемчужин.
Санчо говорит себе (и герцогине): «…голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушёл и, могу сказать по чистой совести, а чистая совесть – это великое дело: «Голышом я родился, голышом свой век прожить ухитрился».
Замок герцога Дон Кихот и Санчо покидают под песню Альтисидоры:
О, жестокосердый рыцарь!
Отпусти поводья малость,
Не спеши коня лихого
Острой шпорой в бок ужалить.
Блажен тот, кому Небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме Неба!
Потерпев в бою поражение от Рыцаря Белой Луны (Рыцаря Зеркал) и не встретив Дульсинею, Дон Кихот и Санчо Панса возвращаются в родное село.
Опадает пена, рушатся хрустальные дворцы… Почему так распорядился Сервантес? Одна ласточка ещё не делает весны.
Ты храбрейший сын Ламанчи,
Рыцарства краса и гордость,
Всех сокровищ аравийских
И прекрасней и дороже!
В Страну Очарованных Лун уходит Дон Кихот.
2017
Дон Кихот Ламанчский. Из графической серии С. Бродского
Поэзия
Андрей Ивонин
Тридцать первое декабря
Ритуальные проводы старого года.
Оливье на столе. Ожидание прихода
года нового. Снежная изморозь. Пар
изо рта на морозе. Яркой расцветки
мишура, запах хвои, еловые ветки.
И на тоненькой нитке серебряный шар.
Ни о чём разговоры, мечты, обещания.
Бесконечные хлопоты, встречи, прощания.
Нас бросает из крайности в крайность,
то в холод, то в жар.
И летит в безвоздушном пространстве планета,
для чего это всё, не давая ответа,
как на тоненькой нитке серебряный шар.
«Вздрогнула, тронулась, сдвинулась с места зима…»
Вздрогнула, тронулась, сдвинулась с места зима.
Площади, улицы, скверы, бульвары, дома —
всё покачнулось, очнулось, в глазах поплыло,
хрустнуло хрупко, как под ногами стекло.
Глаз до утра не сомкнёшь, и всю ночь напролёт
слышишь, как пенится воздух и крошится лёд.
Это весна, говоря с небесами на ты,
навстречу идёт, не стесняясь своей наготы.
Ветками верб чуть касаясь высоких небес,
тянется к солнцу привставший на цыпочки лес,
душу синичьими трелями разбередив:
Всё впереди – говорит тебе – всё впереди.
Всё впереди, всё исполнится точно и в срок.
Дай только время, немного терпенья, дружок,
и неудачи твои за сугробами канут во тьму.
Ты только верь. – И так хочется верить ему.
Без любви
Всё мертво без любви на печальной и зыбкой земле:
капли тёплых дождей в фонарями колеблемой мгле,
шорох листьев над нами и грома раскаты вдали.
Всё мертво без любви. Повторю: всё мертво без любви.
Всё мертво: и отвесные горы, и море, и лес,
краски летнего дня, и пылающий купол небес,
птичий щебет весной за окном, и журчанье воды
в торопливых ручьях, и осенних деревьев плоды.
И покой безмятежных пейзажей, и буйство стихий,
и манящих пространств бесконечность, и даже стихи —
ничего, ни копейки не стоят, увы, без неё.
Всё мертво без любви, всё мертво, как и сердце моё.
В зоне риска
Вот так. Теснее… Ближе… Близко-близко.
Ещё чуть-чуть… Почти боясь вздохнуть.
Я в миллиметре от… Я в зоне риска —
в глазах твоих рискую утонуть.
И глядя в них, произнесу украдкой:
Ни божий гнев, ни праведников суд,
меня уже от этой кары сладкой
не отвратят, не сдержат, не спасут.
Верую
Верую ныне, и присно,
и во веки веков
в твой силуэт, внезапно
возникший из ниоткуда
в пасмурный мартовский день.
В дробь каблуков
в такт биению сердца.
Верую в чудо.
Имя твоё повторяю
медленно и нараспев,
медленно, словно читаю
молитву, как “Отче
наш”. Вначале тихо,
почти про себя,
затем осмелев,
языком касаясь нёба, как неба,
всё громче и громче.
Пристально наблюдаю
за пируэтами птиц.
Чувствую, как прорастают
крылья и за моими плечами.
Верую в пену тяжёлых волос,
в удивлённые взмахи ресниц,
в губы и лоно твоё,
одинокими корчась ночами.
В прикосновение пальцев,
в солнечных глаз глубину,
в тёплые брызги апреля,
в неба бездонную синь.
Между другими, иными,
только в тебя одну
и верую. Ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Бабочка
Она как бабочка. Ея
воздушна суть.
Смотрю, дыханье затая, —
боюсь вспугнуть.
Над головою крыльев нимб,
легка пыльца.
Тончайшей линии изгиб —
овал лица.
Парит в оправе облаков.
Ещё виток.
Среди диковинных цветов
сама цветок.
А сердце ноет наперёд,
душа болит.
А вдруг она сейчас возьмёт
и улетит?
Урок геометрии
Губами
изучаю геометрию твоего тела:
овал лица,
окружность живота,
конусы грудей,
линии бедер.
Девушка спрашивает
Девушка спрашивает: «А ты правда поэт?»
«Да», – «А прочти что-нибудь!» – «Ладно».
Читаю: рондо, канцона, сонет…
Слушает. «Надо же, – говорит. – Складно!»
«Складно?» – Улыбаюсь. День выходной
тянется, и у поэта
на душе весна, а за стеной —
осень? Зима? Лето?
«День морозный, солнечный, бодрящий…»
День морозный, солнечный, бодрящий.
Выходи на улицу со мной!
Загляни в меня – я настоящий.
Слава богу, я ещё живой.
Я богам языческим подобен.
Мне любое дело по плечу.
Я ещё на многое способен
и ещё так многого хочу:
жить, любить, без удержу смеяться,
совершать ошибки и грехи,
у ночных подъездов целоваться,
песни слушать, сочинять стихи.
И ничто – ни тяготы, ни время —
не остудит моего огня.
Об одном прошу: ты только верь мне
и не останавливай меня!
«Нет ни завтра, ни после…»
Нет ни завтра, ни после,
а есть только здесь и сейчас.
И фонарь на углу,
и луна, что над домом повисла,
как и неба слюда,
не имеют значенья без нас.
Ни пространство, ни время без нас
не имеют резона и смысла.
Тихих улиц предутренний сон
и июльский рассвет,
полыхающий жарко
в оконной надтреснутой раме,
и отчётливый твой
на песке отпечатанный след
только здесь вместе с нами живут
и уйдут вместе с нами.
Ну, а я полной грудью дышу
и живу на бегу.
Только крепче стараюсь запомнить
любимые лица.
Что мне делать с любовью моей?
Ни с собой её взять не могу,
ни прохожим раздать —
лишь немного с тобой поделиться.
«Вдоль аллей гуляет ветер…»
Вдоль аллей гуляет ветер.
Улиц утренних прохлада.
Мелкий дождь над мокрым садом.
Губы, пахнущие дымом.
Знаешь, мне на этом свете
ничего почти не надо.
Только чувствовать —
ты рядом.
И любить.
И быть любимым.
«Когда, открыв глаза, проснёшься ночью…»
Когда, открыв глаза, проснёшься ночью,
поднимешься и, не включая свет,
всем существом вдруг ощутишь воочию,
что прошлого и будущего нет.
А есть лишь краткий миг, что мягче воска,
чуть зримый штрих, полутеней игра,
стежок тончайший, узкая полоска,
граница между завтра и вчера.
И станет легче. Скрипнет половица.
Забрезжит утро, будто в первый раз.
И что должно, конечно же, случится.
Немедленно, сегодня и сейчас.
И, внутренне прозрев, за мысли эти
держась как за спасительную нить,
стряхнёшь с себя тяжёлый груз столетий,
отпустишь боль и вновь захочешь жить.
На перекрёстках эпох
Наталья Божор
Мерцающее озеро
Джеймс Фенимор Купер
В ранних романах писателя «Лоцман», «Красный корсар» – романтика моря. В «Зверобое» мы слышим волну за кормой. «Зверобой» – одна из любимых книг М.Ю. Лермонтова.
Роман Джеймса Фенимора Купера «Зверобой или Первая Тропа Войны» входит в пятитомник писателя: «Пионеры», «Последний из Могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой».
Главный герой серии книг Купера Натти Бампо благодаря своей силе и мужеству приобретает в «Зверобое» почётное имя – Соколиный Глаз. Индейцы Рысь, Пантера погибают от руки Зверобоя.
Толи чёрный лебедь, то ли белый ворон.
Кто я: русский воин или враг поганый?
Скалят кони морды да во чистом поле.
Как вода из фляги хлещет кровь из раны.
Зверобой спешит на озеро Онтарио, на встречу с молодым могиканином, делаварским вождём Чингачгуком (Великим Змеем). Уа-та-Уа (Жимолость Холмов), невесту Великого Змея, похитило индейское племя Минги (гуроны). По дороге на озеро охотник встречает Гарри Марча (Непоседу).
Поклонюсь я в пояс голубым озёрам,
Златоглавым храмам, вековым дубравам.
Для меня погоны не были позором,
Для меня присяга не была забавой…
Зверобой ничего не ответил. Он стоял, опершись на карабин и любуясь восхитительным пейзажем… Место было прелестно, и теперь оно открылось перед взорами охотника во всей красоте: поверхность озера, гладкая, как зеркало, и прозрачная, как чистейший воздух, отражала вдоль всего восточного берега горы, покрытые тёмными соснами; деревья свисали над водой, образуя зелёные лиственные арки, сквозь которые сверкала вода в заливах…
Мерцающее Озеро, Блистающая Грусть…
На озере, на сваях, установлен Замок Тома Хаттера (Водяной Крысы), отца Джудит (Дикой Розы) и Хетти (Поникшей Лилии). Сын Хаттера погиб на бранном поле.
Поникшая Лилия отвязала пирогу, чтобы проникнуть в лагерь Мингов, спасти отца и Непоседу или погибнуть с ними. В руках у Хетти было Евангелие. Медведица с медвежатами сопровождали бесстрашную девушку.
А у чёрной речки конь мой обезумел.
Обагрится кровью Спас Нерукотворный.
За кого воюем – так я и не понял.
За кого умру я – так и не узнаем[1 - Слова и музыка в исполнении Юрия Евдокимова.].
Далее об индейцах рука писать отказывается.
– А где же ваша возлюбленная, Зверобой?
– Она в лесу, Джудит, она падает с ветвей деревьев с каплями дождя, росой ложится на траву, плывёт с облаками по небу, поёт с птицами, она во всех дарах, которыми мы обязаны благому Провидению…
Прекрасную Джудит Зверобой не успел (не смог) полюбить.
«Я следую моему высокому призванию…»
В долине солнце и цветы,
Я слышу голос нежный,
И сказку мне приносишь ты,
И отдых безмятежный.
2021
Возвращение
Ерий Влодов
(1932–2009)
Пушкин
Из книги «Портреты»
«О балы мои далекие!..»
О балы мои далекие!
Колокольца снежный звон!
Неопознанные локоны
В бликах елочных окон…
Зажигали свечи чистые…
Заполняли синевой…
Полонезами лучистыми
Плыли зимы над Невой.
И на санные излучины —
В запах милый, меховой —
Опускался кто-то мученный
С эфиопской головой…
И взлетали галки снежные
Из-под санного ножа!
И была метель мятежная
Оглушительно свежа!
«Когда на клейкий подоконник…»
Когда на клейкий подоконник
Зарю обронит глупый птах,
Когда пастух – сопливый конник
Промчится с гиком на устах
Я буду спать – башкой в тужурку,
В мышином сене и пыли…
Но в оловянную мазурку
Вхожу я с тёплой Натали…
И свечи светятся морозно!
И рыжий гений смотрит грозно!..
Ах, притча века – Натали!
Звенят браслеты грациозно,
И пахнут вольно и берёзно
Запястья сельские твои…
«Светлело, а гусиное перо…»
Светлело, а гусиное перо
Резвилось, как младенец неразумный,
И глаз косил безбожно и хитро
На этот мир – застенчивый, но шумный.
Пищала птаха, тихо зрел ранет,
Сварливый клён под окнами возился…
«Ужо тебе!» – воскликнул вдруг поэт,
И кулаком чернильным погрозился.
«Ужо тебе!» – и весело со лба
Смахнул волос воинственную смуту…
Не знала Русь, что вся её судьба
Решалась в эту самую минуту.
«Слетают листья с Болдинского сада…»
Слетают листья с Болдинского сада,
И свист синицы за душу берёт.
А в голубых глазах у Александра
Неяркое свечение берёз.
Суров арап великого Петра!
А внуку – только детские забавы…
Он засмеётся белыми зубами
Под лёгкий скрип гусиного пера.
«Ребятушки! Один у вас отец!..»
И на крыльце – Пугач в татарской бурке…
А на балах, в гранитном Петербурге
Позванивает шпорами Дантес…
На сотни верст глухой и гулкий лес…
Тебя, Россия, твой изгнанник пишет…
Вот он умолк… А, может быть, он слышит
Прощальный крик гусей из-под небес?!..
Она все ближе – тёплая зима,
Где выстрелы, как детские хлопушки,
Где в синий снег падёт руками Пушкин,
И из-под рук вдруг вырвется земля…
И Натали доложат: «Он убит».
Ей кто-то скажет: «Вы теперь свободны».
И с белых плеч сорвется мех соболий,
И медальон на шее задрожит.
Пробьётся луч весенний, золотой.
И будут бить на празднике из пушки.
И только под Михайловским, в церквушке,
Звонарь встревожит колокол литой…
Ну а пока – туманная пора.
Всё в липкой паутине бабье лето.
И небо – в голубых глазах поэта!
И нервный скрип гусиного пера…
«Под чугунным небосводом…»
Под чугунным небосводом,
Над крестьянским Чёрным бродом,
Где болотом пахнет муть,
Где ночами лезет жуть,
Над безвинной русской кровью,
Над захарканной любовью
Пушкин плачет у ольхи:
Жизни нет, а что – стихи?!..
«Пушкин с Гоголем сидели…»
Пушкин с Гоголем сидели,
Много пили, мало ели.
И, смакуя дым глотками,
Всё чадили чубуками.
Поболтать бы, да о чём? —
Лучше – ноги калачом.
Вдруг ощерился поэт:
Тридцать лет, а проку нет!
Недоступна мне пока
Глубь родного языка! —
По листу перо бежит,
Но – споткнётся, задрожит,
Что кораблик на волне…
Тайну чует в глубине!..
У Великого Хохла
Бровь к пробору поползла.
Усмехнулся? – вроде – нет.
Два кивка – и весь ответ.
Поболтать бы, да о чём?
Гоголь, вроде, не при чём.
Публикация Людмилы Осокиной (Влодовой)
Возвращение
Аркадий Славоросов
(1957–2005)
Агнцы огня
В полночь Адамантов неумолимо поднялся из-за стола, качнувшись. Он вырос из-за стола, как гриб, но со значением. В левой руке, на уровне сердца Адамантов держал рюмку, выпукло налитую водкой, с интеллигентным золотым ободком, прозрачную и холодную, как монокль.
– Я буду говорить о культуре, – сказал Адамантов и посмотрел. – Я буду говорить о культуре, дабы подвести итог. Некоторые видят в ней метафору божественного Слова. Иные – инструмент лжеца и отца лжи. Она вызывает ненависть экстремистов и восхищение либералов. И то и другое неоправданно и естественно. Ибо культура есть лишь зеркало – зеркало и ничего более.
Шестеро мужчин смотрели на Адамантова и, как это бывает с людьми, глядящими в одном направлении, имели вид несколько чеканный – собрание профилей, напоминая одновременно бандерлогов, внемлющих питону, телеболельщиков и истуканов с острова Пасхи. Лишь при последних словах оратора безгласный внутренний шепоток разочарования бегучей тенью размягчил их глиняные лица. Но низкий полумрак просторной горницы и увлечённое внимание к собственным словам рассеивали рыхлый взор Адамантова; он не заметил ничего.
– А что – не зеркало? – кривовато вышипел желтоглазый Стигматов, чуть склонившись к Ириневу.
– Зеркало – слишком ёмкий образ, – выкрикнул, будто выплюнул ненароком, требовательный Миша Гарутман.
Адамантов того и ждал, кивнул удовлетворенно, распластав мягкий подбородок по груди.
– Зеркало – чрезвычайно ёмкий образ, – сказал он куда-то внутрь. – Каков предмет, таков и образ (это прозвучало, пожалуй, несколько сварливо). – Зеркало может быть ловушкой бесконечного, но может стать и игрушкой праздной модницы, хуже – самоубийственным соблазном нарциссова сознания. В том и состоит двойственность культуры, её метафизическая диалектика…
Творцов заегозил на стуле. Неожиданно Никифоров, хозяин дома, подал голос из своего диванного угла, сказал глуховато: «Это вы всё о том же… Опасна всякая абсолютизация. Что – культура…» Иринев улыбнулся, высветив блестящими мелкими зубами своё и без того бледное лицо, процитировал тягуче: «Без излишней серьёзности, но с должным благоговением следует относиться ко всему».
– Вот-вот, – обрадовался Адамантов и чуть не расплескал водку. – Именно так. Весь мир двойственен, но мир – инструмент Божий, а культура – человеческий. Синергетика. Но стоит только придать ей (культуре) конечное значение – восхищение либералов, ненависть экстремистов – и останешься в эдакой камере смеха во веки веков. Отражением щётки отражение кучера чистит отражение кареты – вот ад. Ад рукотворен, – он уже начал торопиться и спотыкаться языком о редковатые зубы, подшепетывая и побрызгивая. – Но и путь в Зазеркалье, through the looking glass, кому он под силу? («Под слабость», – вставил Стигматов, и Творцов отчего-то злобно на него посмотрел). – Кто, подобно Алисе, сравнится чистотой и невинностью с ничего не отражающим зеркалом?
В последние времена, пожалуй, и средь «малых сих» не отыщешь такого. Но сами, сами-то творцы зеркал и отражений (я о присутствующих не говорю, мы не отражаемся), быть может, они знают выход? – он навис над столом, растопыря взгляд, странным образом обращая вопрошающие глаза ко всем сразу. Потом отпрянул на мгновение, подумал где-то там, вне круга матовой лампы и, подумав, кинул в себя сверкучую рюмку водки. Перекосившись – и закусить Адамантову было недосуг – вновь просунулся в свет, навис, вопрошая. Это подействовало. Шестеро мужчин зашуршали, завсхлипывали, задвигали междометиями и кусками фраз, довольно единодушно, но невнятно. Отчасти ловкий Адамантов подкупил их замечанием о присутствующих, отчасти объединяло их застоявшееся (как отсиженная часть тела) радостное недоверие к «Творцам зеркал и отражений», отчасти просто возможность сказать, не слушая, после долгого перерыва и выпитого вина – и все, это отлично понимая, оживились, как дети на переменке, чуть смущённые отчасти и подыгрывающие отчасти друг другу.
– А зачем им выход, собственно, – говорили они. – Янус, бог входов и выходов, с двумя ликами далеко ли уйдёшь, – говорили они. – Возведение в степень: литература о литературе, концептуализм, лишь бы подальше от дверей, от сквозняка, – говорили они. – Здесь ничего нет, – говорили они. – Купил вас Адамантов, – говорили они, – А Библия? – говорили они. – Климент Александрийский советовал не писать, – говорили они. – Третья перинатальная матрица, – говорили они, и лишь Никифоров, хозяин дома, безмолвствовал.
Так горница наполнилась, точно опавший было парус, ветром, сдержанным говором, и отчего-то явственной сделалась ночь, за пределами освещённого круга. Семеро мужчин пошевеливались в нём под матовым старомодным плафоном, светящейся медузой плавающем в зеленоватом сумраке старого дома. Скатерть на столе, вокруг которого расположились семеро мужчин, казалась от яркого света ослепительно белой, но и это только подчеркивало темноту дальних углов, дверных проёмов, низеньких окошек, за которыми ничего не было, кроме черноты, замкнувшей их маленький мир, словно кто-то вставил в окна лаковые листы копировальной бумаги. Но непроглядная чернь обозначала: ненастную мещёрскую ночь, полную стона и мокрого шатания природы, опасную, сырую, летящую безглазо. Непроглядная чернь (и сутулая темнота углов, дверных проёмов) подчёркивала только ослепительную белизну скатерти, уставленной закусками и выпивкой, яркий свет лампы под матовым пузырём, шевеление семерых мужчин в этом световом ковчежке, точно в витрине – если бы на них кто-нибудь смотрел со стороны. Семеро мужчин не обращали внимания вовне, и лишь Иринев бросал иногда пернатый летучий взгляд на скользкие стёкла.
– А я знаю к чему он всё это, – будто выдавил из себя между тем Стигматов (он и всегда говорил, будто гной выдавливал), болезненный и крупнолицый. – Это он про Авеседо.
– Да, – отпечатал Адамантов, выпрямляясь, и тень его качнула дом, – Авеседо и Дальман единственные, пожалуй, кто, если и не знает, где выход, то, во всяком случае, указывают на него, – Глумов издал короткий звук открываемой нарзанной бутылки, но взгляд Адамантова сделался латунным, и воздух вокруг него точно ощетинился колючим грозовым электричеством. Глумов не произнёс ни слова.
– Авеседо не только обнаруживает относительность и условность культуры. Он открывает её функцию, убедительнейше опровергая гуманистические лопотки о самоценности культуры, о том, что культура есть цель, а не средство. Культура – только средство, средство и материал. Человек – только средство, и, если отворачиваться от этого жестокого знания, мы никогда не выползем из смрадной ямы истории. Авеседо же использует материал всевозможных. культур, культурные архетипы самых разных времен и этносов, как строительные блоки для своих умозрительных конструкций и моделей, создавая восхитительное множество внутренних виртуальных миров, с лёгкостью и несерьёзностью свободы, свойственной Демиургу. Это уже выход – сотворённая и творимая им метакультура, обладает новым измерением, объёмом, в отличие от плоских опредмеченных образцов прошлого. Она контролируема и свободна одновременно, по правилам игры, в ней можно существовать, она – действует. Авеседо первый в человеческой истории – первый вышедший за пределы истории – подлинный творец, делатель новой реальности, – Адамантов говорил всё громче и голос его, утрачивая какие-то привычные частоты, становился незнакомым и словно отдельным от него, как у чревовещателя или человека, говорящего в мегафон.
Голос бродил по комнате, как ветер, сотрясающий стёкла. Это завораживало, и даже Стигматов не решался перебить его, только ощерился косорото в сторону Иринева и выкатил беззвучно: «Хайль, Авеседо!», – влажно блеснув волчьей десной.
– Но Дальман, – продолжал Адамантов, набрякая лицом в полумраке, неживым лицом медиума с гипсовыми веками, – идёт ещё дальше, простите за каламбур. Авеседо, интеллектуал, блистательный эрудит, энциклопедист, doctor univtrsalis своего рода, но при этом, точнее вследствие этого, игры его носят несколько кабинетный, библиотечный характер. Недоучка Дальман воспринимает культуру априорно и целиком, согласно «эффекту сотой обезьянки». Знаете? На каком-то архипелаге в Полинезии, проводя исследования с тамошними обезьянами, обнаружили удивительный феномен: обучая животных определённым целесообразным действиям, одну особь за другой, вдруг выяснили, что на каком-то этапе, примерно после сотой обученной обезьянки, происходит количественный и качественный скачок. ВСЕ обезьяны ВСЕГО архипелага оказывались владеющими данными навыками, не сообщаясь друг с другом вовсе. Это открытие приподнимает завесу над многими странностями человеческого сообщества. Сотая обезьянка Дальман, которого выгнали за хулиганство из общественной школы, долгие годы ведший полулюмпенское существование, алкоголик и эпилептик, легко и непринуждённо овладел искусством Луиса Авеседо. Конечно, конкретный фактический материал не был ему знаком, но в наш век справочников и энциклопедий это и не столь важно. Главное Дальман интуитивно познал те культурные архетипы, блоки и кирпичики, которыми пользовался до него Авеседо, и с неменьшим умением, но с большей непосредственностью принялся за строительство своей пугающей и притягивающей Вселенной. И главное, если во вселенную Авеседо нужно войти (и достаточно подготовленным), то вселенная Дальмана сама входит в мир, растворяя его в себе. Ибо не из Плиния или Винцента из Бове извлекал он эти кубики и очаровательные кварки, но из самой осклизлой глубины жизни, и туда же возвращал свои магические поделки. Он и сам, создание рефлекторно-интуитивное, не возводил той стеклянной границы между вымыслом и реальностью, подобно своему предшественнику. Не понять, где повествует он о себе, где о герое придуманном, где автобиография превращается в фантасмагорию, в миф, и наоборот. Да и он, как известно, не сознавал этого, постоянно сочиняя себя и окружающий мир, процеживая через своё сознание эмпирическую реальность, чтобы возвести её на неуязвимые блистающие уровни свободы. В одной из новелл Авеседо предвосхитил Дальмана, и Дальман пришёл; его чудесная Реальность незримо уже оккупировала определённые территории нашей дребезжащей действительности, пусть почти никто пока не замечает этого. И это – начало! – Адамантов всё каменел, каменел в течение монолога, какими-то гранитными складками проступало его лицо, чем-то напоминал он Говорящую Голову из детской сказки – только мерное движение жвал и оставалось признаком жизни в нём. И в то же время всё отрывался, отрывался, как летающим монумент, увлекая за собой всех, точно болтающихся в непрочной световой гондоле, куда-то сквозь небеса и хляби, сквозь незримый дождь слов, сквозь облак речи, к своей придуманной безупречной Пирамиде. Он всех замагнетизировал, говорящий сфинкс Адамантов, всех окаменил ядовитым взглядом Горгоны – даже округлый Творцов перестал ёрзать на стуле и застыл, напоминая скифский менгир, даже Иринев прикрыл глаза. Пока не раздался, точно крик петуха в ночи, спасительный голос Миши Гарутмана, в продолжение всей речи тайно пережевавшего бутерброд с ветчиной:
– А вот Набоков говорил, что всякая подлинная литература – это феномен языка, а не идей.
Обычная гарутмановская торопливая бестактность сыграла роль близорукости, он не рассмотрел, за бутербродом, грозного лика Горгоны, цроступившего в домашнем адамантовом лице, не поддался чарам, и сам развеял их, поперхнувшись своим петушиным восклицанием. И тут же взмыл воздушным шариком над лоснящимся лысовато сиденьем округлый Творцов, запричитал, наконец, готовно и с убеждённостью, проглатывая окончания:
– Неправда! Набоков двуязычный хитрец и фармазон! Всякая подлинная литература – именно литература идей, в универсальном, платоновском смысле. Только благодаря этому и возможен перевод…
Но тут уж все заговорили, под сурдинку наливая водку, закусывая грибками, зажестикулировали велируко, загомонили, как неспевшийся клирос, каждый своё, забывая облегчённо надоевшего Адамантова, задвигая его громоздкую потускневшую Пирамиду в тёмный угол беспамятства, да и сам он затерялся мгновенно, спав с лица, в этой бормотливой живой заросли застолья, и лишь Никифоров, хозяин дома, безмолвствовал.
Около двух пополуночи Миша Гарутман кричал весенним хрипом вожделеющего бойцовского кота:
– Что значит – вина? А как же: «Кто согрешил, он или родители его?» Кто, спрашивается, согрешил?
Но в крике его звучала обречённость. И еврейский глаз, обращённый к Ириневу, был затуманен смертной печалью немытого винограда.
Творцов и Стигматов, радостно рыскнув друг к другу несытыми взглядами, чуть не привстали из-за стола с той стороны, готовые по-волчьи пружинисто метнуться на жертву (Стигматов насмешливо оскалил свои жёлтые зубы; у него всё было жёлтое), а сбоку маячил, надменно улыбаясь одними ноздрями, загонщик Адамантов, но неожиданно Никифоров, хозяин дома, подал из угла голос. Он звучал глуховато, но очень внятно – каждое слово было отдельным, как новорожденный младенец:
– Ответ дан там же, чуть ниже. И в нём – залог спасения. Ни о какой вине не может быть и речи. Вина – понятие юридическое. Виновны ли в своих преступлениях клептоман, пироман, убийца параноик? Но всякий преступник – своего рода одержимый, а значит – соблазнённый, обманутый. Справедливо ли спрашивать с одураченного и запутавшегося? Разве он сам – не жертва зла? Ибо зло всегда внешне по отношению к человеку, и как бы не стремилось оно отождествиться с его внутренней сокровенной сутью, это не удаётся ему. Ни на ком нет реальной вины – и в этом залог спасения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71265835?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Слова и музыка в исполнении Юрия Евдокимова.
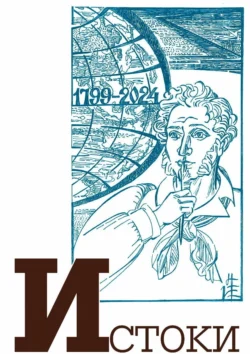
Тип: электронная книга
Жанр: Стихи и поэзия
Язык: на русском языке
Издательство: КнигИздат
Дата публикации: 03.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Истоки» – это альманах, как теперь говорят, с историей. Когда-то, в середине 70-х годов прошлого века, он зародился в недрах издательства «Молодая гвардия» как издание для молодых, и долгое время придерживался этой концепции. Потом, правда, предоставил свои страницы и авторам более основательного возраста.