Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Ольга Терпугова
Гэри Хэмбург
Современная западная русистика / Contemporary Western Rusistika
В книге, посвященной истории российской религиозной и политической мысли Раннего Нового времени, Гэри Хэмбург показывает, что путь России к просвещению начался задолго до того, как Петр Великий распахнул окно в Европу. Исследуя широкий круг произведений, автор помогает увидеть, каким образом российское просвещение послужило предпосылкой для расцвета таких писателей XIX века, как Федор Достоевский и Владимир Соловьев.
Гэри Хэмбург, профессор истории Отто М. Бера колледжа Клермонт-Маккена в Калифорнии, изучает политическую, религиозную и интеллектуальную историю современной России с 1500 года по настоящее время. Среди его основных работ – книга «Boris Chicherin and Early Russian Liberalism» (1828 – 1866) (Stanford University Press, 1992), а также двенадцать других книг и сборников. Вместе с Семеном Ляндресом Г. Хэмбург является соредактором и сооснователем журнала «Journal of Modern Russian History and Historiography» (Brill), который выходит уже семнадцатый год.
Гэри Хэмбург
Россия: Путь к Просвещению
Вера, политика и разум, 1500–1801
Том 2
Посвящается Нэнси, Рейчел и Майклу, а также памяти моих родителей
Часть III
Устремленность к свету
1762–1801
Глава 8
Екатерина II и Просвещение
В России конца XVIII века никто так не способствовал распространению философских идей, как императрица Екатерина II. Сама она не была оригинальным и последовательным мыслителем, но с первых лет своего правления стала неутомимым популяризатором умеренных политических идей, заимствованных у барона Монтескьё, Чезаре Беккариа, Дени Дидро, Франсуа Кенэ, а также у немецких юристов, – Якоба фон Бильфельда и Иоганна фон Юсти – работавших в реформаторской политической парадигме. Конечно, у Екатерины были веские политические причины для поощрения философов: она была убеждена, что их советы могут оказаться полезными в отношениях с Европой, а также предчувствовала, что их моральный авторитет среди образованной публики может оказаться полезным. Но не стоит недооценивать и ее искренний энтузиазм в восприятии их идей. Вскоре после приезда в Россию в 1744 году она прочитала «Размышления о причинах величия и падения римлян» Монтескьё (1734) и, вероятно, в 1754 году – его же «О духе законов» (1748) и «Эссе о всеобщей истории» Вольтера (1754). По воспоминаниям Екатерины, начав читать Вольтера, она стала искать книги «с бо?льшим разбором», чем прежде; чтение Монтескьё вместе с «Анналами» Тацита произвело «необыкновенный переворот» в ее представлениях о политике [Екатерина II 1907a: 62, 255, 366; Cruise, Hoogenboom 2005: 21–22, 48, 138]. В начале царствования, когда ее трон был еще шаток, она начала свою знаменитую переписку с Вольтером. Однако потребностью Екатерины в одобрении Вольтера можно объяснить лишь начало этой переписки, но не ее длительность: она продолжалась до 1778 года, еще долго после того, как политическое положение императрицы упрочилось[1 - Эта переписка с прекрасным предисловием издана в [Stroev 2006].].
Изабель де Мадарьяга задалась вопросом, что известно историкам о политических взглядах Екатерины до ее восшествия на престол [Madariaga 1998b: 238–240]. В начале 1762 года, читая сочинение д’Аламбера о шведской королеве Кристине (годы жизни: 1626–1689, годы правления: 1633–1654), Екатерина с одобрением отметила стремление Кристины к тому, чтобы монархи несли свое служение в соответствии с законом. В том же году будущая императрица записала высказывание д’Аламбера о том, что «с точки зрения гражданина, политическая свобода состоит в гарантии, что он защищен законами, или, по крайней мере, в вере в эту гарантию». Рабство в среде свободных народов Екатерина считала «противоречием христианскому закону и справедливости»; она также выражала желание постепенно освободить русских крепостных [Madariaga 1998b: 238; Екатерина II 1901–1907, 12: 607–612]. Наибольшее влияние на мышление Екатерины до захвата ею власти оказал Монтескьё. Когда Ф. Г. Штрубе де Пирмонт опубликовал свои «Русские письма» (1760), в которых утверждал, что между деспотизмом, как его определяет Монтескьё, и монархией при плохом правителе нет особой разницы, Екатерина раскритиковала его за непонимание глубины анализа деспотизма у Монтескьё. По ее мнению, Россия действительно была деспотией, как и говорил Монтескьё. Действительно, Российская империя не могла управляться иначе, как посредством сильной централизованной власти, «потому что лишь с ее помощью возможно с необходимой быстротой устранить трудности, возникающие в отдаленных провинциях, ибо другие формы правления, будучи недейственны, препятствуют предприятиям, от которых зависит жизнь государства» [Madariaga 1998b: 239][2 - Оригинал, к которому обращалась Екатерина, см. факсимиле в [Strube de Piermont 1978].]. Таким образом, по мнению де Мадарьяга, политическое мышление Екатерины до прихода к власти было непоследовательным: будущая императрица одобряла правовое государство, но в то же время поддерживала идею унитарной централизованной власти; она считала, что российские дворяне не имеют никаких прав по сравнению с их западными коллегами; сетовала на крепостное право и надеялась на его постепенную отмену [Madariaga 1998b: 240].
Широкую известность в Европе Екатерине как политическому мыслителю принесло ее сочинение «Наказ Комиссии о составлении проекта новаго уложения» (1767), также именуемое «Большой наказ» или просто «Наказ». Как отмечает де Мадарьяга, «Наказ» иногда ошибочно понимают как «серию законов» для России или даже как ее «конституцию» [Madariaga 1998b: 235]. На самом деле «Наказ» был одновременно достаточно простым изложением законодательных принципов, на основании которых предполагалось составить новый свод законов, иллюстрацией политического применения философии просвещения и пропагандой, в которой российская монархиня представала просвещенной, прогрессивной европейской правительницей. «Наказ» состоял из 20 глав, разбитых на 526 статей, и двух приложений, содержащих еще 129. По замечанию Н. Д. Чечулина, редактора издания «Наказа», подготовленного Академией наук, бо?льшая часть текста была заимствована, часто дословно, из новейших работ по политической философии. Например, Чечулин обнаружил, что из 526 статей «Наказа» 284 были заимствованы из «Духа законов» Монтескьё. Многие заимствования были дословными, другие претерпели незначительные редакторские правки (например, замена слов «государь» на «князь» или «свобода» на «право гражданина»). Еще 108 статей были заимствованы из работы Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764), несколько статей – из «Наставлений политических» (1760) Я. Ф. фон Бильфельда, «Основания силы и благосостояния Царств» И. Г. Г. Юсти (1760–1761), «Энциклопедии» (1751–1765) Д. Дидро, «Естественного права» (1765) Ф. Кенэ. Всего, по подсчетам Чечулина, из других источников были заимствованы не менее 469 статей «Наказа» [Чечулин 1907: CXXIX–CXLIV]. По сдержанному выражению Чечулина, «значение “Наказа” как самостоятельного произведения, таким образом, надо признать не весьма высоким» [Чечулин 1907: CXLV].
Тем не менее в защиту Екатерины следует сказать, что расположение заимствованного материала было достаточно логичным. От общей картины состояния России и ее потребности в хороших законах «Наказ» переходит к обсуждению преступлений, наказаний, судебной системы, торговли, образования, российского общественного устройства, процесса составления новых законов. Екатерина вполне логично соединяла заимствованные фрагменты и свои собственные взгляды (которые составляли примерно четверть статей «Наказа»). Правда, местами она допускала повторения в заимствованиях, иногда игнорировала противоречия между ними. Пожалуй, наиболее серьезное противоречие Екатерина допустила по вопросу о смертной казни: статья 79, заимствованная из Монтескьё, оправдывает смертную казнь в отношении убийц, тогда как в статьях 209–212, взятых у Беккариа, утверждается, что «в обыкновенном состоянии общества» смертная казнь недопустима [Чечулин 1907: CXLV].
Опубликованная редакция «Наказа» была, по сути, вторым черновиком первоначального проекта Екатерины. Поскольку Екатерина была не только интеллектуалом, но и искусным политиком, ее реакция на критику различных кругов общества может помочь нам лучше понять, в каком духе она составляла «Наказ», редактировала его и затем представила на суд общественности.
Как отмечает Ю. В. Стенник, первоначальный вариант «Наказа» Екатерина написала на французском языке, а затем показывала различные главы первоначального черновика своим помощникам. Например, она попросила своего кабинет-секретаря Г. В. Козицкого прочитать и переформулировать ее идеи по проблемам крестьянства и крепостного права [Стенник 2006: 125–143]. Первый вариант целиком она давала читать по крайней мере шести лицам: своему канцлеру графу М. И. Воронцову, генералу А. И. Бибикову, вице-президенту одной из своих канцелярий В. Г. Баскакову, епископу Тверскому Гавриилу (Петрову), иеромонаху Платону (Левшину) и писателю А. П. Сумарокову. Мы не знаем, почему именно эти люди были выбраны ею в качестве первоначальной аудитории «Наказа», но можно предположить, что она хотела узнать мнение представителей политически активного дворянства (Воронцов), армии (Бибиков), имперской бюрократии (Баскаков), «просвещенных» церковных деятелей (епископ Гавриил и иеромонах Платон) и образованной публики (Сумароков).
Первый из сохранившихся откликов императрице был лестным: 23 сентября 1765 года Воронцов благодарил Екатерину за то, что она, «яко истинная матерь, о детях своих пекущаяся», соизволяет «распространять… свои дарования в установлении прочных законов на будущия времена, к благополучию общенародному… постановляя… утверждение самодержавной вашей власти в свободе и преимуществе российскаго дворянства и вообще каждаго безопасность правосудия и милосердия твоего» [СИРИО 1867–1916, 10: 76]. Баскаков в мае 1766 года похвалил императрицу, засвидетельствовав, что, читая «Наказ», «приходил многократно в радостное восхищение», но затем предостерег ее, написав, что она, возможно, зашла слишком далеко в своем стремлении безоговорочно запретить пытки. Баскаков посоветовал ей статью об отмене пыток дополнить словами «кроме необходимых случаев» – эта оговорка оказалась весьма кстати во время Пугачевского бунта 1773–1774 годов [СИРИО 1867–1916, 10: 76, 79]. Воронцов и Баскаков, каждый в своем роде, были типичными успешными сановниками, доставшимися Екатерине в наследство от предыдущих царствований: Воронцов был богатым помещиком, который хотел быть уверенным, что Екатерина ничем не ущемит «вольности» дворянства, а Баскаков – опытным функционером, заботившимся о сохранении «гибкости» правительства в борьбе с угрозами снизу.
Генерал Бибиков в своем ответе проявил бо?льшую независимость мышления, чем два предыдущих рецензента. Он отметил, что в «Наказе» не проводится четкого разграничения между государственным и гражданским законом, что Екатерина не совсем точно определила разницу между государственными и моральными преступлениями, а также неточно описала роль Сената в законотворчестве [СИРИО 1867–1916, 10: 76–77]. Эти недостатки «Наказа» были очевидны не только с теоретической, но и с практической точки зрения: действительно, как мы увидим ниже при обсуждении предложений Никиты Панина и Гавриила Державина по реформированию процесса принятия решений в империи, вопрос о статусе Сената был спорным моментом в российской высшей политике на протяжении всего царствования Екатерины и после него.
Наиболее критические оценки из числа избранных Екатериной читателей исходили от Сумарокова. Благодаря своим успехам как поэта и драматурга, а также недавнему пребыванию на посту директора «Русского для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге (1756–1761) Сумароков в 1766 году был, пожалуй, самым известным русским писателем. Несмотря на то что он был откровенным монархистом, во многих его пьесах осуждалась тирания как нарушение нравственного порядка. Поэтому Екатерина, вероятно, направила Сумарокову «Наказ» не только для того, чтобы проверить реакцию литературного мира на свои политические идеи, но и для того, чтобы заручиться его личной поддержкой своей теории разумного законодательства.
Согласно Стеннику, Сумароков без замечаний согласился с идеей императрицы о том, что государь России должен быть самодержцем, «ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно со пространством столь великого государства», но отверг ее мысль, что самодержавное правительство может управлять в духе «умеренности». По выражению Сумарокова, «умеренности правосудие не терпит, а требует надлежащей меры, а не строгости и не кротости» [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. По его мнению, главной внутренней обязанностью государства должно быть наказание преступников, ибо только неумолимое правосудие предотвращает будущие преступления. К политической теории Екатерины Сумароков отнесся как к собранию милых, наивных отвлеченностей, которые неприменимы в России [Стенник 2006: 141–142.] Он порицал ее за предложение предоставить депутатам Уложенной комиссии пожизненный иммунитет от смертной казни, пыток и телесных наказаний: по его мнению, предоставление иммунитета одним только депутатам, а не всей стране было бы ошибкой, «ибо правосудию изъятия нет». Он также высказался против плана Екатерины разрешить депутатам выносить рекомендации большинством голосов; он хотел, чтобы делегаты направляли свои мнения на рассмотрение императрицы [СИРИО 1867–1916, 10: 83]. В этом мнении выразилось неприятие Сумароковым правительства парламентского типа [Стенник 2006: 131].
Теории Екатерины о восьми видах права (божественное, церковное, естественное, народное, общественное, военное, гражданское, семейное), которую она почерпнула из чтения Монтескьё, Сумароков противопоставил свою теорию о трех видах права (право религии, право естества, воля монарха). Нравственный закон, который человек может познать из Священного Писания и церковного учения, он рассматривал как исток естественного права, на котором, в свою очередь, основано позитивное право. Естественное право он определял следующим образом: «1. Познавати Бога и добродетель. 2. Искати своего блаженства без ущерба ближнему. 3. Искати блаженства ближняго, без ущерба себе». Таким образом, естественное право, по его мнению, представляло собой совокупность этических постулатов, основанных прежде всего на религиозных максимах, но также рационально выводимых из нашего взаимодействия с обществом. Сумароков отверг надежды Екатерины на то, что существующие школы могут привить русским людям большее уважение к закону, написав, что «вместо наших училищей… потребны великие и всею Европою почитаемые авторы, а особливо несравненный Монтескиу» [СИРИО 1867–1916, 10: 83]. По его интерпретации, Монтескьё предпочитает подзаконную вольность неволе. Сумароков, однако, едко замечает, что «невольник никогда не может быть верен… Но своевольство еще и неволи вреднее» [СИРИО 18671916, 10: 83–84]. Здесь Сумароков выражает беспокойство по поводу опасности рабской психологии, уходящей корнями в российское крепостное право: он считал, что при существующих социальных условиях только дворяне могли быть вольными по закону; предоставление свободы крепостным приведет к катастрофе. Убеждения Екатерины в том, что позитивное право должно учитывать народные обычаи и что человек по природе своей склонен к свободе, казались Сумарокову ошибочными. Он не считал, что в такой стране, как Россия, закон должен выводиться из народных обычаев. Напротив, мудрые законодатели, понимающие и отстаивающие нравственную истину, должны навязывать законы невежественному народу [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. Сумароков гораздо ниже, чем Екатерина, оценивал культурный уровень простого народа в России, а потому и возможности конструктивного законодательства в 1766 году он считал гораздо более узкими.
Сумароков был резко не согласен с намеками Екатерины на освобождение крепостных, высказанными в первоначальном проекте «Наказа». Екатерина утверждала, что разумное законодательство должно быть таким, «чтоб не приводить людей в неволю, разве крайняя необходимость к учинению того привлечет», поскольку следует «по силе нашей о благополучии всех людей пещися». Следуя Г. В. Козицкому, Екатерина приводит в пример жестокое обращение с илотами в Спарте, а также с рабами в Древнем Риме в качестве доказательства необходимости законодательного ограничения власти господ над рабами. Императрица безоговорочно одобряет наказание жестоких рабовладельцев в древних Афинах. Кроме того, императрица заявила, что каждый человек имеет право на пищу и одежду и что, исходя из гуманных соображений, закон должен их гарантировать. Она утверждала, что хорошее правительство должно обеспечить крепостным возможность приобретения собственности: «Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества и привесть их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу» [Стенник 2006: 136–140]. Сумароков, со своей стороны, утверждал, что хороший хозяин должен относиться к крепостным справедливо, ибо «иное быть господином, а иное тираном». Однако он не считал целесообразным законодательно обеспечивать справедливое отношение к крепостным по всей России, но полагал, что правительство должно положиться на нравственное чувство господ. При этом он подразумевал, что альтернативой доверию господам может быть только доверие крепостным, а доверять низшим сословиям он считал неразумным. Кроме того, по мнению Сумарокова, государство не должно входить в детали по поводу того, как именно хозяева должны кормить и одевать своих крепостных. «Служащие должны иметь пищу и одежду, – писал он. – Все имеют, а предписать господам, какую пищу и какую одежду нельзя» [СИРИО 1867–1916, 10: 85]. Наконец, Сумароков утверждал:
…сделать русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах. Вотчины превратятся в опаснейшия им жилища; ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них [СИРИО 1867–1916, 10: 85–86].
Сумароков считал, что в принципе отмена крепостного права возможна, но для этого между господами и крепостными должно сначала установиться дружелюбие. «А это примечено [при мирном освобождении], что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет». Сумароков предсказал, что даже при отсутствии социальной вражды между бывшими господами и бывшими крепостными отмена крепостного права приведет к огрублению сельской жизни. «И только будут к опустошению деревень холопьи наборы, а как скоро чему нибудь его научит, так он и отойдет к знатному господину, ибо там ему больше жалованья; а дворяне учат людей своих: брить, волосы убирать, кушанье варить и пр. И так всяк будет тратить деньги на других, выучивая» [СИРИО 1867–1916, 10: 86].
В заключение Сумароков заявил Екатерине, что ее «Наказ» написан «высокопарно», а оттого «темно, глупо и безполезно». Он заметил, что законы должны быть простыми и ясными, по примеру Уложения Алексея Михайловича, в котором нет «чужих слов» и потому оно хорошо и вразумительно [СИРИО 1867–1916, 10: 87].
Реакция Екатерины на эти оценки первого проекта «Наказа» многое говорит о ее политических взглядах. Письма Воронцова и Бибикова она приняла без комментариев – возможно, потому, что была согласна с Воронцовым и не была уверена в том, как ответить Бибикову. На письме Баскакова она отметила: «Все его примечания умны» [СИРИО 1867–1916, 10: 82]. По поводу его совета разрешить пытки в крайних случаях она заметила: «О сем слышать не можно, и казус не казус, где человечество страждет» [СИРИО 1867–1916, 10: 79]. По поводу письма Сумарокова императрица выразила неудовольствие. Она обвинила его в том, что, размышляя о природе законов, он цитирует Монтескьё, «не разумея его» [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. Усомнившись в том, что большинство русских дворян способны справедливо и без злоупотреблений обращаться с крепостными, она высмеяла мысль Сумарокова о том, что простой народ недостаточно цивилизован для разумного поведения. Она написала: «Бог знает, разве по чинам качества читать» [СИРИО 1867–1916, 10: 85]. Она с пониманием отнеслась к опасениям Сумарокова, что освобожденные крестьяне могут угрожать жизни бывших господ, но с сарказмом заметила, что и сейчас господа «бывают зарезаны отчасти от своих». На замечание Сумарокова об отсутствии у крепостного «благородных чувствий» она ответила: «и иметь не может в нынешнем состоянии» [СИРИО 1867–1916, 10: 86]. Наконец, в ответ на критику Сумарокова в отношении ее стиля она писала:
Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает. Чтобы быть хорошим законодавцем, он связи довольной в мыслях не имеет… Две возможности в сем деле есть: возможность в разсуждении законодавца и возможность в разсуждении подданных, или лучше сказать тех, для которых законы делаются. Часто прямая истина в разсуждении сих возможностей должна употребляема быть так, чтоб она сама себе вреда не нанесла, и более от добра отвращения, нежели привлечения не сделала [СИРИО 1867–1916, 10: 87].
Таким образом, в ходе первого чтения проекта «Наказа» Екатерина проявила себя как сторонница взглядов Монтескьё на ограниченную монархию; любительница «высокопарных» фраз, призванных воодушевить подданных к принятию нового правового кодекса; сторонница директивного подхода к изменению общества сверху. При этом чистую правду о своем проекте она готова была говорить только в том случае, если эта правда окажется полезной. На этом этапе своего царствования, еще до публикации «Наказа», она была принципиальной сторонницей просвещенного правления, но одновременно и высокомерным циником. Неудивительно, что в ответ на критику она внесла в «Наказ» лишь незначительные изменения, в основном смягчив предписывающие формулировки или добавив уточняющие пункты.
Обратимся теперь к опубликованной на русском языке редакции «Наказа»[3 - Де Мадарьяга утверждает, что французский оригинал более значим для интерпретации интеллектуального замысла Екатерины: «Именно французский текст “Наказа” наиболее близок к мысли самой Екатерины. Она заимствовала у авторов, писавших на французском языке, и сама написала “Наказ” на французском. Впоследствии он была переведен для нее на русский язык». См. [Madariaga 1998b: 243]. Возможно, это замечание справедливо, но для внутренних целей главным ориентиром была русскоязычная версия «Наказа». Большинство депутатов Законодательной комиссии читали документ на русском языке, чиновники в правительственных учреждениях также ссылались на русскую версию.].
«Наказ» начинается молитвой: «Господи Боже мой вонми ми, и вразуми мя, да сотворю суд людям Твоим по закону святому Твоему судити в правду». Первая статья гласила: «Закон христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно». Обращение к Богу и отсылка к православию были рассчитаны на православных подданных Екатерины, поскольку в связи с проводимой ею в то время секуляризацией монастырских земель церковные иерархи могли усомниться в ее авторитете. В то же время уже в начале «Наказа» божественный закон был представлен как высший закон в государстве, хотя и не назван таковым прямо. Этот ловкий прием был достоин такого искусного политика, каким была Екатерина [Екатерина II 1907б: 1][4 - Здесь я цитирую русский текст. Французский «перевод» имеет другой оттенок. Во французской версии молитвы светское и религиозное право имеют одинаковое основание, а упоминание о законе в первой статье выпущено!].
В первых двух главах «Наказа» – статьях 6–16 – Россия характеризовалась как «Европейская держава», владения которой простираются на 32 градуса широты и 165 градусов долготы. Утверждалось, что, учитывая такую огромную территорию, Россия должна управляться посредством самодержавия, «ибо никакая другая, как только соединенная в его [государя] особе власть не может действовати сходно со пространством толь великаго государства… Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно» [Екатерина II 1907б: 3]. Здесь Екатерина отходила от Монтескьё, который объяснял преобладание в России деспотии именно ее огромной территорией. Уклонившись от хода мысли Монтескьё, Екатерина «нормализовала» Россию и намекнула на разницу между Петром I (по Монтескьё, классическим деспотом) и собой (по ее самоопределению, «просвещенной самодержицей»).
В статьях 13–16 ставился вопрос о цели самодержавного правления и определялись границы свободы. Екатерина дала два ответа на вопрос о цели самодержавия. Первая цель – «чтобы действия их [людей] направити к получению самаго большого ото всех добра». Вторая – «слава граждан, государства и Государя». Если сопоставить эти два ответа – первый из статьи 13, второй из статьи 15, – то получится уравнение: коллективные интересы российских подданных заключаются в достижении славы граждан, государства и государя. Это уравнение подразумевает прямую связь между материальными интересами и эмоциональным благополучием, между процветанием и национальной гордостью, но его можно прочесть и как исключение из «коллективных интересов российских подданных» всех составляющих, кроме «славы».
По вопросу о свободе Екатерина выразилась неоднозначно. Она заявила, что монархическое правление предназначено не для того, «чтоб отнять естественную их [людей] вольность, но чтобы действия их направити к получению самаго большого ото всех добра». В статье 14 она подразумевает, что естественная свобода совпадает с «намерениями в разумных тварях предполагаемыми» и соответствует цели создания гражданского общества. При этом она нигде не дает определения естественной свободы – и это умолчание является вопиющим, поскольку делает невозможным обвинение в том, что самодержавие нарушает естественную свободу. Вместо этого она указала на совместимость естественной свободы и правительства, действующего в интересах подданных [Екатерина II 1907б: 4].
В статьях 36–39 Екатерина дала определение понятию «общественная свобода». Согласно статье 36, свобода заключается не в том, чтобы делать все, что заблагорассудится. Согласно статьям 37 и 38, в обществе, где есть законы, «вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принуждену делать то, чего хотеть не должно». И снова: «Вольность есть право, все то делать, что законы дозволяют; и если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности не было, ибо и другие имели бы равным образом сию власть». В статье 39 свобода приравнивается к безопасности: «Государственная вольность в гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностию; и чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другаго, а боялись бы все одних законов» [Екатерина II 1907б: 8–9].
Таким образом, концепция Екатерины о свободе в обществе сводилась к декларации того, что свобода заключается в послушании совести (возможности делать то, что должно) в рамках позитивного права (права делать все, что позволяют законы). Она считала, что все должны подчиняться законам в равной степени («и если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности не было»), но не утверждала, что все люди должны быть равны в привилегиях. Более того, в условиях общества, где царило крепостное право, она не осмелилась говорить о юридическом равенстве в этом смысле. Ее отождествление свободы с безопасностью означало либо намек о свободе от произвола властей, либо утверждение, что только сильное правительство и сильные законы позволяют гражданам в полной мере наслаждаться свободой. Первые статьи «Наказа» оставляют общее впечатление, что Екатерина придерживается дирижистской концепции свободы, которую Исайя Берлин назвал бы «позитивной свободой», при которой правительство направляет граждан «к получению самаго большого ото всех добра», подданные вольны «делать то, что каждому надлежит хотеть» по совести, во славу «граждан, государства и Государя». Екатерина не перечисляет права отдельных подданных, ограничиваясь упоминанием «права» делать то, что разрешено законами.
Главу 6 (статьи 41–63) Екатерина посвятила «законам вообще». Здесь она усилила ранее высказанные замечания о вольности и попыталась объяснить соотношение между обычаями и государственными законами. Из статей 41 и 42 следовало, что государственные законы не должны запрещать ничего, «кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу». Таким образом, личные поступки, не затрагивающие ни других людей, ни государство, не подпадают под действие законов. Екатерина не охарактеризовала эту сферу «безразличных действий» как относящуюся к частной жизни или составляющую «права» индивидов. Тем не менее ее комментарии, которые в данном случае во многом повторяют Монтескьё, дают общее представление о «негативной свободе» [Екатерина II 1907б: 8–9]. По поводу обычаев Екатерина утверждала, что для управления государством необходимы законы, подлежащие исполнению, поэтому при разработке законов законодатель должен принимать во внимание нравы народа. Однако она не считала обычаи непреодолимым препятствием для законодательных изменений: «И так когда надобно сделать перемену в народе великую к великому онаго добру, надлежит законами то исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями» [Екатерина II 1907б: 8–9]. Главное для законодателя – «умы людские… приуготовить» к введению новых законов. Позиция Екатерины, согласно которой реформы требовали тщательной подготовки, содержала в себе косвенную критику Петра I, чьи реформы проводились поспешно, без подготовки к ним людей. Екатерина, напротив, хотела предстать правительницей, действующей в мудром и умеренном духе Монтескьё, – ведь ее «Наказ» предназначался именно для того, чтобы подготовить умы россиян к принятию нового свода законов. Однако трудно сказать, насколько серьезно Екатерина относилась к известному изречению Монтескьё о том, что к законам можно «прикасаться только дрожащими руками». Рука Екатерины не дрогнула.
Сразу после обсуждения необходимости реформ в «Наказе» был поднят вопрос о наказаниях за нарушение законов. По мнению императрицы, при проведении реформ можно было ожидать сопротивления снизу в виде нарушения новых законов. Это сопротивление, которое таковым нигде не названо, она надеялась сдержать законодательно установленными наказаниями. В статьях 61–96 рассматривалась идеальная система наказаний. Основное положение «Наказа» заключалось в том, что наказание не должно произвольно назначаться ни государем, ни судом, а должно «происходить… от самой вещи», то есть из характера данного преступления. Любое наказание, назначенное не по необходимости, по определению является «тиранским» [Екатерина II 1907б: 14].
Согласно «Наказу», существует четыре вида преступлений: преступления против веры; преступления против нравов; преступления против общественного спокойствия; преступления против безопасности личности. Дела по преступлениям против веры (например, богохульство), как считала Екатерина, должны решаться церковью путем отлучения или изгнания преступников из храмов. Здесь она вслед за Монтескьё пыталась разделить церковь и государство. В статье 74, посвященной религиозным преступлениям, императрица прибегает к ухищрениям, не упоминая ни многоконфессиональный характер Российской империи, ни принцип веротерпимости [Екатерина II 1907б: 14]. За преступления против нравов Екатерина назначает наказания преимущественно морального характера: всенародное бесчестие, стыд, изгнание из города и общества. Единственным материальным наказанием здесь были денежные штрафы, но осталось неясным, должны ли эти штрафы налагаться частными обществами или государством. По общему правилу, «преступления» против нравов должны были рассматриваться как незначительные нарушения обычаев, не имеющих юридической силы [Екатерина II 1907б: 16].
Преступления против общественного спокойствия, однако, подпадали под несомненную юрисдикцию государства. Наказания за такие преступления – «ссылка, исправления и другия наказания, которыя безпокойных людей возвращают на путь правый, и приводят паки в порядок установленный» [Екатерина II 1907б: 17]. Екатерина полагала, что преступления против безопасности личности являются серьезными, поскольку они посягают на саму основу социального порядка, то есть наносят ущерб тем людям, которым государство призвано обеспечить «самое большое добро». По мнению Екатерины, наказание за подобное преступление должно быть зеркальным по отношению к самому преступлению. Если один человек нарушил покой другого, тогда преступника следует самого лишить покоя, то есть посадить его в тюрьму. Если один человек крадет у другого, то его следует лишить имущества. В целом, по мнению Екатерины, преступление против собственности не заслуживает смертной казни, а требует наказания «из свойства вещи», то есть конфискации имущества злоумышленника либо телесного наказания, если у преступника не было собственности [Екатерина II 1907б: 17–18]. Екатерина колебалась по поводу логического следствия из ее теории зеркального наказания: если злоумышленник убивает монаршего подданного, он тем самым сам лишается права на жизнь.
В хорошо устроенном государстве, как говорилось в «Наказе», законы должны быть направлены скорее на исправление пороков, чем на наказание преступников, но когда наказание злоумышленников становится неизбежным, законом следует предписывать скорее мягкие наказания, чем суровые. «Последуим природе давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет безчестие в претерпении наказания заключающееся» [Екатерина II 1907б: 20]. Статья 87 гласила: «Не надобно вести людей путями самыми крайними; надлежит с бережливостию употреблять средства естеством нам подаваемыя для препровождения оных к намереваемому концу» [Екатерина II 1907б: 20]. Согласно статье 96, эта аксиома исключает применение пыток: «Все наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, до?лжно отменить» [Екатерина II 1907б: 23]. Призыв к запрету пыток подкреплен статьей 123, в которой указано, что «употребление пытки противно здравому человеческому разсуждению». Екатерина пишет, что «само человечество вопиет против оныя, и требует, чтоб она была вовсе уничтожена» [Екатерина II 1907б: 30, 56–61][5 - Статьи 56–61 опираются на работы Беккариа.]. «Наказ» разрешал законодателю предусмотреть тюремное заключение для граждан, подозреваемых в пособничестве иноземным врагам, но только в случае выявления тайного заговора, опасного для государства или государя, и только при условии, что заключение носит временный характер [Екатерина II 1907б: 33].
Поскольку «Наказом» предусматривалось существенное сокращение полномочий судов по применению телесных пыток и других жестоких наказаний к подданным империи, намерения Екатерины выглядят гуманными и просвещенными, особенно по тогдашним российским меркам. Обсуждение наказаний в «Наказе» может служить одним из примеров программы Екатерины по «приуготовлению умов» к фундаментальному изменению уставного законодательства, а возможно, и к трансформации народных нравов. Безусловно, она заслужила похвалу за прекрасные чувства, и все же историк не может не заметить, что менее чем через десять лет, при подавлении Пугачевского восстания, она и ее приближенные без колебаний применяли к бунтовщикам самые страшные меры, включая телесные увечья. Императрица, которая в 1767 году надменно предстала перед Европой сияющим «маяком», в 1773–1774 году погрузилась в нравственное помрачение.
Глава 11 (статьи 250–263) посвящена обоснованию необходимости социальной иерархии и поднимает проблему крепостного права. Екатерина оправдывает социальную иерархию, отмечая: «Гражданское общество, как и всякая вещь, требует известнаго порядка. Надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим, которые повинуются» [Екатерина II 1907б: 74]. Однако, в соответствии с естественным правом, правителю подобает «состояние сих подвластных облегчать, сколько здравое разсуждение дозволяет». Следует «избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю», и следить за тем, чтобы «законы гражданские с одной стороны злоупотребление рабства отвращали, а с другой стороны предостерегали бы опасности могущия оттуда произойти». Екатерина упоминает закон Петра I от 1722 года о наложении опеки на жестоких владельцев крепостных и задается вопросом, почему этот закон остается без исполнения [Екатерина II 1907б: 74–75]. В статье 260 она предупреждает: «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго числа освобожденных». Также она выражает опасения по поводу восстания крепостных: «При чем однако же весьма нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против господ своих» [Екатерина II 1907б: 76]. Эти статьи «Наказа» положили начало длительному обсуждению вопроса о крепостном праве в Уложенной комиссии и привели к появлению в периодической печати многочисленных статей о жестоком обращении с крепостными, причем практически все авторы согласились с обоснованием социальной иерархии, предложенным императрицей.
В главах 15 (статьи 358–375) и 16 (статьи 376–383) раскрывается отношение Екатерины к дворянству и городскому купечеству. Учитывая значение дворянства в политической теории Монтескьё, на первый взгляд удивительно, как мало внимания Екатерина уделила этой группе. Однако ее относительное невнимание вполне объяснимо с учетом ее представления о самодержавном правлении, при котором вся власть принадлежит государю [Екатерина II 1907б: 105–110]. Хотя купечеству как таковому Екатерина посвятила всего восемь статей, в главах 12 (статьи 264292) и 13 (статьи 293–346) она подчеркнула значение торговли для процветающего, упорядоченного государства. Важнейшими факторами развития России она сочла процветающее сельское хозяйство (а значит, и здоровье крестьянства) и размах торговой деятельности (а значит, и предприимчивое купечество).
Учитывая репутацию Екатерины как последовательницы философов, она уделила довольно мало внимания вопросам образования. Этой теме посвящена лишь короткая глава 14 (статьи 347–355). Екатерина сразу признала, что «невозможно дать общаго воспитания многочисленному народу, и вскормить всех детей в нарочно для того учрежденных домах» [Екатерина II 1907б: 103]. Воспитание она предлагала возложить в основном на семью и ограничить его простыми нравственными правилами. В «Наказе» говорилось: «Всякий обязан учить детей своих страха Божия как начала всякаго целомудрия, и вселять в них все те должности, которых Бог от нас требует в десятословии своем, и православная наша восточная греческая вера во правилах и прочих своих преданиях». Помимо преподания детям этих общих наставлений, главы семейств должны были «вперяти в них любовь к отечеству, и повадить их иметь почтение к установленным гражданским законам, и почитать правительства своего отечества» [Екатерина II 1907б: 103–104].
Если не читать «Наказ» далее, можно было бы подумать, что императрица забыла о многоконфессиональном населении России, но в главе 20 она внезапно обращается к этому факту общественной жизни. В статье 494 Россия описывается как обширная империя, где живут разнообразные народы, и поэтому «весьма бы вредный для спокойствия и безопасности своих граждан был порок, запрещение или недозволение их различных вер». «Наказ» предостерегал от религиозных преследований, которые только раздражают верующих, тогда как «…дозволение верить по своему закону умягчает и самыя жестоковыйныя сердца, и отводит их от заматерелаго упорства, утушая споры их противные тишине Государства и соединению граждан» [Екатерина II 1907б: 134]. Однако, как можно было догадаться, Екатерина не ставила своей целью бесконечное существование этого религиозного многообразия. Она заявила: «И нет подлинно инаго средства кроме разумнаго иных законов дозволения, православною нашею верою и политикою неотвергаемаго, которым бы можно всех сих заблуждших овец паки привести к истинному верных стаду» [Екатерина II 1907б: 134]. Екатерина не пытается примирить свою систему воспитания, основанную на Десяти заповедях и православии, с наличием в России бесчисленного количества семей, которые не были ни православными, ни даже христианами.
В конце «Наказа» звучит нотка императорской скромности. Невзирая на уверения льстецов, что народы созданы для своих государей, Екатерина заявляет:
Однако ж МЫ думаем и за славу Себе вменяем сказать, что МЫ сотворены для НАШЕГО народа… Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив, и следовательно больше процветающ на земли: намерение законов НАШИХ было бы не исполнено: несчастие, до котораго Я дожить не желаю [Екатерина II 1907б: 141].
Хотя «Наказ», безусловно, не был оригинальным произведением политической философии, сама его зависимость от Монтескьё и Беккариа помещала его в разряд политических произведений, принадлежащих к умеренному направлению Просвещения. К этому направлению относились и защита Екатериной монархии, и обоснование социальной иерархии, и поддержка торговли, а также ее противостояние религиозной нетерпимости. Неудивительно, что Вольтер, прочитав «Наказ», воскликнул: «Ликург и Солон, верно, утвердили бы Ваше сочинение своеручным подписанием, но, может быть, сами не в состоянии были бы написать подобного. Ясность, определенность, справедливость, твердость и человечность суть качества оного» [Stroev 2006: 76, 78]. Взгляды Екатерины на свободу, однако, составляли набор двусмысленностей. Склонность к пониманию свободы как возможности делать то, что до?лжно, по принуждению государства и в рамках законов характеризовала ее как дирижиста в ряду властных европейских монархов, преобладавших в XVIII веке. Однако она допускала свободу действий в вопросах, не относящихся к закону, и тем самым – существование ограниченной частной сферы. Она также была готова мириться с существованием неправославных религиозных общин, по крайней мере временно, и исключить, хотя бы в принципе, применение пыток в качестве инструмента следствия. Это были шаги к мирному религиозному плюрализму и к неприемлемости телесных наказаний, которые были свойственны европейской мысли середины XVIII века.
Представления Екатерины о религии, образовании и крепостном праве были обусловлены российскими обстоятельствами. Как и подобает православной государыне, «Наказ» она начала с молитвы, ссылалась на христианский закон как на руководство и поместила в основу своей программы домашнего воспитания православие. Хотя идея веротерпимости была заимствована ею с Запада, она также коренилась в русской традиции и в российских реалиях. Можно утверждать, что ее попытка примирить православную церковь с многоконфессиональностью иллюстрирует собой противоречия в управлении внутренне разнообразной империей. Ее отношение к крепостному праву также было противоречивым: признание экономических выгод крепостного права уживалось со страхом перед его последствиями; человеколюбивая забота о крепостных соседствовала с желанием установить социальный порядок и иерархию. В сложившихся обстоятельствах Екатерина полагала, что ей не удастся сделать ничего лучшего, кроме как препятствовать распространению крепостного права и выступить против связанных с ним злоупотреблений, если, конечно, Уложенная комиссия не примет решение о его отмене. Отношение Екатерины к решению проблемы крепостного права было вынужденно циничным. Вольтер мог счесть ее позицию «человечной», но эта человечность не простиралась дальше указа Петра I о недопустимости жестокого обращения с крепостными.
Русскоязычная версия «Наказа» вызвала необычайный интерес внутри страны. Как пишет Чечулин, за время правления императрицы «Наказ» переиздавался восемь раз. На заседаниях Уложенной комиссии в начале каждого месяца он прочитывался целиком. В 1767 году его копии были разосланы в разные присутственные места. В 1768 году Сенат предписал, чтобы Наказ в учреждениях прочитывался «по крайней мере по три раза в год» [Чечулин 1907: CXLVI]. Опубликовав переработанную французскую редакцию «Наказа», императрица распорядилась распространить ее за границей. Она также приказала сделать официальные переводы на латинский, немецкий и английский языки. В 1770 году правительство выпустило издание «Наказа» на четырех языках: русском, латинском, французском и немецком, причем русский и латинский тексты были напечатаны параллельными колонками; немецкий и французский тексты также располагались рядом. Таким образом, «Наказу» была гарантирована широкая известность на родине и за рубежом. Вероятно, ни один российский государственный документ XVIII века не привлекал такого внимания.
Наиболее развернутым комментарием к тексту Екатерины стали «Замечания на Наказ Ее Императорского Величества депутатам Комиссии по составлению законов» (1774) французского философа Дени Дидро. В «Замечаниях» Дидро отстаивал принципы суверенитета нации и народа как истинного законодателя, выборности на всенародной основе представителей народа для принятии законов, а также разделения ветвей власти. Поэтому он отвергал как деспотию, так и «чистую монархию» как негодные формы правления [Дидро 1947: 418–419]. Как справедливо отмечает де Мадарьяга, Дидро расходился с Екатериной и Монтескьё в оценке роли географических и исторических обстоятельств в создании законов: если Екатерина и Монтескьё склонны были рассматривать правовые кодексы как зависящие в определенной степени от местных условий, то Дидро считал, что основополагающие законы вытекают из природы человека, а потому универсальны. Он проводил различие между рабами и свободными людьми, которые отлились от рабов лишь «неприкосновенностью некоторых привилегий, принадлежащих человеку как таковому, каждому классу граждан и каждому гражданину как члену общества» [Дидро 1947: 429].
Дидро не доверял самодержавной власти при отсутствии органов, способных противостоять политике монархов; он вообще мало верил в «промежуточные органы» Монтескьё, которые должны были предотвратить превращение монархии в деспотию. Дидро отмечал, что французский парламент оказался не в состоянии противостоять напору монарха, в России же сенат «ничего не значит» [Дидро 1947: 432].
Дидро отстаивал равенство граждан перед законом, а также подчеркивал значение частной собственности. Однако защита прав собственников у него не распространялась на право владеть крепостными. Он считал российское крепостное право разновидностью рабства, которое противоречит естественному закону, и призывал Екатерину отменить крепостное право. Кроме того, как отмечает де Мадарьяга, в своих «Замечаниях» Дидро ниспроверг попытку Екатерины представить себя православной монархиней, которая поощряет как христианское воспитание, так и религиозную терпимость. Христианство, с точки зрения Дидро, «соткано из нелепостей», а духовенство «стремится к укреплению невежества» [Дидро 1947: 421]. Поэтому упование императрицы на Бога и Церковь представлялось ему ошибочным. В целом в «Замечаниях» Дидро занял пессимистическую позицию в отношении проекта Екатерины сделать Россию цивилизованной страной с помощью нового свода законов. Он писал: «Попытка цивилизовать сразу столь огромную страну представляется мне проектом, превышающим человеческие силы» [Дидро 1947: 424].
С одной стороны, его резкая критика «Наказа» указывает на разделительную линию между умеренным подходом к политике, сформулированным Монтескьё, и более радикальным, который провозглашали Дидро, Руссо и прочие: умеренные философы не так пронзительно, как Дидро и Руссо, говорили о естественном праве, о непреложных правах человека и власти народа. Однако, как ни странно, по сравнению со сторонниками радикальных политических взглядов из числа мыслителей Просвещения Монтескьё был более оптимистичен в отношении действенности масштабных политических реформ. Среди последователей Монтескьё Екатерина была, пожалуй, самым рьяным поборником политических изменений сверху. Как ни странно, она была одновременно и политически «умеренной», и утописткой.
Среди русских отзывов на опубликованную редакцию «Наказа» выделяются два: первый принадлежит историку М. М. Щербатову, второй – драматургу А. П. Сумарокову.
В 1774 году в работе, написанной «в стол», Щербатов раскритиковал «Наказ» Екатерины за присвоение полноты суверенной власти в России монарху. Он приписывает императрице желание управлять Россией на деспотический манер, прикрываясь, как «маской», Сенатом, которому придана роль «хранилища законов». Доказывая непригодность Сената к функции «промежуточного органа», ограничивающего власть императрицы, он указал на политическую зависимость Сената, сознательно сконструированную Петром I, и на то, что сенаторы не просвещены и лишены мужества. Щербатов не усмотрел в «Наказе» императрицы реального проекта разделения властей в российском правительстве [Щербатов 2010а: 51–60]. В остальном к идеям Екатерины о правовом государстве он отнесся неоднозначно. Он одобрил предложения Екатерины об отмене пыток подследственных и о мерах по искоренению взяточничества среди судей. Он поддержал право обвиняемых на суд присяжных и создание корпуса общественных адвокатов для защиты дел неимущих. Он высказался против жестоких и чрезвычайных наказаний, увечащих преступников, но отверг план Екатерины по отмене смертной казни [Щербатов 2010а: 71–77; Madariaga 1998b: 233–254].
Между тем Щербатов, по-видимому, одобрил стремление Екатерины сочетать поддержку православной церкви с веротерпимостью. Он согласился с данной Екатериной оценкой христианского нравственного учения как совершенного. По его мнению, «и другие веры дают правила нравственных добродетелей, но один христианский закон научает нас любить врагов наших» [Щербатов 2010а: 51]. Хотя в принципе Щербатов признавал, что нравственные законы должны быть везде одинаковы, он допускал, что законодательные кодексы должны различаться в зависимости от народных обычаев, климатических различий и местных политических условий. Щербатов считал возможным, чтобы российская монархия управляла империей в согласии с православной церковью, но только при условии, что церковь примет просвещенный взгляд на религию. Он весьма скептически относился к способности ислама усвоить просвещенное мировоззрение [Щербатов 2010а: 54]. С другой стороны, он решительно выступил против инквизиторского подхода к христианской религии как к орудию искоренения нравственной порчи. Он отверг проект по инженерии человеческих душ, к которому, как казалось, готова была приступить Екатерина, спросив: «Но уже через 5 лет по издании сего Наказа старались ли истребить пороки и ободрить добродетели? Поправились ли наши нравы?» [Щербатов 2010а: 66–67].
Щербатов согласен с отказом Екатерины от немедленного широкомасштабного освобождения крепостных крестьян, но, подобно ей, не исключает принципиальной возможности освобождения крестьян в перспективе. Однако, в отличие от императрицы, он счел ошибочным предоставление крестьянам права собственности при отсутствии гражданских свобод. Он опасался, что в существующих условиях право собственности крестьян на движимое имущество взрастит в них желание владеть господскими землями, а значит, вызовет дух бунтовщичества против помещиков. Щербатов утверждает, что в настоящее время крестьяне считают себя полноправными владельцами тех участков, которые они обрабатывают на благо своей семьи. Он выступил против того, чтобы разочаровывать крестьян в этом убеждении, поскольку, открыв перед ними отсутствие у них права на эти участки, можно побудить их к восстанию против своего порабощенного состояния. Согласно обвинению, выдвинутому де Мадарьяга, Щербатов считает, что «общественный порядок основан на том, чтобы обмануть крестьянина, заставив его поверить, что земля у него в собственности, хотя это не так». Щербатов в этой убежденности, по мнению де Мадарьяга, «ставит, пусть и подсознательно, личную выгоду выше принципа и государственной безопасности» [Madariaga 1998b: 255–256]. Здесь де Мадарьяга неверно поняла Щербатова, чьи замечания о чувстве собственности крестьян в отношении семейных наделов, возможно, с точностью отражали народные воззрения, хотя и не соответствовали правовой ситуации (то есть тому, что собственность на землю была у господ, в том числе на те участки, которые крестьяне обрабатывали для пропитания своих семей).
Размышления Щербатова 1774 года о «Наказе» Екатерины иллюстрируют осторожность элиты в восприятии ее политических взглядов. Приветствуя замыслы императрицы о правовом государстве, веротерпимости и судебной реформе, он тем не менее сомневался в серьезности заявленных ею намерений.
Реакция Сумарокова на «Наказ» после его издания и на роспуск Екатериной Уложенной комиссии в 1768 году выразилась в двух значимых публикациях: пятиактной трагедии «Димитрий Самозванец» (1771) и «Одах торжественных» (1774).
Готовясь к написанию «Димитрия Самозванца», Сумароков обратился за помощью к двум историкам – Миллеру и Щербатову, которые прислали ему копии русских летописей о Смутном времени, а также мемуары французского наемника Жака Маржере [Margeret 1607]. Возможно, Сумароков видел предварительный экземпляр «Летописи о многих мятежах» Щербатова (1771), которая стала одной из первых аналитических работ о Смутном времени, выполненных профессиональным историком [Щербатов 1771]. В драме Сумарокова о самозванце, одном из величайших памятников русской культуры XVIII века, Димитрий изображен как Григорий Отрепьев, узурпатор российского престола и тиран, который не только хотел заставить русских перейти из православия в католичество, но и планировал прогнать законную жену, чтобы жениться на дочери Бориса Годунова Ксении. Своим обличением тирании и мотивом злоупотребления невинной любовью «Димитрий Самозванец» напоминает ранние трагедии Сумарокова «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1751). Однако утверждение о том, что Димитрий – узурпатор, причастный иностранной культуре, намекает на статус Екатерины как узурпатора и пришелицы со стороны.
Уже в первом диалоге «Димитрия Самозванца» Пармен, наперсник Димитрия, говорит самозванцу:
Ты много варварства и зверства сотворил,
Ты мучишь подданных, Россию разорил,
Тирански плаваешь во действиях бесчинных,
Ссылаешь и казнишь людей ни в чем не винных,
Против отечества неутолим твой жар,
Прекрасный стал сей град темницею бояр
[Сумароков 1990: 248].
Пармен сетует на то, что Димитрий решил привнести на Русь римско-католическое, польское влияние. Защищаясь от этих обвинений, Димитрий отстаивает абсолютные прерогативы царя:
Российский я народ с престола презираю
И власть тиранскую неволей простираю…
Здесь царствуя, я тем себя увеселяю,
Что россам ссылку, казнь и смерть определяю.
…
Перед царем должна быть истина бессловна;
Не истина – царь, – я; закон – монарша власть,
А предписание закона – царска страсть
[Сумароков 1990: 250–251].
Во втором явлении первого действия начальник стражи предупреждает Димитрия, что простой народ смотрит на него с ужасом, считая, что он «…безбожия и наглостей рачитель, / Москвы, России враг и подданных мучитель». Димитрий пренебрегает опасностью народного восстания. Он винит Шуйского в том, что тот подстрекает против него «чернь».
По мнению Сумарокова, одним из следствий бессовестного тиранства Димитрия стала привычка придворных к лицемерию. В четвертом явлении первого действия Шуйский притворяется, что считает Димитрия законным царем: «В соборной церкви нам глава твоя венчанна, – говорит Шуйский. – Тираном был у нас злонравный Годунов, / Ты грозен, праведен, отец твой был таков» [Сумароков 1990: 254]. Однако в шестом явлении первого действия Шуйский наставляет чувствительную Ксению: «Когда имеем мы с тираном сильным дело, / Противоречити ему не можем смело». Шуйский советует: «Обманывай его, притворствуй сколько льзя, / Надежду подавай…» [Сумароков 1990: 257]. В первом явлении второго действия жених Ксении Георгий придерживается той же линии: «Язык мой должен я притворству покорить, / Иное чувствовать, иное говорить / И быти мерзостным лукавцам я подобен. / Вот поступь, если царь неправеден и злобен» [Сумароков 1990: 258]. Во втором явлении второго действия, когда Димитрий требует от Георгия отказаться от любви к Ксении, Георгий отвечает: «Не спорю, государь, безмолвствую» [Сумароков 1990: 260].
Политический замысел этих сцен заключался не в прямом сопоставлении Екатерины с Лжедмитрием. Хоть она и узурпировала престол, совершив при этом жестокие деяния, но Димитрий открыто признал свою тиранию, а Екатерина представляла себя как враг тирании. Драматургическая стратегия Сумарокова была, скорее, профилактической: изображая презрение тирана к русскому народу, отождествление закона и монаршей воли, зависимость тирана от западного влияния, реакцию русских на тиранию (народный гнев, бесчестность придворных), драматург зеркально возвращал Екатерине ее собственную критику власти произвола и одновременно предупреждал, что общество может воспринять ее как тирана. В шестом явлении второго действия Сумароков устами Пармена выражает свой страх перед издержками произвола: «…жестокости всегда на троне те ж, / Приводят город весь во ярость и мятеж» [Сумароков 1990: 264].
В третьем явлении первого действия Пармен усиливает обвинительный пафос пьесы по отношению к тирании, указывая на отсутствие у Димитрия оправдывающих его добродетелей.
Когда владети нет достоинства его,
Во случае таком порода ничего.
Пускай Отрепьев он, но и среди обмана,
Коль он достойный царь, достоин царска сана.
Но пользует ли нам высокий сан един?
Пускай Димитрий сей монарха росска сын,
Да если качества в нем оного не видим,
Так мы монаршу кровь достойно ненавидим,
Не находя в себе к отцу любови чад.
Коль нет от скипетра во обществе отрад,
Когда невинные в отчаянии стонут,
Вдовы и сироты во горьком плаче тонут;
Коль, вместо истины, вокруг престола лесть,
Когда в опасности именье, жизнь и честь,
Коль истину сребром и златом покупают,
Не с просьбой ко суду – с дарами приступают,
Коль добродетели отличной чести нет,
Грабитель и злодей без трепета живет
И человечество во всех делах теснится, —
Монарху слава вся мечтается и снится.
Пустая похвала возникнет и падет, —
Без пользы общества на троне славы нет
[Сумароков 1990: 267–268].
В пятом явлении третьего действия Димитрий показывает, насколько он далек от добродетели:
Блаженство завсегда весьма народу вредно:
Богат быть должен царь, а государство бедно.
Ликуй монарх, и всё под ним подданство стонь!
Всегда способнее к труду нежирный конь,
Смиряемый бичем и частою ездою
И управляемый крепчайшею уздою.
На возражение Георгия: «Способствует трудам усердье и закон» Димитрий отвечает: «Самодержавию к чему потребен он? / Узаконения монарши – царска воля» [Сумароков 1990: 271–272].
По мнению Сумарокова, когда правитель уклоняется от добродетели, его подданные освобождаются от обязанности повиноваться ему и говорить правду. Иными словами, теоретически исповедуя идеал добродетельного гражданина, Сумароков признавал, что при тирании добродетельное поведение может быть контрпродуктивным. В третьем явлении третьего действия Шуйский заявляет: «Кто силе уступать при нужде не умеет, / В развратном мире жить понятья не имеет» [Сумароков 1990: 267].
Эти речи показывают, как сочетались у Сумарокова расчет с политической добродетелью. В глазах подобных ему религиозных россиян не имело значения, как государь восшел на трон, лишь бы он, придя к власти, шел по пути добродетели. По мнению Сумарокова, добродетельный царь должен говорить правду, помогать вдовам и сиротам, защищать имущество от воров, способствовать правосудию. Таким образом, сумароковский «добрый царь» вписывался в классическое православное определение праведного государя. С другой стороны, по Сумарокову, в условиях тирании стремление к добродетели практически бессмысленно, поскольку выживание для граждан важнее, чем хорошее правительство. Сделав эту уступку мировому злу, Сумароков вплотную подошел к отказу от христианских представлений о добродетели в пользу «Мировой скорби» (Weltschmerz).
Это непростое сочетание действительной политики и добродетели в политическом мышлении Сумарокова привело к вопросу о ценности монархии по сравнению с другими формами правления. В пятом явлении третьего действия на эту тему высказывается Георгий:
Самодержавие – России лучша доля.
Мне думается, где самодержавства нет,
Что любочестие, теснимо, там падет;
Вельможи гордостью на подчиненных дуют,
А подчиненные на гордых негодуют.
Не сын отечества – отечества злодей,
На троне ищущий из подданных судей.
Правленья таковы совсем России новы,
Коль нет монарха в ней, власть – тяжкие оковы.
Несчастна та страна, где множество вельмож:
Молчит там истина, владычествует ложь.
Благополучна нам монаршеска держава,
Когда не бременна народу царска слава
[Сумароков 1990: 272].
Если в России нет реальной альтернативы монархии, если подданные должны быть «во всем царю подвластны», как утверждают герои Сумарокова, то это все же не означает, что правитель может игнорировать врожденную свободу человека. Георгий спрашивает Димитрия: «Но Бог свободу дал Своей последней твари, / Так могут ли то взять законно государи?» [Сумароков 1990: 273]. Он напоминает Димитрию, что в некоторых отношениях властители и подданные равны:
Цари и цесари колико ни преславны,
Но в нежности любви и раб и цесарь равны.
Людей боготворит едина только лесть;
Несходны должности – и различная честь,
Определенная достоинству награда…
Во всех нас действует равенственно природа…
[Сумароков 1990: 274].
Здесь герой Сумарокова иными словами выражает взгляд диакона Агапита на правителя как на человека возвышенного и смиренного одновременно. Однако он дополнил Агапита, добавив постулат естественного права о том, что все существа рождаются свободными.
Присущее человеку стремление к свободе, вероятно, объясняет поведение двух главных героев «Сумарокова»: Ксении и ее жениха Георгия. Хотя они и обещали Шуйскому скрывать свое отвращение к тирании Димитрия, но в итоге им этого не удалось. В десятом явлении четвертого действия Ксения решила сохранить верность Георгию и из-за этого принять мученическую смерть от рук Димитрия. Она восклицает: «Чай, мерзостный тиран, и жди достойной мзды! / В геенне соберешь насеянны плоды» [Сумароков 1990: 285]. В пятом действии народ Москвы восстал против тирана и осадил его в Кремлевских палатах. В заключительной сцене Пармен объявляет окруженному царю: «Прошли уже твои жестокости и грозы! / Избавлен наш народ смертей, гонений, ран, / Не страшен никому в бессилии тиран». Услышав эти слова, Димитрий вонзает кинжал себе в грудь: «Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна!» [Сумароков 1990: 292].
Такая развязка не была нетипична для драм Сумарокова, где герои обычно кончали жизнь самоубийством. Наложение рук на себя и последовавшее духовное самоубийство Димитрия говорят в пользу того, что настоящим наказанием за тиранию драматург считал вечные адские муки. Но подобное «решение» проблемы тирании Сумароковым оставило без ответа политические вопросы. Что делать, если тиран действительно наглый безбожник, о чем в первом действии подозревают простые люди? Разве не будет такой неправедный правитель упорствовать в злодеяниях, поскольку страха перед загробной жизнью у него нет? И даже если злодей осознаёт перспективу вечных мук, как Димитрий в пятом действии, может ли эта перспектива изменить его политическое поведение к лучшему? По собственной логике Сумарокова, разве не будет он упорствовать в неправедном правлении до тех пор, пока его не свергнут посредством революции снизу? Разве столь удачно случившееся в пятом действии самоубийство не маскирует того факта, – который Сумароков не хотел признавать, – что в его воображаемом царстве главным героем является простой народ?
В «Димитрии Самозванце» Сумарокова мы видим грозный, но неудовлетворительный ответ на «Наказ» Екатерины и отстранение от работы Уложенной комиссии. Своей драмой Сумароков действительно давал императрице понять, что разочарован ее неспособностью законодательно защитить образованные слои россиян от произвола, но в то же время обнажил противоречивость своей политической философии. Его благородные герои порицали тиранию, но не были готовы без колебаний устранить тирана. Они признавали обязанность во всем повиноваться правителю, но рассуждали при этом о естественной свободе. Они принижали простой народ, но рассчитывали, что он совершит то, на что они сами неспособны. Благодаря своему возвышенному настрою пьеса была прекрасно принята в театре – «Димитрия Самозванца» продолжали ставить до конца века. Однако маккиавеллизм в ней противоречил авторской теории добродетели. Какими бы ни были ее недостатки, пьеса указала на разрыв между Сумароковым и его царственной покровительницей. Как отмечает литературовед Е. П. Мстиславская, «к концу 1768 – началу 1769 г. относится время разочарования Сумарокова в политике Екатерины II», – то есть сразу после того, как императрица не оправдала его надежд на реформирование политического строя [Мстиславская 2002a: 26][6 - Мстиславская относила Сумарокова к представителям «аристократической Фронды», которая якобы стремилась к установлению в России «конституционной монархии». Этот ярлык вдвойне неточен. Слово «Фронда» подразумевало существование в России состоятельной элиты, аналогичной той, что выступила во Франции XVII века против централизованной власти. Сумароков принадлежал к служилой элите и происходил из семьи, владевшей крепостными, но в конце 1760-х годов доходы он получал в основном от Екатерины. Возможно, он выступал от имени тех элементов дворянства, которые поддерживали сохранение крепостного права, но сам он не был крупным землевладельцем. К тому же в российских условиях согласованное аристократическое оппозиционное движение, подобное тому, что имело место столетием ранее во Франции, вряд ли увенчалось бы успехом, как показал эпизод с Голицыным в 1730 году. Конечно, Сумароков хотел некоего эффективного сотрудничества между императрицей и высшими слоями дворянства. Возможно, он симпатизировал проекту Панина начала 1760-х годов по передаче части исполнительной и законодательной власти Императорскому совету и Сенату, но называть этот проект «конституционным» было бы, пожалуй, ошибочно. Как мы увидим ниже, проект Панина – Фонвизина 1783 года более соответствовал понятию конституционной реформы.].
Второй ответ Сумарокова на «Наказ» и роспуск Уложенной комиссии можно найти в «Одах». Между 1755 и 1775 годами Сумароков опубликовал 33 оды по торжественным поводам. После его смерти издатель Н. Новиков переиздал их во втором томе собрания сочинений Сумарокова [Сумароков 1781: 3–154], однако еще при жизни, в 1774 году, Сумароков напечатал 30 од. Мстиславская, проведя исследование политического содержания од, назвала их важным источником по истории XVIII века; она даже утверждала, что «книга Сумарокова “Оды торжественные” представляет нам поэта как первого русского историографа, воссоздавшего картину историко-политического процесса в России XVIII века» [Мстиславская 2002б: 69–70]. По мнению Мстиславской, издав в 1774 году оды с I по XXX, Сумароков сократил те, что были посвящены «Наказу» Екатерины (оды XIV–XVI) и Уложенной комиссии (оды XV–XX), прежде всего опустив строки с безоговорочными восхвалениями императрицы и описанием ее политических инициатив. В то же время Сумароков сохранил те фрагменты од, в которых была сформулирована его собственная просвещенческая политическая программа [Мстиславская 2002б: 63–65]. В оде XXVIII, адресованной в 1774 году молодому наследнику Павлу, Сумароков создал образ идеального князя, который «не гордясь ничем вовек, / Он больше о себе не мыслит, / Льстец мерзкий что б ему ни рек. / Великий муж не любит лести». Идеальный князь, как утверждал Сумароков, «тверд во правде пребывает, / И крайне мерзостен народ, / Который правду забывает» [Сумароков 1781: 138–140]. Хотя Екатерине в этой оде досталась скупая похвала как «Минерве», в целом ода свидетельствовала о принадлежности Сумарокова к придворной «партии» Павла.
Издание «Од» 1774 года также представляло своего рода отклик Сумарокова на «Наказ» Екатерины, и этот отклик она восприняла более болезненно, чем пьесу «Димитрий Самозванец». Она читала первоначальную редакцию «Од» и поэтому не могла не заметить изменений, которые Сумароков внес в издание 1774 года, чтобы продемонстрировать свои сомнения по поводу ее политических намерений. 4 января 1775 года она в гневе приказала цензорам Академии наук проверять все дальнейшие сочинения Сумарокова [Мстиславская 2002б: 40][7 - До 1775 года Екатерина сама выступала в роли «личного цензора» Сумарокова, что, кстати, послужило прецедентом для личной цензуры Пушкина Николаем I.].
Прежде чем оставить вопрос о Екатерине как о политическом мыслителе, следует вспомнить еще о трех ее проектах в этой сфере: покровительство сатирическому журналу «Всякая всячина» (1769–1770), «Записки касательно Российской истории» (1787–1794), а также антимасонскую кампанию в публицистике 1780-х годов.
Из всех этих предприятий наиболее известна ее роль как главного покровителя (и, возможно, автора) «Всякой всячины». После роспуска Уложенной комиссии в 1769 году Екатерина учредила журнал «Всякая всячина», поручив его надзору своего личного секретаря Г. В. Козицкого. По мнению советского литературоведа Д. Д. Благого, инициатива императрицы была следствием политических обстоятельств, когда «каждый из борющихся классов стремился использовать оружие сатиры в своих целях… Екатерина… предприняла хитро задуманную попытку подчинить себе эту силу, прибрать ее к рукам, направить по определенному, соответствующему ее политическим видам руслу» [Благой 1955: 227]. По мнению Благого, взявшись за издание «Всякой всячины», Екатерина «на самом деле преследовала цель погасить сатиру, всячески притупить ее общественно-политическую остроту, отвести ее от конкретных явлений русской социальной действительности, подменив моралистическими общими местами, школьными прописями, направленными против так называемых общечеловеческих недостатков [Благой 1955: 231]. Благой отметил, что тон, а иногда и содержание «Всякой всячины» были «прямым заимствованием» из журнала «Зритель» Аддисона и Стила.
По мнению Благого, главной политической задачей «Всякой всячины» была попытка оправдать решение императрицы о роспуске Уложенной комиссии и возложить вину на самих депутатов: в иносказательной «Сказке о кафтане» Екатерина порицала «портных» (депутатов), которые «вместо того чтобы сшить “мужику” кафтан из данного им на то “сукна” (очевидно, имеется в виду пресловутый “Наказ”), начали спорить о его покрое» [Благой 1955: 231–232]. Кроме того, во «Всякой всячине» предпринималась попытка задать жесткие параметры русской сатире, фактически деполитизировав ее. Так, в письме в редакцию, опубликованном в выпуске 53, псевдонимный корреспондент «Афиноген Перочинов» кратко изложил правила исправления человеческих пороков: «1) никогда не называть слабости пороком, 2) хранить во всех случаях человеколюбие, 3) не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить Бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения» [Благой 1955: 236]. Благой признавал, что со временем во «Всякой всячине» появились нападки на взяточников и недальновидных чиновников, но объяснял эти действия давлением других сатирических журналов, в частности «Трутня» под редакцией Николая Новикова.
Мнение Благого о «Всякой всячине» заслуживает внимания как типичный пример стратегии осмеяния и неприятия журнала как прогрессивными дореволюционными критиками, так и учеными советского времени. Однако, каковы бы ни были литературные достоинства журнала, «Всякая всячина» реализовала одну из ключевых стратегий Екатерины – использование культурных инициатив для подготовки умов россиян к реформам, вписывающимся в русло умеренно-политических воззрений Просвещения. Одним из примеров такой стратегии был «Наказ» с его либеральными заимствованиями у западных мыслителей, другим – «Всякая всячина» с ее «заимствованиями» из «Зрителя». Во «Всякой всячине» Екатерина пыталась убедить своих небезупречных подданных становиться лучше, глядясь в «западное» зеркало. Ее замысел заключался в искусственном создании публичного пространства, состоявшего из «Всякой всячины» и конкурирующих журналов, в котором императрица за спиной Козицкого, анонимных авторов и корреспондентов под псевдонимами, смогла бы дискутировать со своими подданными как «частное» лицо. Эта литературная тактика, в которой важную роль играли анонимность и возможность правдоподобно отрицать свою причастность, требовала от императрицы невиданного для российской государыни акта самоотречения. Пусть Петр Великий и работал бок о бок с простыми плотниками и кораблестроителями, но он никогда не подвергался настолько резкой критике, которую императрица выносила от других сатириков, находясь за спиной своих подручных. Эксперимент Екатерины требовал огромного самообладания, которое нечасто было присуще российским самодержцам[8 - О «смеховой интимности контакта частного человека и монарха» см. [Лебедева 2000: 171].]. Еще более важным, чем акт самоотречения, был сам творческий прием – основание сатирического журнала и призыв к подражанию, направленный на создание сферы общественной мысли «сверху».
Несмотря на мнение Д. Благого, мы считаем, что инициатива Екатерины была направлена на то, чтобы в «новом» публичном пространстве сатирических журналов продолжить дискуссию о крепостном праве, начатую в Уложенной комиссии. Ее аллегорическую «Сказку о кафтане» можно прочесть также как сказку о крепостном праве, в которой мораль состояла в том, что «портные» должны бы сшить крестьянину новый кафтан, пока он не замерз на улице. Она надеялась, что сказка напомнит русским дворянам об их этических обязанностях перед крестьянами. Она не позволила бы публикацию сказки, если бы не осознавала, что она запустит новый виток дискуссии в конкурирующих журналах. На этом этапе у Екатерины, вероятно, не было конкретной законодательной программы, кроме той, которая была четко сформулирована в «Наказе» – а именно, обеспечить исполнимость закона Петра против жестокого обращения с крепостными – похвальная, хоть и ограниченная, цель. Между тем приписывать, подобно Благому и иже с ним, одному Новикову первенство в постановке вопроса о крепостном праве перед лицом «реакционного» режима – значит не понимать пафоса позиции Екатерины и не отдавать должное ее незаурядному политическому воображению.
Прежде чем оставить тему императрицы как журналиста, следует обратить внимание на ценное замечание Иоахима Клейна о том, что екатерининская «Всякая всячина» и конкурирующие журналы, редактируемые Николаем Новиковым, опирались не только на английские образцы, такие как «The Spectator» («Зритель»), но и на немецкие – так называемые Moralische Wochenschriften, или «нравоучительные еженедельники». По мнению Клейна, журнал Екатерины, как и немецкие еженедельники, преследовал дидактические цели – наставить читателей в правилах добродетельной жизни, в любви к добру и отвращении к злу. Более того, как и в немецких еженедельниках, во многих статьях «Всякой всячины» использовалась диалоговая форма для вовлечения читателя в активное общение с морализирующими авторами журнала. Клейн считает, что, хотя метод воспитания активной читательской аудитории, позаимствованный Екатериной у немцев, был известен уже давно, сама диалоговая модель, в которой создавалась «атмосфера игривого вымысла и веселой анонимности, атмосфера коммуникативной непринужденности и свободы», была для России чем-то новым [Клейн 2006: 155].
По мнению Клейна, игривый дух «Всякой всячины» не соответствовал «утопическому» замыслу журнала – скорейшему искоренению порока в читающей публике. Он приводит заметку редактора, в которой тот заявляет: «Мы не сомневаемся о скором исправлении нравов и ожидаем немедленно искоренения всех пороков» [Клейн 2006: 157]. По мнению Клейна, ожидания редактора основаны на представлении о том, что порочное поведение человека – это результат неправильного воспитания. Эту проблему Екатерина собиралась исправить не только посредством строительства школ, но и путем передачи читающей публике «моральной информации», необходимой для добродетельной жизни. Редактор «Всякой всячины» исходил из того, что знание ведет к добродетели, а невежество – к пороку. Редактор предсказывал, что распространение знаний и добродетели среди читающей публики вскоре приведет к появлению добродетельных должностных лиц: «…если в должностях употребляемы будут люди с воспитанием и со знанием, менее услышим о корыстолюбии» [Клейн 2006: 159]. По мнению Клейна, концепция добродетели, положенная в основу «Всякой всячины» и других журналов, опиралась не только на православные представления о благочестии, но и на философские представления о счастливой жизни [eudaimonia], разработанные в античности и возрожденные в XVIII веке. Клейн, однако, утверждает, что из-за акцента на добродетельном поведении не в монастырях, а в гостиных и в правительстве концепция добродетели журнала «Всякая всячина» приобретала скорее «мирской», чем чисто религиозный характер. «В России, – отмечает Клейн, – слово “добродетель” было известно из церковнославянской письменности, но в XVIII в. оно наполняется новым содержанием в соответствии с секуляризационными тенденциями петровской и послепетровской России, превращаясь в эквивалент английского virtue и немецкого Tugend» [Клейн 2006: 161].
Интерпретация Клейна согласуется с мнением лингвиста В. М. Живова, который предположил, что в своем журнале императрице удалось создать новую форму просветительского дискурса: «Выворачивая французские просвещенческие концепции наизнанку, Екатерина устраняет из них главенство закона. Его место занимает “доброе сердце” императрицы». Эта позиция «удобно располагает к определенному авторитаризму, приобретающему оттенок домашнего и терпимого» [Живов 2007: 264–265]. По мнению Живова, Екатерина проводила эту стратегию систематически. Знаменитое письмо Афиногена Перочинова, о котором шла речь выше, призывало читателей думать не о выкорчевывании глубоко укоренившихся пороков, а об исправлении понятных человеческих слабостей. В другом номере «Всякой всячины» было опубликовано стихотворение, в котором Петр I противопоставлялся Екатерине. В заключительной строке поэт заявляет: «Петр дал нам бытие, Екатерина душу». Из стихотворения следовало не только то, что Екатерина важнее Петра (поскольку душа важнее бытия), но и то, что она, в отличие от Петра, осознала приоритет национальной культуры над политикой [Живов 2007: 254–258]. Во «Всякой Всячине» также было напечатано письмо от имени «Патрикия Правдомыслова», начальные пассажи которого написала сама Екатерина. В письме Правдомыслов наставляет читателей: «Желательно было бы, чтоб мы всегда свои дела судили сами по истинне: и тогда бы ябеда и прихоти исчезли; следовательно меньше бы жалоб было на неправосудие». «Любезные сограждане! Перестанем быть злыми, не будем имети причины жаловаться на неправосудие» [Всякая всячина 1769–1770: 279–280; Живов 2007: 263]. Основываясь на внимательном прочтении «Всякой всячины», Живов утверждает, что «противоположение законов и нравов позволяет Екатерине снять с себя ответственность за беззаконие… Развращение идет не от системы и не от правительства, а от дурных нравов». Поэтому главная обязанность императрицы заключается не в издании хороших законов, а том, чтобы подавать добрый пример подданным [Живов 2007: 263–264].
Возможно, Клейн и Живов правильно поняли намерение Екатерины создать общественный дискурс, в котором этическая деятельность по формированию индивидуального поведения изначально превалировала бы над политической деятельностью по созданию лучших законов для России, но мы должны добавить три замечания. Во-первых, сосредоточившись на изменении личного поведения, Екатерина фактически переключила внимание на религию, а точнее, подчеркнула ее значение в общественном дискурсе. Подобно тому, как русская редакция ее «Наказа» начиналась с молитвы и требовала, чтобы родители обучали детей основам православия, так и «Всякая всячина» возводила нравственное воспитание в центр имперской повестки. Даже если, как полагает Клейн, понятие добродетели, транслируемое во «Всякой всячине», было шире московского православного понятия о благочестии, само использование императрицей этого термина и распространение его на новые сферы общественного поведения скорее укрепляло, чем подрывало авторитет православных наставлений. Во-вторых, утверждая, что ее главная обязанность – подавать хороший пример подданным, Екатерина вызвала к жизни прежние православные представления о долге правителя, но при этом постаралась обезопасить от их влияния свой престол, указав на то, что человеческие слабости следует исправлять мягко, беспрекословно повинуясь при этом монарху. В-третьих, поощряя существование культурной сферы, в которой писателям приходилось умещаться в рамках нравоучительного жанра, Екатерина приглашала других авторов подражать ей, но при этом волей-неволей склоняла их проверить установленные ею границы на прочность. Как мы увидим ниже, самые смелые из этих писателей сразу же попытались обойти ее мягкий «запрет» на политические дискуссии. Таким образом, своими сознательными усилиями по созданию деполитизированного пространства для обсуждения вопросов национальной культуры императрица невольно подтолкнула других писателей к попыткам явно либо тайно вернуть политику в российский дискурс.
Интерес Екатерины к русской истории, вероятно, возник еще до ее восшествия на престол. Первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера вышел в 1759 году, за три года до ее прихода к власти. К концу 1760-х годов Академия наук с ее одобрения опубликовала важнейшие памятники допетровской истории: Никоновскую летопись, «Русскую правду» Ярослава Мудрого, «Судебник» Ивана IV. В 1770 году вышел труд М. М. Щербатова «История российская от древнейших времен», а в 1773 году Новиков при содействии Екатерины начал издание летописей под названием «Древняя российская вивлиофика». Однако увлечение Екатерины русской историей было обусловлено не только ее личным интересом к предмету или абстрактным представлением о царском долге. В 1768 году, после публикации заметок французского путешественника, критиковавшего российский строй, Екатерина решила ответить иностранным критикам России, как прошлым, так и современным.
В путевых заметках аббат Шапп д’Отрош сообщал, что с 861 по 1598 год русскими управляла одна семья, «ценой вольности народной. Летописи и все историки изображают нам народ, управляемый деспотами» [Chappe d’Auteroche 1768, 1: 110]. В опровержение Екатерина анонимно опубликовала 300-страничное произведение «Антидот» (1770), где назвала характеристику России Шаппа д’Отроша несправедливой. Она спрашивала:
Что вы подразумеваете под этим одиозным словом «деспот», которое постоянно употребляете? Неужели вы каждого правителя России называете тираном? Но помимо неуважения к их памяти, Вы лжете… Опыт доказывает, что в течение семисот лет правительство России хорошо ей служило; страна возрастала в силе и средствах; кроме того, все это время ее подданные были довольны монархией, которая единственно может существовать в огромной империи.
Кроме того, Екатерина добавила: «До смерти царя Федора Ивановича в России царили практически такие же нравы, что и у всех других европейских народов» [Екатерина II 1901–1907, 7: 81–82][9 - Во «Введении» И. Пыпина поднимается дискутируемый вопрос об авторстве императрицы. См. [Пыпин 1901: I–LVI].].
Погрузившись в полемику в защиту допетровской Руси, Екатерина присоединилась к дебатам о древней и современной России, которые велись со времен выхода первого тома книги Вольтера, посвященной Петру, в которой допетровская Россия описывалась как варварская страна без законов. Как показал Ю. В. Стенник, эта дискуссия, в которой участвовали И. Н. Болтин, Щербатов и целая плеяда европейских историков, побудила Екатерину в 1783 году начать писать собственную историю России [Стенник 1997: 7–48]. Поскольку у нее не было времени для самостоятельной архивной работы, она поручила группе помощников собрать материалы для своего труда под названием «Записки касательно Российской истории». По ее замыслу, «Записки» должны были стать еще одним «противоядием негодяям, уничижающим историю России, таким как врач Леклерк и учитель Левек, оба скоты, и, не прогневайтесь, скоты скучные и гнусные» [Екатерина II 1878: 88; Стенник 1997: 18].
В «Записках» Екатерина разделила русскую историю на пять периодов: Россия до Рюрика; от Рюрика до татарского нашествия; татарское иго с 1224 по 1462 год; Россия от изгнания татар до основания династии Романовых в 1613 году; Россия с 1613 года и далее [Екатерина II 1901–1907, 8: 8]. Ее непосредственной задачей было представить древних славян цивилизованным народом. Поэтому она утверждала, что еще до пришествия Христа они были грамотными, но их письменность была утеряна. Тем не менее она признавала: «Славяне более к воинской службе прилежали, нежели к наукам и художествам» [Екатерина II 1901–1907, 8: 12]. Повествуя о князе Владимире, Екатерина пишет, что «двор его был великолепный», что он построил «города и народные здания», привлекал в Россию «ученых людей, науки, художества и храбрых богатырей отовсюду» [Екатерина II 1901–1907, 8: 75]. Такое изображение Владимира напоминало Петра Великого. Излагая историю обращения Владимира в христианство, Екатерина обратила внимание на стоявший перед ним политический выбор, на то, что «во время крещения отпаде яко чешуя от очей его, и прозрел», на его добродетели после крещения. Таким образом, Екатерина восхваляла как традиционное православное благочестие, так и политическую мудрость, то есть именно такое сочетание религии и политики, которое она преследовала в 1780-е годы [Екатерина II 1901–1907, 8: 75–83].
Повествуя о татарском нашествии, Екатерина подчеркнула, что «надлежало Князем Руским иметь любовь, мир и согласие между собою». Причиной междоусобицы она считала княжеское честолюбие и «злых льстецов», которые говорили каждый своему князю: «Тебе достоит земля Руская и Киевом владети». Эти льстецы и клеветники завели князей «к неправедным войнам и пролитию крови и погублению людей, Государству нужных» [Екатерина II 1901–1907, 10: 194]. Далее Екатерина обвиняет татар в том, что они «много зла» сотворили христианам и Русской земле: «Князей и сановитых людей изсече, православному народу тяжкое бремя наложи, младенцы от матери отымая, брачных жен разлучая от мужей, юных дев оскверняя» [Екатерина II 19011907, 10: 231]. Здесь императрица играет на патриотических, религиозных и семейных ценностях, противопоставляя православных русских неверным захватчикам. Она обращала внимание на мужество русских во время татарского ига, восхваляя, например, «христианскую твердость» великого князя Михаила Черниговского [Екатерина II 1901–1907, 10: 253]. К сожалению, Екатерина не успела завершить свою «Историю». Опубликованная рукопись обрывается после победы татар в XIII веке. До нас дошли также неопубликованные записи, в которых повествование ведется сразу после победы русских на Куликовом поле в 1380 году, но в них императрица не излагает тех уроков, которые современники должны были извлечь из ее истории.
Если считать, что целью написания «Записок» было опровержение клеветнических измышлений иностранцев о политике Древней Руси, то можно считать, что труд Екатерины удался, хотя бы отчасти: ни один здравомыслящий читатель «Записок» не подумает, что череда правителей после Рюрика состояла из одних деспотов. По другим меркам «Записки» были провальной работой. В этих размышлениях на тему истории не хватает критической оценки первоисточников; много заимствований без указания авторства из других работ по русской истории, в том числе целые пассажи из труда Татищева; повествование упорно и тяжеловесно следует за династической линией. Что хуже всего – если обратиться к книге в надежде на проникновение в суть отношений между русским народом и государством, то на каждой странице вас ждет разочарование. А поскольку рукопись заканчивается на катастрофе татарского нашествия, читатель вправе задаться вопросом, принесло ли государство народу хоть какую-либо пользу. «Записки касательно русской истории» производят впечатление громоздкого конспекта, составленного неумной комиссией под весьма рассеянным надзором императрицы. По сравнению с этой карикатурой на историческое сочинение «скоты скучные и гнусные» Леклерк и Левек смотрятся намного выгоднее.
В 1780 году Екатерина предприняла первый шаг в борьбе с масонством, которая вылилась в итоге в запрет масонских лож и арест в 1792 году Николая Новикова. Вполне вероятно, что, начиная эту кампанию, она не могла точно предвидеть, чем она завершится. Изначально она рассчитывала лишь предостеречь общественность от нелепостей, которые она усматривала в масонских практиках. Екатерина опубликовала памфлет под названием «Тайна противо-нелепаго общества, открытая не причастным оному» (1780) [Екатерина II 1780][10 - Среди друзей Екатерины в Европе распространялся французский текст «Le secret de la sociеtе antiabsurde, dеvoilе par quelqu’un qui n’en est pas» (Cologne, 1758). Во французской версии была указана заведомо ложная дата публикации, вероятно, для того, чтобы дистанцировать от нее Екатерину, по крайней мере, в глазах «неосведомленных». Удобное русское издание см. в [Екатерина II 1893: 439–444].]. В памфлете она высмеивала обряды посвящения в масонские ложи: воображаемому посвящаемому задается ряд бессмысленных вопросов, а затем зачитывается катехизис, полный несуразностей. В итоге посвящаемый говорит мастеру ложи, что «пустые и неясные слова» противоположны интеллектуальной ясности, а «двоезнаменателныя речи и злоупотребление звучных слов и выражений» приводят к ложным рассуждениям. Самым забавным моментом памфлета стало осмеяние масонских эмблем, к которым Екатерина отнесла зевающий рот с надписью: «Рот зевающий. Сие значит, что таже сказка, а особливо если она не лепа, скучна и без вкуса, конечно произведет зевоту» [Екатерина II 1893: 443–444].
Антимасонская кампания Екатерины, пока она ограничивалась остроумными памфлетами, не нарушала духа ее просветительской терпимости. Вольтер и его многочисленные подражатели исходили из того, что критика суеверий не противоречит законодательной терпимости к «суеверному» культу. Поскольку «Тайна противо-нелепаго общества» была опубликована анонимно, и за ней не стояла мощь государства, Екатерина могла бы выдать ее «всего лишь» за вклад в общественное мнение. Проблема логики Екатерины (как и умеренной просветительской доктрины о терпимости) заключалась в нечеткой грани между осмеянием «нелепых» верований и их запретом как опасных. Ведь если действительно счесть религиозные верования мерзостью, противной разуму, то рано или поздно возникнет желание ограничить их исповедание и начать преследовать верующих как «неразумных» и «опасных» для установленного порядка. Идея позитивной свободы привела Екатерину к тому, что в 17851792 годах она заставила российских масонов «делать то, что надлежит» согласно закону, то есть отбросить свои нежелательные тайные практики и распустить ложи. Запрет «общества вольных каменщиков» Екатериной, по этой логике, соответствовал «истинной свободе» масонов.
В первые годы царствования Екатерина внесла значительный вклад в развитие русской мысли. Она использовала свой политический авторитет для создания и расширения сферы общественного мнения и продвижения целого ряда идей Просвещения – от упорядоченного полицейского государства до веротерпимости. Позднее противоречия в ее представлениях о свободе и веротерпимости нашли выражение в скучном благочестии «Записок касательно русской истории» и в антимасонской кампании. Учитывая внутреннюю противоречивость ее политической мысли и ограничения на развитие просветительских идей, было неизбежно, что некоторые образованные россияне XVIII века бросят вызов ее взглядам, расширив сферу применения разделяемых ею просветительских принципов и попытавшись преодолеть или устранить противоречия в ее философии. Таким образом, Екатерина способствовала возникновению более радикального и последовательного просветительского течения в интеллектуальном пространстве общества, для создания которого она сама приложила немало усилий. В политике, как мы видим, нужно быть осторожным в своих желаниях.
Глава 9
Никита Панин и императорская власть
В 1762 году, вскоре после захвата власти Екатериной, граф Н. И. Панин (1718–1783) направил ей план по созданию Императорского государственного совета и разделению Сената на департаменты. Это предложение обещало стать самым масштабным структурным преобразованием центрального аппарата власти в России со времен петровских реформ. В течение какого-то времени Екатерина допускала возможность осуществления этого плана – вероятно, потому, что была обязана Панину за его помощь в свержении Петра III. В ее бумагах сохранился список из восьми человек, которых она предполагала ввести в состав императорского совета: «Граф Ал[ексей Петрович] Бестужев[Рюмин], граф Кир[илл Григорьевич] Разумовский, граф Мих[аил Илларионович] Воронцов, князь Яков [Петрович] Шаховской, Никита Иванович Панин, граф Захар [Григорьевич] Чернышев, князь Мих[аил] Волконский, Григорий Григорьевич Орлов». Императрица также рассматривала возможность назначить из числа этих восьми человек «первого советника», Бестужева-Рюмина[11 - Бумаги, касающиеся предложения об учреждении Императорского совета и о разделении Сената на департаменты в первый год царствования Екатерины II (28 декабря 1762 года) [СИРИО 1867–1916, 7: 200–201].]. Однако к октябрю 1763 года она решила отказаться от реализации плана Панина. Поскольку план был задуман в духе Просвещения и мог направить Россию по пути к конституционной монархии, его возникновение и окончательный отказ от него многое говорят нам о политике екатерининского времени.
Предложение Панина предполагало два существенных изменения в государственном устройстве. Во-первых, он предлагал учредить Императорский совет «в шести и до осми персонах», который собирался бы в присутствии государыни и обсуждал будущие законы. Во-вторых, он рекомендовал разделить Сенат, который был высшим судом России, но также и одним из ее важнейших органов контроля, на шесть департаментов: по внутренним политическим делам, апелляциям, коммерции, юстиции, военным делам, управлению провинциями [СИРИО 1867–1916, 7: 209–217].
Императорский совет должен был рассматривать «все дела, принадлежащия по уставам государственным и по существу монаршей самодержавной власти нашему [императрицы] собственному попечению и решению» [СИРИО 1867–1916, 7: 212]. В совет Панин предполагал включить четырех статских секретарей: иностранных дел, внутренних дел, военного департамента и морского департамента. Он также планировал включить в совет по меньшей мере двух секретарей без портфеля [СИРИО 18671916, 7: 211–212]. Четыре статских секретаря «с портфелями» должны были вести переписку с самодержицей и своевременно представлять отчеты с «точным сведением» по вопросам, находящимся в их сфере ответственности. В пределах своей компетенции статские секретари должны были выступать в качестве представителей монарха. По формулировке Панина, «…секретари должны быть нашею живою запискою рачительному государю принадлежащаго точнаго сведения о установлениях и состоянии всех вещей составляющих дела, порядок и положение государства всего, в чем каждый по своему департаменту и заимствует часть нашего собственного [монарха] попечения». Совет в целом должен был стать таким механизмом, «чтоб средством онаго сам государь мог объять все части государственныя под свое монаршее попечение для удобнейшаго в пользу общую законодательства». Императорский совет, по замыслу Панина, есть «не что иное, как то самое место, в котором мы [государыня и секретари] об империи трудимся…» [СИРИО 1867–1916, 7: 212].
Панин предложил проводить заседания Совета каждый будний день, кроме праздников. На заседаниях совета секретари должны были представлять вопросы на рассмотрение монарха, высказывать по ним свое мнение и приглашать к обсуждению других членов совета. При этом должен был вестись стенографический протокол обсуждения, подписываемый каждым участником заседания, что гарантировало бы его достоверность. Согласно статье 10 плана Панина, «всякое новое узаконение, акт, постановление, манифест, граматы и патенты, которые государи сами подписывают, должны быть контрасигнированы тем статским секретарем, по департаменту котораго то дело производилось, дабы тем публика отличать могла, которому оное департаменту принадлежит». Панин утверждал, что эта оговорка в статье 10 гарантировала, что «из сего императорскаго совета ни что исходить не может инако, как за собственноручным монаршим подписанием». В конце проекта Панин писал, что каждому статскому секретарю должна быть предоставлена «свободность» обсуждать с монархом новые императорские указы, «ежели они в исполнении своем могут касаться или утеснять наши государственные законы или народа нашего благосостояние». Согласно тексту проекта, государыня «конфирмует правом» ту самую «свободность», которую предоставил правительству Петр [СИРИО 1867–1916, 7: 214].
Представляя проект реформы Сената, Панин призывал, чтобы каждый из вновь создаваемых департаментов принимал решения в коллегии, состоящей «не меньше как из пяти сенаторов». Единогласные решения той или иной департаментской коллегии должны были «почитаться… равно как бы всем сенатом то учинено было» [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Любой важный вопрос, который не мог быть решен единогласно, передавался генерал-прокурору Сената, которому предписывалось при решении проблемы «поступать весьма осмотрительно» [СИРИО 1867–1916, 7: 216]. По замыслу Панина, обер-прокурор (глава департамента) был вправе попытаться разрешить спорный вопрос внутри департамента, однако разногласия между обер-прокурором и сенаторами или противоречия между сенаторами, оставшиеся неразрешенными после обсуждения в департаменте, должны были передаваться на обсуждение всего Сената. В этом случае генерал-прокурор имел право по своему усмотрению созвать полное собрание Сената для обсуждения и решить дело большинством голосов [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Правовые решения Сената «для всяких новых и в департаментах не трактованных еще государственных дел» должны были совершаться «по государственным уставам и в силе законов». Если же новаторские толкования полностью выходили за рамки положений действующего свода законов, то генерал-прокурор должен был доложить об этом самодержцу [СИРИО 1867–1916, 7: 216].
Таким образом, Панин предложил новое место для российского законотворчества (Императорский совет), новые процедуры принятия законов (составление проектов в ведомствах под руководством статских секретарей, официальное представление и обсуждение этих проектов в Императорском совете, подписание монархом и контрасигнирование статскими секретарями), новые процедуры рассмотрения возможных конфликтов между новыми и старыми законами («право» статских секретарей доносить государю о таких коллизиях). Панин также преобразовал сенат в орган, в котором сочеталась эффективность малых групп (коллегии из пяти человек), контроль одного администратора (генерал-прокурора или обер-прокурора) и широкое обсуждение (на пленарных заседаниях сената).
План Панина выходил далеко за рамки косметических изменений императорской бюрократии, но он не вводил разделения власти на самостоятельные ветви, как это предполагалось в работах Локка и Монтескьё, а также в «Комментариях к законам Англии» английского юриста Уильяма Блэкстона (1766–1770). Императорский совет Панина представлял собой законодательный орган, члены которого назначались монархом, заседания проходили в его присутствии, а решения не имели юридической силы, если не были подписаны государем; при этом каждый из статских секретарей совета «с портфелем» выполнял исполнительную роль в государственной бюрократии. В Сенате Панина смешивалась юридическая функция толкования законов с исполнительной функцией надзора за их исполнением. Таким образом, в Императорском совете и в Сенате исполнительные, законодательные и судебные функции скорее были намеренно смешаны, а не разделены.
Согласно проекту манифеста, представленному Паниным на подпись Екатерине, общая цель предлагаемого закона заключалась в укреплении государства, то есть в том, чтобы «непоколебимо утвердить форму и порядок, которыми, под императорскою самодержавною властию, государство навсегда управляемо быть должно» [СИРИО 1867–1916, 7: 210–211]. Как предполагалось, проект должен был обезопасить власть от людей, которые «стараются возлагать на счет собственнаго государственнаго самоизволения все то, что они таким образом ни производили» и избавить ее от пороков, «которые по временам внедривались во все течение правления» [СИРИО 1867–1916, 7: 205, 209]. Панин отмечал, что поспешно проведенные Петром реформы, несмотря на их масштабное влияние на Россию, оказались неспособны «привести к совершенству гражданское государственное установление». Преемники Петра пытались решить проблемы государства путем принятия краткосрочных мер, которые, «не получая силы прочности, переменою времен или сами упадали, или подвергались руководству припадочных и случайных людей». Панин сетовал, что при Елизавете государство управлялось «одними персонами и их изволениями без знаний и вне мест» [СИРИО 1867–1916, 7: 210].
В записке, сопровождавшей проект манифеста, Панин высказал более подробную критику существующего порядка. По его мнению, Сенат в его нынешнем составе был перегружен работой по надзору за исполнением законов. У его членов не было ни времени, ни желания помогать самодержцу в разработке законов; кроме того, законотворческая деятельность выходила за рамки его компетенции. Не обладал Сенат и компетенцией, позволяющей внести единство в государственное управление: сенаторы, как правило, полагались на мнение прокуроров и других чиновников относительно общей формы законодательной деятельности, так как по «слабости человеческой лени» не утруждали себя выработкой общего ви?дения законов. Сенаторы приезжали на заседания, «как гость на обед, который еще не знает не токмо вкусу кушанья, но и блюд, коими будет потчиван» [СИРИО 1867–1916, 7: 202–203].
Между тем предполагалось, что общую картину правового порядка должен был вырабатывать генерал-прокурор Сената, но ему было трудно справляться с ситуациями, когда сенаторы расходятся во мнениях, и их дела «подвергаются взаимному подрыву» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. Панин резко критиковал генерал-прокурора императрицы Елизаветы князя Никиту Трубецкого, который пришел к власти «по дворскому фаверу, как случайный человек… а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. При Елизавете, как писал Панин, из администрации исходили «сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу». Он утверждал, что закулисные методы управления не только обманывают народ, но и воспитывают у высокопоставленных чиновников, подобных Трубецкому, чувство, что они стоят над законом, почитая себя «неподверженным суду и ответу пред публикою, следовательно свободным от всякаго обязательства перед государем и государством, кроме исполнения» [СИРИО 1867–1916, 7: 205]. Наихудшими последствиями такой системы были разрушение доверия народа к правительству и изоляция государя от реального процесса управления страной [СИРИО 1867–1916, 7: 206]. Кабинетную систему управления, созданную при Елизавете после 1756 года для ведения войны в Европе, Панин назвал «монстром» [СИРИО 1867–1916, 7: 207]. В итоге Елизавета лишилась возможности управлять страной на ее благо и по собственному разумению. Панин обещал, что его проект «оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оныя» [СИРИО 1867–1916, 7: 208].
Панин представлял себя истинным приверженцем самодержавия, защитником системы от жадных, продажных и невежественных чиновников, которые с 1730 года вели правительство по ложному пути, прикрываясь своей верностью государыне. Если его целью была более добродетельная, более эффективная, более информированная администрация, а значит, более справедливая и более стабильная монархия, то его политическое ви?дение во многом совпадало с ви?дением Екатерины. Однако в проекте манифеста Панина и в сопроводительной записке были разбросаны идеи, которые указывали в другом направлении.
Во-первых, прикрываясь защитой самодержавия, Панин, казалось, критиковал все аспекты его деятельности на протяжении последних трех четвертей века. По мнению Панина, Петр I реформировал московскую политическую систему поспешно, не заложив прочной основы. Результатом стал хаос в высшем руководстве, череда фаворитов и «случайных людей» на руководящих постах, а также потенциальная дестабилизация всей страны. Во-вторых, Панин, по-видимому, с подозрением относился к самой логике самодержавного правления, по которой огромным государством управляет один человек. Когда Панин критиковал сенатских прокуроров за незнание законов и недальновидность, когда он нападал на произвол и коррумпированность высших чиновников, он исходил из подверженности любого руководящего лица ошибкам: один человек не может знать всего, и любой склонен к произволу и пороку при отсутствии контроля со стороны другой власти.
В-третьих, Панин не доверял православной церкви как противовесу монарху. Действительно, ни в проекте манифеста, ни в обосновывающем его меморандуме он не упоминает о роли Церкви как советника государя по нравственным вопросам, не подчеркивает необходимость особого отношения к Церкви в Императорском совете или Сенате. Такое молчание в отношении этого важного института было крайне редким в допетровской России и необычным даже в послепетровскую эпоху. Конечно, игнорирование Церкви как существенного политического фактора не означало, что Панин был готов вообще не обращать внимания на религию как составляющую русской жизни. В проекте манифеста он вложил в уста Екатерины заверение о ее долге «пред Богом» и о ее решимости «с помощию Всевышняго» исправить недостатки российского управления [СИРИО 18671916, 7: 210]. Но в документе, где государственный интерес (Staatsraison) утверждался как движущая сила правительства, это были всего лишь шаблонные фразы. В меморандуме Екатерине Панин характеризовал ее «право самодержавства» как «Богом и народом врученное» [СИРИО 1867–1916, 7: 208]. Эта поразительная формулировка, в которой сочетались традиционное христианское обоснование власти (божественное помазание) и концепция народа как источника власти, скорее подрывала самодержавие, чем поддерживала его.
В-четвертых, Панин выступал за власть, подотчетную «обществу» (для обозначения этой группы он использовал латинский термин publica). Именно поэтому он стремился связать монарха определенными юридическими процедурами при принятии законов. По плану Панина, ни один закон не мог вступить в силу без подписи монарха и контрасигнации ответственного статс-секретаря. Это положение, по всей видимости, давало статс-секретарю полномочия, равные монаршим, при принятии законов, касающихся его полномочий. Панин также хотел предоставить статс-секретарям «право» или «свободность» инициировать обсуждение потенциальных конфликтов между новыми и существующими законами, а также конфликтов между новыми законами и общественными интересами. Не является ли это положение его плана аналогом права на протест, которым пользовался Парижский парламент? И требование контрасигнации законов, и право на протест наделяли статс-секретарей беспрецедентной в истории России мерой ответственности перед обществом за свои законодательные инициативы и политические решения.
В-пятых, оговорку Панина о том, что государственные секретари должны «заимствовать» часть ответственности за политику монарха, можно истолковать не только как безобидное описание функции чиновника как исполнителя монаршей воли, но и как заявление о необходимости передачи власти от монарха к доверенным лицам. Если замысел Панина именно таков, то его план можно трактовать как проект замены самодержавия коллективным правлением нескольких советников, ответственных перед обществом.
Обычно Панина понимают как поборника интересов знатных российских семей, как «олигарха» или «аристократа», который, не добившись от Екатерины одобрения своего проекта, перешел в политическую «оппозицию», объединившись с великим князем Павлом. Однако Дэвид Рэнсел убедительно доказывает, что знать екатерининского времени не была политически цельной силой. По мнению Рэнсела, императорский двор был местом соревнования между группировками приверженцев ведущих представителей знати [Ransel 1975: 4–6; Ransel 1969: 9–65]. Семья Паниных не принадлежала ни к титулованной аристократии, ни к богатейшей знати, но, скорее, к среднему слою дворянства: его отец Иван Васильевич имел 400 крепостных крестьян, что было достаточно для безбедной жизни, но далеко отстояло от огромных владений семей Шереметевых, Шуваловых, Воронцовых [Ransel 1975: 10]. Панин выдвинулся не благодаря своему происхождению, а благодаря заслугам на государственной службе. Его образование его было скорее практическим, чем книжным. При Анне Иоанновне он служил в Императорской конной гвардии и в течение года (1747–1748) был русским послом при датском дворе. «Прорыв» Панина произошел в 1748 году, когда канцлер Бестужев-Рюмин направил его в Стокгольм в качестве посла. Там он находился 12 лет, изучая внутриполитические распри шведов и используя свое влияние, чтобы удержать Швецию от союза с Францией против России. Панину как-то удалось убедить Бестужева-Рюмина в том, что он достаточно эффективно отстаивает интересы России; но при этом он был достаточно независим от канцлера, чтобы не заслужить репутацию одной из «креатур» Бестужева-Рюмина. Поэтому Панин избежал опалы в 1756 году, когда настроения при дворе обернулись против канцлера. Весной 1760 года Панин вернулся в Петербург и стал воспитателем юного великого князя Павла.
Рэнсел показал, что деятельность Панина в Дании и Швеции убедила его в жизненной важности дворянства для здоровой монархии. Панин пришел к убеждению, что в хорошо устроенном государстве дворянам должна быть гарантирована неприкосновенность их титулов, привилегий и личности. Нет никаких свидетельств того, что Панин стал в Швеции «тайным» республиканцем; скорее, он стал поборником смешанной монархии, в которой интересы образованной публики если не учитываются, то уважаются [Ransel 1975: 27–33]. В то же время Панин с тревогой смотрел на политическую разобщенность шведской элиты. Он понимал, что дворяне, если они хотят играть достойную роль в общественной жизни, должны научиться действовать согласованно друг с другом, не уступая монарху своей политической автономии.
Главным источником интеллектуального вдохновения для Панина в эти годы был трактат «О духе законов» Монтескьё, в котором доказывалось, что в правильно организованной монархии политически активное дворянство является необходимым противовесом монаршей власти. Панин был полностью согласен с Монтескьё в том, что при отсутствии «посредствующих каналов» власти, в которых преобладает дворянство, монархия вырождается в деспотию. Когда «Дух законов» подвергся нападкам со стороны юриста Ф. Х. Штрубе де Пирмонта, который в своей книге «Русские письма» (1760) порицал Монтескьё за то, что тот отнес Россию к деспотическим государствам, Панин в этом споре встал на сторону Монтескьё [Ransel 1975: 47–54][12 - См. также [Порошин 1881: 226–227], запись от 7 января 1765. Панин сказал Порошину по поводу Штрубе: «Il a dit tout ce qu’il a p? dire, а Монтескиу все Монтескиу останется».].
Однако при объяснении замысла Панина не следует ограничиваться только его дипломатическим опытом или чтением Монтескьё: он испытал также и русское влияние. Панин знал о попытке Д. М. Голицына в 1730 году навязать Анне Иоанновне «кондиции», согласно которым ее партнером по управлению государством должен был стать Верховный тайный совет[13 - 27 июня 1765 года Панин говорил с С. А. Порошиным «о революциях при Анне Иоанновне» [Порошин 1881: 336].]. Панину также было известно об аресте в 1740 году А. П. Волынского и о его проекте реформ, в котором тот предлагал создать двухпалатный законодательный орган во главе с дворянством. Рэнсел отмечает, что «позднейшие предложения Панина имели много общего с предложениями Волынского, и Панин не раз выражал сильное сочувствие и восхищение по отношению к деятельности Волынского» [Ransel 1975: 13–15]. Вероятно, надежды Панина на будущее общество, управляемое просвещенным монархом и добродетельными дворянами, поощрял публицист, драматург и политический деятель А. П. Сумароков. В своей повести «Сон – счастливое общество» (1759) Сумароков даже упоминает о возможности создания законодательного совета, правящего вместе с монархом на благо народа [Сумароков 1957: 738, 755, 757, 768; Малышев 1961: 354–357; Ransel 1975: 56][14 - В очень хорошей статье о политических идеях Сумарокова Е. П. Мстиславская заметила, что Сумароков «оказал Панину неограниченное доверие». См. [Мстиславская 2002б: 60].]. Вероятно, чтение Монтескьё и Сумарокова, а также дипломатический опыт Панина обострили его презрение к придворным фаворитам елизаветинской эпохи. Письменная речь Панина, обычно спокойная по тону, становилась эмоционально резкой, когда он рассуждал о коррупции во времена предыдущих царствований. Если добавить ко всему этому амбиции Панина, стремившегося стать ведущим министром при Екатерине, то причины составления им плана реформ императорского совета станут вполне определенными.
Однако что же делать с противоречием между двумя несопоставимыми «ви?дениями», содержащимися в проекте Панина – показным отстаиванием более сильного и эффективного самодержавия и подспудной концепцией ограниченной монархии в партнерстве с уверенным в себе, искушенным дворянством в Императорском совете? Изабель де Мадарьяга, пожалуй, самый проницательный аналитик екатерининской России, утверждает, что реальным намерением Панина было ограничение, а не укрепление самодержавной власти, и что Екатерина хорошо поняла цель Панина. Де Мадарьяга прямо пишет: «Трудно поверить, что императрица, хорошо знакомая с европейской политической литературой, не уловила опасности для своего абсолютного правления, скрытой в его [Панина] плане» [Madariaga 1981: 42][15 - В том же русле высказывается Элен Каррер д’Анкосс: «Хоть Екатерина и была новичком в политике, она сразу же поняла, что эти проекты с их миражом упорядоченного государства были задуманы для того, чтобы ограничить ее власть» [Encausse 2002: 83].]. Если это правда, то Панин более серьезно, чем императрица, отнесся к идеям власти, основанной на народном согласии, ответственном управлении и смешанной монархии. Провал плана Панина показал, что просвещенная политика по версии Екатерины не предполагала ограничения самодержавной власти. Ее план заключался в построении унитарного, дирижистского государства, в котором понятия веротерпимости, правосудия, свободы выражения поддерживались на словах, но не претворялись в жизнь.
Григорий Теплов и декларация о правах российского дворянства
В конце 1762 года Екатерина получила проект Панина. 28 декабря 1762 года она подписала манифест о его принятии и одобрении предложенных Паниным законодательных проектов, однако отложила обнародование манифеста и утверждение законов [Омельченко 2001: 18–19]. В итоге проект Панина канул в политическую Лету: к октябрю 1763 года императрица тихо отложила план Панина в долгий ящик.
Хотя с формальной точки зрения предложение Панина было мертворожденным, оно тем не менее оказало влияние на работу одной значимой комиссии – так называемого Императорского собрания о вольности дворянской. В период с 11 февраля по 1 ноября 1763 года комиссия собиралась более 20 раз. В ее состав вошли восемь высших государственных деятелей, которых Екатерина наметила для назначения в Императорский государственный совет: Бестужев-Рюмин, Разумовский, Воронцов, Шаховской, Панин, Чернышев, Волконский, Орлов, и еще один член – Г. Н. Теплов. В центре внимания Собрания были три вопроса: привилегии дворянства в свете манифеста Петра III от 1762 года об освобождении дворян от государственной службы; положение и привилегии украинского дворянства; вопрос о реорганизации Императорского сената, поднятый в проекте Панина [Омельченко 2001: 21]. Как показал историк русского права О. А. Омельченко, свои основные идеи Собрание изложило в предложенной им декларации о правах дворянства. Екатерина так и не придала ей законную силу, поскольку замысел декларации – гарантировать дворянам определенные права личности и собственности – существенно расходился с собственными взглядами императрицы на этот вопрос [Омельченко 2001: 47].
Теплов, составивший по поручению комиссии декларацию о правах дворянства, был продуктом петровской системы образования, а также системы «клиентов» и их покровителей, сложившейся при Елизавете. В юности он учился в Невской семинарии, основанной Феофаном Прокоповичем, который в 1733 году отправил его за границу для продолжения образования. Вернувшись в 1736 году в Россию, Теплов занял должность переводчика в Академии наук. Через десять лет он стал почетным членом Академии. В течение многих последующих лет Теплов пользовался покровительством президента Академии К. Г. Разумовского, который фактически возложил на него руководство текущей деятельностью Академии. В 1747 году Теплов составил «Регламент Императорской Академии наук и художеств» – основополагающий документ в истории Академии, поскольку он отделял собственно Академию от «университета», действовавшего под ее эгидой [РИАНХ 1747].
В 1740-х годах Теплов завоевал репутацию философа. В 1742 году он прочитал в Академии публичную лекцию о практической философии Христиана Вольфа [Пустарнаков 2003: 630]. В 1751 году Теплов опубликовал свою книгу «Знания касающиеся вообще до философии: Для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» [Теплов 1751]. Хотя книга Теплова была вторичной в том смысле, что она следовала предложенной Вольфом классификации знаний по трем отраслям (философской, исторической и математической), она сослужила хорошую службу русской читающей публике, поскольку предложила русский лексикон для перевода западных философских терминов. Кроме того, книга давала ясное представление о крупнейших западных философах – от греков до Спинозы и Лейбница. Теплов горячо поддерживал философский рационализм Декарта и отвергал древний и современный материализм [Пустарнаков 2003: 630]. В политическом плане книга Теплова представляла собой изощренную защиту христианства и монархии. Он писал: «…в науке философской все то заключается, что человека делает Богу угодным, монарху своему верным и услужным, а ближнему в сообщество надобным» [Теплов 2010: 55][16 - Об институциональном контексте философии Теплова см. в статье [Артемьева 1999].].
Составленный комиссией проект декларации прав дворянства включал 21 статью [СИРИО 1867–1916, 7: 238–266]. Первые несколько статей декларации определяли три способа вступления в дворянство: рождение, пожалование дворянства монархом, прошение, направляемое в Императорский Сенат либо монарху [СИРИО 1867–1916, 7: 245–246]. В статье 5 говорилось, что российским дворянам предоставлено право выбора – поступать или не поступать на государственную службу, а также право ухода в отставку со службы с соблюдением установленных правил [СИРИО 1867–1916, 7: 247–249]. Последующие статьи декларации подтверждали право российских дворян поступать на службу в иностранные государства, но предусматривали возможность их отзыва в чрезвычайных обстоятельствах. Российские дворяне имели право продавать землю и переселяться в другие государства с уплатой десятипроцентной пошлины со стоимости их земельных владений. Русские дворяне, постоянно проживающие в иностранном государстве, могли просить об освобождении их от присяги на верность российскому престолу. В декларации указывалось, что отказ отца от присяги не затрагивает прав ни его несовершеннолетних детей, ни наследников по завещанию [СИРИО 1867–1916, 7: 249–253].
Статья 13 декларации требует, чтобы российские дворяне, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под полицейским надзором, были освобождены от штрафов «покуда [дворянин] перед судом изобличен и виновен не явится», а также, «чтоб в отличность разночинцам от всякаго телеснаго истязания был он свободен» [СИРИО 1867–1916, 7: 254]. Согласно статье 14, в случае признания дворян виновными в политических преступлениях – в оскорблении величества или «в возбуждении противу общаго покоя» – и присуждения им наказания в виде ссылки или смертной казни не следует конфисковать имущество у их семей. В случае хищения государственного имущества компенсация должна ограничиваться суммой украденного [СИРИО 1867–1916, 7: 255]. Статья 15 требовала, чтобы при расследовании серьезных политических преступлений дворянин имел право назначить другого дворянина для присутствия на судебных заседаниях, а также нанимать поверенного, «от которого бы… его представления в пользу несчастнаго в суде выслушиваны и должным порядком приниманы к делу были». В соответствии со статьей 16 по делам об убийствах, возбужденных против дворян, бремя доказывания должно быть «вящшия, нежели противу недворянина» [СИРИО 1867–1916, 7: 258]. Если дворянин лишался дворянского звания, это наказание не должно было влиять на статус его детей [СИРИО 1867–1916, 7: 259].
Согласно статье 18 декларации, дворянин «между прочими самое первое и главное преимущество имеет располагать своим имением неродовым», которое он приобрел как награду на службу или путем покупки [СИРИО 1867–1916, 7: 259]. В случае душевного нездоровья законных наследников имущества или их недееспособности статья 19 предоставляла российским дворянам абсолютное право распоряжаться наследственным и приобретенным имуществом путем передачи его достойным наследникам. Статьи 20 и 21 предоставляли дворянам право усыновлять детей и передавать по наследству им имущество и титул, но при этом обязывали их содержать биологических детей, даже юридически недееспособных [СИРИО 1867–1916, 7: 262–263].
Таким образом, декларация должна была наделить российских дворян личными правами, в частности правом служить или не служить, правом распоряжения имуществом, а также гарантировать их детям право на дворянство, на проживание в России или за рубежом, на наследование имущества. Наиболее острый политический вопрос декларации касался прав дворян при рассмотрении уголовных дел. Декларация не ограничивалась требованием права habeas corpus и суда присяжных. В ней предусматривалось введение презумпции невиновности для дворян на стадии расследования уголовных дел, надаление их правом на адвоката, на свободу от телесных наказаний и на передачу членам семьи унаследованного и приобретенного имущества. Декларация была нацелена на уменьшение произвола правительства в отношении дворян, обвиненных по доносу в политических преступлениях; по сути, она подрывала саму культуру доносительства.
Основной целью декларации было искоренение культуры страха, господствовавшей в российской политике с эпохи Петра I. В преамбуле декларации высказывалась мысль о том, что Петр «должен был перво всего сильным и страшным без замедления учинить свое войско соседям, но того иным образом из худовоспитываемого дворянства российскаго составить не мог, пока прямым насильством не понудил служить тех, которые, не имея вкорененнаго в себя честолюбия знанием и науками… от службы удалялись». Авторы декларации признавали, что, будучи предоставлены сами себе, российские дворяне времен Петра не имели ни честолюбия, ни склонности служить государству, ибо «человек неведомомаго себе никогда не возжелает». Тем не менее Петр, «как прозорливый и премудрый монарх, различные способы [употреблял] внедривать благородныя склонности в сердца подданных своих». Петр ввел дисциплину в армии, воспитал в дворянах чувство чести и готовность к службе, а также способствовал коренному изменению нравов в стране [СИРИО 18671916, 7: 240]. В декларации утверждалось, что российские дворяне при Екатерине существенно отличались от своих предков: современное дворянство пользуется плодами просвещения, и под просвещенным руководством Екатерины «уподобится российское дворянство всем просвещенным в Европе другим государствам» [СИРИО 1867–1916, 7: 241]. При наличии свободы выбора в отношении того, следует ли служить государству, большинство российских дворян выберут службу именно потому, что усвоили уроки Петра.
Достоинством декларации было то, что она учитывала огромное историческое наследие Петра. Ее авторы, несомненно, были правы, утверждая, что в 1763 году российские дворяне были более образованны и готовы служить, чем их предшественники. Однако в логике декларации был очевидный изъян: если для преодоления «природного» эгоизма и невежества дворянства Петру пришлось применить давление, то почему Екатерина должна была отказаться от принуждения как политического инструмента? Даже если бы она решила поддержать манифест Петра III об освобождении дворян от государственной службы, она могла бы сохранить другие методы принуждения в отношении потенциальных противников. Если Петр I добился своего силой, то почему бы Екатерине к ней не прибегнуть?
Декларацию о правах дворянства подписали все девять членов комитета. Как утверждает Омельченко, основные статьи декларации отражали убеждения Бестужева-Рюмина в отношении юридических прав дворянства: право на адвоката во время следствия и суда, свобода от ареста до вынесения судебного решения, запрет на конфискацию имущества у семьи, глава которой признан виновным в политических преступлениях. Протоколы заседаний комитета марта 1763 года показывают, что Бестужев-Рюмин осуждал культуру доносительства, но при этом имел в виду доносы крестьян на помещиков. Социальная программа Бестужева-Рюмина сводилась к тому, чтобы вновь утвердить «ту беспредельную власть над их [дворян] законно принадлежащими крестьянами и крепостными людьми» [Омельченко 2001: 25].
Хотя коллективное мнение членов комиссии выразилось в статьях декларации, преамбулу и обоснования к статьям, скорее всего, написал сам Теплов. Проведенное в преамбуле различие между необразованным дворянством петровского времени и «просвещенным» екатерининским дворянством, возможно, отражало мысль Теплова о том, что любое общество можно классифицировать как «варварское» либо «политическое». Омельченко отмечает, что в этом различении Теплов следует Христиану Вольфу [Омельченко 2001: 42–43]. В обосновании к статье 13, запрещающей произвольный арест дворян и телесные наказания для них, Теплов писал, что при аресте обвиняемого дворянина, вина которого еще не доказана, «не инако как наказание невинному уже делается, когда оно без суда и без обличения или без неоспоримаго свидетельства доказательства чинится» [СИРИО 1867–1916, 7: 254]. Мнение Теплова было, возможно, основано на его общем понимании закона, но также оно может быть обусловлено и его горьким жизненным опытом. Теплов дважды подвергался аресту: один раз в связи с делом Волынского в 1740 году, второй раз – в марте 1762 года, при Петре III. Допрашивая Теплова по делу Волынского, следователи пытались установить связь Теплова с заговором против монарха. По второму делу Теплова обвинили в том, что он критически высказывался в адрес Петра III, и арестовали за измену. Теплов указывал на то, что незнаком с политическими взглядами Волынского, что было неправдоподобно, учитывая всем известные реформаторские настроения Волынского и его нескрываемую неприязнь к императорскому фавориту. Во втором случае Теплов также заявлял о своей невиновности, несмотря на то, что в действительности он был замешан в заговоре [Daniel 1991: 4–7, 22–25]. Следует отметить, что в случае с Волынским арест Теплова можно объяснить принципом «виновности по связи», тогла как во втором деле на него донесли. В целом обоснование прав русского дворянства Тепловым опиралось на российский исторический опыт и теории Христиана Вольфа, но также, в значительной степени, на римское право и кодекс Юстиниана [Омельченко 2001: 44–45].
Проект Панина 1762 года подготовил почву для декларации прав российского дворянства 1763 года. Декларация пошла дальше проекта Панина, поскольку в ней содержалась попытка наделить политическую элиту личными правами. Хотя декларация была составлена на полгода позже панинского проекта, в определенном смысле она явилась его логической предпосылкой. Неудивительно, что Панин подписал оба документа.
Глава 10
Денис Фонвизин и искусство политики
Д. И. Фонвизин (1744 или 1745–1792) был самым талантливым драматургом екатерининской эпохи. Современники, ценившие его эксцентричную образованность, язвительный ум и изобретательность выражений, считали его «русским Мольером»[17 - Эта ремарка, сделанная в ретроспективе в Санкт-Петербургском журнале за июль 1798 года, процитирована в [Пигарев 1954: 256].]. Две его комедии – «Бригадир» (написана в 1769 году, опубликована в 1783 году) и «Недоросль» (написана около 1782 года, опубликована в 1783 году) – стали основой русского театра, оказав влияние на более поздних писателей, таких как Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Салтыков-Щедрин. Великий драматург XIX века А. Н. Островский считал его «гениальным» писателем из числа тех, что «умели писать для всего народа», чьи произведения были «истинно народными» [Островский 1941: 64; Пигарев 1954: 274]. Статус Фонвизина как комического писателя выдержал испытание временем, несмотря на его очевидные недостатки как драматурга. Ему не хватало ни шекспировского умения изображать характерные индивидуальные черты, ни чеховского мастерства запечатлевать уходящий исторический момент, ни умения выстраивать драматическое действие, присущего Расину и Корнелю. В худшие свои моменты, например во втором явлении четвертого действия «Недоросля», он был занудно дидактичен. Но российские театралы прощали ему эти недостатки за то, что Фонвизин так ясно понимал мелкие несправедливости русской жизни и тоску простого народа по достойному обращению. Возможно, его критические зарисовки русских государственных чиновников, которые в «Бригадире» представали подлыми, продажными и тираническими, а в «Недоросле» – воплощением мудрости и справедливости, также нашли отклик в русском сознании как архетипы той убогой реальности, которую все они знали, и той высшей реальности, к которой стремилась страна.
Будучи крупным писателем, Фонвизин тем не менее написал сравнительно немного оригинальных произведений. Однако он был одной из основных фигур литературной среды екатерининской эпохи. Под его руководством были переведены с латинского, французского и немецкого языков произведения Овидия, Вольтера, датского моралиста Людвига Хольберга, немецкого камералиста Иоганна Генриха фон Юсти, французского поэта Поля Жереми Битобе. Фонвизин был государственным служащим с хорошими связями. Он работал под началом двух самых влиятельных екатерининских сановников: с 1762 по 1769 год служил при статс-секретаре И. П. Елагине, а с 1769 по 1783 год – у графа Н. И. Панина. Служа личным секретарем Панина в Коллегии иностранных дел, он стал знатоком русской дипломатии и разбирался в самой щекотливой проблеме внутренней политики – отношениях между Екатериной и царевичем Павлом. Большинство современников 1770-х – начала 1780-х годов считали Фонвизина членом окружения Панина и, следовательно, сторонником Павла в борьбе с императрицей. Сочинение Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах» (написано совместно с Никитой Паниным около 1783 года, опубликовано в 1907 и 1947 годах по непроверенным источникам, в 1959 году издано по оригинальной рукописи) – один из самых замечательных политических документов России конца XVIII века[18 - Об истории публикаций «Рассуждения» см. [Макогоненко 1959: 653–654].].
Главное противоречие в политических взглядах Фонвизина и в его отношении к Просвещению – одновременное влечение к французской мысли и обеспокоенность по поводу ее секулярного характера – проявилось в «Бригадире» не только в злобном высмеивании галломании, но и в его письмах из Франции в 1777–1778 годов. Эти письма, распространявшиеся в рукописях среди друзей и близких Фонвизина, представляли собой самый свежий, самый глубокий критический анализ французской жизни, написанный русским человеком до 1789 года. В них шла речь о социальных проблемах, которые уже угрожали существованию французской монархии, и понимался вопрос о том, мудро ли себя ведут русские, подражающие французской культуре, лежащей в основе французского государства. Конечно, Фонвизин был не единственным русским писателем, испытывавшим опасения по поводу французской культуры и влияния французского мышления на русскую жизнь. Вопрос о культурной автономии страны стал важнейшим и для двух великих историков эпохи, М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, но Фонвизин, возможно, яснее, чем кто-либо другой в его время, понимал опасность культурной зависимости.
Ум моралиста
Фонвизин родился в Москве в семье относительно зажиточного дворянина, имевшего «не более пятисот душ» [Фонвизин 1959, 2: 83]. Его отец, Иван Андреевич, служивший в ревизион-коллегии, был старомодным христианином, не брал взяток, отвергал дуэли как средство решения личных споров и гордился строгим соблюдением писаных законов. Иван Андреевич не знал иностранных языков, но, по воспоминаниям Д. Фонвизина, «любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг» [Фонвизин 1959, 2: 82]. Иван Андреевич учил сына, заставляя читать «церковные книги» и объяснял незнакомые слова [Фонвизин 1959, 2: 87]. Мать Фонвизина, Екатерина Васильевна (урожденная Дмитриева-Мамонова), «имела разум тонкий и душевными очами видела далеко». Фонвизин писал о ней: «жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная» [Фонвизин 1959, 2: 84]. Как и Иван Андреевич, она была благочестивой православной христианкой. По праздникам местный священник служил в доме Фонвизиных всенощную [Фонвизин 1959, 2: 87]. Члены семьи также регулярно читали вместе Священное Писание и слушали пересказ библейских историй. Фонвизин вспоминал, как его в детстве до слез растрогала история Иосифа в пересказе отца [Фонвизин 1959, 2: 86].
В 1755 году, в возрасте 10 или 11 лет, Фонвизин поступил в латинскую гимназию для дворян при Московском университете. Там он изучал языки (латинский, немецкий и, неофициально, французский), географию, математику, риторику и философию. В автобиографическом отрывке, написанном в конце 1780-х годов, он довольно критически отзывался о своих учителях: учитель латыни был «пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков» [Фонвизин 1959, 2: 91]; учитель немецкого языка был «тупее прежнего, латинского» [Фонвизин 1959, 2: 88]; учитель арифметики «пил смертную чашу» [Фонвизин 1959, 2: 91]. Однако Фонвизин был в восхищении от учителя риторики Н. Н. Поповского, переводчика «Опыта о человеке» Александра Поупа (издан в 1732–1734 годах). Фонвизин «высоко почитал» сочинение Поупа, а его перевод был ему «очень знаком» [Фонвизин 1959, 2: 104].
Произведение Поупа, вероятно, познакомило Фонвизина с представлениями западных просветителей о божественной упорядоченности Вселенной, действующей по неизбежным естественным законам, и с вытекающей отсюда идеей о том, что человеческое понимание добра и зла в какой-то степени является продуктом нашего ограниченного постижения божественного замысла[19 - Перевод Поповского «Опыта о человеке» А. Поупа появился в 1754 году. Фонвизин, скорее всего, читал издание 1757 года [Поповский 1757].]. Литературовед К. В. Пигарев высказал предположение, что на Фонвизина оказали влияние и представления Поповского об общественном устройстве. Он утверждает, что такие идеи Поповского, как защита добродетели, похвала родителям, воспитывающим детей в «строгости обычаев святых», объясняющим, «хвально что, бесчестно», сетование, что «…в наш несчастный век проклятые пороки / Взошли на самый верх…», стали темами сочинений Фонвизина [Пигарев 1954: 43–44][20 - Пигарев цитирует «Послание о пользе наук и о воспитании в оных юношества», опубликованное Н. Новиковым в журнале «Живописец» в 1772 году.].
Первое знакомство Фонвизина с театром произошло, возможно, в 1757 году (дата спорная) в университетском театре в Москве, где ему довелось увидеть пьесу Людвига Хольберга[21 - Пьеса шла под русским названием «Гордость и бедность» и, возможно, представляла собой адаптацию пьесы Хольберга «Jeppe p? Bjerget» (1722).]. Сам Фонвизин утверждал, что впервые в жизни он был в театре в Петербурге в январе 1760 года, когда посмотрел пьесу Хольберга «Хенрик и Пернилла» (1724–1726) с элементами комедии дель арте [Фонвизин 1959, 2: 92–93]. Благодаря Хольбергу Фонвизин познакомился с некоторыми приемами комического жанра, такими как социальная инверсия, развитие «недоразумений» между архетипическими персонажами, столкновение противоборствующих этических воззрений в нелепых социальных коммуникациях.
Моралистика была источником комического гения Хольберга и также стала элементом будущей драматургии Фонвизина. В 1761–1765 годах Фонвизин перевел и опубликовал 225 «Басней нравоучительных» Хольберга [Фонвизин 1959, 1: 263–411]. Переводя «Басни», Фонвизин научился сокращать и упрощать повествование и выводить нравоучение из отношений персонажей, изображенных в общих чертах.
Басни Хольберга принадлежали к жанру философского повествования о добродетели. Например, в басне 183 («Пан делает учреждение») животные, а значит, и люди классифицируются по степени полезности. Так, к высшему классу животных отнесены пчелы и шелкопряды, потому что «они не только великие художники, но и великую приносят пользу»; животные второго класса (верблюды и ослы) прилежно трудятся; животные третьего класса (петухи и собаки) «несколько полезны»; животные четвертого класса (муравьи, пауки) могут похвастаться искусностью в устройстве дома; животные низшего класса (львы, тигры, волки, мыши) «проводят жизнь свою или совсем бесполезно, или еще и вредно» [Фонвизин 1959, 1: 387–389]. Не требуется особых усилий, чтобы увидеть в этой басне элементы социальной инверсии, направленной против традиционной социальной иерархии: хищные животные, находящиеся на вершине пищевой цепочки, такие как лев («царь леса»), отнесены к низшему классу «рационального» социального устройства. В басне 60 («Лисицыно нравоучение») Хольберг обличает лицемерие придворных, живущих по таким правилам, как «Ни в чем правды не держись, когда желаешь найти в свете свое счастие» или «Не говори того, о чем мыслишь, и старайся, чтоб всегда сердце с языком было несогласно» [Фонвизин 1959, 1: 306–308]. Хольберг, однако, был реалистом и понимал, что мир не всегда вознаграждает за добродетель. В басне 2 («Крестьянин и собака») показана человеческая неблагодарность и вероломство по отношению к добродетельным людям [Фонвизин 1959, 1: 263–264]. Читая эту басню сегодня, можно вспомнить определение человека у Достоевского в «Записках из подполья» как «существа на двух ногах и неблагодарного». Басня 100 («Суд между правдой и ложью») говорит о том, что человек предпочитает ложь правде [Фонвизин 1959, 1: 331]. В басне 49 («Превращение юстиции») утверждается, что мир считает «юстицией» то, что является лишь испорченным подобием истинного правосудия [Фонвизин 1959, 1: 299–300]. А в басне 177 («Козел ищет правосудия») отмечается, что для простых людей подлинное правосудие недостижимо [Фонвизин 1959, 1: 384].
Хольберг высмеивал плачевное состояние истории, которая в басне 73 («Судьба истории») вместо того, чтобы обличать своевольных королей и заблудших придворных, стала опорой существующего общественного строя, [Фонвизин 1959, 1: 316]. Не щадит он и «суеверные» религиозные обряды, и жреческую касту, увековечивающую суеверия. В басне 114 («Юпитер посещает лес») критикуются религии, основанные на жертвоприношениях и бормотании молитв, и восхваляются те, что опираются на спокойный, полезный труд [Фонвизин 1959, 1: 342–343]. В басне 87 («Об осле, который проглотил месяц») Хольберг сожалеет, что реально существующий мир предпочитает суеверие разуму [Фонвизин 1959, 1: 324].
Стоит ли говорить, что мир двуличия, неправосудия, неблагодарности, лицемерия и суеверия, который описывал Хольберг, был также и миром Фонвизина в начале 1760-х годов. И потому ворчливая моралистика Хольберга стала одной из составляющих будущих комедий Фонвизина.
После окончания Московского университета в 1762 году Фонвизин вступил в период религиозных сомнений, продолжавшихся до конца 1769 – начала 1770 года. Об этом нам известно из его «Чистосердечного признания в делах моих и поступках» – покаянной автобиографии, написанной в конце 1780-х годов в противовес «Исповеди» Руссо [Фонвизин 1959, 2: 81–105]. В «Чистосердечном признании» Фонвизин вспоминал:
…в то же самое время [около 1762–1763 годов] вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно [Фонвизин 1959, 1: 95].
Хотя он и не назвал имен членов кружка «безбожников», к которому принадлежал, историки считают, что его возглавлял Ф. А. Козловский. Возможно, Фонвизин познакомился с Козловским в Москве, где оба были студентами университета, но из писем Фонвизина лета 1763 года известно, что оба мыслителя встречались в Санкт-Петербурге [Фонвизин 1959, 2: 319–320]. Козловский был незначительным писателем: его единственной сохранившейся оригинальной публикацией было стихотворение по мотивам пьесы Сумарокова «Синав и Трувор»[22 - Стихотворение принадлежит Сумарокову [Сумароков 1957: 295]. Автор приводит следующую атрибуцию: «[Федор Алексеевич Козловский]. Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому, на представление Синава и Трувора, Трагедии, сочиненной Его превосходительством Александром Петровичем Сумароковым [s.l. 1766?]».]. Однако он страстно пропагандировал вольтеровскую критику религии и перевел несколько статей из «Энциклопедии» Дидро [Рассадин 2008: 82–83].
В период критического отношения к религии Фонвизин опубликовал два примечательных произведения: стихотворение «Послание к слугам моим» (написано в начале 1760-х годов, опубликовано в 1769 году), с подзаголовком «Шумилову, Ваньке и Петрушке», и перевод пьесы Вольтера «Альзира, или американцы» (1736).
В «Послании слугам» Фонвизин ставит вопросы: «…на что сей создан свет?.. Боишься Бога ты, боишься сатаны, / Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?» Шумилов, «дядька» и наставник Фонвизина, отвечает:
…не знаю я того,
Мы созданы на свет и кем и для чего.
Я знаю то, что нам быть должно век слугами
И век работать нам руками и ногами;
Что должен я смотреть за всей твоей казной,
И помню только то, что власть твоя со мной
[Фонвизин 1959, 1: 209].
Ванька, кучер Фонвизина, говорит:
На все твои затеи
Не могут отвечать и сами грамотеи.
И мне ль о том судить, когда мои глаза
Не могут различить от ижицы аза!..
Москва и Петербург довольно мне знакомы,
Я знаю в них почти все улицы и домы.
Шатаясь по свету и вдоль и поперек,
Что мог увидеть я, того не простерег
Видал и трусов я, видал я и нахалов,
Видал простых господ, видал и генералов;
А чтоб не завести напрасный с вами спор,
Так знайте, что весь свет считаю я за вздор…
Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
Затем Ванька добавляет:
Да, сверх того, еще приметил я, что свет
Столь много времени неправдою живет,
Что нет уже таких кащеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
Слуги – дворецкого, дворецкие – господ,
Друг друга – господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман…
За деньги самого Всевышнего Творца
Готовы обмануть и пастырь и овца!
[Фонвизин 1959, 1: 210–211].
Фонвизинский лакей Петрушка называет мир «ребятской игрушкой» и говорит, что секрет жизни таков:
Лишь только надобно потверже то узнать,
Как лучше, живучи, игрушкой той играть.
Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,
Лишь только б удалось получше жить до смерти!
На что молиться нам, чтоб дал Бог видеть рай?
Жить весело и здесь, лишь ближними играй.
Петрушка представляет Бога бессмысленно жестоким:
Создатель твари всей, себе на похвалу,
По свету нас пустил, как кукол по столу.
Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,
Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.
Вот как вертится свет! А для чего он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак
[Фонвизин 1959, 1: 211–212].
В завершение стихотворения рассказчик-хозяин подтверждает вывод Петрушки: «А вы внемлите мой, друзья мои, ответ: / “И сам не знаю я, на что сей создан свет!”» [Фонвизин 1959, 1: 212].
В «Послании к слугам» Фонвизина представлены четыре типа отношений к сотворенному миропорядку: нежелание Шумилова познавать Божий замысел, осуждение мира как места эксплуатации и обмана у Ваньки, гедонизм Петрушки и недоумение рассказчика по поводу цели творения. В «Чистосердечном признании» Фонвизин утверждал, что некоторые стихи «Послания» «являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником». Однако он считал обвинение в безбожии ошибочным: «Но, Господи! тебе известно сердце мое; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей» [Фонвизин 1959, 2: 95]. Литературовед Рассадин предположил, что критическое отношение Фонвизина к «Посланию к слугам» «могло быть и не вовсе искренним», учитывая, какую гордость Фонвизин испытывал за это свое стихотворение [Рассадин 2008: 83–84]. Советские интерпретаторы также в общем были склонны считать стихотворение «памятником русского философского свободомыслия XVIII века» [Пигарев 1954: 78], в котором Фонвизин «высмеивает основы церковного учения и защитников религии, проповедующих божественную мудрость в создании мира и человеческого общества» [Макогоненко 1961: 21].
На мой взгляд, обвинение Рассадина в том, что Фонвизин неискренне сожалел о своем «заблуждении», не имеет под собой оснований, если «заблуждение» сводилось к недоумению по поводу бесцельности сотворенного миропорядка. Рассадин и сам признает: «богохульствовали и святые – они, быть может, более других» [Рассадин 2008: 80]. Ему бы следовало только добавить, что святые, как никто другой, в итоге сожалеют о том, что порицали Божью мудрость. Был ли Фонвизин последователен в том, чтобы сожалеть о своем «заблуждении» и при этом гордиться самим стихотворением – другой вопрос. Как литературное произведение, рассматриваемое с точки зрения формы, «Послание к слугам» замечательно ясностью повествования, использованием простонародной речи, социальной критикой, легкостью интонации. Не зря им восхищался Пушкин, а раз так, то почему бы Фонвизину не дорожить своим творением, пусть даже оно плод «заблуждения»?[23 - Дань уважения Фонвизину Пушкин отдал в стихотворении «Тень Фонвизина» [Пушкин 1994–1999, 1: 119–125]. Пушкин приписывает Фонвизину скептический гедонизм Петрушки: «Вздохнул Денис: “О Боже, Боже! / Опять я вижу то ж да то же. / Передних грозный Демосфен, / Ты прав, оратор мой Петрушка: / Весь свет бездельная игрушка, / И нет в игрушке перемен”» [Пушкин 1994–1999, 1: 120].]
Было ли тем не менее «Послание» Фонвизина «памятником русского философского свободомыслия XVIII века»? Ответом на этот вопрос должно быть категорическое «нет». Ничего «философского» в стихотворении нет: в нем просто пересказываются существующие способы отношения к сотворенному миропорядку. Пигарев обратил внимание на статью А. Т. Болотова 1764 года «О незнании нашего подлого народа», в которой Болотов сообщает о разговоре двух слуг, который жаловались друг другу на хозяев. Затем один призывает другого терпеливо переносить тяготы, уповая на милость Божию. Второй слуга отвечает, что подумывает о самоубийстве. По словам Болотова, в христианские представления о теле и душе, бессмертии души и воскресении из мертвых ни тот ни другой не верил. Более вероятным они считали, что после смерти душа переселяется в животное или в другого человека. Болотов был потрясен таким невежеством относительно религиозных догм, пока один из его друзей не сказал ему, «что между подлости едва ли сотого человека сыскать можно, который бы о бессмертии души твердо удостоверен был» [Пигарев 1954: 76–77]. Возможность того, что «Послание» Фонвизина в значительной степени передает народные настроения, следует рассмотреть серьезно, поскольку первый слуга, упомянутый в стихотворении, – Михаил Шумилов – носит то же имя, что и реальный камердинер Фонвизина [Фонвизин 1959, 2: 610].
Нельзя также считать, что язвительность кучера Ваньки в отношении священников-обманщиков доказывает антиклерикальную позицию самого Фонвизина, или что критика жадности священников свидетельствует о его «вольнодумстве». Как мы уже видели, критика неподобающего поведения священников – почтенная тема русской литературы, которую можно обнаружить еще в «Слове Даниила Заточника», произведении XII века. Священническое корыстолюбие подвергалось поношению в «Сказании о попе Саве» (XVII век) [БЛДР 2010, 16: 412–414]. Таким образом, критика священников в «Послании» Фонвизина не должна непременно рассматриваться ни как «новая» или «современная» тема, ни как проявление тогдашнего вольнодумства. Жалобы на алчность и обман священников следует скорее рассматривать как «нормальную» черту христианского государства, в котором Церковь обладает институциональными полномочиями, а некоторые священники не соответствуют своему духовному призванию. Что было действительно новым во времена Фонвизина, так это юношеское глумление над небезупречными церковниками – модное поветрие, к которому присоединился Фонвизин, опубликовав свое стихотворение, и о котором впоследствии сожалел.
Фонвизинский перевод «Альзиры» сделал доступной для русских театралов лучшую из пьес Вольтера – драму об испанском завоевании Южной Америки и насильственном «обращении» перуанцев в христианство. Как считал Вольтер, военное завоевание Перу было жестоким и бесцеремонным, но еще более тягостным для перуанцев было навязывание им христианства. Драму насильственного обращения Вольтер показывает, заставляя главную героиню пьесы, девушку Альзиру, отречься от торжественного обещания выйти замуж по обычаям местной религии за своего возлюбленного, Замора, и сочетаться браком с испанцем Гусмано по европейскому обряду. В пятом явлении пятого действия Альзира говорит Замору:
Но верой Християн плененный разум мой
В ней зрел, иль чаял он в ней зреть закон святой.
Уста мои богов сего отвергли мира;
В том внутренно себя не обвинит Альзира.
Но отрещись богов, которым сердцем чтят,
Не заблуждение, но подла сердца яд,
Пред лицемерием измена сокровенна
Для бога избранна, и бога отрешенна,
Ложь пред вселенною, пред небом и собой
[Вольтер 1811: 61–62].
В предисловии к трагедии Вольтер пишет, что своей пьесой он пытался показать, «насколько истинный дух религии превосходит природные добродетели». Он утверждал, что религия варвара состоит в принесении в жертву богам крови своих врагов, но «христианин, получивший плохое наставление, вряд ли более справедлив». В пьесе защищается то, что Вольтер называет «истинным христианством», то есть религия, которая «состоит в том, чтобы ко всем людям относиться как к братьям, делать им добро и прощать их преступления» [Voltaire 1908: 1]. Глашатаем «истинного христианства» в трагедии выступает стареющий Альвар, бывший правитель Перу, который к финальной сцене пьесы склоняет и испанских завоевателей, и перуанцев к своей религии добродетели. В заключительных строках пятого действия Альвар говорит: «Зрю Божий перст в бедах, что рок на нас навлек. / Отчаянный мой дух ко Богу прибегает, / Который нас казнит, и купно нас прощает» [Вольтер 1811: 66].
Если Фонвизин разделял религиозное мировоззрение Альвара, то он не объявлял себя ни атеистом, ни антихристианином, а, скорее, критиковал существующую христианскую церковь во имя подлинных христианских идеалов. Если позиция Фонвизина была такова, обвинение в вольнодумстве в его адрес несправедливо.
Возможно также, что свой перевод пьесы Вольтера об испанских завоевателях Фонвизин задумал как назидание русским, правительство которых покорило столько степных нехристианских народов. Если так, то перевод был предостережением против применения силы во имя Бога, критикой русской религиозной «тирании» на юге. Пигарев отмечает, что в переводе Фонвизиным речи Альвара в третьем явлении четвертого действия явственно читается обличение колониального деспотизма, которого нет в оригинале Вольтера. В переводе Фонвизина Альвар заявляет: «Неограниченну зришь власть тиранов сих, / Им кажется, что сей и создан свет для них, / Что власти должен быть злодейской он покорным» [Пигарев 1954: 66]. Перевод Фонвизина говорит читателям о том, что тираническая власть иногда опирается на религиозное заблуждение.
При внимательном рассмотрении оказывается, что в «Послании к слугам» и в переводе «Альзиры» Вольтера Фонвизин выступает не поборником грубого атеизма, а сторонником более справедливого общественно-политического устройства России, основанного на «истинном христианстве». Говоря языком персонажа «Братьев Карамазовых» Достоевского, молодой Фонвизин усомнился не в Боге, а в Его мире. Однако не стоит преувеличивать скептицизм Фонвизина по отношению к миру. В его великолепном переводе «Иосифа» Битобе в девяти песнях (оригинал опубликован в 1767 году, перевод Фонвизина – в 1769 году) воспевается божественная мудрость и добродетельная жизнь, которая, невзирая на испытания, полагается на веру [Bitaubе 1767; Фонвизин 1959, 1: 443–606]. Даже в первые дни египетского плена Иосиф у Битобе отвергает искушение пролить кровь своих господ, ибо верит, что все пути – Божьи.
Таким образом, уже в 1769 году Фонвизин искал выход из своих религиозных метаний. В «Чистосердечном признании» он рассказывает о своем потрясении от кощунства графа П. П. Чебышева, обер-прокурора екатерининского Святейшего Синода (!). По совету сенатора Г. Н. Теплова, убежденного православного и критика модной безрелигиозности, Фонвизин прочитал книгу Самуэля Кларка «Доказательства бытия Божия и истины християнския веры» (1705), направленную против подразумеваемого безбожия Гоббса и Спинозы. В книге Кларка утверждалось, что, правильно применив человеческий разум, можно доказать существование Бога и обосновать нашу обязанность поклоняться Ему. Кларк нападал на тех мыслителей, которые сомневались в Боге, как на любителей порока, разврата и власти. Он также пытался показать, что Бог, присутствуя в пространстве и времени, способен в любой момент вмешаться в сотворенный мир. Конечной целью его книги, вероятно, было утверждение божественной свободы и реальности сотворения человеческой природы по образу и подобию Божьему[24 - Краткий обзор мировоззрения Кларка см. в [Yenter, Vailati 2018].]. Фонвизин был настолько впечатлен рассуждениями Кларка, что подумывал перевести «Доказательство» на русский язык [Фонвизин 1959, 2: 104–105][25 - Первое издание книги Кларка: [Clarke 1705]. Фонвизин, возможно, изучал французский перевод [Clarke 1744].].
В «Чистосердечном признании» Фонвизин пишет о Теплове, что тот «достойно имел славу умного человека». «Разум его был учением просвещенный» [Фонвизин 1959, 2: 102]. Следует подчеркнуть, что Фонвизин использует слово «просвещенный», поскольку в данном контексте оно подразумевает как светскую ученость (знакомство с западной философией), так и религиозную образованность (в смысле разумной верности христианству). Такое употребление термина свидетельствует о том, что Фонвизин в 1769–1770 годах не рассматривал просвещение и религиозную веру как бинарную оппозицию.
Бригадир
«Бригадира» Фонвизин написал в тот момент, когда еще не пришел к окончательному разрешению своих религиозных сомнений, но был на пути к этому. Он был еще молодым человеком, склонным острить в адрес своих товарищей и «всего святого». Те, кто стал мишенью его сатирических высказываний, считали его «злым и опасным мальчишкой», но сам он видел себя иначе, а именно как человека с добрым сердцем, который «ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость» [Фонвзин 1959, 2: 90]. Что неудивительно, критические замечания в адрес религии проникли в пьесу Фонвизина, но религиозное лицемерие он критиковал в контексте более широких проблем.
Как и многие другие молодые писатели, свое первое большое произведение Фонвизин построил на материале, взятом отчасти из его собственной жизни. Гневные вспышки бригадира в пьесе отражают вспыльчивый характер отца Фонвизина, а также холерическую натуру самого Фонвизина. Семейное неблагополучие в пьесе перекликается с платонической любовной интрижкой, которую Фонвизин имел в Москве с девушкой, пожилая мать которая слыла «набитою дурою». По его признанию, эта женщина «послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли» [Фонвизин 1959, 2: 89].
Комедия «Бригадир» описывает семейную жизнь дворянской семьи в те времена, когда практика браков по расчету подвергалась нападкам со стороны сторонников брака по пылкой страсти и романтической любви. В начале пьесы члены семьи бригадира – сам бригадир, бригадирша и их сын Иванушка – только что приехали в деревню к друзьям – советнику, его жене и их дочери Софье. Советник с женой обещали выдать Софью замуж за Иванушку в течение месяца, но ни Софья, ни Иванушка не горят желанием вступать в брак. Софья надеется, что родители разрешат ей выйти замуж за честного человека Добролюбова. Иванушка же смотрит на брак с Софьей скорее как на бремя, чем как на счастливую возможность, но готов пойти на женитьбу ради возможной связи с будущей тещей, женой советника.
Представители старшего поколения выступают за брак Софьи и Иванушки по своим причинам: экономическим, романтическим либо личным. В первом явлении второго действия советник говорит Софье, что она должна выйти замуж за Иванушку за одно «хорошее достоинство» – его «изрядные деревеньки». Советник уверяет дочь: «А если зять мой не станет рачить о своей экономии, то я примусь за правление деревень» [Фонвизин 1959, 1: 62]. Когда Софья замечает, что ее будущая теща, бригадирша, – «хозяйничать охотница» и вряд ли допустит постороннее вмешательство в управление изрядными деревеньками, становится понятен второй расчет советника: он влюблен в бригадиршу. «Я привязан к ее свекрови, привязан очами, помышлениями и всеми моими чувствы… Вижу, что гублю я душу мою» [Фонвизин 1959, 1: 63]. Ослепленный страстью, советник до самого конца пьесы не понимает, что его собственная жена влюбилась в Иванушку. Советница называет Иванушку «трефовый король», «жизнь моя», «душа моя», «полудуши моей». В Иванушке она видит спасение от скуки и неудачного брака. В третьем явлении первого действия она обвиняет мужа в том, что он «повез меня мучить в деревню». По ее словам, советник – «ужасная ханжа», который «скуп и тверд, как кремень», но при этом «не пропускает ни обедни, ни завтрени и думает… что будто Бог столько комплезан, что он за всенощною простит ему то, что днем наворовано». Мужа она называет «мой урод» [Фонвизин 1959, 1: 55]. Бригадир тем временем влюблен в советницу. В четвертом явлении третьего действия он сравнивает ее с «фортецией, которую хочет взять храбрый генерал» [Фонвизин 1959, 1: 80].
Одна лишь бригадирша неуязвима для стрел Купидона. Когда советник в третьем явлении второго действия признается ей в любви, она не понимает его. Когда Иванушка объясняет ей намерения советника, она грозится рассказать мужу о его беззаконном предложении и передумывает, только когда сын говорит, что советник «шутил» [Фонвизин 1959, 1: 67–68]. По меркам образованного общества, бригадирша – простофиля, «дура», потому что не признает амурных развлечений. Согласно ее традиционному мировоззрению, брак – это часть естественного порядка, и к тому же он необходим для ведения хозяйства. В первом явлении первого действия она заявляет: «Мне… скучны те речи, от которых нет никакого барыша» [Фонвизин 1959, 1: 51]. Когда муж упрекает ее в том, что она уделяет больше внимания домашней скотине, чем ему, она отвечает с искренним недоумением: «Вить скот сам о себе думать не может. Так не надобно ли мне о нем подумать?» [Фонвизин 1959, 1: 52]. В первом явлении пятого действия, когда Иванушка заявляет ей, что «довольно видеть вас с батюшкою, чтоб получить совершенную аверсию к женитьбе», она восклицает: «Разве мы спустя рукава живем? То правда, что деньжонок у нас немного, однако ж они не переводятся». Она упрекает Иванушку в непонимании того, что «гривною в день можно быть сыту» [Фонвизин 1959, 1: 95].
Своего несчастья в браке бригадирша не скрывает. В первом явлении первого действия она говорит Иванушке: «Вы, конечно, станете жить лучше нашего. Ты, слава Богу, в военной службе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили. Мой Игнатий Андреевич вымещал на мне вину каждого рядового» [Фонвизин 1959, 1: 48]. Во втором явлении четвертого действия бригадирша расплакалась оттого, что муж назвал ее «свиньей и дурой». Она печально рассказывает Софье, что однажды бригадир «в шутку, потолкнул он меня в грудь… что я насилу вздохнула». Она говорит: «Этого еще не бывало, чтоб он убил меня до смерти», но боится, что когда-нибудь он ей «раскроит череп разом». Словесные и физические оскорбления мужа в свой адрес она объясняет его «крутым нравом» и армейскими привычками [Фонвизин 1959, 1: 84–85]. Свою супружескую жизнь она называет ужасной («худо-худо»), но при этом говорит Иванушке в первом явлении пятого действия: «Дай-то Господи, чтоб и тебе так же удалось жить, как нам» [Фонвизин 1959, 1: 96]. Она страдает в браке, но принимает страдания как часть естественного порядка вещей. Иными словами, она подчиняется бригадиру, потому что не знает, что можно вести себя иначе. Она уговаривает сына жениться, потому что не представляет себе другой жизни для него.
Из описания семейной жизни Фонвизиным становится ясно, что условием брака по расчету является подчинение молодых людей воле родителей. Бригадирша наставляет Иванушку в первом явлении пятого действия: «Наше дело сыскать тебе невесту, а твое жениться. Ты уж не в свое дело и не вступайся». На возражение Иванушки: «Как… я женюсь, и мне нужды нет до выбору невесты?» – бригадирша отвечает: «А как отец твой женился? А как я за него вышла? Мы друг о друге и слухом не слыхали. Я с ним до свадьбы отроду слова не говорила и начала уже мало-помалу кое-как заговаривать с ним недели две спустя после свадьбы» [Фонвизин 1959, 1: 96]. Подобное же слышит Софья от своего отца-советника в явлении первом второго действия: «Да разве дети могут желать того, чего не хотят родители? Ведаешь ли ты, что отец и дети должны думать одинаково?» Когда Софья говорит отцу, что в браке с Иванушкой она будет несчастной, потому что она не хочет подчиняться дураку, советник нетерпеливо заявляет: «Мне кажется, ты его почитать должна, а не он тебя. Он будет главою твоею, а не ты его головою. Ты, я вижу, девочка молодая и не читывала Священного Писания» [Фонвизин 1959, 1: 61–62].
И Софья, и Иванушка бросают вызов родителям: Софья молча надеется на Добролюбова, Иванушка открыто оспаривает власть бригадира. Поскольку комический потенциал пьесы и ее идеологический заряд обусловлены этим конфликтом поколений, важно понять, в чем заключается разногласие. Как явствует из пятого явления первого действия, Софья противится браку с Иванушкой, потому что осознает, что «мой жених ко мне нимало не ревнует», и убеждена, что ее любовь к Добролюбову «кончится с жизнию моею». Добролюбов уверяет ее, что их «любовь основана на честном намерении и достойна того, чтоб всякий пожелал нашего счастия» [Фонвизин 1959, 1: 59–60]. Иными словами, отношения Софьи с Добролюбовым основаны на искренней любви, в то время как связь с Иванушкой таковой быть не может. В первом явлении второго действия Софья говорит отцу, что разногласия между ними по поводу ее брака с Иванушкой, – это не просто различие мнений, а различие воль. Признавая свой долг повиноваться отцу, она тем не менее держит себя с ним, как ровня. Она отвергает попытки советника устыдить ее за несогласие с ним. Она говорит отцу, что Иванушка не будет его уважать, и выражает сомнение в том, что советник будет, как надеется, управлять имениями Иванушки [Фонвизин 1959, 1: 61–63].
Аргументы Софьи против брака с Иванушкой кажутся сегодня убедительными, потому что они самоочевидным образом взывают к дорогим нам ценностям: к необходимости взаимной любви в браке, к личной независимости женщины и мужчины, вступающих в брак. Однако в России Фонвизина ни взаимная любовь, ни личная независимость не считались определяющими для «удачного» брака. Гораздо большее значение для успеха брака имело приобретение собственности или перспектива распоряжаться ею. Здесь «изрядные деревеньки» Иванушки перевешивают Софьино воззвание к добродетели и разуму. Поэтому Фонвизин в итоге находит практический выход для решения судьбы Софьи: Добролюбов получает две тысячи душ по решению суда. В четвертом явлении третьего действия, узнав о новом богатстве Добролюбова, советник восклицает: «Две тысячи душ! О Создатель мой, Господи! И при твоих достоинствах! Ах, как же ты теперь почтения достоин!» [Фонвизин 1959, 1: 80–81]. В заключительных строках пьесы советник благословляет помолвку Софьи и Добролюбова и осуждает свой собственный прежний путь: «Говорят, что с совестью жить худо: а я теперь сам узнал, что жить без совести всего на свете хуже» [Фонвизин 1959, 1: 103]. В этой строке, казалось бы, одобряется добродетельное поведение Софии, но на самом деле в ней присутствует этическая двусмысленность, поскольку правильное поведение отождествляется с приобретением материальных благ[26 - Если бы Фонвизин был этическим утилитаристом, то апелляция к практическим результатам – «наибольшее счастье наибольшего количества людей» – могла бы быть интеллектуально последовательной. Но Фонвизин, по-видимому, связывал добродетель не с пользой, а с разумом и приверженностью этическим принципам.].
«Бунт» Иванушки против бригадира гораздо менее рационален и потому гораздо интереснее, чем бунт Софьи против советника. В третьем явлении первого действия Иванушка говорит советнице: «Я индиферан во всем том, что надлежит до моего отца и матери». И непоследовательно добавляет: «Вы знаете, каково жить и с добрыми отцами, а я, черт меня возьми, я живу с животными» [Фонвизин 1959, 1: 54]. В четвертом и пятом явлениях второго действия он смеется, увидев, как его отец, бригадир, признается в любви к советнице. Однако в шестом явлении второго действия, узнав, что бригадир решил всерьез добиваться ее взаимности, он подумывает вызвать отца на дуэль. Он читал во французской книге о дуэли отца и сына в Париже, и говорит советнице: «… а я, или я скот, чтоб не последовать тому, что хотя один раз случилося в Париже?» [Фонвизин 1959, 1: 70]. За этой глупой ремаркой следует самая запоминающаяся ссора в пьесе – перебранка бригадира с Иванушкой в первом явлении третьего действия. Иванушка говорит отцу, что заставлять его жениться на русской женщине – оскорбление, потому что «тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской». Он заявляет, что бригадир не имеет права устраивать такой брак, потому что «я такой же дворянин, как и вы, monsieur».
Он ни во что не ставит воинское звание отца и основывает свое собственное на том, что «был в Париже». Он сравнивает отца с диким зверем: «…а когда щенок не обязан респектовать того пса, кто был его отец, то должен ли я вам хотя малейшим респектом?» [Фонвизин 1959, 1: 72–74]. Таким образом, в качестве доводов против брака по расчету Иванушка использует как серьезные аргументы (отец, принуждающий взрослого сына к женитьбе, лишается его уважения), так и необоснованные логические посылки (поскольку люди – животные, они не должны уважать друг друга) наряду с мнимой логической связью (я в душе француз, но как русский дворянин я вам ровня). В сущности, Иванушка испытывает к отцу отвращение, а ненавидя отца, он презирает Россию. В ответ на ненависть сына бригадир отвечает непониманием, яростью, угрозами разбить ему лицо [Фонвизин 1959, 1: 74], обещанием – «разом ребра два у тебя выхвачу» [Фонвизин 1959, 1: 75] – и, наконец, желанием «поколотить» во втором явлении пятого действия [Фонвизин 1959, 1: 99]. Эти угрозы, опирающиеся на убежденность бригадира в своем праве принуждать непокорных «подданных», выражают самую суть отношений внутри дома, построенных на силе и произволе. Поскольку домохозяйства были основой российского государства, фонвизинское изображение разлада в семье бригадира указывает на более масштабное расстройство российской общественно-политической жизни.
Пьесу Фонвизина «Бригадир» нельзя назвать политической драмой в прямом смысле слова, но в ней содержится явный намек на природу российского государства. В пьесе речь идет о двух недавно вышедших в отставку чиновниках: бригадире, военный чин которого примерно соответствует бригадному генералу и занимает пятую строку сверху в петровской Табели о рангах, и советнике, который мог иметь любой чин от девятого [титулярный советник] до второго [действительный советник]. Вероятно, Фонвизин хотел изобразить двух чиновников сопоставимого ранга – военного и гражданского. Как мы уже отмечали, бригадир обладает холерическим темпераментом. Он высокомерен и уморителен в своем внимании к чинам: в первом явлении первого действия он замечает, что Бог должен особо считать волосы на голове чиновников пятого класса, ибо, «Как можно подумать, что Богу, который всё знает, неизвестен будто наш табель о рангах?» [Фонвизин 1959, 1: 50–51]. В свою помещичью жизнь бригадир привносит военное мировоззрение, сложившееся у него за время службы. Среди прочего это означает, что он воспринимает себя как командира своей семьи. В ходе бурного спора с Иванушкой в первом явлении третьего действия он говорит сыну: «…тебе забывать того по крайней мере не надобно, что я от армии бригадир» [Фонвизин 1959, 1: 73]. В четвертом явлении третьего действия он жестко порицает Иванушку за то, что тот не делает военной карьеры: «Где он (Иванушка) был? в каких походах? на которой акции?» [Фонвизин 1959, 1: 79]. Фонвизин исподволь подводит зрителя к пониманию российского государства как субъекта, влияющего на все аспекты жизни – от военного порубежья на юге до провинциального семейного очага в центре империи. На протяжении всей пьесы Фонвизин называет героев не по имени, а по чину (бригадир, советник) или его производным (бригадирша, советница), что свидетельствует о том, насколько глубоко в ткань общества проникла Табель о рангах, определяя социальные взаимодействия даже тех людей, которые уже не занимали государственных должностей.
Советник – судья в отставке. Он лишен интеллектуальной любознательности и, соответственно, имеет узкий кругозор: его представление о полезном чтении сводится к изучению межевых инструкций и военных уставов [Фонвизин 1959, 1: 48–49]. Создание имперской бюрократии, пропитанный ее духом, он холоден сердцем, скуп и коррумпирован. В третьем явлении первого действия его жена рассказывает Иванушке: «Муж мой пошел в отставку в том году, как вышел указ о лихоимстве. Он увидел, что ему в коллегии делать стало нечего, и для того повез меня мучить в деревню» [Фонвизин 1959, 1: 55]. Как мы видели, брак Софьи советник рассматривает как средство получить в распоряжение чужие земли. Бригадирша впечатляет его своей хозяйственностью, а Добролюбов – тем, что приобретает две тысячи душ. В шестом явлении третьего действия советник говорит жене, что только богатство имеет значение: «Две тысячи душ и без помещичьих достоинств всегда две тысячи душ, а достоинствы без них – какие к черту достоинствы» [Фонвизин 1959, 1: 81]. В этом же явлении, когда Добролюбов жалуется на повальное взяточничество судей, советник заявляет: «А я так всегда говорил, что взятки и запрещать невозможно. Как решить дело даром, за одно свое жалованье? Этого мы как родились и не слыхивали! Это против натуры человеческой…» [Фонвизин 1959, 1: 81]. Несмотря на выход в отставку, взгляды советника на человеческую природу не изменились со времен его судейства. Неприкрытая жадность и коррумпированность советника порождают ироническую ситуацию в третьем явлении пятого действия, когда он, наконец, осознаёт неверность жены. Он выговаривает ей: «Ты лишила меня чести – моего последнего сокровища». Верный себе, он грозит бригадиру иском, чтобы тот выплатил ему компенсацию за потерю чести: «Я все денежки, определенные мне по чину, возьму с него» [Фонвизин 1959, 1: 100]. В сознании советника честь – производная величина от ранга, но кроме того, имеет денежный эквивалент.
Несмотря на свои пороки, советник считает себя религиозным человеком. Вторя бригадиру, он говорит, что в России «все в руце Создателя. У него все власы главы нашея изочтены суть» [Фонвизин 1959, 1: 50]. Жене он хвастается: «Без власти Создателя и Святейшего Синода развестись нам невозможно» [Фонвизин 1959, 1: 100]. Только в конце пьесы он понимает, что Бог может быть не просто символической фигурой, придуманной для спокойствия действующих и бывших чиновников, и что жизнь без совести приводит к беде.
Таким образом, в «Бригадире» Фонвизина российское государство – это всепроникающая структура, которая определяет степень почета, полагающуюся чиновникам и отставникам, отравляет их семейную жизнь, институционализирует взяточничество, поощряет коррупцию и алчность в деревне, распространяет лицемерие и безбожие. Более того, как мы увидим ниже, Фонвизин считает, что государство несет косвенную ответственность и за глубокое смешение культур в стране, то есть за столкновение французских и русских ценностей, которое лежит в основе спора поколений, являющегося движущей силой комедии.
Бригадир и советник у Фонвизина малообразованны и поэтому не знают иностранных обычаев. Однако при этом сын бригадира жил в Париже, вероятно, на государственную стипендию, а советница изучала французский язык, как и положено жене чиновника. В чем же состоит их французское образование? В третьем явлении третьего действия Иванушка пытается объяснить отцу, чему он выучился за границей. Его ремарки, в основном бессвязные, вызывают неодобрение отца и, несомненно, смех фонвизинской публики. Но эти реплики несут явные признаки политических и культурных установок, отличных от бригадирских. Иванушка восхваляет французский индивидуализм («всякий отличается в нем своими достоинствами»), терпимость к чужакам («В Париже все почитали меня так, как я заслуживаю»), свободу выбора («Всякий, кто был в Париже, имеет уже право, говоря про русских, не включать себя в число тех, затем что он уже стал больше француз, нежели русский») [Фонвизин 1959, 1: 76–78]. В первом явлении пятого действия он утверждает, что у французов иные взгляды на брак и хозяйство, чем у русских. Ни один француз не вступит в брак по расчету, ни один француз не согласится «кушать наши сухари» [Фонвизин 1959, 1: 95–96]. Более того, в четвертом явлении пятого действия Иванушка заявляет, что французу «невозможно» сердиться на супружескую измену, так как у них такие поступки считаются «безделицей». Восхищение Иванушки французами в итоге сводится к двум простым утверждениям: во Франции люди свободны в той мере, какая недоступна в традиционалистской России, и там «люди-то не такие, как мы все русские» [Фонвизин 1959, 1: 77]. Иванушка отчаянно ищет слова, чтобы сказать отцу, что «выход» из русской отсталости в том, чтобы русские стали французами – если не телом, то душой. Бригадир, не понимающий своего блудного сына почти ни в чем, здесь осознает, что Иванушка отрекается от русских ценностей, и обещает: «Рано или поздно я из него французский дух вышибу» [Фонвизин 1959, 1: 79]. В противостоянии с блудным сыном бригадира постигает участь, нередкая для государственных чиновников XVIII века, которые служили русскому государству, даже при том, что оно поощряло «французские» ценности.
Между тем, как явствует из первого явления первого действия, старшие не могут понять «грамматику» или дискурс молодого, более космополитичного поколения. По мысли Фонвизина, по мере того как французские обороты речи проникали в русский язык, русские не только начинали использовать заимствованные слова в странных формах, но и теряли контроль над родным языком. Когда бригадирша, к своему ужасу, узнаёт, что советник признался ей в любви, она не может выразить эту мысль по-русски. Иванушка говорит ей: «Матушка, он с тобою амурится!» – высказывание, в котором французское слово amour образует корень неологизма «амуриться», возвратного глагола, который может означать как «говорить о любви» с кем-то, так и «заниматься любовью» с кем-то. Бригадирша отвечает: «Он амурится!» – смешная фраза, потому что без зависимого слова [«с тобою»] она буквально означает: «Он любит сам себя» [Фонвизин 1959, 1: 66]. Сбитая с толку бригадирша признается советнику: «Иному откроет [Господь] и французскую, и немецкую, и всякую грамоту, а я, грешная, и по-русски-то худо смышлю» [Фонвизин 1959, 1: 65]. Даже сам бригадир, решительный противник французских выражений и французской культуры, в четвертом явлении третьего действия допускает забавный неологизм, объясняясь с советницей: «Я хочу, чтоб меня ту минуту аркибузировали, в которую помышлю я о тебе худо» [Фонвизин 1959, 1: 78]. Россия Фонвизина – это место, в котором с пугающей комичностью рушится русская грамматика, а вместе с ней и понимание между людьми. В первом явлении первого действия все персонажи сходятся во мнении: «Черт меня возьми, ежели грамматика к чему-нибудь нужна, а особливо в деревне» [Фонвизин 1959, 1: 52–53]. Как и другие страны, раздираемые культурными противоречиями, фонвизинская Россия вызывает улыбку, смех, жалость, но также и понимающие, горькие слезы.
Читатели Фонвизина расходились во мнениях относительно того, насколько серьезно следует принимать его критику российского общества и государства. Его первый биограф, князь П. А. Вяземский, считал, что «Бригадир» – «более комическая карикатура, нежели комическая картина». Вяземский утверждал, что флирт между бригадиром и советницей, а также между советником и бригадиршей неправдоподобны, хотя «симметрия в волокитстве» несет в себе большой комический потенциал [Вяземский 1848: 205–206]. Вяземский также считает, что Фонвизин не стремился сделать то, что делают хорошие драматурги, то есть создать вымышленный мир и исследовать его противоречивые стремления. Фонвизин, как считает Вяземский, довольствовался тем, что помещал в свою пьесу персонажей, которых наблюдал в обществе или выдумывал, чтобы «расцветить кистью своею» [Вяземский 1848: 208–209].
Другую крайнюю точку зрения на Фонвизина, противоположную Вяземскому, предлагал советский литературовед Г. П. Макогоненко, который рассматривал «Бригадира» как политический трактат, направленный против сословных, дворянских привилегий и «идеологии рабовладельцев» [Макогоненко 1961: 108–109]. Макогоненко полагает, что Фонвизин написал пьесу зимой 1768–1769 годов, после событий, связанных с Уложенной комиссией. По его мнению, Фонвизин был единомышленником Григория Коробьина и философа Я. П. Козельского, а также других критиков крепостного права, входивших в состав Уложенной комиссии. Фонвизин, как считает Макогоненко, был также оппонентом Михаила Щербатова, который в публичных дебатах выступал против резкого освобождения крепостных [Макогоненко 1961: 97–104]. По мнению Макогоненко, «Бригадир» – это систематическая защита просвещенческой идеологии Фонвизина, где Софья и Добролюбов представляют чистые просветительские идеалы (человеческое достоинство, честь и сострадание), противостоящие ретроградам-помещикам и политическим реакционерам вроде бригадира и советника [Макогоненко 1961: 112–115]. Макогоненко утверждает, что в своем художественном методе Фонвизин сознательно отходит от классицизма Сумарокова и других драматургов XVIII века в пользу нарождающегося реализма [Макогоненко 1961: 117–135]. Этот «реализм» в большинстве сцен сводится к сатирическому «обнаружению» «паразитической жизни» русского дворянства [Макогоненко 1961: 142].
Правота Вяземского в этой дискуссии в том, что в комическом методе Фонвизина действительно есть элемент карикатуры, однако Вяземский был не прав, игнорируя политическую повестку пьесы. Макогоненко, со своей стороны, придал слишком большое значение политическому содержанию пьесы, представив комедию как идеологический «памфлет» в защиту просвещения и против «паразитизма» владельцев крепостных. Затруднение для Макогоненко представлял финал пьесы, в котором происходит помолвка Софьи с богатым помещиком Добролюбовым, поскольку тем самым как бы подтверждается правомерность крепостного права как основы общественного строя. Также Макогоненко проигнорировал неудобную для него фонвизинскую критику галломании: он не стал ее анализировать, отделавшись от Иванушки фразой об «идиотически бессмысленной жизни двадцатипятилетнего бездельника» [Макогоненко 1961: 105].
На самом деле карикатура Фонвизина на дворянские нравы была одним из признаков продолжающейся трансформации российского общества под влиянием западных ценностей – процесса, инициированного Петром I и ускоренного Екатериной II в первые годы ее царствования. В глазах Фонвизина эта трансформация, имевшая много положительных сторон, была одновременно и смешной, и, в некоторых отношениях, потенциально трагичной, особенно в связи с исчезновением грамматики и распадом смысла. Фонвизин не был однозначным или, по выражению Михаила Бахтина, «монологическим» поборником Просвещения, каким его представил Макогоненко. Фонвизин достаточно ясно понимал ценность индивидуализма, толерантности, разума и человеческого достоинства, но его беспокоило, что французские представления о личной нравственности приведут к разладу в российской семейной жизни, обществе и культуре. Грозная финальная реплика советника – «жить без совести всего на свете хуже» – напоминала россиянам, что за отказом от традиционной религии следует ад.
Из «Чистосердечного признания» Фонвизина известно, что он читал «Бригадира» своему покровителю Елагину, Екатерине и Павлу, Никите и Петру Паниным, Захару Григорьевичу и Ивану Григорьевичу Чернышевым, А. С. Строганову, членам семей Шуваловых, Воронцовых, Румянцевых, Бутурлиных [Фонвизин 1959, 2: 96–101]. Эта аудитория не только задавала тон русской высокой культуре, покровительствуя писателям, но и в значительной степени несла коллективную ответственность за политический курс России. Чем объяснить их благосклонность к «Бригадиру», пьесе, нашпигованной скрытой, а то и явной социальной и политической критикой?
Ответ отчасти в том, что в пьесе Фонвизина критикуются только отставные чиновники. Бригадир в последний раз участвовал в военных действиях в турецкой войне 1735–1739 годов – это единственная кампания, которую он упоминает в четвертом явлении третьего действия. Советник ушел с государственной службы в год издания императорского указа о борьбе со взяточничеством, то есть в 1762 году. В этих фактах легко читается прозрачный намек на то, что бригадир и советник у Фонвизина олицетворяют пороки государственных чиновников доекатерининской эпохи. Кроме того, благосклонный прием произведения Фонвизина объясняется тем, что Екатерина сама неоднократно выступала с критикой российских законов и нравов в «Наказе», а с 1769 года – в своем сатирическом журнале «Всякая всячина». Поэтому она не была склонна считать Фонвизина своим критиком. Напротив, она, скорее всего, видела в нем потенциального союзника, тем более что Елагин, покровитель Фонвизина, был также ее союзником и протеже. И, наконец, нападки Фонвизина на русскую галломанию вполне вписывались в русло критики французской моды, восходящей к пьесе Сумарокова «Третейный суд» (1750). В произведениях, критикующих русскую галломанию, среди которых были «Жан де Моле, или Русский француз» (1764) Елагина и «Россиянин, возвратившийся из Франции» (1760-е) А. Гр. Карина, высмеивались русские, стыдившиеся своей русскости[27 - Текст пьесы А. Карина утрачен. Пьеса Елагина является переработкой пьесы Хольберга «Jean de France eller Hans Frandsen» (1722).]. Позднее и Екатерина написала в этом жанре пьесу «Именины госпожи Ворчалкиной» (1772).
Фонвизин и Панин
Фонвизин искал для «Бригадира» высочайшей аудитории. Как мы уже отмечали выше, он читал пьесу Н. И. Панину и великому князю Павлу. Панин считал, что бригадирша очень удалась как персонаж: «Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу». Про пьесу Фонвизина он говорил: «Это в наших нравах первая комедия» [Фонвизин 1959, 2: 99]. Панин организовал чтение пьесы перед Павлом, представил драматурга будущему императору и способствовал их общению. В показном дружелюбии Панина к Фонвизину был большой элемент политического расчета: он стремился приблизить Фонвизина ко двору царевича и, вероятно, надеялся уговорить Фонвизина работать у себя личным секретарем в Коллегии иностранных дел. Макогоненко предполагает, что уже в 1769 году Фонвизин решил уйти со службы у Елагина и перестать поддерживать Екатерину [Макогоненко 1961: 151–156]. Поэтому, когда в конце 1769 года Панин обратился к Фонвизину с предложением, Фонвизин сразу же ответил: «Но я тогда только совершенно доволен буду, когда ваше сиятельство удостоите меня своим покровительством» [Фонвизин 1959, 2: 98].
С точки зрения карьеры Фонвизина события конца 1769 года определили его дальнейший путь почти на 14 лет – вплоть до смерти Панина в марте 1783 года. В течение этого времени он был секретарем, доверенным лицом и политическим союзником Панина. В памятном слове на смерть Панина Фонвизин писал: «…не было ни одного дела, касательного до пользы и благосостояния империи, в котором бы он не участвовал или собственными трудами, или советами» [Фонвизин 1959, 2: 282]. «Главнейшие правила», которыми Панин руководствовался в ведении дел, Фонвизин изложил следующим образом: «1-е) Что государство может всегда сохранить свое величие, не вредя пользам других держав… 2-е) Что толь обширная империя, какова есть Россия, не имеет причины употреблять притворства и что единая только искренность должна быть душою ее министерии… 3-е)… рассуждать о делах с кротостию и дружелюбием». Во внутренних делах, как отмечал Фонвизин, Панин выступал против сложившейся в России культуры государственной тайны. Он выступал за обнародование основных бюджетных данных о расходах и налоговых поступлениях, «о чем в просвещенном народе все должны ведать». Панин выступал против произвола в отношении обвиняемых по уголовным делам, считая его оскорбительным для правосудия. В целом Панин выступал за «государственное благоустройство» и поэтому осуждал «корысть и пристрастие [в судах]», а также всякий обман государя или образованной публики. Его «поражал ужасом» любой «подлый поступок» чиновников и придворных [Фонвизин 1959, 2: 282–284].
Принципы управления Панина были основаны не только на его личном кодексе добродетели, в котором главное место занимали честность и справедливость, но и на здравом рассуждении о том, что секретность, произвол и обман рано или поздно воспрепятствуют осуществлению международных и внутренних интересов России. Правила Панина произвели на Фонвизина глубокое впечатление, отчасти потому, что соответствовали его собственным взглядам на политику, а также приносили ему успех в дипломатических делах.
Политические взгляды Фонвизина 1770-х годов нашли отражение в произведениях: «Слово на выздоровление его Императорского высочества Государя цесаревича и Великого князя Павла Петровича в 1771 годе», перевод «Слова похвального Марку Аврелию» Антуана-Леонара Тома (оригинал опубликован в 1775 году, перевод Фонвизина издан анонимно в 1777 году), а также в письмах из Франции (написаны в 1777–1778 годах, большинство из них опубликованы в 1830 году).
В «Слове» Павел превозносится за то, что он перенес болезнь с «крепостию духа», в бескорыстном великодушии по отношению к народу [Фонвизин 1959, 2: 190–191]. Автор «Слова» призывает царевича выразить благодарение за восстановленное здоровье, признав необходимость повиноваться Божьему закону, «который есть вся сила и безопасность законов человеческих». По мнению Фонвизина, Павел в будущем должен быть «правосуден, милосерд, чувствителен к бедствиям людей» и не искать «другия себе славы», помимо народного расположения, поскольку «любовь народа есть истинная слава государей». Фонвизин советует Павлу владеть своими страстями, быть верным истине и считать лесть «изменою», так как «нет верности к государю, где нет ее к истине» [Фонвизин 1959, 2: 192–193]. «Слово» Фонвизина принадлежит к традиционному жанру «княжеского зерцала» с акцентом на правосудие, милосердие и благотворительность бедным. Однако в замечании Фонвизина о том, что «любовь народа есть истинная слава государей», чувствуется дух Локка и особенно Руссо. Стоит отметить, что «Слово» Фонвизина, в котором подчеркивалась важность истины и верности, возможно, было упражнением в притворстве, поскольку Фонвизин восхвалял Екатерину за ее заботу о болеющем Павле. Как, несомненно, знал Фонвизин, в 1771 году при дворе ходили слухи об отравлении Павла с намеком на причастность к нему Екатерины [Макогоненко 1961: 151–156].
В «Слове похвальном Марку Аврелию» Антуан Леонар Тома ставит римского стоика в пример современным правителям. По мнению Тома, Марк был идеальным императором: ценителем истины и добродетели, знатоком истории и законов, скромным человеком, который ненавидел придворные интриги, и подлинным философом. По словам Тома, Марк считал, что философия – это «наука исправлять людей просвещением» [Фонвизин 1959, 2: 199]. Тома сопоставляет Марка не с римскими императорами, а с республиканцами Катоном и Брутом [Фонвизин 1959, 2: 199–200]. Для Марка, в изложении Тома, «для всех душ есть един разум», а если разум один, «то надлежит быть и единому закону» [Фонвизин 1959, 2: 202]. Поэтому долг каждого человека – «терпеть все, что налагает на тебя естество вселенныя, и делать все, чего твое человеческое естество требует». Для императора этот этический императив означал: «Если в целом свете прольется одна слеза, которую ты мог предупредить, ты уже виновен» [Фонвизин 1959, 2: 203]. По мысли Тома, Марк понимал, что императору в исполнении этого долга мешают корыстные придворные, преувеличивающие богатство страны и преуменьшающие ее проблемы. Марк пытался противостоять этому организованному обману, помня о своем этическом призвании и руководствуясь разумом [Фонвизин 1959, 2: 205–207], то есть понимая, что «источник твоих действий должен быть в душе твоей, а не в душе других» [Фонвизин 1959, 2: 208]. Император должен жить, «утешая скорбных, услаждая жизнь несчастных» [Фонвизин 1959, 2: 210], отстаивать свободу и бороться с рабством, «ибо где токмо владыко и рабы, тамо нет общества» [Фонвизин 1959, 2: 211–212].
Марк Аврелий у Тома определяет свободу как «первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме их ничего не бояться», ибо «ни один человек не имеет нрава повелевать другим самовольно» [Фонвизин 1959, 2: 212]. Сам император, писал Тома, должен придерживаться законов и считать подчинение закону честью для себя, ибо «власть делать неправосудие есть слабость». По мысли Марка Аврелия, «образ государственного правления перемениться может, но права граждан всегда те же» [Фонвизин 1959, 2: 213].
Тома считает также, что Марк Аврелий стремился защитить собственность римских граждан. Эта политика предполагала борьбу с разбойниками, но при этом отказ от излишних налогов, так как поборы в казну представляли собой «некий род войны, где часто закон поставляем был против правосудия и государь против подданных» [Фонвизин 1959, 2: 214]. В то же время Марк ненавидел роскошь и считал необходимым облагать налогами богатых, чтобы не допустить ее распространения. Он считал спартанские жилища «блистательнее и величественнее златых палат, в коих тираны… жили» [Фонвизин 1959, 2: 216].
В отношении судов Марк принимал меры против взяточничества судей, а также против ложных доносов на обвиняемых. Он требовал, чтобы арестованным по уголовным делам сообщали о предъявляемых им обвинениях, и утверждал, что арестованные должны иметь право на надлежащую правовую защиту [Фонвизин 1959, 2: 217–218]. Марк рассматривал суды как места отправления правосудия, где император мог видеть «подробности людских несчастий» и таким образом приобрести знания, которые приблизят его к народу [Фонвизин 1959, 2: 219].
По убеждению Тома, император должен всегда помнить, что «природа создала существа в свободе и равенстве; настало тиранство и сотворило существа слабые и несчастные» [Фонвизин 1959, 2: 220]. Поэтому император должен прибегать к законам как к защите от тирании, но главным препятствием для нее всегда должен быть его личный пример [Фонвизин 1959, 2: 222].
Фонвизин, вероятно, перевел «Слово похвальное Марку Аврелию» Тома в качестве руководства для царевича Павла. Возможно, в этот перевод он также вложил завуалированный упрек в адрес Екатерины. Упор Тома на разум, добродетель и любовь к свободе в рамках закона, защита прав собственности и справедливое налогообложение, стремление к правовому государству – все это составляло политическую платформу благоустроенных государств по всей Европе. Характеристика Марка Аврелия как противника рабства приобрела особую актуальность в России после Пугачевского бунта: к концу 1770-х годов всем высшим слоям страны стало ясно, что принудительный труд чреват социальными волнениями и даже революцией. Если десятилетием раньше Фонвизину не хватило смелости публично выступить против крепостного права, то теперь, возможно, он решился выразить критику посредством перевода «Слова» Тома. Наиболее запоминающиеся фрагменты «Слова» – размышления о свободе и об опасностях тирании – в русском контексте были потенциально взрывоопасными, поскольку могли послужить знаменем в «борьбе двух дворов» – двора «добродетельного, свободолюбивого Павла» и официального двора «тиранической» Екатерины.
Такая интерпретация намерений Фонвизина при переводе «Слова» подтверждается рецензией, опубликованной в «Санкт-Петербургском вестнике» в 1778 году. В рецензии, подписанной инициалом «Ф», говорилось, что книга «будет всегдашним обличением слабому или не соответствующему пользе народа, а в то же время хвалою всякому премудрому и благотворительному правлению, в котором земные владетели вменяют себе за славу вещать, что они сотворены для своего народа»[28 - Известия о новых книгах // Санкт-Петербургский журнал, февраль 1778 года, часть 1, с. 56–59. Цит. по: [Макогоненко 1961: 172].]. По мнению Макогоненко, автором рецензии должен быть «кто-то очень близкий к Фонвизину», если не сам Фонвизин [Макогоненко 1961: 173–174].
В августе 1777 года Фонвизин посетил Францию с дипломатической миссией: ему было поручено содействовать проведению антибританской политики Панина, побуждая французское правительство поддержать американских колонистов в их восстании против Великобритании. Для выполнения поручения Фонвизину потребовались консультации с российским послом во Франции И. С. Барятинским относительно намерений французского правительства. Кроме того, Фонвизин должен был сделать все необходимое, чтобы продемонстрировать дружелюбие России по отношению к американским колонистам. После того как в марте 1778 года Великобритания объявила войну Франции, Фонвизин энергично отстаивал политику «вооруженного нейтралитета» Панина по отношению к французам и англичанам, благоприятствовавшую ходу восстания американских колонистов против Великобритании. Отдавая дань памяти Панину после его смерти в 1783 году, Фонвизин назвал политику вооруженного нейтралитета одним из самых «достопамятных дел» Панина [Фонвизин 1959, 2: 282]. Кстати, выполняя вторую часть своего задания по демонстрации дружественного отношения России к американцам, Фонвизин встретился с американским «послом» во Франции Бенджамином Франклином на собрании «Республики ученых» в июне 1778 года. В ходе встречи Фонвизин публично обменялся любезностями с Франклином, явив пример того, что позже стали называть культурной дипломатией.
Для наших целей наиболее значимым результатом визита Фонвизина во Францию является его переписка с семьей и с Паниным. Переписка состояла из восьми писем к родным (отцу, матери и сестре Феодосии Ивановне), в которых излагались подробности путешествия, а также впечатления от французского общества и культуры, и восьми писем к Панину, написанных в период с 22 ноября 1777 года по 18 сентября 1778 года и посвященных французскому обществу и культуре. Как и следовало ожидать, письма Фонвизина к семье написаны по-свойски, в то время как письма к Панину носят более официальный характер; впрочем, обе категории писем могли быть написаны с учетом возможной публикации[29 - В 1788 году Фонвизин дал объявление о плане издания пятитомного собрания сочинений, в которое должны были войти «разные письма» [Макогоненко 1959: 627–628].]. Копии писем из Франции Фонвизин, очевидно, распространял среди друзей. Однако в печати письма появились лишь в 1830 году, и даже тогда в публикации отсутствовало первое из писем к семье [Макогоненко 1959: 647].
Письма Фонвизина к семье дают основание предположить, что одной из «частных» целей его визита во Францию была оценка «уровня» французской культуры: была ли Франция «лучшей страной», чем Россия? Была ли она «более развитой» или «более просвещенной» цивилизацией? На эти вопросы Фонвизин ответил: «Нет». Более того, он, кажется, сразу же отшатнулся от французов. В письме к родным от 18 сентября 1777 года он жаловался на «мерзкую вонь» на городских улицах в районе крепости Ландау в Нижнем Эльзасе; с отвращением отмечал, что «о чистоте не имеют здесь нигде ниже понятия» [Фонвизин 1959, 2: 418]. Похожим образом он жаловался на Лион, добавляя, что «надлежит зажать нос, въезжая в Лион, точно так же как и во всякий французский город» [Фонвизин 1959, 2: 420]. Французские религиозные церемонии на улицах Страсбурга показались ему «целой комедией»: «С непривычки их церемония так смешна, что треснуть надобно [от смеха]» [Фонвизин 1959, 2: 418]. В той же мере его позабавила церковная процессия в Монпелье, где лакеи помогали облачаться перед мессой местному епископу: «Я покатился со смеху, увидя эту комедию» [Фонвизин 1959, 2: 425]. Наблюдая за заседаниями государственных чиновников в Лангедоке, он цинично заявлял: «Поистине сказать, les Еtats собираются здесь только что веселиться» [Фонвизин 1959, 2: 427–428]. Простых жителей Монпелье он называл «скотиноватыми», «праздными», «весьма грубыми», а домашнюю прислугу – «неучами» [Фонвизин 1959, 2: 428–429]. Грязное французское столовое белье вызывало у него отвращение. По его мнению, «нет такого глупого дела или глупого правила, которому бы француз тотчас не сказал резона, хотя и резон также сказывает преглупый» [Фонвизин 1959, 2: 430]: «Я думаю, нет в свете нации легковернее и безрассуднее» [Фонвизин 1959, 2: 433].
В семейной переписке Фонвизин откладывал окончательное суждение о французской культуре до посещения Парижа. Его первое впечатление о нем, зафиксированное в письме от 9 марта 1778 года, было таково: «Париж отнюдь не город; его поистине назвать до?лжно целым миром». Тем не менее, по его словам, в Париже «нет шагу, где б не находил я чего-нибудь совершенно хорошего, всегда, однако ж, возле совершенно дурного и варварского» [Фонвизин 1959, 2: 438–439]. Простые люди живут «в крайней бедности», добывая пропитание сомнительными средствами. На Пон-Нёф Фонвизин увидел шокирующее зрелище: католического священника, открыто сопровождавшего содержанку. Французский комический театр показался ему великолепным, но французских театралов он счел несдержанными до буйства. Он отметил, что обычай сопровождать спектакль громовыми аплодисментами, похоже, перекинулся и на публичные казни: палачу аплодировали за хорошо повешенного преступника [Фонвизин 1959, 2: 439–440]. «Не могу никак сообразить того, как нация, чувствительнейшая и человеколюбивая, может быть так близка к варварству», – писал он [Фонвизин 1959, 2: 440–441].
Самым язвительным презрением Фонвизин оделил французских «ученых людей», о которых писал: «Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер» [Фонвизин 1959, 2: 443]. Он признавал, что большинство из них верны королю и отечеству, но притом крайние эгоисты, враждебны ближним и неспособны к благодарности. В них он заметил два правила поведения: никогда не противоречить другим в лицо и лгать о своих истинных мыслях.
Русских, которые хвалили парижскую жизнь за увеселения, Фонвизин обвинял в обмане: он считал Париж таким же скучным, как провинциальный Углич [Фонвизин 1959, 2: 444–445]. Имея в виду непристойность, с которой парижские мужчины растрачивали свои богатства на содержанок, он утверждал, что Париж – это «город, не уступающий ни в чем Содому и Гомору» [Фонвизин 1959, 2: 446]. Казалось, он намекал, что французские интеллектуалы, за исключением Вольтера и, возможно, Руссо, столь же нравственно испорчены, как и сама Франция. К концу своего пребывания в Париже Фонвизин утверждал, что русские поклонники Франции обманывают сами себя. «По крайней мере не могут мне импозировать наши Jean de France… научился я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве. Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой» [Фонвизин 1959, 2: 449].
В письмах к Панину Фонвизин высказывал похожие соображения, но вместе с тем дополнил их новыми. Из Монпелье он писал, как легко и дешево можно нанять учителя по философии, юриспруденции или римскому праву; при этом он отмечал бессмысленность этих дисциплин в стране, где должности продаются тому, кто больше предложит, и иронизировал, что легкий доступ к образованию уживается с глубоким невежеством [Фонвизин 1959, 2: 459]. Он отмечал, что французские образованные классы, стремясь избежать суеверий, «почти все попали в другую крайность и заразились новою философиею. Редкого встречаю, в ком бы неприметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума». Его главным устремлением во Франции стало желание понять, каким образом из-за злоупотреблений и общей порчи нравов пришла в упадок мудрая система законов, совершенствовавшаяся веками. Он отмечал, что «первое право каждого француза ость вольность; но истинное настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою». Фонвизин утверждал, что «злоупотребления и развращение нравов… уже потрясли» основы французского правового порядка [Фонвизин 1959, 2: 461].
В своем письме Панину от 15/26 января 1778 года Фонвизин перечислил недостатки Лангедокского «земского суда» (Les Еtats). Он утверждал, что парижские делегаты «приезжали сюда делать то, что хотят, или, справедливее сказать, делать то, чем у двора на счет последних выслужиться можно», а бедные провинциалы «собраны были для формы, дабы соблюдена была в точности наружность земского суда» [Фонвизин 1959, 2: 461]. Французское духовенство, по его наблюдению, делает все возможное, чтобы «не поссориться с земным, если вступится за жителей и облегчит утесненное их состояние». Вследствие всего этого «по окончании сего земского суда провинция обыкновенно остается в добычу бессовестным людям, которые тем жесточе грабят, чем дороже им самим становится привилегия разорять своих сограждан» [Фонвизин 1959, 2: 461–462]. Фонвизин полагал, что готовность французской элиты эксплуатировать обездоленных была симптомом общего упадка религиозности и доверия между людьми: «Наилучшие законы не значат ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз – добрая вера. У нас ее немного, а здесь нет и головою… Словом, деньги суть первое божество здешней земли» [Фонвизин 1959, 2: 462].
Фонвизин заметил, что практически каждый образованный француз рефлекторно утверждает, «que le Fran?ais est nе libre»[30 - что француз рожден свободным (фр.).], но в ответ на возражения многие из этих «свободных» людей признают, что их вольность – пустое слово: «O monsieur, vous avez raison! Le Francais est еcrasе, le Fran?ais est esclave»[31 - О сударь, вы правы! Француз раздавлен, француз – раб (фр.).] [Фонвизин 1959, 2: 463]. Подобную самопротиворечивость Фонвизин объяснял тем, что французы – «легкомысленные и трусливые люди», привыкшие соглашаться с мнением собеседника лишь из вежливости. Но такая манера вести разговор «совершенно отвращает господ французов от всякого человеческого размышления». Таким образом, утверждал Фонвизин, французы «слова сплетают мастерски», но машинально, «не заботясь много, есть ли в них какой-нибудь смысл» [Фонвизин 1959, 2: 463]. Поэтому Фонвизин сетовал Панину, на то, что французов, – вежливых, пустых, противоречащих себе и неразумных – «вся Европа своими образцами почитает» [Фонвизин 1959, 2: 464]. Он предупреждал, что ничего хорошего из франкофильства не выйдет.
В письме из Парижа от 20/31 марта 1778 года Фонвизин сообщал Панину, что лучшим лекарством для молодых русских, привыкших жаловаться на свою страну, является посещение Франции: «Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь» [Фонвизин 1959, 2: 467]. В письме от 14/25 июня 1778 года Фонвизин высмеивал французское самообольщение о том, что все французы разумны и что Франция является маяком разума для человечества:
Видя, что разум везде редок и что в одной Франции имеет его всякий, примечал я весьма прилежно, нет ли какой разницы между разумом французским и разумом человеческим, ибо казалось мне, что весьма унизительно б было для человеческого рода, рожденного не во Франции, если б надобно было необходимо родиться французом, чтоб быть неминуемо умным человеком [Фонвизин 1959, 2: 472].
Фонвизин утверждал, что на практике французы под «разумом» понимают просто «остроту», а не здравый смысл [Фонвизин 1959, 2: 473]. Он отмечал, что французы поэтому считают худшим оскорблением назвать человека «ridicule» («смешным»), чем сказать, что у него злое сердце. Фонвизин сомневался, что французы заслужили свою репутацию хитрецов: «Кажется, что вся их прославляемая хитрость отнюдь не та, которая располагается и производится рассудком, а та, которая объемлется вдруг воображением и очень скоро наружу выходит» [Фонвизин 1959, 2: 474]. По его мнению, Париж «…пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее» [Фонвизин 1959, 2: 475]. О парижских ученых людях он мог сказать мало хорошего. За исключением Антуана Леонара Тома, «нашел я почти во всех других много высокомерия, лжи, корыстолюбия и подлейшей лести» [Фонвизин 1959, 2: 476].
В своем письме из Ахена от 18/29 сентября 1778 года Фонвизин откровенно писал: «Д’Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие» [Фонвизин 1959, 2: 481]. Философов Фонвизин описал как светских мыслителей, система которых «состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии». Однако, по его мнению, эти философы были скорее порочны, чем добродетельны: «Кто из них, отрицая бытие Божие, не сделал интереса единым божеством своим и не готов жертвовать ему всею своею моралью?» [Фонвизин 1959, 2: 482]. «Французское воспитание» Фонвизин счел фактически оксюмороном, поскольку во Франции «все юношество учится, а не воспитывается» [Фонвизин 1959, 2: 483].
Фонвизин считал, что многие пороки французской жизни – тирания, отсутствие правосудия, неэффективная экономика, взяточничество, продажа должностей, упадок воинского духа, наглость простых солдат, любовь к пустым церемониям, антисанитария, преступность – являются следствием отсутствия нравственного воспитания во Франции. По всем параметрам он предпочитал жизнь в России жизни во Франции. Самое поразительное – русских он счел более свободными, чем французов: «Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею во многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве» [Фонвизин 1959, 2: 485–486].
Оценивая культурную и интеллектуальную жизнь Франции, Фонвизин, по-видимому, не был до конца уверен в отношении двух самых известных философов – Вольтера и Руссо. Он был свидетелем того, как восторженно Вольтера принимала публика на театральном представлении его пьесы «Ирена» в марте 1778 года [Voltaire 1779][32 - Фонвизин посетил спектакль 19 марта 1778 года [Фонвизин 1959, 2: 441–442, 469–470].]. В письме к родным от 20 марта Фонвизин никак не комментирует это преклонение перед Вольтером. Однако в письме к Панину того же дня он едко заметил: «Почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился» [Фонвизин 1959, 2: 469]. Что касается Руссо, то Фонвизин сообщил две версии его смерти. В письме к родным в августе 1778 года Фонвизин повторил слух о том, что Руссо покончил жизнь самоубийством после того, как власти обнаружили рукопись его «Исповеди». Фонвизин сожалел о смерти Руссо, но признавал: «Твоя, однако ж, правда, что чуть ли он не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века. По крайней мере бескорыстие его было строжайшее» [Фонвизин 1959, 2: 452]. В письме к Панину в том же месяце Фонвизин утверждал, что Руссо, расстроенный тем, что «Исповедь» опубликовали без его разрешения, принял яд, примирился с женой Терезой и умер, глядя в окно на восходящее солнце, «говоря жене своей в превеликом исступлении, что он пронзается величеством Создателя, смотря на прекрасное зрелище природы» [Фонвизин 1959, 2: 478–479].
Письма Фонвизина из Франции 1777–1778 годов принадлежат к числу самых тонких по наблюдениям, тщательно написанных и впечатляющих памятников екатерининской эпохи. В них он заявляет о своем отказе видеть во Франции культурный образец для России, и отвергает французские нравы еще более решительно, чем его знаменитые преемники: Карамзин и Александр Герцен. Подобно Карамзину и Герцену, Фонвизин использовал французскую культуру как декорацию для утверждения русской гордости. Как и Герцен, Фонвизин обосновывал свою гордость странным утверждением, что угнетенные русские почему-то более «свободны», чем «порабощенные» французы, несмотря на отсутствие у русских свободы по законодательству. И Фонвизин, и Герцен считали французскую городскую жизнь отвратительной, подлой, исполненной нищеты и праздного богатства. Оба критиковали дух конформизма среди «образованной» публики: Фонвизин – за лживость и порочное мышление, Герцен – за то, что конформизм – это продукт этики «среднего пути», ведущего к посредственности.
Однако в отличие от антизападничества Герцена 1850-х годов, которое было непременным элементом его аграрного социализма, антизападничество Фонвизина было связано с его (полу) традиционной религиозностью. Большинство философов Фонвизин считал секулярными мыслителями, которые отреклись от Бога лишь для того, чтобы воздвигнуть себе новый идол – корысть. В своей алчности философы были едины с жаждущими денег французскими простолюдинами. Может быть, только Вольтер и Руссо избежали этого пагубного идолопоклонства, но Вольтер, возможно, вместо этого был готов основать секту собственного изобретения, а Руссо (по мнению Фонвизина) запятнал свою «честность» самоубийством, пусть даже «героическим». По письмам из Франции очевидно, что Фонвизин не одобрял ни невежественных священников, ни «суеверий», которые он наблюдал в Страсбурге и Монпелье во время публичных религиозных обрядов. Не ценил он и потустороннюю религиозность, которую наблюдал в Лангедоке. Его мировоззрение не предполагало полного отказа от просвещения: напротив, он находил компромисс или срединный путь между «рабством» суеверий и «высокомерием» просветительского секуляризма. Читая между строк, мы видим, что Фонвизин апеллирует как к вере в Бога, так и к универсальному разуму – к недемонстративной вере, основанной на поклонении Богу в подлинном сообществе верующих, связанных любовью, и к разуму, лишенному презрения к «непросвещенным». Его девизами были вера в Бога и искреннее доверие («добрая вера»).
Утверждение Фонвизина о том, что Россию следует предпочесть Франции и что в ней есть место подлинной свободе, не следует понимать как восхваление екатерининского правления. Его замечания о французской тирании, несправедливости и взяточничестве намекали и на хорошо известные особенности российской политической жизни. Обличение недостатков французской культуры не освобождало от критики русскую культуру, поскольку русские неразумно стремились подражать французскому образованию, а с ним усваивали и французские пороки. Его аргументы сводились к тому, что порочная культура Франции не должна служить образцом для России и что «Бог создал нас не хуже их людьми» [Фонвизин 1959, 2: 476]. За этими аргументами, безусловно, стояла неприкрытая национальная гордость, но не следует забывать о том, что Фонвизин испытывал неловкость, даже смущение от того, что многие русские интеллектуалы «низкопоклонничали» перед Западом.
Фонвизин, Панин и фундаментальные политические реформы
Фонвизинское «Рассуждение о непременных государственных законах» было написано, вероятно, в 1782–1783 годах, в последние месяцы жизни Никиты Панина, хотя о необходимости реформирования российского государства Фонвизин начал размышлять, по-видимому, намного раньше. Насколько нам известно, Фонвизин составил «Рассуждение» по указанию Панина как введение к другому документу – проекту основных законов Российской империи. Панин правил «Рассуждение» Фонвизина и, вероятно, планировал взять на себя всю ответственность за его авторство. Оба документа – «Рассуждение» и проект основных законов – Панин намеревался передать Павлу по восшествии его на престол [Пигарев 1954: 134–137]. К сожалению, Панин умер, не успев завершить работу над конституционным проектом – а если он ее и завершил, то проект не сохранился. Однако он успел изложить в общих чертах его содержание и вверить его своему брату Петру для последующей передачи Павлу [Шумигорский 1907: п1–13].
И «Рассуждение», и конституционный проект были окутаны тайной. Хотя Панин сообщил Павлу, что документы находятся в стадии подготовки, он не передал их копии царевичу. Панин наверняка опасался, что случайное раскрытие документов приведет к аресту его самого, его брата Петра и Фонвизина по обвинению в заговоре против российского престола. Если бы документы попали в руки Екатерине, они наверняка послужили бы предлогом для масштабных арестов в Коллегии иностранных дел и в армии. Если бы Екатерина узнала об этих бумагах, она, вероятно, приказала бы арестовать Павла как соучастника заговора, поскольку само владение такими документами могло быть истолковано как неопровержимое доказательство его оппозиционности. Наличие опасений по поводу массовых арестов подтверждается письмом Петра Панина Павлу от октября 1784 года в котором Панин уклончиво заметил:
Известны по несчастию ужасные примеры в Отечестве нашем над целыми родами сынов его, за одни только и разсуждении противу деспотизма, распространяющагося из всех уже Божеских и естественных законовъ; сего ради, а особливо что и собственная Вашего Величества безопасность состояла еще в подвластном положены, не дерзнул я осмелиться поднести Вам сочинены брата моего противу всемогущества [Екатерины], господствующаго над всякими законами и над справедливостию [Шумигорский 1907: п2–3].
Петр Панин не уточнил, какие жертвы царского деспотизма он имел в виду. Возможно, он подразумевал бояр, арестованных Иваном IV во время опричнины; либо волну арестов после разгрома стрельцов в начале царствования Петра; либо тех, кто был наказан в связи с «заговором» Алексея Петровича против Петра; или даже тех, кто был арестован и сослан за политическую оппозицию в период между 1725 годом и окончанием дворцового заговора в 1730 году; не исключено также, что речь идет о жертвах бироновщины при Анне Иоанновне. Учитывая хорошо известное восхищение Панина Петром I, он вряд ли мог считать правление Петра примером «царского деспотизма», поэтому более вероятно, что прецедентом «тирании», на который ссылался Петр Панин, было либо правление Ивана IV, либо владычество Бирона в 1730-х годах.
«Рассуждение» Фонвизина начиналось с утверждения, что «верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных». По своей природе эта власть неограниченна, но именно поэтому
…просвещенный ясностию сея истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть не совершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла.
Исходя из предпосылки, что неограниченная политическая власть держится только на добродетели, Фонвизин утверждал, что правитель должен быть подобием Бога, который «потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага», следуя «правилам вечныя истины», которые Он сам не может нарушить [Фонвизин 1959, 2: 254–255]. Если земной правитель хочет действовать добродетельно, как «подобие Бога», он должен следовать основным законам, иначе его государство не выживет.
Фонвизин утверждал, что всякое правительство, не имеющее основного закона, «непрочно». «Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей». При правлении по произволу не правитель приспосабливает свой характер к законам, а законы изменяются сообразно характеру правителя, утверждал Фонвизин. Таким образом, при произволе то, что законно в один день, становится преступлением в другой. При режиме, основанном на капризе правителя, подданный может повиноваться из страха, но никогда не подчинится из морального долга. Такую покорность Фонвизин называл «рабским подобострастием» перед «безумным велением сильного» [Фонвизин 1959, 2: 255].
При произволе, утверждал Фонвизин, «подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу». Фонвизин настаивал на эпитете «недостойный», поскольку статус фаворита никогда не присваивался за заслуги перед отечеством, а всегда являлся результатом его ловких интриг.
Однако с укреплением влияния фаворита злоупотребление властью неизбежно приобретает более широкие масштабы, «и уже престает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым… Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен». Пороки, свойственные фавориту – гордость, наглость, коварство, алчность, сластолюбие, бесстыдство, лень – становятся всеобщими: «все сии пороки разливаются и заражают двор, город и, наконец, государство» [Фонвизин 1959, 2: 256]. При таком режиме, писал Фонвизин, подданные относятся друг к другу бесчеловечно, пропадает желание служить в армии, продвижение по службе происходит не по заслугам, а благодаря покровительству и протекции. Судьи при деспотии игнорируют принципы правосудия, каждый стремится обогатиться, ограбив другого. Даже если сам правитель перестанет применять власть, ничто не сможет остановить это «стремление порока», пока у власти остается фаворит, отмечает Фонвизин. В итоге законы превращаются в пустые фразы, народ угнетен, дворянство унижено. Короче говоря, как утверждает Фонвизин, произвол власти неизбежно переходит в тиранию, и в конечном счете государство возвращается в состояние анархии [Фонвизин 1959, 2: 257–258].
Фонвизинская разгромная критика фаворитизма была, конечно, прямой атакой на фаворитов Екатерины Григория Орлова и Григория Потемкина. Фонвизин утверждал, что власть, от которой проистекают пороки и тирания, «есть власть не от Бога, но от людей, коих несчастия времян попустили, уступая силе, унизить человеческое свое достоинство» [Фонвизин 1959, 2: 259]. Поскольку такой режим не имеет нравственной легитимности, народ может воспользоваться правом совершить революцию против неправедной власти. Фонвизин писал: «В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает». По мысли Фонвизина, человеческие сообщества «основаны на взаимных добровольных обязательствах» и разрушаются, как только их перестают соблюдать. Таким образом, государство держится на обязательствах между правителем и подданными. Правитель соглашается добросовестно исполнять свои обязанности, а народ – быть управляемым; кроме того, правитель должен понимать, «что он установлен для государства и что собственное его благо от счастия его подданных долженствует быть неразлучно» [Фонвизин 1959, 2: 259].
По мнению Фонвизина, взаимные обязательства правителя и подданных не предполагают, что государь должен уступать народным страстям. Фонвизин уподоблял государя «душе» общества, а простой народ – «политическому телу», которое следует указаниям «души». Он считал, что пока государь руководствуется голосом Божьим и «законами естественного правосудия», он управляет справедливо; если же правитель перестает следовать божественным и естественным законам, то политическая власть становится нелигитимной [Фонвизин 1959, 2: 260]. Таким образом, залогом политической стабильности в государстве является подчинение государя закону и подражание божественным добродетелям. Две незаменимые добродетели хорошего правителя, по мысли Фонвизина, – это «правота» и «кротость».
Под «правотой» Фонвизин понимал как соблюдение закона, так и справедливое отношение к гражданам: «Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий, все на одной чреде стоят – добрый государь добр для всех» [Фонвизин 1959, 2: 261]. Добрый государь понимает, что «он повинен… не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого не сделал… ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям и что, с другой стороны, наистрожайшее правосудие над слабостьми людскими есть наивеличайшая человечеству обида». Поэтому праведность требует от правителя сочетания справедливости и милосердия, как это всегда делает Бог [Фонвизин 1959, 2: 261–262].
«Кротость», по Фонвизину – это привычка ума, которая «не допускает… несчастной и нелепой мысли, будто Бог создал миллионы людей для ста человек». Кроткий правитель воспринимает себя как служителя государства. Единственное преимущество правителя перед другими – возможность сделать больше добра, чем всякий другой. Кроткий государь боится порока и отвращается от права сильного. Он понимает, что подлинное право основано на разуме, а не на силе, что повиновение должно происходить от добровольного выбора, а не принуждения: «Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе действования. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры» [Фонвизин 1959, 2: 263]. Иными словами, кроткий государь у Фонвизина никогда не ставит себя выше других в политическом сообществе и не забывает, что выживание государства зависит от консенсуса, а не от насилия.
Как считал Фонвизин, в хорошо управляемой стране и государь, и подданные в безопасности. Политическую свободу он определял как свободу делать то, что человек хочет в отсутствие внешнего принуждения. Свобода действий предполагает распоряжение собственностью, то есть возможность пользоваться имуществом и талантами беспрепятственно. Фонвизин утверждал, «что по сему истолкованию политической вольности видна неразрывная связь ее с правом собственности». Но тогда политическая свобода не может существовать при деспотизме, когда люди становятся рабами правителя. Не может быть политической свободы и там, где один человек пользуется полной властью над другими, как при крепостном праве [Фонвизин 1959, 2: 264].
Фонвизин вовсе не считал, что политическую свободу можно мгновенно установить там, где сейчас ее нет. По его мнению, «главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением». Эта «наука» требует постепенного воспитания народа, пока добродетель не станет «врезана в сердца». Фонвизин считал, что воспитание народа – это в значительной степени процесс «сверху вниз», который начинается с правителя: «…одно благонравие государя образует благонравие народа» [Фонвизин 1959, 2: 266].
«Рассуждение» Фонвизина представляет собой непростой компромисс между христианским традиционализмом и западноевропейской концепцией общественного договора. С одной стороны, Фонвизин требовал, чтобы государь подражал Богу, повинуясь природным законам, поступая праведно, уважая свободу личности и человеческое достоинство граждан. По мысли Фонвизина, Бог управляет вселенной через Свою благость, которая придает творению некую благородную упорядоченность. Так и добрый правитель управляет государством посредством основных законов, гарантирующих справедливость, равенство и свободу. Если бы Бог нарушал естественные законы, Он вел бы себя подобно деспоту; так же и правитель, нарушающий основные законы, порождает тиранию. Таким образом, как мы видим, политическая мысль Фонвизина пришла к явно религиозной модели правления. С другой стороны, Фонвизин серьезно относился к идее о том, что власть должна опираться на согласие управляемых, ибо государство существует для того, чтобы отстаивать их интересы. Нарушая этот договор, государство лишается поддержки управляемых, поэтому при тираническом режиме граждане имеют «право» на восстановление своей свободы. О праве на революцию Фонвизин мыслил в основном в светском ключе, поскольку деспотическое правительство получает свою власть «не от Бога, а от народа». Однако право на революцию он рассматривал и как восстановление праведного правления, то есть как возвращение к христианскому, богоугодному государству. Идея права на революцию в его теории соединяет в себе христианский традиционализм и концепцию общественного договора, и, надо сказать, довольно несуразно, поскольку Фонвизин считал, что праведное правление опирается на разум и народное согласие, а не на революционное насилие.
Поэтому добрый государь у Фонвизина праведен и кроток. Легко увидеть, каким образом из божественных свойств можно вывести праведность (следование закону, беспристрастие, правосудие, милосердие). Кроме того, религиозные ценности, заложенные в его понятии праведности, легко перевести на светский язык. С другой стороны, Фонвизин трактовал кротость как сознательную самоидентификацию правителя с остальным человечеством. Это, казалось бы, превращает кротость в светскую добродетель, поскольку правителю не обязательно быть религиозным, чтобы идентифицировать себя как одного из многих членов политического сообщества. Конечно, Фонвизин мог считать кротость одной из характеристик Иисуса, а значит, и свойством Бога, но если это так, то в «Рассуждении» он не указывает на эту связь прямо.
Фонвизинская идея политической свободы была, по сути, тем, что Исайя Берлин называл «негативной свободой», свободой от внешнего принуждения. Фонвизин считал, что человек должен обладать личной автономией – пространством или областью, в пределах которой он мог бы свободно распоряжаться своей личностью и имуществом без вмешательства других. Из этого следовало, что, поскольку члены политического сообщества должны уважать свободу друг друга, отказываясь от принуждения, то в деятельности политического сообщества нужно участвовать добровольно или не участвовать вовсе. Ожидая, что в хорошо организованном государстве граждане будут с удовольствием участвовать в общественной деятельности и вести себя при этом добродетельно, поскольку это хорошо и разумно, Фонвизин включил в свою политическую теорию элемент позитивной свободы. Иными словами, граждане должны усвоить модель добродетели и благочестия, которую демонстрирует правитель, даже если они не вполне понимают, что праведный государь действует в интересах общества. Более того, представления граждан о разумном и хорошем, очевидно, не могут выходить за рамки этой модели. Большим недостатком политической теории Фонвизина является механическая связь между благочестивым правителем и политической добродетелью. Он исходил из того, что добрый пример праведного государя повлияет на поведение масс. Но что, если такой метод нравственного воспитания не сработает так, как предполагалось? Что, если добрый пример правителя не будет способствовать правильному нравственному воспитанию граждан? В «Рассуждении» Фонвизина даже благочестивый правитель не может прибегнуть к принуждению для «перевоспитания» нерадивых подданных. Более того, Фонвизин не предусмотрел разделения властей для обуздания худших порывов человечества.
«Рассуждение» Фонвизина было введением или «прологом» к проекту основного закона, который готовился под руководством Панина. Проект дошел до нас во фрагментарном виде, в виде списка заголовков статей, в которых были указания на содержание, но не реальные формулировки. Этот «план» конституционного проекта был опубликован Е. С. Шумигорским в 1907 году в качестве приложения к его биографии императора Павла [Шумигорский 1907: п4–13]. Из плана видно, что Панин проектировал монархию, в которой главным местом обсуждения важнейших законов был бы государственный совет. Российская судебная система подлежала реорганизации, которая гарантировала бы обвиняемым право на справедливый и открытый суд. Чтобы решить щепетильную проблему «оскорбления величества», Панин предложил дать четкое определение преступлений против монарха, что должно было ограничить произвол при выдвижении обвинений против политических диссидентов. Обеспечение правопорядка предлагалось возложить не на монарха, а на надзорный орган – Сенат, который должен был гарантировать соблюдение основного закона. Панин предлагал защитить имущественные права россиян и утвердить право существующих религиозных общин на вероисповедание. Он также призывал издать закон, определяющий порядок престолонаследия. В напряженном политическом контексте начала 1780-х годов, когда Павел был глубоко возмущен тем, что вместо него правит Екатерина, этот аспект основного закона, был, пожалуй, самым чувствительным.
Дэвид Рэнсел справедливо утверждает, что составленный Паниным в 1783 году конституционный проект, по крайней мере в части, касающейся законодательного процесса, «во всех существенных деталях повторял проект Императорского совета 1762 года» [Ransel 1975: 273–274][33 - Я следовал сводному изложению Рэнселом плана Панина, опубликованного Шумигорским, но с некоторыми правками.]. Рэнсел также верно отметил, что Панин склонялся к разделению судебной и исполнительной властей и предполагал обеспечить защиту основных законов даже от изменений, вносимых монархом [Ransel 1975: 274]. Но кроме того, проект основных законов 1783 года отражал значительную эволюцию взглядов Панина в сторону защиты прав личности и создания правового государства. В этом проекте, в отличие от проекта Императорского совета 1762 года, Панин настаивал на свободе вероисповедания, ограниченной свободе слова, свободе собственности, справедливом и открытом суде. Положение проекта 1783 года о том, что порядок престолонаследия должен определяться законом, было одновременно и признаком правового мышления, и шагом к верховенству закона. Хотя проект 1783 года указывал на необходимость разделения властей, четкого разделения государственных полномочий он не устанавливал.
Более четкое представление о проекте Панина появилось в 1974 году, когда М. М. Сафонов опубликовал две записки великого князя Павла, в которых кратко излагались некоторые аспекты плана Панина. Первая записка под названием «Рассуждения вечера 28 марта 1783» представляла собой протокол беседы Павла с Никитой Паниным за два дня до смерти последнего [Сафонов 1974: 261–280]. В ней Панин говорил, что
…согласовать необходимо нужную монархическую екзекутивную власть по обширности государства с преимуществом той вольности, которая нужна каждому состоянию для предохранения себя от деспотизма или самаго государя или частного чего-либо. Сие все полагается уже вследствие установления и учреждения порядка наследства, без котораго ничего быть не может; которой и есть закон фундаментальной.
По всей видимости, Панин и Павел согласились между собой, что введение личной свободы в России – это долгосрочная цель, которой нельзя достигнуть быстро. В ближайшей перспективе они обещали «стараться помочь и отвратить главнейшия неудобства. Поможем сохранению свободы состояния каждаго, заключая оную в должныя границы, и отвратим противное сему, когда деспотизм, поглащая все, истребляет наконец и деспота самаго» [Сафонов 1974: 266]. Панин утверждал:
Должны различать власть законодательную и власть, законы хранящую и их исполняющую. Уложенная может быть в руках государя, но с согласия государства, а не инако без чего обратится в деспотизм. Законы хранящая должна быть в руках всей нации, а исполняющая в руках под государем, предопределенным управлять государством [Сафонов 1974: 267–268].
Однако, согласно протоколу, Панин решил отложить разделение властей на неопределенное будущее. До той поры он предложил ввести «свободный выбор членов собрания таковой власти [хранящей законы]», то есть избрание сенаторов. Он также предлагал избирать наместников провинций, которые должны были обеспечивать исполнение законов в целом по стране, но этим избранникам предстояло для вступления в должность «конфирмоваться государем». План Панина предполагал разделение Сената на гражданский и уголовный департаменты, а также его размещение в обеих столицах (Москве и Петербурге). Каждое наместничество должно было направлять в Сенат по одному делегату от каждого из шести классов выборщиков.
Возникающие юридические казусы предполагалось обсуждать на пленарных заседаниях Сената, на которых должны были выступать избранные делегаты от того наместничества, в котором произошло обсуждаемое событие.
Панин предлагал назначить «канцлера правосудия, министра государева», задачей которого было «соглашать объявлением воли законов и намерений государя как разныя мнения, так и направлять умы к известной цели» [Сафонов 1974: 267]. Генерал-прокурор Сената должен быть подчинен канцлеру правосудия [Сафонов 1974: 268].
Панин видел Сенат в основном как судебный орган: по его выражению, это был «хранитель законов». Он также рассматривал его как исполнительный орган, но не очень точно определял исполнительные полномочия Сената. Однако в основном исполнительная власть, по замыслу Панина, должна была принадлежать специализированным органам, занимающимся политикой, финансами, торговлей, армией и флотом, казной. Теоретически надзор за этими органами должен был осуществлять государь, но Панин признавал, что «сему обнять ни по физической, ни по моральной возможности невозможно, а еще меньше, когда взойти в исчисление страстей и слабостей человеческих» [Сафонов 1974: 268].
Вторая записка Павла оставлена без названия. Вероятно, Павел написал ее после первой, либо как дальнейшее развитие предложений Панина, либо как выражение собственных взглядов. Сафонов указывает, что Павел предполагал создать министерскую систему с восемью департаментами или министерствами (юстиции, императорского двора, финансов, бухгалтерии, коммерции, армии, флота и внешних сношений). Министры или главы департаментов должны были иметь место для собраний, «в котором могли сноситься по делам… А сие место, в котором им всем собираться, должно быть государев совет». На основании этого лаконичного замечания Сафонов предположил, что Павел предлагает учредить государственный совет как законодательный орган, подобный Императорскому совету из Панинского проекта 1762 года [Сафонов 1974: 268–269].
Согласно второй записке, Сенат предстояло учредить в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Глухове. Каждый из четырех сенатов предполагалось разделить на два департамента (уголовный и апелляционный), состоящих из семи членов, которые должны были избираться из числа дворян, подведомственных сенату губерний. На каждую вакантную должность следовало избрать трех кандидатов, уведомив об избрании Петербургский сенат. Петербургский сенат, как орган высшей юрисдикции, должен был передать список кандидатов государю, который утверждал одну из кандидатур на должность сенатора. Четыре местных сената решали вопросы, возникающие в их юрисдикции. Если вопрос невозможно было решить в Москве, Казани или Глухове, его направляли в Петербургский сенат. Если же и Петербургский сенат оказывался не в состоянии решить вопрос, его представляли на рассмотрение государя через канцлера правосудия.
По всей видимости, Павел рассматривал будущий Сенат в основном как судебный орган, рассматривающий уголовные дела и судебные апелляции. Однако, как отмечает Сафонов, Павел также планировал наделить Сенат правом «представлять государю вышеозначенным порядком о учреждении, поправлении и отмене и по другим частям, касающимся безпосредственно до правительства или до народа и пр.: как то по департаментам камерному, финанц, денежному, щетному, комерц и военным обеим (касательно до зборов для их и до рекрутского набора)», за исключением лишь внешней политики [Сафонов 1974: 269–270]. Сафонов утверждал, что павловский проект Сената с его квазизаконодательными полномочиями «воплотил высказанную в “Разсуждениях вечера 28 марта 1783” панинскую мысль, что законодательная власть “может быть в руках государя, но с согласия государства, а не инако, без чего обратится в деспотизм”».
Трудно сказать, совпадали ли две записки Павла с предложенными Паниным основными законами во всех важных деталях, но есть веские основания предполагать, что они в целом соответствовали ходу мыслей Панина. В своем наброске плана основных законов Панин склонялся в сторону разделения властей. В записках Павла излагались конкретные шаги по определению полномочий Сената и нового государственного совета. В проекте Императорского совета 1762 года Панин планировал совет как законодательный орган; в записках Павла 1783 года совет представал как место обсуждения текущих политических проблем, а значит, и место выработки новых законов. В 1762 и 1783 годах, проектируя основные законы, Панин стремился реорганизовать Сенат, превратив его главным образом в судебный орган. В его плане 1783 года также предполагалось, что Сенат будет нести законодательную функцию, о чем говорится также во второй записке Павла. К этим существенным моментам сходства между замыслами Панина и записками Павла можно добавить и косвенные свидетельства. Судя по всему, Панин был доволен результатом своего разговора с Павлом, состоявшегося вечером 28 марта. Сам Павел отмечает «необыкновенное оживление и веселость» Панина в тот вечер[34 - См. письмо Павла Н. И. Салтыкову от 5 апреля 1783 года в [Свиньин 1818: 112]; цит. по: [Сафонов 1974: 265].]. Спустя многие годы декабрист М. А. Фонвизин сообщал со слов своего отца Александра Ивановича (брата Дениса Ивановича), что Павел «…согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие» [Фонвизин 1982: 128].
Свидетельства М. И. Фонвизина часто не принимались во внимание, поскольку он относил составление проекта основных законов к 1773–1774 годам и трактовал «конституционный» документ как основу планировавшегося переворота, направленного на устранение Екатерины с престола. Тем не менее описание М. И. Фонвизиным панинской «конституции» в целом соответствовало плану, который Панин и Павел обсуждали в марте 1783 года. По словам М. И. Фонвизина, Панину
…хотелось ограничить самовластие твердыми аристократическими институциями. С этой целью Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении верховного Сената, которого часть несменяемых членов (inamovibles) назначалась бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод также бы входил в состав общего собрания Сената. Под ним в иерархической преемственности были бы дворянские собрания губернские или областные и уездные, которым предоставлялось право совещаться об общественных интересах и местных нуждах, представлять о них Сенату и предлагать ему новые законы (avoir l’initiative des lois).
Согласно этому плану, в изложении М. И. Фонвизина,
…выбор как сенаторов, так и всех чиновников местных администраций производился бы в этих же собраниях. Сенат был бы облечен полною законодательною властью, а императорам оставалась бы власть исполнительная с правом утверждать Сенатом обсужденные и принятые законы и обнародовать их. В конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан Д. И. Фон-Визиным под руководством графа Панина.
Михаил Фонвизин отмечает, что читал список с предисловия к этому документу, написанного его дядей Денисом Фонвизиным, и приводит первую строку: «Верховная власть вверяется государю для единаго блага его подданных» [Фонвизин 1982: 127–128]. Михаил Фонвизин также утверждает, что копия проекта Панина хранилась у П. И. Фонвизина. Этот документ, переданный Павлу Ивановичу Денисом Фонвизиным, якобы был сожжен в 1792 году во время инициированного Екатериной расследования в отношении масонов и Николая Новикова [Фонвизин 1982: 129–130]. Михаил Фонвизин назвал своего дядю Дениса «редактором» конституционного акта [Фонвизин 1982: 128].
Таким образом, на основании косвенных свидетельств из мемуаров М. И. Фонвизина можно предположить, что в проекте основных законов Панина предлагались следующие изменения: усиливалась роль Сената в обсуждении законов; устанавливался выборный характер Сената с участием в выборах провинциального дворянства; самодержец переставал быть единственным источником российских законов и становился последней инстанцией контроля за их составлением и субъектом, несущим окончательную ответственность за их обнародование; создавался государственный совет, состоящий из глав министерств или департаментов. Поскольку Михаил Фонвизин мог узнать об этих особенностях проекта 1783 года только от своих родственников, то есть от отца Александра или дяди Павла, либо из написанного Денисом Фонвизиным пролога к проекту Панина, у нас есть еще одно веское основание считать, что в версии основных законов, зафиксированной в двух записках Павла 1783 года, отразились реальные представления Панина и Фонвизина[35 - Сафонов пришел к выводу, что проект Панина – Фонвизина и записки Павла «отличаются только в деталях» [Сафонов 1974: 271].].
Как считает Сафонов, Денис Фонвизин сделал копии не только своего предисловия к плану основных законов Панина 1783 года, но и текста самих основных законов, а также их краткого изложения. После смерти Никиты Панина в 1783 году Фонвизин передал эти три документа брату Никиты, Петру Панину, чтобы тот вручил их царевичу Павлу. Однако Петр Панин решил передать Павлу только предисловие и краткое изложение, и то только после своей смерти. Петр Панин не решился вручить Павлу сам текст основных законов, опасаясь, что обнаружение этого текста может поставить под удар весь род Паниных. По мнению Сафонова, Петр Панин сознательно обманывал Павла, держа царевича в неведении относительно существования полного текста основных законов. Петр Панин, по-видимому, испытывал сомнения по поводу необходимости знакомить Павла даже с предисловием и кратким изложением законов, назвав некоторые их фрагменты «не совсем пристойными» [Сафонов 1974: 279–280; Шумигорский 1907: п28].
Сафонов не поднимает очевидного вопроса: почему Петр Панин не решался послать Павлу текст основных законов, который Павел уже одобрил в разговоре с Никитой Паниным 28 марта 1783 года? Здесь следует учитывать два фактора. Во-первых, у Петра Панина были иные отношения с Павлом, чем у Никиты Панина; более того, Петр Панин не доверял наследнику. Во-вторых, смерть Никиты Панина изменила политическую ситуацию, убрав со сцены самого сильного сторонника Павла и ослабив тем самым всю его партию. Таким образом, Петр Панин после смерти брата пришел к выводу, что политическая обстановка не располагает к обсуждению фундаментальных перемен. Можно посмотреть на этот вопрос и другой стороны: Петр Панин, вероятно, догадывался, что согласие наследника на программу Никиты Панина, будучи эмоциональной реакцией Павла на «прощальную» беседу с ним в ночь на 28 марта, нельзя счесть надежным основанием для реализации «подрывного», проконституционного плана.
Обратимся от рассмотрения противоречивой документальной истории предлагаемых основных законов к двум смежным вопросам. Во-первых, каков был вклад Дениса Фонвизина в написание проекта? Во-вторых, каков был вклад этого проекта в российскую политическую мысль?
Известно, что Фонвизин был «редактором» проекта, то есть написал его различные элементы под руководством Никиты Панина. К 1783 году Фонвизин был хорошо известен в русском литературном мире благодаря «Бригадиру» и переводным работам, но не обладал тем общественным престижем, который мог бы поддержать его в борьбе с Екатериной. Кроме того, Фонвизин, несмотря на свою деятельность при дворе и секретарскую службу у Панина, не обладал таким же, как у Панина, личным опытом, чтобы обосновать изменения в Сенате и структуре правительства. С другой стороны, Панин служил послом еще до наступления эпохи Екатерины и был ведущей политической фигурой на протяжении всего ее царствования. К началу 1760-х годов сформировалась его политическая программа: борьба с фаворитизмом, создание механизма обсуждения российских законов государственными советниками, прояснение полномочий Сената и повышение его авторитета, сокращение объема практических задач монарха. Эта программа оставалась неизменной и в 1783 году, хотя в качестве места обсуждения политических вопросов Панин теперь стал предпочитать Сенат Императорскому совету. Таким образом, если Панин и Фонвизин действительно работали вместе над разработкой проекта основных законов, то Панин был старшим партнером или «начальником», а Фонвизин – младшим партнером или «помощником».
Однако Фонвизин мог внести свой вклад в разработку предложения 1783 года тремя способами. Во-первых, он, вероятно, убедил Панина мыслить скорее в терминах политической свободы, чем институциональных преобразований. Как мы уже отмечали, в своих письмах к Панину из Франции 1777–1778 годов Фонвизин сопоставляет наличие законодательных политических свобод французов и отсутствие таковых в России. Он понимал, что русские де-факто пользуются большей свободой, чем французы, но логический вывод, который Панин, вероятно, сделал из писем Фонвизина, состоит в том, что в России следует правовым порядком гарантировать существующие свободы и даже расширить их. Отметим также, что проект основных законов 1783 года был задуман как составная часть долгосрочной программы политических реформ. В краткосрочной перспективе существующие вольности были бы обеспечены защитой Сената, избираемого из дворян, и усилиями по ограничению деспотизма, что Михаил Фонвизин впоследствии назвал «твердыми аристократическими институциями». Но план предусматривал также постепенную отмену крепостного права. Освобождение крестьян логически вытекало из высказанного Фонвизиным в «Рассуждении» тезиса о том, что хорошее управление несовместимо с рабством. Как считал М. Фонвизин, освобождение крестьян было одной из прямых целей конституционного проекта [Фонвизин 1982: 127–128]. Таким образом, Денис Фонвизин, вероятно, склонял Панина к тому, чтобы создать долгосрочный план по превращению России в страну, где политическими правами могли бы пользоваться не только дворяне, но и представители других социальных сословий, возможно, даже освобожденное крестьянство. Поскольку в записках Павла не упоминается отмена крепостного права, очевидно, что она была в краткосрочной перспективе политической задачей Фонвизина, а не Панина.
Во-вторых, Фонвизин, вероятно, отвечал за религиозную составляющую предисловия к конституционному проекту. Как мы видели при анализе панинского проекта Императорского совета 1762 года, Панин называл императрицу исполнительницей воли Божией, но не пытался объяснить благое правление подражанием божественным добродетелям. Но этот вопрос интересовал Фонвизина, когда он переводил «Иосифа» Битобе, «Слово похвальное Марку Аврелию» Антуана Леонара Тома и другие произведения. Эта заинтересованность проистекала из его морализма, уходящего корнями в «Басни» Хольберга. Как мы видим, концепция «просвещения» Фонвизина представляла собой гибрид религиозных и светских побуждений. Именно такое сочетание мы и наблюдаем в «Рассуждении».
В-третьих, Фонвизин, вероятно, настаивал на том, чтобы в обоснование конституционного проекта Панин включил теорию общественного договора. Конечно, Панин одобрял захват власти Екатериной в 1762 году и считал, что во внутренних делах России сила имеет большое значение: его брат Петр сыграл большую роль в подавлении Пугачевского бунта. Однако нет никаких свидетельств в пользу того, что Никита Панин, по крайней мере в 1760-е годы, придерживался теории общественного договора по Локку или Руссо. Как и Екатерина, Панин черпал вдохновение в политических теориях Монтескьё и немецких камералистов. Он восхищался хорошо устроенными государствами, в которых вольности дворянства уравновешивали полномочия монарха, а государственные функции были четко разграничены. Фонвизин, со своей стороны, тяготел к Руссо, о чем свидетельствуют его письма из Франции 1777–1778 годов. Мы не знаем, читал ли Фонвизин «Общественный договор» Руссо, но, безусловно, он читал другие его произведения. Томас Барран показал, что автобиографический фрагмент Фонвизина 1778 года, «Чистосердечное признание», опирается на «Исповедь» Руссо и на его же «Исповедание веры савойского викария». Барран также предположил, что «Недоросль» (который мы проанализируем ниже) испытал влияние пятой книги «Эмиля» Руссо. Однако Барран также утверждает, что в своем обосновании права на сопротивление неправедному правителю Фонвизин в «Рассуждении» не следует логике «Общественного договора» Руссо, поскольку, по мысли Руссо, народ никогда не отдает суверенитет государю и не может допустить слепого «подчинения» правительству. Наконец, Барран отметил, что Руссо утвердил Фонвизина в мнении о том, что гражданин вправе критиковать деспотическое правительство [Barran 2002: 110–119]. На мой взгляд, значение Руссо для Фонвизина заключалось в том, что он подчеркивал центральную роль народа в санкционировании политического устройства, то есть самого существования государства. Фонвизин пошел дальше Руссо, отвергнув принуждение или «силу» как политическую стратегию, за исключением случаев, когда народ управляется неправедным государем. Фонвизин был, безусловно, более радикален, чем Панин, который в целом более сдержанно относился к значению общественного в политике и который до 1783 года не решился бы поддержать право народа на свержение деспотического режима.
Для конституционного проекта Панина – Фонвизина была характерна серьезная путаница в отношении разделения властей в будущем правительстве, – в частности наделение Сената некоторыми законодательными полномочиями наряду с судебными. Однако такое смешение было типичным для правовой теории XVIII века, особенно у мыслителей, опиравшихся на Монтескьё, которые считали, что суды несут «исполнительную функцию» по претворению законов в жизнь. В других аспектах это смешение могло проистекать из российских условий или политических обычаев: например, Павел счел, что проект Панина предполагает сохранение исполнительной и законодательной власти «в руках государя», хотя исполнительные полномочия государя Панин частично передал реорганизованным правительственным департаментам, а его законодательные функции – государственному совету и Сенату. Возможно, и Павел, и Панин рассматривали эту роль императора как временно необходимую особенность системы, которая может измениться лишь через десятилетия, но, скорее всего, ни тот ни другой не могли представить себе государство без монарха-законодателя во главе. Более того, и Панин, и другие «царедворцы» Павла призывали молодого цесаревича подражать Петру Великому [Ransel 1975: 282–283]. Фонвизин восхищался Паниным отчасти потому, что Панин брал пример с «прежних» соратников Петра [Ransel 1975: 269–270]. Стремление панинской группы «вернуться на пути, заповеданные Петром» предвосхищало понятное, но странное желание советских граждан послесталинской эпохи «вернуться к заветам Ильича». В обоих случаях «путь вперед» был «путем назад», а блистательная фигура предшественника мешала правильному определению современных проблем.
Несмотря на свои недостатки, проект Панина – Фонвизина был новаторским для российской политической мысли, представляя собой шаг к более четкому пониманию политической свободы. В фокусе его внимания были права на свободу вероисповедания, на справедливый и открытый суд, на владение собственностью, ограничение царской власти арестовывать по делам об оскорблении величества. В проекте, по крайней мере, поднимался вопрос о разделении властей. Этот план нельзя выгодно сравнить ни с европейскими конституциями эпохи после 1789 года, ни с американским Биллем о правах. Более того, в 1905 году в качестве альтернативы термину «конституция» российским государством был принят именно термин «основной закон», введенный в рассматриваемом проекте. Тем не менее Панин и Фонвизин пошли гораздо дальше скромных «обещаний» Бориса Годунова и других деятелей XVII века уважать «права» бояр – хотя бы потому, что Панин и Фонвизин выступали за создание неотменяемого государственного документа, который нельзя изменить по прихоти отдельного правителя. По сравнению с планами Дмитрия Голицына и заговорщиков 1730 года у проекта было то преимущество, что государь соглашался на него добровольно, а не вынужденно. Его обнародование опиралось на принцип согласия, который полагался в основе хорошего правления. Подобно некоторым политическим трактатам московской и петровской эпох, в «Рассуждении» Фонвизина религия рассматривалась как оправдание русской монархии. Однако, в отличие от Феофана Прокоповича, Фонвизин не считал, что для сохранения православной веры нужно подавлять внутренние несогласия: напротив, путь к русской свободе Фонвизин видел в добродетели, основанной на вере.
«Недоросль» Фонвизина
Мы не знаем, когда Фонвизин написал «Недоросля». Пигарев относит начало работы над пьесой к лету 1779 года. Основанием для такого заключения послужило свидетельство друга Фонвизина, И. А. Дмитриевского, который в том году сообщал: «Денис Иванович пишет комедию с великим успехом» [Пигарев 1954: 151]. Макогоненко утверждает, что Фонвизин закончил сочинение «в конце 1781 года» [Макогоненко 1961: 261], а Пигарев – что пьеса была закончена только в январе – феврале 1782 года. Один из современников Фонвизина сообщал о завершении работы над комедией в письме от 11 марта 1782 года [Пигарев 1954: 151]. В 1782 году Фонвизин пытался организовать театральное представление. Впервые «Недоросль» появился на сцене в Петербурге, 24 сентября 1782 года. В Москве, несмотря на все усилия Фонвизина, пьесу поставили только в мае 1783 года, а затем она шла в основном в домашних театрах, а не на публичной сцене [Рассадин 2008: 251–253].
История создания «Недоросля» и его первых представлений интересна тем, что она, вероятно, совпала по времени с разработкой Фонвизиным и Паниным конституционного проекта. Потеряв расположение Екатерины, Панин с конца апреля 1781 года взял трехмесячный отпуск с государственной службы. Вернувшись в сентябре 1781 года из отпуска в столицу, Панин был лишен привилегии прямого доступа к императрице [Рассадин 2008: 245–246]. Если Панин в этот момент приступил к разработке проекта основных законов, а Фонвизин в это же время (осенью – зимой 1781/82 годов) заканчивал пьесу, то можно предположить, что «Недоросль» и «Рассуждение о непременных государственных законах» были задуманы практически одновременно. Если же Фонвизин написал «Недоросль» непосредственно перед тем, как приступить к составлению «Рассуждения», то пьесу можно рассматривать как промежуточный этап между его французскими письмами и подготовкой конституционного проекта. В любом случае краткий временной промежуток между политическим трудом Фонвизина и его драматическим шедевром требует анализа.
Слово «недоросль» в переводе на английский относится к молодому человеку, не достигшему совершеннолетия, не имеющему права вступать в брак, заключать договоры или (в применении к нашему времени) голосовать; либо не достигшему зрелости, не отвечающему за свои поступки и нуждающемуся в дополнительном образовании, чтобы начать исполнять обязанности взрослого человека. Выбранное Фонвизиным слово «недоросль», безусловно, подразумевает как правовую, так и духовную незрелость такого рода, но также оно является термином, обозначавшим юношу дворянского происхождения, еще недостаточного взрослого для поступления на государственную службу. Если во времена Петра I юноша мог поступить на службу не ранее 15 лет, то во времена Екатерины – не ранее 18. Поскольку при Петре служба для дворян была всеобщей обязанностью, термин «недоросли» во множественном числе применялся ко всей совокупности несовершеннолетних дворян и обозначал их отношение к государству, то есть обязанность служить в будущем. Таким образом, при Петре термин «недоросль» по определению имел политическую окраску, которая во времена Екатерины сохранялась, но уже становилась архаичной, поскольку обязательная государственная служба для дворян была отменена в 1762 году. Иными словами, термин «недоросль» в то время переходил из политико-правового лексикона в социальный. В самой его истории запечатлелось одно из главных различий между петровской и екатерининской эпохами.
В отличие от «Бригадира», в котором было всего семь основных персонажей, все из которых были дворянами, в «Недоросле» Фонвизин вывел на сцену пятнадцать действующих лиц: восемь дворян, четверо крепостных и трое разночинцев (семинарист, учитель, отставной сержант). Автор исследовал взаимоотношения дворянства и крепостного крестьянства, но также разрабатывал отдельные характеры, чтобы проследить межличностные отношения внутри социального слоя и отнести его представителей к тому или иному социальному типажу. В итоге на сцене были выведены типичные представители русского провинциального общества образца 1782 года.
Как и «Бригадир», «Недоросль» – семейная комедия в трагических обстоятельствах. Наше знакомство с семейством Простаковых (которое состоит из госпожи Простаковой, ее мужа, ее сына Митрофана и свойственницы Софьи) происходит в день, когда Простакова собирается устроить помолвку Софьи со своим братом Скотининым. Как и в «Бригадире», молодая избранница Софья противится браку по расчету: она предпочитает своего поклонника, добродетельного Милона, бывшего военного. Узнав, что ее подопечная Софья вскоре унаследует от своего дяди Стародума состояние в десять тысяч рублей, станет богатой и независимой и сможет вступить в брак с Милоном, Простакова меняет тактику. Теперь она пытается убедить, а потом и заставить Софью выйти замуж за Митрофана. Во втором явлении пятого действия Стародум и добродетельный чиновник Правдин предотвращают похищение Софьи. Пьеса заканчивается тем, что Простаковых по правительственному указу лишают имения и крепостных, взяв их в государственную опеку, а Софья воссоединяется с Милоном. Добродетель Софьи признана и вознаграждена, а пороки «милой семейки» Простаковой, Простакова и Митрофана обличены и наказаны государством. На первый взгляд, пьеса Фонвизина изображает торжество просвещенного абсолютизма над провинциальным традиционализмом.
В пьесе, однако, мы вовсе не наблюдаем апофеоза победившей добродетели. Первые три явления первого действия погружают нас в нездоровую атмосферу оскорблений, которыми Простакова осыпает своих дворовых людей. Портного Тришку она называет «мошенником», «вором», «болваном» со «скотским рассуждением», неспособным сшить кафтан. В глубине души Простакова считает Тришку не человеком, а «скотом» [Фонвизин 1959, 1: 107–108]. Это обзывательство отдает авторской иронией, поскольку девичья фамилия Простаковой – Скотинина. Затем Простакова требует от своего мужа-подкаблучника, чтобы тот наказал Тришку, так как она «холопям потакать не намерена». Слово «холоп» уже к тому времени устарело как юридическая категория, но оно тем не менее точно отражало бесправное положение крестьян, трудившихся подневольно. В шестом явлении второго акта Простакова выражает презрение по отношению к верной няньке Митрофана, своей дворовой прислуге Еремеевне, обзывая ее «бестией» и «старой ведьмой». Этот второй эпитет – двойное оскорбление, намекающее на возраст и злобный характер Еремеевны. Семинарист Кутейкин в библейских выражениях характеризует жизнь Еремеевны как «тьму кромешную». Сама Еремеевна признается, что в награду за верность Простакова жалует ей «по пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день» [Фонвизин 1959, 1: 127–128]. Во втором явлении пятого действия Простакова ругает дворовых за то, что они не сумели похитить Софью: «Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить велю до смерти!» [Фонвизин 1959, 1: 170]. В четвертом явлении пятого действия она вместе со своим братом Скотининым отстаивает свое право произвола над крепостными, вопрошая: «Разве я не властна и в своих людях?» – «Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?» [Фонвизин 1959, 1: 171–172].
Власть Простаковой в собственной семье почти абсолютна. В третьем явлении первого действия она ругает своего робкого мужа за мешковатость и слепоту. Он безропотно признается: «При твоих глазах мои ничего не видят» [Фонвизин 1959, 1: 108]. В четвертом явлении первого действия ее сын Митрофан рассказывает свой сон, в котором мать бьет отца. Но жалеет Митрофан именно ее, а не побитого отца: «…ты так устала, колотя батюшку», – с сочувствием говорит он матери [Фонвизин 1959, 1: 110]. В седьмом и восьмом явлениях первого действия она отвергает притязания своего брата Скотинина на сватовство к Софье. В третьем явлении третьего действия, узнав, что Скотинин угрожал Митрофану побоями, чтобы заставить недоросля отказаться от женитьбы на Софье, Простакова набрасывается на брата с кулаками. Неудивительно, что в пятом явлении третьего действия мы узнаем, что все члены семьи определяют себя по тому, в каком отношении они находятся к Простаковой. Простаков говорит: «Я женин муж»; Митрофан: «А я матушкин сынок»; Скотинин: «Я сестрин брат» [Фонвизин 1959, 1: 137]. Странным образом своим произволом Простакова превратила своих дворовых людей в рабов и закабалила членов семьи. В четвертом явлении пятого действия добродетельный чиновник Правдин упрекает ее в тирании: «Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен» [Фонвизин 1959, 1: 172]. Таким образом, по логике Фонвизина, необузданное своеволие ведет к порабощению домашней прислуги и уничтожению личной независимости дворян: своеволие = насилие = несвобода = тирания.
Поведение Простаковой Фонвизин расценивает не просто как попрание семейных отношений, а как преступление против государства. В третьем явлении пятого действия чиновник Правдин намеревается привлечь Простакову к суду как «нарушительницу гражданского спокойства» [Фонвизин 1959, 1: 170]. В следующем явлении он именует ее: «Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может» [Фонвизин 1959, 1: 172]. В третьем и четвертом явлениях пятого действия Правдин устраивает импровизированный суд над семьей Простаковых. Простакова падает на колени перед Правдиным и Стародумом, а затем заявляет: «Батюшки, виновата». Обращаясь к зрителям, она восклицает: «Ах, я собачья дочь! Что я наделала?» Затем она просит Правдина о пощаде, говоря, что она грешна, поскольку «человек, не ангел» [Фонвизин 1959, 1: 170–171]. Прося о пощаде, она надеется избежать судебного процесса по обвинению в подстрекательстве, который, несомненно, закончился бы для нее приговором к длительному тюремному заключению. Но кроме того, избежав суда, она рассчитывает отомстить «канальям своим людям». Освобождение дворян от государственной службы в 1762 году она понимает как разрешение владельцам крепостных пороть своих дворовых людей [Фонвизин 1959, 1: 171–172].
В ходе импровизированного суда Милон говорит Правдину и Стародуму, что «и преступление и раскаяние в ней [в Простаковой] презрения достойны». Это утверждение, безусловно, верно, но Стародум тем не менее советует Правдину не выдвигать против нее официального обвинения в подстрекательстве: «Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю». Поэтому Правдин не преследует Простакову за правонарушение. Тем не менее он отстраняет ее от управления поместьем и крепостными «за бесчеловечие», а ее мужа – за «крайнее слабомыслие» [Фонвизин 1959, 1: 171–172]. Согласно мировоззрению Правдина, государство не должно терпеть ни жестокости, ни слепоты к несправедливости. Приговор Правдина Простаковой – это обращение ко всем помещикам, «…чтоб они людей… Побольше любили или б по крайней мере… Хоть не трогали» [Фонвизин 1959, 1: 176–177]. После суда Митрофан бросает свою наказанную мать. Она падает в обморок от его неблагодарности, а затем в отчаянии произносит: «Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуды глаз показать нельзя! Нет у меня сына!» Завершает пьесу реплика Стародума о Простаковой: «Вот злонравия достойные плоды!» [Фонвизин 1959, 1: 177].
Из сцены импровизированного суда и отчаяния Простаковой ясно, что Фонвизин был заинтересован не столько в соблюдении законности, сколько в укреплении нравственного порядка. Самыми серьезными преступлениями Простаковой были «злонравие» и «бесчеловечие», то есть нравственные пороки. В первых трех явлениях третьего действия Правдин и Стародум объясняют зрителям, почему к добродетели нужно относиться серьезно. Стародум усвоил от отца изречение: «…имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знании мода, как на пряжки, на пуговицы… Без нее [души] просвещеннейшая умница – жалкая тварь» [Фонвизин 1959, 1: 130]. Для представителей дворянства большим соблазном является стремление к высоким чинам, к продвижению за счет других. Стародум считает такое самовозвеличивание порочным и опасным, называя его «себялюбием», в отличие от «самолюбия» [Фонвизин 1959, 1: 132]. На военной службе честолюбие отвлекает офицеров от служения отечеству, при царском дворе оно порождает безудержную коррупцию. Стародум говорит, что придворной службы следует избегать любой ценой: «Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится». Также не следует дворянам связывать богатство с добродетелью: «Наличные деньги – не наличные достоинства. Золотой болван – все болван» [Фонвизин 1959, 1: 133]. Стародум отвергает богатство, основанное на владении крепостными, поскольку считает крепостное право аморальным. На жизнь он зарабатывает в Сибири, где нет крепостного права. «Последуй природе, никогда не будешь беден» – считает он [Фонвизин 1959, 1: 134].
Во втором и шестом явлениях четвертого действия Стародум переводит свой кодекс добродетели в правила морального поведения. Во втором явлении Стародум советует Софье искать настоящей дружбы, которая «была б надежною порукою за твой разум и сердце». Однако, по его словам, молодому человеку часто бывает трудно отличить истинную дружбу от ложной. Иногда сверстники выдают себя за друзей, в глубине души завидуя добродетели [Фонвизин 1959, 1: 150]. Более того, молодым дворянам особенно трудно обнаружить добродетель в других, поскольку обладание добродетелью можно спутать с высоким чином или богатством. Стародум считает, что истинное благородство состоит не в чинах, а в служении отечеству, не во владении крепостными, а в соблюдении нравственного кодекса [Фонвизин 1959, 1: 151]. По его мнению, противоядием от «злонравия» является «благонравие». «Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума… Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца» [Фонвизин 1959, 1: 152]. Честный человек понимает, что «достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек». Добродетельная жизнь подразумевает абсолютную честность, искреннее служение ближним и отечеству, полную преданность долгу. В семейном контексте благонравие требует, чтобы муж был для жены «искренним и снисходительным другом», а жена отвечала мужу кротостью и чистосердечием. С другой стороны, несчастна семья, где муж – тиран, а жена – своевольная и наглая. Дети их «осиротели» при живых родителях, люди видят «в самом господине своем раба гнусных страстей его» [Фонвизин 1959, 1: 153–154].
В шестом явлении Милон и Стародум соглашаются между собой, что важнейшая политическая добродетель – это «умственная неустрашимость», подразумевая не только храбрость солдата, готового пожертвовать жизнью в бою, но и смелость чиновника, «который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать». Подобным же образом и судья должен мужественно вершить правосудие, «не убояся ни мщения, ни угроз сильного» [Фонвизин 1959, 1: 158].
В первом явлении пятого действия Стародум характеризует благонравие как «главную цель всех знаний человеческих», сетуя, что нередко о ней забывают в преподавании академических дисциплин. Он заявляет, что «наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу». Стародум хотел бы, «чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения» [Фонвизин 1959, 1: 169].
Выражая через Стародума свои взгляды, Фонвизин сформулировал теорию добродетели, «правильной этики» или «благочестия», охватывающую семью и государство. В «Недоросле» Фонвизин не делает различий между частной и общественной сферами жизни. По его мнению, добродетель «неделима», и поскольку она ориентирована скорее на ближнего, чем на самого человека, то затрагивает как семейные, так и профессиональные отношения. Эта всеохватывающая концепция добродетели созвучна, хотя не идентична христианской концепции благочестия, которую мы находим, например, в Домострое. Как и в Домострое, в «Недоросле» Фонвизина проповедуется упорядоченная семейная жизнь, взаимопонимание между супругами, честность к себе и другим. Как и в Домострое, в «Недоросле» семья – это основание общественной жизни, а государство опирается на праведных государей, мужественных советников и беспристрастных судей. По Домострою, поведение христиан определяется верой; по «Недорослю», для жизни важно «благонравие». Ни в Домострое, ни в «Недоросле» знание и разум не ставятся выше праведности и добродетели. В «Недоросле» даже разграничиваются благонравие и ученость («просвещение»). Однако, если в целом этическая система «Недоросля» соответствует христианскому мировоззрению Домостроя, они не идентичны. В «Недоросле» резко критикуются попытки внедрить семейную дисциплину посредством насилия или устрашения. В качестве средства поддержания правильного поведения в пьесе предлагается дружба, а не подчинение. Добродетельный человек по Фонвизину служит обществу и государству, получая одобрение окружающих и продвигаясь по карьерной лестнице. В Домострое же человек рождается в своем социальном слое, но продвижения по заслугам не получает. Он проявляет свою веру, оказывая должное почтение другим: супруге, священнику, князю. Таким образом, в «Недоросле» правильное поведение – важнейшая составляющая социальной системы, основанной на личных заслугах и общественном доверии, в то время как в Домострое правильное поведение необходимо для спасения.
В пятом действии «Недоросль» вплотную подходит к обоснованию сопротивления неправедной власти. В первом явлении Стародум в своей речи, посвященной историческим последствиям тирании, недалек от вывода, что неправедный государь лишается короны заслуженно. Заявление Правдина в четвертом явлении: «Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен», понятое широко, относится не только к домашним тиранам типа Простаковой, но и к обществу в целом. Бесчеловечие и злонравие «в благоучрежденном государстве терпимо быть не может», – говорит Правдин. Это утверждение применимо не только к семейному контексту, но и к сфере высокой политики – Фонвизин не делал различий между частной и публичной сферами. Поэтому «суд» над Простаковой в третьем и четвертом явлениях не только лишает власти тираншу-крепостницу, но также демонстрирует участь, ожидающую любого тирана. Здесь стоит подчеркнуть очевидное – Простакова управляет своей семьей произволом так же произвольно, как и Екатерина правила Россией. Поэтому выбор Фонвизиным своенравной женщины в качестве главного злодея пьесы не случаен. В «Недоросле» Простаковы и Скотинины определяют себя по тому, кем они приходятся Простаковой, так же как в России положение каждого определялось тем, кто он по отношению к Екатерине.
Важно также отметить, что импровизированный суд над Простаковой проводил Правдин, уполномоченный чиновник, под руководством государственного деятеля Стародума. В политическом мышлении Реформации право активного сопротивления неправедному государю часто закреплялось за другими представителями власти, то есть за «помазанниками», а не за народом в целом. Эти представители власти могли смещать неправедных правителей, поскольку, допустив тиранию, те уже утратили право на власть. Устранение нечестивого правителя обычно изображалось как юридический акт, а не как государственный переворот. Понимание того, что прототипом Стародума Фонвизину послужил Панин, усиливает политическую окраску пьесы.
Конечно, в самом тексте пьесы нельзя найти указаний на то, что суд над Простаковой выступает как замена суду над Екатериной. Но все же отчаянная реплика Простаковой в восьмом явлении пятого действия: «Отнята моя власть!» – должна была иметь политический отклик если не в сознании зрителей, то в сознании самого Фонвизина.
Последнее замечание по поводу «Недоросля»: судьба России в пьесе зависит не от конкретной политической программы, а от культурного преображения страны. В первом явлении пятого действия Правдин говорит: «…мудрено истреблять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды!» [Фонвизин 1959, 1: 167]. В политическом плане искоренение предрассудков возможно только при сотрудничестве с правителем, а для этого необходимо, чтобы правитель был мудрым. Мудрый государь стремится упразднить рабство, не обращает внимания на придворных льстецов и способствует внедрению в стране системы нравственного воспитания [Фонвизин 1959, 1: 167–168]. Однако бремя нравственного воспитания ложится в основном на образованную часть дворянства. В пьесе проводится мысль, что борьба за будущее России должна вестись не столько при царском дворе, сколько в провинции, в «милых семейках» типа Простаковых. Именно поэтому Фонвизин назвал свою пьесу «Недоросль». У самого Митрофанушки мало реплик, но именно он – объект стараний Простаковой: воспитывая его по своему примеру, она надеется сформировать будущее по своему образу и подобию. Эта перспектива приводит в ужас добродетельных Правдина и Стародума: наставления Простаковой Митрофану они считают неправильным воспитанием. В шестом – восьмом явлениях третьего действия учителя Митрофана отзываются о нем как о полном невежде и «тунеядце» [Фонвизин 1959, 1: 142]. Простакова считает, что «ученье… опасно для… головушки» Митрофана [Фонвизин 1959, 1: 145]. Сам Митрофан заявляет: «Не хочу учиться, хочу жениться» [Фонвизин 1959, 1: 143]. Однако к концу пьесы зритель видит, что Митрофан хорошо усвоил эгоизм матери: он ее образ и подобие. За это Правдин называет Митрофана «негодницей» и «грубияном» [Фонвизин 1959, 1: 177]. Не все сверстники Митрофана – грубияны и негодники: Софья и Милон представляют собой образцы добродетели, результат правильного нравственного воспитания. Однако Митрофан, олицетворяя собой невежество и нравственные пороки, угрожает стать будущим России, если не будут истреблены «закоренелые предрассудки».
В «Недоросле» Фонвизин не мог дать обоснования конституционной программе. Из-за цензуры такая явная связь между искусством и политикой была невозможна. Но в его смелых руках русский театр целился в крепостное право, произвол хозяев, порок, вовсе проявления тирании. К 1782 году искусство уже стало средством выражения нравственного ви?дения, охватывающего все сферы общественной жизни, в том числе политику, которая по необходимости входила в область всеобъемлющей добродетели. В XIX и XX веках россияне узнают, что всеохватывающие художественные и политические концепции могут быть столь же опасны, как и проблемы, которые они пытаются исправить. Однако для Фонвизина спасительным было его неприятие принуждения в нравственной жизни и нежелание оправдывать применение силы в политике. Поскольку он предпочитал мягкое убеждение и вдохновляющий пример плетям и тюремным камерам, многие россияне приняли его теплее, чем его более одаренного, плодовитого и обладающего большими политическими связями современника Державина.
Глава 11
Гавриил Державин: поэзия и истинная вера
Лучший русский литератор екатерининской эпохи, поэт Г. Р. Державин (1743–1816), был, пожалуй, единственным крупным российским государственным деятелем, ставшим автором первого ряда в литературном мире. На службу он поступил в 1762 году в качестве рядового Преображенского полка, но к 1772 году дослужился до офицерского чина. Во время Пугачевского восстания 1773–1774 годов он помогал генералу А. И. Бибикову подавить мятеж. В 1777 году Державин оставил военную службу и поступил на гражданскую. В течение следующей четверти века Державин получил ряд повышений: с 1778 по 1784 год он служил статским советником в Правительствующем сенате, с 1784 по 1785 год – правителем Олонецкого наместничества, с 1785 по 1788 год – правителем Тамбовского наместничества. В 1791 году Державин стал кабинет-секретарем Екатерины, а в 1793 году назначен сенатором в чине тайного советника. После службы в Сенате при Павле Державин служил в 18021803 годах министром юстиции при Александре I.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71234011?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
1
Эта переписка с прекрасным предисловием издана в [Stroev 2006].
2
Оригинал, к которому обращалась Екатерина, см. факсимиле в [Strube de Piermont 1978].
3
Де Мадарьяга утверждает, что французский оригинал более значим для интерпретации интеллектуального замысла Екатерины: «Именно французский текст “Наказа” наиболее близок к мысли самой Екатерины. Она заимствовала у авторов, писавших на французском языке, и сама написала “Наказ” на французском. Впоследствии он была переведен для нее на русский язык». См. [Madariaga 1998b: 243]. Возможно, это замечание справедливо, но для внутренних целей главным ориентиром была русскоязычная версия «Наказа». Большинство депутатов Законодательной комиссии читали документ на русском языке, чиновники в правительственных учреждениях также ссылались на русскую версию.
4
Здесь я цитирую русский текст. Французский «перевод» имеет другой оттенок. Во французской версии молитвы светское и религиозное право имеют одинаковое основание, а упоминание о законе в первой статье выпущено!
5
Статьи 56–61 опираются на работы Беккариа.
6
Мстиславская относила Сумарокова к представителям «аристократической Фронды», которая якобы стремилась к установлению в России «конституционной монархии». Этот ярлык вдвойне неточен. Слово «Фронда» подразумевало существование в России состоятельной элиты, аналогичной той, что выступила во Франции XVII века против централизованной власти. Сумароков принадлежал к служилой элите и происходил из семьи, владевшей крепостными, но в конце 1760-х годов доходы он получал в основном от Екатерины. Возможно, он выступал от имени тех элементов дворянства, которые поддерживали сохранение крепостного права, но сам он не был крупным землевладельцем. К тому же в российских условиях согласованное аристократическое оппозиционное движение, подобное тому, что имело место столетием ранее во Франции, вряд ли увенчалось бы успехом, как показал эпизод с Голицыным в 1730 году. Конечно, Сумароков хотел некоего эффективного сотрудничества между императрицей и высшими слоями дворянства. Возможно, он симпатизировал проекту Панина начала 1760-х годов по передаче части исполнительной и законодательной власти Императорскому совету и Сенату, но называть этот проект «конституционным» было бы, пожалуй, ошибочно. Как мы увидим ниже, проект Панина – Фонвизина 1783 года более соответствовал понятию конституционной реформы.
7
До 1775 года Екатерина сама выступала в роли «личного цензора» Сумарокова, что, кстати, послужило прецедентом для личной цензуры Пушкина Николаем I.
8
О «смеховой интимности контакта частного человека и монарха» см. [Лебедева 2000: 171].
9
Во «Введении» И. Пыпина поднимается дискутируемый вопрос об авторстве императрицы. См. [Пыпин 1901: I–LVI].
10
Среди друзей Екатерины в Европе распространялся французский текст «Le secret de la sociеtе antiabsurde, dеvoilе par quelqu’un qui n’en est pas» (Cologne, 1758). Во французской версии была указана заведомо ложная дата публикации, вероятно, для того, чтобы дистанцировать от нее Екатерину, по крайней мере, в глазах «неосведомленных». Удобное русское издание см. в [Екатерина II 1893: 439–444].
11
Бумаги, касающиеся предложения об учреждении Императорского совета и о разделении Сената на департаменты в первый год царствования Екатерины II (28 декабря 1762 года) [СИРИО 1867–1916, 7: 200–201].
12
См. также [Порошин 1881: 226–227], запись от 7 января 1765. Панин сказал Порошину по поводу Штрубе: «Il a dit tout ce qu’il a p? dire, а Монтескиу все Монтескиу останется».
13
27 июня 1765 года Панин говорил с С. А. Порошиным «о революциях при Анне Иоанновне» [Порошин 1881: 336].
14
В очень хорошей статье о политических идеях Сумарокова Е. П. Мстиславская заметила, что Сумароков «оказал Панину неограниченное доверие». См. [Мстиславская 2002б: 60].
15
В том же русле высказывается Элен Каррер д’Анкосс: «Хоть Екатерина и была новичком в политике, она сразу же поняла, что эти проекты с их миражом упорядоченного государства были задуманы для того, чтобы ограничить ее власть» [Encausse 2002: 83].
16
Об институциональном контексте философии Теплова см. в статье [Артемьева 1999].
17
Эта ремарка, сделанная в ретроспективе в Санкт-Петербургском журнале за июль 1798 года, процитирована в [Пигарев 1954: 256].
18
Об истории публикаций «Рассуждения» см. [Макогоненко 1959: 653–654].
19
Перевод Поповского «Опыта о человеке» А. Поупа появился в 1754 году. Фонвизин, скорее всего, читал издание 1757 года [Поповский 1757].
20
Пигарев цитирует «Послание о пользе наук и о воспитании в оных юношества», опубликованное Н. Новиковым в журнале «Живописец» в 1772 году.
21
Пьеса шла под русским названием «Гордость и бедность» и, возможно, представляла собой адаптацию пьесы Хольберга «Jeppe p? Bjerget» (1722).
22
Стихотворение принадлежит Сумарокову [Сумароков 1957: 295]. Автор приводит следующую атрибуцию: «[Федор Алексеевич Козловский]. Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому, на представление Синава и Трувора, Трагедии, сочиненной Его превосходительством Александром Петровичем Сумароковым [s.l. 1766?]».
23
Дань уважения Фонвизину Пушкин отдал в стихотворении «Тень Фонвизина» [Пушкин 1994–1999, 1: 119–125]. Пушкин приписывает Фонвизину скептический гедонизм Петрушки: «Вздохнул Денис: “О Боже, Боже! / Опять я вижу то ж да то же. / Передних грозный Демосфен, / Ты прав, оратор мой Петрушка: / Весь свет бездельная игрушка, / И нет в игрушке перемен”» [Пушкин 1994–1999, 1: 120].
24
Краткий обзор мировоззрения Кларка см. в [Yenter, Vailati 2018].
25
Первое издание книги Кларка: [Clarke 1705]. Фонвизин, возможно, изучал французский перевод [Clarke 1744].
26
Если бы Фонвизин был этическим утилитаристом, то апелляция к практическим результатам – «наибольшее счастье наибольшего количества людей» – могла бы быть интеллектуально последовательной. Но Фонвизин, по-видимому, связывал добродетель не с пользой, а с разумом и приверженностью этическим принципам.
27
Текст пьесы А. Карина утрачен. Пьеса Елагина является переработкой пьесы Хольберга «Jean de France eller Hans Frandsen» (1722).
28
Известия о новых книгах // Санкт-Петербургский журнал, февраль 1778 года, часть 1, с. 56–59. Цит. по: [Макогоненко 1961: 172].
29
В 1788 году Фонвизин дал объявление о плане издания пятитомного собрания сочинений, в которое должны были войти «разные письма» [Макогоненко 1959: 627–628].
30
что француз рожден свободным (фр.).
31
О сударь, вы правы! Француз раздавлен, француз – раб (фр.).
32
Фонвизин посетил спектакль 19 марта 1778 года [Фонвизин 1959, 2: 441–442, 469–470].
33
Я следовал сводному изложению Рэнселом плана Панина, опубликованного Шумигорским, но с некоторыми правками.
34
См. письмо Павла Н. И. Салтыкову от 5 апреля 1783 года в [Свиньин 1818: 112]; цит. по: [Сафонов 1974: 265].
35
Сафонов пришел к выводу, что проект Панина – Фонвизина и записки Павла «отличаются только в деталях» [Сафонов 1974: 271].
Ольга Терпугова
Гэри Хэмбург
Современная западная русистика / Contemporary Western Rusistika
В книге, посвященной истории российской религиозной и политической мысли Раннего Нового времени, Гэри Хэмбург показывает, что путь России к просвещению начался задолго до того, как Петр Великий распахнул окно в Европу. Исследуя широкий круг произведений, автор помогает увидеть, каким образом российское просвещение послужило предпосылкой для расцвета таких писателей XIX века, как Федор Достоевский и Владимир Соловьев.
Гэри Хэмбург, профессор истории Отто М. Бера колледжа Клермонт-Маккена в Калифорнии, изучает политическую, религиозную и интеллектуальную историю современной России с 1500 года по настоящее время. Среди его основных работ – книга «Boris Chicherin and Early Russian Liberalism» (1828 – 1866) (Stanford University Press, 1992), а также двенадцать других книг и сборников. Вместе с Семеном Ляндресом Г. Хэмбург является соредактором и сооснователем журнала «Journal of Modern Russian History and Historiography» (Brill), который выходит уже семнадцатый год.
Гэри Хэмбург
Россия: Путь к Просвещению
Вера, политика и разум, 1500–1801
Том 2
Посвящается Нэнси, Рейчел и Майклу, а также памяти моих родителей
Часть III
Устремленность к свету
1762–1801
Глава 8
Екатерина II и Просвещение
В России конца XVIII века никто так не способствовал распространению философских идей, как императрица Екатерина II. Сама она не была оригинальным и последовательным мыслителем, но с первых лет своего правления стала неутомимым популяризатором умеренных политических идей, заимствованных у барона Монтескьё, Чезаре Беккариа, Дени Дидро, Франсуа Кенэ, а также у немецких юристов, – Якоба фон Бильфельда и Иоганна фон Юсти – работавших в реформаторской политической парадигме. Конечно, у Екатерины были веские политические причины для поощрения философов: она была убеждена, что их советы могут оказаться полезными в отношениях с Европой, а также предчувствовала, что их моральный авторитет среди образованной публики может оказаться полезным. Но не стоит недооценивать и ее искренний энтузиазм в восприятии их идей. Вскоре после приезда в Россию в 1744 году она прочитала «Размышления о причинах величия и падения римлян» Монтескьё (1734) и, вероятно, в 1754 году – его же «О духе законов» (1748) и «Эссе о всеобщей истории» Вольтера (1754). По воспоминаниям Екатерины, начав читать Вольтера, она стала искать книги «с бо?льшим разбором», чем прежде; чтение Монтескьё вместе с «Анналами» Тацита произвело «необыкновенный переворот» в ее представлениях о политике [Екатерина II 1907a: 62, 255, 366; Cruise, Hoogenboom 2005: 21–22, 48, 138]. В начале царствования, когда ее трон был еще шаток, она начала свою знаменитую переписку с Вольтером. Однако потребностью Екатерины в одобрении Вольтера можно объяснить лишь начало этой переписки, но не ее длительность: она продолжалась до 1778 года, еще долго после того, как политическое положение императрицы упрочилось[1 - Эта переписка с прекрасным предисловием издана в [Stroev 2006].].
Изабель де Мадарьяга задалась вопросом, что известно историкам о политических взглядах Екатерины до ее восшествия на престол [Madariaga 1998b: 238–240]. В начале 1762 года, читая сочинение д’Аламбера о шведской королеве Кристине (годы жизни: 1626–1689, годы правления: 1633–1654), Екатерина с одобрением отметила стремление Кристины к тому, чтобы монархи несли свое служение в соответствии с законом. В том же году будущая императрица записала высказывание д’Аламбера о том, что «с точки зрения гражданина, политическая свобода состоит в гарантии, что он защищен законами, или, по крайней мере, в вере в эту гарантию». Рабство в среде свободных народов Екатерина считала «противоречием христианскому закону и справедливости»; она также выражала желание постепенно освободить русских крепостных [Madariaga 1998b: 238; Екатерина II 1901–1907, 12: 607–612]. Наибольшее влияние на мышление Екатерины до захвата ею власти оказал Монтескьё. Когда Ф. Г. Штрубе де Пирмонт опубликовал свои «Русские письма» (1760), в которых утверждал, что между деспотизмом, как его определяет Монтескьё, и монархией при плохом правителе нет особой разницы, Екатерина раскритиковала его за непонимание глубины анализа деспотизма у Монтескьё. По ее мнению, Россия действительно была деспотией, как и говорил Монтескьё. Действительно, Российская империя не могла управляться иначе, как посредством сильной централизованной власти, «потому что лишь с ее помощью возможно с необходимой быстротой устранить трудности, возникающие в отдаленных провинциях, ибо другие формы правления, будучи недейственны, препятствуют предприятиям, от которых зависит жизнь государства» [Madariaga 1998b: 239][2 - Оригинал, к которому обращалась Екатерина, см. факсимиле в [Strube de Piermont 1978].]. Таким образом, по мнению де Мадарьяга, политическое мышление Екатерины до прихода к власти было непоследовательным: будущая императрица одобряла правовое государство, но в то же время поддерживала идею унитарной централизованной власти; она считала, что российские дворяне не имеют никаких прав по сравнению с их западными коллегами; сетовала на крепостное право и надеялась на его постепенную отмену [Madariaga 1998b: 240].
Широкую известность в Европе Екатерине как политическому мыслителю принесло ее сочинение «Наказ Комиссии о составлении проекта новаго уложения» (1767), также именуемое «Большой наказ» или просто «Наказ». Как отмечает де Мадарьяга, «Наказ» иногда ошибочно понимают как «серию законов» для России или даже как ее «конституцию» [Madariaga 1998b: 235]. На самом деле «Наказ» был одновременно достаточно простым изложением законодательных принципов, на основании которых предполагалось составить новый свод законов, иллюстрацией политического применения философии просвещения и пропагандой, в которой российская монархиня представала просвещенной, прогрессивной европейской правительницей. «Наказ» состоял из 20 глав, разбитых на 526 статей, и двух приложений, содержащих еще 129. По замечанию Н. Д. Чечулина, редактора издания «Наказа», подготовленного Академией наук, бо?льшая часть текста была заимствована, часто дословно, из новейших работ по политической философии. Например, Чечулин обнаружил, что из 526 статей «Наказа» 284 были заимствованы из «Духа законов» Монтескьё. Многие заимствования были дословными, другие претерпели незначительные редакторские правки (например, замена слов «государь» на «князь» или «свобода» на «право гражданина»). Еще 108 статей были заимствованы из работы Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764), несколько статей – из «Наставлений политических» (1760) Я. Ф. фон Бильфельда, «Основания силы и благосостояния Царств» И. Г. Г. Юсти (1760–1761), «Энциклопедии» (1751–1765) Д. Дидро, «Естественного права» (1765) Ф. Кенэ. Всего, по подсчетам Чечулина, из других источников были заимствованы не менее 469 статей «Наказа» [Чечулин 1907: CXXIX–CXLIV]. По сдержанному выражению Чечулина, «значение “Наказа” как самостоятельного произведения, таким образом, надо признать не весьма высоким» [Чечулин 1907: CXLV].
Тем не менее в защиту Екатерины следует сказать, что расположение заимствованного материала было достаточно логичным. От общей картины состояния России и ее потребности в хороших законах «Наказ» переходит к обсуждению преступлений, наказаний, судебной системы, торговли, образования, российского общественного устройства, процесса составления новых законов. Екатерина вполне логично соединяла заимствованные фрагменты и свои собственные взгляды (которые составляли примерно четверть статей «Наказа»). Правда, местами она допускала повторения в заимствованиях, иногда игнорировала противоречия между ними. Пожалуй, наиболее серьезное противоречие Екатерина допустила по вопросу о смертной казни: статья 79, заимствованная из Монтескьё, оправдывает смертную казнь в отношении убийц, тогда как в статьях 209–212, взятых у Беккариа, утверждается, что «в обыкновенном состоянии общества» смертная казнь недопустима [Чечулин 1907: CXLV].
Опубликованная редакция «Наказа» была, по сути, вторым черновиком первоначального проекта Екатерины. Поскольку Екатерина была не только интеллектуалом, но и искусным политиком, ее реакция на критику различных кругов общества может помочь нам лучше понять, в каком духе она составляла «Наказ», редактировала его и затем представила на суд общественности.
Как отмечает Ю. В. Стенник, первоначальный вариант «Наказа» Екатерина написала на французском языке, а затем показывала различные главы первоначального черновика своим помощникам. Например, она попросила своего кабинет-секретаря Г. В. Козицкого прочитать и переформулировать ее идеи по проблемам крестьянства и крепостного права [Стенник 2006: 125–143]. Первый вариант целиком она давала читать по крайней мере шести лицам: своему канцлеру графу М. И. Воронцову, генералу А. И. Бибикову, вице-президенту одной из своих канцелярий В. Г. Баскакову, епископу Тверскому Гавриилу (Петрову), иеромонаху Платону (Левшину) и писателю А. П. Сумарокову. Мы не знаем, почему именно эти люди были выбраны ею в качестве первоначальной аудитории «Наказа», но можно предположить, что она хотела узнать мнение представителей политически активного дворянства (Воронцов), армии (Бибиков), имперской бюрократии (Баскаков), «просвещенных» церковных деятелей (епископ Гавриил и иеромонах Платон) и образованной публики (Сумароков).
Первый из сохранившихся откликов императрице был лестным: 23 сентября 1765 года Воронцов благодарил Екатерину за то, что она, «яко истинная матерь, о детях своих пекущаяся», соизволяет «распространять… свои дарования в установлении прочных законов на будущия времена, к благополучию общенародному… постановляя… утверждение самодержавной вашей власти в свободе и преимуществе российскаго дворянства и вообще каждаго безопасность правосудия и милосердия твоего» [СИРИО 1867–1916, 10: 76]. Баскаков в мае 1766 года похвалил императрицу, засвидетельствовав, что, читая «Наказ», «приходил многократно в радостное восхищение», но затем предостерег ее, написав, что она, возможно, зашла слишком далеко в своем стремлении безоговорочно запретить пытки. Баскаков посоветовал ей статью об отмене пыток дополнить словами «кроме необходимых случаев» – эта оговорка оказалась весьма кстати во время Пугачевского бунта 1773–1774 годов [СИРИО 1867–1916, 10: 76, 79]. Воронцов и Баскаков, каждый в своем роде, были типичными успешными сановниками, доставшимися Екатерине в наследство от предыдущих царствований: Воронцов был богатым помещиком, который хотел быть уверенным, что Екатерина ничем не ущемит «вольности» дворянства, а Баскаков – опытным функционером, заботившимся о сохранении «гибкости» правительства в борьбе с угрозами снизу.
Генерал Бибиков в своем ответе проявил бо?льшую независимость мышления, чем два предыдущих рецензента. Он отметил, что в «Наказе» не проводится четкого разграничения между государственным и гражданским законом, что Екатерина не совсем точно определила разницу между государственными и моральными преступлениями, а также неточно описала роль Сената в законотворчестве [СИРИО 1867–1916, 10: 76–77]. Эти недостатки «Наказа» были очевидны не только с теоретической, но и с практической точки зрения: действительно, как мы увидим ниже при обсуждении предложений Никиты Панина и Гавриила Державина по реформированию процесса принятия решений в империи, вопрос о статусе Сената был спорным моментом в российской высшей политике на протяжении всего царствования Екатерины и после него.
Наиболее критические оценки из числа избранных Екатериной читателей исходили от Сумарокова. Благодаря своим успехам как поэта и драматурга, а также недавнему пребыванию на посту директора «Русского для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге (1756–1761) Сумароков в 1766 году был, пожалуй, самым известным русским писателем. Несмотря на то что он был откровенным монархистом, во многих его пьесах осуждалась тирания как нарушение нравственного порядка. Поэтому Екатерина, вероятно, направила Сумарокову «Наказ» не только для того, чтобы проверить реакцию литературного мира на свои политические идеи, но и для того, чтобы заручиться его личной поддержкой своей теории разумного законодательства.
Согласно Стеннику, Сумароков без замечаний согласился с идеей императрицы о том, что государь России должен быть самодержцем, «ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно со пространством столь великого государства», но отверг ее мысль, что самодержавное правительство может управлять в духе «умеренности». По выражению Сумарокова, «умеренности правосудие не терпит, а требует надлежащей меры, а не строгости и не кротости» [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. По его мнению, главной внутренней обязанностью государства должно быть наказание преступников, ибо только неумолимое правосудие предотвращает будущие преступления. К политической теории Екатерины Сумароков отнесся как к собранию милых, наивных отвлеченностей, которые неприменимы в России [Стенник 2006: 141–142.] Он порицал ее за предложение предоставить депутатам Уложенной комиссии пожизненный иммунитет от смертной казни, пыток и телесных наказаний: по его мнению, предоставление иммунитета одним только депутатам, а не всей стране было бы ошибкой, «ибо правосудию изъятия нет». Он также высказался против плана Екатерины разрешить депутатам выносить рекомендации большинством голосов; он хотел, чтобы делегаты направляли свои мнения на рассмотрение императрицы [СИРИО 1867–1916, 10: 83]. В этом мнении выразилось неприятие Сумароковым правительства парламентского типа [Стенник 2006: 131].
Теории Екатерины о восьми видах права (божественное, церковное, естественное, народное, общественное, военное, гражданское, семейное), которую она почерпнула из чтения Монтескьё, Сумароков противопоставил свою теорию о трех видах права (право религии, право естества, воля монарха). Нравственный закон, который человек может познать из Священного Писания и церковного учения, он рассматривал как исток естественного права, на котором, в свою очередь, основано позитивное право. Естественное право он определял следующим образом: «1. Познавати Бога и добродетель. 2. Искати своего блаженства без ущерба ближнему. 3. Искати блаженства ближняго, без ущерба себе». Таким образом, естественное право, по его мнению, представляло собой совокупность этических постулатов, основанных прежде всего на религиозных максимах, но также рационально выводимых из нашего взаимодействия с обществом. Сумароков отверг надежды Екатерины на то, что существующие школы могут привить русским людям большее уважение к закону, написав, что «вместо наших училищей… потребны великие и всею Европою почитаемые авторы, а особливо несравненный Монтескиу» [СИРИО 1867–1916, 10: 83]. По его интерпретации, Монтескьё предпочитает подзаконную вольность неволе. Сумароков, однако, едко замечает, что «невольник никогда не может быть верен… Но своевольство еще и неволи вреднее» [СИРИО 18671916, 10: 83–84]. Здесь Сумароков выражает беспокойство по поводу опасности рабской психологии, уходящей корнями в российское крепостное право: он считал, что при существующих социальных условиях только дворяне могли быть вольными по закону; предоставление свободы крепостным приведет к катастрофе. Убеждения Екатерины в том, что позитивное право должно учитывать народные обычаи и что человек по природе своей склонен к свободе, казались Сумарокову ошибочными. Он не считал, что в такой стране, как Россия, закон должен выводиться из народных обычаев. Напротив, мудрые законодатели, понимающие и отстаивающие нравственную истину, должны навязывать законы невежественному народу [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. Сумароков гораздо ниже, чем Екатерина, оценивал культурный уровень простого народа в России, а потому и возможности конструктивного законодательства в 1766 году он считал гораздо более узкими.
Сумароков был резко не согласен с намеками Екатерины на освобождение крепостных, высказанными в первоначальном проекте «Наказа». Екатерина утверждала, что разумное законодательство должно быть таким, «чтоб не приводить людей в неволю, разве крайняя необходимость к учинению того привлечет», поскольку следует «по силе нашей о благополучии всех людей пещися». Следуя Г. В. Козицкому, Екатерина приводит в пример жестокое обращение с илотами в Спарте, а также с рабами в Древнем Риме в качестве доказательства необходимости законодательного ограничения власти господ над рабами. Императрица безоговорочно одобряет наказание жестоких рабовладельцев в древних Афинах. Кроме того, императрица заявила, что каждый человек имеет право на пищу и одежду и что, исходя из гуманных соображений, закон должен их гарантировать. Она утверждала, что хорошее правительство должно обеспечить крепостным возможность приобретения собственности: «Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества и привесть их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу» [Стенник 2006: 136–140]. Сумароков, со своей стороны, утверждал, что хороший хозяин должен относиться к крепостным справедливо, ибо «иное быть господином, а иное тираном». Однако он не считал целесообразным законодательно обеспечивать справедливое отношение к крепостным по всей России, но полагал, что правительство должно положиться на нравственное чувство господ. При этом он подразумевал, что альтернативой доверию господам может быть только доверие крепостным, а доверять низшим сословиям он считал неразумным. Кроме того, по мнению Сумарокова, государство не должно входить в детали по поводу того, как именно хозяева должны кормить и одевать своих крепостных. «Служащие должны иметь пищу и одежду, – писал он. – Все имеют, а предписать господам, какую пищу и какую одежду нельзя» [СИРИО 1867–1916, 10: 85]. Наконец, Сумароков утверждал:
…сделать русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах. Вотчины превратятся в опаснейшия им жилища; ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них [СИРИО 1867–1916, 10: 85–86].
Сумароков считал, что в принципе отмена крепостного права возможна, но для этого между господами и крепостными должно сначала установиться дружелюбие. «А это примечено [при мирном освобождении], что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет». Сумароков предсказал, что даже при отсутствии социальной вражды между бывшими господами и бывшими крепостными отмена крепостного права приведет к огрублению сельской жизни. «И только будут к опустошению деревень холопьи наборы, а как скоро чему нибудь его научит, так он и отойдет к знатному господину, ибо там ему больше жалованья; а дворяне учат людей своих: брить, волосы убирать, кушанье варить и пр. И так всяк будет тратить деньги на других, выучивая» [СИРИО 1867–1916, 10: 86].
В заключение Сумароков заявил Екатерине, что ее «Наказ» написан «высокопарно», а оттого «темно, глупо и безполезно». Он заметил, что законы должны быть простыми и ясными, по примеру Уложения Алексея Михайловича, в котором нет «чужих слов» и потому оно хорошо и вразумительно [СИРИО 1867–1916, 10: 87].
Реакция Екатерины на эти оценки первого проекта «Наказа» многое говорит о ее политических взглядах. Письма Воронцова и Бибикова она приняла без комментариев – возможно, потому, что была согласна с Воронцовым и не была уверена в том, как ответить Бибикову. На письме Баскакова она отметила: «Все его примечания умны» [СИРИО 1867–1916, 10: 82]. По поводу его совета разрешить пытки в крайних случаях она заметила: «О сем слышать не можно, и казус не казус, где человечество страждет» [СИРИО 1867–1916, 10: 79]. По поводу письма Сумарокова императрица выразила неудовольствие. Она обвинила его в том, что, размышляя о природе законов, он цитирует Монтескьё, «не разумея его» [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. Усомнившись в том, что большинство русских дворян способны справедливо и без злоупотреблений обращаться с крепостными, она высмеяла мысль Сумарокова о том, что простой народ недостаточно цивилизован для разумного поведения. Она написала: «Бог знает, разве по чинам качества читать» [СИРИО 1867–1916, 10: 85]. Она с пониманием отнеслась к опасениям Сумарокова, что освобожденные крестьяне могут угрожать жизни бывших господ, но с сарказмом заметила, что и сейчас господа «бывают зарезаны отчасти от своих». На замечание Сумарокова об отсутствии у крепостного «благородных чувствий» она ответила: «и иметь не может в нынешнем состоянии» [СИРИО 1867–1916, 10: 86]. Наконец, в ответ на критику Сумарокова в отношении ее стиля она писала:
Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает. Чтобы быть хорошим законодавцем, он связи довольной в мыслях не имеет… Две возможности в сем деле есть: возможность в разсуждении законодавца и возможность в разсуждении подданных, или лучше сказать тех, для которых законы делаются. Часто прямая истина в разсуждении сих возможностей должна употребляема быть так, чтоб она сама себе вреда не нанесла, и более от добра отвращения, нежели привлечения не сделала [СИРИО 1867–1916, 10: 87].
Таким образом, в ходе первого чтения проекта «Наказа» Екатерина проявила себя как сторонница взглядов Монтескьё на ограниченную монархию; любительница «высокопарных» фраз, призванных воодушевить подданных к принятию нового правового кодекса; сторонница директивного подхода к изменению общества сверху. При этом чистую правду о своем проекте она готова была говорить только в том случае, если эта правда окажется полезной. На этом этапе своего царствования, еще до публикации «Наказа», она была принципиальной сторонницей просвещенного правления, но одновременно и высокомерным циником. Неудивительно, что в ответ на критику она внесла в «Наказ» лишь незначительные изменения, в основном смягчив предписывающие формулировки или добавив уточняющие пункты.
Обратимся теперь к опубликованной на русском языке редакции «Наказа»[3 - Де Мадарьяга утверждает, что французский оригинал более значим для интерпретации интеллектуального замысла Екатерины: «Именно французский текст “Наказа” наиболее близок к мысли самой Екатерины. Она заимствовала у авторов, писавших на французском языке, и сама написала “Наказ” на французском. Впоследствии он была переведен для нее на русский язык». См. [Madariaga 1998b: 243]. Возможно, это замечание справедливо, но для внутренних целей главным ориентиром была русскоязычная версия «Наказа». Большинство депутатов Законодательной комиссии читали документ на русском языке, чиновники в правительственных учреждениях также ссылались на русскую версию.].
«Наказ» начинается молитвой: «Господи Боже мой вонми ми, и вразуми мя, да сотворю суд людям Твоим по закону святому Твоему судити в правду». Первая статья гласила: «Закон христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно». Обращение к Богу и отсылка к православию были рассчитаны на православных подданных Екатерины, поскольку в связи с проводимой ею в то время секуляризацией монастырских земель церковные иерархи могли усомниться в ее авторитете. В то же время уже в начале «Наказа» божественный закон был представлен как высший закон в государстве, хотя и не назван таковым прямо. Этот ловкий прием был достоин такого искусного политика, каким была Екатерина [Екатерина II 1907б: 1][4 - Здесь я цитирую русский текст. Французский «перевод» имеет другой оттенок. Во французской версии молитвы светское и религиозное право имеют одинаковое основание, а упоминание о законе в первой статье выпущено!].
В первых двух главах «Наказа» – статьях 6–16 – Россия характеризовалась как «Европейская держава», владения которой простираются на 32 градуса широты и 165 градусов долготы. Утверждалось, что, учитывая такую огромную территорию, Россия должна управляться посредством самодержавия, «ибо никакая другая, как только соединенная в его [государя] особе власть не может действовати сходно со пространством толь великаго государства… Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно» [Екатерина II 1907б: 3]. Здесь Екатерина отходила от Монтескьё, который объяснял преобладание в России деспотии именно ее огромной территорией. Уклонившись от хода мысли Монтескьё, Екатерина «нормализовала» Россию и намекнула на разницу между Петром I (по Монтескьё, классическим деспотом) и собой (по ее самоопределению, «просвещенной самодержицей»).
В статьях 13–16 ставился вопрос о цели самодержавного правления и определялись границы свободы. Екатерина дала два ответа на вопрос о цели самодержавия. Первая цель – «чтобы действия их [людей] направити к получению самаго большого ото всех добра». Вторая – «слава граждан, государства и Государя». Если сопоставить эти два ответа – первый из статьи 13, второй из статьи 15, – то получится уравнение: коллективные интересы российских подданных заключаются в достижении славы граждан, государства и государя. Это уравнение подразумевает прямую связь между материальными интересами и эмоциональным благополучием, между процветанием и национальной гордостью, но его можно прочесть и как исключение из «коллективных интересов российских подданных» всех составляющих, кроме «славы».
По вопросу о свободе Екатерина выразилась неоднозначно. Она заявила, что монархическое правление предназначено не для того, «чтоб отнять естественную их [людей] вольность, но чтобы действия их направити к получению самаго большого ото всех добра». В статье 14 она подразумевает, что естественная свобода совпадает с «намерениями в разумных тварях предполагаемыми» и соответствует цели создания гражданского общества. При этом она нигде не дает определения естественной свободы – и это умолчание является вопиющим, поскольку делает невозможным обвинение в том, что самодержавие нарушает естественную свободу. Вместо этого она указала на совместимость естественной свободы и правительства, действующего в интересах подданных [Екатерина II 1907б: 4].
В статьях 36–39 Екатерина дала определение понятию «общественная свобода». Согласно статье 36, свобода заключается не в том, чтобы делать все, что заблагорассудится. Согласно статьям 37 и 38, в обществе, где есть законы, «вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принуждену делать то, чего хотеть не должно». И снова: «Вольность есть право, все то делать, что законы дозволяют; и если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности не было, ибо и другие имели бы равным образом сию власть». В статье 39 свобода приравнивается к безопасности: «Государственная вольность в гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностию; и чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другаго, а боялись бы все одних законов» [Екатерина II 1907б: 8–9].
Таким образом, концепция Екатерины о свободе в обществе сводилась к декларации того, что свобода заключается в послушании совести (возможности делать то, что должно) в рамках позитивного права (права делать все, что позволяют законы). Она считала, что все должны подчиняться законам в равной степени («и если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности не было»), но не утверждала, что все люди должны быть равны в привилегиях. Более того, в условиях общества, где царило крепостное право, она не осмелилась говорить о юридическом равенстве в этом смысле. Ее отождествление свободы с безопасностью означало либо намек о свободе от произвола властей, либо утверждение, что только сильное правительство и сильные законы позволяют гражданам в полной мере наслаждаться свободой. Первые статьи «Наказа» оставляют общее впечатление, что Екатерина придерживается дирижистской концепции свободы, которую Исайя Берлин назвал бы «позитивной свободой», при которой правительство направляет граждан «к получению самаго большого ото всех добра», подданные вольны «делать то, что каждому надлежит хотеть» по совести, во славу «граждан, государства и Государя». Екатерина не перечисляет права отдельных подданных, ограничиваясь упоминанием «права» делать то, что разрешено законами.
Главу 6 (статьи 41–63) Екатерина посвятила «законам вообще». Здесь она усилила ранее высказанные замечания о вольности и попыталась объяснить соотношение между обычаями и государственными законами. Из статей 41 и 42 следовало, что государственные законы не должны запрещать ничего, «кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу». Таким образом, личные поступки, не затрагивающие ни других людей, ни государство, не подпадают под действие законов. Екатерина не охарактеризовала эту сферу «безразличных действий» как относящуюся к частной жизни или составляющую «права» индивидов. Тем не менее ее комментарии, которые в данном случае во многом повторяют Монтескьё, дают общее представление о «негативной свободе» [Екатерина II 1907б: 8–9]. По поводу обычаев Екатерина утверждала, что для управления государством необходимы законы, подлежащие исполнению, поэтому при разработке законов законодатель должен принимать во внимание нравы народа. Однако она не считала обычаи непреодолимым препятствием для законодательных изменений: «И так когда надобно сделать перемену в народе великую к великому онаго добру, надлежит законами то исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями» [Екатерина II 1907б: 8–9]. Главное для законодателя – «умы людские… приуготовить» к введению новых законов. Позиция Екатерины, согласно которой реформы требовали тщательной подготовки, содержала в себе косвенную критику Петра I, чьи реформы проводились поспешно, без подготовки к ним людей. Екатерина, напротив, хотела предстать правительницей, действующей в мудром и умеренном духе Монтескьё, – ведь ее «Наказ» предназначался именно для того, чтобы подготовить умы россиян к принятию нового свода законов. Однако трудно сказать, насколько серьезно Екатерина относилась к известному изречению Монтескьё о том, что к законам можно «прикасаться только дрожащими руками». Рука Екатерины не дрогнула.
Сразу после обсуждения необходимости реформ в «Наказе» был поднят вопрос о наказаниях за нарушение законов. По мнению императрицы, при проведении реформ можно было ожидать сопротивления снизу в виде нарушения новых законов. Это сопротивление, которое таковым нигде не названо, она надеялась сдержать законодательно установленными наказаниями. В статьях 61–96 рассматривалась идеальная система наказаний. Основное положение «Наказа» заключалось в том, что наказание не должно произвольно назначаться ни государем, ни судом, а должно «происходить… от самой вещи», то есть из характера данного преступления. Любое наказание, назначенное не по необходимости, по определению является «тиранским» [Екатерина II 1907б: 14].
Согласно «Наказу», существует четыре вида преступлений: преступления против веры; преступления против нравов; преступления против общественного спокойствия; преступления против безопасности личности. Дела по преступлениям против веры (например, богохульство), как считала Екатерина, должны решаться церковью путем отлучения или изгнания преступников из храмов. Здесь она вслед за Монтескьё пыталась разделить церковь и государство. В статье 74, посвященной религиозным преступлениям, императрица прибегает к ухищрениям, не упоминая ни многоконфессиональный характер Российской империи, ни принцип веротерпимости [Екатерина II 1907б: 14]. За преступления против нравов Екатерина назначает наказания преимущественно морального характера: всенародное бесчестие, стыд, изгнание из города и общества. Единственным материальным наказанием здесь были денежные штрафы, но осталось неясным, должны ли эти штрафы налагаться частными обществами или государством. По общему правилу, «преступления» против нравов должны были рассматриваться как незначительные нарушения обычаев, не имеющих юридической силы [Екатерина II 1907б: 16].
Преступления против общественного спокойствия, однако, подпадали под несомненную юрисдикцию государства. Наказания за такие преступления – «ссылка, исправления и другия наказания, которыя безпокойных людей возвращают на путь правый, и приводят паки в порядок установленный» [Екатерина II 1907б: 17]. Екатерина полагала, что преступления против безопасности личности являются серьезными, поскольку они посягают на саму основу социального порядка, то есть наносят ущерб тем людям, которым государство призвано обеспечить «самое большое добро». По мнению Екатерины, наказание за подобное преступление должно быть зеркальным по отношению к самому преступлению. Если один человек нарушил покой другого, тогда преступника следует самого лишить покоя, то есть посадить его в тюрьму. Если один человек крадет у другого, то его следует лишить имущества. В целом, по мнению Екатерины, преступление против собственности не заслуживает смертной казни, а требует наказания «из свойства вещи», то есть конфискации имущества злоумышленника либо телесного наказания, если у преступника не было собственности [Екатерина II 1907б: 17–18]. Екатерина колебалась по поводу логического следствия из ее теории зеркального наказания: если злоумышленник убивает монаршего подданного, он тем самым сам лишается права на жизнь.
В хорошо устроенном государстве, как говорилось в «Наказе», законы должны быть направлены скорее на исправление пороков, чем на наказание преступников, но когда наказание злоумышленников становится неизбежным, законом следует предписывать скорее мягкие наказания, чем суровые. «Последуим природе давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет безчестие в претерпении наказания заключающееся» [Екатерина II 1907б: 20]. Статья 87 гласила: «Не надобно вести людей путями самыми крайними; надлежит с бережливостию употреблять средства естеством нам подаваемыя для препровождения оных к намереваемому концу» [Екатерина II 1907б: 20]. Согласно статье 96, эта аксиома исключает применение пыток: «Все наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, до?лжно отменить» [Екатерина II 1907б: 23]. Призыв к запрету пыток подкреплен статьей 123, в которой указано, что «употребление пытки противно здравому человеческому разсуждению». Екатерина пишет, что «само человечество вопиет против оныя, и требует, чтоб она была вовсе уничтожена» [Екатерина II 1907б: 30, 56–61][5 - Статьи 56–61 опираются на работы Беккариа.]. «Наказ» разрешал законодателю предусмотреть тюремное заключение для граждан, подозреваемых в пособничестве иноземным врагам, но только в случае выявления тайного заговора, опасного для государства или государя, и только при условии, что заключение носит временный характер [Екатерина II 1907б: 33].
Поскольку «Наказом» предусматривалось существенное сокращение полномочий судов по применению телесных пыток и других жестоких наказаний к подданным империи, намерения Екатерины выглядят гуманными и просвещенными, особенно по тогдашним российским меркам. Обсуждение наказаний в «Наказе» может служить одним из примеров программы Екатерины по «приуготовлению умов» к фундаментальному изменению уставного законодательства, а возможно, и к трансформации народных нравов. Безусловно, она заслужила похвалу за прекрасные чувства, и все же историк не может не заметить, что менее чем через десять лет, при подавлении Пугачевского восстания, она и ее приближенные без колебаний применяли к бунтовщикам самые страшные меры, включая телесные увечья. Императрица, которая в 1767 году надменно предстала перед Европой сияющим «маяком», в 1773–1774 году погрузилась в нравственное помрачение.
Глава 11 (статьи 250–263) посвящена обоснованию необходимости социальной иерархии и поднимает проблему крепостного права. Екатерина оправдывает социальную иерархию, отмечая: «Гражданское общество, как и всякая вещь, требует известнаго порядка. Надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим, которые повинуются» [Екатерина II 1907б: 74]. Однако, в соответствии с естественным правом, правителю подобает «состояние сих подвластных облегчать, сколько здравое разсуждение дозволяет». Следует «избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю», и следить за тем, чтобы «законы гражданские с одной стороны злоупотребление рабства отвращали, а с другой стороны предостерегали бы опасности могущия оттуда произойти». Екатерина упоминает закон Петра I от 1722 года о наложении опеки на жестоких владельцев крепостных и задается вопросом, почему этот закон остается без исполнения [Екатерина II 1907б: 74–75]. В статье 260 она предупреждает: «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго числа освобожденных». Также она выражает опасения по поводу восстания крепостных: «При чем однако же весьма нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против господ своих» [Екатерина II 1907б: 76]. Эти статьи «Наказа» положили начало длительному обсуждению вопроса о крепостном праве в Уложенной комиссии и привели к появлению в периодической печати многочисленных статей о жестоком обращении с крепостными, причем практически все авторы согласились с обоснованием социальной иерархии, предложенным императрицей.
В главах 15 (статьи 358–375) и 16 (статьи 376–383) раскрывается отношение Екатерины к дворянству и городскому купечеству. Учитывая значение дворянства в политической теории Монтескьё, на первый взгляд удивительно, как мало внимания Екатерина уделила этой группе. Однако ее относительное невнимание вполне объяснимо с учетом ее представления о самодержавном правлении, при котором вся власть принадлежит государю [Екатерина II 1907б: 105–110]. Хотя купечеству как таковому Екатерина посвятила всего восемь статей, в главах 12 (статьи 264292) и 13 (статьи 293–346) она подчеркнула значение торговли для процветающего, упорядоченного государства. Важнейшими факторами развития России она сочла процветающее сельское хозяйство (а значит, и здоровье крестьянства) и размах торговой деятельности (а значит, и предприимчивое купечество).
Учитывая репутацию Екатерины как последовательницы философов, она уделила довольно мало внимания вопросам образования. Этой теме посвящена лишь короткая глава 14 (статьи 347–355). Екатерина сразу признала, что «невозможно дать общаго воспитания многочисленному народу, и вскормить всех детей в нарочно для того учрежденных домах» [Екатерина II 1907б: 103]. Воспитание она предлагала возложить в основном на семью и ограничить его простыми нравственными правилами. В «Наказе» говорилось: «Всякий обязан учить детей своих страха Божия как начала всякаго целомудрия, и вселять в них все те должности, которых Бог от нас требует в десятословии своем, и православная наша восточная греческая вера во правилах и прочих своих преданиях». Помимо преподания детям этих общих наставлений, главы семейств должны были «вперяти в них любовь к отечеству, и повадить их иметь почтение к установленным гражданским законам, и почитать правительства своего отечества» [Екатерина II 1907б: 103–104].
Если не читать «Наказ» далее, можно было бы подумать, что императрица забыла о многоконфессиональном населении России, но в главе 20 она внезапно обращается к этому факту общественной жизни. В статье 494 Россия описывается как обширная империя, где живут разнообразные народы, и поэтому «весьма бы вредный для спокойствия и безопасности своих граждан был порок, запрещение или недозволение их различных вер». «Наказ» предостерегал от религиозных преследований, которые только раздражают верующих, тогда как «…дозволение верить по своему закону умягчает и самыя жестоковыйныя сердца, и отводит их от заматерелаго упорства, утушая споры их противные тишине Государства и соединению граждан» [Екатерина II 1907б: 134]. Однако, как можно было догадаться, Екатерина не ставила своей целью бесконечное существование этого религиозного многообразия. Она заявила: «И нет подлинно инаго средства кроме разумнаго иных законов дозволения, православною нашею верою и политикою неотвергаемаго, которым бы можно всех сих заблуждших овец паки привести к истинному верных стаду» [Екатерина II 1907б: 134]. Екатерина не пытается примирить свою систему воспитания, основанную на Десяти заповедях и православии, с наличием в России бесчисленного количества семей, которые не были ни православными, ни даже христианами.
В конце «Наказа» звучит нотка императорской скромности. Невзирая на уверения льстецов, что народы созданы для своих государей, Екатерина заявляет:
Однако ж МЫ думаем и за славу Себе вменяем сказать, что МЫ сотворены для НАШЕГО народа… Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив, и следовательно больше процветающ на земли: намерение законов НАШИХ было бы не исполнено: несчастие, до котораго Я дожить не желаю [Екатерина II 1907б: 141].
Хотя «Наказ», безусловно, не был оригинальным произведением политической философии, сама его зависимость от Монтескьё и Беккариа помещала его в разряд политических произведений, принадлежащих к умеренному направлению Просвещения. К этому направлению относились и защита Екатериной монархии, и обоснование социальной иерархии, и поддержка торговли, а также ее противостояние религиозной нетерпимости. Неудивительно, что Вольтер, прочитав «Наказ», воскликнул: «Ликург и Солон, верно, утвердили бы Ваше сочинение своеручным подписанием, но, может быть, сами не в состоянии были бы написать подобного. Ясность, определенность, справедливость, твердость и человечность суть качества оного» [Stroev 2006: 76, 78]. Взгляды Екатерины на свободу, однако, составляли набор двусмысленностей. Склонность к пониманию свободы как возможности делать то, что до?лжно, по принуждению государства и в рамках законов характеризовала ее как дирижиста в ряду властных европейских монархов, преобладавших в XVIII веке. Однако она допускала свободу действий в вопросах, не относящихся к закону, и тем самым – существование ограниченной частной сферы. Она также была готова мириться с существованием неправославных религиозных общин, по крайней мере временно, и исключить, хотя бы в принципе, применение пыток в качестве инструмента следствия. Это были шаги к мирному религиозному плюрализму и к неприемлемости телесных наказаний, которые были свойственны европейской мысли середины XVIII века.
Представления Екатерины о религии, образовании и крепостном праве были обусловлены российскими обстоятельствами. Как и подобает православной государыне, «Наказ» она начала с молитвы, ссылалась на христианский закон как на руководство и поместила в основу своей программы домашнего воспитания православие. Хотя идея веротерпимости была заимствована ею с Запада, она также коренилась в русской традиции и в российских реалиях. Можно утверждать, что ее попытка примирить православную церковь с многоконфессиональностью иллюстрирует собой противоречия в управлении внутренне разнообразной империей. Ее отношение к крепостному праву также было противоречивым: признание экономических выгод крепостного права уживалось со страхом перед его последствиями; человеколюбивая забота о крепостных соседствовала с желанием установить социальный порядок и иерархию. В сложившихся обстоятельствах Екатерина полагала, что ей не удастся сделать ничего лучшего, кроме как препятствовать распространению крепостного права и выступить против связанных с ним злоупотреблений, если, конечно, Уложенная комиссия не примет решение о его отмене. Отношение Екатерины к решению проблемы крепостного права было вынужденно циничным. Вольтер мог счесть ее позицию «человечной», но эта человечность не простиралась дальше указа Петра I о недопустимости жестокого обращения с крепостными.
Русскоязычная версия «Наказа» вызвала необычайный интерес внутри страны. Как пишет Чечулин, за время правления императрицы «Наказ» переиздавался восемь раз. На заседаниях Уложенной комиссии в начале каждого месяца он прочитывался целиком. В 1767 году его копии были разосланы в разные присутственные места. В 1768 году Сенат предписал, чтобы Наказ в учреждениях прочитывался «по крайней мере по три раза в год» [Чечулин 1907: CXLVI]. Опубликовав переработанную французскую редакцию «Наказа», императрица распорядилась распространить ее за границей. Она также приказала сделать официальные переводы на латинский, немецкий и английский языки. В 1770 году правительство выпустило издание «Наказа» на четырех языках: русском, латинском, французском и немецком, причем русский и латинский тексты были напечатаны параллельными колонками; немецкий и французский тексты также располагались рядом. Таким образом, «Наказу» была гарантирована широкая известность на родине и за рубежом. Вероятно, ни один российский государственный документ XVIII века не привлекал такого внимания.
Наиболее развернутым комментарием к тексту Екатерины стали «Замечания на Наказ Ее Императорского Величества депутатам Комиссии по составлению законов» (1774) французского философа Дени Дидро. В «Замечаниях» Дидро отстаивал принципы суверенитета нации и народа как истинного законодателя, выборности на всенародной основе представителей народа для принятии законов, а также разделения ветвей власти. Поэтому он отвергал как деспотию, так и «чистую монархию» как негодные формы правления [Дидро 1947: 418–419]. Как справедливо отмечает де Мадарьяга, Дидро расходился с Екатериной и Монтескьё в оценке роли географических и исторических обстоятельств в создании законов: если Екатерина и Монтескьё склонны были рассматривать правовые кодексы как зависящие в определенной степени от местных условий, то Дидро считал, что основополагающие законы вытекают из природы человека, а потому универсальны. Он проводил различие между рабами и свободными людьми, которые отлились от рабов лишь «неприкосновенностью некоторых привилегий, принадлежащих человеку как таковому, каждому классу граждан и каждому гражданину как члену общества» [Дидро 1947: 429].
Дидро не доверял самодержавной власти при отсутствии органов, способных противостоять политике монархов; он вообще мало верил в «промежуточные органы» Монтескьё, которые должны были предотвратить превращение монархии в деспотию. Дидро отмечал, что французский парламент оказался не в состоянии противостоять напору монарха, в России же сенат «ничего не значит» [Дидро 1947: 432].
Дидро отстаивал равенство граждан перед законом, а также подчеркивал значение частной собственности. Однако защита прав собственников у него не распространялась на право владеть крепостными. Он считал российское крепостное право разновидностью рабства, которое противоречит естественному закону, и призывал Екатерину отменить крепостное право. Кроме того, как отмечает де Мадарьяга, в своих «Замечаниях» Дидро ниспроверг попытку Екатерины представить себя православной монархиней, которая поощряет как христианское воспитание, так и религиозную терпимость. Христианство, с точки зрения Дидро, «соткано из нелепостей», а духовенство «стремится к укреплению невежества» [Дидро 1947: 421]. Поэтому упование императрицы на Бога и Церковь представлялось ему ошибочным. В целом в «Замечаниях» Дидро занял пессимистическую позицию в отношении проекта Екатерины сделать Россию цивилизованной страной с помощью нового свода законов. Он писал: «Попытка цивилизовать сразу столь огромную страну представляется мне проектом, превышающим человеческие силы» [Дидро 1947: 424].
С одной стороны, его резкая критика «Наказа» указывает на разделительную линию между умеренным подходом к политике, сформулированным Монтескьё, и более радикальным, который провозглашали Дидро, Руссо и прочие: умеренные философы не так пронзительно, как Дидро и Руссо, говорили о естественном праве, о непреложных правах человека и власти народа. Однако, как ни странно, по сравнению со сторонниками радикальных политических взглядов из числа мыслителей Просвещения Монтескьё был более оптимистичен в отношении действенности масштабных политических реформ. Среди последователей Монтескьё Екатерина была, пожалуй, самым рьяным поборником политических изменений сверху. Как ни странно, она была одновременно и политически «умеренной», и утописткой.
Среди русских отзывов на опубликованную редакцию «Наказа» выделяются два: первый принадлежит историку М. М. Щербатову, второй – драматургу А. П. Сумарокову.
В 1774 году в работе, написанной «в стол», Щербатов раскритиковал «Наказ» Екатерины за присвоение полноты суверенной власти в России монарху. Он приписывает императрице желание управлять Россией на деспотический манер, прикрываясь, как «маской», Сенатом, которому придана роль «хранилища законов». Доказывая непригодность Сената к функции «промежуточного органа», ограничивающего власть императрицы, он указал на политическую зависимость Сената, сознательно сконструированную Петром I, и на то, что сенаторы не просвещены и лишены мужества. Щербатов не усмотрел в «Наказе» императрицы реального проекта разделения властей в российском правительстве [Щербатов 2010а: 51–60]. В остальном к идеям Екатерины о правовом государстве он отнесся неоднозначно. Он одобрил предложения Екатерины об отмене пыток подследственных и о мерах по искоренению взяточничества среди судей. Он поддержал право обвиняемых на суд присяжных и создание корпуса общественных адвокатов для защиты дел неимущих. Он высказался против жестоких и чрезвычайных наказаний, увечащих преступников, но отверг план Екатерины по отмене смертной казни [Щербатов 2010а: 71–77; Madariaga 1998b: 233–254].
Между тем Щербатов, по-видимому, одобрил стремление Екатерины сочетать поддержку православной церкви с веротерпимостью. Он согласился с данной Екатериной оценкой христианского нравственного учения как совершенного. По его мнению, «и другие веры дают правила нравственных добродетелей, но один христианский закон научает нас любить врагов наших» [Щербатов 2010а: 51]. Хотя в принципе Щербатов признавал, что нравственные законы должны быть везде одинаковы, он допускал, что законодательные кодексы должны различаться в зависимости от народных обычаев, климатических различий и местных политических условий. Щербатов считал возможным, чтобы российская монархия управляла империей в согласии с православной церковью, но только при условии, что церковь примет просвещенный взгляд на религию. Он весьма скептически относился к способности ислама усвоить просвещенное мировоззрение [Щербатов 2010а: 54]. С другой стороны, он решительно выступил против инквизиторского подхода к христианской религии как к орудию искоренения нравственной порчи. Он отверг проект по инженерии человеческих душ, к которому, как казалось, готова была приступить Екатерина, спросив: «Но уже через 5 лет по издании сего Наказа старались ли истребить пороки и ободрить добродетели? Поправились ли наши нравы?» [Щербатов 2010а: 66–67].
Щербатов согласен с отказом Екатерины от немедленного широкомасштабного освобождения крепостных крестьян, но, подобно ей, не исключает принципиальной возможности освобождения крестьян в перспективе. Однако, в отличие от императрицы, он счел ошибочным предоставление крестьянам права собственности при отсутствии гражданских свобод. Он опасался, что в существующих условиях право собственности крестьян на движимое имущество взрастит в них желание владеть господскими землями, а значит, вызовет дух бунтовщичества против помещиков. Щербатов утверждает, что в настоящее время крестьяне считают себя полноправными владельцами тех участков, которые они обрабатывают на благо своей семьи. Он выступил против того, чтобы разочаровывать крестьян в этом убеждении, поскольку, открыв перед ними отсутствие у них права на эти участки, можно побудить их к восстанию против своего порабощенного состояния. Согласно обвинению, выдвинутому де Мадарьяга, Щербатов считает, что «общественный порядок основан на том, чтобы обмануть крестьянина, заставив его поверить, что земля у него в собственности, хотя это не так». Щербатов в этой убежденности, по мнению де Мадарьяга, «ставит, пусть и подсознательно, личную выгоду выше принципа и государственной безопасности» [Madariaga 1998b: 255–256]. Здесь де Мадарьяга неверно поняла Щербатова, чьи замечания о чувстве собственности крестьян в отношении семейных наделов, возможно, с точностью отражали народные воззрения, хотя и не соответствовали правовой ситуации (то есть тому, что собственность на землю была у господ, в том числе на те участки, которые крестьяне обрабатывали для пропитания своих семей).
Размышления Щербатова 1774 года о «Наказе» Екатерины иллюстрируют осторожность элиты в восприятии ее политических взглядов. Приветствуя замыслы императрицы о правовом государстве, веротерпимости и судебной реформе, он тем не менее сомневался в серьезности заявленных ею намерений.
Реакция Сумарокова на «Наказ» после его издания и на роспуск Екатериной Уложенной комиссии в 1768 году выразилась в двух значимых публикациях: пятиактной трагедии «Димитрий Самозванец» (1771) и «Одах торжественных» (1774).
Готовясь к написанию «Димитрия Самозванца», Сумароков обратился за помощью к двум историкам – Миллеру и Щербатову, которые прислали ему копии русских летописей о Смутном времени, а также мемуары французского наемника Жака Маржере [Margeret 1607]. Возможно, Сумароков видел предварительный экземпляр «Летописи о многих мятежах» Щербатова (1771), которая стала одной из первых аналитических работ о Смутном времени, выполненных профессиональным историком [Щербатов 1771]. В драме Сумарокова о самозванце, одном из величайших памятников русской культуры XVIII века, Димитрий изображен как Григорий Отрепьев, узурпатор российского престола и тиран, который не только хотел заставить русских перейти из православия в католичество, но и планировал прогнать законную жену, чтобы жениться на дочери Бориса Годунова Ксении. Своим обличением тирании и мотивом злоупотребления невинной любовью «Димитрий Самозванец» напоминает ранние трагедии Сумарокова «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1751). Однако утверждение о том, что Димитрий – узурпатор, причастный иностранной культуре, намекает на статус Екатерины как узурпатора и пришелицы со стороны.
Уже в первом диалоге «Димитрия Самозванца» Пармен, наперсник Димитрия, говорит самозванцу:
Ты много варварства и зверства сотворил,
Ты мучишь подданных, Россию разорил,
Тирански плаваешь во действиях бесчинных,
Ссылаешь и казнишь людей ни в чем не винных,
Против отечества неутолим твой жар,
Прекрасный стал сей град темницею бояр
[Сумароков 1990: 248].
Пармен сетует на то, что Димитрий решил привнести на Русь римско-католическое, польское влияние. Защищаясь от этих обвинений, Димитрий отстаивает абсолютные прерогативы царя:
Российский я народ с престола презираю
И власть тиранскую неволей простираю…
Здесь царствуя, я тем себя увеселяю,
Что россам ссылку, казнь и смерть определяю.
…
Перед царем должна быть истина бессловна;
Не истина – царь, – я; закон – монарша власть,
А предписание закона – царска страсть
[Сумароков 1990: 250–251].
Во втором явлении первого действия начальник стражи предупреждает Димитрия, что простой народ смотрит на него с ужасом, считая, что он «…безбожия и наглостей рачитель, / Москвы, России враг и подданных мучитель». Димитрий пренебрегает опасностью народного восстания. Он винит Шуйского в том, что тот подстрекает против него «чернь».
По мнению Сумарокова, одним из следствий бессовестного тиранства Димитрия стала привычка придворных к лицемерию. В четвертом явлении первого действия Шуйский притворяется, что считает Димитрия законным царем: «В соборной церкви нам глава твоя венчанна, – говорит Шуйский. – Тираном был у нас злонравный Годунов, / Ты грозен, праведен, отец твой был таков» [Сумароков 1990: 254]. Однако в шестом явлении первого действия Шуйский наставляет чувствительную Ксению: «Когда имеем мы с тираном сильным дело, / Противоречити ему не можем смело». Шуйский советует: «Обманывай его, притворствуй сколько льзя, / Надежду подавай…» [Сумароков 1990: 257]. В первом явлении второго действия жених Ксении Георгий придерживается той же линии: «Язык мой должен я притворству покорить, / Иное чувствовать, иное говорить / И быти мерзостным лукавцам я подобен. / Вот поступь, если царь неправеден и злобен» [Сумароков 1990: 258]. Во втором явлении второго действия, когда Димитрий требует от Георгия отказаться от любви к Ксении, Георгий отвечает: «Не спорю, государь, безмолвствую» [Сумароков 1990: 260].
Политический замысел этих сцен заключался не в прямом сопоставлении Екатерины с Лжедмитрием. Хоть она и узурпировала престол, совершив при этом жестокие деяния, но Димитрий открыто признал свою тиранию, а Екатерина представляла себя как враг тирании. Драматургическая стратегия Сумарокова была, скорее, профилактической: изображая презрение тирана к русскому народу, отождествление закона и монаршей воли, зависимость тирана от западного влияния, реакцию русских на тиранию (народный гнев, бесчестность придворных), драматург зеркально возвращал Екатерине ее собственную критику власти произвола и одновременно предупреждал, что общество может воспринять ее как тирана. В шестом явлении второго действия Сумароков устами Пармена выражает свой страх перед издержками произвола: «…жестокости всегда на троне те ж, / Приводят город весь во ярость и мятеж» [Сумароков 1990: 264].
В третьем явлении первого действия Пармен усиливает обвинительный пафос пьесы по отношению к тирании, указывая на отсутствие у Димитрия оправдывающих его добродетелей.
Когда владети нет достоинства его,
Во случае таком порода ничего.
Пускай Отрепьев он, но и среди обмана,
Коль он достойный царь, достоин царска сана.
Но пользует ли нам высокий сан един?
Пускай Димитрий сей монарха росска сын,
Да если качества в нем оного не видим,
Так мы монаршу кровь достойно ненавидим,
Не находя в себе к отцу любови чад.
Коль нет от скипетра во обществе отрад,
Когда невинные в отчаянии стонут,
Вдовы и сироты во горьком плаче тонут;
Коль, вместо истины, вокруг престола лесть,
Когда в опасности именье, жизнь и честь,
Коль истину сребром и златом покупают,
Не с просьбой ко суду – с дарами приступают,
Коль добродетели отличной чести нет,
Грабитель и злодей без трепета живет
И человечество во всех делах теснится, —
Монарху слава вся мечтается и снится.
Пустая похвала возникнет и падет, —
Без пользы общества на троне славы нет
[Сумароков 1990: 267–268].
В пятом явлении третьего действия Димитрий показывает, насколько он далек от добродетели:
Блаженство завсегда весьма народу вредно:
Богат быть должен царь, а государство бедно.
Ликуй монарх, и всё под ним подданство стонь!
Всегда способнее к труду нежирный конь,
Смиряемый бичем и частою ездою
И управляемый крепчайшею уздою.
На возражение Георгия: «Способствует трудам усердье и закон» Димитрий отвечает: «Самодержавию к чему потребен он? / Узаконения монарши – царска воля» [Сумароков 1990: 271–272].
По мнению Сумарокова, когда правитель уклоняется от добродетели, его подданные освобождаются от обязанности повиноваться ему и говорить правду. Иными словами, теоретически исповедуя идеал добродетельного гражданина, Сумароков признавал, что при тирании добродетельное поведение может быть контрпродуктивным. В третьем явлении третьего действия Шуйский заявляет: «Кто силе уступать при нужде не умеет, / В развратном мире жить понятья не имеет» [Сумароков 1990: 267].
Эти речи показывают, как сочетались у Сумарокова расчет с политической добродетелью. В глазах подобных ему религиозных россиян не имело значения, как государь восшел на трон, лишь бы он, придя к власти, шел по пути добродетели. По мнению Сумарокова, добродетельный царь должен говорить правду, помогать вдовам и сиротам, защищать имущество от воров, способствовать правосудию. Таким образом, сумароковский «добрый царь» вписывался в классическое православное определение праведного государя. С другой стороны, по Сумарокову, в условиях тирании стремление к добродетели практически бессмысленно, поскольку выживание для граждан важнее, чем хорошее правительство. Сделав эту уступку мировому злу, Сумароков вплотную подошел к отказу от христианских представлений о добродетели в пользу «Мировой скорби» (Weltschmerz).
Это непростое сочетание действительной политики и добродетели в политическом мышлении Сумарокова привело к вопросу о ценности монархии по сравнению с другими формами правления. В пятом явлении третьего действия на эту тему высказывается Георгий:
Самодержавие – России лучша доля.
Мне думается, где самодержавства нет,
Что любочестие, теснимо, там падет;
Вельможи гордостью на подчиненных дуют,
А подчиненные на гордых негодуют.
Не сын отечества – отечества злодей,
На троне ищущий из подданных судей.
Правленья таковы совсем России новы,
Коль нет монарха в ней, власть – тяжкие оковы.
Несчастна та страна, где множество вельмож:
Молчит там истина, владычествует ложь.
Благополучна нам монаршеска держава,
Когда не бременна народу царска слава
[Сумароков 1990: 272].
Если в России нет реальной альтернативы монархии, если подданные должны быть «во всем царю подвластны», как утверждают герои Сумарокова, то это все же не означает, что правитель может игнорировать врожденную свободу человека. Георгий спрашивает Димитрия: «Но Бог свободу дал Своей последней твари, / Так могут ли то взять законно государи?» [Сумароков 1990: 273]. Он напоминает Димитрию, что в некоторых отношениях властители и подданные равны:
Цари и цесари колико ни преславны,
Но в нежности любви и раб и цесарь равны.
Людей боготворит едина только лесть;
Несходны должности – и различная честь,
Определенная достоинству награда…
Во всех нас действует равенственно природа…
[Сумароков 1990: 274].
Здесь герой Сумарокова иными словами выражает взгляд диакона Агапита на правителя как на человека возвышенного и смиренного одновременно. Однако он дополнил Агапита, добавив постулат естественного права о том, что все существа рождаются свободными.
Присущее человеку стремление к свободе, вероятно, объясняет поведение двух главных героев «Сумарокова»: Ксении и ее жениха Георгия. Хотя они и обещали Шуйскому скрывать свое отвращение к тирании Димитрия, но в итоге им этого не удалось. В десятом явлении четвертого действия Ксения решила сохранить верность Георгию и из-за этого принять мученическую смерть от рук Димитрия. Она восклицает: «Чай, мерзостный тиран, и жди достойной мзды! / В геенне соберешь насеянны плоды» [Сумароков 1990: 285]. В пятом действии народ Москвы восстал против тирана и осадил его в Кремлевских палатах. В заключительной сцене Пармен объявляет окруженному царю: «Прошли уже твои жестокости и грозы! / Избавлен наш народ смертей, гонений, ран, / Не страшен никому в бессилии тиран». Услышав эти слова, Димитрий вонзает кинжал себе в грудь: «Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна!» [Сумароков 1990: 292].
Такая развязка не была нетипична для драм Сумарокова, где герои обычно кончали жизнь самоубийством. Наложение рук на себя и последовавшее духовное самоубийство Димитрия говорят в пользу того, что настоящим наказанием за тиранию драматург считал вечные адские муки. Но подобное «решение» проблемы тирании Сумароковым оставило без ответа политические вопросы. Что делать, если тиран действительно наглый безбожник, о чем в первом действии подозревают простые люди? Разве не будет такой неправедный правитель упорствовать в злодеяниях, поскольку страха перед загробной жизнью у него нет? И даже если злодей осознаёт перспективу вечных мук, как Димитрий в пятом действии, может ли эта перспектива изменить его политическое поведение к лучшему? По собственной логике Сумарокова, разве не будет он упорствовать в неправедном правлении до тех пор, пока его не свергнут посредством революции снизу? Разве столь удачно случившееся в пятом действии самоубийство не маскирует того факта, – который Сумароков не хотел признавать, – что в его воображаемом царстве главным героем является простой народ?
В «Димитрии Самозванце» Сумарокова мы видим грозный, но неудовлетворительный ответ на «Наказ» Екатерины и отстранение от работы Уложенной комиссии. Своей драмой Сумароков действительно давал императрице понять, что разочарован ее неспособностью законодательно защитить образованные слои россиян от произвола, но в то же время обнажил противоречивость своей политической философии. Его благородные герои порицали тиранию, но не были готовы без колебаний устранить тирана. Они признавали обязанность во всем повиноваться правителю, но рассуждали при этом о естественной свободе. Они принижали простой народ, но рассчитывали, что он совершит то, на что они сами неспособны. Благодаря своему возвышенному настрою пьеса была прекрасно принята в театре – «Димитрия Самозванца» продолжали ставить до конца века. Однако маккиавеллизм в ней противоречил авторской теории добродетели. Какими бы ни были ее недостатки, пьеса указала на разрыв между Сумароковым и его царственной покровительницей. Как отмечает литературовед Е. П. Мстиславская, «к концу 1768 – началу 1769 г. относится время разочарования Сумарокова в политике Екатерины II», – то есть сразу после того, как императрица не оправдала его надежд на реформирование политического строя [Мстиславская 2002a: 26][6 - Мстиславская относила Сумарокова к представителям «аристократической Фронды», которая якобы стремилась к установлению в России «конституционной монархии». Этот ярлык вдвойне неточен. Слово «Фронда» подразумевало существование в России состоятельной элиты, аналогичной той, что выступила во Франции XVII века против централизованной власти. Сумароков принадлежал к служилой элите и происходил из семьи, владевшей крепостными, но в конце 1760-х годов доходы он получал в основном от Екатерины. Возможно, он выступал от имени тех элементов дворянства, которые поддерживали сохранение крепостного права, но сам он не был крупным землевладельцем. К тому же в российских условиях согласованное аристократическое оппозиционное движение, подобное тому, что имело место столетием ранее во Франции, вряд ли увенчалось бы успехом, как показал эпизод с Голицыным в 1730 году. Конечно, Сумароков хотел некоего эффективного сотрудничества между императрицей и высшими слоями дворянства. Возможно, он симпатизировал проекту Панина начала 1760-х годов по передаче части исполнительной и законодательной власти Императорскому совету и Сенату, но называть этот проект «конституционным» было бы, пожалуй, ошибочно. Как мы увидим ниже, проект Панина – Фонвизина 1783 года более соответствовал понятию конституционной реформы.].
Второй ответ Сумарокова на «Наказ» и роспуск Уложенной комиссии можно найти в «Одах». Между 1755 и 1775 годами Сумароков опубликовал 33 оды по торжественным поводам. После его смерти издатель Н. Новиков переиздал их во втором томе собрания сочинений Сумарокова [Сумароков 1781: 3–154], однако еще при жизни, в 1774 году, Сумароков напечатал 30 од. Мстиславская, проведя исследование политического содержания од, назвала их важным источником по истории XVIII века; она даже утверждала, что «книга Сумарокова “Оды торжественные” представляет нам поэта как первого русского историографа, воссоздавшего картину историко-политического процесса в России XVIII века» [Мстиславская 2002б: 69–70]. По мнению Мстиславской, издав в 1774 году оды с I по XXX, Сумароков сократил те, что были посвящены «Наказу» Екатерины (оды XIV–XVI) и Уложенной комиссии (оды XV–XX), прежде всего опустив строки с безоговорочными восхвалениями императрицы и описанием ее политических инициатив. В то же время Сумароков сохранил те фрагменты од, в которых была сформулирована его собственная просвещенческая политическая программа [Мстиславская 2002б: 63–65]. В оде XXVIII, адресованной в 1774 году молодому наследнику Павлу, Сумароков создал образ идеального князя, который «не гордясь ничем вовек, / Он больше о себе не мыслит, / Льстец мерзкий что б ему ни рек. / Великий муж не любит лести». Идеальный князь, как утверждал Сумароков, «тверд во правде пребывает, / И крайне мерзостен народ, / Который правду забывает» [Сумароков 1781: 138–140]. Хотя Екатерине в этой оде досталась скупая похвала как «Минерве», в целом ода свидетельствовала о принадлежности Сумарокова к придворной «партии» Павла.
Издание «Од» 1774 года также представляло своего рода отклик Сумарокова на «Наказ» Екатерины, и этот отклик она восприняла более болезненно, чем пьесу «Димитрий Самозванец». Она читала первоначальную редакцию «Од» и поэтому не могла не заметить изменений, которые Сумароков внес в издание 1774 года, чтобы продемонстрировать свои сомнения по поводу ее политических намерений. 4 января 1775 года она в гневе приказала цензорам Академии наук проверять все дальнейшие сочинения Сумарокова [Мстиславская 2002б: 40][7 - До 1775 года Екатерина сама выступала в роли «личного цензора» Сумарокова, что, кстати, послужило прецедентом для личной цензуры Пушкина Николаем I.].
Прежде чем оставить вопрос о Екатерине как о политическом мыслителе, следует вспомнить еще о трех ее проектах в этой сфере: покровительство сатирическому журналу «Всякая всячина» (1769–1770), «Записки касательно Российской истории» (1787–1794), а также антимасонскую кампанию в публицистике 1780-х годов.
Из всех этих предприятий наиболее известна ее роль как главного покровителя (и, возможно, автора) «Всякой всячины». После роспуска Уложенной комиссии в 1769 году Екатерина учредила журнал «Всякая всячина», поручив его надзору своего личного секретаря Г. В. Козицкого. По мнению советского литературоведа Д. Д. Благого, инициатива императрицы была следствием политических обстоятельств, когда «каждый из борющихся классов стремился использовать оружие сатиры в своих целях… Екатерина… предприняла хитро задуманную попытку подчинить себе эту силу, прибрать ее к рукам, направить по определенному, соответствующему ее политическим видам руслу» [Благой 1955: 227]. По мнению Благого, взявшись за издание «Всякой всячины», Екатерина «на самом деле преследовала цель погасить сатиру, всячески притупить ее общественно-политическую остроту, отвести ее от конкретных явлений русской социальной действительности, подменив моралистическими общими местами, школьными прописями, направленными против так называемых общечеловеческих недостатков [Благой 1955: 231]. Благой отметил, что тон, а иногда и содержание «Всякой всячины» были «прямым заимствованием» из журнала «Зритель» Аддисона и Стила.
По мнению Благого, главной политической задачей «Всякой всячины» была попытка оправдать решение императрицы о роспуске Уложенной комиссии и возложить вину на самих депутатов: в иносказательной «Сказке о кафтане» Екатерина порицала «портных» (депутатов), которые «вместо того чтобы сшить “мужику” кафтан из данного им на то “сукна” (очевидно, имеется в виду пресловутый “Наказ”), начали спорить о его покрое» [Благой 1955: 231–232]. Кроме того, во «Всякой всячине» предпринималась попытка задать жесткие параметры русской сатире, фактически деполитизировав ее. Так, в письме в редакцию, опубликованном в выпуске 53, псевдонимный корреспондент «Афиноген Перочинов» кратко изложил правила исправления человеческих пороков: «1) никогда не называть слабости пороком, 2) хранить во всех случаях человеколюбие, 3) не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить Бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения» [Благой 1955: 236]. Благой признавал, что со временем во «Всякой всячине» появились нападки на взяточников и недальновидных чиновников, но объяснял эти действия давлением других сатирических журналов, в частности «Трутня» под редакцией Николая Новикова.
Мнение Благого о «Всякой всячине» заслуживает внимания как типичный пример стратегии осмеяния и неприятия журнала как прогрессивными дореволюционными критиками, так и учеными советского времени. Однако, каковы бы ни были литературные достоинства журнала, «Всякая всячина» реализовала одну из ключевых стратегий Екатерины – использование культурных инициатив для подготовки умов россиян к реформам, вписывающимся в русло умеренно-политических воззрений Просвещения. Одним из примеров такой стратегии был «Наказ» с его либеральными заимствованиями у западных мыслителей, другим – «Всякая всячина» с ее «заимствованиями» из «Зрителя». Во «Всякой всячине» Екатерина пыталась убедить своих небезупречных подданных становиться лучше, глядясь в «западное» зеркало. Ее замысел заключался в искусственном создании публичного пространства, состоявшего из «Всякой всячины» и конкурирующих журналов, в котором императрица за спиной Козицкого, анонимных авторов и корреспондентов под псевдонимами, смогла бы дискутировать со своими подданными как «частное» лицо. Эта литературная тактика, в которой важную роль играли анонимность и возможность правдоподобно отрицать свою причастность, требовала от императрицы невиданного для российской государыни акта самоотречения. Пусть Петр Великий и работал бок о бок с простыми плотниками и кораблестроителями, но он никогда не подвергался настолько резкой критике, которую императрица выносила от других сатириков, находясь за спиной своих подручных. Эксперимент Екатерины требовал огромного самообладания, которое нечасто было присуще российским самодержцам[8 - О «смеховой интимности контакта частного человека и монарха» см. [Лебедева 2000: 171].]. Еще более важным, чем акт самоотречения, был сам творческий прием – основание сатирического журнала и призыв к подражанию, направленный на создание сферы общественной мысли «сверху».
Несмотря на мнение Д. Благого, мы считаем, что инициатива Екатерины была направлена на то, чтобы в «новом» публичном пространстве сатирических журналов продолжить дискуссию о крепостном праве, начатую в Уложенной комиссии. Ее аллегорическую «Сказку о кафтане» можно прочесть также как сказку о крепостном праве, в которой мораль состояла в том, что «портные» должны бы сшить крестьянину новый кафтан, пока он не замерз на улице. Она надеялась, что сказка напомнит русским дворянам об их этических обязанностях перед крестьянами. Она не позволила бы публикацию сказки, если бы не осознавала, что она запустит новый виток дискуссии в конкурирующих журналах. На этом этапе у Екатерины, вероятно, не было конкретной законодательной программы, кроме той, которая была четко сформулирована в «Наказе» – а именно, обеспечить исполнимость закона Петра против жестокого обращения с крепостными – похвальная, хоть и ограниченная, цель. Между тем приписывать, подобно Благому и иже с ним, одному Новикову первенство в постановке вопроса о крепостном праве перед лицом «реакционного» режима – значит не понимать пафоса позиции Екатерины и не отдавать должное ее незаурядному политическому воображению.
Прежде чем оставить тему императрицы как журналиста, следует обратить внимание на ценное замечание Иоахима Клейна о том, что екатерининская «Всякая всячина» и конкурирующие журналы, редактируемые Николаем Новиковым, опирались не только на английские образцы, такие как «The Spectator» («Зритель»), но и на немецкие – так называемые Moralische Wochenschriften, или «нравоучительные еженедельники». По мнению Клейна, журнал Екатерины, как и немецкие еженедельники, преследовал дидактические цели – наставить читателей в правилах добродетельной жизни, в любви к добру и отвращении к злу. Более того, как и в немецких еженедельниках, во многих статьях «Всякой всячины» использовалась диалоговая форма для вовлечения читателя в активное общение с морализирующими авторами журнала. Клейн считает, что, хотя метод воспитания активной читательской аудитории, позаимствованный Екатериной у немцев, был известен уже давно, сама диалоговая модель, в которой создавалась «атмосфера игривого вымысла и веселой анонимности, атмосфера коммуникативной непринужденности и свободы», была для России чем-то новым [Клейн 2006: 155].
По мнению Клейна, игривый дух «Всякой всячины» не соответствовал «утопическому» замыслу журнала – скорейшему искоренению порока в читающей публике. Он приводит заметку редактора, в которой тот заявляет: «Мы не сомневаемся о скором исправлении нравов и ожидаем немедленно искоренения всех пороков» [Клейн 2006: 157]. По мнению Клейна, ожидания редактора основаны на представлении о том, что порочное поведение человека – это результат неправильного воспитания. Эту проблему Екатерина собиралась исправить не только посредством строительства школ, но и путем передачи читающей публике «моральной информации», необходимой для добродетельной жизни. Редактор «Всякой всячины» исходил из того, что знание ведет к добродетели, а невежество – к пороку. Редактор предсказывал, что распространение знаний и добродетели среди читающей публики вскоре приведет к появлению добродетельных должностных лиц: «…если в должностях употребляемы будут люди с воспитанием и со знанием, менее услышим о корыстолюбии» [Клейн 2006: 159]. По мнению Клейна, концепция добродетели, положенная в основу «Всякой всячины» и других журналов, опиралась не только на православные представления о благочестии, но и на философские представления о счастливой жизни [eudaimonia], разработанные в античности и возрожденные в XVIII веке. Клейн, однако, утверждает, что из-за акцента на добродетельном поведении не в монастырях, а в гостиных и в правительстве концепция добродетели журнала «Всякая всячина» приобретала скорее «мирской», чем чисто религиозный характер. «В России, – отмечает Клейн, – слово “добродетель” было известно из церковнославянской письменности, но в XVIII в. оно наполняется новым содержанием в соответствии с секуляризационными тенденциями петровской и послепетровской России, превращаясь в эквивалент английского virtue и немецкого Tugend» [Клейн 2006: 161].
Интерпретация Клейна согласуется с мнением лингвиста В. М. Живова, который предположил, что в своем журнале императрице удалось создать новую форму просветительского дискурса: «Выворачивая французские просвещенческие концепции наизнанку, Екатерина устраняет из них главенство закона. Его место занимает “доброе сердце” императрицы». Эта позиция «удобно располагает к определенному авторитаризму, приобретающему оттенок домашнего и терпимого» [Живов 2007: 264–265]. По мнению Живова, Екатерина проводила эту стратегию систематически. Знаменитое письмо Афиногена Перочинова, о котором шла речь выше, призывало читателей думать не о выкорчевывании глубоко укоренившихся пороков, а об исправлении понятных человеческих слабостей. В другом номере «Всякой всячины» было опубликовано стихотворение, в котором Петр I противопоставлялся Екатерине. В заключительной строке поэт заявляет: «Петр дал нам бытие, Екатерина душу». Из стихотворения следовало не только то, что Екатерина важнее Петра (поскольку душа важнее бытия), но и то, что она, в отличие от Петра, осознала приоритет национальной культуры над политикой [Живов 2007: 254–258]. Во «Всякой Всячине» также было напечатано письмо от имени «Патрикия Правдомыслова», начальные пассажи которого написала сама Екатерина. В письме Правдомыслов наставляет читателей: «Желательно было бы, чтоб мы всегда свои дела судили сами по истинне: и тогда бы ябеда и прихоти исчезли; следовательно меньше бы жалоб было на неправосудие». «Любезные сограждане! Перестанем быть злыми, не будем имети причины жаловаться на неправосудие» [Всякая всячина 1769–1770: 279–280; Живов 2007: 263]. Основываясь на внимательном прочтении «Всякой всячины», Живов утверждает, что «противоположение законов и нравов позволяет Екатерине снять с себя ответственность за беззаконие… Развращение идет не от системы и не от правительства, а от дурных нравов». Поэтому главная обязанность императрицы заключается не в издании хороших законов, а том, чтобы подавать добрый пример подданным [Живов 2007: 263–264].
Возможно, Клейн и Живов правильно поняли намерение Екатерины создать общественный дискурс, в котором этическая деятельность по формированию индивидуального поведения изначально превалировала бы над политической деятельностью по созданию лучших законов для России, но мы должны добавить три замечания. Во-первых, сосредоточившись на изменении личного поведения, Екатерина фактически переключила внимание на религию, а точнее, подчеркнула ее значение в общественном дискурсе. Подобно тому, как русская редакция ее «Наказа» начиналась с молитвы и требовала, чтобы родители обучали детей основам православия, так и «Всякая всячина» возводила нравственное воспитание в центр имперской повестки. Даже если, как полагает Клейн, понятие добродетели, транслируемое во «Всякой всячине», было шире московского православного понятия о благочестии, само использование императрицей этого термина и распространение его на новые сферы общественного поведения скорее укрепляло, чем подрывало авторитет православных наставлений. Во-вторых, утверждая, что ее главная обязанность – подавать хороший пример подданным, Екатерина вызвала к жизни прежние православные представления о долге правителя, но при этом постаралась обезопасить от их влияния свой престол, указав на то, что человеческие слабости следует исправлять мягко, беспрекословно повинуясь при этом монарху. В-третьих, поощряя существование культурной сферы, в которой писателям приходилось умещаться в рамках нравоучительного жанра, Екатерина приглашала других авторов подражать ей, но при этом волей-неволей склоняла их проверить установленные ею границы на прочность. Как мы увидим ниже, самые смелые из этих писателей сразу же попытались обойти ее мягкий «запрет» на политические дискуссии. Таким образом, своими сознательными усилиями по созданию деполитизированного пространства для обсуждения вопросов национальной культуры императрица невольно подтолкнула других писателей к попыткам явно либо тайно вернуть политику в российский дискурс.
Интерес Екатерины к русской истории, вероятно, возник еще до ее восшествия на престол. Первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера вышел в 1759 году, за три года до ее прихода к власти. К концу 1760-х годов Академия наук с ее одобрения опубликовала важнейшие памятники допетровской истории: Никоновскую летопись, «Русскую правду» Ярослава Мудрого, «Судебник» Ивана IV. В 1770 году вышел труд М. М. Щербатова «История российская от древнейших времен», а в 1773 году Новиков при содействии Екатерины начал издание летописей под названием «Древняя российская вивлиофика». Однако увлечение Екатерины русской историей было обусловлено не только ее личным интересом к предмету или абстрактным представлением о царском долге. В 1768 году, после публикации заметок французского путешественника, критиковавшего российский строй, Екатерина решила ответить иностранным критикам России, как прошлым, так и современным.
В путевых заметках аббат Шапп д’Отрош сообщал, что с 861 по 1598 год русскими управляла одна семья, «ценой вольности народной. Летописи и все историки изображают нам народ, управляемый деспотами» [Chappe d’Auteroche 1768, 1: 110]. В опровержение Екатерина анонимно опубликовала 300-страничное произведение «Антидот» (1770), где назвала характеристику России Шаппа д’Отроша несправедливой. Она спрашивала:
Что вы подразумеваете под этим одиозным словом «деспот», которое постоянно употребляете? Неужели вы каждого правителя России называете тираном? Но помимо неуважения к их памяти, Вы лжете… Опыт доказывает, что в течение семисот лет правительство России хорошо ей служило; страна возрастала в силе и средствах; кроме того, все это время ее подданные были довольны монархией, которая единственно может существовать в огромной империи.
Кроме того, Екатерина добавила: «До смерти царя Федора Ивановича в России царили практически такие же нравы, что и у всех других европейских народов» [Екатерина II 1901–1907, 7: 81–82][9 - Во «Введении» И. Пыпина поднимается дискутируемый вопрос об авторстве императрицы. См. [Пыпин 1901: I–LVI].].
Погрузившись в полемику в защиту допетровской Руси, Екатерина присоединилась к дебатам о древней и современной России, которые велись со времен выхода первого тома книги Вольтера, посвященной Петру, в которой допетровская Россия описывалась как варварская страна без законов. Как показал Ю. В. Стенник, эта дискуссия, в которой участвовали И. Н. Болтин, Щербатов и целая плеяда европейских историков, побудила Екатерину в 1783 году начать писать собственную историю России [Стенник 1997: 7–48]. Поскольку у нее не было времени для самостоятельной архивной работы, она поручила группе помощников собрать материалы для своего труда под названием «Записки касательно Российской истории». По ее замыслу, «Записки» должны были стать еще одним «противоядием негодяям, уничижающим историю России, таким как врач Леклерк и учитель Левек, оба скоты, и, не прогневайтесь, скоты скучные и гнусные» [Екатерина II 1878: 88; Стенник 1997: 18].
В «Записках» Екатерина разделила русскую историю на пять периодов: Россия до Рюрика; от Рюрика до татарского нашествия; татарское иго с 1224 по 1462 год; Россия от изгнания татар до основания династии Романовых в 1613 году; Россия с 1613 года и далее [Екатерина II 1901–1907, 8: 8]. Ее непосредственной задачей было представить древних славян цивилизованным народом. Поэтому она утверждала, что еще до пришествия Христа они были грамотными, но их письменность была утеряна. Тем не менее она признавала: «Славяне более к воинской службе прилежали, нежели к наукам и художествам» [Екатерина II 1901–1907, 8: 12]. Повествуя о князе Владимире, Екатерина пишет, что «двор его был великолепный», что он построил «города и народные здания», привлекал в Россию «ученых людей, науки, художества и храбрых богатырей отовсюду» [Екатерина II 1901–1907, 8: 75]. Такое изображение Владимира напоминало Петра Великого. Излагая историю обращения Владимира в христианство, Екатерина обратила внимание на стоявший перед ним политический выбор, на то, что «во время крещения отпаде яко чешуя от очей его, и прозрел», на его добродетели после крещения. Таким образом, Екатерина восхваляла как традиционное православное благочестие, так и политическую мудрость, то есть именно такое сочетание религии и политики, которое она преследовала в 1780-е годы [Екатерина II 1901–1907, 8: 75–83].
Повествуя о татарском нашествии, Екатерина подчеркнула, что «надлежало Князем Руским иметь любовь, мир и согласие между собою». Причиной междоусобицы она считала княжеское честолюбие и «злых льстецов», которые говорили каждый своему князю: «Тебе достоит земля Руская и Киевом владети». Эти льстецы и клеветники завели князей «к неправедным войнам и пролитию крови и погублению людей, Государству нужных» [Екатерина II 1901–1907, 10: 194]. Далее Екатерина обвиняет татар в том, что они «много зла» сотворили христианам и Русской земле: «Князей и сановитых людей изсече, православному народу тяжкое бремя наложи, младенцы от матери отымая, брачных жен разлучая от мужей, юных дев оскверняя» [Екатерина II 19011907, 10: 231]. Здесь императрица играет на патриотических, религиозных и семейных ценностях, противопоставляя православных русских неверным захватчикам. Она обращала внимание на мужество русских во время татарского ига, восхваляя, например, «христианскую твердость» великого князя Михаила Черниговского [Екатерина II 1901–1907, 10: 253]. К сожалению, Екатерина не успела завершить свою «Историю». Опубликованная рукопись обрывается после победы татар в XIII веке. До нас дошли также неопубликованные записи, в которых повествование ведется сразу после победы русских на Куликовом поле в 1380 году, но в них императрица не излагает тех уроков, которые современники должны были извлечь из ее истории.
Если считать, что целью написания «Записок» было опровержение клеветнических измышлений иностранцев о политике Древней Руси, то можно считать, что труд Екатерины удался, хотя бы отчасти: ни один здравомыслящий читатель «Записок» не подумает, что череда правителей после Рюрика состояла из одних деспотов. По другим меркам «Записки» были провальной работой. В этих размышлениях на тему истории не хватает критической оценки первоисточников; много заимствований без указания авторства из других работ по русской истории, в том числе целые пассажи из труда Татищева; повествование упорно и тяжеловесно следует за династической линией. Что хуже всего – если обратиться к книге в надежде на проникновение в суть отношений между русским народом и государством, то на каждой странице вас ждет разочарование. А поскольку рукопись заканчивается на катастрофе татарского нашествия, читатель вправе задаться вопросом, принесло ли государство народу хоть какую-либо пользу. «Записки касательно русской истории» производят впечатление громоздкого конспекта, составленного неумной комиссией под весьма рассеянным надзором императрицы. По сравнению с этой карикатурой на историческое сочинение «скоты скучные и гнусные» Леклерк и Левек смотрятся намного выгоднее.
В 1780 году Екатерина предприняла первый шаг в борьбе с масонством, которая вылилась в итоге в запрет масонских лож и арест в 1792 году Николая Новикова. Вполне вероятно, что, начиная эту кампанию, она не могла точно предвидеть, чем она завершится. Изначально она рассчитывала лишь предостеречь общественность от нелепостей, которые она усматривала в масонских практиках. Екатерина опубликовала памфлет под названием «Тайна противо-нелепаго общества, открытая не причастным оному» (1780) [Екатерина II 1780][10 - Среди друзей Екатерины в Европе распространялся французский текст «Le secret de la sociеtе antiabsurde, dеvoilе par quelqu’un qui n’en est pas» (Cologne, 1758). Во французской версии была указана заведомо ложная дата публикации, вероятно, для того, чтобы дистанцировать от нее Екатерину, по крайней мере, в глазах «неосведомленных». Удобное русское издание см. в [Екатерина II 1893: 439–444].]. В памфлете она высмеивала обряды посвящения в масонские ложи: воображаемому посвящаемому задается ряд бессмысленных вопросов, а затем зачитывается катехизис, полный несуразностей. В итоге посвящаемый говорит мастеру ложи, что «пустые и неясные слова» противоположны интеллектуальной ясности, а «двоезнаменателныя речи и злоупотребление звучных слов и выражений» приводят к ложным рассуждениям. Самым забавным моментом памфлета стало осмеяние масонских эмблем, к которым Екатерина отнесла зевающий рот с надписью: «Рот зевающий. Сие значит, что таже сказка, а особливо если она не лепа, скучна и без вкуса, конечно произведет зевоту» [Екатерина II 1893: 443–444].
Антимасонская кампания Екатерины, пока она ограничивалась остроумными памфлетами, не нарушала духа ее просветительской терпимости. Вольтер и его многочисленные подражатели исходили из того, что критика суеверий не противоречит законодательной терпимости к «суеверному» культу. Поскольку «Тайна противо-нелепаго общества» была опубликована анонимно, и за ней не стояла мощь государства, Екатерина могла бы выдать ее «всего лишь» за вклад в общественное мнение. Проблема логики Екатерины (как и умеренной просветительской доктрины о терпимости) заключалась в нечеткой грани между осмеянием «нелепых» верований и их запретом как опасных. Ведь если действительно счесть религиозные верования мерзостью, противной разуму, то рано или поздно возникнет желание ограничить их исповедание и начать преследовать верующих как «неразумных» и «опасных» для установленного порядка. Идея позитивной свободы привела Екатерину к тому, что в 17851792 годах она заставила российских масонов «делать то, что надлежит» согласно закону, то есть отбросить свои нежелательные тайные практики и распустить ложи. Запрет «общества вольных каменщиков» Екатериной, по этой логике, соответствовал «истинной свободе» масонов.
В первые годы царствования Екатерина внесла значительный вклад в развитие русской мысли. Она использовала свой политический авторитет для создания и расширения сферы общественного мнения и продвижения целого ряда идей Просвещения – от упорядоченного полицейского государства до веротерпимости. Позднее противоречия в ее представлениях о свободе и веротерпимости нашли выражение в скучном благочестии «Записок касательно русской истории» и в антимасонской кампании. Учитывая внутреннюю противоречивость ее политической мысли и ограничения на развитие просветительских идей, было неизбежно, что некоторые образованные россияне XVIII века бросят вызов ее взглядам, расширив сферу применения разделяемых ею просветительских принципов и попытавшись преодолеть или устранить противоречия в ее философии. Таким образом, Екатерина способствовала возникновению более радикального и последовательного просветительского течения в интеллектуальном пространстве общества, для создания которого она сама приложила немало усилий. В политике, как мы видим, нужно быть осторожным в своих желаниях.
Глава 9
Никита Панин и императорская власть
В 1762 году, вскоре после захвата власти Екатериной, граф Н. И. Панин (1718–1783) направил ей план по созданию Императорского государственного совета и разделению Сената на департаменты. Это предложение обещало стать самым масштабным структурным преобразованием центрального аппарата власти в России со времен петровских реформ. В течение какого-то времени Екатерина допускала возможность осуществления этого плана – вероятно, потому, что была обязана Панину за его помощь в свержении Петра III. В ее бумагах сохранился список из восьми человек, которых она предполагала ввести в состав императорского совета: «Граф Ал[ексей Петрович] Бестужев[Рюмин], граф Кир[илл Григорьевич] Разумовский, граф Мих[аил Илларионович] Воронцов, князь Яков [Петрович] Шаховской, Никита Иванович Панин, граф Захар [Григорьевич] Чернышев, князь Мих[аил] Волконский, Григорий Григорьевич Орлов». Императрица также рассматривала возможность назначить из числа этих восьми человек «первого советника», Бестужева-Рюмина[11 - Бумаги, касающиеся предложения об учреждении Императорского совета и о разделении Сената на департаменты в первый год царствования Екатерины II (28 декабря 1762 года) [СИРИО 1867–1916, 7: 200–201].]. Однако к октябрю 1763 года она решила отказаться от реализации плана Панина. Поскольку план был задуман в духе Просвещения и мог направить Россию по пути к конституционной монархии, его возникновение и окончательный отказ от него многое говорят нам о политике екатерининского времени.
Предложение Панина предполагало два существенных изменения в государственном устройстве. Во-первых, он предлагал учредить Императорский совет «в шести и до осми персонах», который собирался бы в присутствии государыни и обсуждал будущие законы. Во-вторых, он рекомендовал разделить Сенат, который был высшим судом России, но также и одним из ее важнейших органов контроля, на шесть департаментов: по внутренним политическим делам, апелляциям, коммерции, юстиции, военным делам, управлению провинциями [СИРИО 1867–1916, 7: 209–217].
Императорский совет должен был рассматривать «все дела, принадлежащия по уставам государственным и по существу монаршей самодержавной власти нашему [императрицы] собственному попечению и решению» [СИРИО 1867–1916, 7: 212]. В совет Панин предполагал включить четырех статских секретарей: иностранных дел, внутренних дел, военного департамента и морского департамента. Он также планировал включить в совет по меньшей мере двух секретарей без портфеля [СИРИО 18671916, 7: 211–212]. Четыре статских секретаря «с портфелями» должны были вести переписку с самодержицей и своевременно представлять отчеты с «точным сведением» по вопросам, находящимся в их сфере ответственности. В пределах своей компетенции статские секретари должны были выступать в качестве представителей монарха. По формулировке Панина, «…секретари должны быть нашею живою запискою рачительному государю принадлежащаго точнаго сведения о установлениях и состоянии всех вещей составляющих дела, порядок и положение государства всего, в чем каждый по своему департаменту и заимствует часть нашего собственного [монарха] попечения». Совет в целом должен был стать таким механизмом, «чтоб средством онаго сам государь мог объять все части государственныя под свое монаршее попечение для удобнейшаго в пользу общую законодательства». Императорский совет, по замыслу Панина, есть «не что иное, как то самое место, в котором мы [государыня и секретари] об империи трудимся…» [СИРИО 1867–1916, 7: 212].
Панин предложил проводить заседания Совета каждый будний день, кроме праздников. На заседаниях совета секретари должны были представлять вопросы на рассмотрение монарха, высказывать по ним свое мнение и приглашать к обсуждению других членов совета. При этом должен был вестись стенографический протокол обсуждения, подписываемый каждым участником заседания, что гарантировало бы его достоверность. Согласно статье 10 плана Панина, «всякое новое узаконение, акт, постановление, манифест, граматы и патенты, которые государи сами подписывают, должны быть контрасигнированы тем статским секретарем, по департаменту котораго то дело производилось, дабы тем публика отличать могла, которому оное департаменту принадлежит». Панин утверждал, что эта оговорка в статье 10 гарантировала, что «из сего императорскаго совета ни что исходить не может инако, как за собственноручным монаршим подписанием». В конце проекта Панин писал, что каждому статскому секретарю должна быть предоставлена «свободность» обсуждать с монархом новые императорские указы, «ежели они в исполнении своем могут касаться или утеснять наши государственные законы или народа нашего благосостояние». Согласно тексту проекта, государыня «конфирмует правом» ту самую «свободность», которую предоставил правительству Петр [СИРИО 1867–1916, 7: 214].
Представляя проект реформы Сената, Панин призывал, чтобы каждый из вновь создаваемых департаментов принимал решения в коллегии, состоящей «не меньше как из пяти сенаторов». Единогласные решения той или иной департаментской коллегии должны были «почитаться… равно как бы всем сенатом то учинено было» [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Любой важный вопрос, который не мог быть решен единогласно, передавался генерал-прокурору Сената, которому предписывалось при решении проблемы «поступать весьма осмотрительно» [СИРИО 1867–1916, 7: 216]. По замыслу Панина, обер-прокурор (глава департамента) был вправе попытаться разрешить спорный вопрос внутри департамента, однако разногласия между обер-прокурором и сенаторами или противоречия между сенаторами, оставшиеся неразрешенными после обсуждения в департаменте, должны были передаваться на обсуждение всего Сената. В этом случае генерал-прокурор имел право по своему усмотрению созвать полное собрание Сената для обсуждения и решить дело большинством голосов [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Правовые решения Сената «для всяких новых и в департаментах не трактованных еще государственных дел» должны были совершаться «по государственным уставам и в силе законов». Если же новаторские толкования полностью выходили за рамки положений действующего свода законов, то генерал-прокурор должен был доложить об этом самодержцу [СИРИО 1867–1916, 7: 216].
Таким образом, Панин предложил новое место для российского законотворчества (Императорский совет), новые процедуры принятия законов (составление проектов в ведомствах под руководством статских секретарей, официальное представление и обсуждение этих проектов в Императорском совете, подписание монархом и контрасигнирование статскими секретарями), новые процедуры рассмотрения возможных конфликтов между новыми и старыми законами («право» статских секретарей доносить государю о таких коллизиях). Панин также преобразовал сенат в орган, в котором сочеталась эффективность малых групп (коллегии из пяти человек), контроль одного администратора (генерал-прокурора или обер-прокурора) и широкое обсуждение (на пленарных заседаниях сената).
План Панина выходил далеко за рамки косметических изменений императорской бюрократии, но он не вводил разделения власти на самостоятельные ветви, как это предполагалось в работах Локка и Монтескьё, а также в «Комментариях к законам Англии» английского юриста Уильяма Блэкстона (1766–1770). Императорский совет Панина представлял собой законодательный орган, члены которого назначались монархом, заседания проходили в его присутствии, а решения не имели юридической силы, если не были подписаны государем; при этом каждый из статских секретарей совета «с портфелем» выполнял исполнительную роль в государственной бюрократии. В Сенате Панина смешивалась юридическая функция толкования законов с исполнительной функцией надзора за их исполнением. Таким образом, в Императорском совете и в Сенате исполнительные, законодательные и судебные функции скорее были намеренно смешаны, а не разделены.
Согласно проекту манифеста, представленному Паниным на подпись Екатерине, общая цель предлагаемого закона заключалась в укреплении государства, то есть в том, чтобы «непоколебимо утвердить форму и порядок, которыми, под императорскою самодержавною властию, государство навсегда управляемо быть должно» [СИРИО 1867–1916, 7: 210–211]. Как предполагалось, проект должен был обезопасить власть от людей, которые «стараются возлагать на счет собственнаго государственнаго самоизволения все то, что они таким образом ни производили» и избавить ее от пороков, «которые по временам внедривались во все течение правления» [СИРИО 1867–1916, 7: 205, 209]. Панин отмечал, что поспешно проведенные Петром реформы, несмотря на их масштабное влияние на Россию, оказались неспособны «привести к совершенству гражданское государственное установление». Преемники Петра пытались решить проблемы государства путем принятия краткосрочных мер, которые, «не получая силы прочности, переменою времен или сами упадали, или подвергались руководству припадочных и случайных людей». Панин сетовал, что при Елизавете государство управлялось «одними персонами и их изволениями без знаний и вне мест» [СИРИО 1867–1916, 7: 210].
В записке, сопровождавшей проект манифеста, Панин высказал более подробную критику существующего порядка. По его мнению, Сенат в его нынешнем составе был перегружен работой по надзору за исполнением законов. У его членов не было ни времени, ни желания помогать самодержцу в разработке законов; кроме того, законотворческая деятельность выходила за рамки его компетенции. Не обладал Сенат и компетенцией, позволяющей внести единство в государственное управление: сенаторы, как правило, полагались на мнение прокуроров и других чиновников относительно общей формы законодательной деятельности, так как по «слабости человеческой лени» не утруждали себя выработкой общего ви?дения законов. Сенаторы приезжали на заседания, «как гость на обед, который еще не знает не токмо вкусу кушанья, но и блюд, коими будет потчиван» [СИРИО 1867–1916, 7: 202–203].
Между тем предполагалось, что общую картину правового порядка должен был вырабатывать генерал-прокурор Сената, но ему было трудно справляться с ситуациями, когда сенаторы расходятся во мнениях, и их дела «подвергаются взаимному подрыву» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. Панин резко критиковал генерал-прокурора императрицы Елизаветы князя Никиту Трубецкого, который пришел к власти «по дворскому фаверу, как случайный человек… а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. При Елизавете, как писал Панин, из администрации исходили «сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу». Он утверждал, что закулисные методы управления не только обманывают народ, но и воспитывают у высокопоставленных чиновников, подобных Трубецкому, чувство, что они стоят над законом, почитая себя «неподверженным суду и ответу пред публикою, следовательно свободным от всякаго обязательства перед государем и государством, кроме исполнения» [СИРИО 1867–1916, 7: 205]. Наихудшими последствиями такой системы были разрушение доверия народа к правительству и изоляция государя от реального процесса управления страной [СИРИО 1867–1916, 7: 206]. Кабинетную систему управления, созданную при Елизавете после 1756 года для ведения войны в Европе, Панин назвал «монстром» [СИРИО 1867–1916, 7: 207]. В итоге Елизавета лишилась возможности управлять страной на ее благо и по собственному разумению. Панин обещал, что его проект «оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оныя» [СИРИО 1867–1916, 7: 208].
Панин представлял себя истинным приверженцем самодержавия, защитником системы от жадных, продажных и невежественных чиновников, которые с 1730 года вели правительство по ложному пути, прикрываясь своей верностью государыне. Если его целью была более добродетельная, более эффективная, более информированная администрация, а значит, более справедливая и более стабильная монархия, то его политическое ви?дение во многом совпадало с ви?дением Екатерины. Однако в проекте манифеста Панина и в сопроводительной записке были разбросаны идеи, которые указывали в другом направлении.
Во-первых, прикрываясь защитой самодержавия, Панин, казалось, критиковал все аспекты его деятельности на протяжении последних трех четвертей века. По мнению Панина, Петр I реформировал московскую политическую систему поспешно, не заложив прочной основы. Результатом стал хаос в высшем руководстве, череда фаворитов и «случайных людей» на руководящих постах, а также потенциальная дестабилизация всей страны. Во-вторых, Панин, по-видимому, с подозрением относился к самой логике самодержавного правления, по которой огромным государством управляет один человек. Когда Панин критиковал сенатских прокуроров за незнание законов и недальновидность, когда он нападал на произвол и коррумпированность высших чиновников, он исходил из подверженности любого руководящего лица ошибкам: один человек не может знать всего, и любой склонен к произволу и пороку при отсутствии контроля со стороны другой власти.
В-третьих, Панин не доверял православной церкви как противовесу монарху. Действительно, ни в проекте манифеста, ни в обосновывающем его меморандуме он не упоминает о роли Церкви как советника государя по нравственным вопросам, не подчеркивает необходимость особого отношения к Церкви в Императорском совете или Сенате. Такое молчание в отношении этого важного института было крайне редким в допетровской России и необычным даже в послепетровскую эпоху. Конечно, игнорирование Церкви как существенного политического фактора не означало, что Панин был готов вообще не обращать внимания на религию как составляющую русской жизни. В проекте манифеста он вложил в уста Екатерины заверение о ее долге «пред Богом» и о ее решимости «с помощию Всевышняго» исправить недостатки российского управления [СИРИО 18671916, 7: 210]. Но в документе, где государственный интерес (Staatsraison) утверждался как движущая сила правительства, это были всего лишь шаблонные фразы. В меморандуме Екатерине Панин характеризовал ее «право самодержавства» как «Богом и народом врученное» [СИРИО 1867–1916, 7: 208]. Эта поразительная формулировка, в которой сочетались традиционное христианское обоснование власти (божественное помазание) и концепция народа как источника власти, скорее подрывала самодержавие, чем поддерживала его.
В-четвертых, Панин выступал за власть, подотчетную «обществу» (для обозначения этой группы он использовал латинский термин publica). Именно поэтому он стремился связать монарха определенными юридическими процедурами при принятии законов. По плану Панина, ни один закон не мог вступить в силу без подписи монарха и контрасигнации ответственного статс-секретаря. Это положение, по всей видимости, давало статс-секретарю полномочия, равные монаршим, при принятии законов, касающихся его полномочий. Панин также хотел предоставить статс-секретарям «право» или «свободность» инициировать обсуждение потенциальных конфликтов между новыми и существующими законами, а также конфликтов между новыми законами и общественными интересами. Не является ли это положение его плана аналогом права на протест, которым пользовался Парижский парламент? И требование контрасигнации законов, и право на протест наделяли статс-секретарей беспрецедентной в истории России мерой ответственности перед обществом за свои законодательные инициативы и политические решения.
В-пятых, оговорку Панина о том, что государственные секретари должны «заимствовать» часть ответственности за политику монарха, можно истолковать не только как безобидное описание функции чиновника как исполнителя монаршей воли, но и как заявление о необходимости передачи власти от монарха к доверенным лицам. Если замысел Панина именно таков, то его план можно трактовать как проект замены самодержавия коллективным правлением нескольких советников, ответственных перед обществом.
Обычно Панина понимают как поборника интересов знатных российских семей, как «олигарха» или «аристократа», который, не добившись от Екатерины одобрения своего проекта, перешел в политическую «оппозицию», объединившись с великим князем Павлом. Однако Дэвид Рэнсел убедительно доказывает, что знать екатерининского времени не была политически цельной силой. По мнению Рэнсела, императорский двор был местом соревнования между группировками приверженцев ведущих представителей знати [Ransel 1975: 4–6; Ransel 1969: 9–65]. Семья Паниных не принадлежала ни к титулованной аристократии, ни к богатейшей знати, но, скорее, к среднему слою дворянства: его отец Иван Васильевич имел 400 крепостных крестьян, что было достаточно для безбедной жизни, но далеко отстояло от огромных владений семей Шереметевых, Шуваловых, Воронцовых [Ransel 1975: 10]. Панин выдвинулся не благодаря своему происхождению, а благодаря заслугам на государственной службе. Его образование его было скорее практическим, чем книжным. При Анне Иоанновне он служил в Императорской конной гвардии и в течение года (1747–1748) был русским послом при датском дворе. «Прорыв» Панина произошел в 1748 году, когда канцлер Бестужев-Рюмин направил его в Стокгольм в качестве посла. Там он находился 12 лет, изучая внутриполитические распри шведов и используя свое влияние, чтобы удержать Швецию от союза с Францией против России. Панину как-то удалось убедить Бестужева-Рюмина в том, что он достаточно эффективно отстаивает интересы России; но при этом он был достаточно независим от канцлера, чтобы не заслужить репутацию одной из «креатур» Бестужева-Рюмина. Поэтому Панин избежал опалы в 1756 году, когда настроения при дворе обернулись против канцлера. Весной 1760 года Панин вернулся в Петербург и стал воспитателем юного великого князя Павла.
Рэнсел показал, что деятельность Панина в Дании и Швеции убедила его в жизненной важности дворянства для здоровой монархии. Панин пришел к убеждению, что в хорошо устроенном государстве дворянам должна быть гарантирована неприкосновенность их титулов, привилегий и личности. Нет никаких свидетельств того, что Панин стал в Швеции «тайным» республиканцем; скорее, он стал поборником смешанной монархии, в которой интересы образованной публики если не учитываются, то уважаются [Ransel 1975: 27–33]. В то же время Панин с тревогой смотрел на политическую разобщенность шведской элиты. Он понимал, что дворяне, если они хотят играть достойную роль в общественной жизни, должны научиться действовать согласованно друг с другом, не уступая монарху своей политической автономии.
Главным источником интеллектуального вдохновения для Панина в эти годы был трактат «О духе законов» Монтескьё, в котором доказывалось, что в правильно организованной монархии политически активное дворянство является необходимым противовесом монаршей власти. Панин был полностью согласен с Монтескьё в том, что при отсутствии «посредствующих каналов» власти, в которых преобладает дворянство, монархия вырождается в деспотию. Когда «Дух законов» подвергся нападкам со стороны юриста Ф. Х. Штрубе де Пирмонта, который в своей книге «Русские письма» (1760) порицал Монтескьё за то, что тот отнес Россию к деспотическим государствам, Панин в этом споре встал на сторону Монтескьё [Ransel 1975: 47–54][12 - См. также [Порошин 1881: 226–227], запись от 7 января 1765. Панин сказал Порошину по поводу Штрубе: «Il a dit tout ce qu’il a p? dire, а Монтескиу все Монтескиу останется».].
Однако при объяснении замысла Панина не следует ограничиваться только его дипломатическим опытом или чтением Монтескьё: он испытал также и русское влияние. Панин знал о попытке Д. М. Голицына в 1730 году навязать Анне Иоанновне «кондиции», согласно которым ее партнером по управлению государством должен был стать Верховный тайный совет[13 - 27 июня 1765 года Панин говорил с С. А. Порошиным «о революциях при Анне Иоанновне» [Порошин 1881: 336].]. Панину также было известно об аресте в 1740 году А. П. Волынского и о его проекте реформ, в котором тот предлагал создать двухпалатный законодательный орган во главе с дворянством. Рэнсел отмечает, что «позднейшие предложения Панина имели много общего с предложениями Волынского, и Панин не раз выражал сильное сочувствие и восхищение по отношению к деятельности Волынского» [Ransel 1975: 13–15]. Вероятно, надежды Панина на будущее общество, управляемое просвещенным монархом и добродетельными дворянами, поощрял публицист, драматург и политический деятель А. П. Сумароков. В своей повести «Сон – счастливое общество» (1759) Сумароков даже упоминает о возможности создания законодательного совета, правящего вместе с монархом на благо народа [Сумароков 1957: 738, 755, 757, 768; Малышев 1961: 354–357; Ransel 1975: 56][14 - В очень хорошей статье о политических идеях Сумарокова Е. П. Мстиславская заметила, что Сумароков «оказал Панину неограниченное доверие». См. [Мстиславская 2002б: 60].]. Вероятно, чтение Монтескьё и Сумарокова, а также дипломатический опыт Панина обострили его презрение к придворным фаворитам елизаветинской эпохи. Письменная речь Панина, обычно спокойная по тону, становилась эмоционально резкой, когда он рассуждал о коррупции во времена предыдущих царствований. Если добавить ко всему этому амбиции Панина, стремившегося стать ведущим министром при Екатерине, то причины составления им плана реформ императорского совета станут вполне определенными.
Однако что же делать с противоречием между двумя несопоставимыми «ви?дениями», содержащимися в проекте Панина – показным отстаиванием более сильного и эффективного самодержавия и подспудной концепцией ограниченной монархии в партнерстве с уверенным в себе, искушенным дворянством в Императорском совете? Изабель де Мадарьяга, пожалуй, самый проницательный аналитик екатерининской России, утверждает, что реальным намерением Панина было ограничение, а не укрепление самодержавной власти, и что Екатерина хорошо поняла цель Панина. Де Мадарьяга прямо пишет: «Трудно поверить, что императрица, хорошо знакомая с европейской политической литературой, не уловила опасности для своего абсолютного правления, скрытой в его [Панина] плане» [Madariaga 1981: 42][15 - В том же русле высказывается Элен Каррер д’Анкосс: «Хоть Екатерина и была новичком в политике, она сразу же поняла, что эти проекты с их миражом упорядоченного государства были задуманы для того, чтобы ограничить ее власть» [Encausse 2002: 83].]. Если это правда, то Панин более серьезно, чем императрица, отнесся к идеям власти, основанной на народном согласии, ответственном управлении и смешанной монархии. Провал плана Панина показал, что просвещенная политика по версии Екатерины не предполагала ограничения самодержавной власти. Ее план заключался в построении унитарного, дирижистского государства, в котором понятия веротерпимости, правосудия, свободы выражения поддерживались на словах, но не претворялись в жизнь.
Григорий Теплов и декларация о правах российского дворянства
В конце 1762 года Екатерина получила проект Панина. 28 декабря 1762 года она подписала манифест о его принятии и одобрении предложенных Паниным законодательных проектов, однако отложила обнародование манифеста и утверждение законов [Омельченко 2001: 18–19]. В итоге проект Панина канул в политическую Лету: к октябрю 1763 года императрица тихо отложила план Панина в долгий ящик.
Хотя с формальной точки зрения предложение Панина было мертворожденным, оно тем не менее оказало влияние на работу одной значимой комиссии – так называемого Императорского собрания о вольности дворянской. В период с 11 февраля по 1 ноября 1763 года комиссия собиралась более 20 раз. В ее состав вошли восемь высших государственных деятелей, которых Екатерина наметила для назначения в Императорский государственный совет: Бестужев-Рюмин, Разумовский, Воронцов, Шаховской, Панин, Чернышев, Волконский, Орлов, и еще один член – Г. Н. Теплов. В центре внимания Собрания были три вопроса: привилегии дворянства в свете манифеста Петра III от 1762 года об освобождении дворян от государственной службы; положение и привилегии украинского дворянства; вопрос о реорганизации Императорского сената, поднятый в проекте Панина [Омельченко 2001: 21]. Как показал историк русского права О. А. Омельченко, свои основные идеи Собрание изложило в предложенной им декларации о правах дворянства. Екатерина так и не придала ей законную силу, поскольку замысел декларации – гарантировать дворянам определенные права личности и собственности – существенно расходился с собственными взглядами императрицы на этот вопрос [Омельченко 2001: 47].
Теплов, составивший по поручению комиссии декларацию о правах дворянства, был продуктом петровской системы образования, а также системы «клиентов» и их покровителей, сложившейся при Елизавете. В юности он учился в Невской семинарии, основанной Феофаном Прокоповичем, который в 1733 году отправил его за границу для продолжения образования. Вернувшись в 1736 году в Россию, Теплов занял должность переводчика в Академии наук. Через десять лет он стал почетным членом Академии. В течение многих последующих лет Теплов пользовался покровительством президента Академии К. Г. Разумовского, который фактически возложил на него руководство текущей деятельностью Академии. В 1747 году Теплов составил «Регламент Императорской Академии наук и художеств» – основополагающий документ в истории Академии, поскольку он отделял собственно Академию от «университета», действовавшего под ее эгидой [РИАНХ 1747].
В 1740-х годах Теплов завоевал репутацию философа. В 1742 году он прочитал в Академии публичную лекцию о практической философии Христиана Вольфа [Пустарнаков 2003: 630]. В 1751 году Теплов опубликовал свою книгу «Знания касающиеся вообще до философии: Для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» [Теплов 1751]. Хотя книга Теплова была вторичной в том смысле, что она следовала предложенной Вольфом классификации знаний по трем отраслям (философской, исторической и математической), она сослужила хорошую службу русской читающей публике, поскольку предложила русский лексикон для перевода западных философских терминов. Кроме того, книга давала ясное представление о крупнейших западных философах – от греков до Спинозы и Лейбница. Теплов горячо поддерживал философский рационализм Декарта и отвергал древний и современный материализм [Пустарнаков 2003: 630]. В политическом плане книга Теплова представляла собой изощренную защиту христианства и монархии. Он писал: «…в науке философской все то заключается, что человека делает Богу угодным, монарху своему верным и услужным, а ближнему в сообщество надобным» [Теплов 2010: 55][16 - Об институциональном контексте философии Теплова см. в статье [Артемьева 1999].].
Составленный комиссией проект декларации прав дворянства включал 21 статью [СИРИО 1867–1916, 7: 238–266]. Первые несколько статей декларации определяли три способа вступления в дворянство: рождение, пожалование дворянства монархом, прошение, направляемое в Императорский Сенат либо монарху [СИРИО 1867–1916, 7: 245–246]. В статье 5 говорилось, что российским дворянам предоставлено право выбора – поступать или не поступать на государственную службу, а также право ухода в отставку со службы с соблюдением установленных правил [СИРИО 1867–1916, 7: 247–249]. Последующие статьи декларации подтверждали право российских дворян поступать на службу в иностранные государства, но предусматривали возможность их отзыва в чрезвычайных обстоятельствах. Российские дворяне имели право продавать землю и переселяться в другие государства с уплатой десятипроцентной пошлины со стоимости их земельных владений. Русские дворяне, постоянно проживающие в иностранном государстве, могли просить об освобождении их от присяги на верность российскому престолу. В декларации указывалось, что отказ отца от присяги не затрагивает прав ни его несовершеннолетних детей, ни наследников по завещанию [СИРИО 1867–1916, 7: 249–253].
Статья 13 декларации требует, чтобы российские дворяне, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под полицейским надзором, были освобождены от штрафов «покуда [дворянин] перед судом изобличен и виновен не явится», а также, «чтоб в отличность разночинцам от всякаго телеснаго истязания был он свободен» [СИРИО 1867–1916, 7: 254]. Согласно статье 14, в случае признания дворян виновными в политических преступлениях – в оскорблении величества или «в возбуждении противу общаго покоя» – и присуждения им наказания в виде ссылки или смертной казни не следует конфисковать имущество у их семей. В случае хищения государственного имущества компенсация должна ограничиваться суммой украденного [СИРИО 1867–1916, 7: 255]. Статья 15 требовала, чтобы при расследовании серьезных политических преступлений дворянин имел право назначить другого дворянина для присутствия на судебных заседаниях, а также нанимать поверенного, «от которого бы… его представления в пользу несчастнаго в суде выслушиваны и должным порядком приниманы к делу были». В соответствии со статьей 16 по делам об убийствах, возбужденных против дворян, бремя доказывания должно быть «вящшия, нежели противу недворянина» [СИРИО 1867–1916, 7: 258]. Если дворянин лишался дворянского звания, это наказание не должно было влиять на статус его детей [СИРИО 1867–1916, 7: 259].
Согласно статье 18 декларации, дворянин «между прочими самое первое и главное преимущество имеет располагать своим имением неродовым», которое он приобрел как награду на службу или путем покупки [СИРИО 1867–1916, 7: 259]. В случае душевного нездоровья законных наследников имущества или их недееспособности статья 19 предоставляла российским дворянам абсолютное право распоряжаться наследственным и приобретенным имуществом путем передачи его достойным наследникам. Статьи 20 и 21 предоставляли дворянам право усыновлять детей и передавать по наследству им имущество и титул, но при этом обязывали их содержать биологических детей, даже юридически недееспособных [СИРИО 1867–1916, 7: 262–263].
Таким образом, декларация должна была наделить российских дворян личными правами, в частности правом служить или не служить, правом распоряжения имуществом, а также гарантировать их детям право на дворянство, на проживание в России или за рубежом, на наследование имущества. Наиболее острый политический вопрос декларации касался прав дворян при рассмотрении уголовных дел. Декларация не ограничивалась требованием права habeas corpus и суда присяжных. В ней предусматривалось введение презумпции невиновности для дворян на стадии расследования уголовных дел, надаление их правом на адвоката, на свободу от телесных наказаний и на передачу членам семьи унаследованного и приобретенного имущества. Декларация была нацелена на уменьшение произвола правительства в отношении дворян, обвиненных по доносу в политических преступлениях; по сути, она подрывала саму культуру доносительства.
Основной целью декларации было искоренение культуры страха, господствовавшей в российской политике с эпохи Петра I. В преамбуле декларации высказывалась мысль о том, что Петр «должен был перво всего сильным и страшным без замедления учинить свое войско соседям, но того иным образом из худовоспитываемого дворянства российскаго составить не мог, пока прямым насильством не понудил служить тех, которые, не имея вкорененнаго в себя честолюбия знанием и науками… от службы удалялись». Авторы декларации признавали, что, будучи предоставлены сами себе, российские дворяне времен Петра не имели ни честолюбия, ни склонности служить государству, ибо «человек неведомомаго себе никогда не возжелает». Тем не менее Петр, «как прозорливый и премудрый монарх, различные способы [употреблял] внедривать благородныя склонности в сердца подданных своих». Петр ввел дисциплину в армии, воспитал в дворянах чувство чести и готовность к службе, а также способствовал коренному изменению нравов в стране [СИРИО 18671916, 7: 240]. В декларации утверждалось, что российские дворяне при Екатерине существенно отличались от своих предков: современное дворянство пользуется плодами просвещения, и под просвещенным руководством Екатерины «уподобится российское дворянство всем просвещенным в Европе другим государствам» [СИРИО 1867–1916, 7: 241]. При наличии свободы выбора в отношении того, следует ли служить государству, большинство российских дворян выберут службу именно потому, что усвоили уроки Петра.
Достоинством декларации было то, что она учитывала огромное историческое наследие Петра. Ее авторы, несомненно, были правы, утверждая, что в 1763 году российские дворяне были более образованны и готовы служить, чем их предшественники. Однако в логике декларации был очевидный изъян: если для преодоления «природного» эгоизма и невежества дворянства Петру пришлось применить давление, то почему Екатерина должна была отказаться от принуждения как политического инструмента? Даже если бы она решила поддержать манифест Петра III об освобождении дворян от государственной службы, она могла бы сохранить другие методы принуждения в отношении потенциальных противников. Если Петр I добился своего силой, то почему бы Екатерине к ней не прибегнуть?
Декларацию о правах дворянства подписали все девять членов комитета. Как утверждает Омельченко, основные статьи декларации отражали убеждения Бестужева-Рюмина в отношении юридических прав дворянства: право на адвоката во время следствия и суда, свобода от ареста до вынесения судебного решения, запрет на конфискацию имущества у семьи, глава которой признан виновным в политических преступлениях. Протоколы заседаний комитета марта 1763 года показывают, что Бестужев-Рюмин осуждал культуру доносительства, но при этом имел в виду доносы крестьян на помещиков. Социальная программа Бестужева-Рюмина сводилась к тому, чтобы вновь утвердить «ту беспредельную власть над их [дворян] законно принадлежащими крестьянами и крепостными людьми» [Омельченко 2001: 25].
Хотя коллективное мнение членов комиссии выразилось в статьях декларации, преамбулу и обоснования к статьям, скорее всего, написал сам Теплов. Проведенное в преамбуле различие между необразованным дворянством петровского времени и «просвещенным» екатерининским дворянством, возможно, отражало мысль Теплова о том, что любое общество можно классифицировать как «варварское» либо «политическое». Омельченко отмечает, что в этом различении Теплов следует Христиану Вольфу [Омельченко 2001: 42–43]. В обосновании к статье 13, запрещающей произвольный арест дворян и телесные наказания для них, Теплов писал, что при аресте обвиняемого дворянина, вина которого еще не доказана, «не инако как наказание невинному уже делается, когда оно без суда и без обличения или без неоспоримаго свидетельства доказательства чинится» [СИРИО 1867–1916, 7: 254]. Мнение Теплова было, возможно, основано на его общем понимании закона, но также оно может быть обусловлено и его горьким жизненным опытом. Теплов дважды подвергался аресту: один раз в связи с делом Волынского в 1740 году, второй раз – в марте 1762 года, при Петре III. Допрашивая Теплова по делу Волынского, следователи пытались установить связь Теплова с заговором против монарха. По второму делу Теплова обвинили в том, что он критически высказывался в адрес Петра III, и арестовали за измену. Теплов указывал на то, что незнаком с политическими взглядами Волынского, что было неправдоподобно, учитывая всем известные реформаторские настроения Волынского и его нескрываемую неприязнь к императорскому фавориту. Во втором случае Теплов также заявлял о своей невиновности, несмотря на то, что в действительности он был замешан в заговоре [Daniel 1991: 4–7, 22–25]. Следует отметить, что в случае с Волынским арест Теплова можно объяснить принципом «виновности по связи», тогла как во втором деле на него донесли. В целом обоснование прав русского дворянства Тепловым опиралось на российский исторический опыт и теории Христиана Вольфа, но также, в значительной степени, на римское право и кодекс Юстиниана [Омельченко 2001: 44–45].
Проект Панина 1762 года подготовил почву для декларации прав российского дворянства 1763 года. Декларация пошла дальше проекта Панина, поскольку в ней содержалась попытка наделить политическую элиту личными правами. Хотя декларация была составлена на полгода позже панинского проекта, в определенном смысле она явилась его логической предпосылкой. Неудивительно, что Панин подписал оба документа.
Глава 10
Денис Фонвизин и искусство политики
Д. И. Фонвизин (1744 или 1745–1792) был самым талантливым драматургом екатерининской эпохи. Современники, ценившие его эксцентричную образованность, язвительный ум и изобретательность выражений, считали его «русским Мольером»[17 - Эта ремарка, сделанная в ретроспективе в Санкт-Петербургском журнале за июль 1798 года, процитирована в [Пигарев 1954: 256].]. Две его комедии – «Бригадир» (написана в 1769 году, опубликована в 1783 году) и «Недоросль» (написана около 1782 года, опубликована в 1783 году) – стали основой русского театра, оказав влияние на более поздних писателей, таких как Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Салтыков-Щедрин. Великий драматург XIX века А. Н. Островский считал его «гениальным» писателем из числа тех, что «умели писать для всего народа», чьи произведения были «истинно народными» [Островский 1941: 64; Пигарев 1954: 274]. Статус Фонвизина как комического писателя выдержал испытание временем, несмотря на его очевидные недостатки как драматурга. Ему не хватало ни шекспировского умения изображать характерные индивидуальные черты, ни чеховского мастерства запечатлевать уходящий исторический момент, ни умения выстраивать драматическое действие, присущего Расину и Корнелю. В худшие свои моменты, например во втором явлении четвертого действия «Недоросля», он был занудно дидактичен. Но российские театралы прощали ему эти недостатки за то, что Фонвизин так ясно понимал мелкие несправедливости русской жизни и тоску простого народа по достойному обращению. Возможно, его критические зарисовки русских государственных чиновников, которые в «Бригадире» представали подлыми, продажными и тираническими, а в «Недоросле» – воплощением мудрости и справедливости, также нашли отклик в русском сознании как архетипы той убогой реальности, которую все они знали, и той высшей реальности, к которой стремилась страна.
Будучи крупным писателем, Фонвизин тем не менее написал сравнительно немного оригинальных произведений. Однако он был одной из основных фигур литературной среды екатерининской эпохи. Под его руководством были переведены с латинского, французского и немецкого языков произведения Овидия, Вольтера, датского моралиста Людвига Хольберга, немецкого камералиста Иоганна Генриха фон Юсти, французского поэта Поля Жереми Битобе. Фонвизин был государственным служащим с хорошими связями. Он работал под началом двух самых влиятельных екатерининских сановников: с 1762 по 1769 год служил при статс-секретаре И. П. Елагине, а с 1769 по 1783 год – у графа Н. И. Панина. Служа личным секретарем Панина в Коллегии иностранных дел, он стал знатоком русской дипломатии и разбирался в самой щекотливой проблеме внутренней политики – отношениях между Екатериной и царевичем Павлом. Большинство современников 1770-х – начала 1780-х годов считали Фонвизина членом окружения Панина и, следовательно, сторонником Павла в борьбе с императрицей. Сочинение Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах» (написано совместно с Никитой Паниным около 1783 года, опубликовано в 1907 и 1947 годах по непроверенным источникам, в 1959 году издано по оригинальной рукописи) – один из самых замечательных политических документов России конца XVIII века[18 - Об истории публикаций «Рассуждения» см. [Макогоненко 1959: 653–654].].
Главное противоречие в политических взглядах Фонвизина и в его отношении к Просвещению – одновременное влечение к французской мысли и обеспокоенность по поводу ее секулярного характера – проявилось в «Бригадире» не только в злобном высмеивании галломании, но и в его письмах из Франции в 1777–1778 годов. Эти письма, распространявшиеся в рукописях среди друзей и близких Фонвизина, представляли собой самый свежий, самый глубокий критический анализ французской жизни, написанный русским человеком до 1789 года. В них шла речь о социальных проблемах, которые уже угрожали существованию французской монархии, и понимался вопрос о том, мудро ли себя ведут русские, подражающие французской культуре, лежащей в основе французского государства. Конечно, Фонвизин был не единственным русским писателем, испытывавшим опасения по поводу французской культуры и влияния французского мышления на русскую жизнь. Вопрос о культурной автономии страны стал важнейшим и для двух великих историков эпохи, М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, но Фонвизин, возможно, яснее, чем кто-либо другой в его время, понимал опасность культурной зависимости.
Ум моралиста
Фонвизин родился в Москве в семье относительно зажиточного дворянина, имевшего «не более пятисот душ» [Фонвизин 1959, 2: 83]. Его отец, Иван Андреевич, служивший в ревизион-коллегии, был старомодным христианином, не брал взяток, отвергал дуэли как средство решения личных споров и гордился строгим соблюдением писаных законов. Иван Андреевич не знал иностранных языков, но, по воспоминаниям Д. Фонвизина, «любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг» [Фонвизин 1959, 2: 82]. Иван Андреевич учил сына, заставляя читать «церковные книги» и объяснял незнакомые слова [Фонвизин 1959, 2: 87]. Мать Фонвизина, Екатерина Васильевна (урожденная Дмитриева-Мамонова), «имела разум тонкий и душевными очами видела далеко». Фонвизин писал о ней: «жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная» [Фонвизин 1959, 2: 84]. Как и Иван Андреевич, она была благочестивой православной христианкой. По праздникам местный священник служил в доме Фонвизиных всенощную [Фонвизин 1959, 2: 87]. Члены семьи также регулярно читали вместе Священное Писание и слушали пересказ библейских историй. Фонвизин вспоминал, как его в детстве до слез растрогала история Иосифа в пересказе отца [Фонвизин 1959, 2: 86].
В 1755 году, в возрасте 10 или 11 лет, Фонвизин поступил в латинскую гимназию для дворян при Московском университете. Там он изучал языки (латинский, немецкий и, неофициально, французский), географию, математику, риторику и философию. В автобиографическом отрывке, написанном в конце 1780-х годов, он довольно критически отзывался о своих учителях: учитель латыни был «пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков» [Фонвизин 1959, 2: 91]; учитель немецкого языка был «тупее прежнего, латинского» [Фонвизин 1959, 2: 88]; учитель арифметики «пил смертную чашу» [Фонвизин 1959, 2: 91]. Однако Фонвизин был в восхищении от учителя риторики Н. Н. Поповского, переводчика «Опыта о человеке» Александра Поупа (издан в 1732–1734 годах). Фонвизин «высоко почитал» сочинение Поупа, а его перевод был ему «очень знаком» [Фонвизин 1959, 2: 104].
Произведение Поупа, вероятно, познакомило Фонвизина с представлениями западных просветителей о божественной упорядоченности Вселенной, действующей по неизбежным естественным законам, и с вытекающей отсюда идеей о том, что человеческое понимание добра и зла в какой-то степени является продуктом нашего ограниченного постижения божественного замысла[19 - Перевод Поповского «Опыта о человеке» А. Поупа появился в 1754 году. Фонвизин, скорее всего, читал издание 1757 года [Поповский 1757].]. Литературовед К. В. Пигарев высказал предположение, что на Фонвизина оказали влияние и представления Поповского об общественном устройстве. Он утверждает, что такие идеи Поповского, как защита добродетели, похвала родителям, воспитывающим детей в «строгости обычаев святых», объясняющим, «хвально что, бесчестно», сетование, что «…в наш несчастный век проклятые пороки / Взошли на самый верх…», стали темами сочинений Фонвизина [Пигарев 1954: 43–44][20 - Пигарев цитирует «Послание о пользе наук и о воспитании в оных юношества», опубликованное Н. Новиковым в журнале «Живописец» в 1772 году.].
Первое знакомство Фонвизина с театром произошло, возможно, в 1757 году (дата спорная) в университетском театре в Москве, где ему довелось увидеть пьесу Людвига Хольберга[21 - Пьеса шла под русским названием «Гордость и бедность» и, возможно, представляла собой адаптацию пьесы Хольберга «Jeppe p? Bjerget» (1722).]. Сам Фонвизин утверждал, что впервые в жизни он был в театре в Петербурге в январе 1760 года, когда посмотрел пьесу Хольберга «Хенрик и Пернилла» (1724–1726) с элементами комедии дель арте [Фонвизин 1959, 2: 92–93]. Благодаря Хольбергу Фонвизин познакомился с некоторыми приемами комического жанра, такими как социальная инверсия, развитие «недоразумений» между архетипическими персонажами, столкновение противоборствующих этических воззрений в нелепых социальных коммуникациях.
Моралистика была источником комического гения Хольберга и также стала элементом будущей драматургии Фонвизина. В 1761–1765 годах Фонвизин перевел и опубликовал 225 «Басней нравоучительных» Хольберга [Фонвизин 1959, 1: 263–411]. Переводя «Басни», Фонвизин научился сокращать и упрощать повествование и выводить нравоучение из отношений персонажей, изображенных в общих чертах.
Басни Хольберга принадлежали к жанру философского повествования о добродетели. Например, в басне 183 («Пан делает учреждение») животные, а значит, и люди классифицируются по степени полезности. Так, к высшему классу животных отнесены пчелы и шелкопряды, потому что «они не только великие художники, но и великую приносят пользу»; животные второго класса (верблюды и ослы) прилежно трудятся; животные третьего класса (петухи и собаки) «несколько полезны»; животные четвертого класса (муравьи, пауки) могут похвастаться искусностью в устройстве дома; животные низшего класса (львы, тигры, волки, мыши) «проводят жизнь свою или совсем бесполезно, или еще и вредно» [Фонвизин 1959, 1: 387–389]. Не требуется особых усилий, чтобы увидеть в этой басне элементы социальной инверсии, направленной против традиционной социальной иерархии: хищные животные, находящиеся на вершине пищевой цепочки, такие как лев («царь леса»), отнесены к низшему классу «рационального» социального устройства. В басне 60 («Лисицыно нравоучение») Хольберг обличает лицемерие придворных, живущих по таким правилам, как «Ни в чем правды не держись, когда желаешь найти в свете свое счастие» или «Не говори того, о чем мыслишь, и старайся, чтоб всегда сердце с языком было несогласно» [Фонвизин 1959, 1: 306–308]. Хольберг, однако, был реалистом и понимал, что мир не всегда вознаграждает за добродетель. В басне 2 («Крестьянин и собака») показана человеческая неблагодарность и вероломство по отношению к добродетельным людям [Фонвизин 1959, 1: 263–264]. Читая эту басню сегодня, можно вспомнить определение человека у Достоевского в «Записках из подполья» как «существа на двух ногах и неблагодарного». Басня 100 («Суд между правдой и ложью») говорит о том, что человек предпочитает ложь правде [Фонвизин 1959, 1: 331]. В басне 49 («Превращение юстиции») утверждается, что мир считает «юстицией» то, что является лишь испорченным подобием истинного правосудия [Фонвизин 1959, 1: 299–300]. А в басне 177 («Козел ищет правосудия») отмечается, что для простых людей подлинное правосудие недостижимо [Фонвизин 1959, 1: 384].
Хольберг высмеивал плачевное состояние истории, которая в басне 73 («Судьба истории») вместо того, чтобы обличать своевольных королей и заблудших придворных, стала опорой существующего общественного строя, [Фонвизин 1959, 1: 316]. Не щадит он и «суеверные» религиозные обряды, и жреческую касту, увековечивающую суеверия. В басне 114 («Юпитер посещает лес») критикуются религии, основанные на жертвоприношениях и бормотании молитв, и восхваляются те, что опираются на спокойный, полезный труд [Фонвизин 1959, 1: 342–343]. В басне 87 («Об осле, который проглотил месяц») Хольберг сожалеет, что реально существующий мир предпочитает суеверие разуму [Фонвизин 1959, 1: 324].
Стоит ли говорить, что мир двуличия, неправосудия, неблагодарности, лицемерия и суеверия, который описывал Хольберг, был также и миром Фонвизина в начале 1760-х годов. И потому ворчливая моралистика Хольберга стала одной из составляющих будущих комедий Фонвизина.
После окончания Московского университета в 1762 году Фонвизин вступил в период религиозных сомнений, продолжавшихся до конца 1769 – начала 1770 года. Об этом нам известно из его «Чистосердечного признания в делах моих и поступках» – покаянной автобиографии, написанной в конце 1780-х годов в противовес «Исповеди» Руссо [Фонвизин 1959, 2: 81–105]. В «Чистосердечном признании» Фонвизин вспоминал:
…в то же самое время [около 1762–1763 годов] вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно [Фонвизин 1959, 1: 95].
Хотя он и не назвал имен членов кружка «безбожников», к которому принадлежал, историки считают, что его возглавлял Ф. А. Козловский. Возможно, Фонвизин познакомился с Козловским в Москве, где оба были студентами университета, но из писем Фонвизина лета 1763 года известно, что оба мыслителя встречались в Санкт-Петербурге [Фонвизин 1959, 2: 319–320]. Козловский был незначительным писателем: его единственной сохранившейся оригинальной публикацией было стихотворение по мотивам пьесы Сумарокова «Синав и Трувор»[22 - Стихотворение принадлежит Сумарокову [Сумароков 1957: 295]. Автор приводит следующую атрибуцию: «[Федор Алексеевич Козловский]. Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому, на представление Синава и Трувора, Трагедии, сочиненной Его превосходительством Александром Петровичем Сумароковым [s.l. 1766?]».]. Однако он страстно пропагандировал вольтеровскую критику религии и перевел несколько статей из «Энциклопедии» Дидро [Рассадин 2008: 82–83].
В период критического отношения к религии Фонвизин опубликовал два примечательных произведения: стихотворение «Послание к слугам моим» (написано в начале 1760-х годов, опубликовано в 1769 году), с подзаголовком «Шумилову, Ваньке и Петрушке», и перевод пьесы Вольтера «Альзира, или американцы» (1736).
В «Послании слугам» Фонвизин ставит вопросы: «…на что сей создан свет?.. Боишься Бога ты, боишься сатаны, / Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?» Шумилов, «дядька» и наставник Фонвизина, отвечает:
…не знаю я того,
Мы созданы на свет и кем и для чего.
Я знаю то, что нам быть должно век слугами
И век работать нам руками и ногами;
Что должен я смотреть за всей твоей казной,
И помню только то, что власть твоя со мной
[Фонвизин 1959, 1: 209].
Ванька, кучер Фонвизина, говорит:
На все твои затеи
Не могут отвечать и сами грамотеи.
И мне ль о том судить, когда мои глаза
Не могут различить от ижицы аза!..
Москва и Петербург довольно мне знакомы,
Я знаю в них почти все улицы и домы.
Шатаясь по свету и вдоль и поперек,
Что мог увидеть я, того не простерег
Видал и трусов я, видал я и нахалов,
Видал простых господ, видал и генералов;
А чтоб не завести напрасный с вами спор,
Так знайте, что весь свет считаю я за вздор…
Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
Затем Ванька добавляет:
Да, сверх того, еще приметил я, что свет
Столь много времени неправдою живет,
Что нет уже таких кащеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
Слуги – дворецкого, дворецкие – господ,
Друг друга – господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман…
За деньги самого Всевышнего Творца
Готовы обмануть и пастырь и овца!
[Фонвизин 1959, 1: 210–211].
Фонвизинский лакей Петрушка называет мир «ребятской игрушкой» и говорит, что секрет жизни таков:
Лишь только надобно потверже то узнать,
Как лучше, живучи, игрушкой той играть.
Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,
Лишь только б удалось получше жить до смерти!
На что молиться нам, чтоб дал Бог видеть рай?
Жить весело и здесь, лишь ближними играй.
Петрушка представляет Бога бессмысленно жестоким:
Создатель твари всей, себе на похвалу,
По свету нас пустил, как кукол по столу.
Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,
Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.
Вот как вертится свет! А для чего он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак
[Фонвизин 1959, 1: 211–212].
В завершение стихотворения рассказчик-хозяин подтверждает вывод Петрушки: «А вы внемлите мой, друзья мои, ответ: / “И сам не знаю я, на что сей создан свет!”» [Фонвизин 1959, 1: 212].
В «Послании к слугам» Фонвизина представлены четыре типа отношений к сотворенному миропорядку: нежелание Шумилова познавать Божий замысел, осуждение мира как места эксплуатации и обмана у Ваньки, гедонизм Петрушки и недоумение рассказчика по поводу цели творения. В «Чистосердечном признании» Фонвизин утверждал, что некоторые стихи «Послания» «являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником». Однако он считал обвинение в безбожии ошибочным: «Но, Господи! тебе известно сердце мое; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей» [Фонвизин 1959, 2: 95]. Литературовед Рассадин предположил, что критическое отношение Фонвизина к «Посланию к слугам» «могло быть и не вовсе искренним», учитывая, какую гордость Фонвизин испытывал за это свое стихотворение [Рассадин 2008: 83–84]. Советские интерпретаторы также в общем были склонны считать стихотворение «памятником русского философского свободомыслия XVIII века» [Пигарев 1954: 78], в котором Фонвизин «высмеивает основы церковного учения и защитников религии, проповедующих божественную мудрость в создании мира и человеческого общества» [Макогоненко 1961: 21].
На мой взгляд, обвинение Рассадина в том, что Фонвизин неискренне сожалел о своем «заблуждении», не имеет под собой оснований, если «заблуждение» сводилось к недоумению по поводу бесцельности сотворенного миропорядка. Рассадин и сам признает: «богохульствовали и святые – они, быть может, более других» [Рассадин 2008: 80]. Ему бы следовало только добавить, что святые, как никто другой, в итоге сожалеют о том, что порицали Божью мудрость. Был ли Фонвизин последователен в том, чтобы сожалеть о своем «заблуждении» и при этом гордиться самим стихотворением – другой вопрос. Как литературное произведение, рассматриваемое с точки зрения формы, «Послание к слугам» замечательно ясностью повествования, использованием простонародной речи, социальной критикой, легкостью интонации. Не зря им восхищался Пушкин, а раз так, то почему бы Фонвизину не дорожить своим творением, пусть даже оно плод «заблуждения»?[23 - Дань уважения Фонвизину Пушкин отдал в стихотворении «Тень Фонвизина» [Пушкин 1994–1999, 1: 119–125]. Пушкин приписывает Фонвизину скептический гедонизм Петрушки: «Вздохнул Денис: “О Боже, Боже! / Опять я вижу то ж да то же. / Передних грозный Демосфен, / Ты прав, оратор мой Петрушка: / Весь свет бездельная игрушка, / И нет в игрушке перемен”» [Пушкин 1994–1999, 1: 120].]
Было ли тем не менее «Послание» Фонвизина «памятником русского философского свободомыслия XVIII века»? Ответом на этот вопрос должно быть категорическое «нет». Ничего «философского» в стихотворении нет: в нем просто пересказываются существующие способы отношения к сотворенному миропорядку. Пигарев обратил внимание на статью А. Т. Болотова 1764 года «О незнании нашего подлого народа», в которой Болотов сообщает о разговоре двух слуг, который жаловались друг другу на хозяев. Затем один призывает другого терпеливо переносить тяготы, уповая на милость Божию. Второй слуга отвечает, что подумывает о самоубийстве. По словам Болотова, в христианские представления о теле и душе, бессмертии души и воскресении из мертвых ни тот ни другой не верил. Более вероятным они считали, что после смерти душа переселяется в животное или в другого человека. Болотов был потрясен таким невежеством относительно религиозных догм, пока один из его друзей не сказал ему, «что между подлости едва ли сотого человека сыскать можно, который бы о бессмертии души твердо удостоверен был» [Пигарев 1954: 76–77]. Возможность того, что «Послание» Фонвизина в значительной степени передает народные настроения, следует рассмотреть серьезно, поскольку первый слуга, упомянутый в стихотворении, – Михаил Шумилов – носит то же имя, что и реальный камердинер Фонвизина [Фонвизин 1959, 2: 610].
Нельзя также считать, что язвительность кучера Ваньки в отношении священников-обманщиков доказывает антиклерикальную позицию самого Фонвизина, или что критика жадности священников свидетельствует о его «вольнодумстве». Как мы уже видели, критика неподобающего поведения священников – почтенная тема русской литературы, которую можно обнаружить еще в «Слове Даниила Заточника», произведении XII века. Священническое корыстолюбие подвергалось поношению в «Сказании о попе Саве» (XVII век) [БЛДР 2010, 16: 412–414]. Таким образом, критика священников в «Послании» Фонвизина не должна непременно рассматриваться ни как «новая» или «современная» тема, ни как проявление тогдашнего вольнодумства. Жалобы на алчность и обман священников следует скорее рассматривать как «нормальную» черту христианского государства, в котором Церковь обладает институциональными полномочиями, а некоторые священники не соответствуют своему духовному призванию. Что было действительно новым во времена Фонвизина, так это юношеское глумление над небезупречными церковниками – модное поветрие, к которому присоединился Фонвизин, опубликовав свое стихотворение, и о котором впоследствии сожалел.
Фонвизинский перевод «Альзиры» сделал доступной для русских театралов лучшую из пьес Вольтера – драму об испанском завоевании Южной Америки и насильственном «обращении» перуанцев в христианство. Как считал Вольтер, военное завоевание Перу было жестоким и бесцеремонным, но еще более тягостным для перуанцев было навязывание им христианства. Драму насильственного обращения Вольтер показывает, заставляя главную героиню пьесы, девушку Альзиру, отречься от торжественного обещания выйти замуж по обычаям местной религии за своего возлюбленного, Замора, и сочетаться браком с испанцем Гусмано по европейскому обряду. В пятом явлении пятого действия Альзира говорит Замору:
Но верой Християн плененный разум мой
В ней зрел, иль чаял он в ней зреть закон святой.
Уста мои богов сего отвергли мира;
В том внутренно себя не обвинит Альзира.
Но отрещись богов, которым сердцем чтят,
Не заблуждение, но подла сердца яд,
Пред лицемерием измена сокровенна
Для бога избранна, и бога отрешенна,
Ложь пред вселенною, пред небом и собой
[Вольтер 1811: 61–62].
В предисловии к трагедии Вольтер пишет, что своей пьесой он пытался показать, «насколько истинный дух религии превосходит природные добродетели». Он утверждал, что религия варвара состоит в принесении в жертву богам крови своих врагов, но «христианин, получивший плохое наставление, вряд ли более справедлив». В пьесе защищается то, что Вольтер называет «истинным христианством», то есть религия, которая «состоит в том, чтобы ко всем людям относиться как к братьям, делать им добро и прощать их преступления» [Voltaire 1908: 1]. Глашатаем «истинного христианства» в трагедии выступает стареющий Альвар, бывший правитель Перу, который к финальной сцене пьесы склоняет и испанских завоевателей, и перуанцев к своей религии добродетели. В заключительных строках пятого действия Альвар говорит: «Зрю Божий перст в бедах, что рок на нас навлек. / Отчаянный мой дух ко Богу прибегает, / Который нас казнит, и купно нас прощает» [Вольтер 1811: 66].
Если Фонвизин разделял религиозное мировоззрение Альвара, то он не объявлял себя ни атеистом, ни антихристианином, а, скорее, критиковал существующую христианскую церковь во имя подлинных христианских идеалов. Если позиция Фонвизина была такова, обвинение в вольнодумстве в его адрес несправедливо.
Возможно также, что свой перевод пьесы Вольтера об испанских завоевателях Фонвизин задумал как назидание русским, правительство которых покорило столько степных нехристианских народов. Если так, то перевод был предостережением против применения силы во имя Бога, критикой русской религиозной «тирании» на юге. Пигарев отмечает, что в переводе Фонвизиным речи Альвара в третьем явлении четвертого действия явственно читается обличение колониального деспотизма, которого нет в оригинале Вольтера. В переводе Фонвизина Альвар заявляет: «Неограниченну зришь власть тиранов сих, / Им кажется, что сей и создан свет для них, / Что власти должен быть злодейской он покорным» [Пигарев 1954: 66]. Перевод Фонвизина говорит читателям о том, что тираническая власть иногда опирается на религиозное заблуждение.
При внимательном рассмотрении оказывается, что в «Послании к слугам» и в переводе «Альзиры» Вольтера Фонвизин выступает не поборником грубого атеизма, а сторонником более справедливого общественно-политического устройства России, основанного на «истинном христианстве». Говоря языком персонажа «Братьев Карамазовых» Достоевского, молодой Фонвизин усомнился не в Боге, а в Его мире. Однако не стоит преувеличивать скептицизм Фонвизина по отношению к миру. В его великолепном переводе «Иосифа» Битобе в девяти песнях (оригинал опубликован в 1767 году, перевод Фонвизина – в 1769 году) воспевается божественная мудрость и добродетельная жизнь, которая, невзирая на испытания, полагается на веру [Bitaubе 1767; Фонвизин 1959, 1: 443–606]. Даже в первые дни египетского плена Иосиф у Битобе отвергает искушение пролить кровь своих господ, ибо верит, что все пути – Божьи.
Таким образом, уже в 1769 году Фонвизин искал выход из своих религиозных метаний. В «Чистосердечном признании» он рассказывает о своем потрясении от кощунства графа П. П. Чебышева, обер-прокурора екатерининского Святейшего Синода (!). По совету сенатора Г. Н. Теплова, убежденного православного и критика модной безрелигиозности, Фонвизин прочитал книгу Самуэля Кларка «Доказательства бытия Божия и истины християнския веры» (1705), направленную против подразумеваемого безбожия Гоббса и Спинозы. В книге Кларка утверждалось, что, правильно применив человеческий разум, можно доказать существование Бога и обосновать нашу обязанность поклоняться Ему. Кларк нападал на тех мыслителей, которые сомневались в Боге, как на любителей порока, разврата и власти. Он также пытался показать, что Бог, присутствуя в пространстве и времени, способен в любой момент вмешаться в сотворенный мир. Конечной целью его книги, вероятно, было утверждение божественной свободы и реальности сотворения человеческой природы по образу и подобию Божьему[24 - Краткий обзор мировоззрения Кларка см. в [Yenter, Vailati 2018].]. Фонвизин был настолько впечатлен рассуждениями Кларка, что подумывал перевести «Доказательство» на русский язык [Фонвизин 1959, 2: 104–105][25 - Первое издание книги Кларка: [Clarke 1705]. Фонвизин, возможно, изучал французский перевод [Clarke 1744].].
В «Чистосердечном признании» Фонвизин пишет о Теплове, что тот «достойно имел славу умного человека». «Разум его был учением просвещенный» [Фонвизин 1959, 2: 102]. Следует подчеркнуть, что Фонвизин использует слово «просвещенный», поскольку в данном контексте оно подразумевает как светскую ученость (знакомство с западной философией), так и религиозную образованность (в смысле разумной верности христианству). Такое употребление термина свидетельствует о том, что Фонвизин в 1769–1770 годах не рассматривал просвещение и религиозную веру как бинарную оппозицию.
Бригадир
«Бригадира» Фонвизин написал в тот момент, когда еще не пришел к окончательному разрешению своих религиозных сомнений, но был на пути к этому. Он был еще молодым человеком, склонным острить в адрес своих товарищей и «всего святого». Те, кто стал мишенью его сатирических высказываний, считали его «злым и опасным мальчишкой», но сам он видел себя иначе, а именно как человека с добрым сердцем, который «ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость» [Фонвзин 1959, 2: 90]. Что неудивительно, критические замечания в адрес религии проникли в пьесу Фонвизина, но религиозное лицемерие он критиковал в контексте более широких проблем.
Как и многие другие молодые писатели, свое первое большое произведение Фонвизин построил на материале, взятом отчасти из его собственной жизни. Гневные вспышки бригадира в пьесе отражают вспыльчивый характер отца Фонвизина, а также холерическую натуру самого Фонвизина. Семейное неблагополучие в пьесе перекликается с платонической любовной интрижкой, которую Фонвизин имел в Москве с девушкой, пожилая мать которая слыла «набитою дурою». По его признанию, эта женщина «послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли» [Фонвизин 1959, 2: 89].
Комедия «Бригадир» описывает семейную жизнь дворянской семьи в те времена, когда практика браков по расчету подвергалась нападкам со стороны сторонников брака по пылкой страсти и романтической любви. В начале пьесы члены семьи бригадира – сам бригадир, бригадирша и их сын Иванушка – только что приехали в деревню к друзьям – советнику, его жене и их дочери Софье. Советник с женой обещали выдать Софью замуж за Иванушку в течение месяца, но ни Софья, ни Иванушка не горят желанием вступать в брак. Софья надеется, что родители разрешат ей выйти замуж за честного человека Добролюбова. Иванушка же смотрит на брак с Софьей скорее как на бремя, чем как на счастливую возможность, но готов пойти на женитьбу ради возможной связи с будущей тещей, женой советника.
Представители старшего поколения выступают за брак Софьи и Иванушки по своим причинам: экономическим, романтическим либо личным. В первом явлении второго действия советник говорит Софье, что она должна выйти замуж за Иванушку за одно «хорошее достоинство» – его «изрядные деревеньки». Советник уверяет дочь: «А если зять мой не станет рачить о своей экономии, то я примусь за правление деревень» [Фонвизин 1959, 1: 62]. Когда Софья замечает, что ее будущая теща, бригадирша, – «хозяйничать охотница» и вряд ли допустит постороннее вмешательство в управление изрядными деревеньками, становится понятен второй расчет советника: он влюблен в бригадиршу. «Я привязан к ее свекрови, привязан очами, помышлениями и всеми моими чувствы… Вижу, что гублю я душу мою» [Фонвизин 1959, 1: 63]. Ослепленный страстью, советник до самого конца пьесы не понимает, что его собственная жена влюбилась в Иванушку. Советница называет Иванушку «трефовый король», «жизнь моя», «душа моя», «полудуши моей». В Иванушке она видит спасение от скуки и неудачного брака. В третьем явлении первого действия она обвиняет мужа в том, что он «повез меня мучить в деревню». По ее словам, советник – «ужасная ханжа», который «скуп и тверд, как кремень», но при этом «не пропускает ни обедни, ни завтрени и думает… что будто Бог столько комплезан, что он за всенощною простит ему то, что днем наворовано». Мужа она называет «мой урод» [Фонвизин 1959, 1: 55]. Бригадир тем временем влюблен в советницу. В четвертом явлении третьего действия он сравнивает ее с «фортецией, которую хочет взять храбрый генерал» [Фонвизин 1959, 1: 80].
Одна лишь бригадирша неуязвима для стрел Купидона. Когда советник в третьем явлении второго действия признается ей в любви, она не понимает его. Когда Иванушка объясняет ей намерения советника, она грозится рассказать мужу о его беззаконном предложении и передумывает, только когда сын говорит, что советник «шутил» [Фонвизин 1959, 1: 67–68]. По меркам образованного общества, бригадирша – простофиля, «дура», потому что не признает амурных развлечений. Согласно ее традиционному мировоззрению, брак – это часть естественного порядка, и к тому же он необходим для ведения хозяйства. В первом явлении первого действия она заявляет: «Мне… скучны те речи, от которых нет никакого барыша» [Фонвизин 1959, 1: 51]. Когда муж упрекает ее в том, что она уделяет больше внимания домашней скотине, чем ему, она отвечает с искренним недоумением: «Вить скот сам о себе думать не может. Так не надобно ли мне о нем подумать?» [Фонвизин 1959, 1: 52]. В первом явлении пятого действия, когда Иванушка заявляет ей, что «довольно видеть вас с батюшкою, чтоб получить совершенную аверсию к женитьбе», она восклицает: «Разве мы спустя рукава живем? То правда, что деньжонок у нас немного, однако ж они не переводятся». Она упрекает Иванушку в непонимании того, что «гривною в день можно быть сыту» [Фонвизин 1959, 1: 95].
Своего несчастья в браке бригадирша не скрывает. В первом явлении первого действия она говорит Иванушке: «Вы, конечно, станете жить лучше нашего. Ты, слава Богу, в военной службе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили. Мой Игнатий Андреевич вымещал на мне вину каждого рядового» [Фонвизин 1959, 1: 48]. Во втором явлении четвертого действия бригадирша расплакалась оттого, что муж назвал ее «свиньей и дурой». Она печально рассказывает Софье, что однажды бригадир «в шутку, потолкнул он меня в грудь… что я насилу вздохнула». Она говорит: «Этого еще не бывало, чтоб он убил меня до смерти», но боится, что когда-нибудь он ей «раскроит череп разом». Словесные и физические оскорбления мужа в свой адрес она объясняет его «крутым нравом» и армейскими привычками [Фонвизин 1959, 1: 84–85]. Свою супружескую жизнь она называет ужасной («худо-худо»), но при этом говорит Иванушке в первом явлении пятого действия: «Дай-то Господи, чтоб и тебе так же удалось жить, как нам» [Фонвизин 1959, 1: 96]. Она страдает в браке, но принимает страдания как часть естественного порядка вещей. Иными словами, она подчиняется бригадиру, потому что не знает, что можно вести себя иначе. Она уговаривает сына жениться, потому что не представляет себе другой жизни для него.
Из описания семейной жизни Фонвизиным становится ясно, что условием брака по расчету является подчинение молодых людей воле родителей. Бригадирша наставляет Иванушку в первом явлении пятого действия: «Наше дело сыскать тебе невесту, а твое жениться. Ты уж не в свое дело и не вступайся». На возражение Иванушки: «Как… я женюсь, и мне нужды нет до выбору невесты?» – бригадирша отвечает: «А как отец твой женился? А как я за него вышла? Мы друг о друге и слухом не слыхали. Я с ним до свадьбы отроду слова не говорила и начала уже мало-помалу кое-как заговаривать с ним недели две спустя после свадьбы» [Фонвизин 1959, 1: 96]. Подобное же слышит Софья от своего отца-советника в явлении первом второго действия: «Да разве дети могут желать того, чего не хотят родители? Ведаешь ли ты, что отец и дети должны думать одинаково?» Когда Софья говорит отцу, что в браке с Иванушкой она будет несчастной, потому что она не хочет подчиняться дураку, советник нетерпеливо заявляет: «Мне кажется, ты его почитать должна, а не он тебя. Он будет главою твоею, а не ты его головою. Ты, я вижу, девочка молодая и не читывала Священного Писания» [Фонвизин 1959, 1: 61–62].
И Софья, и Иванушка бросают вызов родителям: Софья молча надеется на Добролюбова, Иванушка открыто оспаривает власть бригадира. Поскольку комический потенциал пьесы и ее идеологический заряд обусловлены этим конфликтом поколений, важно понять, в чем заключается разногласие. Как явствует из пятого явления первого действия, Софья противится браку с Иванушкой, потому что осознает, что «мой жених ко мне нимало не ревнует», и убеждена, что ее любовь к Добролюбову «кончится с жизнию моею». Добролюбов уверяет ее, что их «любовь основана на честном намерении и достойна того, чтоб всякий пожелал нашего счастия» [Фонвизин 1959, 1: 59–60]. Иными словами, отношения Софьи с Добролюбовым основаны на искренней любви, в то время как связь с Иванушкой таковой быть не может. В первом явлении второго действия Софья говорит отцу, что разногласия между ними по поводу ее брака с Иванушкой, – это не просто различие мнений, а различие воль. Признавая свой долг повиноваться отцу, она тем не менее держит себя с ним, как ровня. Она отвергает попытки советника устыдить ее за несогласие с ним. Она говорит отцу, что Иванушка не будет его уважать, и выражает сомнение в том, что советник будет, как надеется, управлять имениями Иванушки [Фонвизин 1959, 1: 61–63].
Аргументы Софьи против брака с Иванушкой кажутся сегодня убедительными, потому что они самоочевидным образом взывают к дорогим нам ценностям: к необходимости взаимной любви в браке, к личной независимости женщины и мужчины, вступающих в брак. Однако в России Фонвизина ни взаимная любовь, ни личная независимость не считались определяющими для «удачного» брака. Гораздо большее значение для успеха брака имело приобретение собственности или перспектива распоряжаться ею. Здесь «изрядные деревеньки» Иванушки перевешивают Софьино воззвание к добродетели и разуму. Поэтому Фонвизин в итоге находит практический выход для решения судьбы Софьи: Добролюбов получает две тысячи душ по решению суда. В четвертом явлении третьего действия, узнав о новом богатстве Добролюбова, советник восклицает: «Две тысячи душ! О Создатель мой, Господи! И при твоих достоинствах! Ах, как же ты теперь почтения достоин!» [Фонвизин 1959, 1: 80–81]. В заключительных строках пьесы советник благословляет помолвку Софьи и Добролюбова и осуждает свой собственный прежний путь: «Говорят, что с совестью жить худо: а я теперь сам узнал, что жить без совести всего на свете хуже» [Фонвизин 1959, 1: 103]. В этой строке, казалось бы, одобряется добродетельное поведение Софии, но на самом деле в ней присутствует этическая двусмысленность, поскольку правильное поведение отождествляется с приобретением материальных благ[26 - Если бы Фонвизин был этическим утилитаристом, то апелляция к практическим результатам – «наибольшее счастье наибольшего количества людей» – могла бы быть интеллектуально последовательной. Но Фонвизин, по-видимому, связывал добродетель не с пользой, а с разумом и приверженностью этическим принципам.].
«Бунт» Иванушки против бригадира гораздо менее рационален и потому гораздо интереснее, чем бунт Софьи против советника. В третьем явлении первого действия Иванушка говорит советнице: «Я индиферан во всем том, что надлежит до моего отца и матери». И непоследовательно добавляет: «Вы знаете, каково жить и с добрыми отцами, а я, черт меня возьми, я живу с животными» [Фонвизин 1959, 1: 54]. В четвертом и пятом явлениях второго действия он смеется, увидев, как его отец, бригадир, признается в любви к советнице. Однако в шестом явлении второго действия, узнав, что бригадир решил всерьез добиваться ее взаимности, он подумывает вызвать отца на дуэль. Он читал во французской книге о дуэли отца и сына в Париже, и говорит советнице: «… а я, или я скот, чтоб не последовать тому, что хотя один раз случилося в Париже?» [Фонвизин 1959, 1: 70]. За этой глупой ремаркой следует самая запоминающаяся ссора в пьесе – перебранка бригадира с Иванушкой в первом явлении третьего действия. Иванушка говорит отцу, что заставлять его жениться на русской женщине – оскорбление, потому что «тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской». Он заявляет, что бригадир не имеет права устраивать такой брак, потому что «я такой же дворянин, как и вы, monsieur».
Он ни во что не ставит воинское звание отца и основывает свое собственное на том, что «был в Париже». Он сравнивает отца с диким зверем: «…а когда щенок не обязан респектовать того пса, кто был его отец, то должен ли я вам хотя малейшим респектом?» [Фонвизин 1959, 1: 72–74]. Таким образом, в качестве доводов против брака по расчету Иванушка использует как серьезные аргументы (отец, принуждающий взрослого сына к женитьбе, лишается его уважения), так и необоснованные логические посылки (поскольку люди – животные, они не должны уважать друг друга) наряду с мнимой логической связью (я в душе француз, но как русский дворянин я вам ровня). В сущности, Иванушка испытывает к отцу отвращение, а ненавидя отца, он презирает Россию. В ответ на ненависть сына бригадир отвечает непониманием, яростью, угрозами разбить ему лицо [Фонвизин 1959, 1: 74], обещанием – «разом ребра два у тебя выхвачу» [Фонвизин 1959, 1: 75] – и, наконец, желанием «поколотить» во втором явлении пятого действия [Фонвизин 1959, 1: 99]. Эти угрозы, опирающиеся на убежденность бригадира в своем праве принуждать непокорных «подданных», выражают самую суть отношений внутри дома, построенных на силе и произволе. Поскольку домохозяйства были основой российского государства, фонвизинское изображение разлада в семье бригадира указывает на более масштабное расстройство российской общественно-политической жизни.
Пьесу Фонвизина «Бригадир» нельзя назвать политической драмой в прямом смысле слова, но в ней содержится явный намек на природу российского государства. В пьесе речь идет о двух недавно вышедших в отставку чиновниках: бригадире, военный чин которого примерно соответствует бригадному генералу и занимает пятую строку сверху в петровской Табели о рангах, и советнике, который мог иметь любой чин от девятого [титулярный советник] до второго [действительный советник]. Вероятно, Фонвизин хотел изобразить двух чиновников сопоставимого ранга – военного и гражданского. Как мы уже отмечали, бригадир обладает холерическим темпераментом. Он высокомерен и уморителен в своем внимании к чинам: в первом явлении первого действия он замечает, что Бог должен особо считать волосы на голове чиновников пятого класса, ибо, «Как можно подумать, что Богу, который всё знает, неизвестен будто наш табель о рангах?» [Фонвизин 1959, 1: 50–51]. В свою помещичью жизнь бригадир привносит военное мировоззрение, сложившееся у него за время службы. Среди прочего это означает, что он воспринимает себя как командира своей семьи. В ходе бурного спора с Иванушкой в первом явлении третьего действия он говорит сыну: «…тебе забывать того по крайней мере не надобно, что я от армии бригадир» [Фонвизин 1959, 1: 73]. В четвертом явлении третьего действия он жестко порицает Иванушку за то, что тот не делает военной карьеры: «Где он (Иванушка) был? в каких походах? на которой акции?» [Фонвизин 1959, 1: 79]. Фонвизин исподволь подводит зрителя к пониманию российского государства как субъекта, влияющего на все аспекты жизни – от военного порубежья на юге до провинциального семейного очага в центре империи. На протяжении всей пьесы Фонвизин называет героев не по имени, а по чину (бригадир, советник) или его производным (бригадирша, советница), что свидетельствует о том, насколько глубоко в ткань общества проникла Табель о рангах, определяя социальные взаимодействия даже тех людей, которые уже не занимали государственных должностей.
Советник – судья в отставке. Он лишен интеллектуальной любознательности и, соответственно, имеет узкий кругозор: его представление о полезном чтении сводится к изучению межевых инструкций и военных уставов [Фонвизин 1959, 1: 48–49]. Создание имперской бюрократии, пропитанный ее духом, он холоден сердцем, скуп и коррумпирован. В третьем явлении первого действия его жена рассказывает Иванушке: «Муж мой пошел в отставку в том году, как вышел указ о лихоимстве. Он увидел, что ему в коллегии делать стало нечего, и для того повез меня мучить в деревню» [Фонвизин 1959, 1: 55]. Как мы видели, брак Софьи советник рассматривает как средство получить в распоряжение чужие земли. Бригадирша впечатляет его своей хозяйственностью, а Добролюбов – тем, что приобретает две тысячи душ. В шестом явлении третьего действия советник говорит жене, что только богатство имеет значение: «Две тысячи душ и без помещичьих достоинств всегда две тысячи душ, а достоинствы без них – какие к черту достоинствы» [Фонвизин 1959, 1: 81]. В этом же явлении, когда Добролюбов жалуется на повальное взяточничество судей, советник заявляет: «А я так всегда говорил, что взятки и запрещать невозможно. Как решить дело даром, за одно свое жалованье? Этого мы как родились и не слыхивали! Это против натуры человеческой…» [Фонвизин 1959, 1: 81]. Несмотря на выход в отставку, взгляды советника на человеческую природу не изменились со времен его судейства. Неприкрытая жадность и коррумпированность советника порождают ироническую ситуацию в третьем явлении пятого действия, когда он, наконец, осознаёт неверность жены. Он выговаривает ей: «Ты лишила меня чести – моего последнего сокровища». Верный себе, он грозит бригадиру иском, чтобы тот выплатил ему компенсацию за потерю чести: «Я все денежки, определенные мне по чину, возьму с него» [Фонвизин 1959, 1: 100]. В сознании советника честь – производная величина от ранга, но кроме того, имеет денежный эквивалент.
Несмотря на свои пороки, советник считает себя религиозным человеком. Вторя бригадиру, он говорит, что в России «все в руце Создателя. У него все власы главы нашея изочтены суть» [Фонвизин 1959, 1: 50]. Жене он хвастается: «Без власти Создателя и Святейшего Синода развестись нам невозможно» [Фонвизин 1959, 1: 100]. Только в конце пьесы он понимает, что Бог может быть не просто символической фигурой, придуманной для спокойствия действующих и бывших чиновников, и что жизнь без совести приводит к беде.
Таким образом, в «Бригадире» Фонвизина российское государство – это всепроникающая структура, которая определяет степень почета, полагающуюся чиновникам и отставникам, отравляет их семейную жизнь, институционализирует взяточничество, поощряет коррупцию и алчность в деревне, распространяет лицемерие и безбожие. Более того, как мы увидим ниже, Фонвизин считает, что государство несет косвенную ответственность и за глубокое смешение культур в стране, то есть за столкновение французских и русских ценностей, которое лежит в основе спора поколений, являющегося движущей силой комедии.
Бригадир и советник у Фонвизина малообразованны и поэтому не знают иностранных обычаев. Однако при этом сын бригадира жил в Париже, вероятно, на государственную стипендию, а советница изучала французский язык, как и положено жене чиновника. В чем же состоит их французское образование? В третьем явлении третьего действия Иванушка пытается объяснить отцу, чему он выучился за границей. Его ремарки, в основном бессвязные, вызывают неодобрение отца и, несомненно, смех фонвизинской публики. Но эти реплики несут явные признаки политических и культурных установок, отличных от бригадирских. Иванушка восхваляет французский индивидуализм («всякий отличается в нем своими достоинствами»), терпимость к чужакам («В Париже все почитали меня так, как я заслуживаю»), свободу выбора («Всякий, кто был в Париже, имеет уже право, говоря про русских, не включать себя в число тех, затем что он уже стал больше француз, нежели русский») [Фонвизин 1959, 1: 76–78]. В первом явлении пятого действия он утверждает, что у французов иные взгляды на брак и хозяйство, чем у русских. Ни один француз не вступит в брак по расчету, ни один француз не согласится «кушать наши сухари» [Фонвизин 1959, 1: 95–96]. Более того, в четвертом явлении пятого действия Иванушка заявляет, что французу «невозможно» сердиться на супружескую измену, так как у них такие поступки считаются «безделицей». Восхищение Иванушки французами в итоге сводится к двум простым утверждениям: во Франции люди свободны в той мере, какая недоступна в традиционалистской России, и там «люди-то не такие, как мы все русские» [Фонвизин 1959, 1: 77]. Иванушка отчаянно ищет слова, чтобы сказать отцу, что «выход» из русской отсталости в том, чтобы русские стали французами – если не телом, то душой. Бригадир, не понимающий своего блудного сына почти ни в чем, здесь осознает, что Иванушка отрекается от русских ценностей, и обещает: «Рано или поздно я из него французский дух вышибу» [Фонвизин 1959, 1: 79]. В противостоянии с блудным сыном бригадира постигает участь, нередкая для государственных чиновников XVIII века, которые служили русскому государству, даже при том, что оно поощряло «французские» ценности.
Между тем, как явствует из первого явления первого действия, старшие не могут понять «грамматику» или дискурс молодого, более космополитичного поколения. По мысли Фонвизина, по мере того как французские обороты речи проникали в русский язык, русские не только начинали использовать заимствованные слова в странных формах, но и теряли контроль над родным языком. Когда бригадирша, к своему ужасу, узнаёт, что советник признался ей в любви, она не может выразить эту мысль по-русски. Иванушка говорит ей: «Матушка, он с тобою амурится!» – высказывание, в котором французское слово amour образует корень неологизма «амуриться», возвратного глагола, который может означать как «говорить о любви» с кем-то, так и «заниматься любовью» с кем-то. Бригадирша отвечает: «Он амурится!» – смешная фраза, потому что без зависимого слова [«с тобою»] она буквально означает: «Он любит сам себя» [Фонвизин 1959, 1: 66]. Сбитая с толку бригадирша признается советнику: «Иному откроет [Господь] и французскую, и немецкую, и всякую грамоту, а я, грешная, и по-русски-то худо смышлю» [Фонвизин 1959, 1: 65]. Даже сам бригадир, решительный противник французских выражений и французской культуры, в четвертом явлении третьего действия допускает забавный неологизм, объясняясь с советницей: «Я хочу, чтоб меня ту минуту аркибузировали, в которую помышлю я о тебе худо» [Фонвизин 1959, 1: 78]. Россия Фонвизина – это место, в котором с пугающей комичностью рушится русская грамматика, а вместе с ней и понимание между людьми. В первом явлении первого действия все персонажи сходятся во мнении: «Черт меня возьми, ежели грамматика к чему-нибудь нужна, а особливо в деревне» [Фонвизин 1959, 1: 52–53]. Как и другие страны, раздираемые культурными противоречиями, фонвизинская Россия вызывает улыбку, смех, жалость, но также и понимающие, горькие слезы.
Читатели Фонвизина расходились во мнениях относительно того, насколько серьезно следует принимать его критику российского общества и государства. Его первый биограф, князь П. А. Вяземский, считал, что «Бригадир» – «более комическая карикатура, нежели комическая картина». Вяземский утверждал, что флирт между бригадиром и советницей, а также между советником и бригадиршей неправдоподобны, хотя «симметрия в волокитстве» несет в себе большой комический потенциал [Вяземский 1848: 205–206]. Вяземский также считает, что Фонвизин не стремился сделать то, что делают хорошие драматурги, то есть создать вымышленный мир и исследовать его противоречивые стремления. Фонвизин, как считает Вяземский, довольствовался тем, что помещал в свою пьесу персонажей, которых наблюдал в обществе или выдумывал, чтобы «расцветить кистью своею» [Вяземский 1848: 208–209].
Другую крайнюю точку зрения на Фонвизина, противоположную Вяземскому, предлагал советский литературовед Г. П. Макогоненко, который рассматривал «Бригадира» как политический трактат, направленный против сословных, дворянских привилегий и «идеологии рабовладельцев» [Макогоненко 1961: 108–109]. Макогоненко полагает, что Фонвизин написал пьесу зимой 1768–1769 годов, после событий, связанных с Уложенной комиссией. По его мнению, Фонвизин был единомышленником Григория Коробьина и философа Я. П. Козельского, а также других критиков крепостного права, входивших в состав Уложенной комиссии. Фонвизин, как считает Макогоненко, был также оппонентом Михаила Щербатова, который в публичных дебатах выступал против резкого освобождения крепостных [Макогоненко 1961: 97–104]. По мнению Макогоненко, «Бригадир» – это систематическая защита просвещенческой идеологии Фонвизина, где Софья и Добролюбов представляют чистые просветительские идеалы (человеческое достоинство, честь и сострадание), противостоящие ретроградам-помещикам и политическим реакционерам вроде бригадира и советника [Макогоненко 1961: 112–115]. Макогоненко утверждает, что в своем художественном методе Фонвизин сознательно отходит от классицизма Сумарокова и других драматургов XVIII века в пользу нарождающегося реализма [Макогоненко 1961: 117–135]. Этот «реализм» в большинстве сцен сводится к сатирическому «обнаружению» «паразитической жизни» русского дворянства [Макогоненко 1961: 142].
Правота Вяземского в этой дискуссии в том, что в комическом методе Фонвизина действительно есть элемент карикатуры, однако Вяземский был не прав, игнорируя политическую повестку пьесы. Макогоненко, со своей стороны, придал слишком большое значение политическому содержанию пьесы, представив комедию как идеологический «памфлет» в защиту просвещения и против «паразитизма» владельцев крепостных. Затруднение для Макогоненко представлял финал пьесы, в котором происходит помолвка Софьи с богатым помещиком Добролюбовым, поскольку тем самым как бы подтверждается правомерность крепостного права как основы общественного строя. Также Макогоненко проигнорировал неудобную для него фонвизинскую критику галломании: он не стал ее анализировать, отделавшись от Иванушки фразой об «идиотически бессмысленной жизни двадцатипятилетнего бездельника» [Макогоненко 1961: 105].
На самом деле карикатура Фонвизина на дворянские нравы была одним из признаков продолжающейся трансформации российского общества под влиянием западных ценностей – процесса, инициированного Петром I и ускоренного Екатериной II в первые годы ее царствования. В глазах Фонвизина эта трансформация, имевшая много положительных сторон, была одновременно и смешной, и, в некоторых отношениях, потенциально трагичной, особенно в связи с исчезновением грамматики и распадом смысла. Фонвизин не был однозначным или, по выражению Михаила Бахтина, «монологическим» поборником Просвещения, каким его представил Макогоненко. Фонвизин достаточно ясно понимал ценность индивидуализма, толерантности, разума и человеческого достоинства, но его беспокоило, что французские представления о личной нравственности приведут к разладу в российской семейной жизни, обществе и культуре. Грозная финальная реплика советника – «жить без совести всего на свете хуже» – напоминала россиянам, что за отказом от традиционной религии следует ад.
Из «Чистосердечного признания» Фонвизина известно, что он читал «Бригадира» своему покровителю Елагину, Екатерине и Павлу, Никите и Петру Паниным, Захару Григорьевичу и Ивану Григорьевичу Чернышевым, А. С. Строганову, членам семей Шуваловых, Воронцовых, Румянцевых, Бутурлиных [Фонвизин 1959, 2: 96–101]. Эта аудитория не только задавала тон русской высокой культуре, покровительствуя писателям, но и в значительной степени несла коллективную ответственность за политический курс России. Чем объяснить их благосклонность к «Бригадиру», пьесе, нашпигованной скрытой, а то и явной социальной и политической критикой?
Ответ отчасти в том, что в пьесе Фонвизина критикуются только отставные чиновники. Бригадир в последний раз участвовал в военных действиях в турецкой войне 1735–1739 годов – это единственная кампания, которую он упоминает в четвертом явлении третьего действия. Советник ушел с государственной службы в год издания императорского указа о борьбе со взяточничеством, то есть в 1762 году. В этих фактах легко читается прозрачный намек на то, что бригадир и советник у Фонвизина олицетворяют пороки государственных чиновников доекатерининской эпохи. Кроме того, благосклонный прием произведения Фонвизина объясняется тем, что Екатерина сама неоднократно выступала с критикой российских законов и нравов в «Наказе», а с 1769 года – в своем сатирическом журнале «Всякая всячина». Поэтому она не была склонна считать Фонвизина своим критиком. Напротив, она, скорее всего, видела в нем потенциального союзника, тем более что Елагин, покровитель Фонвизина, был также ее союзником и протеже. И, наконец, нападки Фонвизина на русскую галломанию вполне вписывались в русло критики французской моды, восходящей к пьесе Сумарокова «Третейный суд» (1750). В произведениях, критикующих русскую галломанию, среди которых были «Жан де Моле, или Русский француз» (1764) Елагина и «Россиянин, возвратившийся из Франции» (1760-е) А. Гр. Карина, высмеивались русские, стыдившиеся своей русскости[27 - Текст пьесы А. Карина утрачен. Пьеса Елагина является переработкой пьесы Хольберга «Jean de France eller Hans Frandsen» (1722).]. Позднее и Екатерина написала в этом жанре пьесу «Именины госпожи Ворчалкиной» (1772).
Фонвизин и Панин
Фонвизин искал для «Бригадира» высочайшей аудитории. Как мы уже отмечали выше, он читал пьесу Н. И. Панину и великому князю Павлу. Панин считал, что бригадирша очень удалась как персонаж: «Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу». Про пьесу Фонвизина он говорил: «Это в наших нравах первая комедия» [Фонвизин 1959, 2: 99]. Панин организовал чтение пьесы перед Павлом, представил драматурга будущему императору и способствовал их общению. В показном дружелюбии Панина к Фонвизину был большой элемент политического расчета: он стремился приблизить Фонвизина ко двору царевича и, вероятно, надеялся уговорить Фонвизина работать у себя личным секретарем в Коллегии иностранных дел. Макогоненко предполагает, что уже в 1769 году Фонвизин решил уйти со службы у Елагина и перестать поддерживать Екатерину [Макогоненко 1961: 151–156]. Поэтому, когда в конце 1769 года Панин обратился к Фонвизину с предложением, Фонвизин сразу же ответил: «Но я тогда только совершенно доволен буду, когда ваше сиятельство удостоите меня своим покровительством» [Фонвизин 1959, 2: 98].
С точки зрения карьеры Фонвизина события конца 1769 года определили его дальнейший путь почти на 14 лет – вплоть до смерти Панина в марте 1783 года. В течение этого времени он был секретарем, доверенным лицом и политическим союзником Панина. В памятном слове на смерть Панина Фонвизин писал: «…не было ни одного дела, касательного до пользы и благосостояния империи, в котором бы он не участвовал или собственными трудами, или советами» [Фонвизин 1959, 2: 282]. «Главнейшие правила», которыми Панин руководствовался в ведении дел, Фонвизин изложил следующим образом: «1-е) Что государство может всегда сохранить свое величие, не вредя пользам других держав… 2-е) Что толь обширная империя, какова есть Россия, не имеет причины употреблять притворства и что единая только искренность должна быть душою ее министерии… 3-е)… рассуждать о делах с кротостию и дружелюбием». Во внутренних делах, как отмечал Фонвизин, Панин выступал против сложившейся в России культуры государственной тайны. Он выступал за обнародование основных бюджетных данных о расходах и налоговых поступлениях, «о чем в просвещенном народе все должны ведать». Панин выступал против произвола в отношении обвиняемых по уголовным делам, считая его оскорбительным для правосудия. В целом Панин выступал за «государственное благоустройство» и поэтому осуждал «корысть и пристрастие [в судах]», а также всякий обман государя или образованной публики. Его «поражал ужасом» любой «подлый поступок» чиновников и придворных [Фонвизин 1959, 2: 282–284].
Принципы управления Панина были основаны не только на его личном кодексе добродетели, в котором главное место занимали честность и справедливость, но и на здравом рассуждении о том, что секретность, произвол и обман рано или поздно воспрепятствуют осуществлению международных и внутренних интересов России. Правила Панина произвели на Фонвизина глубокое впечатление, отчасти потому, что соответствовали его собственным взглядам на политику, а также приносили ему успех в дипломатических делах.
Политические взгляды Фонвизина 1770-х годов нашли отражение в произведениях: «Слово на выздоровление его Императорского высочества Государя цесаревича и Великого князя Павла Петровича в 1771 годе», перевод «Слова похвального Марку Аврелию» Антуана-Леонара Тома (оригинал опубликован в 1775 году, перевод Фонвизина издан анонимно в 1777 году), а также в письмах из Франции (написаны в 1777–1778 годах, большинство из них опубликованы в 1830 году).
В «Слове» Павел превозносится за то, что он перенес болезнь с «крепостию духа», в бескорыстном великодушии по отношению к народу [Фонвизин 1959, 2: 190–191]. Автор «Слова» призывает царевича выразить благодарение за восстановленное здоровье, признав необходимость повиноваться Божьему закону, «который есть вся сила и безопасность законов человеческих». По мнению Фонвизина, Павел в будущем должен быть «правосуден, милосерд, чувствителен к бедствиям людей» и не искать «другия себе славы», помимо народного расположения, поскольку «любовь народа есть истинная слава государей». Фонвизин советует Павлу владеть своими страстями, быть верным истине и считать лесть «изменою», так как «нет верности к государю, где нет ее к истине» [Фонвизин 1959, 2: 192–193]. «Слово» Фонвизина принадлежит к традиционному жанру «княжеского зерцала» с акцентом на правосудие, милосердие и благотворительность бедным. Однако в замечании Фонвизина о том, что «любовь народа есть истинная слава государей», чувствуется дух Локка и особенно Руссо. Стоит отметить, что «Слово» Фонвизина, в котором подчеркивалась важность истины и верности, возможно, было упражнением в притворстве, поскольку Фонвизин восхвалял Екатерину за ее заботу о болеющем Павле. Как, несомненно, знал Фонвизин, в 1771 году при дворе ходили слухи об отравлении Павла с намеком на причастность к нему Екатерины [Макогоненко 1961: 151–156].
В «Слове похвальном Марку Аврелию» Антуан Леонар Тома ставит римского стоика в пример современным правителям. По мнению Тома, Марк был идеальным императором: ценителем истины и добродетели, знатоком истории и законов, скромным человеком, который ненавидел придворные интриги, и подлинным философом. По словам Тома, Марк считал, что философия – это «наука исправлять людей просвещением» [Фонвизин 1959, 2: 199]. Тома сопоставляет Марка не с римскими императорами, а с республиканцами Катоном и Брутом [Фонвизин 1959, 2: 199–200]. Для Марка, в изложении Тома, «для всех душ есть един разум», а если разум один, «то надлежит быть и единому закону» [Фонвизин 1959, 2: 202]. Поэтому долг каждого человека – «терпеть все, что налагает на тебя естество вселенныя, и делать все, чего твое человеческое естество требует». Для императора этот этический императив означал: «Если в целом свете прольется одна слеза, которую ты мог предупредить, ты уже виновен» [Фонвизин 1959, 2: 203]. По мысли Тома, Марк понимал, что императору в исполнении этого долга мешают корыстные придворные, преувеличивающие богатство страны и преуменьшающие ее проблемы. Марк пытался противостоять этому организованному обману, помня о своем этическом призвании и руководствуясь разумом [Фонвизин 1959, 2: 205–207], то есть понимая, что «источник твоих действий должен быть в душе твоей, а не в душе других» [Фонвизин 1959, 2: 208]. Император должен жить, «утешая скорбных, услаждая жизнь несчастных» [Фонвизин 1959, 2: 210], отстаивать свободу и бороться с рабством, «ибо где токмо владыко и рабы, тамо нет общества» [Фонвизин 1959, 2: 211–212].
Марк Аврелий у Тома определяет свободу как «первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме их ничего не бояться», ибо «ни один человек не имеет нрава повелевать другим самовольно» [Фонвизин 1959, 2: 212]. Сам император, писал Тома, должен придерживаться законов и считать подчинение закону честью для себя, ибо «власть делать неправосудие есть слабость». По мысли Марка Аврелия, «образ государственного правления перемениться может, но права граждан всегда те же» [Фонвизин 1959, 2: 213].
Тома считает также, что Марк Аврелий стремился защитить собственность римских граждан. Эта политика предполагала борьбу с разбойниками, но при этом отказ от излишних налогов, так как поборы в казну представляли собой «некий род войны, где часто закон поставляем был против правосудия и государь против подданных» [Фонвизин 1959, 2: 214]. В то же время Марк ненавидел роскошь и считал необходимым облагать налогами богатых, чтобы не допустить ее распространения. Он считал спартанские жилища «блистательнее и величественнее златых палат, в коих тираны… жили» [Фонвизин 1959, 2: 216].
В отношении судов Марк принимал меры против взяточничества судей, а также против ложных доносов на обвиняемых. Он требовал, чтобы арестованным по уголовным делам сообщали о предъявляемых им обвинениях, и утверждал, что арестованные должны иметь право на надлежащую правовую защиту [Фонвизин 1959, 2: 217–218]. Марк рассматривал суды как места отправления правосудия, где император мог видеть «подробности людских несчастий» и таким образом приобрести знания, которые приблизят его к народу [Фонвизин 1959, 2: 219].
По убеждению Тома, император должен всегда помнить, что «природа создала существа в свободе и равенстве; настало тиранство и сотворило существа слабые и несчастные» [Фонвизин 1959, 2: 220]. Поэтому император должен прибегать к законам как к защите от тирании, но главным препятствием для нее всегда должен быть его личный пример [Фонвизин 1959, 2: 222].
Фонвизин, вероятно, перевел «Слово похвальное Марку Аврелию» Тома в качестве руководства для царевича Павла. Возможно, в этот перевод он также вложил завуалированный упрек в адрес Екатерины. Упор Тома на разум, добродетель и любовь к свободе в рамках закона, защита прав собственности и справедливое налогообложение, стремление к правовому государству – все это составляло политическую платформу благоустроенных государств по всей Европе. Характеристика Марка Аврелия как противника рабства приобрела особую актуальность в России после Пугачевского бунта: к концу 1770-х годов всем высшим слоям страны стало ясно, что принудительный труд чреват социальными волнениями и даже революцией. Если десятилетием раньше Фонвизину не хватило смелости публично выступить против крепостного права, то теперь, возможно, он решился выразить критику посредством перевода «Слова» Тома. Наиболее запоминающиеся фрагменты «Слова» – размышления о свободе и об опасностях тирании – в русском контексте были потенциально взрывоопасными, поскольку могли послужить знаменем в «борьбе двух дворов» – двора «добродетельного, свободолюбивого Павла» и официального двора «тиранической» Екатерины.
Такая интерпретация намерений Фонвизина при переводе «Слова» подтверждается рецензией, опубликованной в «Санкт-Петербургском вестнике» в 1778 году. В рецензии, подписанной инициалом «Ф», говорилось, что книга «будет всегдашним обличением слабому или не соответствующему пользе народа, а в то же время хвалою всякому премудрому и благотворительному правлению, в котором земные владетели вменяют себе за славу вещать, что они сотворены для своего народа»[28 - Известия о новых книгах // Санкт-Петербургский журнал, февраль 1778 года, часть 1, с. 56–59. Цит. по: [Макогоненко 1961: 172].]. По мнению Макогоненко, автором рецензии должен быть «кто-то очень близкий к Фонвизину», если не сам Фонвизин [Макогоненко 1961: 173–174].
В августе 1777 года Фонвизин посетил Францию с дипломатической миссией: ему было поручено содействовать проведению антибританской политики Панина, побуждая французское правительство поддержать американских колонистов в их восстании против Великобритании. Для выполнения поручения Фонвизину потребовались консультации с российским послом во Франции И. С. Барятинским относительно намерений французского правительства. Кроме того, Фонвизин должен был сделать все необходимое, чтобы продемонстрировать дружелюбие России по отношению к американским колонистам. После того как в марте 1778 года Великобритания объявила войну Франции, Фонвизин энергично отстаивал политику «вооруженного нейтралитета» Панина по отношению к французам и англичанам, благоприятствовавшую ходу восстания американских колонистов против Великобритании. Отдавая дань памяти Панину после его смерти в 1783 году, Фонвизин назвал политику вооруженного нейтралитета одним из самых «достопамятных дел» Панина [Фонвизин 1959, 2: 282]. Кстати, выполняя вторую часть своего задания по демонстрации дружественного отношения России к американцам, Фонвизин встретился с американским «послом» во Франции Бенджамином Франклином на собрании «Республики ученых» в июне 1778 года. В ходе встречи Фонвизин публично обменялся любезностями с Франклином, явив пример того, что позже стали называть культурной дипломатией.
Для наших целей наиболее значимым результатом визита Фонвизина во Францию является его переписка с семьей и с Паниным. Переписка состояла из восьми писем к родным (отцу, матери и сестре Феодосии Ивановне), в которых излагались подробности путешествия, а также впечатления от французского общества и культуры, и восьми писем к Панину, написанных в период с 22 ноября 1777 года по 18 сентября 1778 года и посвященных французскому обществу и культуре. Как и следовало ожидать, письма Фонвизина к семье написаны по-свойски, в то время как письма к Панину носят более официальный характер; впрочем, обе категории писем могли быть написаны с учетом возможной публикации[29 - В 1788 году Фонвизин дал объявление о плане издания пятитомного собрания сочинений, в которое должны были войти «разные письма» [Макогоненко 1959: 627–628].]. Копии писем из Франции Фонвизин, очевидно, распространял среди друзей. Однако в печати письма появились лишь в 1830 году, и даже тогда в публикации отсутствовало первое из писем к семье [Макогоненко 1959: 647].
Письма Фонвизина к семье дают основание предположить, что одной из «частных» целей его визита во Францию была оценка «уровня» французской культуры: была ли Франция «лучшей страной», чем Россия? Была ли она «более развитой» или «более просвещенной» цивилизацией? На эти вопросы Фонвизин ответил: «Нет». Более того, он, кажется, сразу же отшатнулся от французов. В письме к родным от 18 сентября 1777 года он жаловался на «мерзкую вонь» на городских улицах в районе крепости Ландау в Нижнем Эльзасе; с отвращением отмечал, что «о чистоте не имеют здесь нигде ниже понятия» [Фонвизин 1959, 2: 418]. Похожим образом он жаловался на Лион, добавляя, что «надлежит зажать нос, въезжая в Лион, точно так же как и во всякий французский город» [Фонвизин 1959, 2: 420]. Французские религиозные церемонии на улицах Страсбурга показались ему «целой комедией»: «С непривычки их церемония так смешна, что треснуть надобно [от смеха]» [Фонвизин 1959, 2: 418]. В той же мере его позабавила церковная процессия в Монпелье, где лакеи помогали облачаться перед мессой местному епископу: «Я покатился со смеху, увидя эту комедию» [Фонвизин 1959, 2: 425]. Наблюдая за заседаниями государственных чиновников в Лангедоке, он цинично заявлял: «Поистине сказать, les Еtats собираются здесь только что веселиться» [Фонвизин 1959, 2: 427–428]. Простых жителей Монпелье он называл «скотиноватыми», «праздными», «весьма грубыми», а домашнюю прислугу – «неучами» [Фонвизин 1959, 2: 428–429]. Грязное французское столовое белье вызывало у него отвращение. По его мнению, «нет такого глупого дела или глупого правила, которому бы француз тотчас не сказал резона, хотя и резон также сказывает преглупый» [Фонвизин 1959, 2: 430]: «Я думаю, нет в свете нации легковернее и безрассуднее» [Фонвизин 1959, 2: 433].
В семейной переписке Фонвизин откладывал окончательное суждение о французской культуре до посещения Парижа. Его первое впечатление о нем, зафиксированное в письме от 9 марта 1778 года, было таково: «Париж отнюдь не город; его поистине назвать до?лжно целым миром». Тем не менее, по его словам, в Париже «нет шагу, где б не находил я чего-нибудь совершенно хорошего, всегда, однако ж, возле совершенно дурного и варварского» [Фонвизин 1959, 2: 438–439]. Простые люди живут «в крайней бедности», добывая пропитание сомнительными средствами. На Пон-Нёф Фонвизин увидел шокирующее зрелище: католического священника, открыто сопровождавшего содержанку. Французский комический театр показался ему великолепным, но французских театралов он счел несдержанными до буйства. Он отметил, что обычай сопровождать спектакль громовыми аплодисментами, похоже, перекинулся и на публичные казни: палачу аплодировали за хорошо повешенного преступника [Фонвизин 1959, 2: 439–440]. «Не могу никак сообразить того, как нация, чувствительнейшая и человеколюбивая, может быть так близка к варварству», – писал он [Фонвизин 1959, 2: 440–441].
Самым язвительным презрением Фонвизин оделил французских «ученых людей», о которых писал: «Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер» [Фонвизин 1959, 2: 443]. Он признавал, что большинство из них верны королю и отечеству, но притом крайние эгоисты, враждебны ближним и неспособны к благодарности. В них он заметил два правила поведения: никогда не противоречить другим в лицо и лгать о своих истинных мыслях.
Русских, которые хвалили парижскую жизнь за увеселения, Фонвизин обвинял в обмане: он считал Париж таким же скучным, как провинциальный Углич [Фонвизин 1959, 2: 444–445]. Имея в виду непристойность, с которой парижские мужчины растрачивали свои богатства на содержанок, он утверждал, что Париж – это «город, не уступающий ни в чем Содому и Гомору» [Фонвизин 1959, 2: 446]. Казалось, он намекал, что французские интеллектуалы, за исключением Вольтера и, возможно, Руссо, столь же нравственно испорчены, как и сама Франция. К концу своего пребывания в Париже Фонвизин утверждал, что русские поклонники Франции обманывают сами себя. «По крайней мере не могут мне импозировать наши Jean de France… научился я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве. Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой» [Фонвизин 1959, 2: 449].
В письмах к Панину Фонвизин высказывал похожие соображения, но вместе с тем дополнил их новыми. Из Монпелье он писал, как легко и дешево можно нанять учителя по философии, юриспруденции или римскому праву; при этом он отмечал бессмысленность этих дисциплин в стране, где должности продаются тому, кто больше предложит, и иронизировал, что легкий доступ к образованию уживается с глубоким невежеством [Фонвизин 1959, 2: 459]. Он отмечал, что французские образованные классы, стремясь избежать суеверий, «почти все попали в другую крайность и заразились новою философиею. Редкого встречаю, в ком бы неприметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума». Его главным устремлением во Франции стало желание понять, каким образом из-за злоупотреблений и общей порчи нравов пришла в упадок мудрая система законов, совершенствовавшаяся веками. Он отмечал, что «первое право каждого француза ость вольность; но истинное настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою». Фонвизин утверждал, что «злоупотребления и развращение нравов… уже потрясли» основы французского правового порядка [Фонвизин 1959, 2: 461].
В своем письме Панину от 15/26 января 1778 года Фонвизин перечислил недостатки Лангедокского «земского суда» (Les Еtats). Он утверждал, что парижские делегаты «приезжали сюда делать то, что хотят, или, справедливее сказать, делать то, чем у двора на счет последних выслужиться можно», а бедные провинциалы «собраны были для формы, дабы соблюдена была в точности наружность земского суда» [Фонвизин 1959, 2: 461]. Французское духовенство, по его наблюдению, делает все возможное, чтобы «не поссориться с земным, если вступится за жителей и облегчит утесненное их состояние». Вследствие всего этого «по окончании сего земского суда провинция обыкновенно остается в добычу бессовестным людям, которые тем жесточе грабят, чем дороже им самим становится привилегия разорять своих сограждан» [Фонвизин 1959, 2: 461–462]. Фонвизин полагал, что готовность французской элиты эксплуатировать обездоленных была симптомом общего упадка религиозности и доверия между людьми: «Наилучшие законы не значат ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз – добрая вера. У нас ее немного, а здесь нет и головою… Словом, деньги суть первое божество здешней земли» [Фонвизин 1959, 2: 462].
Фонвизин заметил, что практически каждый образованный француз рефлекторно утверждает, «que le Fran?ais est nе libre»[30 - что француз рожден свободным (фр.).], но в ответ на возражения многие из этих «свободных» людей признают, что их вольность – пустое слово: «O monsieur, vous avez raison! Le Francais est еcrasе, le Fran?ais est esclave»[31 - О сударь, вы правы! Француз раздавлен, француз – раб (фр.).] [Фонвизин 1959, 2: 463]. Подобную самопротиворечивость Фонвизин объяснял тем, что французы – «легкомысленные и трусливые люди», привыкшие соглашаться с мнением собеседника лишь из вежливости. Но такая манера вести разговор «совершенно отвращает господ французов от всякого человеческого размышления». Таким образом, утверждал Фонвизин, французы «слова сплетают мастерски», но машинально, «не заботясь много, есть ли в них какой-нибудь смысл» [Фонвизин 1959, 2: 463]. Поэтому Фонвизин сетовал Панину, на то, что французов, – вежливых, пустых, противоречащих себе и неразумных – «вся Европа своими образцами почитает» [Фонвизин 1959, 2: 464]. Он предупреждал, что ничего хорошего из франкофильства не выйдет.
В письме из Парижа от 20/31 марта 1778 года Фонвизин сообщал Панину, что лучшим лекарством для молодых русских, привыкших жаловаться на свою страну, является посещение Франции: «Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь» [Фонвизин 1959, 2: 467]. В письме от 14/25 июня 1778 года Фонвизин высмеивал французское самообольщение о том, что все французы разумны и что Франция является маяком разума для человечества:
Видя, что разум везде редок и что в одной Франции имеет его всякий, примечал я весьма прилежно, нет ли какой разницы между разумом французским и разумом человеческим, ибо казалось мне, что весьма унизительно б было для человеческого рода, рожденного не во Франции, если б надобно было необходимо родиться французом, чтоб быть неминуемо умным человеком [Фонвизин 1959, 2: 472].
Фонвизин утверждал, что на практике французы под «разумом» понимают просто «остроту», а не здравый смысл [Фонвизин 1959, 2: 473]. Он отмечал, что французы поэтому считают худшим оскорблением назвать человека «ridicule» («смешным»), чем сказать, что у него злое сердце. Фонвизин сомневался, что французы заслужили свою репутацию хитрецов: «Кажется, что вся их прославляемая хитрость отнюдь не та, которая располагается и производится рассудком, а та, которая объемлется вдруг воображением и очень скоро наружу выходит» [Фонвизин 1959, 2: 474]. По его мнению, Париж «…пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее» [Фонвизин 1959, 2: 475]. О парижских ученых людях он мог сказать мало хорошего. За исключением Антуана Леонара Тома, «нашел я почти во всех других много высокомерия, лжи, корыстолюбия и подлейшей лести» [Фонвизин 1959, 2: 476].
В своем письме из Ахена от 18/29 сентября 1778 года Фонвизин откровенно писал: «Д’Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие» [Фонвизин 1959, 2: 481]. Философов Фонвизин описал как светских мыслителей, система которых «состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии». Однако, по его мнению, эти философы были скорее порочны, чем добродетельны: «Кто из них, отрицая бытие Божие, не сделал интереса единым божеством своим и не готов жертвовать ему всею своею моралью?» [Фонвизин 1959, 2: 482]. «Французское воспитание» Фонвизин счел фактически оксюмороном, поскольку во Франции «все юношество учится, а не воспитывается» [Фонвизин 1959, 2: 483].
Фонвизин считал, что многие пороки французской жизни – тирания, отсутствие правосудия, неэффективная экономика, взяточничество, продажа должностей, упадок воинского духа, наглость простых солдат, любовь к пустым церемониям, антисанитария, преступность – являются следствием отсутствия нравственного воспитания во Франции. По всем параметрам он предпочитал жизнь в России жизни во Франции. Самое поразительное – русских он счел более свободными, чем французов: «Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею во многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве» [Фонвизин 1959, 2: 485–486].
Оценивая культурную и интеллектуальную жизнь Франции, Фонвизин, по-видимому, не был до конца уверен в отношении двух самых известных философов – Вольтера и Руссо. Он был свидетелем того, как восторженно Вольтера принимала публика на театральном представлении его пьесы «Ирена» в марте 1778 года [Voltaire 1779][32 - Фонвизин посетил спектакль 19 марта 1778 года [Фонвизин 1959, 2: 441–442, 469–470].]. В письме к родным от 20 марта Фонвизин никак не комментирует это преклонение перед Вольтером. Однако в письме к Панину того же дня он едко заметил: «Почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился» [Фонвизин 1959, 2: 469]. Что касается Руссо, то Фонвизин сообщил две версии его смерти. В письме к родным в августе 1778 года Фонвизин повторил слух о том, что Руссо покончил жизнь самоубийством после того, как власти обнаружили рукопись его «Исповеди». Фонвизин сожалел о смерти Руссо, но признавал: «Твоя, однако ж, правда, что чуть ли он не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века. По крайней мере бескорыстие его было строжайшее» [Фонвизин 1959, 2: 452]. В письме к Панину в том же месяце Фонвизин утверждал, что Руссо, расстроенный тем, что «Исповедь» опубликовали без его разрешения, принял яд, примирился с женой Терезой и умер, глядя в окно на восходящее солнце, «говоря жене своей в превеликом исступлении, что он пронзается величеством Создателя, смотря на прекрасное зрелище природы» [Фонвизин 1959, 2: 478–479].
Письма Фонвизина из Франции 1777–1778 годов принадлежат к числу самых тонких по наблюдениям, тщательно написанных и впечатляющих памятников екатерининской эпохи. В них он заявляет о своем отказе видеть во Франции культурный образец для России, и отвергает французские нравы еще более решительно, чем его знаменитые преемники: Карамзин и Александр Герцен. Подобно Карамзину и Герцену, Фонвизин использовал французскую культуру как декорацию для утверждения русской гордости. Как и Герцен, Фонвизин обосновывал свою гордость странным утверждением, что угнетенные русские почему-то более «свободны», чем «порабощенные» французы, несмотря на отсутствие у русских свободы по законодательству. И Фонвизин, и Герцен считали французскую городскую жизнь отвратительной, подлой, исполненной нищеты и праздного богатства. Оба критиковали дух конформизма среди «образованной» публики: Фонвизин – за лживость и порочное мышление, Герцен – за то, что конформизм – это продукт этики «среднего пути», ведущего к посредственности.
Однако в отличие от антизападничества Герцена 1850-х годов, которое было непременным элементом его аграрного социализма, антизападничество Фонвизина было связано с его (полу) традиционной религиозностью. Большинство философов Фонвизин считал секулярными мыслителями, которые отреклись от Бога лишь для того, чтобы воздвигнуть себе новый идол – корысть. В своей алчности философы были едины с жаждущими денег французскими простолюдинами. Может быть, только Вольтер и Руссо избежали этого пагубного идолопоклонства, но Вольтер, возможно, вместо этого был готов основать секту собственного изобретения, а Руссо (по мнению Фонвизина) запятнал свою «честность» самоубийством, пусть даже «героическим». По письмам из Франции очевидно, что Фонвизин не одобрял ни невежественных священников, ни «суеверий», которые он наблюдал в Страсбурге и Монпелье во время публичных религиозных обрядов. Не ценил он и потустороннюю религиозность, которую наблюдал в Лангедоке. Его мировоззрение не предполагало полного отказа от просвещения: напротив, он находил компромисс или срединный путь между «рабством» суеверий и «высокомерием» просветительского секуляризма. Читая между строк, мы видим, что Фонвизин апеллирует как к вере в Бога, так и к универсальному разуму – к недемонстративной вере, основанной на поклонении Богу в подлинном сообществе верующих, связанных любовью, и к разуму, лишенному презрения к «непросвещенным». Его девизами были вера в Бога и искреннее доверие («добрая вера»).
Утверждение Фонвизина о том, что Россию следует предпочесть Франции и что в ней есть место подлинной свободе, не следует понимать как восхваление екатерининского правления. Его замечания о французской тирании, несправедливости и взяточничестве намекали и на хорошо известные особенности российской политической жизни. Обличение недостатков французской культуры не освобождало от критики русскую культуру, поскольку русские неразумно стремились подражать французскому образованию, а с ним усваивали и французские пороки. Его аргументы сводились к тому, что порочная культура Франции не должна служить образцом для России и что «Бог создал нас не хуже их людьми» [Фонвизин 1959, 2: 476]. За этими аргументами, безусловно, стояла неприкрытая национальная гордость, но не следует забывать о том, что Фонвизин испытывал неловкость, даже смущение от того, что многие русские интеллектуалы «низкопоклонничали» перед Западом.
Фонвизин, Панин и фундаментальные политические реформы
Фонвизинское «Рассуждение о непременных государственных законах» было написано, вероятно, в 1782–1783 годах, в последние месяцы жизни Никиты Панина, хотя о необходимости реформирования российского государства Фонвизин начал размышлять, по-видимому, намного раньше. Насколько нам известно, Фонвизин составил «Рассуждение» по указанию Панина как введение к другому документу – проекту основных законов Российской империи. Панин правил «Рассуждение» Фонвизина и, вероятно, планировал взять на себя всю ответственность за его авторство. Оба документа – «Рассуждение» и проект основных законов – Панин намеревался передать Павлу по восшествии его на престол [Пигарев 1954: 134–137]. К сожалению, Панин умер, не успев завершить работу над конституционным проектом – а если он ее и завершил, то проект не сохранился. Однако он успел изложить в общих чертах его содержание и вверить его своему брату Петру для последующей передачи Павлу [Шумигорский 1907: п1–13].
И «Рассуждение», и конституционный проект были окутаны тайной. Хотя Панин сообщил Павлу, что документы находятся в стадии подготовки, он не передал их копии царевичу. Панин наверняка опасался, что случайное раскрытие документов приведет к аресту его самого, его брата Петра и Фонвизина по обвинению в заговоре против российского престола. Если бы документы попали в руки Екатерине, они наверняка послужили бы предлогом для масштабных арестов в Коллегии иностранных дел и в армии. Если бы Екатерина узнала об этих бумагах, она, вероятно, приказала бы арестовать Павла как соучастника заговора, поскольку само владение такими документами могло быть истолковано как неопровержимое доказательство его оппозиционности. Наличие опасений по поводу массовых арестов подтверждается письмом Петра Панина Павлу от октября 1784 года в котором Панин уклончиво заметил:
Известны по несчастию ужасные примеры в Отечестве нашем над целыми родами сынов его, за одни только и разсуждении противу деспотизма, распространяющагося из всех уже Божеских и естественных законовъ; сего ради, а особливо что и собственная Вашего Величества безопасность состояла еще в подвластном положены, не дерзнул я осмелиться поднести Вам сочинены брата моего противу всемогущества [Екатерины], господствующаго над всякими законами и над справедливостию [Шумигорский 1907: п2–3].
Петр Панин не уточнил, какие жертвы царского деспотизма он имел в виду. Возможно, он подразумевал бояр, арестованных Иваном IV во время опричнины; либо волну арестов после разгрома стрельцов в начале царствования Петра; либо тех, кто был наказан в связи с «заговором» Алексея Петровича против Петра; или даже тех, кто был арестован и сослан за политическую оппозицию в период между 1725 годом и окончанием дворцового заговора в 1730 году; не исключено также, что речь идет о жертвах бироновщины при Анне Иоанновне. Учитывая хорошо известное восхищение Панина Петром I, он вряд ли мог считать правление Петра примером «царского деспотизма», поэтому более вероятно, что прецедентом «тирании», на который ссылался Петр Панин, было либо правление Ивана IV, либо владычество Бирона в 1730-х годах.
«Рассуждение» Фонвизина начиналось с утверждения, что «верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных». По своей природе эта власть неограниченна, но именно поэтому
…просвещенный ясностию сея истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть не совершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла.
Исходя из предпосылки, что неограниченная политическая власть держится только на добродетели, Фонвизин утверждал, что правитель должен быть подобием Бога, который «потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага», следуя «правилам вечныя истины», которые Он сам не может нарушить [Фонвизин 1959, 2: 254–255]. Если земной правитель хочет действовать добродетельно, как «подобие Бога», он должен следовать основным законам, иначе его государство не выживет.
Фонвизин утверждал, что всякое правительство, не имеющее основного закона, «непрочно». «Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей». При правлении по произволу не правитель приспосабливает свой характер к законам, а законы изменяются сообразно характеру правителя, утверждал Фонвизин. Таким образом, при произволе то, что законно в один день, становится преступлением в другой. При режиме, основанном на капризе правителя, подданный может повиноваться из страха, но никогда не подчинится из морального долга. Такую покорность Фонвизин называл «рабским подобострастием» перед «безумным велением сильного» [Фонвизин 1959, 2: 255].
При произволе, утверждал Фонвизин, «подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу». Фонвизин настаивал на эпитете «недостойный», поскольку статус фаворита никогда не присваивался за заслуги перед отечеством, а всегда являлся результатом его ловких интриг.
Однако с укреплением влияния фаворита злоупотребление властью неизбежно приобретает более широкие масштабы, «и уже престает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым… Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен». Пороки, свойственные фавориту – гордость, наглость, коварство, алчность, сластолюбие, бесстыдство, лень – становятся всеобщими: «все сии пороки разливаются и заражают двор, город и, наконец, государство» [Фонвизин 1959, 2: 256]. При таком режиме, писал Фонвизин, подданные относятся друг к другу бесчеловечно, пропадает желание служить в армии, продвижение по службе происходит не по заслугам, а благодаря покровительству и протекции. Судьи при деспотии игнорируют принципы правосудия, каждый стремится обогатиться, ограбив другого. Даже если сам правитель перестанет применять власть, ничто не сможет остановить это «стремление порока», пока у власти остается фаворит, отмечает Фонвизин. В итоге законы превращаются в пустые фразы, народ угнетен, дворянство унижено. Короче говоря, как утверждает Фонвизин, произвол власти неизбежно переходит в тиранию, и в конечном счете государство возвращается в состояние анархии [Фонвизин 1959, 2: 257–258].
Фонвизинская разгромная критика фаворитизма была, конечно, прямой атакой на фаворитов Екатерины Григория Орлова и Григория Потемкина. Фонвизин утверждал, что власть, от которой проистекают пороки и тирания, «есть власть не от Бога, но от людей, коих несчастия времян попустили, уступая силе, унизить человеческое свое достоинство» [Фонвизин 1959, 2: 259]. Поскольку такой режим не имеет нравственной легитимности, народ может воспользоваться правом совершить революцию против неправедной власти. Фонвизин писал: «В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает». По мысли Фонвизина, человеческие сообщества «основаны на взаимных добровольных обязательствах» и разрушаются, как только их перестают соблюдать. Таким образом, государство держится на обязательствах между правителем и подданными. Правитель соглашается добросовестно исполнять свои обязанности, а народ – быть управляемым; кроме того, правитель должен понимать, «что он установлен для государства и что собственное его благо от счастия его подданных долженствует быть неразлучно» [Фонвизин 1959, 2: 259].
По мнению Фонвизина, взаимные обязательства правителя и подданных не предполагают, что государь должен уступать народным страстям. Фонвизин уподоблял государя «душе» общества, а простой народ – «политическому телу», которое следует указаниям «души». Он считал, что пока государь руководствуется голосом Божьим и «законами естественного правосудия», он управляет справедливо; если же правитель перестает следовать божественным и естественным законам, то политическая власть становится нелигитимной [Фонвизин 1959, 2: 260]. Таким образом, залогом политической стабильности в государстве является подчинение государя закону и подражание божественным добродетелям. Две незаменимые добродетели хорошего правителя, по мысли Фонвизина, – это «правота» и «кротость».
Под «правотой» Фонвизин понимал как соблюдение закона, так и справедливое отношение к гражданам: «Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий, все на одной чреде стоят – добрый государь добр для всех» [Фонвизин 1959, 2: 261]. Добрый государь понимает, что «он повинен… не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого не сделал… ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям и что, с другой стороны, наистрожайшее правосудие над слабостьми людскими есть наивеличайшая человечеству обида». Поэтому праведность требует от правителя сочетания справедливости и милосердия, как это всегда делает Бог [Фонвизин 1959, 2: 261–262].
«Кротость», по Фонвизину – это привычка ума, которая «не допускает… несчастной и нелепой мысли, будто Бог создал миллионы людей для ста человек». Кроткий правитель воспринимает себя как служителя государства. Единственное преимущество правителя перед другими – возможность сделать больше добра, чем всякий другой. Кроткий государь боится порока и отвращается от права сильного. Он понимает, что подлинное право основано на разуме, а не на силе, что повиновение должно происходить от добровольного выбора, а не принуждения: «Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе действования. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры» [Фонвизин 1959, 2: 263]. Иными словами, кроткий государь у Фонвизина никогда не ставит себя выше других в политическом сообществе и не забывает, что выживание государства зависит от консенсуса, а не от насилия.
Как считал Фонвизин, в хорошо управляемой стране и государь, и подданные в безопасности. Политическую свободу он определял как свободу делать то, что человек хочет в отсутствие внешнего принуждения. Свобода действий предполагает распоряжение собственностью, то есть возможность пользоваться имуществом и талантами беспрепятственно. Фонвизин утверждал, «что по сему истолкованию политической вольности видна неразрывная связь ее с правом собственности». Но тогда политическая свобода не может существовать при деспотизме, когда люди становятся рабами правителя. Не может быть политической свободы и там, где один человек пользуется полной властью над другими, как при крепостном праве [Фонвизин 1959, 2: 264].
Фонвизин вовсе не считал, что политическую свободу можно мгновенно установить там, где сейчас ее нет. По его мнению, «главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением». Эта «наука» требует постепенного воспитания народа, пока добродетель не станет «врезана в сердца». Фонвизин считал, что воспитание народа – это в значительной степени процесс «сверху вниз», который начинается с правителя: «…одно благонравие государя образует благонравие народа» [Фонвизин 1959, 2: 266].
«Рассуждение» Фонвизина представляет собой непростой компромисс между христианским традиционализмом и западноевропейской концепцией общественного договора. С одной стороны, Фонвизин требовал, чтобы государь подражал Богу, повинуясь природным законам, поступая праведно, уважая свободу личности и человеческое достоинство граждан. По мысли Фонвизина, Бог управляет вселенной через Свою благость, которая придает творению некую благородную упорядоченность. Так и добрый правитель управляет государством посредством основных законов, гарантирующих справедливость, равенство и свободу. Если бы Бог нарушал естественные законы, Он вел бы себя подобно деспоту; так же и правитель, нарушающий основные законы, порождает тиранию. Таким образом, как мы видим, политическая мысль Фонвизина пришла к явно религиозной модели правления. С другой стороны, Фонвизин серьезно относился к идее о том, что власть должна опираться на согласие управляемых, ибо государство существует для того, чтобы отстаивать их интересы. Нарушая этот договор, государство лишается поддержки управляемых, поэтому при тираническом режиме граждане имеют «право» на восстановление своей свободы. О праве на революцию Фонвизин мыслил в основном в светском ключе, поскольку деспотическое правительство получает свою власть «не от Бога, а от народа». Однако право на революцию он рассматривал и как восстановление праведного правления, то есть как возвращение к христианскому, богоугодному государству. Идея права на революцию в его теории соединяет в себе христианский традиционализм и концепцию общественного договора, и, надо сказать, довольно несуразно, поскольку Фонвизин считал, что праведное правление опирается на разум и народное согласие, а не на революционное насилие.
Поэтому добрый государь у Фонвизина праведен и кроток. Легко увидеть, каким образом из божественных свойств можно вывести праведность (следование закону, беспристрастие, правосудие, милосердие). Кроме того, религиозные ценности, заложенные в его понятии праведности, легко перевести на светский язык. С другой стороны, Фонвизин трактовал кротость как сознательную самоидентификацию правителя с остальным человечеством. Это, казалось бы, превращает кротость в светскую добродетель, поскольку правителю не обязательно быть религиозным, чтобы идентифицировать себя как одного из многих членов политического сообщества. Конечно, Фонвизин мог считать кротость одной из характеристик Иисуса, а значит, и свойством Бога, но если это так, то в «Рассуждении» он не указывает на эту связь прямо.
Фонвизинская идея политической свободы была, по сути, тем, что Исайя Берлин называл «негативной свободой», свободой от внешнего принуждения. Фонвизин считал, что человек должен обладать личной автономией – пространством или областью, в пределах которой он мог бы свободно распоряжаться своей личностью и имуществом без вмешательства других. Из этого следовало, что, поскольку члены политического сообщества должны уважать свободу друг друга, отказываясь от принуждения, то в деятельности политического сообщества нужно участвовать добровольно или не участвовать вовсе. Ожидая, что в хорошо организованном государстве граждане будут с удовольствием участвовать в общественной деятельности и вести себя при этом добродетельно, поскольку это хорошо и разумно, Фонвизин включил в свою политическую теорию элемент позитивной свободы. Иными словами, граждане должны усвоить модель добродетели и благочестия, которую демонстрирует правитель, даже если они не вполне понимают, что праведный государь действует в интересах общества. Более того, представления граждан о разумном и хорошем, очевидно, не могут выходить за рамки этой модели. Большим недостатком политической теории Фонвизина является механическая связь между благочестивым правителем и политической добродетелью. Он исходил из того, что добрый пример праведного государя повлияет на поведение масс. Но что, если такой метод нравственного воспитания не сработает так, как предполагалось? Что, если добрый пример правителя не будет способствовать правильному нравственному воспитанию граждан? В «Рассуждении» Фонвизина даже благочестивый правитель не может прибегнуть к принуждению для «перевоспитания» нерадивых подданных. Более того, Фонвизин не предусмотрел разделения властей для обуздания худших порывов человечества.
«Рассуждение» Фонвизина было введением или «прологом» к проекту основного закона, который готовился под руководством Панина. Проект дошел до нас во фрагментарном виде, в виде списка заголовков статей, в которых были указания на содержание, но не реальные формулировки. Этот «план» конституционного проекта был опубликован Е. С. Шумигорским в 1907 году в качестве приложения к его биографии императора Павла [Шумигорский 1907: п4–13]. Из плана видно, что Панин проектировал монархию, в которой главным местом обсуждения важнейших законов был бы государственный совет. Российская судебная система подлежала реорганизации, которая гарантировала бы обвиняемым право на справедливый и открытый суд. Чтобы решить щепетильную проблему «оскорбления величества», Панин предложил дать четкое определение преступлений против монарха, что должно было ограничить произвол при выдвижении обвинений против политических диссидентов. Обеспечение правопорядка предлагалось возложить не на монарха, а на надзорный орган – Сенат, который должен был гарантировать соблюдение основного закона. Панин предлагал защитить имущественные права россиян и утвердить право существующих религиозных общин на вероисповедание. Он также призывал издать закон, определяющий порядок престолонаследия. В напряженном политическом контексте начала 1780-х годов, когда Павел был глубоко возмущен тем, что вместо него правит Екатерина, этот аспект основного закона, был, пожалуй, самым чувствительным.
Дэвид Рэнсел справедливо утверждает, что составленный Паниным в 1783 году конституционный проект, по крайней мере в части, касающейся законодательного процесса, «во всех существенных деталях повторял проект Императорского совета 1762 года» [Ransel 1975: 273–274][33 - Я следовал сводному изложению Рэнселом плана Панина, опубликованного Шумигорским, но с некоторыми правками.]. Рэнсел также верно отметил, что Панин склонялся к разделению судебной и исполнительной властей и предполагал обеспечить защиту основных законов даже от изменений, вносимых монархом [Ransel 1975: 274]. Но кроме того, проект основных законов 1783 года отражал значительную эволюцию взглядов Панина в сторону защиты прав личности и создания правового государства. В этом проекте, в отличие от проекта Императорского совета 1762 года, Панин настаивал на свободе вероисповедания, ограниченной свободе слова, свободе собственности, справедливом и открытом суде. Положение проекта 1783 года о том, что порядок престолонаследия должен определяться законом, было одновременно и признаком правового мышления, и шагом к верховенству закона. Хотя проект 1783 года указывал на необходимость разделения властей, четкого разделения государственных полномочий он не устанавливал.
Более четкое представление о проекте Панина появилось в 1974 году, когда М. М. Сафонов опубликовал две записки великого князя Павла, в которых кратко излагались некоторые аспекты плана Панина. Первая записка под названием «Рассуждения вечера 28 марта 1783» представляла собой протокол беседы Павла с Никитой Паниным за два дня до смерти последнего [Сафонов 1974: 261–280]. В ней Панин говорил, что
…согласовать необходимо нужную монархическую екзекутивную власть по обширности государства с преимуществом той вольности, которая нужна каждому состоянию для предохранения себя от деспотизма или самаго государя или частного чего-либо. Сие все полагается уже вследствие установления и учреждения порядка наследства, без котораго ничего быть не может; которой и есть закон фундаментальной.
По всей видимости, Панин и Павел согласились между собой, что введение личной свободы в России – это долгосрочная цель, которой нельзя достигнуть быстро. В ближайшей перспективе они обещали «стараться помочь и отвратить главнейшия неудобства. Поможем сохранению свободы состояния каждаго, заключая оную в должныя границы, и отвратим противное сему, когда деспотизм, поглащая все, истребляет наконец и деспота самаго» [Сафонов 1974: 266]. Панин утверждал:
Должны различать власть законодательную и власть, законы хранящую и их исполняющую. Уложенная может быть в руках государя, но с согласия государства, а не инако без чего обратится в деспотизм. Законы хранящая должна быть в руках всей нации, а исполняющая в руках под государем, предопределенным управлять государством [Сафонов 1974: 267–268].
Однако, согласно протоколу, Панин решил отложить разделение властей на неопределенное будущее. До той поры он предложил ввести «свободный выбор членов собрания таковой власти [хранящей законы]», то есть избрание сенаторов. Он также предлагал избирать наместников провинций, которые должны были обеспечивать исполнение законов в целом по стране, но этим избранникам предстояло для вступления в должность «конфирмоваться государем». План Панина предполагал разделение Сената на гражданский и уголовный департаменты, а также его размещение в обеих столицах (Москве и Петербурге). Каждое наместничество должно было направлять в Сенат по одному делегату от каждого из шести классов выборщиков.
Возникающие юридические казусы предполагалось обсуждать на пленарных заседаниях Сената, на которых должны были выступать избранные делегаты от того наместничества, в котором произошло обсуждаемое событие.
Панин предлагал назначить «канцлера правосудия, министра государева», задачей которого было «соглашать объявлением воли законов и намерений государя как разныя мнения, так и направлять умы к известной цели» [Сафонов 1974: 267]. Генерал-прокурор Сената должен быть подчинен канцлеру правосудия [Сафонов 1974: 268].
Панин видел Сенат в основном как судебный орган: по его выражению, это был «хранитель законов». Он также рассматривал его как исполнительный орган, но не очень точно определял исполнительные полномочия Сената. Однако в основном исполнительная власть, по замыслу Панина, должна была принадлежать специализированным органам, занимающимся политикой, финансами, торговлей, армией и флотом, казной. Теоретически надзор за этими органами должен был осуществлять государь, но Панин признавал, что «сему обнять ни по физической, ни по моральной возможности невозможно, а еще меньше, когда взойти в исчисление страстей и слабостей человеческих» [Сафонов 1974: 268].
Вторая записка Павла оставлена без названия. Вероятно, Павел написал ее после первой, либо как дальнейшее развитие предложений Панина, либо как выражение собственных взглядов. Сафонов указывает, что Павел предполагал создать министерскую систему с восемью департаментами или министерствами (юстиции, императорского двора, финансов, бухгалтерии, коммерции, армии, флота и внешних сношений). Министры или главы департаментов должны были иметь место для собраний, «в котором могли сноситься по делам… А сие место, в котором им всем собираться, должно быть государев совет». На основании этого лаконичного замечания Сафонов предположил, что Павел предлагает учредить государственный совет как законодательный орган, подобный Императорскому совету из Панинского проекта 1762 года [Сафонов 1974: 268–269].
Согласно второй записке, Сенат предстояло учредить в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Глухове. Каждый из четырех сенатов предполагалось разделить на два департамента (уголовный и апелляционный), состоящих из семи членов, которые должны были избираться из числа дворян, подведомственных сенату губерний. На каждую вакантную должность следовало избрать трех кандидатов, уведомив об избрании Петербургский сенат. Петербургский сенат, как орган высшей юрисдикции, должен был передать список кандидатов государю, который утверждал одну из кандидатур на должность сенатора. Четыре местных сената решали вопросы, возникающие в их юрисдикции. Если вопрос невозможно было решить в Москве, Казани или Глухове, его направляли в Петербургский сенат. Если же и Петербургский сенат оказывался не в состоянии решить вопрос, его представляли на рассмотрение государя через канцлера правосудия.
По всей видимости, Павел рассматривал будущий Сенат в основном как судебный орган, рассматривающий уголовные дела и судебные апелляции. Однако, как отмечает Сафонов, Павел также планировал наделить Сенат правом «представлять государю вышеозначенным порядком о учреждении, поправлении и отмене и по другим частям, касающимся безпосредственно до правительства или до народа и пр.: как то по департаментам камерному, финанц, денежному, щетному, комерц и военным обеим (касательно до зборов для их и до рекрутского набора)», за исключением лишь внешней политики [Сафонов 1974: 269–270]. Сафонов утверждал, что павловский проект Сената с его квазизаконодательными полномочиями «воплотил высказанную в “Разсуждениях вечера 28 марта 1783” панинскую мысль, что законодательная власть “может быть в руках государя, но с согласия государства, а не инако, без чего обратится в деспотизм”».
Трудно сказать, совпадали ли две записки Павла с предложенными Паниным основными законами во всех важных деталях, но есть веские основания предполагать, что они в целом соответствовали ходу мыслей Панина. В своем наброске плана основных законов Панин склонялся в сторону разделения властей. В записках Павла излагались конкретные шаги по определению полномочий Сената и нового государственного совета. В проекте Императорского совета 1762 года Панин планировал совет как законодательный орган; в записках Павла 1783 года совет представал как место обсуждения текущих политических проблем, а значит, и место выработки новых законов. В 1762 и 1783 годах, проектируя основные законы, Панин стремился реорганизовать Сенат, превратив его главным образом в судебный орган. В его плане 1783 года также предполагалось, что Сенат будет нести законодательную функцию, о чем говорится также во второй записке Павла. К этим существенным моментам сходства между замыслами Панина и записками Павла можно добавить и косвенные свидетельства. Судя по всему, Панин был доволен результатом своего разговора с Павлом, состоявшегося вечером 28 марта. Сам Павел отмечает «необыкновенное оживление и веселость» Панина в тот вечер[34 - См. письмо Павла Н. И. Салтыкову от 5 апреля 1783 года в [Свиньин 1818: 112]; цит. по: [Сафонов 1974: 265].]. Спустя многие годы декабрист М. А. Фонвизин сообщал со слов своего отца Александра Ивановича (брата Дениса Ивановича), что Павел «…согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие» [Фонвизин 1982: 128].
Свидетельства М. И. Фонвизина часто не принимались во внимание, поскольку он относил составление проекта основных законов к 1773–1774 годам и трактовал «конституционный» документ как основу планировавшегося переворота, направленного на устранение Екатерины с престола. Тем не менее описание М. И. Фонвизиным панинской «конституции» в целом соответствовало плану, который Панин и Павел обсуждали в марте 1783 года. По словам М. И. Фонвизина, Панину
…хотелось ограничить самовластие твердыми аристократическими институциями. С этой целью Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении верховного Сената, которого часть несменяемых членов (inamovibles) назначалась бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод также бы входил в состав общего собрания Сената. Под ним в иерархической преемственности были бы дворянские собрания губернские или областные и уездные, которым предоставлялось право совещаться об общественных интересах и местных нуждах, представлять о них Сенату и предлагать ему новые законы (avoir l’initiative des lois).
Согласно этому плану, в изложении М. И. Фонвизина,
…выбор как сенаторов, так и всех чиновников местных администраций производился бы в этих же собраниях. Сенат был бы облечен полною законодательною властью, а императорам оставалась бы власть исполнительная с правом утверждать Сенатом обсужденные и принятые законы и обнародовать их. В конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан Д. И. Фон-Визиным под руководством графа Панина.
Михаил Фонвизин отмечает, что читал список с предисловия к этому документу, написанного его дядей Денисом Фонвизиным, и приводит первую строку: «Верховная власть вверяется государю для единаго блага его подданных» [Фонвизин 1982: 127–128]. Михаил Фонвизин также утверждает, что копия проекта Панина хранилась у П. И. Фонвизина. Этот документ, переданный Павлу Ивановичу Денисом Фонвизиным, якобы был сожжен в 1792 году во время инициированного Екатериной расследования в отношении масонов и Николая Новикова [Фонвизин 1982: 129–130]. Михаил Фонвизин назвал своего дядю Дениса «редактором» конституционного акта [Фонвизин 1982: 128].
Таким образом, на основании косвенных свидетельств из мемуаров М. И. Фонвизина можно предположить, что в проекте основных законов Панина предлагались следующие изменения: усиливалась роль Сената в обсуждении законов; устанавливался выборный характер Сената с участием в выборах провинциального дворянства; самодержец переставал быть единственным источником российских законов и становился последней инстанцией контроля за их составлением и субъектом, несущим окончательную ответственность за их обнародование; создавался государственный совет, состоящий из глав министерств или департаментов. Поскольку Михаил Фонвизин мог узнать об этих особенностях проекта 1783 года только от своих родственников, то есть от отца Александра или дяди Павла, либо из написанного Денисом Фонвизиным пролога к проекту Панина, у нас есть еще одно веское основание считать, что в версии основных законов, зафиксированной в двух записках Павла 1783 года, отразились реальные представления Панина и Фонвизина[35 - Сафонов пришел к выводу, что проект Панина – Фонвизина и записки Павла «отличаются только в деталях» [Сафонов 1974: 271].].
Как считает Сафонов, Денис Фонвизин сделал копии не только своего предисловия к плану основных законов Панина 1783 года, но и текста самих основных законов, а также их краткого изложения. После смерти Никиты Панина в 1783 году Фонвизин передал эти три документа брату Никиты, Петру Панину, чтобы тот вручил их царевичу Павлу. Однако Петр Панин решил передать Павлу только предисловие и краткое изложение, и то только после своей смерти. Петр Панин не решился вручить Павлу сам текст основных законов, опасаясь, что обнаружение этого текста может поставить под удар весь род Паниных. По мнению Сафонова, Петр Панин сознательно обманывал Павла, держа царевича в неведении относительно существования полного текста основных законов. Петр Панин, по-видимому, испытывал сомнения по поводу необходимости знакомить Павла даже с предисловием и кратким изложением законов, назвав некоторые их фрагменты «не совсем пристойными» [Сафонов 1974: 279–280; Шумигорский 1907: п28].
Сафонов не поднимает очевидного вопроса: почему Петр Панин не решался послать Павлу текст основных законов, который Павел уже одобрил в разговоре с Никитой Паниным 28 марта 1783 года? Здесь следует учитывать два фактора. Во-первых, у Петра Панина были иные отношения с Павлом, чем у Никиты Панина; более того, Петр Панин не доверял наследнику. Во-вторых, смерть Никиты Панина изменила политическую ситуацию, убрав со сцены самого сильного сторонника Павла и ослабив тем самым всю его партию. Таким образом, Петр Панин после смерти брата пришел к выводу, что политическая обстановка не располагает к обсуждению фундаментальных перемен. Можно посмотреть на этот вопрос и другой стороны: Петр Панин, вероятно, догадывался, что согласие наследника на программу Никиты Панина, будучи эмоциональной реакцией Павла на «прощальную» беседу с ним в ночь на 28 марта, нельзя счесть надежным основанием для реализации «подрывного», проконституционного плана.
Обратимся от рассмотрения противоречивой документальной истории предлагаемых основных законов к двум смежным вопросам. Во-первых, каков был вклад Дениса Фонвизина в написание проекта? Во-вторых, каков был вклад этого проекта в российскую политическую мысль?
Известно, что Фонвизин был «редактором» проекта, то есть написал его различные элементы под руководством Никиты Панина. К 1783 году Фонвизин был хорошо известен в русском литературном мире благодаря «Бригадиру» и переводным работам, но не обладал тем общественным престижем, который мог бы поддержать его в борьбе с Екатериной. Кроме того, Фонвизин, несмотря на свою деятельность при дворе и секретарскую службу у Панина, не обладал таким же, как у Панина, личным опытом, чтобы обосновать изменения в Сенате и структуре правительства. С другой стороны, Панин служил послом еще до наступления эпохи Екатерины и был ведущей политической фигурой на протяжении всего ее царствования. К началу 1760-х годов сформировалась его политическая программа: борьба с фаворитизмом, создание механизма обсуждения российских законов государственными советниками, прояснение полномочий Сената и повышение его авторитета, сокращение объема практических задач монарха. Эта программа оставалась неизменной и в 1783 году, хотя в качестве места обсуждения политических вопросов Панин теперь стал предпочитать Сенат Императорскому совету. Таким образом, если Панин и Фонвизин действительно работали вместе над разработкой проекта основных законов, то Панин был старшим партнером или «начальником», а Фонвизин – младшим партнером или «помощником».
Однако Фонвизин мог внести свой вклад в разработку предложения 1783 года тремя способами. Во-первых, он, вероятно, убедил Панина мыслить скорее в терминах политической свободы, чем институциональных преобразований. Как мы уже отмечали, в своих письмах к Панину из Франции 1777–1778 годов Фонвизин сопоставляет наличие законодательных политических свобод французов и отсутствие таковых в России. Он понимал, что русские де-факто пользуются большей свободой, чем французы, но логический вывод, который Панин, вероятно, сделал из писем Фонвизина, состоит в том, что в России следует правовым порядком гарантировать существующие свободы и даже расширить их. Отметим также, что проект основных законов 1783 года был задуман как составная часть долгосрочной программы политических реформ. В краткосрочной перспективе существующие вольности были бы обеспечены защитой Сената, избираемого из дворян, и усилиями по ограничению деспотизма, что Михаил Фонвизин впоследствии назвал «твердыми аристократическими институциями». Но план предусматривал также постепенную отмену крепостного права. Освобождение крестьян логически вытекало из высказанного Фонвизиным в «Рассуждении» тезиса о том, что хорошее управление несовместимо с рабством. Как считал М. Фонвизин, освобождение крестьян было одной из прямых целей конституционного проекта [Фонвизин 1982: 127–128]. Таким образом, Денис Фонвизин, вероятно, склонял Панина к тому, чтобы создать долгосрочный план по превращению России в страну, где политическими правами могли бы пользоваться не только дворяне, но и представители других социальных сословий, возможно, даже освобожденное крестьянство. Поскольку в записках Павла не упоминается отмена крепостного права, очевидно, что она была в краткосрочной перспективе политической задачей Фонвизина, а не Панина.
Во-вторых, Фонвизин, вероятно, отвечал за религиозную составляющую предисловия к конституционному проекту. Как мы видели при анализе панинского проекта Императорского совета 1762 года, Панин называл императрицу исполнительницей воли Божией, но не пытался объяснить благое правление подражанием божественным добродетелям. Но этот вопрос интересовал Фонвизина, когда он переводил «Иосифа» Битобе, «Слово похвальное Марку Аврелию» Антуана Леонара Тома и другие произведения. Эта заинтересованность проистекала из его морализма, уходящего корнями в «Басни» Хольберга. Как мы видим, концепция «просвещения» Фонвизина представляла собой гибрид религиозных и светских побуждений. Именно такое сочетание мы и наблюдаем в «Рассуждении».
В-третьих, Фонвизин, вероятно, настаивал на том, чтобы в обоснование конституционного проекта Панин включил теорию общественного договора. Конечно, Панин одобрял захват власти Екатериной в 1762 году и считал, что во внутренних делах России сила имеет большое значение: его брат Петр сыграл большую роль в подавлении Пугачевского бунта. Однако нет никаких свидетельств в пользу того, что Никита Панин, по крайней мере в 1760-е годы, придерживался теории общественного договора по Локку или Руссо. Как и Екатерина, Панин черпал вдохновение в политических теориях Монтескьё и немецких камералистов. Он восхищался хорошо устроенными государствами, в которых вольности дворянства уравновешивали полномочия монарха, а государственные функции были четко разграничены. Фонвизин, со своей стороны, тяготел к Руссо, о чем свидетельствуют его письма из Франции 1777–1778 годов. Мы не знаем, читал ли Фонвизин «Общественный договор» Руссо, но, безусловно, он читал другие его произведения. Томас Барран показал, что автобиографический фрагмент Фонвизина 1778 года, «Чистосердечное признание», опирается на «Исповедь» Руссо и на его же «Исповедание веры савойского викария». Барран также предположил, что «Недоросль» (который мы проанализируем ниже) испытал влияние пятой книги «Эмиля» Руссо. Однако Барран также утверждает, что в своем обосновании права на сопротивление неправедному правителю Фонвизин в «Рассуждении» не следует логике «Общественного договора» Руссо, поскольку, по мысли Руссо, народ никогда не отдает суверенитет государю и не может допустить слепого «подчинения» правительству. Наконец, Барран отметил, что Руссо утвердил Фонвизина в мнении о том, что гражданин вправе критиковать деспотическое правительство [Barran 2002: 110–119]. На мой взгляд, значение Руссо для Фонвизина заключалось в том, что он подчеркивал центральную роль народа в санкционировании политического устройства, то есть самого существования государства. Фонвизин пошел дальше Руссо, отвергнув принуждение или «силу» как политическую стратегию, за исключением случаев, когда народ управляется неправедным государем. Фонвизин был, безусловно, более радикален, чем Панин, который в целом более сдержанно относился к значению общественного в политике и который до 1783 года не решился бы поддержать право народа на свержение деспотического режима.
Для конституционного проекта Панина – Фонвизина была характерна серьезная путаница в отношении разделения властей в будущем правительстве, – в частности наделение Сената некоторыми законодательными полномочиями наряду с судебными. Однако такое смешение было типичным для правовой теории XVIII века, особенно у мыслителей, опиравшихся на Монтескьё, которые считали, что суды несут «исполнительную функцию» по претворению законов в жизнь. В других аспектах это смешение могло проистекать из российских условий или политических обычаев: например, Павел счел, что проект Панина предполагает сохранение исполнительной и законодательной власти «в руках государя», хотя исполнительные полномочия государя Панин частично передал реорганизованным правительственным департаментам, а его законодательные функции – государственному совету и Сенату. Возможно, и Павел, и Панин рассматривали эту роль императора как временно необходимую особенность системы, которая может измениться лишь через десятилетия, но, скорее всего, ни тот ни другой не могли представить себе государство без монарха-законодателя во главе. Более того, и Панин, и другие «царедворцы» Павла призывали молодого цесаревича подражать Петру Великому [Ransel 1975: 282–283]. Фонвизин восхищался Паниным отчасти потому, что Панин брал пример с «прежних» соратников Петра [Ransel 1975: 269–270]. Стремление панинской группы «вернуться на пути, заповеданные Петром» предвосхищало понятное, но странное желание советских граждан послесталинской эпохи «вернуться к заветам Ильича». В обоих случаях «путь вперед» был «путем назад», а блистательная фигура предшественника мешала правильному определению современных проблем.
Несмотря на свои недостатки, проект Панина – Фонвизина был новаторским для российской политической мысли, представляя собой шаг к более четкому пониманию политической свободы. В фокусе его внимания были права на свободу вероисповедания, на справедливый и открытый суд, на владение собственностью, ограничение царской власти арестовывать по делам об оскорблении величества. В проекте, по крайней мере, поднимался вопрос о разделении властей. Этот план нельзя выгодно сравнить ни с европейскими конституциями эпохи после 1789 года, ни с американским Биллем о правах. Более того, в 1905 году в качестве альтернативы термину «конституция» российским государством был принят именно термин «основной закон», введенный в рассматриваемом проекте. Тем не менее Панин и Фонвизин пошли гораздо дальше скромных «обещаний» Бориса Годунова и других деятелей XVII века уважать «права» бояр – хотя бы потому, что Панин и Фонвизин выступали за создание неотменяемого государственного документа, который нельзя изменить по прихоти отдельного правителя. По сравнению с планами Дмитрия Голицына и заговорщиков 1730 года у проекта было то преимущество, что государь соглашался на него добровольно, а не вынужденно. Его обнародование опиралось на принцип согласия, который полагался в основе хорошего правления. Подобно некоторым политическим трактатам московской и петровской эпох, в «Рассуждении» Фонвизина религия рассматривалась как оправдание русской монархии. Однако, в отличие от Феофана Прокоповича, Фонвизин не считал, что для сохранения православной веры нужно подавлять внутренние несогласия: напротив, путь к русской свободе Фонвизин видел в добродетели, основанной на вере.
«Недоросль» Фонвизина
Мы не знаем, когда Фонвизин написал «Недоросля». Пигарев относит начало работы над пьесой к лету 1779 года. Основанием для такого заключения послужило свидетельство друга Фонвизина, И. А. Дмитриевского, который в том году сообщал: «Денис Иванович пишет комедию с великим успехом» [Пигарев 1954: 151]. Макогоненко утверждает, что Фонвизин закончил сочинение «в конце 1781 года» [Макогоненко 1961: 261], а Пигарев – что пьеса была закончена только в январе – феврале 1782 года. Один из современников Фонвизина сообщал о завершении работы над комедией в письме от 11 марта 1782 года [Пигарев 1954: 151]. В 1782 году Фонвизин пытался организовать театральное представление. Впервые «Недоросль» появился на сцене в Петербурге, 24 сентября 1782 года. В Москве, несмотря на все усилия Фонвизина, пьесу поставили только в мае 1783 года, а затем она шла в основном в домашних театрах, а не на публичной сцене [Рассадин 2008: 251–253].
История создания «Недоросля» и его первых представлений интересна тем, что она, вероятно, совпала по времени с разработкой Фонвизиным и Паниным конституционного проекта. Потеряв расположение Екатерины, Панин с конца апреля 1781 года взял трехмесячный отпуск с государственной службы. Вернувшись в сентябре 1781 года из отпуска в столицу, Панин был лишен привилегии прямого доступа к императрице [Рассадин 2008: 245–246]. Если Панин в этот момент приступил к разработке проекта основных законов, а Фонвизин в это же время (осенью – зимой 1781/82 годов) заканчивал пьесу, то можно предположить, что «Недоросль» и «Рассуждение о непременных государственных законах» были задуманы практически одновременно. Если же Фонвизин написал «Недоросль» непосредственно перед тем, как приступить к составлению «Рассуждения», то пьесу можно рассматривать как промежуточный этап между его французскими письмами и подготовкой конституционного проекта. В любом случае краткий временной промежуток между политическим трудом Фонвизина и его драматическим шедевром требует анализа.
Слово «недоросль» в переводе на английский относится к молодому человеку, не достигшему совершеннолетия, не имеющему права вступать в брак, заключать договоры или (в применении к нашему времени) голосовать; либо не достигшему зрелости, не отвечающему за свои поступки и нуждающемуся в дополнительном образовании, чтобы начать исполнять обязанности взрослого человека. Выбранное Фонвизиным слово «недоросль», безусловно, подразумевает как правовую, так и духовную незрелость такого рода, но также оно является термином, обозначавшим юношу дворянского происхождения, еще недостаточного взрослого для поступления на государственную службу. Если во времена Петра I юноша мог поступить на службу не ранее 15 лет, то во времена Екатерины – не ранее 18. Поскольку при Петре служба для дворян была всеобщей обязанностью, термин «недоросли» во множественном числе применялся ко всей совокупности несовершеннолетних дворян и обозначал их отношение к государству, то есть обязанность служить в будущем. Таким образом, при Петре термин «недоросль» по определению имел политическую окраску, которая во времена Екатерины сохранялась, но уже становилась архаичной, поскольку обязательная государственная служба для дворян была отменена в 1762 году. Иными словами, термин «недоросль» в то время переходил из политико-правового лексикона в социальный. В самой его истории запечатлелось одно из главных различий между петровской и екатерининской эпохами.
В отличие от «Бригадира», в котором было всего семь основных персонажей, все из которых были дворянами, в «Недоросле» Фонвизин вывел на сцену пятнадцать действующих лиц: восемь дворян, четверо крепостных и трое разночинцев (семинарист, учитель, отставной сержант). Автор исследовал взаимоотношения дворянства и крепостного крестьянства, но также разрабатывал отдельные характеры, чтобы проследить межличностные отношения внутри социального слоя и отнести его представителей к тому или иному социальному типажу. В итоге на сцене были выведены типичные представители русского провинциального общества образца 1782 года.
Как и «Бригадир», «Недоросль» – семейная комедия в трагических обстоятельствах. Наше знакомство с семейством Простаковых (которое состоит из госпожи Простаковой, ее мужа, ее сына Митрофана и свойственницы Софьи) происходит в день, когда Простакова собирается устроить помолвку Софьи со своим братом Скотининым. Как и в «Бригадире», молодая избранница Софья противится браку по расчету: она предпочитает своего поклонника, добродетельного Милона, бывшего военного. Узнав, что ее подопечная Софья вскоре унаследует от своего дяди Стародума состояние в десять тысяч рублей, станет богатой и независимой и сможет вступить в брак с Милоном, Простакова меняет тактику. Теперь она пытается убедить, а потом и заставить Софью выйти замуж за Митрофана. Во втором явлении пятого действия Стародум и добродетельный чиновник Правдин предотвращают похищение Софьи. Пьеса заканчивается тем, что Простаковых по правительственному указу лишают имения и крепостных, взяв их в государственную опеку, а Софья воссоединяется с Милоном. Добродетель Софьи признана и вознаграждена, а пороки «милой семейки» Простаковой, Простакова и Митрофана обличены и наказаны государством. На первый взгляд, пьеса Фонвизина изображает торжество просвещенного абсолютизма над провинциальным традиционализмом.
В пьесе, однако, мы вовсе не наблюдаем апофеоза победившей добродетели. Первые три явления первого действия погружают нас в нездоровую атмосферу оскорблений, которыми Простакова осыпает своих дворовых людей. Портного Тришку она называет «мошенником», «вором», «болваном» со «скотским рассуждением», неспособным сшить кафтан. В глубине души Простакова считает Тришку не человеком, а «скотом» [Фонвизин 1959, 1: 107–108]. Это обзывательство отдает авторской иронией, поскольку девичья фамилия Простаковой – Скотинина. Затем Простакова требует от своего мужа-подкаблучника, чтобы тот наказал Тришку, так как она «холопям потакать не намерена». Слово «холоп» уже к тому времени устарело как юридическая категория, но оно тем не менее точно отражало бесправное положение крестьян, трудившихся подневольно. В шестом явлении второго акта Простакова выражает презрение по отношению к верной няньке Митрофана, своей дворовой прислуге Еремеевне, обзывая ее «бестией» и «старой ведьмой». Этот второй эпитет – двойное оскорбление, намекающее на возраст и злобный характер Еремеевны. Семинарист Кутейкин в библейских выражениях характеризует жизнь Еремеевны как «тьму кромешную». Сама Еремеевна признается, что в награду за верность Простакова жалует ей «по пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день» [Фонвизин 1959, 1: 127–128]. Во втором явлении пятого действия Простакова ругает дворовых за то, что они не сумели похитить Софью: «Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить велю до смерти!» [Фонвизин 1959, 1: 170]. В четвертом явлении пятого действия она вместе со своим братом Скотининым отстаивает свое право произвола над крепостными, вопрошая: «Разве я не властна и в своих людях?» – «Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?» [Фонвизин 1959, 1: 171–172].
Власть Простаковой в собственной семье почти абсолютна. В третьем явлении первого действия она ругает своего робкого мужа за мешковатость и слепоту. Он безропотно признается: «При твоих глазах мои ничего не видят» [Фонвизин 1959, 1: 108]. В четвертом явлении первого действия ее сын Митрофан рассказывает свой сон, в котором мать бьет отца. Но жалеет Митрофан именно ее, а не побитого отца: «…ты так устала, колотя батюшку», – с сочувствием говорит он матери [Фонвизин 1959, 1: 110]. В седьмом и восьмом явлениях первого действия она отвергает притязания своего брата Скотинина на сватовство к Софье. В третьем явлении третьего действия, узнав, что Скотинин угрожал Митрофану побоями, чтобы заставить недоросля отказаться от женитьбы на Софье, Простакова набрасывается на брата с кулаками. Неудивительно, что в пятом явлении третьего действия мы узнаем, что все члены семьи определяют себя по тому, в каком отношении они находятся к Простаковой. Простаков говорит: «Я женин муж»; Митрофан: «А я матушкин сынок»; Скотинин: «Я сестрин брат» [Фонвизин 1959, 1: 137]. Странным образом своим произволом Простакова превратила своих дворовых людей в рабов и закабалила членов семьи. В четвертом явлении пятого действия добродетельный чиновник Правдин упрекает ее в тирании: «Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен» [Фонвизин 1959, 1: 172]. Таким образом, по логике Фонвизина, необузданное своеволие ведет к порабощению домашней прислуги и уничтожению личной независимости дворян: своеволие = насилие = несвобода = тирания.
Поведение Простаковой Фонвизин расценивает не просто как попрание семейных отношений, а как преступление против государства. В третьем явлении пятого действия чиновник Правдин намеревается привлечь Простакову к суду как «нарушительницу гражданского спокойства» [Фонвизин 1959, 1: 170]. В следующем явлении он именует ее: «Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может» [Фонвизин 1959, 1: 172]. В третьем и четвертом явлениях пятого действия Правдин устраивает импровизированный суд над семьей Простаковых. Простакова падает на колени перед Правдиным и Стародумом, а затем заявляет: «Батюшки, виновата». Обращаясь к зрителям, она восклицает: «Ах, я собачья дочь! Что я наделала?» Затем она просит Правдина о пощаде, говоря, что она грешна, поскольку «человек, не ангел» [Фонвизин 1959, 1: 170–171]. Прося о пощаде, она надеется избежать судебного процесса по обвинению в подстрекательстве, который, несомненно, закончился бы для нее приговором к длительному тюремному заключению. Но кроме того, избежав суда, она рассчитывает отомстить «канальям своим людям». Освобождение дворян от государственной службы в 1762 году она понимает как разрешение владельцам крепостных пороть своих дворовых людей [Фонвизин 1959, 1: 171–172].
В ходе импровизированного суда Милон говорит Правдину и Стародуму, что «и преступление и раскаяние в ней [в Простаковой] презрения достойны». Это утверждение, безусловно, верно, но Стародум тем не менее советует Правдину не выдвигать против нее официального обвинения в подстрекательстве: «Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю». Поэтому Правдин не преследует Простакову за правонарушение. Тем не менее он отстраняет ее от управления поместьем и крепостными «за бесчеловечие», а ее мужа – за «крайнее слабомыслие» [Фонвизин 1959, 1: 171–172]. Согласно мировоззрению Правдина, государство не должно терпеть ни жестокости, ни слепоты к несправедливости. Приговор Правдина Простаковой – это обращение ко всем помещикам, «…чтоб они людей… Побольше любили или б по крайней мере… Хоть не трогали» [Фонвизин 1959, 1: 176–177]. После суда Митрофан бросает свою наказанную мать. Она падает в обморок от его неблагодарности, а затем в отчаянии произносит: «Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуды глаз показать нельзя! Нет у меня сына!» Завершает пьесу реплика Стародума о Простаковой: «Вот злонравия достойные плоды!» [Фонвизин 1959, 1: 177].
Из сцены импровизированного суда и отчаяния Простаковой ясно, что Фонвизин был заинтересован не столько в соблюдении законности, сколько в укреплении нравственного порядка. Самыми серьезными преступлениями Простаковой были «злонравие» и «бесчеловечие», то есть нравственные пороки. В первых трех явлениях третьего действия Правдин и Стародум объясняют зрителям, почему к добродетели нужно относиться серьезно. Стародум усвоил от отца изречение: «…имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знании мода, как на пряжки, на пуговицы… Без нее [души] просвещеннейшая умница – жалкая тварь» [Фонвизин 1959, 1: 130]. Для представителей дворянства большим соблазном является стремление к высоким чинам, к продвижению за счет других. Стародум считает такое самовозвеличивание порочным и опасным, называя его «себялюбием», в отличие от «самолюбия» [Фонвизин 1959, 1: 132]. На военной службе честолюбие отвлекает офицеров от служения отечеству, при царском дворе оно порождает безудержную коррупцию. Стародум говорит, что придворной службы следует избегать любой ценой: «Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится». Также не следует дворянам связывать богатство с добродетелью: «Наличные деньги – не наличные достоинства. Золотой болван – все болван» [Фонвизин 1959, 1: 133]. Стародум отвергает богатство, основанное на владении крепостными, поскольку считает крепостное право аморальным. На жизнь он зарабатывает в Сибири, где нет крепостного права. «Последуй природе, никогда не будешь беден» – считает он [Фонвизин 1959, 1: 134].
Во втором и шестом явлениях четвертого действия Стародум переводит свой кодекс добродетели в правила морального поведения. Во втором явлении Стародум советует Софье искать настоящей дружбы, которая «была б надежною порукою за твой разум и сердце». Однако, по его словам, молодому человеку часто бывает трудно отличить истинную дружбу от ложной. Иногда сверстники выдают себя за друзей, в глубине души завидуя добродетели [Фонвизин 1959, 1: 150]. Более того, молодым дворянам особенно трудно обнаружить добродетель в других, поскольку обладание добродетелью можно спутать с высоким чином или богатством. Стародум считает, что истинное благородство состоит не в чинах, а в служении отечеству, не во владении крепостными, а в соблюдении нравственного кодекса [Фонвизин 1959, 1: 151]. По его мнению, противоядием от «злонравия» является «благонравие». «Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума… Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца» [Фонвизин 1959, 1: 152]. Честный человек понимает, что «достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек». Добродетельная жизнь подразумевает абсолютную честность, искреннее служение ближним и отечеству, полную преданность долгу. В семейном контексте благонравие требует, чтобы муж был для жены «искренним и снисходительным другом», а жена отвечала мужу кротостью и чистосердечием. С другой стороны, несчастна семья, где муж – тиран, а жена – своевольная и наглая. Дети их «осиротели» при живых родителях, люди видят «в самом господине своем раба гнусных страстей его» [Фонвизин 1959, 1: 153–154].
В шестом явлении Милон и Стародум соглашаются между собой, что важнейшая политическая добродетель – это «умственная неустрашимость», подразумевая не только храбрость солдата, готового пожертвовать жизнью в бою, но и смелость чиновника, «который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать». Подобным же образом и судья должен мужественно вершить правосудие, «не убояся ни мщения, ни угроз сильного» [Фонвизин 1959, 1: 158].
В первом явлении пятого действия Стародум характеризует благонравие как «главную цель всех знаний человеческих», сетуя, что нередко о ней забывают в преподавании академических дисциплин. Он заявляет, что «наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу». Стародум хотел бы, «чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения» [Фонвизин 1959, 1: 169].
Выражая через Стародума свои взгляды, Фонвизин сформулировал теорию добродетели, «правильной этики» или «благочестия», охватывающую семью и государство. В «Недоросле» Фонвизин не делает различий между частной и общественной сферами жизни. По его мнению, добродетель «неделима», и поскольку она ориентирована скорее на ближнего, чем на самого человека, то затрагивает как семейные, так и профессиональные отношения. Эта всеохватывающая концепция добродетели созвучна, хотя не идентична христианской концепции благочестия, которую мы находим, например, в Домострое. Как и в Домострое, в «Недоросле» Фонвизина проповедуется упорядоченная семейная жизнь, взаимопонимание между супругами, честность к себе и другим. Как и в Домострое, в «Недоросле» семья – это основание общественной жизни, а государство опирается на праведных государей, мужественных советников и беспристрастных судей. По Домострою, поведение христиан определяется верой; по «Недорослю», для жизни важно «благонравие». Ни в Домострое, ни в «Недоросле» знание и разум не ставятся выше праведности и добродетели. В «Недоросле» даже разграничиваются благонравие и ученость («просвещение»). Однако, если в целом этическая система «Недоросля» соответствует христианскому мировоззрению Домостроя, они не идентичны. В «Недоросле» резко критикуются попытки внедрить семейную дисциплину посредством насилия или устрашения. В качестве средства поддержания правильного поведения в пьесе предлагается дружба, а не подчинение. Добродетельный человек по Фонвизину служит обществу и государству, получая одобрение окружающих и продвигаясь по карьерной лестнице. В Домострое же человек рождается в своем социальном слое, но продвижения по заслугам не получает. Он проявляет свою веру, оказывая должное почтение другим: супруге, священнику, князю. Таким образом, в «Недоросле» правильное поведение – важнейшая составляющая социальной системы, основанной на личных заслугах и общественном доверии, в то время как в Домострое правильное поведение необходимо для спасения.
В пятом действии «Недоросль» вплотную подходит к обоснованию сопротивления неправедной власти. В первом явлении Стародум в своей речи, посвященной историческим последствиям тирании, недалек от вывода, что неправедный государь лишается короны заслуженно. Заявление Правдина в четвертом явлении: «Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен», понятое широко, относится не только к домашним тиранам типа Простаковой, но и к обществу в целом. Бесчеловечие и злонравие «в благоучрежденном государстве терпимо быть не может», – говорит Правдин. Это утверждение применимо не только к семейному контексту, но и к сфере высокой политики – Фонвизин не делал различий между частной и публичной сферами. Поэтому «суд» над Простаковой в третьем и четвертом явлениях не только лишает власти тираншу-крепостницу, но также демонстрирует участь, ожидающую любого тирана. Здесь стоит подчеркнуть очевидное – Простакова управляет своей семьей произволом так же произвольно, как и Екатерина правила Россией. Поэтому выбор Фонвизиным своенравной женщины в качестве главного злодея пьесы не случаен. В «Недоросле» Простаковы и Скотинины определяют себя по тому, кем они приходятся Простаковой, так же как в России положение каждого определялось тем, кто он по отношению к Екатерине.
Важно также отметить, что импровизированный суд над Простаковой проводил Правдин, уполномоченный чиновник, под руководством государственного деятеля Стародума. В политическом мышлении Реформации право активного сопротивления неправедному государю часто закреплялось за другими представителями власти, то есть за «помазанниками», а не за народом в целом. Эти представители власти могли смещать неправедных правителей, поскольку, допустив тиранию, те уже утратили право на власть. Устранение нечестивого правителя обычно изображалось как юридический акт, а не как государственный переворот. Понимание того, что прототипом Стародума Фонвизину послужил Панин, усиливает политическую окраску пьесы.
Конечно, в самом тексте пьесы нельзя найти указаний на то, что суд над Простаковой выступает как замена суду над Екатериной. Но все же отчаянная реплика Простаковой в восьмом явлении пятого действия: «Отнята моя власть!» – должна была иметь политический отклик если не в сознании зрителей, то в сознании самого Фонвизина.
Последнее замечание по поводу «Недоросля»: судьба России в пьесе зависит не от конкретной политической программы, а от культурного преображения страны. В первом явлении пятого действия Правдин говорит: «…мудрено истреблять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды!» [Фонвизин 1959, 1: 167]. В политическом плане искоренение предрассудков возможно только при сотрудничестве с правителем, а для этого необходимо, чтобы правитель был мудрым. Мудрый государь стремится упразднить рабство, не обращает внимания на придворных льстецов и способствует внедрению в стране системы нравственного воспитания [Фонвизин 1959, 1: 167–168]. Однако бремя нравственного воспитания ложится в основном на образованную часть дворянства. В пьесе проводится мысль, что борьба за будущее России должна вестись не столько при царском дворе, сколько в провинции, в «милых семейках» типа Простаковых. Именно поэтому Фонвизин назвал свою пьесу «Недоросль». У самого Митрофанушки мало реплик, но именно он – объект стараний Простаковой: воспитывая его по своему примеру, она надеется сформировать будущее по своему образу и подобию. Эта перспектива приводит в ужас добродетельных Правдина и Стародума: наставления Простаковой Митрофану они считают неправильным воспитанием. В шестом – восьмом явлениях третьего действия учителя Митрофана отзываются о нем как о полном невежде и «тунеядце» [Фонвизин 1959, 1: 142]. Простакова считает, что «ученье… опасно для… головушки» Митрофана [Фонвизин 1959, 1: 145]. Сам Митрофан заявляет: «Не хочу учиться, хочу жениться» [Фонвизин 1959, 1: 143]. Однако к концу пьесы зритель видит, что Митрофан хорошо усвоил эгоизм матери: он ее образ и подобие. За это Правдин называет Митрофана «негодницей» и «грубияном» [Фонвизин 1959, 1: 177]. Не все сверстники Митрофана – грубияны и негодники: Софья и Милон представляют собой образцы добродетели, результат правильного нравственного воспитания. Однако Митрофан, олицетворяя собой невежество и нравственные пороки, угрожает стать будущим России, если не будут истреблены «закоренелые предрассудки».
В «Недоросле» Фонвизин не мог дать обоснования конституционной программе. Из-за цензуры такая явная связь между искусством и политикой была невозможна. Но в его смелых руках русский театр целился в крепостное право, произвол хозяев, порок, вовсе проявления тирании. К 1782 году искусство уже стало средством выражения нравственного ви?дения, охватывающего все сферы общественной жизни, в том числе политику, которая по необходимости входила в область всеобъемлющей добродетели. В XIX и XX веках россияне узнают, что всеохватывающие художественные и политические концепции могут быть столь же опасны, как и проблемы, которые они пытаются исправить. Однако для Фонвизина спасительным было его неприятие принуждения в нравственной жизни и нежелание оправдывать применение силы в политике. Поскольку он предпочитал мягкое убеждение и вдохновляющий пример плетям и тюремным камерам, многие россияне приняли его теплее, чем его более одаренного, плодовитого и обладающего большими политическими связями современника Державина.
Глава 11
Гавриил Державин: поэзия и истинная вера
Лучший русский литератор екатерининской эпохи, поэт Г. Р. Державин (1743–1816), был, пожалуй, единственным крупным российским государственным деятелем, ставшим автором первого ряда в литературном мире. На службу он поступил в 1762 году в качестве рядового Преображенского полка, но к 1772 году дослужился до офицерского чина. Во время Пугачевского восстания 1773–1774 годов он помогал генералу А. И. Бибикову подавить мятеж. В 1777 году Державин оставил военную службу и поступил на гражданскую. В течение следующей четверти века Державин получил ряд повышений: с 1778 по 1784 год он служил статским советником в Правительствующем сенате, с 1784 по 1785 год – правителем Олонецкого наместничества, с 1785 по 1788 год – правителем Тамбовского наместничества. В 1791 году Державин стал кабинет-секретарем Екатерины, а в 1793 году назначен сенатором в чине тайного советника. После службы в Сенате при Павле Державин служил в 18021803 годах министром юстиции при Александре I.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71234011?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
1
Эта переписка с прекрасным предисловием издана в [Stroev 2006].
2
Оригинал, к которому обращалась Екатерина, см. факсимиле в [Strube de Piermont 1978].
3
Де Мадарьяга утверждает, что французский оригинал более значим для интерпретации интеллектуального замысла Екатерины: «Именно французский текст “Наказа” наиболее близок к мысли самой Екатерины. Она заимствовала у авторов, писавших на французском языке, и сама написала “Наказ” на французском. Впоследствии он была переведен для нее на русский язык». См. [Madariaga 1998b: 243]. Возможно, это замечание справедливо, но для внутренних целей главным ориентиром была русскоязычная версия «Наказа». Большинство депутатов Законодательной комиссии читали документ на русском языке, чиновники в правительственных учреждениях также ссылались на русскую версию.
4
Здесь я цитирую русский текст. Французский «перевод» имеет другой оттенок. Во французской версии молитвы светское и религиозное право имеют одинаковое основание, а упоминание о законе в первой статье выпущено!
5
Статьи 56–61 опираются на работы Беккариа.
6
Мстиславская относила Сумарокова к представителям «аристократической Фронды», которая якобы стремилась к установлению в России «конституционной монархии». Этот ярлык вдвойне неточен. Слово «Фронда» подразумевало существование в России состоятельной элиты, аналогичной той, что выступила во Франции XVII века против централизованной власти. Сумароков принадлежал к служилой элите и происходил из семьи, владевшей крепостными, но в конце 1760-х годов доходы он получал в основном от Екатерины. Возможно, он выступал от имени тех элементов дворянства, которые поддерживали сохранение крепостного права, но сам он не был крупным землевладельцем. К тому же в российских условиях согласованное аристократическое оппозиционное движение, подобное тому, что имело место столетием ранее во Франции, вряд ли увенчалось бы успехом, как показал эпизод с Голицыным в 1730 году. Конечно, Сумароков хотел некоего эффективного сотрудничества между императрицей и высшими слоями дворянства. Возможно, он симпатизировал проекту Панина начала 1760-х годов по передаче части исполнительной и законодательной власти Императорскому совету и Сенату, но называть этот проект «конституционным» было бы, пожалуй, ошибочно. Как мы увидим ниже, проект Панина – Фонвизина 1783 года более соответствовал понятию конституционной реформы.
7
До 1775 года Екатерина сама выступала в роли «личного цензора» Сумарокова, что, кстати, послужило прецедентом для личной цензуры Пушкина Николаем I.
8
О «смеховой интимности контакта частного человека и монарха» см. [Лебедева 2000: 171].
9
Во «Введении» И. Пыпина поднимается дискутируемый вопрос об авторстве императрицы. См. [Пыпин 1901: I–LVI].
10
Среди друзей Екатерины в Европе распространялся французский текст «Le secret de la sociеtе antiabsurde, dеvoilе par quelqu’un qui n’en est pas» (Cologne, 1758). Во французской версии была указана заведомо ложная дата публикации, вероятно, для того, чтобы дистанцировать от нее Екатерину, по крайней мере, в глазах «неосведомленных». Удобное русское издание см. в [Екатерина II 1893: 439–444].
11
Бумаги, касающиеся предложения об учреждении Императорского совета и о разделении Сената на департаменты в первый год царствования Екатерины II (28 декабря 1762 года) [СИРИО 1867–1916, 7: 200–201].
12
См. также [Порошин 1881: 226–227], запись от 7 января 1765. Панин сказал Порошину по поводу Штрубе: «Il a dit tout ce qu’il a p? dire, а Монтескиу все Монтескиу останется».
13
27 июня 1765 года Панин говорил с С. А. Порошиным «о революциях при Анне Иоанновне» [Порошин 1881: 336].
14
В очень хорошей статье о политических идеях Сумарокова Е. П. Мстиславская заметила, что Сумароков «оказал Панину неограниченное доверие». См. [Мстиславская 2002б: 60].
15
В том же русле высказывается Элен Каррер д’Анкосс: «Хоть Екатерина и была новичком в политике, она сразу же поняла, что эти проекты с их миражом упорядоченного государства были задуманы для того, чтобы ограничить ее власть» [Encausse 2002: 83].
16
Об институциональном контексте философии Теплова см. в статье [Артемьева 1999].
17
Эта ремарка, сделанная в ретроспективе в Санкт-Петербургском журнале за июль 1798 года, процитирована в [Пигарев 1954: 256].
18
Об истории публикаций «Рассуждения» см. [Макогоненко 1959: 653–654].
19
Перевод Поповского «Опыта о человеке» А. Поупа появился в 1754 году. Фонвизин, скорее всего, читал издание 1757 года [Поповский 1757].
20
Пигарев цитирует «Послание о пользе наук и о воспитании в оных юношества», опубликованное Н. Новиковым в журнале «Живописец» в 1772 году.
21
Пьеса шла под русским названием «Гордость и бедность» и, возможно, представляла собой адаптацию пьесы Хольберга «Jeppe p? Bjerget» (1722).
22
Стихотворение принадлежит Сумарокову [Сумароков 1957: 295]. Автор приводит следующую атрибуцию: «[Федор Алексеевич Козловский]. Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому, на представление Синава и Трувора, Трагедии, сочиненной Его превосходительством Александром Петровичем Сумароковым [s.l. 1766?]».
23
Дань уважения Фонвизину Пушкин отдал в стихотворении «Тень Фонвизина» [Пушкин 1994–1999, 1: 119–125]. Пушкин приписывает Фонвизину скептический гедонизм Петрушки: «Вздохнул Денис: “О Боже, Боже! / Опять я вижу то ж да то же. / Передних грозный Демосфен, / Ты прав, оратор мой Петрушка: / Весь свет бездельная игрушка, / И нет в игрушке перемен”» [Пушкин 1994–1999, 1: 120].
24
Краткий обзор мировоззрения Кларка см. в [Yenter, Vailati 2018].
25
Первое издание книги Кларка: [Clarke 1705]. Фонвизин, возможно, изучал французский перевод [Clarke 1744].
26
Если бы Фонвизин был этическим утилитаристом, то апелляция к практическим результатам – «наибольшее счастье наибольшего количества людей» – могла бы быть интеллектуально последовательной. Но Фонвизин, по-видимому, связывал добродетель не с пользой, а с разумом и приверженностью этическим принципам.
27
Текст пьесы А. Карина утрачен. Пьеса Елагина является переработкой пьесы Хольберга «Jean de France eller Hans Frandsen» (1722).
28
Известия о новых книгах // Санкт-Петербургский журнал, февраль 1778 года, часть 1, с. 56–59. Цит. по: [Макогоненко 1961: 172].
29
В 1788 году Фонвизин дал объявление о плане издания пятитомного собрания сочинений, в которое должны были войти «разные письма» [Макогоненко 1959: 627–628].
30
что француз рожден свободным (фр.).
31
О сударь, вы правы! Француз раздавлен, француз – раб (фр.).
32
Фонвизин посетил спектакль 19 марта 1778 года [Фонвизин 1959, 2: 441–442, 469–470].
33
Я следовал сводному изложению Рэнселом плана Панина, опубликованного Шумигорским, но с некоторыми правками.
34
См. письмо Павла Н. И. Салтыкову от 5 апреля 1783 года в [Свиньин 1818: 112]; цит. по: [Сафонов 1974: 265].
35
Сафонов пришел к выводу, что проект Панина – Фонвизина и записки Павла «отличаются только в деталях» [Сафонов 1974: 271].
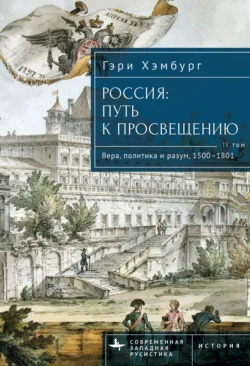
Ольга Терпугова и Гэри Хэмбург
Тип: электронная книга
Жанр: Политология
Язык: на русском языке
Издательство: Библиороссика
Дата публикации: 02.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В книге, посвященной истории российской религиозной и политической мысли Раннего Нового времени, Гэри Хэмбург показывает, что путь России к просвещению начался задолго до того, как Петр Великий распахнул окно в Европу. Исследуя широкий круг произведений, автор помогает увидеть, каким образом российское просвещение послужило предпосылкой для расцвета таких писателей XIX века, как Федор Достоевский и Владимир Соловьев.