Двоеточие
Галина Ермошина
Новая поэзия (Новое литературное обозрение)
Тексты Галины Ермошиной – «письма миру», развивающие традиции Эмили Дикинсон и Елены Гуро, Розмари Уолдроп и Владимира Казакова. Не самовыражение, но бережное вглядывание, выстраивание диалога с людьми и предметами в их индивидуальности и сложности. Одновременность касания и удаления, радости и безнадежности, иронии и ответственности. Подвижный мир превращений, децентрирующего взгляда и неиерархической логики, где есть и эклиптика, и кофейная шелуха, и набор греческих букв, и европейский пейзаж. Попытки уловить несловесное словами, воссоздать внутренние события при помощи ассоциаций, приходящих извне. Галина Ермошина – поэтесса, прозаик, эссеист. Автор книг стихов «Окна дождя» (1990), «Оклик» (1993), «Круги речи» (2005), книг стихотворений в прозе «Время город» (1994), «Оклик небывшего времени» (2007), «Песчаные часы» (2013). Переводит современную американскую поэзию (Р. Уолдроп, К. Кулидж, Л. Хеджинян, П. Джицци, Мей-Мей Берссенбрюгге, К. Фолькман, М. Мерфи и др.). Рецензии и статьи о современной литературе публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Новое литературное обозрение», «Цирк „Олимп“», «Русский журнал». Стихи переведены на английский, французский, итальянский, польский, китайский языки. Живет в Самаре, работает в библиотеке.
Галина Ермошина
Двоеточие
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Е74
Предисловие И. Кукулина
Галина Ермошина
Двоеточие / Галина Ермошина. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Новая поэзия»).
Тексты Галины Ермошиной – «письма миру», развивающие традиции Эмили Дикинсон и Елены Гуро, Розмари Уолдроп и Владимира Казакова. Не самовыражение, но бережное вглядывание, выстраивание диалога с людьми и предметами в их индивидуальности и сложности. Одновременность касания и удаления, радости и безнадежности, иронии и ответственности. Подвижный мир превращений, децентрирующего взгляда и неиерархической логики, где есть и эклиптика, и кофейная шелуха, и набор греческих букв, и европейский пейзаж. Попытки уловить несловесное словами, воссоздать внутренние события при помощи ассоциаций, приходящих извне. Галина Ермошина – поэтесса, прозаик, эссеист. Автор книг стихов «Окна дождя» (1990), «Оклик» (1993), «Круги речи» (2005), книг стихотворений в прозе «Время город» (1994), «Оклик небывшего времени» (2007), «Песчаные часы» (2013). Переводит современную американскую поэзию (Р. Уолдроп, К. Кулидж, Л. Хеджинян, П. Джицци, Мей-Мей Берссенбрюгге, К. Фолькман, М. Мерфи и др.). Рецензии и статьи о современной литературе публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Новое литературное обозрение», «Цирк „Олимп“», «Русский журнал». Стихи переведены на английский, французский, итальянский, польский, китайский языки. Живет в Самаре, работает в библиотеке.
ISBN 978-5-4448-2466-5
© Г. Ермошина, 2024
© И. Кукулин, предисловие, 2024
© Н. Томилина, фото, 2024
© К. Киселевич, фото на обложке, 2024
© И. Дик, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
В углах тишины
1
Различные авторы и даже разные стихотворения у одного и того же автора в современной поэзии могут существовать словно бы на разных этажах исторического времени. Значительная часть поэтов, говорящих и думающих по-русски, пишет сегодня, или непосредственно откликаясь на трагические общественные и политические события, инициированные правящими кругами России, или в горизонте этих событий. Эти события требуют от людей – и поэтов, и их читателей/читательниц – нового самоопределения, нового понимания того, что такое «я» и с какими «мы» это «я» может солидаризироваться.
Возможны, однако, и другие стратегии, и они далеко не всегда являются эскапистскими. Поэт может, например, вступить в диалог, или, точнее, полилог о мироздании, о том, как человек может открыть свое «я» миру и, наоборот, увидеть мир как открытый в своей сущности доверяющему взгляду и доверяющему касанию – полилогу, который идет в европейской поэзии уже на протяжении нескольких веков.
Именно эту вторую стратегию реализует самарский поэт Галина Ермошина. Она родилась в 1962 году в поселке Ивантеевка Саратовской области, закончила Куйбышевский (Самарский) институт культуры, печатается с середины 1980?х годов. Свою зрелую поэтику выработала в середине 1990?х (насколько я могу судить, начиная с книги 1994 года «Время город») и с тех пор последовательно и без резких изменений продолжает одну, разворачивающуюся во времени работу, – от сборника к сборнику.
Предшествующий сборник Ермошиной вышел в 2013 году[1 - Ермошина Г. Песчаные часы. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013.]. Новый, при всей внешней «вневременности» ее поэтики, публикуется как нельзя более вовремя – для того, чтобы напомнить о том, что возможна и такая поэзия на русском языке. Возможна – и даже, пожалуй, необходима.
Прежде всего, следует сказать о своеобразии ермошинского письма. Большинство произведений в этой книге – тексты, формально относимые к прозе, потому что записаны не «в столбик», а «в строчку». Эти произведения можно назвать стихопрозой или поэтическими фрагментами. Собственно, такой тип письма появляется уже в книге «Время город», жанр которой обозначен в энциклопедических справках о Ермошиной как «проза».
В русской литературе до недавнего времени такой тип письма был мало привычен. Известен он в основном по произведениям авторов, которые стремились использовать прозу для решения задач лирического высказывания, обычно ассоциирующегося с поэзией, – Иван Тургенев («Стихотворения в прозе»), Алексей Ремизов, Василий Розанов… Жанр ермошинской стихопрозы больше напоминает произведения не этих авторов, а французских поэтов. Один из ведущих французских критиков, когда я попросил его назвать наиболее интересных литераторов младшего поколения, написал на листе бумаги три колонки имен: в одном были прозаики, в другом – поэты, в третьем – те, кто пишут стихопрозу. Во французской литературе эта традиция началась еще в XIX веке с Алоизиюса Бертрана и Шарля Бодлера, получила развитие в ХХ веке (Сен-Жон Перс), продолжается и сегодня (Доминик Фуркад) – впрочем, в новейшее время на развитие этого типа письма оказывает большое влияние диалог французских и американских авторов[2 - Об этом диалоге см., например: Lang A. La conversation transatlantique. Les e?changes franco-ame?ricains en poe?sie depuis 1968. Paris: Les presses du re?el, 2020.]. Взаимодействие с американской поэзией важно и для Ермошиной. Она переводила таких авторов, как Розмари Уолдроп, Лин Хеджинян, Петер Джицци – все они обращались в своем творчестве к стихопрозе[3 - Публикации переводов Ермошиной см., например: Уолдроп Р. снова найти точное место / Пер. с англ. Г. Ермошиной, под ред. А. Уланова. Екатеринбург: Полифем, 2020; Джицци П. Небесное погребение / Пер. с англ. Г. Ермошиной, А. Уланова, К. Азёрного, под ред. К. Азёрного. Екатеринбург: Полифем, 2021; Хеджинян Л. Слепки движения: избранное из разных книг / Сост. В. Фещенко, пер. с англ. А. Драгомощенко, Г. Ермошиной, А. Уланова и др. М.: Полифем, 2023.].
В истории русской стихопрозы наиболее явная предшественница Ермошиной – футуристическая поэтесса и художница Елена Гуро (1877–1913). Если же брать более короткий временной промежуток, близкий к современности, Ермошина (наряду с другим самарским автором – Александром Улановым) стала предшественницей нового движения стихопрозы, расцветшего в 2010?е годы, – его участницами стали Галина Рымбу, Евгения Суслова, Анна Родионова.
У всех этих авторов, начиная с Гуро, стихопроза используется для изображения и анализа мира, в котором не действуют привычные иерархии. У Ермошиной эта стратегия становится осознанной и последовательно проговоренной. В эссе-манифесте «На периферии зрения и слова: частный взгляд на современную словесность» Ермошина говорит об экзистенциальных основаниях своего письма: «Недоверие к правильным геометрическим построениям, совершенным и законченным формам и устоявшимся правилам»[4 - Ермошина Г. На периферии зрения и слова (частный взгляд на современную словесность) // TextOnly. 2000. № 3-4 (http://www.vavilon.ru/textonly/issue4/ermoshina.htm).]. Вот поэтому и стихопроза: никаких устойчивых структур, даже разделения стиха на строки. За этим стоит одновременно утопический проект по преодолению иерархического мышления и опыт такого анти-иерархического видения.
2
Эта «анти-иерархичность» в случае Ермошиной представляет мир, находящийся в состоянии интенсивного изменения. Все вещи, явления и стихии в нем словно бы непрерывно вступают в эмоционально интенсивные отношения – любви, дружбы, расставания, понимающего диалога. И ничто не остается постоянным. «Сжимая каменные ребра кораблей, вода жалеет сушу и отдает все лодки песку и тростнику».
Меняющиеся пейзажи в стихах Ермошиной напоминают о двух типах пространств: о средней полосе России (впрочем, есть в ней и стихотворение-травелог о городе Уральск в Западном Казахстане), но еще – о древней Греции и в целом о Средиземноморье. Рискну даже сказать, что Ермошина неочевидным образом продолжает традицию европейской поэзии, для которой память об античности – о Греции и о Риме – стала основанием для утопии нового видения, в котором мир предстает человеку как открытый и наполненный смыслом.
Он тебе – пить, ты ему – дверь, и не рассказывай, как перешагнуть порог – слишком мягкие дни пробираются по венам этого дома, его кирпичного ожидания. Водяная арка с волос выветривает в желтую ладонь латинские и греческие на ощупь, только через плечо проступит за тобой тот, кто пришел по твоим следам проводить плывущих и оставляющих.
Одним из первых такую утопию нового видения, основанного на памяти об античности, своего рода мистику пейзажа, помнящего об античности, создал в своих стихотворениях и прозе Фридрих Гёльдерлин. Таким образом произведения Гёльдерлина были интерпретированы, например, в монографии немецкого философа Романо Гвардини (1885–1968).
Нам никогда не удастся увидеть все Целое. То, что являет нам себя – это всплывающие из каких-то глубин черты, доходящие из какой-то дальней дали жесты, позы, пробивающиеся откуда-то от недоступного первоначала события – но это постоянно происходит таким образом, что в отдельном все же оказывается представленным Целое[5 - Гвардини Р. Гёльдерлин. Картина мира и боговдохновленность / Пер. с нем. А. В. Перцева, стихи в переводе С. П. Пургина. СПб.: Наука, 2015. С. 369.].
Остров живет. Река живет. Тот, кто способен воспринять это, оказывается лицом к лицу с действительностью[6 - Там же. С. 376.].
Так Гвардини описывает образ мира, который создается в поздних стихотворениях Гёльдерлина.
Сходным, хотя и не совсем совпадающим образом французский поэт и критик Ив Бонфуа описывает мир, который создается в стихотворении греческого поэта Георгоса Сефериса «Царь Эгины» (1940):
…в наиболее прямых, наиболее простых отношениях между людьми, нам могут открыться – схожие с этой широкой рекой, которую там и тут пересекают песчаные отмели и на берегах которой не смолкает напев скромной флейты, – подлинная сила, подлинная ясность зрения, подлинные причины искать в жизни какой-то смысл и какую-то ценность[7 - Бонфуа И. Безвестный царь // Бонфуа И. Век, когда слово хотели убить: Избранные эссе / Пер. с фр. М. Гринберга. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 33–34.].
Пейзаж, открывающий сам себя, опознается как родственный греческому или средиземноморскому. У Ермошиной он вовлечен в бесконечные превращения и никогда не воспринимается как центр мира. В ее манифесте сказано:
Путь всегда важнее итога, и отклонения с дороги в сплошную траву или канаву, трясину, асфальтовую или бетонную дорожку из возможности становится необходимостью и условием существования зрения. <…> Вселенная расширяется, скорость увеличивается, центробежная сила предлагает окраинное существование, взгляд на мир стороннего наблюдателя избегает пустоты как способа заполнения и уходит извилистыми путями в свой лабиринт все дальше от центра[8 - Ермошина Г. На периферии зрения и слова: частный взгляд на современную словесность.].
Сегодня такой децентрализующий и де-иерархизирующий взгляд ассоциируется с феминистским и постколониальным письмом. Но у Ермошиной нет никаких открытых деклараций. Кроме того, уже у Сефериса действие стихотворения происходит на заброшенном острове, а эссе Ива Бонфуа об этом стихотворении называется «Безвестный царь». По-видимому, современная децентрализующая оптика имеет свои истоки не только в политических движениях (феминистских и антиколониальных), но и в поэтической традиции, которая отказывалась от того, чтобы поместить предмет своего видения в центр мира.
Дважды в этой книге упоминается Алеф – один раз с прописной буквы, другой раз со строчной. По-видимому, имеется в виду особое тайное место, описанное в рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Алеф» (1949) – точка на одной из нижних ступенек лестницы в подвале ничем не примечательного дома. Глядя в эту точку, можно увидеть все мироздание.
В грандиозный этот миг я увидел миллионы явлений – радующих глаз и ужасающих, – ни одно из них не удивило меня так, как тот факт, что все они происходили в одном месте, не накладываясь одно на другое и не будучи прозрачными. <…> Каждый предмет (например, стеклянное зеркало) был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек вселенной. Я видел густонаселенное море, видел рассвет и закат, видел толпы жителей Америки, видел серебристую паутину внутри черной пирамиды, видел разрушенный лабиринт (это был Лондон), видел бесконечное число глаз рядом с собою, которые вглядывались в меня, как в зеркало…[9 - Борхес Х. Л. Алеф / Пер. с исп. Е. Лысенко // Борхес Х. Л. Собр. соч.: В 4 т. / Сост., предисл. и примеч. Б. Дубина. 2?е изд. СПб.: Амфора, 2011. Т. 2. C. 319–320.]
Алеф, который находится в подвале, – это тоже утопия зрения одновременно децентрализованного и показывающего все сразу. У Ермошиной, если позволительно здесь использовать метафору Гвардини, отдельные жесты и оживающие абстракции указывают на присутствующее вокруг Целое, или ойкумену – огромное пространство, населенное людьми, вещами, стихиями, текстами. «Лестницы рыжей земли, белые корни прячут свои руки, крадут написанное, чтобы глубже врасти в дышащую открытость. Там, внизу, часы остановились и стекают по ржавой решетке. Просто зайди туда, где ничего не происходит». Стекающие часы – это, конечно, намек на любимый образ Сальвадора Дали, но он здесь дан в полушуточной модальности. Самое важное здесь – весть о том, что там, где, казалось бы, ничего не происходит – на самом деле разворачивается встреча неизвестных существ.
Стихотворения Галины Ермошиной – это сообщения о том, как можно увидеть ойкумену и мировую осмысленность, наблюдая мир как пространство встреч.
3
Иначе говоря, стихотворения Ермошиной сообщают нам здесь и сейчас, что русская поэзия – это по-прежнему поэзия европейская, и что поэт, живущий в России, может участвовать в решении тех же этических и эстетических задач, которые решали авторы в Германии, Греции, Франции. Не самая очевидная и даже неожиданная мысль, если принимать во внимание место и время. Галина Ермошина не ставит себе целью ее доказывать – она путешествует. Но дневник ее путешествия помогает увидеть пространство, в котором невозможно поставить границы.
Илья Кукулин
«Из трещины в каждом камне…»
Из трещины в каждом камне до промежутка из слов, так все твое деревянное – форточка, крыльцо, скамейка, ящик и фигурки богов, завернутые и ветвящиеся – ловить пыль ты умеешь до бесконечности. Мимо трамваев, потому что железные, а песок и так принесут, утро не помешает. Слушать, как он говорит по нитке воды, превращая все тени, растущие вдоль. Держит и не дольше дальше. Только потом узнаешь – да и этого много лишнего, если оставаться без коры в зиму. А глазам болеть от темноты, заворачиваясь в тепло ступенек и переплетов. К ним, бессонным, отворачиваться и связывать.
Когда греки жили в своей латыни, не запрещали говорить воде. И в самой середине пути до самого левого края просто подожди, не стирая отпечатков птичьих и рыбьих лап до всего потерянного горизонта. Там оно – под самыми книжными полками, побудь возле, если не есть ли, да и не будет, увернется, доберешься ли в одинаковое одиноким?
Тогда эта точка показывает путь над всей пустотой, цепляется за ее углы. Ночью тени мягче, а день каменеет сам, если оборачивается. Гладкими прудами, в которые ныряют железные пузырьки на серебряных цепочках, ниже всех красный, над ним синий, а светло-зелеными ты набиваешь карманы. Самое донное приключение застрянет под кожей острой щепкой, колкой костью – чужой ли руке не знать твоей боли.
Уговори сон, говори с ним сама, чтобы ему не заснуть – со снами такое бывает, и с ними тоже. Если ниже половиц, то какой еще тебе надо дороги – из белого пера да из?за угла. Тебе – одинаковые шарики татарника, колючие резные, вырезанные из ветра и соли. Подберет и напомнит длинным касанием безразличного и упругого.
Так рыбы, спящие во льду, торопятся изо всех плавников успеть до тепла забрать всю печаль зимней воды. Большего им не выбрать, как и не выбраться больше из реки, разве что разлиться на тысячи мелких молчаний.
Различая только разные виды отсутствий, смотреть воздухом, видеть темнотой. Слышать твердостью и разностью. Закрытая внутри двери белая невозможность, приходится ближе и мягче, как будто запомнит и отпустит. Забывая длиться там, где никогда не бывает другого. Кто тебе теперь дальнее дальнего? Откуда будет сниться снег с того самого дня, когда отставание начало отставать все ближе и теснее?
На тесном берегу столпился весь сегодняшний воздух, гладкий и твердый, с жестяным цветом и чернильным запахом. Между первым и осторожным всегда окажется слишком похожий на все несуществующие половинки медных поездов. Распутывая печаль, накапаешь в чашку разбитого со смородиной и потемками. Тут же прибегут жаловаться береговые и дощатые, не подсказать, простудиться и выкинуть. Уголками и угольками кидается темный и ровным слоем раскладывает по пунктирам проводов.
До утра по белым осколкам уходить тому, кто не успеет.
Обведенная так, что совсем о ней не жалеешь, чтобы падать и разбивать коленки о железо или стекло, и тянется до берегов, до ее меда вместо глагола, где тяжелые бочки, и дни продолжают длиться. Уходить на дно и вытягивать оттуда золотую леску, а дом замерзает в шуме ласточек и больших кувшинов. Между теплом и запасом дыма только лоб в ладонях, и от побега отделяет воздух горчичный, в котором рыбы успевают на сушу выйти и научиться плести сети.
«Он работает Орфеем…»
Он работает Орфеем, выводя пьяных эвридик на свет божий из лабиринтов и подземелий. Она плетет для него нить, и сама еще не знает – привязать его к себе или дать в руки и отпустить к минотавру. Она распускает связанное, распарывает ночные рубашки на паруса, выбрасывает веретено и строит лодку. Он живет в миле от ее острова, его дети – одноглазые великаны, что ловят северные ветры. Каждую ночь он лепит слепыми пальцами ее лицо, утро стирает его память, и он начинает новый лист, раскладывая на песке овечью шкуру, привезенную из последнего плавания. В пути у нее отрастают плавники, и она приплывает к нему в рыбьей чешуе, в молчании, нарисованная на дне его серебряной чашки.
«В этом месте его построили…»
В этом месте его построили, потом забыли, потом умерли и те, кто построил, и тот, кто забыл. Но умолчание не прошло ему даром, так медленно он выращивал в лабиринте шестиугольные комнаты. Ничего не переделать, Фивы опять устоят, вычеркнутые из повторений и списков. А тот, кто отнял речь у Минотавра, не опередит сам себя, определяя жесткость воды, прочность дождя, размывающего эти стены. Но не спрашивай у хозяина Алефа, что за мир лежит в ящике его стола – этот город и этот день – случайность и моментальность точки посреди предложения. Зрячие пальцы у края стены отпускают в темноту вощеную бумагу с мертвыми письменами.
«Едва ли греки знали…»
Едва ли греки знали, что их запрут на первом этаже Эрмитажа, позволяя только по ночам ходить в цокольный этаж к египтянам, чтобы выпить вина, которое хитрые египтяне выторговывают в подвалах у вавилонян, а те выменивают его на свежую кровь у шумеров Московско-Петроградской линии, чьи поезда увозят Данте туда, где тот, кого не называют по имени, сидит в центре земли и лепит из глины очередного бога.
«Смотри в темноту этим выжженным взглядом…»
Смотри в темноту этим выжженным взглядом, повторяя путь незрячего корабля. Обломки ветра в твоем голосе, и черепаховый гребень сползает с головы. Свиваешь змеиные тропы, девять клубков, чтобы хватило ему на рубашку. Перебираешь ядрицу и кириллицу, отдельно складывая то, что уже не прочесть без лабиринта, заросшего травой и термитами. Слепые ладони плывут в пустоте, завершая негромкий опыт скользящей памяти.
«Рыба, собранная из воздуха…»
Рыба, собранная из воздуха, косточек, якорей и молний. Молчащая, потому что вода во рту становится льдом. Вращая палочки грома, твой небесный поводырь по деревянным деревьям к бабочкам с мраморной кожей.
Так они шли – по пыли, по тени башни, водой и солью. Голосами переворачивая страницы, держась за листик ивы, в бледную воду колодцев, в глазастые полыньи. Так они шли в одной воде, по щиколотки во времени. Лед теперь прочнее, чем лист, врастает, проверяя ветер пальцами.
«Горькая радуга царапает осторожные тени рыб…»
Горькая радуга царапает осторожные тени рыб, плывущие к этому острову, прочерченному мелом на ржавом побережье. Расписание рук, график произнесенной проповеди внутри горящего воздуха, заставляет птицу вспомнить кольцо стрелы, травы, воскресного чаепития в углах тишины, приготовленной к осеннему аукциону. Пальцы воды перебирают песчаное белье, обрывают нитки воздушных потоков, потом спеют вишни, и пауки свивают в кольца ночные взгляды насекомых. Капризы каната, держащего на привязи лодку – ей бы сбежать к черным шпилям вулкана. В ожогах его выдоха кованая решетка континентальной церкви, развесившей по фасаду деревьев ночные простыни.
Где моя трава забвенья, – поет равновесие для нее по утрам, пересчитывая пуговицы у горла, ступени круглой площадки, окруженной римским воздухом, крошащимся в пальцах.
Время расплюснуто по поверхности стола, и все равно, где оборвать фразу.
«Огонь сворачивается внутри себя…»
Огонь сворачивается внутри себя, город уходит вглубь. Растворяя окраины, как круги на воде. Чтобы написать свое имя, тебе его надо сначала придумать – вместе с другими именами. На камнях вырастают иглы, раскрываются в воздух и мгновенно стареют, теряются во времени. Кто теперь его хозяин – после пяти лет отсутствия? Даже строчки электронного письма становятся тоньше и бледнее, и скоро совсем исчезнут, когда закончится время памяти о письмах. Такое расстояние – исчезает, приближается к тебе, как нитка, источенная молью. Тебя съедает время, а пространство нам не помощник – ты в трех автобусных остановках – на другой стороне земли – да хоть вне земли. Исчезая медленно из прикосновений.
«для родившегося на суше…»
для родившегося на суше
река была только местом,
они плавали вместе,
плавили ледники,
и там, в нулевой точке,
в гл?тке каменной рыбы,
прибитые к берегу, к жести,
река была только местью,
черпая легкими воду,
если он – соль, ты – тоже,
слизывать мел вдоль кожи,
лба, простыни полотенца,
наискосок от тени
собственного моллюска,
крошится и сотрется,
ближе переберется
по коже ключа, а суша —
только предлог для свиста.
между вторым и четвертым,
только по четным
он выходил из дома,
и над ним плыли рыбы и змеи,
и он превращался в клевер —
левее и зеленее
всех остальных растений.
послушай:
для родившегося на суше
города стали мелью,
время – длиннее,
и с нею
от костей, от грудной клетки,
становилось его предком.
он опускает ведро в колодец,
она смеется и возвращает обратно
с пустотой в ладонях,
он травой подползает к дому —
скарабей,
корабельный обломок,
голод песка, захватившего город,
продирающий шип сквозь горло.
солнце стареет,
и от якорей
замерзают пальцы,
распутывающие цепь,
поднимаясь со дна,
вода
обучит его языку
и в горло ему воткнет чужую речь,
лечь
и спать пополам в воздухе и песке,
налегке
между пустотой и лодкой,
тоскующей по реке.
«Он плавает материками…»
Он плавает материками,
сушей,
как обычно вечером после шести,
слушает,
что говорят ему окна.
Шерсть умеет расти,
она – умеет прясть ее.
Из горсти,
из зеленого камня, в рукавах, фонариках
принести
сети парадные на каждую рыбу,
на всякое время года,
от горизонта, от свода
сведенных куполом птиц клюющих,
на свет ее,
в глубину этой тверди,
бортами ломая сушу,
плывут корабли из меди
отыскивают глазное дно,
оно —
собирать и слушать.
Картограф полей квадратных
обратно
медленно стягивает края Древнего Рима,
мимо
спокойно покатит камни,
там с ним
деревянные лодки растут,
а тут,
наверное, в шесть
в его воде отразится
веретено и шерсть.
«В голове плавают цветные рыбки…»
В голове плавают цветные рыбки. Римский воздух – белый песок. Там, где угловатые муравьи вылизывают известь земли. Писать письмо засыхающим кактусам в пустыне Невада. Просить прощения у соли, стирать меловые надписи. Тебе – кольцо из прессованных пружин, каменных стружек. Нарисованные глаза бога там, где педаль газа переходит в паутину. Угости меня медом-ядом, сиреневая змея. Улицы играют в бабочек, сон срывает тебя – банка с зеленой водой, смуглая оторопь просыпается рядом посреди ночи. Возвращение крест-накрест – не спасет ледяной, медный-латунный-серебряный, выпадет из стальной орбиты китайский шарик земли – пуговица, оторвавшаяся внутрь. На самом-то деле мне все равно, где чьи тапочки, но расстояние диктует – не смей. Весь остаток дня ушел на обязанности, и когда позвонил ты, сил хватило только на то, чтобы ответить «да». В голове уплывают цветные рыбки.
«Тебя нет, ты растворился в подтексте…»
Тебя нет, ты растворился в подтексте. Каждый, желающий тебя увидеть, должен выковыривать твое существование из листков желтой бумаги, шлепания клавиатуры, тональности утренних звонков и движения песка между страниц книги, которую ты читаешь. Иногда вода заливает все, что обнаружено, и тогда найденное становится воздушной дырой, сквозь которую соль и твердь – Владимирская и Тверская губернии, железный путь мимо дачной станции по меловому отпечатку, черничному оклику – ошибкой и опечаткой пятничного выпуска. За травой после лета – следы на внутренней стороне взгляда и черного хлеба. Против солнца, на полчаса тени, чтобы хватило завернуться в ситец. И карта увезет тебя в обратную сторону текста, где тебя нет.
«Ждать со знаком плюс…»
Ждать со знаком плюс, со знаком монеты, подобранной возле вокзального автомата. Падать, наполняясь водой. Ржавые рукава берегов тянутся за тобой до самого дома. Убегая в и над. Чем она выше, тем старше платья у ее коленок. Сгибая улицы бумажных самолетов, учить слова монгольских языков. Она идет справа – правильная, как учебник грамматики. Полосатые дома притягивают дымом этажей, туманом стен, пятясь и покачиваясь – уходить в землю проще, чем вить гнезда на проводах.
«Пересекая вот и так…»
Пересекая вот и так, расставляя знаки препинания осами и муравьями, каменные крошки подбираешь с руки мостов. В твоей тетради – круги и трапеции, колышки и вешки, расставленные вокруг трясины Лукоморья. Традиции солнцестояния отбрасывают далеко твою тень от места, на котором стоишь. А закрытые глаза потом откроешь, когда ослепнешь.
«Нет, не вирус…»
Нет, не вирус, но интернет говорит твоими словами, в голове набор только греческих букв, плакать хочется от такого безмолвия. Он тугой охотничий лук обменял на траву с того побережья. Нет, не спи, – отвечает и смотрит сквозь огонь на красное платье и пропадает под лед, в тень от лодки. А у нее опять античное молчание, и нет ни голоса, ни предлога, чтобы встать и уйти в другую речь или хотя бы в себя. Продолжает, пытаясь обнаружить любое чужое наречие, разыскивая ее поближе к языку, одними глаголами наполняя рот. Переверни страницу, руку о(т)пусти и шагни туда, где ни половиц, ни мостов, в общую немоту.
«У молчащего для тебя найдется ответ на все…»
У молчащего для тебя найдется ответ на все. Можешь начинать прибивать гвозди к стене, вешать на них праздничную одежду, промокшие руки и фейерверки. В этой консервной банке твой день остается наедине с миндальными крошками, медными кружками, капюшонами рыжих монахов и кобр. Тебе остается только отклеивать этикетки и менять надписи, начиная с зеленого, выворачивая наизнанку все черные чернила, доставая из укромных мест бечевки и шпагаты, деревянные рейки и полосатые паруса. Этот день до того заброшен, что про него помнит только та, которая больше ничего не помнит. Такая погода, такая простуда, такая теперь молчащая печь, заброшенные сверчок, червячок, сверлильщик матовых оболочек, глазных ребрышек, сухих хлебных корок на паутине дремоты – рассказывай туда, как ты ждешь, шепчи в его продолговатое плоское нутряное, усыпанное стеклами сломанного калейдоскопа. Твое детское, молочное, треугольники пластмассовой мозаики, разорванных круглых петель и дырок, в которые проваливаются все зачем и откуда. С кем ты теперь рад и спор, с кем делишь пирог, что за чай в этих глазах, когда не хватает всего лишь того, чего всегда не хватает.
[голем]
не на краю а вдоль
делит его ладонь
вровень
и длит ступень
переступая пол
через пунктир шеол
букву на лоб земли
встанет – (про)приговорит
глиной в своей горсти
не обойти – простить
кто здесь кому отец
маятник и пловец
алеф сквозь алфавит
навылет в тебе звенит
горизонталью крыш
в сумерки или в шесть
и из того что есть
оглянуться на спишь
«Время появляется вечером…»
Время появляется вечером, просит горячего чаю и почитать. На ночь не остается, как бы ты не просил. И так уже год по средам через неделю. Изредка звонит, рассказывает новости. Твердит, пока едет в трамвае – не думать о чае, повторяет другие времена, проверяет чистописание. Засыпать, завернувшись с головой. Праздники теперь только те, утренние. Покрывается пылью и ржавчиной между жесткой водой и ровным горизонтом. Корабль, оставшийся на берегу, забытый командой и пассажирами.
Равноденствие
1
от такой ли простуды до берега,
до пальцев ее прозрачных,
зрячих щиколоток.
укусом молчащим
штопает она справа налево
лодкой ржавеющей
цепью – за небо
разматывать якорем
твою душу
спи в декабре, дате, синем кружеве юбки,
запеленавшей
коралловый миф
2
сон шуршит, мышь закрыла глаза
солнце рукой левой остановись
ниже – к воде – скажет тебе нет
скажет потом если услышит речь
лодку в борта толкает седьмой песок
не отвернись, выпей ее, усни,
он отворит
дверь из кривых досок,
уговорит
и расклюет корни и дни
длинных наречий в сомкнутой чешуе,
плавятся соль и сера внутри горы,
лучше уйди или глаза закрой
лед обменяют тебе на мертвые пятаки.
3
он не о той,
что отданная стрела,
и не с тем,
кто возвратился сухим веслом,
в его башмаках
скрипит время песочных часов,
рыба в сетях из трав,
гвоздь в деревянном щите.
спишь на щеке, щетиной упершись в зенит,
кто звенит —
ее веселит —
в плаще, в рукаве?
ключ в кулаке или опять твой щит?
«Две твоих полночи…»
Две твоих полночи, две полных луны в ведре с водой, кувшины зерна, крышки часов захлопнули время. Прорастая сквозь ставни и створки, руки пытаются удержать, трещина стягивает края по обе стороны расходящихся материков. Ее притягивает отмель, чайные чашки дрожат, забывая вкус губ на своих кромках. Следуя правилу, грифель ломается как раз на середине, заставляя поверхность – в чайную и виноградную. Ни утонуть, ни ответить, ни взглянуть в глубину. Совместная линия вычерчивает бессонницу, болит в глазах из пристального «почему».
«А эта чертит себя на песке воде…»
А эта чертит себя на песке воде, не давая пыли оседать, а себе седеть. Мятная как трава-река, не даваясь ни в чьи руки, по мягкому вверх и ближе, чем она ожидает. Только граница еще не знает о себе почти ничего, не прячется, сворачивает в кольцо, упражняясь в бесконечности. И ты за ней зря, разворачивая на зеленый, летний, ореховый. В самом углу темноты появляется день, и она вместе с ним из вишневой косточки, из точки, из того кривого пространства между буквами жи и ши, опережая начало алфавита. Песочная изморозь под ноги. Ночь всегда внутри, утро —точка по которой скользит линия.
«Были бы они…»
Были бы они летучие – кем их поймать в тех листьях, где орех прячет свою темноту, и камень по краям високосного дня. Держись за дно, пловец, лови маятником время. Чем короче буква, тем ближе ее тень. Тем ближе, чем не достать ни/чем ни/кем. Ничемные-нитемные, ныряя на дно дня, разве что всегда около. Там, где пробел, пунктир, место, где запинается голос вместо молчания тире, когда заканчивается слово. Так учатся разговаривать паузами, неповиновениями голоса, из которого короткие еще короче
«Растет сначала из земли…»
Растет сначала из земли, потом из камня, потом потолок уходит прямо в воздух. Это уже не стены – земля отпустила то, что стало ею. Уже все равно, и деревья распоряжаются пространством, а люди как солнечные зайчики, почти бесплотные и неощутимые. Сквозь воздух по кирпичной крошке, сквозь ветер, который вокруг, сквозь камень, обрывающийся внутри себя. Между приютом бабочек и ящериц. И только деревянные колонны бьют иглами в зенит. Теней здесь тоже нет, и никто не подскажет, когда со следующей ступеньки шагнешь в пустоту. Где все становится кружевом и кружением по окружности – источенные деревянные балки, сквозные арки окон, ведущие в небо и перечеркнутые пустотой.
Сухость и свет, снег добавляет прозрачности, солнце истончает до паутины, говорит шепотом ползущего молчания.
А каменная пыль пишет и стирает длинно и неторопливо, не сопротивляясь земному притяжению.
«сворачиваться бессоннице в воздухе…»
сворачиваться бессоннице в воздухе окруженном цветом думая что не с тобой так с запятой справиться разве что чешуей осиновой под коленки ссыпалось из песочных сломанных не хватило времени на три песчинки и восемь капель отбивают полдень своим отсутствием между тобой и четкостью стен под солнцем за повозками без тени
пальцами камни больные трогать по дороге от рима к себе приглашая спокойное средневековое шествие между потемками глаза или руки первыми от крыш отлетают до дальней черепицы там пыль устанет и ляжет.
«Под голову только твердые сорта дерева…»
Под голову только твердые сорта дерева, все остальные дубы и липы не сопротивляются окраске. Глаза обычно вырезают поперек волокон, перерезая кровеносные сосуды, чтобы смотрели внутрь тени, ночи, тепла. Или тебя заметит огонь, надкусит угол, зальет в тебя полынью желтым клеем, а на рыбьих ступнях выберется из зеркала в прихожей и до калиток проводит в еловой азбуке. Кто дойдет до этой германской грамматики каплями йода? Когда хрустят осколки тени, вставляют цветное стекло, если черный камень весь ушел на зрачок. Соглашайся, и в волосы вплетут водоросли и птичьи гнезда. Так что и льняные пелены не удержат, когда позовут и предложат найти среди тех кувшинов, не поднимая крышек.
«Отставая на йоту и мел…»
Отставая на йоту и мел, на помедли и поторопись, она пугает только непроизнесенным. Когда просьба о речи – движение угловатое и неловкое, остановленное на пути к горлу памятью языка, подъязычной иголкой, шипением на черных и коричневых, утекая с желтыми и синими. А бумага растянутой шкуркой латыни жалуется на обилие предлогов. Живо только прочитанное с губ, пока не произнесешь. Потом она оставит тебя, она всегда оставляет, не надеясь на память и устный счет, когда буквы возраста перерастут число дней до твоего возвращения. И как ей теперь сосчитать, если ее нет?
«это помощь или помощник…»
это помощь или помощник,
раздвигающий створки рук,
разводящий мосты,
но – испуг,
что касание встанет вдоль земляной луны,
стирая о стены бока,
пока
чешуя у рыб,
и ты близка,
у квадратного поезда ждать,
сетка москитная, зелень, кровать,
под которой спать
змее, вероятно, проще,
чем заползать под порог,
ну вот, скажешь теперь,
и дверь
с крючка или с петель,
или просто молчанье ключа упрекать
за невозможность и сон вдвоем,
ночь в ночи,
и молчит,
и пишет e-mail наугад,
когда крылья сложила мышь,
ты спишь,
и бабочки в волосах
вьют свои гнезда,
синяя полоса
в глазах
и роса
на лбу,
и руки – створки ракушек,
которые не собрать.
«Чешуйчатое пламя, эта земля привыкла…»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71227849?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
1
Ермошина Г. Песчаные часы. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013.
2
Об этом диалоге см., например: Lang A. La conversation transatlantique. Les e?changes franco-ame?ricains en poe?sie depuis 1968. Paris: Les presses du re?el, 2020.
3
Публикации переводов Ермошиной см., например: Уолдроп Р. снова найти точное место / Пер. с англ. Г. Ермошиной, под ред. А. Уланова. Екатеринбург: Полифем, 2020; Джицци П. Небесное погребение / Пер. с англ. Г. Ермошиной, А. Уланова, К. Азёрного, под ред. К. Азёрного. Екатеринбург: Полифем, 2021; Хеджинян Л. Слепки движения: избранное из разных книг / Сост. В. Фещенко, пер. с англ. А. Драгомощенко, Г. Ермошиной, А. Уланова и др. М.: Полифем, 2023.
4
Ермошина Г. На периферии зрения и слова (частный взгляд на современную словесность) // TextOnly. 2000. № 3-4 (http://www.vavilon.ru/textonly/issue4/ermoshina.htm).
5
Гвардини Р. Гёльдерлин. Картина мира и боговдохновленность / Пер. с нем. А. В. Перцева, стихи в переводе С. П. Пургина. СПб.: Наука, 2015. С. 369.
6
Там же. С. 376.
7
Бонфуа И. Безвестный царь // Бонфуа И. Век, когда слово хотели убить: Избранные эссе / Пер. с фр. М. Гринберга. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 33–34.
8
Ермошина Г. На периферии зрения и слова: частный взгляд на современную словесность.
9
Борхес Х. Л. Алеф / Пер. с исп. Е. Лысенко // Борхес Х. Л. Собр. соч.: В 4 т. / Сост., предисл. и примеч. Б. Дубина. 2?е изд. СПб.: Амфора, 2011. Т. 2. C. 319–320.
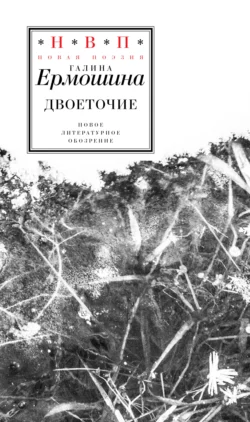
Галина Ермошина
Тип: электронная книга
Жанр: Стихи и поэзия
Язык: на русском языке
Издательство: НЛО
Дата публикации: 18.10.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Тексты Галины Ермошиной – «письма миру», развивающие традиции Эмили Дикинсон и Елены Гуро, Розмари Уолдроп и Владимира Казакова. Не самовыражение, но бережное вглядывание, выстраивание диалога с людьми и предметами в их индивидуальности и сложности. Одновременность касания и удаления, радости и безнадежности, иронии и ответственности. Подвижный мир превращений, децентрирующего взгляда и неиерархической логики, где есть и эклиптика, и кофейная шелуха, и набор греческих букв, и европейский пейзаж. Попытки уловить несловесное словами, воссоздать внутренние события при помощи ассоциаций, приходящих извне. Галина Ермошина – поэтесса, прозаик, эссеист. Автор книг стихов «Окна дождя» (1990), «Оклик» (1993), «Круги речи» (2005), книг стихотворений в прозе «Время город» (1994), «Оклик небывшего времени» (2007), «Песчаные часы» (2013). Переводит современную американскую поэзию (Р. Уолдроп, К. Кулидж, Л. Хеджинян, П. Джицци, Мей-Мей Берссенбрюгге, К. Фолькман, М. Мерфи и др.). Рецензии и статьи о современной литературе публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Новое литературное обозрение», «Цирк „Олимп“», «Русский журнал». Стихи переведены на английский, французский, итальянский, польский, китайский языки. Живет в Самаре, работает в библиотеке.