Путешествие к центру Земли. Вокруг света в восемьдесят дней
Путешествие к центру Земли. Вокруг света в восемьдесят дней
Жюль Габриэль Верн
Большая библиотека приключений. Новое оформление
«Путешествие к центру Земли» – один из самых популярных романов Жюля Верна, неоднократно экранизированный. Написанная с тонким юмором, необычайно увлекательная история эксцентричного немецкого профессора минералогии Отто Лиденброка и его многострадального юного племянника и ассистента Акселя, расшифровавших манускрипт таинственного средневекового исландского алхимика и отправившихся, согласно указаниям этой рукописи, в полное немыслимых приключений странствие по земным недрам, способна и сейчас покорить воображение даже самого искушенного поклонника фантастики.
Мистер Филеас Фогг вел размеренную, спокойную жизнь – по крайней мере, до того, как поспорил, что сможет обогнуть земной шар в кратчайшие сроки. И теперь, как истинный англичанин и джентльмен, он во что бы то ни стало обязан выиграть необычное пари!
Вместе с верным слугой Паспарту он отправляется в полное опасностей и приключений кругосветное путешествие. Героям предстоит пережить восемьдесят самых удивительных и непредсказуемых дней в своей жизни: прочувствовать экзотику далеких стран, попасть в шторм на корабле, проехаться верхом на слоне, сразиться с кровожадными индейцами и быть арестованными буквально перед самой победой…
Жюль Габриэль Верн
Путешествие к центру Земли. Вокруг света за восемьдесят дней
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Путешествие к центру Земли
Глава первая
В воскресенье 24 мая 1863 года мой дядя, профессор Отто Лиденброк, быстрыми шагами подходил к своему домику, номер 19 по Королевской улице – одной из самых старинных улиц древнего квартала Гамбурга.
Наша служанка Марта, наверно, подумала, что она запоздала с обедом, так как суп на плите лишь начинал закипать.
«Ну, – сказал я про себя, – если дядя голоден, то он, как человек нетерпеливый, устроит настоящий скандал».
– Вот и господин Лиденброк! – смущенно воскликнула Марта, приоткрыв дверь столовой.
– Да, Марта, но обед и не должен быть готов, ведь еще нет двух часов. В церкви святого Михаила часы пробили только половину второго.
– Так почему же господин Лиденброк вернулся?
– Он, вероятно, объяснит нам причину.
– Вот и он! Я бегу, господин Аксель, а вы его успокойте.
И Марта поспешила в свою кухонную лабораторию.
Я остался один. Успокаивать рассерженного профессора при моем несколько слабом характере было мне не по силам. Поэтому я собирался благоразумно удалиться наверх, в свою комнатку, как вдруг заскрипела входная дверь; ступени деревянной лестницы затрещали под длинными ногами хозяина дома, и, миновав столовую, он быстро прошел в свой рабочий кабинет.
На ходу он бросил в угол трость с набалдашником в виде щелкунчика, на стол – широкополую с взъерошенным ворсом шляпу и громко крикнул:
– Аксель, иди сюда!
Я не успел сделать и шага, как профессор в явном нетерпении снова позвал меня:
– Ну, где же ты!
Я бросился со всех ног в кабинет моего грозного дядюшки. Отто Лиденброк – человек не злой, я готов засвидетельствовать это, но если его характер не изменится, что маловероятно, то он так и умрет большим чудаком.
Отто Лиденброк был профессором в Иоганнеуме и читал лекции по минералогии, причем регулярно раз или два в течение часа выходил из терпения. Отнюдь не потому, что его беспокоило, аккуратно ли посещают студенты его лекции, внимательно ли слушают их и делают ли успехи: этими мелочами он мало интересовался. Лекции его, согласно выражению немецкой философии, носили «субъективный» характер: он читал для себя, а не для других. Это был эгоистичный ученый, настоящий кладезь премудрости, брюзжавший при малейшей попытке почерпнуть хоть крупицу из сокровищницы его познаний, одним словом – скупец!
В Германии немало профессоров такого рода.
Дядюшка, к сожалению, не отличался живостью речи, по крайней мере когда говорил публично, – а это прискорбный недостаток для оратора. И в самом деле, на своих лекциях в Иоганнеуме профессор часто внезапно останавливался; он боролся с упрямым словом, которое не хотело соскользнуть с его губ, с одним из тех слов, которые сопротивляются, разбухают и, наконец, срываются с уст в форме какого-нибудь – отнюдь не научного – бранного словечка! Отсюда и его крайняя раздражительность.
В минералогии существует много полугреческих, полулатинских названий, трудно произносимых, шероховатых терминов, которые ранят уста поэта. Я вовсе не хочу хулить эту науку. Но, право, самому гибкому языку позволительно заплетаться, когда ему приходится произносить такие, например, названия, как ромбоэдрическая кристаллизация, ретинасфальтовая смола, гелениты, фангазиты, молибдаты свинца, тунгстаты марганца, титанаты циркония.
В городе знали эти извинительные слабости моего дядюшки и злоупотребляли ими: подстерегали малейшую заминку в его речи, выводили его из себя и смеялись над ним, что даже в Германии отнюдь не считается признаком хорошего тона. И если на лекциях Лиденброка всегда было много слушателей, то это только потому, что большинство их приходило лишь позабавиться благородным гневом профессора.
Как бы то ни было, но мой дядюшка – я особенно подчеркиваю это – был истинным ученым. Хотя ему и приходилось, производя опыты, разбивать образцы минералов, все же дарование геолога в нем сочеталось с зоркостью минералога. Вооруженный молоточком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой и пузырьком с азотной кислотой, человек этот был на высоте своей профессии. По внешнему виду, излому, твердости, плавкости, звуку, запаху или вкусу он определял безошибочно любой минерал и указывал его место в классификации шестисот видов известных науке наших дней.
Поэтому имя Лиденброка пользовалось заслуженной известностью во всевозможных ученых обществах. Хемфри Дэви, Гумбольдт, Франклин и Сабин, будучи проездом в Гамбурге, не упускали случая сделать ему визит. Беккерель, Эбельмен, Брюстер, Дюма, Мильн-Эдвардс, Сент-Клер-Девиль охотно советовались с ним по животрепещущим вопросам химии. Эта наука обязана ему значительными открытиями, и в 1853 году появилась в Лейпциге книга профессора Отто Лиденброка под заглавием: Высшая кристаллография – объемистый труд infolio[1 - Формат издания в
/
бумажного листа.] с рисунками, не окупивший, однако, расходов по его изданию.
Кроме того, мой дядюшка был хранителем минералогического музея русского посланника Струве, ценной коллекции, пользовавшейся европейской известностью.
Таков был человек, звавший меня столь нетерпеливо. Теперь представьте себе его наружность: мужчина лет пятидесяти, высокого роста, худощавый, но обладавший железным здоровьем, по-юношески белокурый, глядевший лет на десять моложе своего возраста. Его большие глаза так и бегали за стеклами внушительных очков; его длинный и тонкий нос походил на отточенный клинок; злые языки утверждали, что он намагничен и притягивает железные опилки… Сущая клевета! Он втягивал только табак, и, правду сказать, в большом количестве.
А если прибавить, что дядюшкин шаг, говоря языком математики, равнялся полтуазу[2 - Туаз равен 1,949 м.] и что на ходу он крепко сжимал кулаки – явный признак вспыльчивого нрава, – то этих сведений будет достаточно, чтобы пропала всякая охота искать его общества.
Он жил на Королевской улице в собственном домике, построенном наполовину из дерева, наполовину из кирпича, с зубчатым фронтоном; дом стоял у излучины одного из каналов, которые пересекают наиболее старинную часть Гамбурга, счастливо пощаженную пожаром 1842 года.
Старый дом чуть накренился и, что таить, выпячивал брюхо напоказ прохожим. Крыша на нем сидела криво, как шапочка на голове студента, состоящего членом Тугендбунда; положение его стен было не вполне вертикальным, но, в общем, дом держался стойко благодаря древнему вязу, подпиравшему его фасад и весной касавшемуся своими цветущими ветвями его окон.
Для немецкого профессора дядюшка был сравнительно богат. Дом, со всем, что в нем было и что в нем жило, находился в его полной собственности. К жильцам следует отнести крестницу дядюшки Гретхен, семнадцатилетнюю девушку из Фирланде[3 - Местность близ Гамбурга.], служанку Марту и меня. В качестве племянника и сироты я стал главным помощником профессора в его научных опытах.
Признаюсь, что я находил удовольствие в занятиях геологическими науками; в моих жилах текла кровь минералога, и я никогда не скучал в обществе моих любимых камней.
Впрочем, можно было счастливо жить в этом домике на Королевской улице, несмотря на вспыльчивый нрав его владельца, потому что последний, хотя и обходился со мною довольно круто, все же любил меня. Но этот человек не умел ждать и торопил даже природу.
В апреле месяце дядюшка обычно сажал в фаянсовые горшки, стоявшие в гостиной, резеду и вьюнки, а затем каждое утро дергал их за листочки, чтобы ускорить рост этих растений.
Имея дело с таким оригиналом, ничего другого не оставалось, как повиноваться. Поэтому я поспешил в его кабинет.
Глава вторая
Кабинет дядюшки был настоящим музеем. Здесь находились все образцы минерального царства, снабженные этикетками и разложенные в полном порядке по трем крупным разделам: горючих, металлических и камнеподобных.
Как хорошо были знакомы мне эти научные побрякушки! Как часто, вместо того чтобы бездельничать с товарищами, я забавлялся, сметая пыль со всех этих графитов, антрацитов, лигнитов, с образцов каменного угля и торфа! А битум, асфальт, органические соли – как тщательно их нужно было охранять от малейшей пылинки! А металлы, начиная с железа и кончая золотом, относительная ценность которых исчезала перед абсолютным равенством научных образцов! А все эти камни, которых хватило бы для того, чтобы перестроить наш дом на Королевской улице и даже предусмотреть в нем прекрасную комнату, которая так хорошо подошла бы мне!
Однако, войдя в кабинет, я думал не об этих чудесах. Мои мысли были всецело поглощены дядюшкой. Он сидел в своем вместительном, обитом утрехтским бархатом кресле и держал в руках книгу, которую рассматривал с глубочайшим восхищением.
– Какая книга! Какая книга! – восклицал он.
Этот возглас напомнил мне, что профессор Лиденброк время от времени становился библиоманом; но книга имела в его глазах ценность лищь в том случае, если она была уникальна или по крайней мере неудобочитаема.
– Взгляни, – сказал он, – разве ты не видишь? Это бесценное сокровище я нашел сегодня утром в лавке еврея Гевелиуса.
– Великолепно! – ответил я с притворным восхищением.
И действительно, к чему столько шума из-за старой книжонки в кожаном переплете, из-за старинной пожелтевшей книжки с выцветшими буквами?
Между тем профессор продолжал восхищаться своим приобретением.
– Посмотри! Разве это не прекрасно? – спрашивал они тут же отвечал: – Да, восхитительно! А какой переплет! Легко ли книга раскрывается? Ну, конечно! Ее можно держать раскрытой на любой странице! Хорошо ли она выглядит в закрытом виде? Отлично! Обложка и листы хорошо сброшюрованы, все на месте, все пригнано одно к другому! А корешок? Семь веков существует книга, и ни единой трещины! Вот это переплет! Он мог бы составить гордость Бозериана, Клосса и Пюргольда!
Рассуждая так, дядюшка то открывал, то закрывал старинную книгу.
Я не нашел ничего лучшего, как спросить, что же это за книга, хотя она мало меня интересовала.
– А каково же заглавие этой замечательной книги? – спросил я лицемерно.
– Это сочинение, – отвечал дядюшка, воодушевляясь, – носит название «Хеймс-Крингла», автор его Снорре Турлесон, знаменитый исландский писатель двенадцатого века! Это история норвежских конунгов, правивших в Исландии!
– Неужели? – воскликнул я, насколько возможно радостнее. – Вероятно, в немецком переводе?
– Подумаешь! – возразил горячо профессор. – В переводе!.. Что мне делать с переводом? Кому он нужен, перевод? Это оригинальный труд на исландском языке – великолепном, богатом идиомами и в то же время простом, в котором, не нарушая грамматической структуры, уживаются самые причудливые словообразования.
– Как и в немецком языке, – прибавил я, подлаживаясь к нему.
– Да, – ответил дядюшка, пожимая плечами, – но с той разницей, что в исландском языке существуют три грамматических рода, как в греческом, и собственные имена склоняются, как в латинском.
– Ах, – воскликнул я, превозмогая свое равнодушие, – какой прекрасный шрифт!
– Шрифт? О каком шрифте ты говоришь, несчастный Аксель? Дело вовсе не в шрифте! Ах, ты, верно, думаешь, что книга напечатана? Нет, глупец, это манускрипт, рунический манускрипт!..
– Рунический?
– Да! Ты, может быть, попросишь объяснить тебе это слово?
– В этом я не нуждаюсь, – ответил я с видом оскорбленного достоинства.
Но дядюшка продолжал еще усерднее поучать меня, помимо моей воли, вещам, о которых я и знать ничего не хотел.
– Руны, – продолжал он, – это письменные знаки, которые некогда употреблялись в Исландии и, по преданию, были изобретены самим Одином[4 - Один – в скандинавской мифологии высший из богов.]! Но взгляни же, полюбуйся, нечестивец, на эти письмена, созданные фантазией самого бога!
Право, не зная, что сказать, я готов был пасть на колени, ибо такой ответ угоден и богам и королям, и он никогда не ставит их в затруднительное положение. Но тут одно неожиданное обстоятельство дало нашему разговору иной оборот.
Внезапно из книги выпал полуистлевший пергамент.
Дядюшка накинулся на эту безделицу с жадностью вполне понятной. В его глазах ветхий документ, лежавший, быть может, с незапамятных времен в древней книге, должен был, несомненно, иметь огромную ценность.
– Что это такое? – воскликнул дядюшка.
И он бережно развернул на столе клочок пергамента пяти дюймов длины, трех ширины, на котором были начертаны поперечными строчками какие-то знаки, достойные чернокнижия.
Вот точный снимок рукописи. Я должен привести здесь эти загадочные письмена, ибо они побудили профессора Лиденброка и его племянника предпринять самое удивительное путешествие ХХ века:
Профессор в продолжение нескольких минут рассматривал рукопись; затем, подняв повыше очки, сказал:
– Это рунические письмена; знаки эти идентичны знакам манускрипта Снорре. Но… что они означают?
Мне всегда казалось, что рунические письмена лишь выдумка ученых для одурачивания простого люда, а потому меня отнюдь не огорчило, что дядя ничего не мог в них понять. По крайней мере я заключил это по нервным движениям его пальцев.
– Однако это древнеисландский язык, – бормотал он себе под нос.
Профессор Лиденброк должен был, конечно, знать, какой это язык, ведь недаром он слыл замечательным языковедом. Было бы преувеличением утверждать, что он знал две тысячи языков и четыре тысячи диалектов, которые известны на земном шаре, и все же он говорил на доброй части из них.
Встретив непредвиденное затруднение, он собрался было впасть в гнев, и я уже предвидел бурную сцену, но в это время на каминных часах пробило два.
Тотчас же приотворилась дверь, и Марта доложила:
– Кушать подано!
– К черту обед, – закричал дядюшка, – и того, кто его варит, и того, кто будет его есть!
Марта убежала. Я поспешил за нею и оказался, сам не зная как, за столом на своем обычном месте.
Я подождал немного. Профессор не появлялся. Впервые, насколько мне известно, он пропустил эту трапезу. А обед-то был какой! Бульон, посыпанный петрушкой, омлет с ветчиной и мускатными орехами, жареная телятина под сливовым соусом, на десерт – засахаренные фрукты, и ко всему этому превосходное мозельское вино.
И все это дядюшка прозевал из-за какой-то старой бумажонки. Право, как преданный племянник, я почел себя обязанным пообедать за нас обоих, что и выполнил на совесть.
– Невиданное дело! – сказала Марта. – Господина Лиденброка нет за столом!
– Невероятный случай!
– Это плохой признак, – продолжала старая служанка, качая головой.
По-моему, отсутствие дядюшки за столом не предвещало ровно ничего, кроме ужасной сцены, когда обнаружится, что его обед съеден.
Я с жадностью доедал последний кусочек, как вдруг громкий голос оторвал меня от стола.
Одним прыжком я очутился в дядином кабинете.
Глава третья
– Ясно, что это рунические письмена, – сказал профессор, морща лоб. – Но я открою тайну, которая в них скрыта, иначе…
Решительным ударом кулака он довершил свою мысль.
– Садись у стола, – продолжал он, – и пиши.
В мгновение ока я был готов.
– А теперь я буду называть тебе буквы нашего алфавита, соответствующие одному из этих исландских знаков. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ради всего святого, не наделай ошибок!
Он начал диктовать. Я прилагал все свои старания, чтобы не ошибиться. Он называл одну букву за другой, и, таким образом, последовательно составлялась таблица непостижимых слов:
Когда работа была окончена, дядюшка поспешно выхватил у меня листок, на котором я написал буквы, и долго внимательно изучал их.
– Что это значит? – повторял он машинально.
Откровенно говоря, я не мог бы ответить на его вопрос. Впрочем, он и не спрашивал меня, а продолжал говорить сам с собой.
– Это то, что мы называем шифром, – рассуждал он вслух. – Смысл написанного умышленно скрыт за буквами, расставленными в беспорядке; однако, если бы их расположить в надлежащей последовательности, то они образовали бы понятную фразу. Полагаю, что в ней содержится объяснение какого-нибудь великого открытия или указание на него!
Я, со своей стороны, думал, что тут ровно ничего не скрыто, но остерегся высказать свое мнение.
Профессор между тем взял книгу и пергамент и начал их сравнивать.
– Записи эти сделаны не одной и той же рукой, – сказал он, – зашифрованная записка более позднего происхождения, чем книга, и неопровержимое доказательство тому мне сразу бросилось в глаза. В самом деле, в тайнописи первая буква – двойное М – не встречается в книге Турлесона, ибо она была введена в исландский алфавит только в четырнадцатом веке. Следовательно, между манускриптом и документом лежат по крайней мере два столетия.
Рассуждение это показалось мне логичным.
– Это наводит меня на мысль, – продолжал дядюшка, – что таинственная запись сделана одним из обладателей книги. Но кто же, черт возьми, был этот обладатель? Не оставил ли он своего имени на какой-нибудь странице рукописи?
Дядюшка поднял повыше очки, взял сильную лупу и тщательно просмотрел первые страницы книги. На обороте второй страницы он открыл что-то вроде пятна, похожего на чернильную кляксу; но, вглядевшись в него, можно было различить несколько наполовину стертых знаков. Дядя понял, что именно на это место надо обратить наибольшее внимание; он принялся чрезвычайно старательно рассматривать его и разглядел наконец с помощью лупы следующие рунические письмена, которые и прочел без всякого затруднения:
– Арне Сакнуссем! – воскликнул он торжествующе. – Но ведь это имя, имя исландское, принадлежит ученому шестнадцатого столетия, знаменитому алхимику!
Я посмотрел на дядю с восхищением.
– Алхимики, – продолжал он, – Авиценна, Бэкон, Люль, Парацельс были единственными истинными учеными своей эпохи. Они сделали открытия, которым мы можем только удивляться. Разве не мог Сакнуссем под этим шрифтом скрыть какое-либо удивительное открытие? Так оно должно быть! Так оно и есть!
При этой гипотезе воображение профессора разыгралось.
– Весьма вероятно, – дерзнул я ответить, – но для чего было этому ученому держать в тайне столь чудесное открытие?
– Для чего? Почем я знаю! Разве Галилей не так же поступил с Сатурном? Впрочем, увидим: я вырву тайну этого документа, я не буду ни есть, ни спать, пока не разгадаю ее.
«Ну и ну!» – подумал я.
– Ни я, Аксель, ни ты! – продолжал он.
«Черт возьми! – сказал я про себя. – Как хорошо, что я пообедал за двоих!»
– Прежде всего, – заметил дядюшка, – надо разгадать этот «шифр», что вполне возможно.
При этих словах я поднял голову. Дядюшка продолжал разговор с самим собой:
– Нет ничего легче этого! Документ содержит сто тридцать две буквы: семьдесят девять согласных и пятьдесят три гласных. Приблизительно такое же соотношение существует в южных языках, в то время как наречия севера бесконечно богаче согласными. Следовательно, мы имеем дело с одним из южных языков.
Выводы были правильные.
– Но какой это язык? Сакнуссем, – продолжал дядя, – был ученый человек; поэтому, раз он писал не на родном языке, то, разумеется, должен был отдавать преимущество языку, общепринятому среди образованных умов шестнадцатого века, а именно – латинскому. Если я ошибаюсь, то можно будет испробовать испанский, французский, итальянский, греческий или еврейский. Но ученые шестнадцатого столетия писали обычно по-латыни. Таким образом, я вправе признать а priori, что это латынь.
Я вскочил со стула. Как человек, изучавший латынь, я был возмущен, что этот ряд неуклюжих знаков может принадлежать сладкозвучному языку Вергилия.
– Да, латынь, – продолжал дядюшка, – но запутанная латынь.
«Отлично! – подумал я. – Если ты ее распутаешь, милый дядюшка, я скажу, что ты ученый семи пядей во лбу».
– Всмотримся хорошенько, – сказал он, снова взяв исписанный мною листок. – Вот ряд из ста тридцати двух букв, расположенных крайне беспорядочно. В одних словах встречаются только согласные, как, например, первое «mrnlls»; в других, напротив, преобладают гласные, например, в пятом «inteief» или в предпоследнем – «oseibo». Очевидно, эта группировка не случайна; она произведена математически, при помощи неизвестного нам соотношения между двумя величинами, которое и определило последовательность этих букв. Не подлежит сомнению, что первоначальная фраза была написана правильно, но затем по какому-то принципу, который еще надо найти, подверглась преобразованию. Тот, кто овладел бы ключом этого шифра, свободно прочел бы ее. Но что это за ключ? Аксель, ты не знаешь его?
На этот вопрос я не мог ответить – и по весьма основательной причине: мои взоры были устремлены на прелестный портрет, висевший на стене, – на портрет Гретхен. Воспитанница дядюшки находилась в это время в Альтоне у одной из своих родственниц, и я был очень опечален ее отсутствием, так как – теперь я могу в этом сознаться – хорошенькая питомица профессора и его племянник любили друг друга с истинным постоянством и чисто немецкой сдержанностью. Мы обручились без ведома дяди, который был слишком предан науке, чтобы понимать подобные чувства. Гретхен была очаровательная блондинка, с голубыми глазами, с твердым характером и серьезным складом ума; но это ничуть не уменьшало ее любви ко мне; что касается меня, я обожал ее, если только это понятие существует в старогерманском языке. Образ моей юной фирландки перенес меня мгновенно из мира действительности в мир грез и воспоминаний.
Я задумался о моей верной подруге, делившей со мной часы трудов и отдохновения. Она изо дня в день помогала мне приводить в порядок дядюшкину бесценную коллекцию; вместе со мной она наклеивала этикетки на образцы минералов. Гретхен была очень сильна в минералогии и могла заткнуть за пояс любого ученого. Она любила углубляться в научные премудрости. Сколько чудесных часов провели мы за совместными занятиями! И как часто я завидовал бесчувственным камням, к которым прикасались ее прелестные ручки!
Окончив работу, мы шли вместе по тенистым дорогам Альсера до старой мельницы, которая так чудесно рисовалась в конце озера. Дорогою мы болтали, держась за руки; я рассказывал ей всякие веселые истории, заставлявшие ее от души смеяться; путь этот приводил нас к берегам Эльбы, и там, попрощавшись с лебедями, которые плавали среди белых кувшинок, мы садились на пароход и возвращались домой.
В то мгновение, когда я в своих мечтаниях уже выходил на набережную, дядя, ударив кулаком по столу, сразу вернул меня к действительности.
– Посмотрим, – сказал он. – При желании затемнить смысл фразы первое, что приходит на ум, как мне кажется, это написать слова по вертикали, а не по горизонтали. Посмотрим, что из этого выйдет! Аксель, напиши какую-нибудь фразу на этом листке, но вместо того, чтобы располагать буквы в строчку, напиши их в той же последовательности, но вертикально, по пяти или по шести в столбце.
Я сразу понял, что от меня требуется, и написал сверху вниз:
– Хорошо, – сказал профессор, не читая написанного. – Теперь напиши буквы, которые получились в столбце, в строчку.
Я повиновался, получилась следующая фраза:
Ятецр! лемеое юбсмгт бяе, ах лврдяе юсдоГн
– Превосходно? – произнес дядюшка, вырывая у меня из рук листок. – Это уже походит на наш старый документ; гласные и согласные расположены в одинаковом беспорядке, даже прописная буква и запятая в середине слова, совсем как на пергаменте Сакнуссема!
Я не мог не признать, что эти замечания весьма глубокомысленны.
– А теперь, – продолжал дядюшка, обращаясь уже непосредственно ко мне, – для того чтобы прочесть фразу, которую ты написал и содержания которой я не понимаю, мне достаточно соединять по порядку сначала первые буквы каждого слова, потом вторые, потом третьи и так далее.
И дядя, к своему и к моему величайшему изумлению, прочел:
Я люблю тебя всем сердцем, дорогая Гретхен!
– Ого! – сказал профессор.
Да, как влюбленный глупец, я необдуманно написал эту предательскую фразу!
– Так-с!.. Ты, значит, любишь Гретхен? – продолжал дядюшка тоном заправского опекуна.
– Да… Нет… – бормотал я.
– Так-с, ты любишь Гретхен! – машинально повторил он. – Ну, хорошо, применим мой метод к исследуемому документу.
И дядюшка снова погрузился в размышление, которое целиком заняло его внимание, заставив позабыть о моих неосторожных словах. Я говорю «неосторожных», потому что ученый был неспособен понять сердечные дела. Но, к счастью, интерес к документу возобладал над всем остальным. Когда профессор Лиденброк собрался произвести свой решающий опыт, глаза его метали молнии сквозь очки; дрожащими пальцами он снова взял древний пергамент. Он был взволнован не на шутку. Наконец дядюшка основательно прокашлялся и начал диктовать мне торжественным тоном, называя сначала первые буквы каждого слова, потом вторые; он диктовал буквы в таком порядке:
Сознаюсь, что, кончая дописывать, я волновался: в сочетании этих букв, произносимых одна за другой, я не мог уловить ровно никакого смысла, а с нетерпением ожидал, что из уст профессора потечет на великолепной латыни торжественная речь.
Но кто бы мог ожидать этого? Сильный удар кулака потряс стол. Чернила брызнули, перо выпало у меня из рук.
– Не то, не то! – закричал дядюшка. – Получилась чистейшая бессмыслица!
И, пролетев, как пушечное ядро, через кабинет, скатившись по лестнице, словно лавина, он устремился на Королевскую улицу и кинулся бежать во весь дух.
Глава четвертая
– Он ушел? – воскликнула Марта, испуганная грохотом входной двери, захлопнутой с такой силой, что затрясся весь дом.
– Да, – ответил я, – совсем ушел!
– Как же так? А обед? – спросила старая служанка.
– Он не будет обедать!
– А ужинать?
– Он не будет ужинать!
– Не будет?! – воскликнула Марта, всплеснув руками.
– Да, добрейшая Марта, он не будет больше есть, и никто не будет есть во всем доме! Дядюшка хочет заставить нас всех поститься до тех пор, пока ему не удастся разобрать всю эту тарабарщину, которая решительно не поддается расшифровке.
– Господи Иисусе! Так нам, значит, ничего не остается, как умереть с голода?
Я не отваживался признаться, что, имея дело со столь упорным человеком, как мой дядя, нас неизбежно ждет эта печальная участь.
Старая служанка, вздыхая, отправилась к себе на кухню.
Когда я остался один, мне пришло на ум поскорее рассказать Гретхен всю эту историю. Но как отлучиться из дома? Профессор мог каждую минуту вернуться. А что, если он меня позовет? А что, если он захочет снова начать свою работу по разгадыванию логогрифа, которую не сумел бы выполнить и сам Эдип? И что будет, если я не откликнусь на его зов?
Самое разумное было остаться дома. Как раз некий минералог из Безансона прислал нам коллекцию кремнистых жеод, которые нужно было классифицировать. Я принялся за дело. Я разбирал, наклеивал ярлыки, размещал в стеклянном ящике все эти полые камни, в которых поблескивали маленькие кристаллы.
Но это занятие не поглощало меня целиком. Древний документ не выходил у меня из памяти. Голова моя горела, и я был охвачен беспокойством. Я предчувствовал неминуемую катастрофу.
По прошествии часа мои камни были размещены по порядку. Я опустился в «утрехтское» кресло, запрокинул голову и свесил руки. Потом я закурил трубку, длинный изогнутый чубук которой был украшен фигуркой наяды, и забавлялся, наблюдая, как мало-помалу моя наяда, покрываясь копотью, превращалась в настоящую негритянку. Время от времени я прислушивался, не раздадутся ли шаги на лестнице, но ничего не было слышно. Где же мог быть дядя? Я представлял его себе бегущим под прекрасными деревьями Альтонской дороги; на ходу он в неистовстве сбивает палкой листья, чертит какие-то знаки на стенах, отсекает головки чертополоха и нарушает покой сонных лебедей.
Вернется ли он торжествующим или обескураженным? Удастся ли ему разгадать тайну? Рассуждая сам с собой, я машинально взял в руки лист бумаги, на котором выстроился ряд загадочных строк, начертанных моей рукой.
Я повторял:
«Что же это означает?»
Я пытался так сгруппировать буквы, чтобы они образовали слова, но ничего не выходило! Их можно было соединять как угодно, по две, по три, по пяти или по шести, толку от этого не было. Но все же из четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой буквы получилось английское слово «ice», а из восемьдесят четвертой, восемьдесят пятой и восемьдесят шестой слово «sir». Наконец в середине документа, на второй и третьей строках, я заметил латинские слова «rota», «mutabill, «ira», «nec», «ara».
«Черт возьми! – подумал я. – По этим словам дядя, пожалуй, сможет судить о языке документа. На четвертой строке я различаю еще слово “luco”, что означает “священная роща”; правда, на третьей можно прочитать еврейское слово “tabilet”, а на последней – чисто французские слова “mer”, “arc”, “m?re”».
Было отчего потерять голову! Четыре различных языка водной бессмысленной фразе! Какая могла существовать связь между словами «лед», «господин», «гнев», «жестокий», «священная роща», «переменчивый», «мать», «лук», «море»?
Только последнее и первое слово легко можно было соединить друг с другом; ничего не было удивительного, что в документе, написанном в Исландии, говорилось о «ледяном море». Но остальную часть шифра понять было не так-то легко.
Я боролся с неразрешимой загадкой; мозг мой пылал; я хлопал глазами, глядя на листок бумаги, и мне казалось, что все эти сто тридцать две буквы прыгают передо мною, как светящиеся точки, мелькающие перед закрытыми глазами, когда кровь приливает к голове.
Я оказался во власти своего рода галлюцинации; я задыхался, мне не хватало воздуха. Машинально я стал обмахиваться этим листком бумаги, так что его лицевая и оборотная стороны попеременно представали перед моим взором.
Каково же было мое изумление, когда мне показалось, что передо мной промелькнули знакомые латинские слова: “craterem”, “terrestre!
Разом луч света озарил мое сознание; эти скупые слова навели меня на путь истины; я нашел секрет шифра! Чтобы понять документ, совсем не требовалось его читать шиворот-навыворот. Нет, загадочные письмена можно было свободно прочесть в том виде, в каком они были начертаны и продиктованы. Все остроумные предположения профессора оказались правильными; он был прав и относительно расположения букв и относительно языка документа! Для того чтобы прочитать это латинское предложение с начала до конца, ему лишь не хватало еще «чего-то», и это «что-то» открыл мне случай!
Разумеется, я был очень взволнован. В глазах у меня мутилось, они отказывались мне служить. Я разложил пергамент на столе. Мне достаточно было бросить один только взгляд на шифр, чтобы овладеть тайной.
Наконец я с трудом унял свое волнение. Чтобы успокоить нервы, я заставил себя пройтись по комнате, а затем снова опустился в кресло.
– Прочтем теперь! – воскликнул я, вздохнув полной грудью.
Я склонился над столом, проследил по порядку каждую букву и прочел громким голосом всю фразу, не останавливаясь, не запинаясь.
Но какое изумление, какой ужас охватили меня! Сначала я стоял, словно оглушенный ударом. Как! Неужели то, что я только что узнал, было уже осуществлено? Неужели нашелся такой смельчак, что проник…
– Ах! – вскричал я в сердцах. – Нет, нет, дядя не должен узнать этого! Иначе он непременно пустится в такое путешествие! Он тоже захочет испытать все это! Ничто не сможет удержать его, такого смелого геолога! Он поедет непременно, несмотря ни на что, вопреки всему! И он возьмет меня с собой, и мы никогда не вернемся! Никогда, никогда!
Я был в неописуемом возбуждении.
– Нет, нет, этому не бывать! – произнес я решительно. И раз в моей власти не допустить, чтобы такая мысль пришла в голову моему тирану, я и не допущу! Переворачивая документ и так и эдак, он может случайно найти ключ к шифру! Я уничтожу документ!
В камине еще тлели угли. Я схватил не только исписанный мною лист, но также и пергамент Сакнуссема; дрожащей рукой я собирался бросить проклятые бумаги в огонь и таким образом скрыть опасную тайну.
В этот момент дверь кабинета отворилась, и вошел дядюшка.
Глава пятая
Я едва успел положить злосчастный документ на стол.
Профессор Лиденброк, казалось, находился в глубокой задумчивости. Овладевшая им мысль не давала ему ни минуты покоя; во время прогулки он, очевидно, исследовал, толковал на все лады мучившую его проблему, напрягая все свое воображение, и вернулся, чтобы испробовать какой-то новый прием.
В самом деле, он сел в свое любимое кресло, схватил перо и начал записывать формулы, похожие на алгебраические.
Я следил взглядом за его дрожащей рукой; я не упускал из виду ни малейшего его движения. Что, если случайно он разгадает загадку? Я волновался, и, в общем, напрасно: поскольку «единственный» правильный способ прочтения уже открыт, всякое исследование в ином направлении поневоле будет тщетным.
В течение трех часов трудился дядюшка, не говоря ни слова, не поднимая головы, то зачеркивая свои писания, то восстанавливая их, то опять марая написанное и в тысячный раз все начиная сначала.
Я прекрасно знал, что стоит ему составить из этих букв все мыслимые словосочетания, и искомая фраза в конце концов получится. Но я знал также, что из двадцати букв получается два квинтильона четыреста тридцать два квадрильона девятьсот два триллиона восемь миллиардов сто семьдесят шесть миллионов шестьсот сорок тысяч словосочетаний! А в искомой фразе было сто тридцать две буквы, и эти сто тридцать две буквы могли образовать такое невероятное количество словосочетаний, которое не только подсчитать, но и представить себе невозможно!
Я мог не волноваться по поводу столь героического способа разрешить проблему.
Между тем время шло; наступила ночь; шум на улицах стих; дядюшка, все еще занятый разрешением своей задачи, ничего не видел, не заметил даже Марту, когда она приотворила дверь; он ничего не слышал, даже голоса этой верной служанки, спросившей его:
– Сударь, вы будете сегодня ужинать?
Марте пришлось уйти, не получив ответа. Что касается меня, то, как я ни боролся с дремотой, все же заснул крепким сном, примостившись в уголке дивана, между тем как дядюшка Лиденброк упорно продолжал писать и снова зачеркивать свои формулы.
Когда утром я проснулся, неутомимый исследователь все еще был за работой. Его красные глаза, волосы, всклокоченные нервной рукой, лихорадочные пятна на бледном лице в достаточной степени свидетельствовали о той страшной борьбе, которую он вел в своем стремлении добиться невозможного, и о том, скольких усилий, какого напряжения потребовали от него эти ночные часы.
Право, я пожалел дядюшку. Несмотря на то что я не без основания мог во многом упрекнуть его, тщетные усилия ученого тронули меня. Бедняга был до того поглощен своей идеей, что даже позабыл о гневных вспышках. Все его жизненные силы были сосредоточены на одном, и можно было опасаться, что, не находя исхода, они доведут его до гибели.
Я мог одним движением, одним словом освободить его от железных тисков, сжимавших его голову! Но я этого не делал.
А между тем сердце у меня было доброе. Отчего же оставался я нем и глух при таких обстоятельствах? Да в интересах самого же дяди.
«Нет, нет! я ничего не скажу! – твердил я сам себе. – Я его знаю, он захочет поехать; ничто не остановит его. У него безудержное воображение, и он рискнет жизнью, чтобы совершить то, чего не сделали другие геологи. Я буду молчать; я оставлю при себе тайну, обладателем которой сделала меня случайность! Открыть ее – значит обречь профессора Лиденброка на смерть! Пусть он отгадает ее, если сумеет. Я не желаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось упрекать себя за то, что я толкнул его на столь губительный шаг!»
Приняв это решение, я скрестил руки и стал ждать. Но я не учел побочного обстоятельства, имевшего место несколько часов тому назад.
Когда Марта собралась было идти на рынок, оказалось, что заперта наружная дверь и ключ из замка вынут. Кто же его мог взять? Очевидно, дядя, когда он вернулся накануне вечером с прогулки.
Было ли это сделано намеренно или нечаянно? Неужели он хотел подвергнуть нас мукам голода? Нет, это уж слишком! Как! Заставлять меня и Марту страдать из-за того, что нас совершенно не касается? Ну, конечно, так! И я вспомнил другой подобный же случай, способный испугать кого угодно. В самом деле, несколько лет назад, когда дядя работал над своей минералогической классификацией, он пробыл без пищи сорок восемь часов, причем всему дому пришлось разделить с ним эту диету в интересах науки. У меня начались тогда судороги в желудке – вещь малоприятная для молодца, обладающего дьявольским аппетитом.
И я понял, что завтрак сегодня будет так же отменен, как вчера ужин. Я решил, однако, держаться героически и не поддаваться требованиям желудка. Марта, не на шутку встревоженная, всполошилась. Что касается меня, больше всего я был обеспокоен невозможностью выйти из дома. Причина была ясна.
Дядя продолжал работать: воображение уносило его в высокие сферы умозаключений; он витал над землей и в самом деле не ощущал земных потребностей.
Около полудня голод стал серьезно мучить меня. В простоте сердечной Марта извела накануне все запасы, находившиеся в кладовой; в доме не осталось ничего съестного. Но я стойко держался, что было для меня своего рода делом чести.
Пробило два часа. Положение становилось смешным, невыносимым. У меня буквально живот подводило. Мне стало казаться, что я преувеличил важность документа, что дядя не поверит сказанному в нем, признает все это простой мистификацией, что в худшем случае мы насильно удержим его, если он захочет пуститься в такое опасное путешествие, и что, наконец, он может и сам найти ключ шифра, и тогда окажется, что я даром постился.
Эти доводы, которые я накануне отбросил бы с негодованием, представлялись мне теперь превосходными; мне показалось даже смешным, что я так долго колебался, и я решил все сказать.
Я ждал лишь благоприятного момента, чтобы начать разговор, как вдруг профессор встал, надел шляпу.
Как! Уйти из дома, а нас снова запереть! Этому не бывать!
– Дядюшка, – сказал я.
Казалось, он не слыхал.
– Дядя Лиденброк! – повторил я, повышая голос.
– Что? – спросил он, как человек, которого внезапно разбудили.
– Как это что! А ключ?
– Какой ключ? От входной двери?
– Нет, – воскликнул я, – ключ к документу!
Профессор поглядел на меня поверх очков; он заметил, вероятно, что-нибудь необыкновенное в моей физиономии, потому что порывисто схватил мою руку и молча устремил на меня вопрошающий взгляд. Однако ни один вопрос еще не был выражен столь ясно.
Я утвердительно кивнул.
Он соболезнующе покачал головою, словно имел дело с сумасшедшим.
Я кивнул еще более выразительно.
Глаза его заблестели, поднялась угрожающе рука.
Этот немой разговор при таких обстоятельствах мог бы заинтриговать самого апатичного свидетеля. Действительно, я не решался сказать ни одного слова, боясь, как бы дядя не задушил меня от радости в своих объятиях. Но отвечать, однако, было необходимо.
– Да, этот ключ… случайно…
– Что ты говоришь? – вскричал он в неописуемом волнении.
– Вот он! – сказал я, подавая ему листок бумаги, исписанный мною. – Читайте.
– Но это же не имеет смысла! – возразил он, комкая бумагу.
– Не имеет, если читать с начала, но если начать с конца…
Я не успел кончить фразу, как профессор вскрикнул, вернее, взревел! Словно откровение снизошло на него; он совершенно преобразился.
– Ах, хитроумный Сакнуссем! – воскликнул он. – Так ты, значит, написал фразу наоборот?
И с помутившимся взором, схватив бумагу, он прочитал дрожащим голосом весь документ от последней до первой буквы.
Документ гласил следующее:
«In Sneffels Yoculis craterem kem delibat umbra Scartaris Julii intra calendas descende, audas viator, et terrestre centrum attinges. Kod feci. – Arne Saknusemm».
В переводе это означало:
«Спустись в кратер Екуль Снефельс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами[5 - Календы – так римляне называли первые дни каждого месяца.], отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Это я совершил. – Арне Сакнуссем».
Прочитав эти строки, он подскочил, словно дотронулся нечаянно до лейденской банки. Преисполненный радости, уверенности и отваги, он был великолепен. Он ходил взад и вперед, хватался руками за голову, передвигал стулья, складывал в кучу свои книги; он играл, – кто бы мог этому поверить, – как мячиками, минералами, ударял кулаком по столу или похлопывал рукой по креслу. Наконец его нервы успокоились, и он опустился, утомленный, в кресло.
– Который час, однако? – спросил он немного погодя.
– Три часа, – ответил я.
– Как скоро настало время обеда! Я умираю с голоду. К столу! А потом…
– Потом?..
– Ты уложишь мой чемодан.
– Хорошо! – воскликнул я.
– И свой тоже, – добавил безжалостный профессор, входя в столовую.
Глава шестая
При этих словах дрожь пробежала по моему телу; однако я овладел собой и решил даже виду не подавать, что испуган. Только научные доводы смогут удержать профессора Лиденброка, а их было немало и весьма серьезных. Отправиться к центру Земли! Какое безумие! Я приберегал свои возражения до более благоприятного момента и приготовился обедать.
Нет надобности описывать, как разгневался мой дядюшка, когда увидел, что стол не накрыт! Но тут же все объяснилось. Обретя свободу, Марта поспешила на рынок и так быстро приготовила обед, что через час мой голод был утолен, и я снова ясно представил себе положение вещей.
Во время обеда дядюшка был почти весел; он сыпал шутками, которые всегда бывают безобидны у ученых. После десерта он сделал мне знак следовать за ним в кабинет.
Я повиновался. Он селу одного конца стола, я у другого.
– Аксель, – сказал он довольно мягко, – ты весьма разумный юноша; ты оказал мне сегодня большую услугу, когда я, утомленный борьбой, хотел уже отказаться от своих изысканий. Куда бы завели меня попытки решить эту задачу? Неизвестно! Я никогда этого не забуду, и ты приобщишься к славе, которую мы заслужим.
«Ну, – подумал я, – он в хорошем настроении – подходящая минута, чтобы поговорить об этой самой славе».
– Прежде всего, – продолжал дядя, – я убедительно прошу тебя сохранять полнейшую тайну. Ты понимаешь, конечно? В мире ученых сколько угодно завистников, многие захотели бы предпринять путешествие, о котором они должны узнать лишь после нашего возвращения.
– Неужели вы думаете, что таких смельчаков много?
– Несомненно! Кто стал бы долго раздумывать, узнав о возможности приобрести такую славу? Если бы этот документ был предан гласности, целая армия геологов поспешила бы по следам Арне Сакнуссема!
– Я вовсе не убежден в этом, дядя, ведь достоверность документа ничем не доказана.
– Как! А книга, в которой мы его нашли?
– Хорошо! Я согласен, что Сакнуссем написал эти строки, но разве из этого следует, что он действительно предпринял такое путешествие, да и разве старый документ не может быть мистификацией?
Я почти раскаивался, что произнес это резкое слово. Профессор нахмурил брови, и я боялся, что наш разговор примет плохой оборот. К. счастью, этого не случилось. Мой строгий собеседник, изобразив на своей физиономии некое подобие улыбки, ответил:
– Это мы проверим.
– Ах, – сказал я, несколько озадаченный, – позвольте мне высказать все, что можно сказать по поводу документа.
– Говори, мой мальчик, не стесняйся. Я даю тебе полную свободу высказать свое мнение. Ты теперь не только племянник мой, но и коллега. Итак, продолжай.
– Хорошо, я вас спрошу прежде всего, что такое эти Ёкуль, Снефельс и Скартарис, о которых я никогда ничего не слыхал?
– Очень просто. Я как раз недавно получил от своего друга Августа Петермана из Лейпцига карту; кстати, она у нас под рукой. Возьми третий атлас из второго отделения большого библиотечного шкафа, ряд 7, полка четыре.
Я встал и, следуя этим точным указаниям, быстро нашел требуемый атлас. Дядя раскрыл его и сказал:
– Вот одна из лучших карт Исландии, карта Гендерсона, и я думаю, что при помощи ее мы разрешим все затруднения.
Я склонился над картой.
– Взгляни на этот остров вулканического происхождения, – сказал профессор, – и обрати внимание на то, что все вулканы носят там название Ёкуль. Это слово означает по-исландски «глетчер», ибо горные вершины на широте Исландии по большей части покрыты вечными снегами и во время вулканических извержений лава неминуемо пробивается сквозь ледяной покров. Поэтому-то огнедышащие горы острова и носят название: Ёкуль.
– Хорошо, – возразил я, – но что такое Снефельс?
Я надеялся, что он не сможет ответить на этот вопрос. Как я заблуждался! Дядя продолжал:
– Следуй за мной по западному берегу Исландии. Смотри! Вот главный город Рейкьявик! Видишь? Отлично. Поднимись по бесчисленным фьордам этих морских берегов и остановись несколько ниже шестидесяти пяти градусов северной широты. Что ты видишь там?
– Нечто вроде полуострова, похожего на обглоданную кость.
– Сравнение правильное, мой мальчик; теперь, разве ты ничего не замечаешь на этом полуострове?
– Да, вижу гору, которая кажется выросшей из моря.
– Хорошо! Это и есть Снефельс.
– Снефельс?
– Да, гора высотою в пять тысяч футов, одна из самых замечательных на острове и, несомненно, одна из самых знаменитых во всем мире, ибо ее кратер ведет к центру земного шара!
– Но это невозможно! – запротестовал я, пожимая плечами.
– Невозможно? – ответил профессор Лиденброк сурово. – Почему?
– Потому что этот кратер, очевидно, переполнен лавой, скалы раскалены, и затем…
– А что, если это потухший вулкан?
– Потухший?
– Да. Число действующих вулканов на земном шаре достигает трехсот, но число потухших вулканов значительно больше. К последним и принадлежит Снефельс, за весь обозримый исторический период у него было только одно извержение, а именно в тысяча двести девятнадцатом году; с тех пор он постепенно угас и уже не принадлежит к числу действующих вулканов.
На эти точные данные я решительно ничего не мог возразить, а потому перешел к другим неясным пунктам, заключавшимся в документе.
– Но что такое Скартарис? – спросил я. – И при чем тут июльские календы?
Дядюшка призадумался. На минуту у меня появилась надежда, но только на минуту, потому что вскоре он ответил мне следующее:
– То, что ты называешь непонятным, для меня вполне ясно. Все эти данные доказывают лищь, с какой точностью Сакнуссем описал свое открытие. Ёкуль-Снефельс состоит из нескольких кратеров, и потому необходимо было указать именно тот, который ведет к центру Земли. Что же сделал ученый-исландец? Он заметил, что перед наступлением июльских календ, иначе говоря, в конце июня, одна из горных вершин, Скартарис, отбрасывает тень, достигающую жерла вышеназванного кратера, – факт, который ученый отметил в своем документе. Указание настолько точное, что, достигнув вершины Снефельс, мы не станем сомневаться, какой путь избрать.
Положительно мой дядя находил ответ на все. Я понял, что он неуязвим, когда дело касается текста древнего пергамента. Поэтому я перестал надоедать ему вопросами, а поскольку мне больше всего хотелось убедить дядюшку, я перешел к научным возражениям, по-моему, гораздо более существенным.
– Хорошо! – сказал я. – Согласен, что фраза Сакнуссема ясна и смысл ее не подлежит сомнению. Я допускаю даже, что документ – несомненный подлинник. Ученый в самом деле спустился в жерло Снефельс, видел, как тень Скартариса перед наступлением июльских календ скользит по краю кратера; он даже узнал из современных ему легенд, что этот кратер ведет к центру Земли; но чтобы он сам туда проник, чтобы он, совершив это путешествие, вернулся оттуда, этому я не верю! Нет, тысячу раз нет!
– А на каком основании? – спросил дядя насмешливо.
– На основании научных теорий, доказывающих, что подобное исследование немыслимо!
– Теории, говоришь, доказывают это? – спросил профессор добродушно. – Жалкие теории! И ты думаешь, что эти мерзкие теории нам помешают?
Я видел, что он смеется надо мною, но тем не менее продолжал:
– Да, доказано со всей очевидностью, что по мере углубления в недра Земли температура поднимается приблизительно на один градус через каждые семьдесят футов. Если допустить, что это соотношение остается неизменным, то при длине земного радиуса в тысяча пятьсот лье все вещества в центре Земли окажутся в газообразном состоянии, так как металлы, золото, платина, самые твердые породы не выдерживают такой температуры. Поэтому я вправе спросить вас, возможно ли проникнуть в такую среду?
– Стало быть, Аксель, тебя пугает температура?
– Конечно. Достаточно нам спуститься лишь на десять лье и достичь нижней границы земной коры, как температура превысит тысячу триста градусов.
– И ты боишься расплавиться?
– Предоставляю вам решение этого вопроса, – ответил я с досадой.
– Хорошо, я выскажу свое категорическое суждение, – надменно промолвил профессор Лиденброк. – Ни ты, ни кто другой не знает достоверно, что происходит внутри земного шара, ибо он изучен в глубину едва на двенадцатитысячную часть своего радиуса. Поэтому научные теории о температурах больших глубин будут бесконечно видоизменяться и дополняться, а каждая старая теория опровергаться новой. Ведь полагали же до Фурье, что температура межпланетных пространств неизменно понижается, а теперь доказано, что самая низкая температура в мировом эфире колеблется между сорока и пятьюдесятью градусами ниже нуля. Почему не может быть того же с температурой внутри Земли? Почему бы где-то в глубине ей не остановиться на определенном уровне, вместо того чтобы подняться до черты, после которой начинают плавиться самые огнеупорные породы?
Раз дядя перенес вопрос в область гипотез, я не мог ничего возразить ему.
– А затем я тебе скажу, что истинные ученые, как, например, Пуазон и другие, доказали, что если бы внутри земного шара жар доходил до двухсот тысяч градусов, то газ, образовавшийся от веществ, раскаленных до таких невероятных температур, взорвал бы земную кору, как под давлением пара взрывается котел.
– Таково мнение Пуазона, дядя, и ничего больше.
– Согласен, но и другие выдающиеся геологи полагают, что внутренность земного шара не состоит ни из газов, ни из воды, ни из самых тяжелых известных нам пород, ибо в таком случае Земля имела бы вдвое меньший или же вдвое больший вес.
– О! Цифрами можно доказать все, что угодно!
– А разве факты не то же самое говорят, мой мальчик? Разве не известно, что число вулканов с первых же дней существования мира неизменно сокращается? И если существует центральный огненный очаг, нельзя разве заключить из этого, что он понемногу затухает?
– Дядюшка, раз вы вступаете в область предположений, мне нечего возразить.
– И должен сказать, что взгляды самых сведущих людей сходятся с моими. Помнишь ли ты, как меня посетил знаменитый английский химик Хемфри Дэви в тысяча восемьсот двадцать пятом году?
– Нет, потому что я сам появился на свет девятнадцать лет спустя.
– Ну, так вот, Хемфри Дэви посетил меня проездом через Гамбург. Мы с ним долго беседовали и, между прочим, коснулись гипотезы огненно-жидкого состояния ядра Земли. Мы оба были согласны в том, что жидкое состояние земных недр немыслимо вследствие некоего фактора, еще не установленного наукой.
– А что же это за причина? – спросил я, изумленный.
– Весьма простая: расплавленная масса, подобно океану, была бы подвержена силе лунного притяжения, и, следовательно, два раза в день происходили бы внутри Земли приливы и отливы; под сильным давлением огненно-жидкой массы земная кора давала бы разломы, и периодически возникали бы землетрясения!
– Но ведь не подлежит сомнению, что оболочка земного шара находилась когда-то в раскаленном состоянии и что прежде всего остыли верхние слои земной коры, в то время как жар сосредоточился на больших глубинах.
– Заблуждение, – ответил дядя. – Земля была раскалена на поверхности, а не наоборот. Ее поверхность состояла из большого количества металлов вроде калия и натрия, которые имеют свойство воспламеняться при соприкосновении с воздухом и водой; металлы эти воспламенились, когда атмосферные пары в виде дождя опустились на Землю; и постепенно, когда вода стала проникать в трещины земной коры, начались пожары с взрывами и извержениями. Следствием этого явились вулканические образования на земной поверхности, столь многочисленные в первое время существования мира.
– Какая остроумная гипотеза! – невольно воскликнул я.
– И Хемфри Дэви объяснил мне это явление при помощи весьма простого опыта. Он изготовил металлический шар преимущественно из тех металлов, о которых я говорил, как бы подобие нашей планеты; когда на этот шар брызгали водой, это место вздувалось, окислялось и на нем появлялась небольшая выпуклость, на вершине которой открывался кратер; происходило извержение, и шар так сильно раскалялся, что его нельзя было держать в руке.
Сказать правду, доводы профессора начинали производить на меня впечатление; к тому же он приводил их со свойственными ему страстностью, увлечением.
– Как видишь, Аксель, – прибавил он, – вопрос о внутреннем состоянии Земли вызвал различные гипотезы среди геологов; раскаленное состояние ядра земного шара не доказано; я отрицаю эту теорию, этого не может быть; впрочем, мы сами все увидим и, как Арне Сакнуссем, узнаем, какого мнения нам держаться в этом важном вопросе.
– Ну да, – ответил я, начиная разделять дядюшкин энтузиазм. – Ну да, увидим, если там вообще можно что-нибудь увидеть!
– Отчего же? Разве мы не можем рассчитывать на электрические вспышки, которые послужат нам освещением? И даже на атмосферу, которая в глубинных пластах Земли может светиться под действием высокого давления?
– Да, – сказал я, – да! В конце концов и это возможно.
– Невозможно, а несомненно, – торжествующе ответил дядя, – но ни слова, слышишь? Ни слова обо всем этом, чтобы никому не пришла в голову мысль раньше нас открыть центр Земли.
Глава седьмая
Так закончился этот памятный диспут. Беседа с дядюшкой привела меня в лихорадочное состояние. Я вышел из кабинета сам не свой. Мне недоставало воздуха на улицах Гамбурга, чтобы прийти в себя. Я поспешил к берегам Эльбы, к парому, который связывает город с железной дорогой.
Убедили ли меня дядюшкины доводы? Не поддался ли я скорее всего его внушению? Неужели следует отнестись серьезно к замыслу профессора Лиденброка отправиться к центру Земли? Что услышал я? Бредовые фантазии безумца или же умозаключения гения, основанные на научных данных? Где во всем этом кончалась истина и начиналось заблуждение?..
Я строил множество противоречивых гипотез, не будучи в состоянии остановиться ни на одной.
Между тем я вспомнил, что порою я соглашался с дядей, хотя теперь мой энтузиазм уже начинал ослабевать. Разве я не готов был уехать немедленно, чтобы не оставлять себе времени на размышление. Да, у меня хватило бы в тот момент мужества стянуть ремнями свой чемодан!
Однако я должен сознаться и в том, что часом позже это чрезмерное возбуждение улеглось, нервы мои успокоились, и я снова поднялся из недр Земли на поверхность.
«Ведь это нелепость! – сказал я самому себе. – Бессмыслица! Подобное предложение нельзя делать рассудительному молодому человеку. Все это вздор. Я плохо спал и видел скверный сон».
Между тем я прошел по берегу Эльбы, обогнул город и, минуя порт, вышел на дорогу в Альтону. Видимо, предчувствие привело меня на этот путь, потому что я вскоре увидел мою милую Гретхен, которая возвращалась в Гамбург.
– Гретхен! – закричал я.
Девушка остановилась, по-видимому, несколько смущенная тем, что ее окликнули на большой дороге. Я мигом очутился возле нее.
– Аксель! – удивленно сказала она. – Ты вышел мне навстречу? Вот это мило!
Мой беспокойный и расстроенный вид не ускользнул от внимательных глаз Гретхен.
– Что с тобой? – сказала она, протягивая мне руку.
– Что со мною, Гретхен? – вскричал я.
И в двух словах я рассказал прелестной фирландке о случившемся. Она помолчала немного. Трепетало ли ее сердечко наравне с моим? Не знаю, но ее рука не задрожала в моей.
Мы молча прошли сотню шагов.
– Аксель, – сказала она наконец.
– Что, милая Гретхен?
– Какое это будет прекрасное путешествие!
Я так и подскочил при этих словах.
– Да, Аксель, путешествие, достойное племянника ученого. Мужчина должен отличиться в каком-нибудь великом деле.
– Как, Гретхен, ты не отговариваешь меня от подобного путешествия?
– Нет, дорогой Аксель, и я охотно сопровождала бы вас, если бы слабая девушка не была для вас только помехой.
– И ты говоришь это серьезно?
– Серьезно.
Ах, можно ли понять женщин, молодых девушек, словом, женское сердце! Если женщина не из робких, то ее храбрость не имеет предела! Рассудок не играет у женщин никакой роли… Что я слышу? Девочка советует мне принять участие в путешествии! Ее ничуть не пугает столь романтическое приключение. Она побуждает меня ехать с дядюшкой, хотя и любит меня…
Я был смущен и, откровенно говоря, пристыжен.
– Гретхен, – продолжал я, – посмотрим, будешь ли ты и завтра говорить то же самое.
– Завтра, милый Аксель, я скажу то же, что и сегодня.
Держась за руки, в глубоком молчании, мы продолжали свой путь. События дня привели меня в уныние.
«Впрочем, – думал я, – до июльских календ еще далеко, и до тех пор еще может случиться многое, что излечит дядюшку от его безумного желания предпринять путешествие в недра Земли».
Было уже поздно, когда мы добрались до Королевской улицы. Я полагал, что в доме уже полная тишина, дядюшка, как обычно, в постели, а Марта занята уборкой в столовой.
Но я не принял во внимание нетерпеливый характер профессора. Он суетился, окруженный толпой носильщиков, которые сваливали в аллее всевозможные свертки и тюки; по всему дому раздавались его хозяйские окрики, старая служанка совсем потеряла голову.
– Ну, иди же, Аксель. Да поскорее, несчастный! – вскричал дядя, уже издали завидев меня. – Ведь твой чемодан еще не уложен, бумаги мои еще не приведены в порядок, ключ от моего саквояжа никак не найти и недостает моих гамаш…
От изумления я замер на месте. Голос отказывался мне служить. Я с трудом мог произнести несколько слов:
– Итак, мы уезжаем?
– Да, несчастный, а ты разгуливаешь, вместо того чтобы помогать!
– Мы уезжаем? – переспросил я слабым голосом.
– Да, послезавтра, на рассвете.
Я не захотел ничего больше слушать и убежал к себе в комнату.
Сомнений не было. Дядюшка вместо послеобеденного отдыха бегал по городу и закупал все необходимое для путешествия. Аллея перед домом была завалена веревочными лестницами, факелами, дорожными фляжками, кирками, мотыгами, палками с железными наконечниками, заступами, – чтобы тащить все это, требовалось по меньшей мере человек десять.
Я провел ужасную ночь. На следующий день, рано утром, меня кто-то назвал по имени. Я решил не открывать двери. Но как было устоять против нежного голоска, звавшего меня: «Милый Аксель!»
Я вышел из комнаты, думая, что мой расстроенный вид, бледное лицо, покрасневшие глаза произведут впечатление на Гретхен и она изменит отношение к поездке.
– Ну, дорогой Аксель, – сказала она, – я вижу, ты чувствуешь себя лучше и за ночь успокоился.
– Успокоился! – вскричал я.
Я подбежал к зеркалу. В самом деле, у меня был вовсе не такой скверный вид, как я предполагал. Трудно даже поверить!
– Аксель, – сказала Гретхен, – я долго беседовала с опекуном. Это смелый ученый, отважный человек, и ты не должен забывать, что его кровь течет в твоих жилах. Он рассказал мне о своих планах, о своих чаяниях, как и почему он надеется достигнуть цели. Я не сомневаюсь, что он ее достигнет. Ах, милый Аксель, как это прекрасно – всецело отдаваться науке! Какая слава ожидает профессора Лиденброка и его спутника! По возвращении ты станешь человеком, равным ему, получишь свободу говорить, действовать, словом – свободу…
Девушка, вспыхнув, не окончила фразы. Ее слова меня подбодрили, но я все еще не хотел верить в наш отъезд. Я увлек Гретхен в кабинет профессора.
– Дядюшка, – сказал я, – так, значит, решено, мы уезжаем?
– Как! Ты еще сомневаешься в этом?
– Нет, – ответил я, не желая ему перечить. – Я только хотел спросить, нужно ли так спешить с этим?
– Время не терпит! Время бежит так быстро!
– Но ведь теперь только двадцать шестое мая, и до конца июня…
– Гм, неужели ты думаешь, невежда, что до Исландии так легко доехать? Если бы ты не убежал от меня, как сумасшедший, то я взял бы тебя с собою в Копенгагенское бюро, к «Лифендеру и компании». Там ты узнал бы, что пароход отходит из Копенгагена в Рейкьявик только раз в месяц, а именно двадцать второго числа.
– Ну?
– Что – ну? Если бы мы стали ждать до двадцать второго июня, то прибыли бы слишком поздно и не могли бы видеть, как тень Скартариса падает на кратер Снефельс. Поэтому мы должны как можно скорее ехать в Копенгаген, чтобы оттуда добраться до Исландии. Ступай и уложи свой чемодан!
Возразить было нечего. Я вернулся в свою спальню. Гретхен последовала за мной и сама постаралась уложить в мой чемодан все необходимое для путешествия. Она казалась спокойной, как будто дело шло о прогулке в Любек или на Гельголанд; ее маленькие руки без лишней торопливости делали свое дело. Она беспечно болтала. Приводила мне самые разумные доводы в пользу нашего путешествия. Она оказывала на меня какое-то волшебное влияние, и я не мог на нее сердиться. Несколько раз я готов был вспылить, но она не обращала на это никакого внимания и с методическим спокойствием продолжала укладывать мои вещи.
Наконец последний ремешок чемодана был затянут, и я сошел вниз.
В течение всего дня в дом приносили разные инструменты, оружие, электрические аппараты. Марта совсем потеряла голову.
– Не сошел ли хозяин с ума? – спросила она, обращаясь ко мне.
Я утвердительно кивнул головой.
– И он берет вас с собой?
Утвердительный кивок.
– Куда же вы отправитесь? – спросила она.
Я указал пальцем в землю.
– В погреб? – воскликнула старая служанка.
– Нет, – сказал я наконец, – еще глубже!
Наступил вечер. Я даже не заметил, как прошло время.
– Завтра утром, – сказал дядя, – ровно в шесть часов мы уезжаем.
В десять часов я свалился, как мертвый, в постель.
Ночью меня преследовали кошмары.
Мне снились зияющие бездны! Я сходил с ума. Я чувствовал, будто меня схватила сильная рука профессора, приподняла и бросила в пропасть. Я летел в бездну с увеличивающимся ускорением падающего тела. Моя жизнь обратилась в нескончаемое падение.
В пять часов я проснулся, разбитый, возбужденный. Я спустился в столовую. Дядя сидел за столом и преспокойно завтракал. Я взглянул на него почти с ужасом. Гретхен тоже была здесь. Я не мог говорить. Я не мог есть.
В половине шестого на улице послышался стук колес. Прибыла вместительная карета, в которой мы должны были отправиться на Альтонский вокзал. Карета скоро была доверху нагружена дядюшкиными тюками.
– А твой чемодан? – спросил он, обращаясь ко мне.
– Он готов, – ответил я, едва держась на ногах.
– Так снеси же его поскорее вниз, иначе из-за тебя мы опоздаем на поезд!
Я ощутил туг всю невозможность бороться против судьбы. Я поднялся в свою спальню и, сбросив чемодан с лестницы, сам спустился вслед за ним.
В эту минуту дядя передавал Гретхен «бразды правления» домом. Моя очаровательная фирландка хранила свойственное ей спокойствие. Она обняла опекуна, но не могла удержать слез, когда коснулась своими нежными губами моей щеки.
– Гретхен! – воскликнул я.
– Поезжай, милый Аксель, поезжай, – сказала она, – ты покидаешь невесту, но, возвратясь, найдешь жену.
Я заключил Гретхен в свои объятия, потом сел в карету. С порога дома Марта и молодая девушка посылали нам последнее прости. Затем лошади, подгоняемые свистом кучера, понеслись галопом по Альтонской дороге.
Глава восьмая
Из Альтоны, пригорода Гамбурга, железная дорога идет в Киль, к берегам бельтских проливов. Минут через двадцать мы были уже в Гольштинии.
В половине седьмого карета остановилась у вокзала; многочисленные дядюшкины тюки, его объемистые дорожные принадлежности были выгружены, перенесены, взвешены, снабжены ярлычками, помещены в багажном вагоне, и в семь часов мы сидели друг против друга в купе вагона. Раздался свисток, локомотив тронулся. Мы поехали.
Покорился ли я неизбежному? Нет еще! Но все же свежий утренний воздух, смена дорожных впечатлений несколько рассеяли мои тревоги.
Что касается профессора, мысль его, очевидно, опережала поезд, шедший слишком медленно для его нетерпеливого нрава. Мы были в купе одни, но не обменялись ни единым словом. Дядюшка внимательно осматривал свои карманы и дорожный мешок. Я отлично видел, что ничто из вещей, необходимых для выполнения его планов, не было забыто.
Между прочим, профессор вез тщательно сложенный лист бумаги с гербом датского консульства и подписью г-на Христиенсена, датского консула в Гамбурге, своего большого друга. Имея при себе столь важный документ, мы должны были без труда получить в Копенгагене рекомендации к губернатору Исландии.
Я заметил также и знаменитый пергамент, запрятанный в секретное отделение бумажника. Я проклял его от всего сердца и стал изучать местность, по которой мы ехали. Передо мной расстилались бесконечные, унылые, ничем не примечательные равнины, илистые и довольно плодородные: местность, весьма удобная для железнодорожного строительства, так как ровная поверхность облегчает проведение железнодорожных путей.
Но унылый ландшафт не успел мне наскучить, потому что не прошло и трех часов с момента отъезда, как поезд прибыл в Киль. Вокзал находился в двух шагах от моря.
Поскольку наши вещи были отправлены багажом до Копенгагена, нам не понадобилось возиться с ними; однако профессор с тревогой следил за тем, как их переносили на пароход и сбрасывали в трюм.
Второпях дядюшка так плохо рассчитал часы прибытия поезда и отплытия парохода, что нам пришлось потерять целый день. Пароход «Элеонора» отходил ночью. Девять часов ожидания отразились на расположении духа профессора. Взбешенный путешественник посылал к черту администрацию пароходной компании и железной дороги вместе с правительствами, допускающими подобные безобразия. Мне пришлось поддержать дядюшку, когда он потребовал от капитана «Элеоноры» объяснений по поводу неожиданной задержки. Дядюшка настаивал, чтобы немедленно были разведены пары, но капитан, разумеется, отказался нарушить расписание.
Вынужденные проторчать в Киле целый день, мы поневоле пошли бродить по зеленым берегам бухты, в глубине которой раскинулся городок; мы гуляли в окрестных рощах, придававших городу вид гнезда среди густых ветвей, любовались виллами с собственными купальнями. Так в прогулках и ссорах прошло время до десяти часов вечера.
Клубы дыма из труб «Элеоноры» поднимались в воздухе; палуба дрожала от толчков паровой машины; нам предоставили на пароходе две койки, помещавшиеся одна над другой в единственной каюте.
Пятнадцать минут одиннадцатого мы снялись с якоря, и пароход быстро пошел по сумрачным водам Большого Бельта.
Ночь стояла темная, дул свежий морской ветер, море было бурное; редкие огоньки на берегу прорезали тьму; позднее, не знаю, где именно, над морской зыбью ярко блеснул маяк; вот все, что осталось в моей памяти от путешествия по морю.
В семь часов утра мы высадились в Корсёре, маленьком городке, расположенном на западном берегу Зеландии. Здесь мы пересели с парохода в вагон новой железной дороги, и наш путь пошел по местности, столь же плоской, как и равнины Гольштинии.
Через три часа мы должны были прибыть в столицу Дании. Дядя не сомкнул глаз всю ночь. Мне казалось, что от нетерпения он готов был сам подталкивать поезд.
Наконец, он заметил, что за окном мелькнуло море.
– Зунд! – воскликнул он.
Налево от нас виднелось огромное здание, похожее на госпиталь.
– Больница для умалишенных, – сказал один из наших спутников.
«Отлично, – подумал я, – вот здесь нам и следовало бы кончить наши дни! Но как ни велика эта больница, она не вместит всего безумия профессора Лиденброка!»
Наконец, в десять часов утра мы сошли в Копенгагене; багаж был доставлен вместе с нами в отель «Феникс» в Бред-Хале. Переезд занял полчаса, так как вокзал находился за городом. Затем дядюшка, приведя в порядок свой туалет, вышел вместе со мной на улицу. Швейцар отеля говорил по-немецки и по-английски, но профессор, знавший много языков, обратился к нему по-датски, и швейцар на том же языке объяснил ему, где находится музей древностей Севера.
Хранителем в этом замечательном учреждении, где было собрано множество удивительных вещей, позволяющих восстановить историю страны с ее древними каменными орудиями, с ее кубками и предметами украшения, был известный ученый профессор Томсон, друг гамбургского консула.
Дядюшка имел к нему солидное рекомендательное письмо. Вообще ученые довольно плохо понимают друг друга, но в данном случае этого не было. Профессор Томсон, человек обязательный, оказал радушный прием профессору Лиденброку и даже его племяннику. Едва ли нужно говорить, что дядюшка не открыл своей тайны милейшему хранителю музея. Официально целью нашего путешествия было посещение Исландии в качестве простых туристов.
Господин Томсон отдал себя в наше распоряжение, и мы с ним обошли все набережные в поисках отходящего судна.
Я надеялся, что наши попытки найти его будут обречены на неудачу, но я ошибся. Небольшой датский парусный корвет «Валькирия» должен был отойти второго июня в Рейкьявик. Капитан, г-н Бьярне, находился на борту судна. Его будущий пассажир от радости крепко пожал ему руку. Бравый капитан был несколько изумлен подобной сердечностью. Для капитана плавание в Исландию было делом обыденным, а дядюшка готов был отдать за это чуть ли не полжизни. Достойный капитан, воспользовавшись дядюшкиным восторгом, содрал с нас за переезд двойную плату. Но нас это мало трогало.
Господин Бьярне, положив в карман внушительное количество долларов, сказал:
– Будьте на борту во вторник, в семь часов утра.
Мы поблагодарили господина Томсона за его хлопоты и вернулись в отель «Феникс».
– Все идет хорошо! Все идет очень хорошо! – повторял дядюшка. – Какая счастливая случайность, что мы попали на судно, готовое к отплытию! Теперь позавтракаем, а затем осмотрим город.
Мы отправились на Новую Королевскую площадь – площадь неправильной формы, где был выставлен караул возле двух безобидных пушек, никого не пугавших. Рядом, в доме № 5, находилась французская ресторация, которую держал повар по имени Венсен. За умеренную плату, по четыре марки с персоны, мы там сытно позавтракали.
После этого я, радуясь, как ребенок, пошел осматривать город; дядюшка безропотно следовал за мной; но он ничего не видел, ни королевского дворца, правда, ничем не примечательного, ни красивого моста ХVII столетия, перекинутого через канал как раз против городского музея, ни огромного, украшенного отвратительной стенной живописью, ксенотафа Торвальдсена, внутри которого хранятся произведения этого выдающегося скульптора, ни прелестного замка Розенберга, ни его красивого парка, ни удивительного здания биржи в стиле Ренессанс, ни его башни, сооруженной в виде сплетенных хвостов четырех бронзовых драконов, ни мельниц на земляном валу, широкие крылья которых надуваются, подобно парусам корабля, при морском ветре.
Какие превосходные прогулки могли бы мы совершать с моей очаровательной Гретхен вокруг гавани, где мирно дремлют двухпалубные корабли и фрегаты, по зеленеющим берегам проливов, под сенью густых деревьев, скрывающих цитадель с ее пушками, черные жерла которых виднеются среди ветвей бузины и ивы…
Но, увы, моя бедная Гретхен была далеко, и я даже не смел надеяться увидеть ее когда-нибудь.
Однако дядюшка не замечал прелести этих мест; все же он был поражен архитектурой известной колокольни на острове Амагер, образующем юго-восточную часть Копенгагена.
Мне было тут же приказано идти в эту сторону; мы сели на маленький пароходик, курсирующий по каналам, и через несколько минут причалили к набережной Адмиралтейства.
Пройдя по узким улицам, где каторжники в желто-серых штанах работали под строгим оком надзирателей, мы вышли к храму Спасителя. Храм этот ничем не примечателен. Но внимание профессора привлекла его высокая колокольня, вокруг шпиля которой спиралью вилась наружная лестница, возносясь под самые небеса.
– Поднимемся, – сказал дядя.
– А головокружение? – возразил я.
– Нам нужно привыкать.
– Однако…
– Идем, говорю тебе, нечего зря терять время.
Пришлось повиноваться. Сторож, живший напротив церкви, дал нам ключ, и мы стали подниматься на колокольню.
Дядя шел впереди бодрым шагом. Я следовал за ним не без боязни, так как был подвержен головокружению. Мне недоставало ни его ясной головы, ни крепких нервов.
Пока мы находились внутри колокольни, все шло хорошо, но после ста пятидесяти ступенек воздух ударил мне в лицо: мы добрались до площадки; отсюда лестница шла уже под открытым небом, и единственной опорой были ее легкие перила, а меж тем она становилась все уже и, казалось, вела в бесконечность.
– Я не могу идти! – вскричал я. – Не могу!
– Неужели ты такой трус? Шагай смелей! – ответил безжалостный профессор.
Пришлось поневоле следовать за ним, цепляясь за перила. На чистом воздухе у меня закружилась голова; я чувствовал, как колеблется при сильных порывах ветра колокольня; ноги отказывались мне служить; скоро я пополз на коленях, потом на животе; я закрыл глаза, мне сделалось дурно.
Наконец, при помощи дяди, который схватил меня за шиворот, я добрался до самой вышки.
– Теперь взгляни вниз, – сказал дядя, – и вглядись хорошенько. Ты должен научиться смотреть в бездонные глубины!
Я открыл глаза. Дома сквозь туманную пелену казались мне сдавленными, как бы расплющенными. Над моей головой неслись облака, но благодаря оптическому обману казалось, что облака не движутся, меж тем как колокольня, ее купол и мы сами несемся вдаль с бешеной скоростью. По одну сторону, вдалеке, виднелись зеленеющие поля, по другую – сверкающее в лучах солнца море. За мысом Эльсинор простирался Зунд, на горизонте белели паруса, а на востоке едва вырисовывались в тумане берега Швеции. Все это кружилось перед моими глазами.
И все же мне пришлось встать, выпрямиться и смотреть. Мой первый урок по головокружению длился целый час. Когда я, наконец, спустился вниз и коснулся ногами незыблемой мостовой, я был совершенно разбит.
– Завтра мы повторим урок, – сказал мой профессор.
И действительно, пять дней продолжалось это головокружительное упражнение, и волей-неволей я делал заметные успехи в искусстве «смотреть сверху вниз».
Глава девятая
Настал день отъезда. Накануне услужливый г-н Томсон передал нам рекомендации для наместника Исландии, барона Трампе, для помощника епископа, г-на Пиктурсона, и бургомистра Рейкьявика, г-на Финзена. За что дядя поблагодарил его горячим рукопожатием.
Второго числа, в шесть часов утра, наш драгоценный багаж был уже на борту «Валькирии». Капитан провел нас в тесные каюты, расположенные под своего рода рубкой.
– Благоприятствует ли нам попутный ветер? – спросил дядя.
– Ветер отличный, – ответил капитан Бьярне, – юго-восточный. Мы выйдем из Зунда в открытое море на всех парусах.
Спустя короткое время наша трехмачтовая шхуна отвалила от берега и на всех парусах вошла в пролив. Через час столица Дании уже рисовалась вдали как бы утопающей в волнах и «Валькирия» шла вдоль берегов Эльсинора. Я был в столь приподнятом настроении, что ожидал увидеть тень Гамлета на террасе древнего замка.
«Благородный безумец! – сказал я себе. – Ты, несомненно, нас одобряешь! Быть может, ты будешь сопутствовать нам в недра земного шара, чтобы найти там ответ на твой извечный вопрос: «Быть или не быть?»
Но пустынны были древние стены… Замок, впрочем, гораздо моложе доблестного датского принца. В наше время это великолепное здание служит жилищем смотрителя при входе в Зунд, где ежегодно проходят пятнадцать тысяч судов всех национальностей.
Скоро замок Кронборг исчез в тумане, как и Хельсинборгская башня на шведском берегу, и шхуна немного накренилась под дуновением ветра с Каттегата.
«Валькирия» хорошо ходила под парусами, но на парусное судно никогда нельзя полагаться. Наше судно везло в Рейкьявик уголь, предметы домашней утвари, глиняную посуду, шерстяную одежду и груз зерна; весь экипаж состоял из пяти человек, все без исключения датчане.
– Сколько времени продлится переезд? – спросил дядюшка у капитана.
– Дней десять, – ответил последний, – если только нам не помешает противный северо-западный ветер у Фарерских островов.
– Но, надеюсь, вы не намного запоздаете?
– Нет, господин Лиденброк, будьте спокойны, мы прибудем вовремя.
К вечеру шхуна обогнула мыс Скаген – эту северную оконечность Дании, затем ночью прошла по проливу Скагеррак, миновала близ мыса Линнеснес южную оконечность Норвегии и вышла в Северное море.
Два дня спустя мы увидели берега Шотландии у Питерхеда, и «Валькирия» прошла между Оркнейскими и Шетландскими островами к Фарерским островам.
Вскоре наша шхуна скользила уже по волнам Атлантического океана; ей пришлось лавировать против северного ветра, и она с трудом достигла Фарерских островов. 3-го числа капитан увидел Мюггенес, самый западный из этих островов, и тут же взял курс на мыс Портленд на южном побережье Исландии.
Во время плавания не произошло ничего примечательного. Я переносил довольно легко морскую болезнь; дядя же, к своему крайнему сожалению и к еще большему стыду, все время был не здоров.
Поэтому он не мог расспросить капитана Бьярне ни о вулкане Снефельс, ни о средствах сообщения, ни о способах перевозки грузов. Ему пришлось, таким образом, отложить эти расспросы до своего приезда на место, а пока он проводил все время в каюте, переборки которой трещали под ударами волн. Право, он отчасти заслужил свою участь.
Одиннадцатого июня капитан определил, что мы находимся неподалеку от мыса Портленд. Ясная погода позволила нам различить голый, отвесный утес Мирдальс-Ёкуль, одиноко стоящий на его оконечности. Держась на почтительном расстоянии от берега, «Валькирия» взяла курс на запад, и мы увидели вокруг себя стада китов и стаи акул. Вскоре показалась скала с отверстием посредине, в которое с бешеным ревом врывались вспененные волны. Вестманские островки вздымались на поверхности океана, точно камни, рассыпанные чьей-то рукой. Дальше шхуна вышла в открытое море, чтобы обогнуть на надлежащем расстоянии мыс Рейкьянес, образующий западную оконечность Исландии.
Шторм на море помешал дядюшке выйти на палубу полюбоваться причудливо изрезанными берегами Исландии и подставить лицо под резкий юго-западный ветер.
Через сорок восемь часов, когда буря, заставившая убрать паруса на шхуне, утихла, на востоке показался буй близ оконечности Скагена, где океан усеян подводными скалами, весьма опасными для мореходов. На судно прибыл исландский лоцман, и три часа спустя «Валькирия» бросила якорь у Рейкьявика в заливе Факсафлоуи.
Профессор вышел, наконец, из своей каюты, побледневший, осунувшийся, но все такой же восторженный и явно довольный. Население города, заинтересованное прибытием судна с грузом, устремилось на набережную.
Дядюшка спешил покинуть свою плавучую тюрьму, вернее сказать, больницу. Но прежде чем сойти с палубы, он повел меня на нос судна и указал на северной стороне бухты высокую гору с расщепленной надвое вершиной, покрытой вечными снегами.
– Снефельс! – воскликнул он. – Снефельс!
Потом, сделав мне знак молчания, он сел в лодку; я последовал за ним, и вскоре мы вступили на землю Исландии.
Тотчас же навстречу нам вышел осанистый мужчина в генеральском мундире. Это и был губернатор острова, барон Трампе собственной персоной. Профессор передал ему письма из Копенгагена, после чего между ними завязался краткий разговор по-датски, в котором я, по понятной причине, не принимал участия. Результатом этого разговора было то, что барон Трампе предоставил себя в полное распоряжение профессора Лиденброка.
Радушный прием был оказан дяде и бургомистром Финзеном, который, подобно губернатору, хотя и был облачен в военный мундир, отличался столь же миролюбивым характером.
Коадъютор Пиктурсон как раз находился в отсутствии: он объезжал Северный округ страны, и нам пришлось отказаться на время от знакомства с ним. Но преподаватель естественных наук в рейкьявикской школе г-н Фридриксон, чрезвычайно любезный человек, оказал нам весьма драгоценное содействие. Этот скромный ученый говорил только по-исландски и по-латыни; он предложил мне на языке Горация свои услуги, и мы легко с ним столковались. Действительно, он был единственным человеком, с которым я мог беседовать во время моего пребывания в Исландии.
Из трех комнат, составлявших квартиру этого превосходного человека, в наше распоряжение были предоставлены две, в которых мы и расположились со всем нашим багажом, количество коего несколько удивило жителей Рейкьявика.
– Ну-с, Аксель, – сказал дядюшка, – дела идут хорошо, главная трудность уже преодолена.
– Как главная трудность? – воскликнул я.
– Разумеется, нам остается только спуститься!
– Если таково ваше отношение к делу, вы правы; но мне кажется, что, сумев спуститься, нам надо суметь и подняться?
– О, это меня нисколько не беспокоит! Ну, ладно! Нечего терять время. Я отправляюсь в библиотеку. Может быть, там найдется какой-нибудь манускрипт Сакнуссема, которым я с большим удовольствием воспользовался бы для справок.
– А я тем временем осмотрю город. Разве вы не присоединитесь ко мне?
– Город очень мало интересует меня. Достопримечательности Исландии не на поверхности Земли, а в ее недрах.
Я вышел из дому и пошел куда глаза глядят.
Заблудиться на двух улицах Рейкьявика было бы трудно. Поэтому мне не пришлось спрашивать пути, что при разговоре жестами обычно ведет к недоразумениям.
Город лежит в низкой и довольно болотистой лощине. С одной его стороны высятся наслоения застывшей лавы, отлогими уступами нисходящие к морю. С другой – простирается обширный, ограниченный на севере большим глетчером Снефельс, залив Факсафлоуи, в котором в ту пору «Валькирия» была единственным судном. Обычно на рейде стоит множество английских и французских рыбачьих судов, но в то время они находились на восточном берегу острова.
Одна из двух улиц Рейкьявика – более длинная – идет параллельно берегу; торговцы и купцы живут тут в скромных домиках, построенных из выкрашенных в красный цвет деревянных балок; другая улица расположена западнее и упирается в небольшое озеро; тут стоят дома епископа и лиц, не причастных к торговле.
Я быстрыми шагами прошел по этим унылым, мрачным улицам; лишь изредка мой взгляд привлекал то чахлый газон, похожий на старый потертый ковер, то некое подобие огорода, где произрастают тощий латук, картофель и капуста, но в таком жалком количестве, что этих овощей хватило бы разве что для стола лилипутов; несколько хилых левкоев тянутся кое-где к солнцу.
В середине второй, не торговой улицы я набрел на обширное кладбище, обнесенное земляным валом. Пройдя несколько шагов, я увидел губернаторский дом, походивший на лачугу в сравнении с Гамбургской ратушей, но казавшийся дворцом после домиков исландских горожан.
Между озером и городом возвышалась церковь в стиле протестантских кирок, построенная из камня вулканических пород; при сильном западном ветре ее красная черепичная крыша грозила рухнуть, нанеся большой материальный ущерб прихожанам.
На ближнем холме я увидел Национальную школу, где, как я узнал позже от нашего хозяина, обучали еврейскому, английскому, французскому и датскому языкам; на этих четырех языках я, к стыду своему, не знал ни единого слова. Я был бы самым последним из сорока учеников этого небольшого колледжа и даже не удостоился бы чести переночевать вместе с ними в одном из чуланов с двумя отделениями, где наиболее слабым грозила опасность задохнуться в первую же ночь.
В течение трех часов я осмотрел не только город, но и его окрестности. Печальное зрелище! Ни деревца, ни растительности. Повсюду голые грани вулканических скал. Хижины исландцев сооружены из земли и торфа и со своими наклоненными внутрь стенами похожи на крыши, лежащие на земле. Интересно, что крыши эти являются в то же время и лугами. Благодаря теплу, идущему от очагов, трава на кровле растет довольно хорошо и ее добросовестно скашивают во время сенокоса, иначе домашние животные паслись бы прямо на этих доморощенных пастбищах.
Во время прогулки мне почти никто не встретился на пути. Возвращаясь домой по торговой улице, я увидел, что большая часть жителей занята вялением, солением и погрузкой трески, составляющей главный предмет вывоза. Мужчины здесь крепкого сложения, но несколько тяжеловесны, ведь исландцы принадлежат к скандинавской ветви германской расы; белокурые, с задумчивыми лицами, они чувствуют себя как бы вне человеческого общества, добровольными изгнанниками в этой стране льдов, созданной для эскимосов, самой природой обреченных жить у полярного круга. Я тщетно старался подметить улыбку на ихлице; они улыбались порою в силу непроизвольного сокращения лицевых мускулов, но никогда по-настоящему не смеялись.
Одежда их состоит из черной грубошерстной куртки, известной в скандинавских странах под названием vadmel, из широкополой шляпы, штанов с красной оборкой и куска кожи, сложенного наподобие обуви.
Женщины с грустными и довольно приятными, но невыразительными лицами носят корсаж и юбку из темной vadmel; девушки заплетают волосы в косу и носят коричневый вязаный чепчик; замужние повязывают голову цветным платком, поверх которого надевают род кокошника из белого полотна.
Возвратившись после интересной прогулки в дом г-на Фридриксона, я застал моего дядюшку в обществе нашего хозяина.
Глава десятая
Обед был готов; профессор Лиденброк поглощал его с большим аппетитом, ибо желудок его после вынужденного поста на судне превратился в бездонную пропасть. Обед был скорее датский, чем исландский, и сам по себе ничем не был примечателен, но наш хозяин, более исландец, чем датчанин, напомнил мне о древнем гостеприимстве: гость был первым лицом в доме.
Разговор велся на местном языке, к которому дядя примешивал немецкие слова, а г-н Фридриксон – латинские, чтобы и я мог его понять. Беседа касалась научных вопросов, как и подобает ученым; профессор Лиденброк был крайне сдержан и почти ежеминутно приказывал мне взглядом хранить полное молчание о наших планах.
Прежде всего г-н Фридриксон осведомился у дяди о результате его поисков в библиотеке.
– Ваша библиотека, – заметил последний, – состоит лишь из разрозненных сочинений, полки почти пусты.
– Помилуйте! – возразил г-н Фридриксон. – У нас имеется восемь тысяч томов, в том числе много ценных и редких трудов на древнескандинавском языке, а также новинки, которыми ежегодно снабжает нас Копенгатен.
– Где же эти восемь тысяч? На мой взгляд…
– О! господин Лиденброк, они расходятся по всей стране. На нашем старом ледяном острове любят читать! Нет ни одного фермера, ни одного рыбака, который не умел бы читать и не читал бы. Мы думаем, что книги, вместо того чтобы плесневеть на полках, вдали от любознательных глаз, должны приносить пользу, быть постоянно на виду у читателя. Поэтому книги у нас переходят из рук в руки, читаются и перечитываются, и зачастую книга год или два не возвращается на место.
– А вместе с тем, – возразил дядя с досадой, – иностранцы…
– Что вы хотите! У иностранцев на родине есть свои библиотеки, а главное для нас, чтобы наши крестьяне развивались. Повторяю, склонность к учению лежит в крови исландца. Поэтому в тысяча восемьсот шестнадцатом году мы основали Литературное общество, которое теперь процветает. Иностранные ученые почитают за честь принадлежать к нему; оно издает книги, предназначенные для воспитания и образования наших соотечественников, и приносит существенную пользу стране. Если вы, господин Лиденброк, пожелаете быть одним из наших членов-корреспондентов, вы доставите нам большое удовольствие.
Дядюшка, состоявший уже членом сотни научных обществ, изъявил свое согласие с любезностью, тронувшей г-на Фридриксона.
– А теперь, – продолжал последний, – будьте так любезны, назовите книги, которые вы надеялись найти в нашей библиотеке, и я смогу, может быть, разузнать о них.
Я взглянул на дядю. Он медлил с ответом. Это предложение непосредственно касалось его планов. Однако после некоторого размышления он решился заговорить.
– Господин Фридриксон, – сказал он, – я желал бы знать, нет ли у вас среди древних книг сочинений Арне Сакнуссема?
– Арне Сакнуссема? – переспросил рейкьявикский преподаватель. – Вы говорите об ученом шестнадцатого столетия, о великом естествоиспытателе, великом алхимике и путешественнике?
– Именно о нем!
– О гордости исландской науки и литературы?
– Совершенно справедливо.
– О всемирно известном человеке?
– Полностью согласен с вами.
– Отвага которого равнялась его гению?
– Я вижу, что вы о нем наслышаны.
Дядюшка слушал с восторгом лестные отзывы о своем герое. Он не спускал глаз с г-на Фридриксона.
– Конечно! – сказал дядя. – А его сочинения?
– Сочинений у нас нет.
– Как? В Исландии их нет?
– Их нет ни в Исландии, ни где-либо в другом месте.
– Почему?
– Потому что Арне Сакнуссем был гоним, как еретик, и его сочинения были сожжены в тысяча пятьсот семьдесят третьем году в Копенгагене рукой палача.
– Превосходно! – воскликнул дядя к вящему негодованию преподавателя естественных наук.
– Что?.. – переспросил последний.
– Да! Все объясняется, приходит в связь, я понимаю теперь, почему Сакнуссем, после того как его сочинения подверглись преследованию, был вынужден скрывать свои гениальные открытия, зашифровать свою тайну…
– Какую тайну? – живо спросил Фридриксон.
– Тайну… которая… – ответил дядя, заикаясь.
– У вас, может быть, есть какой-нибудь особенный документ?
– Нет… Это только мое предположение.
– Хорошо, – ответил г-н Фридриксон, который по доброте душевной не стал настаивать, заметив смущение дяди. – Надеюсь, – продолжал он, – что вы не покинете наш остров, не изучив его минералогических богатств?
– Несомненно, – ответил дядя, – но я несколько запоздал; другие ученые, конечно, уже побывали здесь.
– Да, господин Лиденброк; работы Олафсена и Повельсена, проведенные по королевскому поручению, исследования Тройля, научная экспедиция Гаймара и Роберта на борту французского корвета «Поиски»[6 - Корвет «Поиски» был отправлен в 1835 году адмиралом. Дюперрэ для розыска судна «Лилианка» с экспедицией де Блоссевиля, пропавшей без вести. – Примеч. автора.] и недавние наблюдения ученых, находившихся на фрегате «Королева Гортензия», во многом содействовали изучению Исландии. Но, поверьте мне, на вашу долю осталось немало.
– Вы думаете? – спросил добродушно дядя, стараясь скрыть блеск своих глаз.
– О да! Сколько еще остается гор, ледников, вулканов, почти совсем неизученных! Не надо далеко ходить за примером: взгляните на гору, что возвышается на горизонте. Это Снефельс.
– Неужели? – сказал дядя. – Снефельс?
– Да, один из самых замечательных вулканов, кратер которого мало кто посещал.
– Он потухший?
– О да! Уже пятьсот лет, как он бездействует.
– Так вот, – ответил дядя, судорожно закидывая ногу на ногу, чтобы не подпрыгнуть, – я думаю начать свои геологические исследования с этого Сеффель… Фессель… как вы сказали?
– Снефельс, – ответил милейший г-н Фридриксон.
Эта часть разговора происходила по-латыни; я все понял и едва мог сохранять серьезное выражение лица, глядя на дядюшку, старавшегося скрыть свою радость, бившую через край; строя из себя невинного младенца, он походил на старого черта.
– Да, – продолжал он, – ваши слова определяют мой выбор! Мы попытаемся взобраться на этот Снефельс и, быть может, даже исследовать его кратер!
– Я очень сожалею, – ответил г-н Фридриксон, – что мои занятия не позволяют мне отлучиться; я с удовольствием и пользой для себя согласился бы сопровождать вас.
– О нет, нет! – живо возразил дядя. – Мне не хотелось бы никого беспокоить, господин Фридриксон; от души благодарю вас. Участие такого ученого, как вы, было бы весьма полезно, но обязанности вашей профессии…
Я склонен думать, что наш хозяин в невинности своей исландской души не понял явных хитростей моего дядюшки.
– Я вполне одобряю, господин Лиденброк, что вы начнете свои изыскания с этого вулкана, – сказал он. – Вы соберете там обильную жатву замечательных наблюдений. Но скажите, как вы думаете пробраться на Снефельский полуостров?
– Морем, через пролив. Путь самый короткий.
– Конечно, но это невозможно.
– Почему?
– Потому что в Рейкьявике вы не найдете сейчас ни одной лодки.
– Ах, черт!
– Вам придется отправиться сухим путем, вдоль берега. Это, правда, большой крюк, но дорога интересная.
– Хорошо. Я постараюсь достать проводника.
– Я могу вам как раз предложить подходящего.
– А это надежный, сообразительный человек?
– Да, житель полуострова. Он весьма искусный охотник за гагами; вы будете им довольны. Он свободно говорит по-датски.
– А когда я могу его увидеть?
– Завтра, если хотите.
– Почему же не сегодня?
– Потому что он будет здесь только завтра.
– Итак, завтра, – ответил дядя, вздыхая.
Вскоре после этого многообещающий разговор закончился, и немецкий профессор горячо поблагодарил своего исландского собрата. Во время этого обеда дядюшка получил важные сведения, узнал историю Сакнуссема, понял причину вынужденной таинственности его документа, а также заручился обещанием получить в свое распоряжение проводника.
Глава одиннадцатая
Вечером я совершил короткую прогулку по берегу моря, пораньше вернулся домой, лег в постель и заснул глубоким сном.
Проснувшись утром, я услыхал, что дядя оживленно с кем-то беседует в соседней комнате. Я тотчас встал и поспешил к нему.
Он говорил по-датски с незнакомцем высокого роста, крепкого сложения. Парень, видимо, обладал большой физической силой. На его грубой и простоватой физиономии выделялись умные глаза. Глаза были голубые, взгляд задумчивый. Длинные волосы, которые даже в Англии сочли бы за рыжие, падали на атлетические плечи. Движения его были гибки, но беседа с помощью жестикуляции была ему незнакома. Все в нем обличало человека уравновешенного, спокойного, но отнюдь не апатичного. Чувствовалось, что он ни от кого не зависит, делает все по собственному усмотрению и ничто в этом мире не способно поколебать его философского отношения к жизни.
Я разгадал характер исландца по той манере, с какой он воспринимал поток речей своего собеседника. Скрестив руки, он молча слушал жестикулирующего профессора; желая сказать «нет», он поворачивал голову слева направо, а в случае согласия наклонял ее, но так плавно, что волосы не падали ему на лоб. Словом, экономия движений граничила у него со скупостью.
При взгляде на незнакомца я, конечно, не угадал бы в нем охотника; он, несомненно, не вспугивал дичь, но как он настигал ее?
Я все понял, узнав от г-на Фридриксона, что этот спокойный человек – охотник за гагами. Действительно, для добывания гагачьего пуха, который представлял собою главное богатство острова, не требуется особой затраты движений.
Впервые летние дни гага – род красивой утки – вьет свое гнездо в скалах фьордов, которыми изрезан весь остров, а затем устилает его тонким пухом, выщипанным из грудки. Тотчас же появляется охотник, или, вернее, торговец пухом, уносит гнездо, а самка начинает сызнова свою работу. Хлопоты птицы продолжаются до тех пор, пока у нее хватает пуха. Когда же она оказывается ощипанной догола, наступает очередь самца. Однако его грубый пух не имеет никакой ценности, а потому охотник не трогает больше гнезда, где самка вскоре кладет яйца и выводит птенцов. На следующий год сбор гагачьего пуха возобновляется тем же способом.
А так как гаги выбирают для своих гнезд легкодоступные, отлогие скалы, спускающиеся в море, исландский охотник может заниматься этим промыслом без большого труда. Он является своего рода фермером, которому не надо ни сеять, ни жать, а только собирать жатву.
Этого серьезного, флегматичного и молчаливого человека звали Ганс Бьелке; он явился по рекомендации г-на Фридриксона как наш будущий проводник. Своими манерами он резко отличался от дядюшки, что не помешало им легко столковаться и быстро сойтись в цене: один был готов взять то, что ему предложат, другой – дать столько, сколько у него потребуют. Никогда сделка не совершалась проще и легче.
Итак, Ганс обязался провести нас до деревни Стапи, находящейся на южном берегу полуострова Снефельс, у самой подошвы вулкана. До деревни было что-то около двадцати двух миль, которые дядюшка рассчитывал пройти в два дня.
Но, узнав, что речь идет о датских милях, в двадцать четыре тысячи футов каждая, он должен был изменить свои планы и ввиду неудовлетворительного состояния дорог примириться с переходом в семь-восемь дней.
Пришлось достать четырех лошадей – двух верховых, для дяди и для меня, и двух для нашего багажа. Ганс по привычке отправлялся пешком. Он превосходно знал эту местность и обещал избрать кратчайший путь.
С нашим прибытием в Стапи служебные обязанности проводника не кончались; он должен был сопровождать нас и дальше, во все время нашего научного путешествия, за вознаграждение в три рейхсталера в неделю. Однако было оговорено, что эта сумма уплачивается ему каждую субботу вечером.
Отъезд был назначен на 16 июня. Дядюшка хотел дать задаток охотнику, но тот отказался взять деньги вперед.
– Efter, – сказал он.
– После, – перевел мне профессор.
Когда договор был заключен, Ганс удалился.
– Превосходный человек! – воскликнул дядя. – Он и не подозревает, какую роль ему предстоит играть.
– Стало быть, он будет сопровождать нас до…
– Да, Аксель, до самого центра Земли.
До отъезда оставалось еще двое суток. К моему большому огорчени, ю их пришлось употребить на сборы. Все наши мыслительные способности были направлены на то, чтобы разместить вещи как можно удобнее: приборы в одно место, оружие в другое, инструменты – в этот тюк, съестные припасы – в тот. В общем, получились четыре группы предметов. В числе приборов находились:
1) Стоградусный термометр Эйгля со шкалой в 150 градусов, что, по-моему, или слишком много, или недостаточно. Слишком много, если окружающая температура поднимется столь высоко, потому что тогда мы все равно изжаримся. Недостаточно, если дело идет об измерении температуры подземных источников или любой расплавленной материи.
2) Манометр для измерения атмосферного давления, превышающего то давление, которое наблюдается на уровне океана. Действительно, обыкновенный барометр не годился бы для этого, потому что атмосферное давление должно было возрастать по мере нашего спуска в глубь Земли.
3) Женевский хронометр Буассона младшего, выверенный по гамбургскому времени.
4) Два компаса для определения склонения и наклонения.
5) Ночная подзорная труба.
6) Два аппарата Румкорфа, которые представляют собой надежный и портативный электрический светильник, безопасный и занимающий мало места.
Оружие состояло из двух карабинов системы «Пердли Мор и К*» и двух револьверов Кольта. Но к чему оружие? Мне казалось, что нам нечего бояться ни дикарей, ни хищных зверей. Но дядюшка, по-видимому, дорожил своим арсеналом не менее, чем приборами, в особенности порядочным запасом пироксилина, не подверженного влиянию сырости, разрушительная сила которого гораздо значительнее, чем сила обыкновенного пороха.
Инструменты состояли из двух мотыг, двух кирок, веревочной шелковой лестницы, трех железных палок, топора, молотка, дюжины железных клиньев, винтов и длинных веревок с узлами. Все это составляло солидный тюк, так как одна только лестница была в триста футов длиной.
Наконец, были еще и съестные припасы: небольшой, но весьма полезный мешок содержал шестимесячный запас концентрированного мяса и сухарей; можжевеловая водка была единственным напитком, ибо воды не было, зато у нас имелись тыквенные фляги, которые дядя рассчитывал наполнять водой из источников. Все мои возражения относительно состава этих последних, температуры и даже самого их существования были оставлены без внимания.
Чтобы дать полный список наших дорожных вещей, я упомяну еще о дорожной аптечке, содержавшей хирургические ножницы, лубки на случай переломов, кусок тесьмы из грубой ткани, бинты и пластырь, таз для кровопускания, множество пузырьков с декстрином, спиртом для промывания ран, со свинцовой примочкой, эфиром, уксусом, нашатырем и другие устрашающие предметы и, наконец, вещества, необходимые для аппарата Румкорфа.
Дядюшка не забыл также табак, порох и трут, а равным образом широкий кожаный пояс с порядочным количеством зашитых в нем золотых, серебряных и бумажных денег. Среди прочих вещей находилось также шесть пар крепких башмаков на прекрасной прочной резиновой подошве.
– С таким снаряжением и запасами, – сказал дядя, – нам нечего бояться далекого путешествия.
Весь день 14 июня был употреблен на то, чтобы тщательно уложить все эти предметы. Вечером мы ужинали у барона Трампе, в обществе бургомистра Рейкьявика и доктора Хуальталина, главного врача страны. Г-на Фридриксона не было среди гостей; впоследствии я узнал, что он находился в натянутых отношениях с губернатором из-за какого-то административного вопроса и поэтому они не бывали друг у друга. Таким образом, я был лишен возможности понять хоть одно слово из того, что говорилось на этом полуофициальном ужине. Я заметил только, что дядюшка говорил не умолкая.
На следующий день, 15 июня, приготовления были закончены. Наш хозяин доставил профессору большое удовольствие, вручив ему карту Исландии, несравненно более полную, чем карта Гендерсона, а именно карту, составленную Олафом Никола Ольсеном, в масштабе 1:480 000, и изданную исландским Литературным обществом на основании геодезических работ Шееля Фризака и топографических съемок Бьерна Гумлаугсона. Для минералога это был драгоценный документ.
Последний вечер был проведен в дружеской беседе с г-ном Фридриксоном, к которому я чувствовал живейшую симпатию; за этой беседой последовал довольно беспокойный сон, по крайней мере для меня.
В пять часов утра меня разбудило ржание четырех лошадей, бивших копытами о землю под моим окном. Я проворно оделся и вышел на улицу. Ганс был тут и молча, с необыкновенной ловкостью навьючивал на лошадей наш багаж. Дядюшка больше шумел, чем помогал в этой работе, и проводник, по-видимому, обращал мало внимания на его указания.
К шести часам все было готово. Г-н Фридриксон пожал нам руки. Дядюшка на исландском языке сердечно поблагодарил его за радушное гостеприимство. Я же произнес по-латыни, как только мог лучше, искреннее приветствие; потом мы сели на лошадей, и г-н Фридриксон крикнул нам вслед, на прощание, стих Вергилия:
«Et quacunque viam dederit fortuna sequamur!»[7 - «Смело двинемся в путь, куда поведет нас фортуна» (лат).]
Глава двенадцатая
Когда мы выехали, погода была пасмурная, но устойчивая. Не приходилось опасаться ни утомительной жары, ни бедственного дождя. Погода для туристов!
Удовольствие от прогулки верхом во многом помогало мне примириться с нашим рискованным предприятием. Я был наверху блаженства, наслаждался своей свободой и уже начинал не так мрачно смотреть на вещи.
«В самом деле, – рассуждал я, – чем я рискую? Нам предстоит путешествие по замечательной стране, подъем на знаменитую гору, в худшем случае – спуск в ее потухший кратер! Очевидно, Сакнуссем ничего иного не совершил. А что касается подземного хода, который ведет к центру Земли, – это сущая фантазия! Полнейшая бессмыслица! Итак, воспользуемся приятной стороной экспедиции, не думая об остальном».
Пока я так размышлял, мы выехали из Рейкьявика.
Ганс шел впереди быстрым, размеренным, спокойным шагом; за ним следовали две лошади с нашим багажом, которых не приходилось подгонять. Вслед за ними ехали мы с дядюшкой, и, право, наши фигуры на низкорослых, но сильных лошадках представляли собою недурное зрелище.
Исландия – один из крупнейших островов Европы. При поверхности в тысячу четыреста квадратных миль[8 - По современным данным, площадь Исландии равна 103 тыс. км
.] она насчитывает только шестьдесят тысяч жителей. Географы делят ее на четыре части; и нам предстояло пересечь ту ее часть, которая носит название «Страны юго-западных ветров»: «Sud-vestr Fjordungr».
По выходе из Рейкьявика Ганс направился по морскому берегу. Мы ехали среди безлюдных тощих пастбищ с чахлой, скорее желтой, нежели зеленой травой. Зубчатые вершины трахитовых гор на востоке были подернуты дымкой; то тут, то там виднелись на склонах дальних гор снежные поляны, тускло мерцавшие в рассеянном свете туманного утра. То тут, то там вздымались горные пики и, прорезая свинцовые тучи, вновь возникали над ними, словно рифы над морскими волнами.
Нередко гряды голых скал спускались к морю, загромождали пастбища, но и тогда оставалось достаточно места, чтобы проехать. Впрочем, наши лошади инстинктивно выбирали наиболее удобный путь, не замедляя притом шага. Дядюшке даже не пришлось подгонять свою лошадку окриком или хлыстом: для этого у него просто не было повода. Я не мог удержаться от улыбки, глядя на него: он был слишком велик для своей лошадки, и так как его длинные ноги почти волочились по земле, он походил на шестиногого кентавра.
– Славная скотинка, славная скотинка! – говорил он. – Ты увидишь, Аксель, что нет животного умнее исландской лошади. Ничто ее не останавливает; ни снега, ни бури, ни плохие дороги, ни скалы, ни ледники; она смела, осторожна, надежна; никогда не оступится, никогда не заупрямится. Если понадобится перейти реку или фьорд, она бросится, не колеблясь, в воду, точно какая-нибудь амфибия, и достигнет другого берега! Но не будем ее подгонять, предоставим ее самой себе, и мы проедем в среднем десять лье в день.
– Мы-то проедем, – отвечал я, – а проводник?
– О нем я не беспокоюсь! Эти люди шагают, сами того не замечая. Наш проводник ступает, как автомат, и, видимо, ничуть не устает. Впрочем, если потребуется, я уступлю ему свою лошадь; меня скоро схватят судороги, если я совсем перестану двигаться. Руки действуют хорошо, но надо подумать и о ногах.
Между тем мы быстро продвигались вперед. Местность становилась пустыннее. Изредка встречалась уединенная ферма, какой-нибудь boёr[9 - Жилище исландского крестьянина. – Примеч. автора.], построенный из дерева, земли, кусков лавы, – словно нищий у края дороги! Эти ветхие хижины точно взывали к жалости прохожих, и, право, брало искушение подать им милостыню. В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок, и как ни жалка здесь растительность, она скоро стирает следы редких путешественников.
И однако эта часть провинции, находящаяся рядом со столицей, принадлежит к населенным и обработанным местностям Исландии. Что же после этого представляли собой места, еще более пустынные, чем эта пустыня? Проехав полмили, мы не увидели ни одного фермера в дверях его хижины, ни одного пастуха, пасущего стадо, менее первобытное, чем он сам; только несколько коров и баранов, предоставленных самим себе, попались нам на глаза. Что же должны были являть собою провинции, подверженные вулканическим извержениям и землетрясениям?
Нам предстояло познакомиться с ними позже; но, глядя на карту Ольсена, я узнал, что их можно миновать, если держаться извилистого морского берега. И действительно, плутоническая деятельность ограничивается преимущественно внутренней частью острова; именно там находятся те горизонтальные пласты, называемые по-скандинавски траппами и состоящие из трахита, базальта, вулканических туфов, застывших потоков лавы и порфира, которые придают острову его сверхъестественный, грозный вид. Я не подозревал тогда, какое зрелище ожидает нас на полуострове Снефельс, где буйства природы создали этот зловещий хаос.
Через два часа после отъезда из Рейкьявика мы достигли местечка Гуфун, называемого также «Aoalkirkja», или «Главная церковь». Там нет ничего примечательного. Всего несколько домов. В Германии они составили бы деревушку.
Тут Ганс сделал получасовую остановку; он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины расспросы о состоянии дороги, а когда его спросили, где он намерен переночевать:
– Гардар, – сказал он коротко.
Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот Гардар, и нашел на берегу Хваль-фьорда, в четырех милях от Рейкьявика, маленькое селение, носящее это название. Когда я указал на него дядюшке, он сказал:
– Только четыре мили! Четыре мили из двадцати двух! Превосходная прогулка!
Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот, не ответив ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди лошадей.
Три часа спустя, держа по-прежнему путь среди пастбищ с выгоревшей травой, мы обогнули Колла-фьорд – этот окольный путь был короче и легче, чем переправа через залив – и прибыли в «pingstaoer», резиденцию окружного суда, под названием Эюльберг, когда на колокольне пробило бы двенадцать, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств, чтобы купить башенные часы. Впрочем, и прихожане не носят часов, за неимением таковых.
Здесь лошадям был задан корм; дальше мы поехали по узкой прибрежной дороге, между цепью холмов и морем, без остановки до Брантарской «Главной церкви», и еще на милю дальше, до Заурбоёрской заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хвальфьорда.
Было четыре часа. Мы покрыли всего четыре мили.
В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в полмили; морские волны с шумом разбивались о крутые, остроконечные скалы: залив лежал среди отвесных, скалистых стен, высотою в три тысячи футов и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались тут с красноватыми пластами туфа. Как ни смышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал при попытке переправиться через этот пролив на спинах наших четвероногих.
– Если они умны, – сказал я, – они и пытаться не будут переправиться вплавь. Во всяком случае, я буду благоразумнее их.
Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к береuу. Животное, почуяв близость воды, остановилось; но дядюшка, который всегда поступал по-своему, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью, но лошадка только лягалась, намереваясь, по-видимому, сбросить всадника. Наконец она подогнула ноги и проскользнула между длинных ног профессора, который остался стоять на двух прибрежных камнях, подобно Колоссу Родосскому.
– Ах ты, проклятое животное! – вскричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту.
– Farja, – сказал проводник, тронув его за плечо.
– Как, паром?
– Der[10 - Там (датск.).], – ответил Ганс, указывая на плот.
– Конечно! – воскликнул я. – Вон там паром!
– Надо было об этом раньше сказать! Ну, ладно, в путь.
– Tidvatten, – продолжал проводник.
– Что он говорит?
– Он говорит – прилив, – отвечал дядя, переводя мне датское слово.
– Во всяком случае, нам придется дождаться прилива.
– Farbida[11 - Долго? (датск.)]? – спросил дядя.
– Ja[12 - Да (датск.).], – отвечал Ганс.
Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Я хорошо понимал, что для переправы через фьорд необходимо дождаться высокой воды, ибо в это время не бывает ни прилива, ни отлива и паром не подвергается опасности быть унесенным вглубь залива или в открытый океан.
Этот благоприятный момент наступил лишь в шесть часов вечера. Дядюшка, я сам, наш проводник, двое паромщиков и четыре лошади поместились на довольно утлой плоской барже. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников показались мне весьма жалким двигателем. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но наконец мы благополучно достигли берега.
Через полчаса мы прибыли в Гардар.
Глава тринадцатая
Настал час, когда должно было бы стемнеть, но на шестьдесят пятом градусе северной широты светлые ночи не могли меня удивить; в июне и июле солнце в Исландии не заходит.
Однако температура понизилась. Я озяб и еще больше проголодался. И как же я обрадовался, когда нашелся «boёr», где нас приветливо приняли.
То был крестьянский дом, но радушие его обитателей не уступало гостеприимству короля. Когда мы подъехали, хозяин подал нам руку и предложил без дальнейших церемоний следовать за ним.
Буквально следовать, ибо идти рядом с ним было невозможно. Длинный, узкий, темный проход вел в жилище, построенное из плохо обтесанных бревен, и из него вы попадали прямо в комнаты; их было четыре: кухня, ткацкая, спальня и комната для гостей, самая лучшая из всех. При постройке дома не подумали о росте моего дядюшки, и он несколько раз стукнулся головой о потолок.
Нас ввели в большую комнату, некое подобие залы, с утоптанным земляным полом и одним окном, в которое вместо стекла был вставлен тусклый бараний пузырь. Постель состояла из охапки жесткого сена, брошенного между двумя деревянными переборками, выкрашенными в красный цвет и украшенными исландскими изречениями. Такого комфорта я не ожидал; правда, в доме стоял терпкий запах сушеной рыбы, соленого мяса и кислого молока, не доставлявший моему обонянию особого удовольствия.
Когда мы сняли нашу дорожную амуницию, хозяин дома пригласил нас пройти в кухню, единственное отапливаемое помещение даже в большие холода.
Дядюшка поспешил последовать любезному приглашению. Я присоединился к нему.
Кухонный очаг был устроен по-первобытному: посреди комнаты лежал плоский камень, на котором разводили огонь, а в крыше над ним было сделано отверстие, заменяющее дымовую трубу. Кухня эта служила и столовой.
При входе в нее хозяин приветствовал нас так, будто раньше не видел, словами «saellvertu», что означает «будьте счастливы», и облобызал нас в щеку.
Вслед за ним жена его произнесла те же самые слова, с той же церемонией; затем, приложив правую руку к сердцу, они отдали нам глубокий поклон.
Спешу сказать, что исландка была матерью девятнадцати детей, которые все, от мала до велика, копошились среди дыма и чада, поднимавшегося от очага и наполнявшего комнату. Ежеминутно то одна, то другая белокурая головка выступала из этого облака. Их можно было принять за группу неумытых ангелов.
Мы обошлись очень ласково с этим «выводком», и вскоре трое или четверо карапузов забрались к нам на плечи, столько же на наши колени, остальные путались у нас под ногами. Те, кто умел говорить, повторяли «saellvertu» на всевозможные лады, а те, кто не умел, кричали что есть мочи.
Концерт был прерван приглашением к обеду. В эту минуту вошел наш проводник, который позаботился о том, чтобы накормить лошадей, говоря попросту, он разнуздал их и ради экономии пустил пастись на воле; бедные животные должны были довольствоваться скудным мхом, растущим на скалах, и тощими приморскими травами; а на следующее утро они сами собой вернутся обратно и опять повезут нас.
– Saellvertu! – сказал Ганс, входя.
Затем последовала та же спокойная, автоматическая, – один поцелуй был не жарче другого, – сцена приветствия со стороны хозяина, хозяйки и девятнадцати ребят.
Когда церемония закончилась, за стол уселось ровным счетом двадцать четыре человека, и, следовательно, друг на друге в буквальном смысле этого слова. У кого на коленях примостилось двое ребят, тот еще легко отделался!
Впрочем, при появлении на столе супа весь этот народец затих, воцарилась тишина, непривычная для исландских мальчишек. Хозяин подал нам довольно вкусный суп из знаменитого исландского мха, затем изрядную порцию сушеной рыбы в масле, которое прогоркло лет двадцать назад и, следовательно, по исландским понятиям, было гораздо лучше свежего. К этому подали «skyr», что-то вроде простокваши с сухарями и подливкой из можжевеловых ягод. Наконец, какой-то напиток из сыворотки, разбавленной водой, так называемая «blanda». Хороша ли была эта неведомая пища или нет, не могу судить. Я проголодался и на десерт проглотил до последней крупинки крутую гречневую кашу.
После обеда детишки разбежались; взрослые сели вокруг очага, в котором горел торф, хворост, коровий помет и кости сушеных рыб. Потом, обогревшись, все разошлись по своим комнатам. Хозяйка, согласно обычаю, хотела снять с нас чулки и штаны, но, получив вежливый отказ, не настаивала, и я мог наконец прикорнуть на своем жестком ложе.
На следующее утро, в пять часов, мы распростились с исландским крестьянином; дядюшка с трудом уговорил его принять приличное вознаграждение, и затем Ганс дал сигнал к отъезду.
Шагах в ста от Гардара характер местности начал меняться: почва становилась болотистой и менее удобной для езды. Справа тянулась нескончаемая цепь гор, точно возведенный самой природой ряд грозных крепостей; часто встречались потоки, через которые приходилось перебираться, стараясь не намочить багаж.
Местность становилась все пустыннее. Порою, впрочем, казалось, что вдали мелькает человеческая фигура. И когда на поворотах дороги мы внезапно оказывались лицом к лицу с одним из этих призраков, меня невольно охватывало отвращение при виде распухшей головы без волос, с лоснящейся кожей и отталкивающих ран, которые проступали под жалкими лохмотьями.
Несчастное создание не протягивало руку для приветствия, напротив, оно стремительно убегало, но Ганс все же успевал крикнуть ему свое обычное «saellvertu».
– Spetelsk, – говорил он.
– Прокаженный, – повторял дядюшка.
Уже одно это слово вызывало чувство омерзения. Эта ужасная болезнь весьма распространена в Исландии; она незаразительна, а передается по наследству, вот почему несчастным прокаженным воспрещается вступать в брак.
Эти призраки не могли, конечно, оживить печального ландшафта. Последние травы увядали у нас под ногами; не было видно ни одного деревца, кроме зарослей карликовых берез, ни единого животного, кроме нескольких лошадей, которые бродили по унылым равнинам, так как хозяева не могли их прокормить. Порою парил в серых тучах сокол, гонимый холодным ветром на юг. Я заражался грустью этой дикой природы, и воспоминания уносили меня в родные края.
Вскоре нам пришлось снова переправляться через несколько узких фьордов и, наконец, через небольшую бухту; наступивший на море отлив позволил нам, не мешкая, продолжить путь, и вскоре мы миновали деревушку Альфтанес, расположенную в миле от берега.
Перебравшись через две речки, Альфа и Хета, кишащие форелями и щуками, мы провели ночь в покинутом ветхом домишке, достойном служить обиталищем всех озорных кобольдов скандинавской мифологии; во всяком случае, злобный дух холода чувствовал себя здесь как дома и терзал нас в течение всей ночи.
Следующий день не принес нам новых впечатлений. Все та же болотистая почва, то же однообразие, тот же печальный пейзаж. К вечеру мы прошли половину пути и переночевали в «annexia» местечка Крёзольбт.
Девятнадцатого июня на протяжении мили мы шли по покровам лавы – «hraun» по-местному. Складки на их поверхности походили на якорные канаты, то вытянутые в длину, то скатанные в рулоны. Огромные потоки застывшей лавы спускались с ныне потухших вулканов, свидетельствуя об их некогда бурной деятельности.
И все же местами пробивались сквозь лаву пары горячих подземных источников. Вскоре под ногами наших лошадей снова оказалась топь вперемежку с мелкими озерами. Наш путь лежал на запад; и когда мы обогнули большой залив Факсафлоуи, раздвоенная снежная вершина Снефельс вздымалась всего в каких-нибудь пяти милях от нас. Лошади шли быстро, невзирая на плохую погоду; что касается меня, я чувствовал себя утомленным, между тем дядюшка так же крепко и прямо держался в седле, как и в первый день; я не мог не удивляться ему, равно как и нашему охотнику, который смотрел на это путешествие как на простую прогулку.
В субботу, двадцатого июня, в шесть часов вечера мы прибыли в Будир, маленькое селение, расположенное на берегу моря, и тут проводник потребовал договоренную плату. Дядюшка рассчитался с ним. Семья нашего Ганса, короче говоря, его дяди и двоюродные братья, оказала нам гостеприимство; мы были приняты радушно, и я охотно отдохнул бы у этих славных людей после утомительного переезда, не боясь злоупотребить их добротой. Но дядюшка, не нуждавшийся в отдыхе, смотрел на дело иначе, и на следующее утро пришлось снова сесть в седло. Почва носила уже следы близости гор, скалистые отроги выступали из-под земли, точно корни старого дуба. Мы огибали подножие вулкана. Профессор не спускал глаз с его конусообразной вершины; он размахивал руками, словно бросая вулкану вызов и как бы восклицая: «Вот исполин, которого я одолею».
Наконец, после четырехчасовой езды лошади сами остановились у ворот пасторского дома в Стапи.
Глава четырнадцатая
Стапи, маленькое селение хижин из тридцати, стоит посреди голого лавового поля и ничем не защищено от слепящих лучей солнца, отражаемых снежными вершинами вулкана. Небольшой фьорд, возле которого оно приютилось, зажат между базальтовыми скалами самого причудливого вида.
Базальт, принадлежащий к тяжелым горным породам вулканического происхождения, поражает в Исландии своим своеобразием. Природа поступила здесь как геометр, вооруженный угломером, циркулем и отвесом. Если повсюду на земном шаре она проявляет свое искусство в хаотическом нагромождении базальтовых глыб, в создании незавершенных конических скал и пирамид, то здесь она пожелала дать образец строгих форм и, предвосхитив мастерство архитекторов первых веков, создала сооружение, не превзойденное ни великолепием Вавилона, ни чудесным искусством Греции.
Я слыхал раньше о «Плотине Гигантов» в Исландии и о Фингаловой пещере на одном из Гебридских островов, но до сих пор мне еще не приходилось видеть базальтовых сооружений.
В Стапи я их увидел во всей красе.
Базальтовые стены по бокам фьорда, как и вдоль всего побережья полуострова, представляют собой ряд колонн тридцати футов высотой. Эти стройные, безупречных пропорций колонны поддерживают свод из горизонтально лежащих столбов, который выступает над морем в виде арки, покрытой причудливой резьбой. Кое-где на берегу глаз замечает под этим естественным «impluvium»[13 - Водостоком (лат.).] стрельчатые пролеты на редкость изящной формы, сквозь которые устремляются вспененные волны. Обломки базальта, сброшенные океаном, лежат на земле, точно развалины античного храма, – вечно юные руины, над которыми проходят века, не нарушая их величия.
Это был последний этап нашего путешествия. Ганс провел нас так умело, что я немного успокоился при мысли, что он будет сопровождать нас и далее.
Когда мы подъехали к воротам пасторского дома, представлявшего собой низкую хижину, которая была ни лучше, ни удобнее соседних, я увидал человека в кожаном фартуке и с молотком в руке, занятого ковкой лошадей.
– Saellvertu, – сказал охотник.
– God dag[14 - Здравствуйте (датск.)], – ответил кузнец на чистом датском языке.
– Kyrkoherde, – сказал Ганс, обращаясь к дядюшке.
– Приходский священник, – перевел последний. – Аксель, ты слышишь, оказывается, этот бравый человек – пастор.
Между тем проводник объяснил «kyrkoherde», в чем дело, и тот, прервав работу, издал крик, бывший, вероятно, в ходу у торговцев лошадьми. Тотчас же из домика вышла великанша, настоящая мегера, ростом без малого шесть футов.
Я боялся, что она подарит путешественников исландским поцелуем, но напрасно: она не слишком приветливо ввела нас в дом!
Комната для гостей показалась мне самой плохой во всем пасторском доме – узкой, грязной и зловонной; но пришлось ею довольствоваться. Пастор, по-видимому, вовсе не признавал старинного гостеприимства. Какое там! Уже к вечеру я понял, что мы имеем дело с кузнецом, рыбаком, охотником, плотником, а никак не с духовной особой. Правда, день был будний; возможно, что в воскресенье наш хозяин становился пастором.
Я не хочу порочить священников, которые, судя по всему, находятся в очень стесненном положении; они получают от датского правительства крайне ничтожное содержание и пользуются четвертой частью церковного десятинного сбора, что не составляет и шестидесяти марок; поэтому они вынуждены работать для пропитания. Но если приходится быть и охотником, и рыбаком, и кузнецом, то поневоле усвоишь и нравы и образ жизни охотника, рыбака, словом, людей физического труда; вечером я заметил, что нашему хозяину была незнакома и добродетель трезвости…
Дядя увидел сразу, с каким человеком он имеет дело; вместо достойного ученого он встретил грубого невежду. Тем скорее решил он покинуть негостеприимный кров и пуститься в путь.
Несмотря на усталость, дядюшка предпочел провести несколько дней в горах.
Итак, на следующий же день после нашего прибытия в Стапи начались приготовления к отъезду. Ганс нанял трех исландцев, которые должны были нести вместо лошадей наш багаж; но было решено, что, как только мы доберемся до кратера, наши провожатые будут отпущены.
По сему случаю дядюшка сообщил Гансу, что он намерен исследовать вулкан, спустившись как можно глубже в его кратер.
Ганс только кивнул головой; ему было все равно, куда идти: вперед или назад, оставаться на поверхности Земли или спускаться в ее недра. Что касается меня, то, поглощенный путевыми впечатлениями, я забыл о будущем, зато теперь мысль о предстоящих опасностях еще сильнее овладела мною. Что же делать? Если сопротивление фантазиям Лиденброка и было возможно, то в Гамбурге, а не у подножия Снефельс.
Больше всего меня терзала мысль, способная расстроить даже самые крепкие нервы.
«Мы поднимемся, – рассуждал я, – на Снефельс. Хорошо! Мы спустимся в кратер. Отлично! Другие тоже проделали это и не погибли. Но ведь тем дело не кончится! Если откроется путь в недра Земли, если злосчастный Сакнуссем сказал правду, мы погибнем в подземных ходах вулкана. Ведь мы еще не знаем наверное, что Снефельс потух, что нам не угрожает извержение! А что тогда будет с нами?»
Стоило подумать над этим, вот я и думал. Стоило мне заснуть, как начинались кошмары: мне снились извержения! А играть роль шлака казалось мне скверной шуткой.
Наконец я не выдержал: я решился поговорить с дядей на эту тему, высказав свое мнение как можно искуснее, в виде гипотезы, пусть даже нелепой.
Я подошел к дядюшке и изложил ему свои опасения в самой дипломатической форме, причем из предосторожности несколько отступил назад.
– Я уже думал об этом, – ответил он просто.
Что это значит? Неужели он внял голосу разума?
После небольшой паузы дядя продолжал:
– Я думал об этом; со времени нашего приезда в Стапи я думал над этим вопросом, ибо безрассудная смелость нам не к лицу. Вот уже пятьсот лет, как Снефельс безмолвствует, но он все же может заговорить. Извержениям, однако, всегда предшествуют определенные явления. Я расспросил жителей этой местности, исследовал почву и могу тебе сказать, Аксель, что извержения ждать не приходится.
Я был поражен этим утверждением и ничего не смог возразить.
– Ты сомневаешься? – сказал дядя. – Ну, так идем со мной!
Я машинально повиновался. Мы покинули пасторский домик, и профессор избрал дорогу, которая через проем в базальтовой стене шла в сторону моря. Вскоре мы очутились в открытом поле, если только можно так назвать огромное скопление вулканических пород. Вся эта местность казалась как бы расплющенной под ливнем гигантских камней, пепла, базальта, гранита, пироксена.
Я видел: тут и там из трещин в вулканическом грунте вырывается пар; этот белый пар, по-исландски «reykir», исходит из горячих подземных источников; он выбрасывается с такой силой, которая говорит о вулканической деятельности. Казалось, это подтверждало мои опасения. Каково же было мое изумление, когда дядюшка сказал:
– Ты видишь эти пары, Аксель? Они доказывают, что нам нечего бояться извержений.
– Как же так? – вскричал я.
– Заметь хорошенько, – продолжал профессор, – что перед извержением водяных паров становится больше, а во время извержения они исчезают. Поэтому если эти пары остаются в обычном своем состоянии, если их напор не увеличивается, если ветер и дождь не сменяются тяжелым и неподвижным состоянием атмосферы, – ты можешь с уверенностью утверждать, что в скором времени никакого извержения не будет.
– Но…
– Довольно! Когда изрекает свой приговор наука, остается только молчать.
Повесив нос, вернулся я в пасторский домик. Научные доводы дядюшки заставили меня умолкнуть. Однако оставалась еще надежда, что когда мы дойдем до дна кратера, там не окажется хода внутрь Земли и, таким образом, будет невозможно проникнуть дальше, несмотря на всех Сакнуссемов на свете.
Следующую ночь я провел в кошмарах; мне снилось, что я нахожусь внутри вулкана, в недрах Земли, а затем вместе с извержением выброшен, точно обломок скалы, в просторы вселенной.
На следующее утро, двадцать третьего июня, Ганс ожидал нас со своими товарищами, которые несли съестные припасы, инструменты и приборы. Две палки с железными наконечниками, два ружья и два патронташа были приготовлены для дяди и меня. Ганс предусмотрительно прибавил к нашему багажу кожаный мех, наполненный водой, что вдобавок к нашим флягам обеспечивало нас водою на восемь дней.
Было девять часов утра. Пастор и его мегера ожидали нас у ворот: надо думать, для того, чтобы сказать путешественникам последнее прости. Но это «прости» неожиданно вылилось в форму чудовищного счета, согласно которому даже зачумленный воздух подлежал оплате. Достойная чета общипала нас не хуже, чем это делают в отелях Швейцарии, дорого оценив свое так называемое гостеприимство.
Дядюшка заплатил не торгуясь. Пустившись в путешествие к центру Земли, не приходится думать о нескольких лишних рейхсталерах.
Когда с расчетами было покончено, Ганс дал сигнал к отправлению, и через минуту мы покинули Стапи.
Глава пятнадцатая
Высота Снефельс равняется пяти тысячам футов. Вулкан замыкает своим двойным конусом трахитовую цепь, обособленную от горной системы острова. С того места, где мы находились, не видно было на сером фоне неба обеих его остроконечных вершин. Я заметил только, что огромная снежная шапка нахлобучена на чело гиганта.
Мы шли гуськом, предшествуемые охотником за гагами; наш проводник вел нас по узким тропинкам, по которым два человека не могли идти рядом. Дорога была трудная, и мы вынуждены были шагать молча.
За базальтовой стеной фьорда Стапи начались торфяные болота, образовавшиеся из древнего растительного мира полуострова. Залежи эти столь богаты, что их хватило бы для отопления жилищ всего населения Исландии в продолжение целого столетия. Они представляют собой чередование пластов торфа с прослойками пористого туфа и нередко достигают в ширину семидесяти футов, о чем можно судить по их вертикальному разрезу со дна какой-нибудь расщелины.
Как истый племянник профессора Лиденброка, я, несмотря на свои страхи, с интересом наблюдал минералогические достопримечательности, представляемые этим огромным естественноисторическим музеем. Вместе с тем я восстанавливал в памяти и геологическую историю Исландии.
Этот удивительный остров, очевидно, поднялся из водных пучин в относительно недавнее время. Быть может, он и теперь все еще продолжает подниматься над уровнем океана. Если это так, то его возникновение можно приписать только действию подземного огня. В таком случае теория Хемфри Дэви, документ Сакнуссема, утверждения моего дядюшки – все это разлетается, как дым. Космогоническая гипотеза заставила меня тщательно исследовать природу почвы, и я тотчас же представил себе все этапы возникновения этого острова.
В отдаленную геологическую эпоху остров представлял собою сплошной горный массив, медленно поднимавшийся над поверхностью океана под действием подземных сил. Вулканов еще не существовало. Огонь еще не вырывался из их недр.
Много позже на острове образовалась огромная трещина, перерезавшая его по диагонали – с юго-запада на северо-восток, через которую стала изливаться трахитовая масса. Явление это еще не носило бурного характера. Трещина была столь велика, что расплавленное вещество, исторгнутое из недр земли, спокойно растекалось в виде обширных гладких или бугорчатых покровов. В эту эпоху появились полевой шпат, сиенит и порфир.
Но благодаря этой огненно-жидкой массе, охладившейся и затвердевшей на поверхности Земли, толща земной коры значительно увеличилась, а стало быть, возросла и сила ее сопротивления.
Образовавшийся трахитовый покров не давал больше выхода расплавленной массе, скопившейся в недрах земли. И вот настал момент, когда сила ее механического давления стала столь значительной, что земная кора приподнялась и на поверхности Земли стали возникать конусообразные возвышенности, в которых образовались глубокие ходы. Так появились вулканы, а на их вершинах впадины, так называемые кратеры.
За этими явлениями последовали явления вулканические. Сперва, через образовавшиеся выводные каналы, извергались базальтовые потоки, которые, застывая, принимали самые причудливые формы, и их замечательные образцы встречались на нашем пути. Мы ступали по базальтовым темно-серым скалам, напоминающим призмы на шестигранном основании. Вдали виднелось множество усеченных конусов, некогда бывших жерлами огнедышащих гор.
Вслед за расплавленным базальтом вулкан, активность которого вновь возросла за счет погасших кратеров, стал извергать лаву, вулканический пепел и шлак; я видел собственными глазами на его склонах их длинные застывшие потоки, похожие на разметанные пряди волос.
Такова была последовательность явлений, в результате которых возникла Исландия. Все они связаны с действием подземной огненной массы, и было бы безумием предполагать, что под земной корой отсутствуют вещества, находящиеся в состоянии плавления и кипения. И еще большим безумием было предположить, что можно достигнуть центра Земли.
Я немного успокоился относительно исхода нашего путешествия, когда мы шли на приступ Снефельс.
Дорога вела в гору, камни выскальзывали из-под ног, и все труднее становилось идти; приходилось быть крайне осторожным, чтобы не упасть.
Ганс преспокойно шествовал впереди нас, словно шел по ровному месту; иной раз он исчезал за огромными глыбами, и мы на мгновение теряли его из виду; тогда резким свистом он указывал направление, по которому мы должны были следовать. Зачастую он останавливался, подбирал обломки скал и располагал их в виде вех, по которым, возвращаясь обратно, было бы легко найти дорогу. Последующие события сделали такую предосторожность излишней.
За три часа утомительного пути мы добрались только до подножия вулкана. Ганс дал знак остановиться, и мы разделили наш скромный завтрак. Дядюшка ел торопливо, чтобы поскорее отправиться дальше; но эта передышка была предназначена также и для отдыха, и ему пришлось подчиниться проводнику, который только через час подал знак трогаться в путь. Три исландца, охотники за гагами, столь же молчаливые, как и их товарищ, не говорили ни слова и ели умеренно.
Мы уже поднимались по склонам Снефельс. Его снежная вершина вследствие оптического обмана, обычного в горах, казалась совсем близко от нас, но сколько еще часов прошло, пока мы добрались до нее! И с какими трудностями! Камни вырывались у нас из-под ног и скатывались на равнину со скоростью лавин. В некоторых местах угол наклона по отношению к горизонтальной плоскости составлял по крайней мере тридцать шесть градусов; было невозможно карабкаться по такой круче, и приходилось не без труда обходить эти места, причем мы всячески помогали друг другу. Дядюшка старался держаться как можно ближе ко мне; он не терял меня из виду, а иногда и поддерживал меня. Что касается самого дядюшки, у него, вероятно, было врожденное чувство равновесия, потому что он ни разу не споткнулся. Исландцы, хотя и нагруженные багажом, взбирались с ловкостью истых горцев. Глядя на вершину Снефельс, я считал невозможным добраться до нее по такой крутизне. К счастью, после целого часа мучительного пути перед нами неожиданно оказалась своеобразная лестница, появившаяся среди снега, покрывавшего вершину вулкана. Эта природная лестница, которая образовалась из массы выброшенных вулканом камней, очень облегчила наше восхождение. Если бы поток камней не был задержан складками почвы, он скатился бы в море, образовав новые острова. Во всяком случае, импровизированная лестница сильно помогла нам. Крутизна склонов все возрастала, но каменные ступени облегчали и ускоряли наш подъем настолько, что стоило мне на минуту отстать от своих спутников, как их фигурки, мелькавшие вдалеке, казались совсем крошечными.
К семи часам вечера, преодолев две тысячи ступеней, мы оказались на выступе горы, служившем как бы основанием для самого конуса кратера.
Море расстилалось перед нами на глубине трех тысяч двухсот футов. Мы перешли границу вечных снегов, которая в Исландии вследствие сырости климата не очень высока. Было холодно. Дул сильный ветер. Я чувствовал себя совершенно измученным. Профессор, убедившись, что мои ноги отказываются служить, решил сделать привал, несмотря на все свое нетерпение. Он дал знак охотнику, но тот покачал головой, сказав:
– Ofvanfor!
– Отказывается, – сказал дядюшка, – надо подняться еще выше.
Потом он спросил у Ганса причину такого ответа.
– Mistour, – ответил наш проводник.
– Ja, mistour, – повторил один из исландцев с явным испугом.
– Что означает это слово? – спросил я тревожно.
– Взгляни! – сказал дядюшка.
Я бросил взгляд вниз.
Огромный столб измельченных горных пород, песка и пыли поднимался, кружась, подобно смерчу; ветер относил его в ту сторону, где находились мы. Темной завесой нависал этот гигантский столб пыли, застилая собою солнце и отбрасывая тень на гору. Обрушься этот смерч на нас, мы неизбежно были бы сметены с лица земли.
Это явление, которое наблюдается довольно часто, когда ветер дует с ледников, называется по-исландски «mistour».
– Hastigt, hastigt! – кричал наш проводник.
Хотя я и не знал датского языка, но сразу понял, что нам надо следовать за Гансом, и как можно скорее. А между тем Ганс уже огибал конус кратера, но наискось, чтобы облегчить нам путь.
Вскоре смерч обрушился на гору, которая задрожала под тяжестью его удара; камни, подхваченные вихрем, сыпались, как при извержении вулкана. К. счастью, мы находились уже по другую сторону горы, а следовательно, были в безопасности. Если бы не предусмотрительность проводника, наши искалеченные тела были бы сброшены вниз, как обломки какого-нибудь метеорита.
Ганс считал, однако, неблагоразумным провести ночь на внешнем склоне горы. Мы продолжали восхождение зигзагами. Тысяча пятьсот футов, которые нам еще оставалось преодолеть, отняли у нас почти пять часов; на обходы и зигзаги пришлось по крайней мере лишних три лье. У меня больше не было сил; я изнемогал от стужи и голода. Воздуха, уже порядочно разреженного, мне не хватало. Наконец в одиннадцать часов вечера, в глубокой темноте, мы достигли вершины Снефельс, и, прежде чем укрыться во внутренности кратера, я успел взглянуть на «полуночное солнце» в низшей точке его стояния, откуда оно бросало свои бледные лучи на дремлющий у моих ног остров.
Глава шестнадцатая
Ужин был быстро съеден, и маленький отряд устроился на ночлег как мог лучше. Ложе было жесткое, крыша малонадежная, в общем, положение не из веселых. Мы находились на высоте пяти тысяч футов над уровнем моря. Однако ж мой сон в эту ночь был особенно спокоен; так хорошо мне не приходилось уже давно спать. Я даже не видел снов.
На другое утро мы проснулись полузамерзшие; было очень холодно, хотя солнце светило чрезвычайно ярко. Я встал со своего каменистого ложа, чтобы насладиться великолепным зрелищем, открывавшимся перед моими глазами.
Я находился на вершине южного конуса Снефельс. Мой взор охватывал с этой высоты большую часть острова. Благодаря обычному оптическому обману при наблюдении с большой высоты берега острова как будто приподнимались, а центральная его часть как бы западала. Казалось, что у моих ног была топографическая карта Хельбесмера. Передо мною лежали долины, пересекавшиеся во всех направлениях, пропасти казались колодцами, озера – прудами, реки – ручейками. Справа от меня тянулись бесчисленные ледники и высились горные пики; над некоторыми из них поднимались легкие клубы дыма. Волнообразные очертания нескончаемых горных кряжей, покрытых вечными снегами, словно гребни волн пеной, напоминали море во время бури. А слева, на западе, как бы являясь продолжением этих вспененных гребней, величественно раскинулся океан. Глаз едва различал границу между сушей и водой.
Я весь отдался восторженному чувству, которое испытываешь обычно на больших высотах, и уже не страдал от головокружения, потому что успел освоиться с высоким наслаждением смотреть на землю с высоты. Я забыл о том, кто я и где я! Я жил жизнью эльфов и сильфов, легендарных персонажей скандинавской мифологии. Мои восхищенные взоры тонули в прозрачном свете солнечных лучей. Я был опьянен этим зрелищем и не думал о бездне, в которую вскоре должна ввергнуть меня судьба. Но появление профессора и Ганса, отыскавших меня на вершине горного пика, вернуло меня к действительности.
Дядюшка, обратясь лицом к западу, указал мне на подернутые дымкой туманные очертания земли, выступавшие над морем.
– Гренландия, – сказал он.
– Гренландия? – воскликнул я.
– Да, мы всего на расстоянии тридцати пяти лье от нее. Во время оттепели белые медведи добираются до Исландии на льдинах, уносимых течением с севера. Но что нам до этого? Мы теперь на вершине Снефельс; вот два его пика – южный и северный. Ганс скажет нам, как по-исландски называется тот, на котором мы сейчас стоим.
Охотник ответил:
– Scartaris.
Дядюшка взглянул на меня торжествующе.
– К кратеру! – сказал он.
Кратер Снефельс представлял собою опрокинутый конус, жерло которого имеет около полулье в диаметре. Глубину же его я определил приблизительно в две тысячи футов. Можно себе вообразить, что творилось бы в этом огромном резервуаре, если бы вулкан вздумал метать свои громы и молнии. Воронка вряд ли была шире пятисот футов в окружности, и по ее довольно отлогим склонам можно было легко спуститься до дна кратера, который я невольно сравнил с жерлом гигантской пушки, и это сравнение меня напугало.
«Забраться в жерло пушки, которая, возможно, заряжена и каждую минуту может выстрелить, настоящее безумие!» – подумал я.
Но отступать было поздно. Ганс равнодушно шагал во главе нашего отряда. Я молча следовал за ним.
Чтобы облегчить спуск, Ганс описывал внутри кратера большие спирали. Приходилось идти среди крупных камней вулканического происхождения, которые иной раз обрывались от малейшего сотрясения и катились на дно пропасти. Глухое эхо сопровождало грохот их падения.
На пути встречались внутренние ледники; тогда Ганс шел с особой осторожностью, ощупывая почву палкой с железным наконечником, чтобы узнать, нет ли где расщелин. В сомнительных местах мы связывались между собой длинной веревкой, чтобы тот, кто потеряет равновесие, мог опереться на своих спутников. Предосторожность эта была необходима, но она не исключала опасностей, ожидавших нас при спуске.
Между тем, несмотря на трудности, неизвестные даже нашему проводнику, все сошло благополучно, если не считать потери связки веревок, выпавшей из рук одного из исландцев и скатившейся кратчайшим путем в пропасть.
В полдень мы оказались на дне кратера. Я взглянул вверх и в жерле вулкана, как в объективе аппарата, увидел клочок неба. Лишь в одном месте глаз различил пик Скартариса, уходящий в бесконечность.
На дне кратера находились три хода, через которые во время извержения центральный очаг вулкана извергал лаву и пары. Каждое из этих отверстий достигало в диаметре приблизительно ста футов. Их зияющие пасти разверзались у наших ног. У меня не хватило духа заглянуть в них. Профессор Лиденброк быстро исследовал расположение отверстий; он бегал, едва переводя дух, от одного к другому, размахивал руками и выкрикивал какие-то непонятные слова. Ганс и его товарищи, сидя на обломке лавы, посматривали на него, видимо, принимая его за сумасшедшего.
Вдруг дядюшка дико вскрикнул. Я подумал, что он оступился и падает в бездну. Но нет! Он стоял, раскинув руки, расставив ноги, перед гранитной скалой, возвышавшейся в середине кратера, подобно грандиозному пьедесталу статуи Плутона. Во всей позе дядюшки чувствовалось, что он до крайности изумлен, но изумление его сменилось вскоре безумной радостью.
– Аксель, Аксель! – кричал он. – Сюда, сюда!
Я поспешил к нему. Ганс и исландцы не тронулись с места.
– Взгляни, – сказал профессор.
И с тем же изумлением, но без всякой радости, я прочел на грани скалы, обращенной к западу, начертанное руническими письменами, полустертыми от времени, тысячу раз проклятое мною имя:
– Арне Сакнуссем! – воскликнул дядюшка. – Неужели ты и теперь будешь сомневаться? – обратился он ко мне.
Я ничего не ответил и в отчаянии вернулся на свою скамью из отложений лавы. Очевидность сразила меня.
Сколько времени я предавался размышлениям, не помню. Знаю только, что, подняв голову, я увидал на дне кратера только дядюшку и Ганса. Исландцы были отпущены и уже спускались по наружному склону Снефельс, возвращаясь к себе домой в Стапи.
Ганс безмятежно спал у подножия скалы, в желобе застывшей лавы, где он устроил себе импровизированное ложе; дядюшка метался внутри кратера, как зверь в волчьей яме. У меня не было ни сил, ни желания встать; и, следуя примеру проводника, я погрузился в мучительную дремоту, боясь услышать подземный гул или почувствовать сотрясение в недрах вулкана.
Так прошла первая ночь внутри кратера.
На следующее утро затянутое свинцовыми тучами небо тяжело нависло над кратером. Поразила меня не столько полная темнота, сколько бешеный гнев дядюшки. Я понял причину его ярости, и у меня мелькнула смутная надежда. И вот почему.
Из трех дорог, открывавшихся перед нами, Сакнуссем избрал один путь. По словам ученого-исландца, этот путь можно было узнать по признаку, указанному в шифре, а именно, что тень Скартариса касается края кратера в последние дни июня месяца.
Действительно, этот пик можно было уподобить стрелке гигантских солнечных часов, которая в известный день, отбрасывая свою тень на кратер, указывает путь к центру Земли. Вот почему, если не выглянет солнце, не будет и тени. А следовательно, и нужного указания! Было уже 25 июня. Если погода не изменится в течение шести дней, нам придется отложить изыскания до следующего года.
Я не могу описать бессильный гнев профессора Лиденброка. День прошел, но никакая тень не легла на дно кратера; Ганс не трогался с места, хотя его должно было удивлять, чего же мы ждем, если только он вообще был способен удивляться! Дядюшка не удостаивал меня ни единым словом. Его взоры, неизменно обращенные к небу, терялись в серой, туманной дали.
26 июня – и никаких изменений! Целый день шел мокрый снег. Ганс соорудил шалаш из обломков лавы. Я несколько развлекался, следя за тысячами импровизированных каскадов, образовавшихся на склонах кратера и с диким ревом разбивавшихся о каждый встречный камень.
Дядюшка уже больше не сдерживался. Даже более терпеливый человек при таких обстоятельствах вышел бы из себя: ведь это значило потерпеть крушение у самой гавани!
Но, по милости неба, за великими огорчениями следуют и великие радости, и профессор Лиденброк получил удовлетворение, искупившее испытанное им отчаяние.
На следующий день небо было все еще затянуто тучами; но в воскресенье, 28 июня, в предпоследний день месяца, смена лунной фазы вызвала и перемену погоды. Солнце заливало кратер потоками света. Каждый пригорок, каждая скала, каждый камень, каждая кочка получала свою долю солнечных лучей и тут же отбрасывала свою тень на землю. Тень Скартариса вырисовывалась вдали своим острым ребром и неприметно следовала за лучезарным светилом.
Дядюшка следовал по ее стопам.
В полдень, когда предметы отбрасывают самую короткую тень, знаменательная тень Скартариса слегка коснулась края среднего отверстия в кратере.
– Тут! – вскричал профессор. – Тут пролегает путь к центру земного шара! – прибавил он по-датски.
Я посмотрел на Ганса.
– For?t! – спокойно сказал проводник.
– Вперед! – повторил дядя.
Часы показывали половину второго пополудни.
Глава семнадцатая
Начиналось настоящее путешествие. До сих пор мы больше страдали от усталости, чем от трудностей пути; теперь же они будут в буквальном смысле вырастать у нас под ногами.
Я не заглядывал еще в этот бездонный колодец, в который мне предстояло спуститься. И вот этот момент настал. Я еще мог принять участие в рискованном предприятии или отказаться от него. Но мне было стыдно отступать из-за нашего проводника. Ганс так охотно соглашался участвовать в этом романтическом приключении; он был так хладнокровен, так мало думал об опасностях, что я устыдился оказаться менее храбрым, чем он. Не будь его, у меня нашлось бы множество веских доводов, но в присутствии проводника я не стал возражать; тут я вспомнил прелестную фирландку и шагнул к центральному отверстию кратера.
Как я уже сказал, оно имело сто футов в диаметре, или триста футов в окружности. Я перегнулся через скалу, над отверстием и заглянул вниз. Волосы встали у меня дыбом. Ощущение пустоты овладело всем моим существом. Я почувствовал, что центр тяжести во мне переместился, голова закружилась, точно у пьяного. Нет ничего притягательнее бездны. Я чуть не упал в нее. Чья-то рука удержала меня. То был Ганс. Положительно, мне следовало взять еще несколько «уроков по головокружению» вроде тех, что я брал в копенгагенском храме Спасителя. Хотя я только мельком увидел колодец, но все же отдал себе отчет в его внутреннем строении. В почти отвесных его стенах имелись выступы, которые должны были облегчить наш спуск. Но если и была лестница, то перила отсутствовали. Веревка, прикрепленная у края отверстия, могла бы послужить нам надежной опорой, но как отвязать ее, когда мы совершим прыжок в бездну?
Однако существовало простое средство, которое и применил дядюшка. Он взял веревку толщиной в дюйм и длиной в четыреста футов. Отмерил половину ее и сбросил вниз, а вторую половину обернул вокруг лавовой глыбы, стоящей у самого отверстия, и тоже бросил в колодец ее конец. Таким образом мы получили возможность спуститься, держась за оба конца веревки. На глубине двухсот футов можно будет удлинить веревку, отпустив один ее конец и уцепившись за другой. Этот прием можно повторять ad infinitum[15 - До бесконечности (лат.).].
– Теперь займемся багажом, – сказал дядюшка, когда все приготовления были закончены, – разделим его на три тюка, и каждый из нас привяжет себе на спину по одному тюку; я говорю только о хрупких предметах.
Очевидно, отважный профессор не относил нас к числу последних.
– Ганс, – продолжал он, – возьмет инструменты и часть съестных припасов; ты, Аксель, вторую треть съестных припасов и оружие; я – остаток провизии и приборы.
– Но кто же, – сказал я, – спустит вниз одежду, лестницу и кучу веревок?
– Они спустятся сами.
– Как так? – спросил я.
– Сейчас увидишь.
И дядюшка, недолго думая, энергично принялся за дело. По его приказу Ганс собрал в один тюк все мягкие вещи и, крепко связав его, без дальнейших церемоний сбросил в пропасть.
Я услыхал, как наш багаж, с громким свистом рассекая воздух, летел вниз. Дядюшка, нагнувшись над бездной, следил с довольным видом за путешествием своих вещей, пока не потерял их из виду.
– Хорошо, – сказал он. – А теперь очередь за нами!
Я спрашиваю любого здравомыслящего человека: можно ли слышать такое без содрогания?
Профессор взвалил себе на спину тюк с приборами, Ганс – с утварью, я – с оружием. Мы спускались в следующем порядке: впереди шел Ганс, за ним дядюшка и, наконец, я. Схождение совершалось в полном молчании, нарушаемом лишь падением камней, которые, оторвавшись от скал, с грохотом скатывались в пропасть.
Я сползал, судорожно ухватясь одной рукой за двойную веревку, а другой опираясь на палку. Единственной моей мыслью было: только бы не потерять точку опоры! Веревка казалась мне слишком тонкой, чтобы выдержать троих человек. Поэтому я пользовался ею по возможности меньше, показывая чудеса эквилибристики на выступах лавы, которые я отыскивал, нащупывая их ногой.
И когда какая-нибудь шаткая ступень попадалась под ноги Ганса, он хладнокровно говорил:
– Gif akt!
– Осторожно! – повторял дядюшка.
Через полчаса мы добрались до прочной скалы, торчавшей из стены пропасти.
Ганс потянул веревку за один конец; другой конец взвился в воздух; соскользнув со скалы, через которую веревка была перекинута, конец ее упал у наших ног, увлекая за собой камни и куски лавы, сыпавшиеся подобно дождю, или, лучше сказать, подобно смертоносному граду.
Нагнувшись над краем узкой площадки, я убедился, что дна пропасти не видно.
Мы снова пустили в ход веревку и через полчаса оказались еще на двести футов ближе к цели.
Не знаю, есть ли на свете другой геолог, столь же ненормальный, как мой дядюшка, который стал бы во время такого спуска изучать природу окружающих его геологических напластований?
Что касается меня, я мало интересовался строением земной коры; какое мне было дело до того, что представляют собою все эти плиоценовые, миоценовые, эоценовые, меловые, юрские, триасовые, каменноугольные, девонские, силурийские или первичные геологические напластования? Но профессор, по-видимому, вел наблюдения и делал заметки, так как во время одной остановки он сказал мне:
– Чем глубже я спускаюсь, тем больше крепнет моя уверенность: строение вулканических пород вполне подтверждает теорию Дэви. Мы находимся в первичных слоях, перед нами порода, в которой произошел химический процесс разложения металлов, раскалившихся и воспламенившихся при соприкосновении с воздухом и водой. Я безусловно отвергаю теорию центрального огня. Впрочем, дальше будет видно!
Все то же заключение! Понятно, что я не имел ни малейшей охоты спорить. Мое молчание было принято за согласие, и нисхождение возобновилось.
После трех часов пути я все еще не мог разглядеть дно пропасти. Взглянув вверх, я заметил, что отверстие кратера заметно уменьшилось. Стены, наклоненные внутрь кратера, постепенно смыкались. Темнота увеличивалась.
А мы спускались все глубже и глубже. Мне казалось, что звук при падении осыпавшихся камней становится более глухим, словно они ударяются о землю.
Я внимательно считал, сколько раз был повторен маневр с веревкой, а потому мог определить глубину, на которой мы находились, и время, потраченное на спуск.
Итак, маневр был повторен четырнадцать раз с промежутками по получасу. Семь часов ушло на спуск и три с половиной – на отдых, что составляло в общем десять с половиной часов. Спуск начался в час, значит, теперь было одиннадцать часов.
Глубина, на которой мы находились, равнялась двум тысячам восьмистам футам, считая четырнадцать раз по двести футов.
В это мгновение раздался голос Ганса.
– Halt! – сказал он.
Я сразу остановился, едва не наступив на голову дядюшки.
– Мы у цели, – сказал дядюшка.
– У какой цели? – спросил я.
– На дне колодца.
– Значит, нет другого прохода?
– Есть! Я вижу направо нечто вроде туннеля. Мы исследуем все это завтра. Сначала поужинаем, а потом спать.
Еще не совсем стемнело. Мы открыли мешок с провизией и поели; затем улеглись, по возможности удобнее, на ложе из камней и обломков лавы.
Когда, лежа на спине, я открыл глаза, в конце колодца – этой трубы гигантского телескопа в три тысячи футов длиной – я заметил блестящую точку.
То была звезда, – по моим соображениям, Бета в созвездии Малой Медведицы, но, видимая из такой глубины, она не мерцала.
Вскоре я заснул крепким сном.
Глава восемнадцатая
В восемь часов утра луч солнца разбудил нас. Тысячи граней лавы вбирали в себя его сияние и отражали в виде целого дождя искр.
Этой игры света было достаточно, чтобы различить окружающие предметы.
– Ну, Аксель, что ты скажешь? – воскликнул дядюшка, потирая руки. – Провел ли ты когда-нибудь такую спокойную ночь в нашем доме на Королевской улице? Тут нет ни шума тележек, ни крика продавцов, ни брани лодочников!
– О, конечно, нам весьма спокойно на дне этого колодца, но в этом спокойствии есть нечто угрожающее.
– Ну и ну! – воскликнул дядюшка. – Если ты уже трусишь, что же будет дальше? Мы еще ни на один дюйм не проникли в недра Земли!
– Как так?
– Да, мы добрались только до основания острова! Дно этого колодца в жерле кратера Снефельс находится примерно на уровне моря.
– Вы убеждены в этом?
– Вполне! Взгляни на барометр.
Действительно, ртуть, поднимавшаяся по мере того, как мы спускались, остановилась на двадцать девятом дюйме.
– Вот видишь, – продолжал профессор, – мы все еще испытываем давление в одну атмосферу, и я жду с нетерпением, когда можно будет заменить барометр манометром.
Барометр, конечно, окажется ненужным, когда атмосферное давление превысит то, которое существует на уровне океана.
– Но, – возразил я, – не следует ли опасаться, что все возрастающее давление будет трудно перенести?
– Нет! Мы спускаемся медленно, и наши легкие привыкнут дышать в более плотной атмосфере. Воздухоплавателям не хватает воздуха при подъеме в верхние слои атмосферы, а у нас, возможно, окажется его избыток. Но последнее все же лучше! Не будем же терять ни минуты. Где вещевой мешок, который мы раньше сбросили вниз?
Я вспомнил, что мы тщетно его искали накануне вечером. Дядюшка спросил об этом Ганса, а тот, поглядев вокруг своим зорким глазом охотника, ответил:
– Der huppe!
– Там, наверху!
Действительно, вещевой мешок, зацепившись за выступ скалы, повис в сотне футов над нашими головами. Ловкий исландец, как кошка, вскарабкался на скалу и вскоре сбросил нам мешок.
– А теперь, – сказал дядюшка, – позавтракаем, но позавтракаем, как люди, которым предстоит далекий путь.
Сухари и сушеное мясо мы запили несколькими глотками воды с можжевеловой водкой.
После завтрака дядюшка вынул из кармана записную книжку и, сверившись с разными приборами, записал:
Понедельник, 1 июля.
Хронометр: 9 ч. 17 м. утра.
Барометр: 29 дюймов 7линий.
Термометр: 6°.
Направление: В.-Ю.-В.
Последнее показание компаса относилось ко дну колодца.
– Теперь, Аксель, – воскликнул профессор восторженно, – мы действительно углубимся в недра земного шара! Теперь собственно и начинается наше путешествие.
Сказав это, дядюшка взял одной рукой висевший у него на шее аппарат Румкорфа, а другой соединил электрический провод со спиралью фонаря, и яркий свет рассеял мрак галереи.
Второй аппарат, который нес Ганс, был также приведен в действие. Остроумное применение электричества позволяло нам, пользуясь искусственным светом, продвигаться вперед даже среди воспламеняющихся газов.
– В дорогу! – сказал дядюшка.
Мы снова взвалили себе на спину мешки. Ганс взялся толкать перед собой тюк с одеждой и веревками, и мы все трое вступили в темный туннель. На пороге его зияющей пасти я взглянул вверх и в последний раз увидел небо Исландии, «которое, быть может, мне уже не суждено увидеть!»
Во время извержения 1229 года лава проложила себе путь через этот туннель, оставив на его стенках плотный и блестящий налет; отражаясь от его зеркальной поверхности, электрический свет усиливался во сто крат. Главная трудность пути состояла в том, чтобы не скользить слишком быстро по скату, угол наклона которого равнялся сорока пяти градусам. К счастью, некоторые выемки – следы эрозии, иные выступы служили нам ступенями, а багаж мы спускали перед собой на длинной веревке.
Но то, что служило для нас ступенями, на других поверхностях являлось сталактитами. Лава, в некоторых местах пористая, вздувалась пузырями, кристаллы кварца, усеянные стекловидными капельками, свешивались со свода, подобно люстрам, казалось, загоравшимся при нашем приближении. Можно было подумать, что подземные духи освещали свой дворец, чтобы принять посланцев Земли.
– Какое великолепие! – невольно воскликнул я. – Что за зрелище! Какие изумительные оттенки принимает лава! От красно-бурого до ярко-желтого! А эти кристаллы, похожие на светящиеся шары!
– А-а, ты теперь восхищаешься, Аксель! – ответил дядюшка. – А-а, ты находишь это зрелище великолепным, мой мальчик! Надеюсь, ты еще и не то увидишь. Идем же! Идем!
Правильнее было бы сказать: «Катимся же!», ибо мы без всякого труда скользили вниз по наклонной плоскости. То был facilis descensus Averni[16 - Легкий спуск в преисподнюю (лат).] Вергилия!
Компас, на который я частенько посматривал, постоянно указывал на юго-восток. Следовательно, поток лавы, не уклоняясь ни вправо, ни влево, все время вел нас по прямой.
Между тем температура почти не поднималась, что подтверждало теорию Дэви; я несколько раз с удивлением посматривал на термометр. Мы были в дороге уже два часа, а на нем было только 10°, иначе говоря, температура повысилась всего на 4°! Это навело меня на мысль, что мы «спускаемся» больше в горизонтальном направлении, чем в вертикальном! Впрочем, не было ничего легче узнать, на какой глубине мы находимся. Профессор исправно измерял угол наклона нашего пути, но хранил про себя результаты своих наблюдений.
В девять часов вечера он дал сигнал остановиться. Ганс тотчас же повиновался. Лампы укрепили на выступе стены. Мы находились в какой-то пещере, где не было недостатка в воздухе. Напротив! Мы чувствовали как бы дуновение ветра. Чему приписать это явление? Откуда мог появиться ветер? Я отложил разрешение этого вопроса. Голод и усталость лишили меня способности размышлять, Семь часов безостановочного пути истощили мои силы. Оклик «halt!» обрадовал меня. Ганс разложил провизию на обломке лавы, и мы поели с аппетитом. Меня все же беспокоила одна вещь: наш запас воды наполовину истощился. Дядюшка рассчитывал пополнить его из подземных источников, но мы еще ни разу их не встретили. Я обратил его внимание на это обстоятельство.
– Тебя удивляет отсутствие источников? – спросил дядюшка.
– Конечно! И больше того, беспокоит! У нас хватит воды только на пять дней.
– Успокойся, Аксель, я ручаюсь, что мы найдем воду, и даже в большем количестве, чем необходимо.
– Когда же?
– Когда выйдем из напластований лавы. Ты воображаешь, что источники могут пробиться сквозь такую толщу?
– Вероятно, этот поток лавы уходит на большую глубину. Но пока что мы, по-моему, не слишком далеко продвинулись в вертикальном направлении.
– На чем основано твое предположение?
– Ведь если бы мы намного продвинулись в глубь земной коры, температура была бы выше.
– Это по твоей теории! – ответил дядюшка. – А что показывает термометр?
– Едва пятнадцать градусов! Следовательно, с того времени, что мы идем по туннелю, температура поднялась на девять градусов.
– Ну, а вывод?
– А вывод таков! Согласно точнейшим измерениям, повышение температуры в недрах Земли равняется одному градусу на каждые сто футов. Но эта цифра может, конечно, изменяться под влиянием местных условий. Так, в Якутске, в Сибири, замечено, что повышение на один градус приходится уже на тридцать шесть футов. Все зависит, очевидно, от теплопроводности скал. Я прибавлю, что вблизи потухшего вулкана повышение температуры в один градус приходится лишь на сто двадцать пять футов. Примем последнюю цифру, как наиболее благоприятную, и вычислим.
– Вычисляй, мой мальчик!
– Это нетрудно, – сказал я, набрасывая цифры в записной книжке. – Девять раз сто двадцать пять дает тысячу сто двадцать пять футов.
– Правильно.
– Так что же?
– А то, что, по моим наблюдениям, мы уже находимся на глубине десяти тысяч футов ниже уровня моря.
– Не может быть!
– Именно так! Или цифры утратили всякий смысл.
Вычисления профессора оказались правильными; мы спустились уже на шесть тысяч футов глубже, чем это когда-либо удавалось человеку, например, в Кицбальских копях в Тироле и Вюттембергских в Богемии.
Температура, которая должна была дойти там до восьмидесяти одного градуса, едва поднялась до пятнадцати. Над этим стоило поразмыслить.
Глава девятнадцатая
На следующий день, во вторник, 30 июня, в шесть часов утра мы вновь пустились в путь.
Мы все еще шли по лавовой галерее, которая теперь полого вела вниз, как те деревянные настилы, что и поныне заменяют лестницы в некоторых старинных домах. Так продолжалось до семнадцати минут первого, когда мы нагнали Ганса, опередившего нас.
– А-а! – воскликнул дядя. – Мы в самом конце трубы.
Я огляделся. Мы находились у перекрестка, от которого вели два пути, оба темных и узких. Какой из них следовало избрать? Вот в чем состояла загадка!
Однако дядюшка, не желавший обнаруживать своих колебаний ни передо мной, ни перед проводником, решительно указал на восточный туннель, в который мы тотчас же вошли.
Впрочем, раздумье при выборе пути могло продолжаться очень долго, ибо не было ни малейшего указания, могущего склонить дядюшку в пользу того или другого хода; приходилось буквально идти наугад.
Наклон в этой новой галерее был едва ощутим, и сама она то расширялась, то суживалась. Иногда перед нами возникала вереница арок, напоминающая неф готического собора. Зодчие средневековья могли бы изучать здесь все виды этой архитектуры, в основе которой лежит стрельчатая арка. Следующую милю нам пришлось идти, нагнув головы под низкими сводами романского стиля и толстыми пилястрами, наклонно вросшими в стены галереи. А в иных местах все это великолепие сменялось сооружениями, похожими на жилища бобров, и мы пробирались уже ползком по их узким ходам.
Температура была сносной, и я невольно подумал, какая нестерпимая жара стояла здесь, когда огненные потоки лавы, извергаемой Снефельс, неслись по этой столь мирной ныне галерее. Я представил себе, как они разбивались о колонны, как горячие пары скоплялись в этих узких проходах.
«Только бы не пришла древнему вулкану фантазия вспомнить былое!» – подумал я.
Впрочем, я не делился с дядюшкой Лиденброком своими мыслями, да он и не понял бы их. Его единственным стремлением было: идти вперед и вперед! Он шел, скользил, даже падал, преисполненный уверенности, которая невольно вызывала удивление.
К шести часам вечера, не слишком утомившись, мы прошли два лье в южном направлении и меньше четверти мили в глубину.
Дядюшка дал знак остановиться и отдохнуть. Мы поели, не обмолвившись ни единым словом, и заснули без долгих размышлений.
Наши приготовления на ночь были весьма несложны; дорожное одеяло, в которое каждый из нас закутывался, составляло всю нашу постель. Нам нечего было бояться ни холода, ни нежданных посетителей. В пустынях Африки или в лесах Нового Света путешественникам приходится вечно быть настороже. Тут – совершенное одиночество и полнейшая безопасность. Нечего было опасаться ни дикарей, ни хищных зверей, ни злоумышленников!
Утром мы проснулись бодрые, отдохнувшие! И снова двинулись в путь. Мы шли, как и накануне, по тому же грунту затвердевшей лавы. Строение почвы под лавовым покровом невозможно было определить. Туннель не углублялся больше в недра Земли, но постепенно принимал горизонтальное направление. Мне показалось даже, что наш путь ведет к поверхности Земли. К десяти часам утра, в этом нельзя было сомневаться, стало труднее идти, и я начал отставать от спутников.
– В чем дело, Аксель? – спросил нетерпеливо профессор.
– Я не могу идти быстрее, – ответил я.
– Что? Всего каких-нибудь три часа ходьбы по столь легкой дороге!
– Легкой, пожалуй, но все же утомительной.
– Но ведь мы же спускаемся!
– Поднимаемся! Не в обиду вам будь сказано!
– Поднимаемся? – переспросил дядя, пожимая плечами.
– Конечно! Вот уже полчаса как наклон грунта изменился, и, если так будет продолжаться, мы непременно вернемся на землю Исландии.
Профессор покачал головой, давая понять, что он не хочет ничего слышать. Я пытался привести новые доводы. Дядюшка упорно молчал и дал сигнал собираться в дороту. Я понял, что его молчание вызвано дурным расположением духа.
Все же я мужественно взвалил на спину свою тяжелую ношу и быстрым шагом последовал за Гансом, который шел впереди дядюшки. Я боялся отстать. Моей главной заботой было не терять из виду спутников. Я содрогался от ужаса при мысли заблудиться в этом лабиринте.
Впрочем, если восходящий путь и был утомительнее, все же я утешался мыслью, что он вел нас на поверхность Земли, вселяя в мое сердце надежду. Каждый шаг подтверждал мою догадку, и меня окрыляла мысль, что я снова увижу милую Гретхен.
Около полудня вид галереи изменился. Я заметил это по отражению электрического света от ее стен. Вместо лавы своды состояли теперь из пластов осадочных пород, расположенных наклонно к горизонтальной плоскости, а зачастую и вертикально. Мы оказались в силурийском периоде.
– Это же яснее ясного! – воскликнул я. – Осадочные породы, как то: сланцы, известняки и песчаники, – относятся к древней палеозойской эре в истории Земли! Мы теперь удаляемся от гранитного массива. Выходит, что мы поступаем, точно гамбуржцы, которые поехали бы в Любек через Ганновер.
Мне следовало бы держать свои наблюдения про себя. Но мой пыл геолога одержал верх над благоразумием, и дядюшка Лиденброк услышал мои восклицания.
– Что случилось? – спросил он.
– Смотрите, – ответил я, указывая ему на пласты слоистых песчано-глинистых и известковых масс, в которых виднелись вкрапления шиферного сланца.
– Ну, и что же?
– Это означает, что мы дошли до того периода, когда появились первые растения и животные.
– А-а, ты так думаешь?
– Да взгляните же, исследуйте, понаблюдайте!
Я заставил профессора направить лампу на стены галереи, ожидая от него обычных в таких случаях восклицаний, но он, не сказав ни слова, пошел дальше.
Понял ли он меня или нет? Или он, как мой дядя и как ученый, не хотел сознаться из самолюбивой гордости, что он ошибся, избрав восточный туннель, или же намеревался исследовать до конца этот ход? Было очевидно, что мы вышли из лавовой галереи и что по этому пути нам не добраться до очага Снефельс.
Все же у меня возникло сомнение, не придал ли я слишком большого значения своим наблюдениям? Не заблуждался ли я сам? Действительно ли мы находимся среди пластов, лежащих над гранитным массивом?
«Если я прав, – думал я, – то должен найти остатки органической жизни, и перед такой очевидностью дяде придется сдаться. Итак, поищем!»
Не прошел я и ста шагов, как мне представились неопровержимые того доказательства. В самом деле, в силурийский период в морях обитало свыше тысячи пятисот растительных и животных видов. Мои ноги, ступавшие до сих пор по затвердевшей лаве, ощутили под собою мягкий грунт, образовавшийся из древних растений и раковин. На стенах ясно виднелись отпечатки морских водорослей – фукусов и ликоподий. Профессор Лиденброк, закрыв на все глаза, шел вперед все тем же ровным шагом.
Упрямство его перешло все границы. Я не выдержал. Подняв раковину, вполне сохранившуюся, принадлежавшую животному, немного похожему на нынешнюю мокрицу, и подойдя к дядюшке, я сказал ему:
– Взгляните!
– Превосходно! – ответил он спокойно. – Это редкий экземпляр вымершего еще в древние времена низшего животного, принадлежавшего к классу трилобитов. Только и всего!
– Но не заключаете ли вы из этого?..
– То же, что заключаешь и ты сам? Разумеется! Мы вышли из зоны гранитных массивов и лавовых потоков. Возможно, что я избрал неверный путь, но я удостоверюсь в своей ошибке лишь тогда, когда мы дойдем до конца этой галереи.
– Вы поступаете правильно, дорогой дядюшка, и я одобрил бы вас, если бы не боялся угрожающей нам опасности.
– Какой именно?
– Недостатка воды.
– Ну что ж! Уменьшим порции, Аксель.
Глава двадцатая
В самом деле, воду пришлось экономить. Нашего запаса могло хватить только на три дня; в этом я убедился за ужином. А между тем мы потеряли всякую надежду встретить источник в этих пластах переходной эпохи. Весь следующий день мы шли под бесконечными арочными перекрытиями, шли, лишь изредка обмениваясь словом. Молчаливость Ганса передалась и нам.
Подъем в гору почти не чувствовался. Порою даже казалось, что мы спускаемся, а не поднимаемся. Последнее обстоятельство, впрочем, едва ощутимое, не обескураживало профессора, хотя структура почвы не менялась и все признаки переходного периода были налицо.
Сланец, известняк и древний красный песчаник ослепительно сверкали при электрическом свете. Казалось, что находишься в копях Девоншира, который и дал свое название этой геологической системе. Стены галереи являли великолепные образцы мрамора, от серовато-коричневого, как агат, с белыми прожилками причудливого рисунка, до алого или желтого с красными вкраплениями; были тут и образцы темного мрамора, оживляемого игрою ярких красок благодаря присутствию в нем известняков. В большинстве этих образцов мрамора встречались отпечатки низших животных. По сравнению с тем, что мы видели накануне, в творчестве природы намечался явный прогресс; вместо рудиментарных трилобитов я обнаружил остатки более совершенных видов, в частности, ганоидных рыб и зароптерисов, в которых глаз палеонтолога мог обнаружить начальные формы пресмыкающихся. Моря девонского периода были богаты животными этого вида. Множество их отложений встречается в горных породах новейшего периода.
Очевидно, перед нами проходила картина животного мира от низшей до высшей его ступени, на которой стоит человек. Но профессор Лиденброк, казалось, не обращал на окружающее никакого внимания.
Он ожидал одного из двух: или разверстого у его ног отверстия колодца, в который он мог бы спуститься, или препятствия, которое преградило бы ему дальнейший путь. Но наступил вечер, а надежды дядюшки были по-прежнему тщетны.
В пятницу, после мучительной ночи, истомленный жаждой, наш маленький отряд снова пустился в скитания по подземному лабиринту.
Мы шли уже два часа, когда я заметил, что отблеск наших ламп на стенах галереи стал значительно слабее. Мрамор, сланец, известняк, песчаник уступили место темному и тусклому покрову. Там, где туннель особенно сузился, я коснулся рукой его стены. Когда я посмотрел на руку, она оказалась черной, Я вгляделся внимательнее. Рука была испачкана каменноугольной пылью.
– Каменноугольные копи! – воскликнул я.
– Копи без рудокопов, – ответил дядюшка.
– Ну, кто знает!
– Я-то знаю! – сухо возразил профессор. – Я твердо убежден, что эта галерея, проложенная в каменноугольных пластах, не дело рук человеческих. Остальное меня мало интересует. Время ужинать. Давайте-ка поужинаем!
Ганс приготовил ужин. Я ел мало и выпил несколько капель воды, составлявших мою порцию. Фляга, которую нес проводник, была лишь наполовину полна; вот все, что осталось у нас для утоления жажды троих человек!
Поужинав, мои спутники растянулись на своих одеялах, черпая отдых в живительном сне. Но я не мог заснуть; я отсчитывал часы до самого утра.
В субботу, в шесть часов утра, мы двинулись дальше. Через двадцать минут мы оказались в большой пещере; я тотчас же понял, что эта «каменноугольная копь» не была сделана рукой человека: ведь иначе своды были бы снабжены подпорками, а здесь они держались лишь каким-то чудом.
Эта своеобразная пещера имела сто футов в ширину и полтораста в вышину. Очевидно, твердые пласты, уступая мощному подземному давлению, сдвинулись с места, образовав это огромное пустое пространство, в которое впервые проникли ныне обитатели Земли.
Вся история каменноугольного периода была начертана на этих темных стенах, по которым геолог мог бы легко проследить различные ее фазы. Как я заметил, угольные пласты чередовались со слоями песчаника и глины и казались сплющенными под верхними наслоениями.
В этот период, предшествовавший образованию вторичных пород, Земля покрылась чрезвычайно богатой растительностью под двойным действием тропической жары и водяных паров. Пары эти окружали весь сфероид и застилали свет солнца.
Отсюда и было сделано заключение, что причина высокой температуры кроется вовсе не в этом источнике тепла и света. Возможно, что в ту эпоху наше дневное светило еще не было в состоянии играть свою благотворную роль. Разделения на климаты тоже не существовало, и одинаково жарко было как у полюсов, так и на экваторе. Откуда же исходил этот жар? Из недр земного шара.
Вопреки теориям профессора Лиденброка внутри Земли таился вечный огонь, и его тепло чувствовалось даже в верхних слоях земной коры. Растения, лишенные благодатных лучей солнца, не имели ни цветов, ни аромата, и корни их черпали свою силу лишь в горячей почве первозданного мира.
Деревья встречались редко, и земную поверхность покрывали только травянистые растения: папоротники, ликоподии, сигиллярии, астерофиллиты – редкие ныне семейства, виды которых насчитывались тогда тысячами.
Этой обильной растительности и обязан своим возникновением каменный уголь. Под влиянием находившейся под ней жидкой массы в еще не вполне отвердевшей земной коре образовались многочисленные трещины и провалы, постепенно наполнившиеся водой. Из погрузившихся в нее растений и образовались с течением времени крупные залежи каменного угля.
Тут в действие вступили естественные химические силы. Растительные залежи на дне морей превратились сначала в торф. Затем, под влиянием газов и брожения, произошла полная минерализация органической массы.
Так образовались мощные пласты каменного угля, которые могут истощиться в течение трех столетий из-за чрезмерного потребления угля, если только промышленность заранее не примет необходимых мер.
Так думал я, обозревая угольные богатства, собранные в этом участке земных недр, которые, конечно, никогда не будут разработаны, ибо это потребовало бы слишком больших затрат. Да и какая в том надобность, если уголь еще можно добывать в стольких странах у самой поверхности земли? Стало быть, пласты эти так и останутся нетронутыми, покуда не пробьет последний час нашей планеты.
А мы все шли и шли. Увлеченный своими геологическими наблюдениями, я не замечал времени. Температура явно осталась такой же, как и во время нашего пути среди пластов лавы и сланцев. Чувствовался сильный запах углеводорода. Я сразу понял, что в этой галерее скопилось значительное количество опасного так называемого рудничного газа, столь часто являющегося причиной страшных бедствий.
К счастью, у нас был остроумный прибор Румкорфа. Имей мы неосторожность осматривать эту галерею с факелом в руке, мощный взрыв положил бы конец нашему существованию.
Наше путешествие по угольной копи длилось вплоть до вечера. Дядюшка едва сдерживал свое нетерпение, – он никак не мог примириться с горизонтальным направлением нашего пути. Мрак, столь глубокий, что в двадцати шагах ничего не было видно, мешал определить длину галереи, и мне уже начало казаться, что она бесконечна, как вдруг, в шесть часов, мы очутились перед стеной. Не было хода ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Мы попали в тупик.
– Тем лучше! – воскликнул дядюшка. – Я знаю теперь, что нам делать. Мы сбились с маршрута Сакнуссема, и нам остается только вернуться назад. Отдохнем за ночь, и не пройдет трех дней, как мы снова будем у того места, где большая галерея разветвляется надвое.
– Да, – сказал я, – если у нас хватит сил!
– А отчего же нет?
– От тото, что завтра у нас не останется и капли воды.
– И ни капли мужества? – сказал профессор, строго взглянув на меня.
Я не осмелился возражать.
Глава двадцать первая
На следующий день, на рассвете, мы пошли обратно. Необходимо было спешить. Мы находились в пяти днях пути от перекрестка.
Я не буду распространяться о трудностях нашего возвращения. Дядюшка выносил все тяготы, внутренне негодуя, как человек, вынужденный покориться необходимости; Ганс относился ко всему с покорностью, свойственной его невозмутимому характеру. А я, должен сознаться в этом, предавался отчаянию; терял всякую бодрость перед лицом такой неудачи.
Как уже упомянуто, вода у нас кончилась к исходу первого дня пути. Нам приходилось для утоления жажды довольствоваться можжевеловой водкой; но этот адский напиток обжигал горло, и один его вид вызывал у меня отвращение. Воздух казался мне удушливым. Я выбился из сил. Порою я готов был лишиться чувств. Тогда делали привал. Дядюшка с исландцем старались ободрить меня. Но я заметил, что сам дядюшка изнемогает от мучительной жажды и усталости.
Наконец, во вторник, 8 июля, ползком, на четвереньках, мы добрались, полумертвые, до скрещения двух галерей. Там я без сил свалился на землю. Было десять часов утра.
Ганс и дядюшка напрасно пытались заставить меня съесть немного сухарей. С моих распухших губ срывались протяжные стоны. Я впал в полузабытье.
Вскоре дядюшка подошел ко мне и, приподняв меня на руках, прошептал с искренней жалостью:
– Бедный мальчик!
Слова эти тронули меня, ведь суровый профессор не баловал меня нежностями. Я схватил его дрожащие руки. Он не отдернул их и посмотрел на меня. На его глазах были слезы.
Затем он взял висевшую у него сбоку фляту и, к моему великому удивлению, поднес ее к моим губам.
– Пей, – сказал он.
Не ослышался ли я? Не сошел ли дядюшка с ума? Я посмотрел на него пристально. Я ничего не понимал.
– Пей, – повторил он.
И, взяв флягу, он вылил мне в рот всю воду, какая оставалась в ней.
Какое наслаждение! Глоток воды освежил мой воспаленный рот. Всего один глоток, но его было достаточно, чтобы оживить меня.
Я горячо поблагодарил дядюшку.
– Да, – сказал он, – последняя капля воды! Понимаешь ли ты? Последняя! Я бережно хранил ее в моей фляге. Двадцать раз, сто раз боролся я с желанием выпить остаток воды! Но, Аксель, я хранил эту воду для тебя!
– Милый дядя! – лепетал я, и слезы текли по моим щекам.
– Да, бедняжка, я знал, что, добравшись до этого перекрестка, ты упадешь полумертвый, и сохранил последние капли воды, чтобы оживить тебя.
– Благодарю, благодарю! – воскликнул я.
Как ни скупо была утолена моя жажда, я все же почувствовал некий подъем сил. Мышцы моей гортани, судорожно сведенные, разошлись, сухость губ уменьшилась. Я мог говорить.
– Видите, – сказал я, – у нас нет теперь иного выбора! Вода кончилась. Надо вернуться на землю.
Пока я говорил, дядюшка избегал моего взгляда; он опустил голову, отвел глаза в сторону…
– Надо вернуться! – повторил я. – Надо идти обратно в сторону Снефельс, если только господь бог даст нам сил добраться до вершины кратера!
– Вернуться! – проговорил дядюшка, как бы отвечая на собственные мысли.
– Да, вернуться, и не теряя ни минуты.
Последовало довольно долгое молчание.
– Итак, Аксель, – продолжал профессор каким-то странным тоном, – несколько капель воды не вернули тебе ни мужества, ни энергии?
– Мужества?!
– Я вижу, что ты столь же малодушен, как и прежде, и слышу от тебя все те же слова отчаяния!
С каким же человеком я имел дело и какие планы все еще лелеял его дерзкий ум?
– Как, вы не хотите?..
– Отказаться от предприятия в тот момент, когда все указывает на то, что оно может удаться? Никогда!
– Так, значит, нам надо идти на верную гибель?
– Нет, Аксель, нет! Возвращайся на землю! Я не хочу твоей смерти! Пусть Ганс проводит тебя. Оставь меня одного!
– Покинуть вас!
– Оставь меня, говорю я тебе! Я предпринял это путешествие. Я доведу его до конца или не вернусь вовсе… Ступай, Аксель, ступай!
Дядюшка говорил с величайшим раздражением. Его голос, на минуту смягчившийся, снова сделался резким, угрожающим. Он с мрачной энергией хотел одолеть неодолимое! Я не мог покинуть его в глубине этой бездны, а, с другой стороны, чувство самосохранения побуждало меня бежать от него.
Проводник понимал, что происходит между нами. Наша жестикуляция указывала достаточно ясно, что спор шел о выборе дороги и что каждый настаивал на своем; но Ганс, казалось, выказывал мало интереса к вопросу, от которого зависела его собственная жизнь; он был готов по знаку своего господина уйти или остаться.
Как же мне объясниться с ним?! Мои слова, мои стенания, самые интонации моего голоса не оказывали влияния на эту холодную натуру. Я хотел внушить нашему проводнику, показать ему со всей ясностью, какая опасность нам грозит. Вдвоем мы, пожалуй, могли бы образумить упрямого профессора и принудить его вернуться. В случае надобности мы заставим его вернуться на вершину Снефельс!
Я подошел к Гансу и коснулся его руки. Он был недвижим. Я указал ему на жерло кратера. Он и пальцем не пошевелил. На моем лице можно было прочитать все мои страдания. Исландец покачал головой и спокойно указал на дядюшку.
– Master! – сказал он.
– Господин? – вскричал я. – Он безумец! Нет, он не господин твоей жизни! Надо бежать! Надо насильно увести его! Слышишь? Понимаешь ли ты меня?
Я схватил Ганса за руку. Я пытался его поднять. Я боролся с ним. Тут вмешался дядюшка.
– Успокойся, Аксель, – сказал он. – Ты ничего не добьешься от этого непоколебимого человека. Выслушай, что я хочу тебе предложить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71134012?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Формат издания в
/
бумажного листа.
2
Туаз равен 1,949 м.
3
Местность близ Гамбурга.
4
Один – в скандинавской мифологии высший из богов.
5
Календы – так римляне называли первые дни каждого месяца.
6
Корвет «Поиски» был отправлен в 1835 году адмиралом. Дюперрэ для розыска судна «Лилианка» с экспедицией де Блоссевиля, пропавшей без вести. – Примеч. автора.
7
«Смело двинемся в путь, куда поведет нас фортуна» (лат).
8
По современным данным, площадь Исландии равна 103 тыс. км
.
9
Жилище исландского крестьянина. – Примеч. автора.
10
Там (датск.).
11
Долго? (датск.)
12
Да (датск.).
13
Водостоком (лат.).
14
Здравствуйте (датск.)
15
До бесконечности (лат.).
16
Легкий спуск в преисподнюю (лат).
Жюль Габриэль Верн
Большая библиотека приключений. Новое оформление
«Путешествие к центру Земли» – один из самых популярных романов Жюля Верна, неоднократно экранизированный. Написанная с тонким юмором, необычайно увлекательная история эксцентричного немецкого профессора минералогии Отто Лиденброка и его многострадального юного племянника и ассистента Акселя, расшифровавших манускрипт таинственного средневекового исландского алхимика и отправившихся, согласно указаниям этой рукописи, в полное немыслимых приключений странствие по земным недрам, способна и сейчас покорить воображение даже самого искушенного поклонника фантастики.
Мистер Филеас Фогг вел размеренную, спокойную жизнь – по крайней мере, до того, как поспорил, что сможет обогнуть земной шар в кратчайшие сроки. И теперь, как истинный англичанин и джентльмен, он во что бы то ни стало обязан выиграть необычное пари!
Вместе с верным слугой Паспарту он отправляется в полное опасностей и приключений кругосветное путешествие. Героям предстоит пережить восемьдесят самых удивительных и непредсказуемых дней в своей жизни: прочувствовать экзотику далеких стран, попасть в шторм на корабле, проехаться верхом на слоне, сразиться с кровожадными индейцами и быть арестованными буквально перед самой победой…
Жюль Габриэль Верн
Путешествие к центру Земли. Вокруг света за восемьдесят дней
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Путешествие к центру Земли
Глава первая
В воскресенье 24 мая 1863 года мой дядя, профессор Отто Лиденброк, быстрыми шагами подходил к своему домику, номер 19 по Королевской улице – одной из самых старинных улиц древнего квартала Гамбурга.
Наша служанка Марта, наверно, подумала, что она запоздала с обедом, так как суп на плите лишь начинал закипать.
«Ну, – сказал я про себя, – если дядя голоден, то он, как человек нетерпеливый, устроит настоящий скандал».
– Вот и господин Лиденброк! – смущенно воскликнула Марта, приоткрыв дверь столовой.
– Да, Марта, но обед и не должен быть готов, ведь еще нет двух часов. В церкви святого Михаила часы пробили только половину второго.
– Так почему же господин Лиденброк вернулся?
– Он, вероятно, объяснит нам причину.
– Вот и он! Я бегу, господин Аксель, а вы его успокойте.
И Марта поспешила в свою кухонную лабораторию.
Я остался один. Успокаивать рассерженного профессора при моем несколько слабом характере было мне не по силам. Поэтому я собирался благоразумно удалиться наверх, в свою комнатку, как вдруг заскрипела входная дверь; ступени деревянной лестницы затрещали под длинными ногами хозяина дома, и, миновав столовую, он быстро прошел в свой рабочий кабинет.
На ходу он бросил в угол трость с набалдашником в виде щелкунчика, на стол – широкополую с взъерошенным ворсом шляпу и громко крикнул:
– Аксель, иди сюда!
Я не успел сделать и шага, как профессор в явном нетерпении снова позвал меня:
– Ну, где же ты!
Я бросился со всех ног в кабинет моего грозного дядюшки. Отто Лиденброк – человек не злой, я готов засвидетельствовать это, но если его характер не изменится, что маловероятно, то он так и умрет большим чудаком.
Отто Лиденброк был профессором в Иоганнеуме и читал лекции по минералогии, причем регулярно раз или два в течение часа выходил из терпения. Отнюдь не потому, что его беспокоило, аккуратно ли посещают студенты его лекции, внимательно ли слушают их и делают ли успехи: этими мелочами он мало интересовался. Лекции его, согласно выражению немецкой философии, носили «субъективный» характер: он читал для себя, а не для других. Это был эгоистичный ученый, настоящий кладезь премудрости, брюзжавший при малейшей попытке почерпнуть хоть крупицу из сокровищницы его познаний, одним словом – скупец!
В Германии немало профессоров такого рода.
Дядюшка, к сожалению, не отличался живостью речи, по крайней мере когда говорил публично, – а это прискорбный недостаток для оратора. И в самом деле, на своих лекциях в Иоганнеуме профессор часто внезапно останавливался; он боролся с упрямым словом, которое не хотело соскользнуть с его губ, с одним из тех слов, которые сопротивляются, разбухают и, наконец, срываются с уст в форме какого-нибудь – отнюдь не научного – бранного словечка! Отсюда и его крайняя раздражительность.
В минералогии существует много полугреческих, полулатинских названий, трудно произносимых, шероховатых терминов, которые ранят уста поэта. Я вовсе не хочу хулить эту науку. Но, право, самому гибкому языку позволительно заплетаться, когда ему приходится произносить такие, например, названия, как ромбоэдрическая кристаллизация, ретинасфальтовая смола, гелениты, фангазиты, молибдаты свинца, тунгстаты марганца, титанаты циркония.
В городе знали эти извинительные слабости моего дядюшки и злоупотребляли ими: подстерегали малейшую заминку в его речи, выводили его из себя и смеялись над ним, что даже в Германии отнюдь не считается признаком хорошего тона. И если на лекциях Лиденброка всегда было много слушателей, то это только потому, что большинство их приходило лишь позабавиться благородным гневом профессора.
Как бы то ни было, но мой дядюшка – я особенно подчеркиваю это – был истинным ученым. Хотя ему и приходилось, производя опыты, разбивать образцы минералов, все же дарование геолога в нем сочеталось с зоркостью минералога. Вооруженный молоточком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой и пузырьком с азотной кислотой, человек этот был на высоте своей профессии. По внешнему виду, излому, твердости, плавкости, звуку, запаху или вкусу он определял безошибочно любой минерал и указывал его место в классификации шестисот видов известных науке наших дней.
Поэтому имя Лиденброка пользовалось заслуженной известностью во всевозможных ученых обществах. Хемфри Дэви, Гумбольдт, Франклин и Сабин, будучи проездом в Гамбурге, не упускали случая сделать ему визит. Беккерель, Эбельмен, Брюстер, Дюма, Мильн-Эдвардс, Сент-Клер-Девиль охотно советовались с ним по животрепещущим вопросам химии. Эта наука обязана ему значительными открытиями, и в 1853 году появилась в Лейпциге книга профессора Отто Лиденброка под заглавием: Высшая кристаллография – объемистый труд infolio[1 - Формат издания в
/
бумажного листа.] с рисунками, не окупивший, однако, расходов по его изданию.
Кроме того, мой дядюшка был хранителем минералогического музея русского посланника Струве, ценной коллекции, пользовавшейся европейской известностью.
Таков был человек, звавший меня столь нетерпеливо. Теперь представьте себе его наружность: мужчина лет пятидесяти, высокого роста, худощавый, но обладавший железным здоровьем, по-юношески белокурый, глядевший лет на десять моложе своего возраста. Его большие глаза так и бегали за стеклами внушительных очков; его длинный и тонкий нос походил на отточенный клинок; злые языки утверждали, что он намагничен и притягивает железные опилки… Сущая клевета! Он втягивал только табак, и, правду сказать, в большом количестве.
А если прибавить, что дядюшкин шаг, говоря языком математики, равнялся полтуазу[2 - Туаз равен 1,949 м.] и что на ходу он крепко сжимал кулаки – явный признак вспыльчивого нрава, – то этих сведений будет достаточно, чтобы пропала всякая охота искать его общества.
Он жил на Королевской улице в собственном домике, построенном наполовину из дерева, наполовину из кирпича, с зубчатым фронтоном; дом стоял у излучины одного из каналов, которые пересекают наиболее старинную часть Гамбурга, счастливо пощаженную пожаром 1842 года.
Старый дом чуть накренился и, что таить, выпячивал брюхо напоказ прохожим. Крыша на нем сидела криво, как шапочка на голове студента, состоящего членом Тугендбунда; положение его стен было не вполне вертикальным, но, в общем, дом держался стойко благодаря древнему вязу, подпиравшему его фасад и весной касавшемуся своими цветущими ветвями его окон.
Для немецкого профессора дядюшка был сравнительно богат. Дом, со всем, что в нем было и что в нем жило, находился в его полной собственности. К жильцам следует отнести крестницу дядюшки Гретхен, семнадцатилетнюю девушку из Фирланде[3 - Местность близ Гамбурга.], служанку Марту и меня. В качестве племянника и сироты я стал главным помощником профессора в его научных опытах.
Признаюсь, что я находил удовольствие в занятиях геологическими науками; в моих жилах текла кровь минералога, и я никогда не скучал в обществе моих любимых камней.
Впрочем, можно было счастливо жить в этом домике на Королевской улице, несмотря на вспыльчивый нрав его владельца, потому что последний, хотя и обходился со мною довольно круто, все же любил меня. Но этот человек не умел ждать и торопил даже природу.
В апреле месяце дядюшка обычно сажал в фаянсовые горшки, стоявшие в гостиной, резеду и вьюнки, а затем каждое утро дергал их за листочки, чтобы ускорить рост этих растений.
Имея дело с таким оригиналом, ничего другого не оставалось, как повиноваться. Поэтому я поспешил в его кабинет.
Глава вторая
Кабинет дядюшки был настоящим музеем. Здесь находились все образцы минерального царства, снабженные этикетками и разложенные в полном порядке по трем крупным разделам: горючих, металлических и камнеподобных.
Как хорошо были знакомы мне эти научные побрякушки! Как часто, вместо того чтобы бездельничать с товарищами, я забавлялся, сметая пыль со всех этих графитов, антрацитов, лигнитов, с образцов каменного угля и торфа! А битум, асфальт, органические соли – как тщательно их нужно было охранять от малейшей пылинки! А металлы, начиная с железа и кончая золотом, относительная ценность которых исчезала перед абсолютным равенством научных образцов! А все эти камни, которых хватило бы для того, чтобы перестроить наш дом на Королевской улице и даже предусмотреть в нем прекрасную комнату, которая так хорошо подошла бы мне!
Однако, войдя в кабинет, я думал не об этих чудесах. Мои мысли были всецело поглощены дядюшкой. Он сидел в своем вместительном, обитом утрехтским бархатом кресле и держал в руках книгу, которую рассматривал с глубочайшим восхищением.
– Какая книга! Какая книга! – восклицал он.
Этот возглас напомнил мне, что профессор Лиденброк время от времени становился библиоманом; но книга имела в его глазах ценность лищь в том случае, если она была уникальна или по крайней мере неудобочитаема.
– Взгляни, – сказал он, – разве ты не видишь? Это бесценное сокровище я нашел сегодня утром в лавке еврея Гевелиуса.
– Великолепно! – ответил я с притворным восхищением.
И действительно, к чему столько шума из-за старой книжонки в кожаном переплете, из-за старинной пожелтевшей книжки с выцветшими буквами?
Между тем профессор продолжал восхищаться своим приобретением.
– Посмотри! Разве это не прекрасно? – спрашивал они тут же отвечал: – Да, восхитительно! А какой переплет! Легко ли книга раскрывается? Ну, конечно! Ее можно держать раскрытой на любой странице! Хорошо ли она выглядит в закрытом виде? Отлично! Обложка и листы хорошо сброшюрованы, все на месте, все пригнано одно к другому! А корешок? Семь веков существует книга, и ни единой трещины! Вот это переплет! Он мог бы составить гордость Бозериана, Клосса и Пюргольда!
Рассуждая так, дядюшка то открывал, то закрывал старинную книгу.
Я не нашел ничего лучшего, как спросить, что же это за книга, хотя она мало меня интересовала.
– А каково же заглавие этой замечательной книги? – спросил я лицемерно.
– Это сочинение, – отвечал дядюшка, воодушевляясь, – носит название «Хеймс-Крингла», автор его Снорре Турлесон, знаменитый исландский писатель двенадцатого века! Это история норвежских конунгов, правивших в Исландии!
– Неужели? – воскликнул я, насколько возможно радостнее. – Вероятно, в немецком переводе?
– Подумаешь! – возразил горячо профессор. – В переводе!.. Что мне делать с переводом? Кому он нужен, перевод? Это оригинальный труд на исландском языке – великолепном, богатом идиомами и в то же время простом, в котором, не нарушая грамматической структуры, уживаются самые причудливые словообразования.
– Как и в немецком языке, – прибавил я, подлаживаясь к нему.
– Да, – ответил дядюшка, пожимая плечами, – но с той разницей, что в исландском языке существуют три грамматических рода, как в греческом, и собственные имена склоняются, как в латинском.
– Ах, – воскликнул я, превозмогая свое равнодушие, – какой прекрасный шрифт!
– Шрифт? О каком шрифте ты говоришь, несчастный Аксель? Дело вовсе не в шрифте! Ах, ты, верно, думаешь, что книга напечатана? Нет, глупец, это манускрипт, рунический манускрипт!..
– Рунический?
– Да! Ты, может быть, попросишь объяснить тебе это слово?
– В этом я не нуждаюсь, – ответил я с видом оскорбленного достоинства.
Но дядюшка продолжал еще усерднее поучать меня, помимо моей воли, вещам, о которых я и знать ничего не хотел.
– Руны, – продолжал он, – это письменные знаки, которые некогда употреблялись в Исландии и, по преданию, были изобретены самим Одином[4 - Один – в скандинавской мифологии высший из богов.]! Но взгляни же, полюбуйся, нечестивец, на эти письмена, созданные фантазией самого бога!
Право, не зная, что сказать, я готов был пасть на колени, ибо такой ответ угоден и богам и королям, и он никогда не ставит их в затруднительное положение. Но тут одно неожиданное обстоятельство дало нашему разговору иной оборот.
Внезапно из книги выпал полуистлевший пергамент.
Дядюшка накинулся на эту безделицу с жадностью вполне понятной. В его глазах ветхий документ, лежавший, быть может, с незапамятных времен в древней книге, должен был, несомненно, иметь огромную ценность.
– Что это такое? – воскликнул дядюшка.
И он бережно развернул на столе клочок пергамента пяти дюймов длины, трех ширины, на котором были начертаны поперечными строчками какие-то знаки, достойные чернокнижия.
Вот точный снимок рукописи. Я должен привести здесь эти загадочные письмена, ибо они побудили профессора Лиденброка и его племянника предпринять самое удивительное путешествие ХХ века:
Профессор в продолжение нескольких минут рассматривал рукопись; затем, подняв повыше очки, сказал:
– Это рунические письмена; знаки эти идентичны знакам манускрипта Снорре. Но… что они означают?
Мне всегда казалось, что рунические письмена лишь выдумка ученых для одурачивания простого люда, а потому меня отнюдь не огорчило, что дядя ничего не мог в них понять. По крайней мере я заключил это по нервным движениям его пальцев.
– Однако это древнеисландский язык, – бормотал он себе под нос.
Профессор Лиденброк должен был, конечно, знать, какой это язык, ведь недаром он слыл замечательным языковедом. Было бы преувеличением утверждать, что он знал две тысячи языков и четыре тысячи диалектов, которые известны на земном шаре, и все же он говорил на доброй части из них.
Встретив непредвиденное затруднение, он собрался было впасть в гнев, и я уже предвидел бурную сцену, но в это время на каминных часах пробило два.
Тотчас же приотворилась дверь, и Марта доложила:
– Кушать подано!
– К черту обед, – закричал дядюшка, – и того, кто его варит, и того, кто будет его есть!
Марта убежала. Я поспешил за нею и оказался, сам не зная как, за столом на своем обычном месте.
Я подождал немного. Профессор не появлялся. Впервые, насколько мне известно, он пропустил эту трапезу. А обед-то был какой! Бульон, посыпанный петрушкой, омлет с ветчиной и мускатными орехами, жареная телятина под сливовым соусом, на десерт – засахаренные фрукты, и ко всему этому превосходное мозельское вино.
И все это дядюшка прозевал из-за какой-то старой бумажонки. Право, как преданный племянник, я почел себя обязанным пообедать за нас обоих, что и выполнил на совесть.
– Невиданное дело! – сказала Марта. – Господина Лиденброка нет за столом!
– Невероятный случай!
– Это плохой признак, – продолжала старая служанка, качая головой.
По-моему, отсутствие дядюшки за столом не предвещало ровно ничего, кроме ужасной сцены, когда обнаружится, что его обед съеден.
Я с жадностью доедал последний кусочек, как вдруг громкий голос оторвал меня от стола.
Одним прыжком я очутился в дядином кабинете.
Глава третья
– Ясно, что это рунические письмена, – сказал профессор, морща лоб. – Но я открою тайну, которая в них скрыта, иначе…
Решительным ударом кулака он довершил свою мысль.
– Садись у стола, – продолжал он, – и пиши.
В мгновение ока я был готов.
– А теперь я буду называть тебе буквы нашего алфавита, соответствующие одному из этих исландских знаков. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ради всего святого, не наделай ошибок!
Он начал диктовать. Я прилагал все свои старания, чтобы не ошибиться. Он называл одну букву за другой, и, таким образом, последовательно составлялась таблица непостижимых слов:
Когда работа была окончена, дядюшка поспешно выхватил у меня листок, на котором я написал буквы, и долго внимательно изучал их.
– Что это значит? – повторял он машинально.
Откровенно говоря, я не мог бы ответить на его вопрос. Впрочем, он и не спрашивал меня, а продолжал говорить сам с собой.
– Это то, что мы называем шифром, – рассуждал он вслух. – Смысл написанного умышленно скрыт за буквами, расставленными в беспорядке; однако, если бы их расположить в надлежащей последовательности, то они образовали бы понятную фразу. Полагаю, что в ней содержится объяснение какого-нибудь великого открытия или указание на него!
Я, со своей стороны, думал, что тут ровно ничего не скрыто, но остерегся высказать свое мнение.
Профессор между тем взял книгу и пергамент и начал их сравнивать.
– Записи эти сделаны не одной и той же рукой, – сказал он, – зашифрованная записка более позднего происхождения, чем книга, и неопровержимое доказательство тому мне сразу бросилось в глаза. В самом деле, в тайнописи первая буква – двойное М – не встречается в книге Турлесона, ибо она была введена в исландский алфавит только в четырнадцатом веке. Следовательно, между манускриптом и документом лежат по крайней мере два столетия.
Рассуждение это показалось мне логичным.
– Это наводит меня на мысль, – продолжал дядюшка, – что таинственная запись сделана одним из обладателей книги. Но кто же, черт возьми, был этот обладатель? Не оставил ли он своего имени на какой-нибудь странице рукописи?
Дядюшка поднял повыше очки, взял сильную лупу и тщательно просмотрел первые страницы книги. На обороте второй страницы он открыл что-то вроде пятна, похожего на чернильную кляксу; но, вглядевшись в него, можно было различить несколько наполовину стертых знаков. Дядя понял, что именно на это место надо обратить наибольшее внимание; он принялся чрезвычайно старательно рассматривать его и разглядел наконец с помощью лупы следующие рунические письмена, которые и прочел без всякого затруднения:
– Арне Сакнуссем! – воскликнул он торжествующе. – Но ведь это имя, имя исландское, принадлежит ученому шестнадцатого столетия, знаменитому алхимику!
Я посмотрел на дядю с восхищением.
– Алхимики, – продолжал он, – Авиценна, Бэкон, Люль, Парацельс были единственными истинными учеными своей эпохи. Они сделали открытия, которым мы можем только удивляться. Разве не мог Сакнуссем под этим шрифтом скрыть какое-либо удивительное открытие? Так оно должно быть! Так оно и есть!
При этой гипотезе воображение профессора разыгралось.
– Весьма вероятно, – дерзнул я ответить, – но для чего было этому ученому держать в тайне столь чудесное открытие?
– Для чего? Почем я знаю! Разве Галилей не так же поступил с Сатурном? Впрочем, увидим: я вырву тайну этого документа, я не буду ни есть, ни спать, пока не разгадаю ее.
«Ну и ну!» – подумал я.
– Ни я, Аксель, ни ты! – продолжал он.
«Черт возьми! – сказал я про себя. – Как хорошо, что я пообедал за двоих!»
– Прежде всего, – заметил дядюшка, – надо разгадать этот «шифр», что вполне возможно.
При этих словах я поднял голову. Дядюшка продолжал разговор с самим собой:
– Нет ничего легче этого! Документ содержит сто тридцать две буквы: семьдесят девять согласных и пятьдесят три гласных. Приблизительно такое же соотношение существует в южных языках, в то время как наречия севера бесконечно богаче согласными. Следовательно, мы имеем дело с одним из южных языков.
Выводы были правильные.
– Но какой это язык? Сакнуссем, – продолжал дядя, – был ученый человек; поэтому, раз он писал не на родном языке, то, разумеется, должен был отдавать преимущество языку, общепринятому среди образованных умов шестнадцатого века, а именно – латинскому. Если я ошибаюсь, то можно будет испробовать испанский, французский, итальянский, греческий или еврейский. Но ученые шестнадцатого столетия писали обычно по-латыни. Таким образом, я вправе признать а priori, что это латынь.
Я вскочил со стула. Как человек, изучавший латынь, я был возмущен, что этот ряд неуклюжих знаков может принадлежать сладкозвучному языку Вергилия.
– Да, латынь, – продолжал дядюшка, – но запутанная латынь.
«Отлично! – подумал я. – Если ты ее распутаешь, милый дядюшка, я скажу, что ты ученый семи пядей во лбу».
– Всмотримся хорошенько, – сказал он, снова взяв исписанный мною листок. – Вот ряд из ста тридцати двух букв, расположенных крайне беспорядочно. В одних словах встречаются только согласные, как, например, первое «mrnlls»; в других, напротив, преобладают гласные, например, в пятом «inteief» или в предпоследнем – «oseibo». Очевидно, эта группировка не случайна; она произведена математически, при помощи неизвестного нам соотношения между двумя величинами, которое и определило последовательность этих букв. Не подлежит сомнению, что первоначальная фраза была написана правильно, но затем по какому-то принципу, который еще надо найти, подверглась преобразованию. Тот, кто овладел бы ключом этого шифра, свободно прочел бы ее. Но что это за ключ? Аксель, ты не знаешь его?
На этот вопрос я не мог ответить – и по весьма основательной причине: мои взоры были устремлены на прелестный портрет, висевший на стене, – на портрет Гретхен. Воспитанница дядюшки находилась в это время в Альтоне у одной из своих родственниц, и я был очень опечален ее отсутствием, так как – теперь я могу в этом сознаться – хорошенькая питомица профессора и его племянник любили друг друга с истинным постоянством и чисто немецкой сдержанностью. Мы обручились без ведома дяди, который был слишком предан науке, чтобы понимать подобные чувства. Гретхен была очаровательная блондинка, с голубыми глазами, с твердым характером и серьезным складом ума; но это ничуть не уменьшало ее любви ко мне; что касается меня, я обожал ее, если только это понятие существует в старогерманском языке. Образ моей юной фирландки перенес меня мгновенно из мира действительности в мир грез и воспоминаний.
Я задумался о моей верной подруге, делившей со мной часы трудов и отдохновения. Она изо дня в день помогала мне приводить в порядок дядюшкину бесценную коллекцию; вместе со мной она наклеивала этикетки на образцы минералов. Гретхен была очень сильна в минералогии и могла заткнуть за пояс любого ученого. Она любила углубляться в научные премудрости. Сколько чудесных часов провели мы за совместными занятиями! И как часто я завидовал бесчувственным камням, к которым прикасались ее прелестные ручки!
Окончив работу, мы шли вместе по тенистым дорогам Альсера до старой мельницы, которая так чудесно рисовалась в конце озера. Дорогою мы болтали, держась за руки; я рассказывал ей всякие веселые истории, заставлявшие ее от души смеяться; путь этот приводил нас к берегам Эльбы, и там, попрощавшись с лебедями, которые плавали среди белых кувшинок, мы садились на пароход и возвращались домой.
В то мгновение, когда я в своих мечтаниях уже выходил на набережную, дядя, ударив кулаком по столу, сразу вернул меня к действительности.
– Посмотрим, – сказал он. – При желании затемнить смысл фразы первое, что приходит на ум, как мне кажется, это написать слова по вертикали, а не по горизонтали. Посмотрим, что из этого выйдет! Аксель, напиши какую-нибудь фразу на этом листке, но вместо того, чтобы располагать буквы в строчку, напиши их в той же последовательности, но вертикально, по пяти или по шести в столбце.
Я сразу понял, что от меня требуется, и написал сверху вниз:
– Хорошо, – сказал профессор, не читая написанного. – Теперь напиши буквы, которые получились в столбце, в строчку.
Я повиновался, получилась следующая фраза:
Ятецр! лемеое юбсмгт бяе, ах лврдяе юсдоГн
– Превосходно? – произнес дядюшка, вырывая у меня из рук листок. – Это уже походит на наш старый документ; гласные и согласные расположены в одинаковом беспорядке, даже прописная буква и запятая в середине слова, совсем как на пергаменте Сакнуссема!
Я не мог не признать, что эти замечания весьма глубокомысленны.
– А теперь, – продолжал дядюшка, обращаясь уже непосредственно ко мне, – для того чтобы прочесть фразу, которую ты написал и содержания которой я не понимаю, мне достаточно соединять по порядку сначала первые буквы каждого слова, потом вторые, потом третьи и так далее.
И дядя, к своему и к моему величайшему изумлению, прочел:
Я люблю тебя всем сердцем, дорогая Гретхен!
– Ого! – сказал профессор.
Да, как влюбленный глупец, я необдуманно написал эту предательскую фразу!
– Так-с!.. Ты, значит, любишь Гретхен? – продолжал дядюшка тоном заправского опекуна.
– Да… Нет… – бормотал я.
– Так-с, ты любишь Гретхен! – машинально повторил он. – Ну, хорошо, применим мой метод к исследуемому документу.
И дядюшка снова погрузился в размышление, которое целиком заняло его внимание, заставив позабыть о моих неосторожных словах. Я говорю «неосторожных», потому что ученый был неспособен понять сердечные дела. Но, к счастью, интерес к документу возобладал над всем остальным. Когда профессор Лиденброк собрался произвести свой решающий опыт, глаза его метали молнии сквозь очки; дрожащими пальцами он снова взял древний пергамент. Он был взволнован не на шутку. Наконец дядюшка основательно прокашлялся и начал диктовать мне торжественным тоном, называя сначала первые буквы каждого слова, потом вторые; он диктовал буквы в таком порядке:
Сознаюсь, что, кончая дописывать, я волновался: в сочетании этих букв, произносимых одна за другой, я не мог уловить ровно никакого смысла, а с нетерпением ожидал, что из уст профессора потечет на великолепной латыни торжественная речь.
Но кто бы мог ожидать этого? Сильный удар кулака потряс стол. Чернила брызнули, перо выпало у меня из рук.
– Не то, не то! – закричал дядюшка. – Получилась чистейшая бессмыслица!
И, пролетев, как пушечное ядро, через кабинет, скатившись по лестнице, словно лавина, он устремился на Королевскую улицу и кинулся бежать во весь дух.
Глава четвертая
– Он ушел? – воскликнула Марта, испуганная грохотом входной двери, захлопнутой с такой силой, что затрясся весь дом.
– Да, – ответил я, – совсем ушел!
– Как же так? А обед? – спросила старая служанка.
– Он не будет обедать!
– А ужинать?
– Он не будет ужинать!
– Не будет?! – воскликнула Марта, всплеснув руками.
– Да, добрейшая Марта, он не будет больше есть, и никто не будет есть во всем доме! Дядюшка хочет заставить нас всех поститься до тех пор, пока ему не удастся разобрать всю эту тарабарщину, которая решительно не поддается расшифровке.
– Господи Иисусе! Так нам, значит, ничего не остается, как умереть с голода?
Я не отваживался признаться, что, имея дело со столь упорным человеком, как мой дядя, нас неизбежно ждет эта печальная участь.
Старая служанка, вздыхая, отправилась к себе на кухню.
Когда я остался один, мне пришло на ум поскорее рассказать Гретхен всю эту историю. Но как отлучиться из дома? Профессор мог каждую минуту вернуться. А что, если он меня позовет? А что, если он захочет снова начать свою работу по разгадыванию логогрифа, которую не сумел бы выполнить и сам Эдип? И что будет, если я не откликнусь на его зов?
Самое разумное было остаться дома. Как раз некий минералог из Безансона прислал нам коллекцию кремнистых жеод, которые нужно было классифицировать. Я принялся за дело. Я разбирал, наклеивал ярлыки, размещал в стеклянном ящике все эти полые камни, в которых поблескивали маленькие кристаллы.
Но это занятие не поглощало меня целиком. Древний документ не выходил у меня из памяти. Голова моя горела, и я был охвачен беспокойством. Я предчувствовал неминуемую катастрофу.
По прошествии часа мои камни были размещены по порядку. Я опустился в «утрехтское» кресло, запрокинул голову и свесил руки. Потом я закурил трубку, длинный изогнутый чубук которой был украшен фигуркой наяды, и забавлялся, наблюдая, как мало-помалу моя наяда, покрываясь копотью, превращалась в настоящую негритянку. Время от времени я прислушивался, не раздадутся ли шаги на лестнице, но ничего не было слышно. Где же мог быть дядя? Я представлял его себе бегущим под прекрасными деревьями Альтонской дороги; на ходу он в неистовстве сбивает палкой листья, чертит какие-то знаки на стенах, отсекает головки чертополоха и нарушает покой сонных лебедей.
Вернется ли он торжествующим или обескураженным? Удастся ли ему разгадать тайну? Рассуждая сам с собой, я машинально взял в руки лист бумаги, на котором выстроился ряд загадочных строк, начертанных моей рукой.
Я повторял:
«Что же это означает?»
Я пытался так сгруппировать буквы, чтобы они образовали слова, но ничего не выходило! Их можно было соединять как угодно, по две, по три, по пяти или по шести, толку от этого не было. Но все же из четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой буквы получилось английское слово «ice», а из восемьдесят четвертой, восемьдесят пятой и восемьдесят шестой слово «sir». Наконец в середине документа, на второй и третьей строках, я заметил латинские слова «rota», «mutabill, «ira», «nec», «ara».
«Черт возьми! – подумал я. – По этим словам дядя, пожалуй, сможет судить о языке документа. На четвертой строке я различаю еще слово “luco”, что означает “священная роща”; правда, на третьей можно прочитать еврейское слово “tabilet”, а на последней – чисто французские слова “mer”, “arc”, “m?re”».
Было отчего потерять голову! Четыре различных языка водной бессмысленной фразе! Какая могла существовать связь между словами «лед», «господин», «гнев», «жестокий», «священная роща», «переменчивый», «мать», «лук», «море»?
Только последнее и первое слово легко можно было соединить друг с другом; ничего не было удивительного, что в документе, написанном в Исландии, говорилось о «ледяном море». Но остальную часть шифра понять было не так-то легко.
Я боролся с неразрешимой загадкой; мозг мой пылал; я хлопал глазами, глядя на листок бумаги, и мне казалось, что все эти сто тридцать две буквы прыгают передо мною, как светящиеся точки, мелькающие перед закрытыми глазами, когда кровь приливает к голове.
Я оказался во власти своего рода галлюцинации; я задыхался, мне не хватало воздуха. Машинально я стал обмахиваться этим листком бумаги, так что его лицевая и оборотная стороны попеременно представали перед моим взором.
Каково же было мое изумление, когда мне показалось, что передо мной промелькнули знакомые латинские слова: “craterem”, “terrestre!
Разом луч света озарил мое сознание; эти скупые слова навели меня на путь истины; я нашел секрет шифра! Чтобы понять документ, совсем не требовалось его читать шиворот-навыворот. Нет, загадочные письмена можно было свободно прочесть в том виде, в каком они были начертаны и продиктованы. Все остроумные предположения профессора оказались правильными; он был прав и относительно расположения букв и относительно языка документа! Для того чтобы прочитать это латинское предложение с начала до конца, ему лишь не хватало еще «чего-то», и это «что-то» открыл мне случай!
Разумеется, я был очень взволнован. В глазах у меня мутилось, они отказывались мне служить. Я разложил пергамент на столе. Мне достаточно было бросить один только взгляд на шифр, чтобы овладеть тайной.
Наконец я с трудом унял свое волнение. Чтобы успокоить нервы, я заставил себя пройтись по комнате, а затем снова опустился в кресло.
– Прочтем теперь! – воскликнул я, вздохнув полной грудью.
Я склонился над столом, проследил по порядку каждую букву и прочел громким голосом всю фразу, не останавливаясь, не запинаясь.
Но какое изумление, какой ужас охватили меня! Сначала я стоял, словно оглушенный ударом. Как! Неужели то, что я только что узнал, было уже осуществлено? Неужели нашелся такой смельчак, что проник…
– Ах! – вскричал я в сердцах. – Нет, нет, дядя не должен узнать этого! Иначе он непременно пустится в такое путешествие! Он тоже захочет испытать все это! Ничто не сможет удержать его, такого смелого геолога! Он поедет непременно, несмотря ни на что, вопреки всему! И он возьмет меня с собой, и мы никогда не вернемся! Никогда, никогда!
Я был в неописуемом возбуждении.
– Нет, нет, этому не бывать! – произнес я решительно. И раз в моей власти не допустить, чтобы такая мысль пришла в голову моему тирану, я и не допущу! Переворачивая документ и так и эдак, он может случайно найти ключ к шифру! Я уничтожу документ!
В камине еще тлели угли. Я схватил не только исписанный мною лист, но также и пергамент Сакнуссема; дрожащей рукой я собирался бросить проклятые бумаги в огонь и таким образом скрыть опасную тайну.
В этот момент дверь кабинета отворилась, и вошел дядюшка.
Глава пятая
Я едва успел положить злосчастный документ на стол.
Профессор Лиденброк, казалось, находился в глубокой задумчивости. Овладевшая им мысль не давала ему ни минуты покоя; во время прогулки он, очевидно, исследовал, толковал на все лады мучившую его проблему, напрягая все свое воображение, и вернулся, чтобы испробовать какой-то новый прием.
В самом деле, он сел в свое любимое кресло, схватил перо и начал записывать формулы, похожие на алгебраические.
Я следил взглядом за его дрожащей рукой; я не упускал из виду ни малейшего его движения. Что, если случайно он разгадает загадку? Я волновался, и, в общем, напрасно: поскольку «единственный» правильный способ прочтения уже открыт, всякое исследование в ином направлении поневоле будет тщетным.
В течение трех часов трудился дядюшка, не говоря ни слова, не поднимая головы, то зачеркивая свои писания, то восстанавливая их, то опять марая написанное и в тысячный раз все начиная сначала.
Я прекрасно знал, что стоит ему составить из этих букв все мыслимые словосочетания, и искомая фраза в конце концов получится. Но я знал также, что из двадцати букв получается два квинтильона четыреста тридцать два квадрильона девятьсот два триллиона восемь миллиардов сто семьдесят шесть миллионов шестьсот сорок тысяч словосочетаний! А в искомой фразе было сто тридцать две буквы, и эти сто тридцать две буквы могли образовать такое невероятное количество словосочетаний, которое не только подсчитать, но и представить себе невозможно!
Я мог не волноваться по поводу столь героического способа разрешить проблему.
Между тем время шло; наступила ночь; шум на улицах стих; дядюшка, все еще занятый разрешением своей задачи, ничего не видел, не заметил даже Марту, когда она приотворила дверь; он ничего не слышал, даже голоса этой верной служанки, спросившей его:
– Сударь, вы будете сегодня ужинать?
Марте пришлось уйти, не получив ответа. Что касается меня, то, как я ни боролся с дремотой, все же заснул крепким сном, примостившись в уголке дивана, между тем как дядюшка Лиденброк упорно продолжал писать и снова зачеркивать свои формулы.
Когда утром я проснулся, неутомимый исследователь все еще был за работой. Его красные глаза, волосы, всклокоченные нервной рукой, лихорадочные пятна на бледном лице в достаточной степени свидетельствовали о той страшной борьбе, которую он вел в своем стремлении добиться невозможного, и о том, скольких усилий, какого напряжения потребовали от него эти ночные часы.
Право, я пожалел дядюшку. Несмотря на то что я не без основания мог во многом упрекнуть его, тщетные усилия ученого тронули меня. Бедняга был до того поглощен своей идеей, что даже позабыл о гневных вспышках. Все его жизненные силы были сосредоточены на одном, и можно было опасаться, что, не находя исхода, они доведут его до гибели.
Я мог одним движением, одним словом освободить его от железных тисков, сжимавших его голову! Но я этого не делал.
А между тем сердце у меня было доброе. Отчего же оставался я нем и глух при таких обстоятельствах? Да в интересах самого же дяди.
«Нет, нет! я ничего не скажу! – твердил я сам себе. – Я его знаю, он захочет поехать; ничто не остановит его. У него безудержное воображение, и он рискнет жизнью, чтобы совершить то, чего не сделали другие геологи. Я буду молчать; я оставлю при себе тайну, обладателем которой сделала меня случайность! Открыть ее – значит обречь профессора Лиденброка на смерть! Пусть он отгадает ее, если сумеет. Я не желаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось упрекать себя за то, что я толкнул его на столь губительный шаг!»
Приняв это решение, я скрестил руки и стал ждать. Но я не учел побочного обстоятельства, имевшего место несколько часов тому назад.
Когда Марта собралась было идти на рынок, оказалось, что заперта наружная дверь и ключ из замка вынут. Кто же его мог взять? Очевидно, дядя, когда он вернулся накануне вечером с прогулки.
Было ли это сделано намеренно или нечаянно? Неужели он хотел подвергнуть нас мукам голода? Нет, это уж слишком! Как! Заставлять меня и Марту страдать из-за того, что нас совершенно не касается? Ну, конечно, так! И я вспомнил другой подобный же случай, способный испугать кого угодно. В самом деле, несколько лет назад, когда дядя работал над своей минералогической классификацией, он пробыл без пищи сорок восемь часов, причем всему дому пришлось разделить с ним эту диету в интересах науки. У меня начались тогда судороги в желудке – вещь малоприятная для молодца, обладающего дьявольским аппетитом.
И я понял, что завтрак сегодня будет так же отменен, как вчера ужин. Я решил, однако, держаться героически и не поддаваться требованиям желудка. Марта, не на шутку встревоженная, всполошилась. Что касается меня, больше всего я был обеспокоен невозможностью выйти из дома. Причина была ясна.
Дядя продолжал работать: воображение уносило его в высокие сферы умозаключений; он витал над землей и в самом деле не ощущал земных потребностей.
Около полудня голод стал серьезно мучить меня. В простоте сердечной Марта извела накануне все запасы, находившиеся в кладовой; в доме не осталось ничего съестного. Но я стойко держался, что было для меня своего рода делом чести.
Пробило два часа. Положение становилось смешным, невыносимым. У меня буквально живот подводило. Мне стало казаться, что я преувеличил важность документа, что дядя не поверит сказанному в нем, признает все это простой мистификацией, что в худшем случае мы насильно удержим его, если он захочет пуститься в такое опасное путешествие, и что, наконец, он может и сам найти ключ шифра, и тогда окажется, что я даром постился.
Эти доводы, которые я накануне отбросил бы с негодованием, представлялись мне теперь превосходными; мне показалось даже смешным, что я так долго колебался, и я решил все сказать.
Я ждал лишь благоприятного момента, чтобы начать разговор, как вдруг профессор встал, надел шляпу.
Как! Уйти из дома, а нас снова запереть! Этому не бывать!
– Дядюшка, – сказал я.
Казалось, он не слыхал.
– Дядя Лиденброк! – повторил я, повышая голос.
– Что? – спросил он, как человек, которого внезапно разбудили.
– Как это что! А ключ?
– Какой ключ? От входной двери?
– Нет, – воскликнул я, – ключ к документу!
Профессор поглядел на меня поверх очков; он заметил, вероятно, что-нибудь необыкновенное в моей физиономии, потому что порывисто схватил мою руку и молча устремил на меня вопрошающий взгляд. Однако ни один вопрос еще не был выражен столь ясно.
Я утвердительно кивнул.
Он соболезнующе покачал головою, словно имел дело с сумасшедшим.
Я кивнул еще более выразительно.
Глаза его заблестели, поднялась угрожающе рука.
Этот немой разговор при таких обстоятельствах мог бы заинтриговать самого апатичного свидетеля. Действительно, я не решался сказать ни одного слова, боясь, как бы дядя не задушил меня от радости в своих объятиях. Но отвечать, однако, было необходимо.
– Да, этот ключ… случайно…
– Что ты говоришь? – вскричал он в неописуемом волнении.
– Вот он! – сказал я, подавая ему листок бумаги, исписанный мною. – Читайте.
– Но это же не имеет смысла! – возразил он, комкая бумагу.
– Не имеет, если читать с начала, но если начать с конца…
Я не успел кончить фразу, как профессор вскрикнул, вернее, взревел! Словно откровение снизошло на него; он совершенно преобразился.
– Ах, хитроумный Сакнуссем! – воскликнул он. – Так ты, значит, написал фразу наоборот?
И с помутившимся взором, схватив бумагу, он прочитал дрожащим голосом весь документ от последней до первой буквы.
Документ гласил следующее:
«In Sneffels Yoculis craterem kem delibat umbra Scartaris Julii intra calendas descende, audas viator, et terrestre centrum attinges. Kod feci. – Arne Saknusemm».
В переводе это означало:
«Спустись в кратер Екуль Снефельс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами[5 - Календы – так римляне называли первые дни каждого месяца.], отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Это я совершил. – Арне Сакнуссем».
Прочитав эти строки, он подскочил, словно дотронулся нечаянно до лейденской банки. Преисполненный радости, уверенности и отваги, он был великолепен. Он ходил взад и вперед, хватался руками за голову, передвигал стулья, складывал в кучу свои книги; он играл, – кто бы мог этому поверить, – как мячиками, минералами, ударял кулаком по столу или похлопывал рукой по креслу. Наконец его нервы успокоились, и он опустился, утомленный, в кресло.
– Который час, однако? – спросил он немного погодя.
– Три часа, – ответил я.
– Как скоро настало время обеда! Я умираю с голоду. К столу! А потом…
– Потом?..
– Ты уложишь мой чемодан.
– Хорошо! – воскликнул я.
– И свой тоже, – добавил безжалостный профессор, входя в столовую.
Глава шестая
При этих словах дрожь пробежала по моему телу; однако я овладел собой и решил даже виду не подавать, что испуган. Только научные доводы смогут удержать профессора Лиденброка, а их было немало и весьма серьезных. Отправиться к центру Земли! Какое безумие! Я приберегал свои возражения до более благоприятного момента и приготовился обедать.
Нет надобности описывать, как разгневался мой дядюшка, когда увидел, что стол не накрыт! Но тут же все объяснилось. Обретя свободу, Марта поспешила на рынок и так быстро приготовила обед, что через час мой голод был утолен, и я снова ясно представил себе положение вещей.
Во время обеда дядюшка был почти весел; он сыпал шутками, которые всегда бывают безобидны у ученых. После десерта он сделал мне знак следовать за ним в кабинет.
Я повиновался. Он селу одного конца стола, я у другого.
– Аксель, – сказал он довольно мягко, – ты весьма разумный юноша; ты оказал мне сегодня большую услугу, когда я, утомленный борьбой, хотел уже отказаться от своих изысканий. Куда бы завели меня попытки решить эту задачу? Неизвестно! Я никогда этого не забуду, и ты приобщишься к славе, которую мы заслужим.
«Ну, – подумал я, – он в хорошем настроении – подходящая минута, чтобы поговорить об этой самой славе».
– Прежде всего, – продолжал дядя, – я убедительно прошу тебя сохранять полнейшую тайну. Ты понимаешь, конечно? В мире ученых сколько угодно завистников, многие захотели бы предпринять путешествие, о котором они должны узнать лишь после нашего возвращения.
– Неужели вы думаете, что таких смельчаков много?
– Несомненно! Кто стал бы долго раздумывать, узнав о возможности приобрести такую славу? Если бы этот документ был предан гласности, целая армия геологов поспешила бы по следам Арне Сакнуссема!
– Я вовсе не убежден в этом, дядя, ведь достоверность документа ничем не доказана.
– Как! А книга, в которой мы его нашли?
– Хорошо! Я согласен, что Сакнуссем написал эти строки, но разве из этого следует, что он действительно предпринял такое путешествие, да и разве старый документ не может быть мистификацией?
Я почти раскаивался, что произнес это резкое слово. Профессор нахмурил брови, и я боялся, что наш разговор примет плохой оборот. К. счастью, этого не случилось. Мой строгий собеседник, изобразив на своей физиономии некое подобие улыбки, ответил:
– Это мы проверим.
– Ах, – сказал я, несколько озадаченный, – позвольте мне высказать все, что можно сказать по поводу документа.
– Говори, мой мальчик, не стесняйся. Я даю тебе полную свободу высказать свое мнение. Ты теперь не только племянник мой, но и коллега. Итак, продолжай.
– Хорошо, я вас спрошу прежде всего, что такое эти Ёкуль, Снефельс и Скартарис, о которых я никогда ничего не слыхал?
– Очень просто. Я как раз недавно получил от своего друга Августа Петермана из Лейпцига карту; кстати, она у нас под рукой. Возьми третий атлас из второго отделения большого библиотечного шкафа, ряд 7, полка четыре.
Я встал и, следуя этим точным указаниям, быстро нашел требуемый атлас. Дядя раскрыл его и сказал:
– Вот одна из лучших карт Исландии, карта Гендерсона, и я думаю, что при помощи ее мы разрешим все затруднения.
Я склонился над картой.
– Взгляни на этот остров вулканического происхождения, – сказал профессор, – и обрати внимание на то, что все вулканы носят там название Ёкуль. Это слово означает по-исландски «глетчер», ибо горные вершины на широте Исландии по большей части покрыты вечными снегами и во время вулканических извержений лава неминуемо пробивается сквозь ледяной покров. Поэтому-то огнедышащие горы острова и носят название: Ёкуль.
– Хорошо, – возразил я, – но что такое Снефельс?
Я надеялся, что он не сможет ответить на этот вопрос. Как я заблуждался! Дядя продолжал:
– Следуй за мной по западному берегу Исландии. Смотри! Вот главный город Рейкьявик! Видишь? Отлично. Поднимись по бесчисленным фьордам этих морских берегов и остановись несколько ниже шестидесяти пяти градусов северной широты. Что ты видишь там?
– Нечто вроде полуострова, похожего на обглоданную кость.
– Сравнение правильное, мой мальчик; теперь, разве ты ничего не замечаешь на этом полуострове?
– Да, вижу гору, которая кажется выросшей из моря.
– Хорошо! Это и есть Снефельс.
– Снефельс?
– Да, гора высотою в пять тысяч футов, одна из самых замечательных на острове и, несомненно, одна из самых знаменитых во всем мире, ибо ее кратер ведет к центру земного шара!
– Но это невозможно! – запротестовал я, пожимая плечами.
– Невозможно? – ответил профессор Лиденброк сурово. – Почему?
– Потому что этот кратер, очевидно, переполнен лавой, скалы раскалены, и затем…
– А что, если это потухший вулкан?
– Потухший?
– Да. Число действующих вулканов на земном шаре достигает трехсот, но число потухших вулканов значительно больше. К последним и принадлежит Снефельс, за весь обозримый исторический период у него было только одно извержение, а именно в тысяча двести девятнадцатом году; с тех пор он постепенно угас и уже не принадлежит к числу действующих вулканов.
На эти точные данные я решительно ничего не мог возразить, а потому перешел к другим неясным пунктам, заключавшимся в документе.
– Но что такое Скартарис? – спросил я. – И при чем тут июльские календы?
Дядюшка призадумался. На минуту у меня появилась надежда, но только на минуту, потому что вскоре он ответил мне следующее:
– То, что ты называешь непонятным, для меня вполне ясно. Все эти данные доказывают лищь, с какой точностью Сакнуссем описал свое открытие. Ёкуль-Снефельс состоит из нескольких кратеров, и потому необходимо было указать именно тот, который ведет к центру Земли. Что же сделал ученый-исландец? Он заметил, что перед наступлением июльских календ, иначе говоря, в конце июня, одна из горных вершин, Скартарис, отбрасывает тень, достигающую жерла вышеназванного кратера, – факт, который ученый отметил в своем документе. Указание настолько точное, что, достигнув вершины Снефельс, мы не станем сомневаться, какой путь избрать.
Положительно мой дядя находил ответ на все. Я понял, что он неуязвим, когда дело касается текста древнего пергамента. Поэтому я перестал надоедать ему вопросами, а поскольку мне больше всего хотелось убедить дядюшку, я перешел к научным возражениям, по-моему, гораздо более существенным.
– Хорошо! – сказал я. – Согласен, что фраза Сакнуссема ясна и смысл ее не подлежит сомнению. Я допускаю даже, что документ – несомненный подлинник. Ученый в самом деле спустился в жерло Снефельс, видел, как тень Скартариса перед наступлением июльских календ скользит по краю кратера; он даже узнал из современных ему легенд, что этот кратер ведет к центру Земли; но чтобы он сам туда проник, чтобы он, совершив это путешествие, вернулся оттуда, этому я не верю! Нет, тысячу раз нет!
– А на каком основании? – спросил дядя насмешливо.
– На основании научных теорий, доказывающих, что подобное исследование немыслимо!
– Теории, говоришь, доказывают это? – спросил профессор добродушно. – Жалкие теории! И ты думаешь, что эти мерзкие теории нам помешают?
Я видел, что он смеется надо мною, но тем не менее продолжал:
– Да, доказано со всей очевидностью, что по мере углубления в недра Земли температура поднимается приблизительно на один градус через каждые семьдесят футов. Если допустить, что это соотношение остается неизменным, то при длине земного радиуса в тысяча пятьсот лье все вещества в центре Земли окажутся в газообразном состоянии, так как металлы, золото, платина, самые твердые породы не выдерживают такой температуры. Поэтому я вправе спросить вас, возможно ли проникнуть в такую среду?
– Стало быть, Аксель, тебя пугает температура?
– Конечно. Достаточно нам спуститься лишь на десять лье и достичь нижней границы земной коры, как температура превысит тысячу триста градусов.
– И ты боишься расплавиться?
– Предоставляю вам решение этого вопроса, – ответил я с досадой.
– Хорошо, я выскажу свое категорическое суждение, – надменно промолвил профессор Лиденброк. – Ни ты, ни кто другой не знает достоверно, что происходит внутри земного шара, ибо он изучен в глубину едва на двенадцатитысячную часть своего радиуса. Поэтому научные теории о температурах больших глубин будут бесконечно видоизменяться и дополняться, а каждая старая теория опровергаться новой. Ведь полагали же до Фурье, что температура межпланетных пространств неизменно понижается, а теперь доказано, что самая низкая температура в мировом эфире колеблется между сорока и пятьюдесятью градусами ниже нуля. Почему не может быть того же с температурой внутри Земли? Почему бы где-то в глубине ей не остановиться на определенном уровне, вместо того чтобы подняться до черты, после которой начинают плавиться самые огнеупорные породы?
Раз дядя перенес вопрос в область гипотез, я не мог ничего возразить ему.
– А затем я тебе скажу, что истинные ученые, как, например, Пуазон и другие, доказали, что если бы внутри земного шара жар доходил до двухсот тысяч градусов, то газ, образовавшийся от веществ, раскаленных до таких невероятных температур, взорвал бы земную кору, как под давлением пара взрывается котел.
– Таково мнение Пуазона, дядя, и ничего больше.
– Согласен, но и другие выдающиеся геологи полагают, что внутренность земного шара не состоит ни из газов, ни из воды, ни из самых тяжелых известных нам пород, ибо в таком случае Земля имела бы вдвое меньший или же вдвое больший вес.
– О! Цифрами можно доказать все, что угодно!
– А разве факты не то же самое говорят, мой мальчик? Разве не известно, что число вулканов с первых же дней существования мира неизменно сокращается? И если существует центральный огненный очаг, нельзя разве заключить из этого, что он понемногу затухает?
– Дядюшка, раз вы вступаете в область предположений, мне нечего возразить.
– И должен сказать, что взгляды самых сведущих людей сходятся с моими. Помнишь ли ты, как меня посетил знаменитый английский химик Хемфри Дэви в тысяча восемьсот двадцать пятом году?
– Нет, потому что я сам появился на свет девятнадцать лет спустя.
– Ну, так вот, Хемфри Дэви посетил меня проездом через Гамбург. Мы с ним долго беседовали и, между прочим, коснулись гипотезы огненно-жидкого состояния ядра Земли. Мы оба были согласны в том, что жидкое состояние земных недр немыслимо вследствие некоего фактора, еще не установленного наукой.
– А что же это за причина? – спросил я, изумленный.
– Весьма простая: расплавленная масса, подобно океану, была бы подвержена силе лунного притяжения, и, следовательно, два раза в день происходили бы внутри Земли приливы и отливы; под сильным давлением огненно-жидкой массы земная кора давала бы разломы, и периодически возникали бы землетрясения!
– Но ведь не подлежит сомнению, что оболочка земного шара находилась когда-то в раскаленном состоянии и что прежде всего остыли верхние слои земной коры, в то время как жар сосредоточился на больших глубинах.
– Заблуждение, – ответил дядя. – Земля была раскалена на поверхности, а не наоборот. Ее поверхность состояла из большого количества металлов вроде калия и натрия, которые имеют свойство воспламеняться при соприкосновении с воздухом и водой; металлы эти воспламенились, когда атмосферные пары в виде дождя опустились на Землю; и постепенно, когда вода стала проникать в трещины земной коры, начались пожары с взрывами и извержениями. Следствием этого явились вулканические образования на земной поверхности, столь многочисленные в первое время существования мира.
– Какая остроумная гипотеза! – невольно воскликнул я.
– И Хемфри Дэви объяснил мне это явление при помощи весьма простого опыта. Он изготовил металлический шар преимущественно из тех металлов, о которых я говорил, как бы подобие нашей планеты; когда на этот шар брызгали водой, это место вздувалось, окислялось и на нем появлялась небольшая выпуклость, на вершине которой открывался кратер; происходило извержение, и шар так сильно раскалялся, что его нельзя было держать в руке.
Сказать правду, доводы профессора начинали производить на меня впечатление; к тому же он приводил их со свойственными ему страстностью, увлечением.
– Как видишь, Аксель, – прибавил он, – вопрос о внутреннем состоянии Земли вызвал различные гипотезы среди геологов; раскаленное состояние ядра земного шара не доказано; я отрицаю эту теорию, этого не может быть; впрочем, мы сами все увидим и, как Арне Сакнуссем, узнаем, какого мнения нам держаться в этом важном вопросе.
– Ну да, – ответил я, начиная разделять дядюшкин энтузиазм. – Ну да, увидим, если там вообще можно что-нибудь увидеть!
– Отчего же? Разве мы не можем рассчитывать на электрические вспышки, которые послужат нам освещением? И даже на атмосферу, которая в глубинных пластах Земли может светиться под действием высокого давления?
– Да, – сказал я, – да! В конце концов и это возможно.
– Невозможно, а несомненно, – торжествующе ответил дядя, – но ни слова, слышишь? Ни слова обо всем этом, чтобы никому не пришла в голову мысль раньше нас открыть центр Земли.
Глава седьмая
Так закончился этот памятный диспут. Беседа с дядюшкой привела меня в лихорадочное состояние. Я вышел из кабинета сам не свой. Мне недоставало воздуха на улицах Гамбурга, чтобы прийти в себя. Я поспешил к берегам Эльбы, к парому, который связывает город с железной дорогой.
Убедили ли меня дядюшкины доводы? Не поддался ли я скорее всего его внушению? Неужели следует отнестись серьезно к замыслу профессора Лиденброка отправиться к центру Земли? Что услышал я? Бредовые фантазии безумца или же умозаключения гения, основанные на научных данных? Где во всем этом кончалась истина и начиналось заблуждение?..
Я строил множество противоречивых гипотез, не будучи в состоянии остановиться ни на одной.
Между тем я вспомнил, что порою я соглашался с дядей, хотя теперь мой энтузиазм уже начинал ослабевать. Разве я не готов был уехать немедленно, чтобы не оставлять себе времени на размышление. Да, у меня хватило бы в тот момент мужества стянуть ремнями свой чемодан!
Однако я должен сознаться и в том, что часом позже это чрезмерное возбуждение улеглось, нервы мои успокоились, и я снова поднялся из недр Земли на поверхность.
«Ведь это нелепость! – сказал я самому себе. – Бессмыслица! Подобное предложение нельзя делать рассудительному молодому человеку. Все это вздор. Я плохо спал и видел скверный сон».
Между тем я прошел по берегу Эльбы, обогнул город и, минуя порт, вышел на дорогу в Альтону. Видимо, предчувствие привело меня на этот путь, потому что я вскоре увидел мою милую Гретхен, которая возвращалась в Гамбург.
– Гретхен! – закричал я.
Девушка остановилась, по-видимому, несколько смущенная тем, что ее окликнули на большой дороге. Я мигом очутился возле нее.
– Аксель! – удивленно сказала она. – Ты вышел мне навстречу? Вот это мило!
Мой беспокойный и расстроенный вид не ускользнул от внимательных глаз Гретхен.
– Что с тобой? – сказала она, протягивая мне руку.
– Что со мною, Гретхен? – вскричал я.
И в двух словах я рассказал прелестной фирландке о случившемся. Она помолчала немного. Трепетало ли ее сердечко наравне с моим? Не знаю, но ее рука не задрожала в моей.
Мы молча прошли сотню шагов.
– Аксель, – сказала она наконец.
– Что, милая Гретхен?
– Какое это будет прекрасное путешествие!
Я так и подскочил при этих словах.
– Да, Аксель, путешествие, достойное племянника ученого. Мужчина должен отличиться в каком-нибудь великом деле.
– Как, Гретхен, ты не отговариваешь меня от подобного путешествия?
– Нет, дорогой Аксель, и я охотно сопровождала бы вас, если бы слабая девушка не была для вас только помехой.
– И ты говоришь это серьезно?
– Серьезно.
Ах, можно ли понять женщин, молодых девушек, словом, женское сердце! Если женщина не из робких, то ее храбрость не имеет предела! Рассудок не играет у женщин никакой роли… Что я слышу? Девочка советует мне принять участие в путешествии! Ее ничуть не пугает столь романтическое приключение. Она побуждает меня ехать с дядюшкой, хотя и любит меня…
Я был смущен и, откровенно говоря, пристыжен.
– Гретхен, – продолжал я, – посмотрим, будешь ли ты и завтра говорить то же самое.
– Завтра, милый Аксель, я скажу то же, что и сегодня.
Держась за руки, в глубоком молчании, мы продолжали свой путь. События дня привели меня в уныние.
«Впрочем, – думал я, – до июльских календ еще далеко, и до тех пор еще может случиться многое, что излечит дядюшку от его безумного желания предпринять путешествие в недра Земли».
Было уже поздно, когда мы добрались до Королевской улицы. Я полагал, что в доме уже полная тишина, дядюшка, как обычно, в постели, а Марта занята уборкой в столовой.
Но я не принял во внимание нетерпеливый характер профессора. Он суетился, окруженный толпой носильщиков, которые сваливали в аллее всевозможные свертки и тюки; по всему дому раздавались его хозяйские окрики, старая служанка совсем потеряла голову.
– Ну, иди же, Аксель. Да поскорее, несчастный! – вскричал дядя, уже издали завидев меня. – Ведь твой чемодан еще не уложен, бумаги мои еще не приведены в порядок, ключ от моего саквояжа никак не найти и недостает моих гамаш…
От изумления я замер на месте. Голос отказывался мне служить. Я с трудом мог произнести несколько слов:
– Итак, мы уезжаем?
– Да, несчастный, а ты разгуливаешь, вместо того чтобы помогать!
– Мы уезжаем? – переспросил я слабым голосом.
– Да, послезавтра, на рассвете.
Я не захотел ничего больше слушать и убежал к себе в комнату.
Сомнений не было. Дядюшка вместо послеобеденного отдыха бегал по городу и закупал все необходимое для путешествия. Аллея перед домом была завалена веревочными лестницами, факелами, дорожными фляжками, кирками, мотыгами, палками с железными наконечниками, заступами, – чтобы тащить все это, требовалось по меньшей мере человек десять.
Я провел ужасную ночь. На следующий день, рано утром, меня кто-то назвал по имени. Я решил не открывать двери. Но как было устоять против нежного голоска, звавшего меня: «Милый Аксель!»
Я вышел из комнаты, думая, что мой расстроенный вид, бледное лицо, покрасневшие глаза произведут впечатление на Гретхен и она изменит отношение к поездке.
– Ну, дорогой Аксель, – сказала она, – я вижу, ты чувствуешь себя лучше и за ночь успокоился.
– Успокоился! – вскричал я.
Я подбежал к зеркалу. В самом деле, у меня был вовсе не такой скверный вид, как я предполагал. Трудно даже поверить!
– Аксель, – сказала Гретхен, – я долго беседовала с опекуном. Это смелый ученый, отважный человек, и ты не должен забывать, что его кровь течет в твоих жилах. Он рассказал мне о своих планах, о своих чаяниях, как и почему он надеется достигнуть цели. Я не сомневаюсь, что он ее достигнет. Ах, милый Аксель, как это прекрасно – всецело отдаваться науке! Какая слава ожидает профессора Лиденброка и его спутника! По возвращении ты станешь человеком, равным ему, получишь свободу говорить, действовать, словом – свободу…
Девушка, вспыхнув, не окончила фразы. Ее слова меня подбодрили, но я все еще не хотел верить в наш отъезд. Я увлек Гретхен в кабинет профессора.
– Дядюшка, – сказал я, – так, значит, решено, мы уезжаем?
– Как! Ты еще сомневаешься в этом?
– Нет, – ответил я, не желая ему перечить. – Я только хотел спросить, нужно ли так спешить с этим?
– Время не терпит! Время бежит так быстро!
– Но ведь теперь только двадцать шестое мая, и до конца июня…
– Гм, неужели ты думаешь, невежда, что до Исландии так легко доехать? Если бы ты не убежал от меня, как сумасшедший, то я взял бы тебя с собою в Копенгагенское бюро, к «Лифендеру и компании». Там ты узнал бы, что пароход отходит из Копенгагена в Рейкьявик только раз в месяц, а именно двадцать второго числа.
– Ну?
– Что – ну? Если бы мы стали ждать до двадцать второго июня, то прибыли бы слишком поздно и не могли бы видеть, как тень Скартариса падает на кратер Снефельс. Поэтому мы должны как можно скорее ехать в Копенгаген, чтобы оттуда добраться до Исландии. Ступай и уложи свой чемодан!
Возразить было нечего. Я вернулся в свою спальню. Гретхен последовала за мной и сама постаралась уложить в мой чемодан все необходимое для путешествия. Она казалась спокойной, как будто дело шло о прогулке в Любек или на Гельголанд; ее маленькие руки без лишней торопливости делали свое дело. Она беспечно болтала. Приводила мне самые разумные доводы в пользу нашего путешествия. Она оказывала на меня какое-то волшебное влияние, и я не мог на нее сердиться. Несколько раз я готов был вспылить, но она не обращала на это никакого внимания и с методическим спокойствием продолжала укладывать мои вещи.
Наконец последний ремешок чемодана был затянут, и я сошел вниз.
В течение всего дня в дом приносили разные инструменты, оружие, электрические аппараты. Марта совсем потеряла голову.
– Не сошел ли хозяин с ума? – спросила она, обращаясь ко мне.
Я утвердительно кивнул головой.
– И он берет вас с собой?
Утвердительный кивок.
– Куда же вы отправитесь? – спросила она.
Я указал пальцем в землю.
– В погреб? – воскликнула старая служанка.
– Нет, – сказал я наконец, – еще глубже!
Наступил вечер. Я даже не заметил, как прошло время.
– Завтра утром, – сказал дядя, – ровно в шесть часов мы уезжаем.
В десять часов я свалился, как мертвый, в постель.
Ночью меня преследовали кошмары.
Мне снились зияющие бездны! Я сходил с ума. Я чувствовал, будто меня схватила сильная рука профессора, приподняла и бросила в пропасть. Я летел в бездну с увеличивающимся ускорением падающего тела. Моя жизнь обратилась в нескончаемое падение.
В пять часов я проснулся, разбитый, возбужденный. Я спустился в столовую. Дядя сидел за столом и преспокойно завтракал. Я взглянул на него почти с ужасом. Гретхен тоже была здесь. Я не мог говорить. Я не мог есть.
В половине шестого на улице послышался стук колес. Прибыла вместительная карета, в которой мы должны были отправиться на Альтонский вокзал. Карета скоро была доверху нагружена дядюшкиными тюками.
– А твой чемодан? – спросил он, обращаясь ко мне.
– Он готов, – ответил я, едва держась на ногах.
– Так снеси же его поскорее вниз, иначе из-за тебя мы опоздаем на поезд!
Я ощутил туг всю невозможность бороться против судьбы. Я поднялся в свою спальню и, сбросив чемодан с лестницы, сам спустился вслед за ним.
В эту минуту дядя передавал Гретхен «бразды правления» домом. Моя очаровательная фирландка хранила свойственное ей спокойствие. Она обняла опекуна, но не могла удержать слез, когда коснулась своими нежными губами моей щеки.
– Гретхен! – воскликнул я.
– Поезжай, милый Аксель, поезжай, – сказала она, – ты покидаешь невесту, но, возвратясь, найдешь жену.
Я заключил Гретхен в свои объятия, потом сел в карету. С порога дома Марта и молодая девушка посылали нам последнее прости. Затем лошади, подгоняемые свистом кучера, понеслись галопом по Альтонской дороге.
Глава восьмая
Из Альтоны, пригорода Гамбурга, железная дорога идет в Киль, к берегам бельтских проливов. Минут через двадцать мы были уже в Гольштинии.
В половине седьмого карета остановилась у вокзала; многочисленные дядюшкины тюки, его объемистые дорожные принадлежности были выгружены, перенесены, взвешены, снабжены ярлычками, помещены в багажном вагоне, и в семь часов мы сидели друг против друга в купе вагона. Раздался свисток, локомотив тронулся. Мы поехали.
Покорился ли я неизбежному? Нет еще! Но все же свежий утренний воздух, смена дорожных впечатлений несколько рассеяли мои тревоги.
Что касается профессора, мысль его, очевидно, опережала поезд, шедший слишком медленно для его нетерпеливого нрава. Мы были в купе одни, но не обменялись ни единым словом. Дядюшка внимательно осматривал свои карманы и дорожный мешок. Я отлично видел, что ничто из вещей, необходимых для выполнения его планов, не было забыто.
Между прочим, профессор вез тщательно сложенный лист бумаги с гербом датского консульства и подписью г-на Христиенсена, датского консула в Гамбурге, своего большого друга. Имея при себе столь важный документ, мы должны были без труда получить в Копенгагене рекомендации к губернатору Исландии.
Я заметил также и знаменитый пергамент, запрятанный в секретное отделение бумажника. Я проклял его от всего сердца и стал изучать местность, по которой мы ехали. Передо мной расстилались бесконечные, унылые, ничем не примечательные равнины, илистые и довольно плодородные: местность, весьма удобная для железнодорожного строительства, так как ровная поверхность облегчает проведение железнодорожных путей.
Но унылый ландшафт не успел мне наскучить, потому что не прошло и трех часов с момента отъезда, как поезд прибыл в Киль. Вокзал находился в двух шагах от моря.
Поскольку наши вещи были отправлены багажом до Копенгагена, нам не понадобилось возиться с ними; однако профессор с тревогой следил за тем, как их переносили на пароход и сбрасывали в трюм.
Второпях дядюшка так плохо рассчитал часы прибытия поезда и отплытия парохода, что нам пришлось потерять целый день. Пароход «Элеонора» отходил ночью. Девять часов ожидания отразились на расположении духа профессора. Взбешенный путешественник посылал к черту администрацию пароходной компании и железной дороги вместе с правительствами, допускающими подобные безобразия. Мне пришлось поддержать дядюшку, когда он потребовал от капитана «Элеоноры» объяснений по поводу неожиданной задержки. Дядюшка настаивал, чтобы немедленно были разведены пары, но капитан, разумеется, отказался нарушить расписание.
Вынужденные проторчать в Киле целый день, мы поневоле пошли бродить по зеленым берегам бухты, в глубине которой раскинулся городок; мы гуляли в окрестных рощах, придававших городу вид гнезда среди густых ветвей, любовались виллами с собственными купальнями. Так в прогулках и ссорах прошло время до десяти часов вечера.
Клубы дыма из труб «Элеоноры» поднимались в воздухе; палуба дрожала от толчков паровой машины; нам предоставили на пароходе две койки, помещавшиеся одна над другой в единственной каюте.
Пятнадцать минут одиннадцатого мы снялись с якоря, и пароход быстро пошел по сумрачным водам Большого Бельта.
Ночь стояла темная, дул свежий морской ветер, море было бурное; редкие огоньки на берегу прорезали тьму; позднее, не знаю, где именно, над морской зыбью ярко блеснул маяк; вот все, что осталось в моей памяти от путешествия по морю.
В семь часов утра мы высадились в Корсёре, маленьком городке, расположенном на западном берегу Зеландии. Здесь мы пересели с парохода в вагон новой железной дороги, и наш путь пошел по местности, столь же плоской, как и равнины Гольштинии.
Через три часа мы должны были прибыть в столицу Дании. Дядя не сомкнул глаз всю ночь. Мне казалось, что от нетерпения он готов был сам подталкивать поезд.
Наконец, он заметил, что за окном мелькнуло море.
– Зунд! – воскликнул он.
Налево от нас виднелось огромное здание, похожее на госпиталь.
– Больница для умалишенных, – сказал один из наших спутников.
«Отлично, – подумал я, – вот здесь нам и следовало бы кончить наши дни! Но как ни велика эта больница, она не вместит всего безумия профессора Лиденброка!»
Наконец, в десять часов утра мы сошли в Копенгагене; багаж был доставлен вместе с нами в отель «Феникс» в Бред-Хале. Переезд занял полчаса, так как вокзал находился за городом. Затем дядюшка, приведя в порядок свой туалет, вышел вместе со мной на улицу. Швейцар отеля говорил по-немецки и по-английски, но профессор, знавший много языков, обратился к нему по-датски, и швейцар на том же языке объяснил ему, где находится музей древностей Севера.
Хранителем в этом замечательном учреждении, где было собрано множество удивительных вещей, позволяющих восстановить историю страны с ее древними каменными орудиями, с ее кубками и предметами украшения, был известный ученый профессор Томсон, друг гамбургского консула.
Дядюшка имел к нему солидное рекомендательное письмо. Вообще ученые довольно плохо понимают друг друга, но в данном случае этого не было. Профессор Томсон, человек обязательный, оказал радушный прием профессору Лиденброку и даже его племяннику. Едва ли нужно говорить, что дядюшка не открыл своей тайны милейшему хранителю музея. Официально целью нашего путешествия было посещение Исландии в качестве простых туристов.
Господин Томсон отдал себя в наше распоряжение, и мы с ним обошли все набережные в поисках отходящего судна.
Я надеялся, что наши попытки найти его будут обречены на неудачу, но я ошибся. Небольшой датский парусный корвет «Валькирия» должен был отойти второго июня в Рейкьявик. Капитан, г-н Бьярне, находился на борту судна. Его будущий пассажир от радости крепко пожал ему руку. Бравый капитан был несколько изумлен подобной сердечностью. Для капитана плавание в Исландию было делом обыденным, а дядюшка готов был отдать за это чуть ли не полжизни. Достойный капитан, воспользовавшись дядюшкиным восторгом, содрал с нас за переезд двойную плату. Но нас это мало трогало.
Господин Бьярне, положив в карман внушительное количество долларов, сказал:
– Будьте на борту во вторник, в семь часов утра.
Мы поблагодарили господина Томсона за его хлопоты и вернулись в отель «Феникс».
– Все идет хорошо! Все идет очень хорошо! – повторял дядюшка. – Какая счастливая случайность, что мы попали на судно, готовое к отплытию! Теперь позавтракаем, а затем осмотрим город.
Мы отправились на Новую Королевскую площадь – площадь неправильной формы, где был выставлен караул возле двух безобидных пушек, никого не пугавших. Рядом, в доме № 5, находилась французская ресторация, которую держал повар по имени Венсен. За умеренную плату, по четыре марки с персоны, мы там сытно позавтракали.
После этого я, радуясь, как ребенок, пошел осматривать город; дядюшка безропотно следовал за мной; но он ничего не видел, ни королевского дворца, правда, ничем не примечательного, ни красивого моста ХVII столетия, перекинутого через канал как раз против городского музея, ни огромного, украшенного отвратительной стенной живописью, ксенотафа Торвальдсена, внутри которого хранятся произведения этого выдающегося скульптора, ни прелестного замка Розенберга, ни его красивого парка, ни удивительного здания биржи в стиле Ренессанс, ни его башни, сооруженной в виде сплетенных хвостов четырех бронзовых драконов, ни мельниц на земляном валу, широкие крылья которых надуваются, подобно парусам корабля, при морском ветре.
Какие превосходные прогулки могли бы мы совершать с моей очаровательной Гретхен вокруг гавани, где мирно дремлют двухпалубные корабли и фрегаты, по зеленеющим берегам проливов, под сенью густых деревьев, скрывающих цитадель с ее пушками, черные жерла которых виднеются среди ветвей бузины и ивы…
Но, увы, моя бедная Гретхен была далеко, и я даже не смел надеяться увидеть ее когда-нибудь.
Однако дядюшка не замечал прелести этих мест; все же он был поражен архитектурой известной колокольни на острове Амагер, образующем юго-восточную часть Копенгагена.
Мне было тут же приказано идти в эту сторону; мы сели на маленький пароходик, курсирующий по каналам, и через несколько минут причалили к набережной Адмиралтейства.
Пройдя по узким улицам, где каторжники в желто-серых штанах работали под строгим оком надзирателей, мы вышли к храму Спасителя. Храм этот ничем не примечателен. Но внимание профессора привлекла его высокая колокольня, вокруг шпиля которой спиралью вилась наружная лестница, возносясь под самые небеса.
– Поднимемся, – сказал дядя.
– А головокружение? – возразил я.
– Нам нужно привыкать.
– Однако…
– Идем, говорю тебе, нечего зря терять время.
Пришлось повиноваться. Сторож, живший напротив церкви, дал нам ключ, и мы стали подниматься на колокольню.
Дядя шел впереди бодрым шагом. Я следовал за ним не без боязни, так как был подвержен головокружению. Мне недоставало ни его ясной головы, ни крепких нервов.
Пока мы находились внутри колокольни, все шло хорошо, но после ста пятидесяти ступенек воздух ударил мне в лицо: мы добрались до площадки; отсюда лестница шла уже под открытым небом, и единственной опорой были ее легкие перила, а меж тем она становилась все уже и, казалось, вела в бесконечность.
– Я не могу идти! – вскричал я. – Не могу!
– Неужели ты такой трус? Шагай смелей! – ответил безжалостный профессор.
Пришлось поневоле следовать за ним, цепляясь за перила. На чистом воздухе у меня закружилась голова; я чувствовал, как колеблется при сильных порывах ветра колокольня; ноги отказывались мне служить; скоро я пополз на коленях, потом на животе; я закрыл глаза, мне сделалось дурно.
Наконец, при помощи дяди, который схватил меня за шиворот, я добрался до самой вышки.
– Теперь взгляни вниз, – сказал дядя, – и вглядись хорошенько. Ты должен научиться смотреть в бездонные глубины!
Я открыл глаза. Дома сквозь туманную пелену казались мне сдавленными, как бы расплющенными. Над моей головой неслись облака, но благодаря оптическому обману казалось, что облака не движутся, меж тем как колокольня, ее купол и мы сами несемся вдаль с бешеной скоростью. По одну сторону, вдалеке, виднелись зеленеющие поля, по другую – сверкающее в лучах солнца море. За мысом Эльсинор простирался Зунд, на горизонте белели паруса, а на востоке едва вырисовывались в тумане берега Швеции. Все это кружилось перед моими глазами.
И все же мне пришлось встать, выпрямиться и смотреть. Мой первый урок по головокружению длился целый час. Когда я, наконец, спустился вниз и коснулся ногами незыблемой мостовой, я был совершенно разбит.
– Завтра мы повторим урок, – сказал мой профессор.
И действительно, пять дней продолжалось это головокружительное упражнение, и волей-неволей я делал заметные успехи в искусстве «смотреть сверху вниз».
Глава девятая
Настал день отъезда. Накануне услужливый г-н Томсон передал нам рекомендации для наместника Исландии, барона Трампе, для помощника епископа, г-на Пиктурсона, и бургомистра Рейкьявика, г-на Финзена. За что дядя поблагодарил его горячим рукопожатием.
Второго числа, в шесть часов утра, наш драгоценный багаж был уже на борту «Валькирии». Капитан провел нас в тесные каюты, расположенные под своего рода рубкой.
– Благоприятствует ли нам попутный ветер? – спросил дядя.
– Ветер отличный, – ответил капитан Бьярне, – юго-восточный. Мы выйдем из Зунда в открытое море на всех парусах.
Спустя короткое время наша трехмачтовая шхуна отвалила от берега и на всех парусах вошла в пролив. Через час столица Дании уже рисовалась вдали как бы утопающей в волнах и «Валькирия» шла вдоль берегов Эльсинора. Я был в столь приподнятом настроении, что ожидал увидеть тень Гамлета на террасе древнего замка.
«Благородный безумец! – сказал я себе. – Ты, несомненно, нас одобряешь! Быть может, ты будешь сопутствовать нам в недра земного шара, чтобы найти там ответ на твой извечный вопрос: «Быть или не быть?»
Но пустынны были древние стены… Замок, впрочем, гораздо моложе доблестного датского принца. В наше время это великолепное здание служит жилищем смотрителя при входе в Зунд, где ежегодно проходят пятнадцать тысяч судов всех национальностей.
Скоро замок Кронборг исчез в тумане, как и Хельсинборгская башня на шведском берегу, и шхуна немного накренилась под дуновением ветра с Каттегата.
«Валькирия» хорошо ходила под парусами, но на парусное судно никогда нельзя полагаться. Наше судно везло в Рейкьявик уголь, предметы домашней утвари, глиняную посуду, шерстяную одежду и груз зерна; весь экипаж состоял из пяти человек, все без исключения датчане.
– Сколько времени продлится переезд? – спросил дядюшка у капитана.
– Дней десять, – ответил последний, – если только нам не помешает противный северо-западный ветер у Фарерских островов.
– Но, надеюсь, вы не намного запоздаете?
– Нет, господин Лиденброк, будьте спокойны, мы прибудем вовремя.
К вечеру шхуна обогнула мыс Скаген – эту северную оконечность Дании, затем ночью прошла по проливу Скагеррак, миновала близ мыса Линнеснес южную оконечность Норвегии и вышла в Северное море.
Два дня спустя мы увидели берега Шотландии у Питерхеда, и «Валькирия» прошла между Оркнейскими и Шетландскими островами к Фарерским островам.
Вскоре наша шхуна скользила уже по волнам Атлантического океана; ей пришлось лавировать против северного ветра, и она с трудом достигла Фарерских островов. 3-го числа капитан увидел Мюггенес, самый западный из этих островов, и тут же взял курс на мыс Портленд на южном побережье Исландии.
Во время плавания не произошло ничего примечательного. Я переносил довольно легко морскую болезнь; дядя же, к своему крайнему сожалению и к еще большему стыду, все время был не здоров.
Поэтому он не мог расспросить капитана Бьярне ни о вулкане Снефельс, ни о средствах сообщения, ни о способах перевозки грузов. Ему пришлось, таким образом, отложить эти расспросы до своего приезда на место, а пока он проводил все время в каюте, переборки которой трещали под ударами волн. Право, он отчасти заслужил свою участь.
Одиннадцатого июня капитан определил, что мы находимся неподалеку от мыса Портленд. Ясная погода позволила нам различить голый, отвесный утес Мирдальс-Ёкуль, одиноко стоящий на его оконечности. Держась на почтительном расстоянии от берега, «Валькирия» взяла курс на запад, и мы увидели вокруг себя стада китов и стаи акул. Вскоре показалась скала с отверстием посредине, в которое с бешеным ревом врывались вспененные волны. Вестманские островки вздымались на поверхности океана, точно камни, рассыпанные чьей-то рукой. Дальше шхуна вышла в открытое море, чтобы обогнуть на надлежащем расстоянии мыс Рейкьянес, образующий западную оконечность Исландии.
Шторм на море помешал дядюшке выйти на палубу полюбоваться причудливо изрезанными берегами Исландии и подставить лицо под резкий юго-западный ветер.
Через сорок восемь часов, когда буря, заставившая убрать паруса на шхуне, утихла, на востоке показался буй близ оконечности Скагена, где океан усеян подводными скалами, весьма опасными для мореходов. На судно прибыл исландский лоцман, и три часа спустя «Валькирия» бросила якорь у Рейкьявика в заливе Факсафлоуи.
Профессор вышел, наконец, из своей каюты, побледневший, осунувшийся, но все такой же восторженный и явно довольный. Население города, заинтересованное прибытием судна с грузом, устремилось на набережную.
Дядюшка спешил покинуть свою плавучую тюрьму, вернее сказать, больницу. Но прежде чем сойти с палубы, он повел меня на нос судна и указал на северной стороне бухты высокую гору с расщепленной надвое вершиной, покрытой вечными снегами.
– Снефельс! – воскликнул он. – Снефельс!
Потом, сделав мне знак молчания, он сел в лодку; я последовал за ним, и вскоре мы вступили на землю Исландии.
Тотчас же навстречу нам вышел осанистый мужчина в генеральском мундире. Это и был губернатор острова, барон Трампе собственной персоной. Профессор передал ему письма из Копенгагена, после чего между ними завязался краткий разговор по-датски, в котором я, по понятной причине, не принимал участия. Результатом этого разговора было то, что барон Трампе предоставил себя в полное распоряжение профессора Лиденброка.
Радушный прием был оказан дяде и бургомистром Финзеном, который, подобно губернатору, хотя и был облачен в военный мундир, отличался столь же миролюбивым характером.
Коадъютор Пиктурсон как раз находился в отсутствии: он объезжал Северный округ страны, и нам пришлось отказаться на время от знакомства с ним. Но преподаватель естественных наук в рейкьявикской школе г-н Фридриксон, чрезвычайно любезный человек, оказал нам весьма драгоценное содействие. Этот скромный ученый говорил только по-исландски и по-латыни; он предложил мне на языке Горация свои услуги, и мы легко с ним столковались. Действительно, он был единственным человеком, с которым я мог беседовать во время моего пребывания в Исландии.
Из трех комнат, составлявших квартиру этого превосходного человека, в наше распоряжение были предоставлены две, в которых мы и расположились со всем нашим багажом, количество коего несколько удивило жителей Рейкьявика.
– Ну-с, Аксель, – сказал дядюшка, – дела идут хорошо, главная трудность уже преодолена.
– Как главная трудность? – воскликнул я.
– Разумеется, нам остается только спуститься!
– Если таково ваше отношение к делу, вы правы; но мне кажется, что, сумев спуститься, нам надо суметь и подняться?
– О, это меня нисколько не беспокоит! Ну, ладно! Нечего терять время. Я отправляюсь в библиотеку. Может быть, там найдется какой-нибудь манускрипт Сакнуссема, которым я с большим удовольствием воспользовался бы для справок.
– А я тем временем осмотрю город. Разве вы не присоединитесь ко мне?
– Город очень мало интересует меня. Достопримечательности Исландии не на поверхности Земли, а в ее недрах.
Я вышел из дому и пошел куда глаза глядят.
Заблудиться на двух улицах Рейкьявика было бы трудно. Поэтому мне не пришлось спрашивать пути, что при разговоре жестами обычно ведет к недоразумениям.
Город лежит в низкой и довольно болотистой лощине. С одной его стороны высятся наслоения застывшей лавы, отлогими уступами нисходящие к морю. С другой – простирается обширный, ограниченный на севере большим глетчером Снефельс, залив Факсафлоуи, в котором в ту пору «Валькирия» была единственным судном. Обычно на рейде стоит множество английских и французских рыбачьих судов, но в то время они находились на восточном берегу острова.
Одна из двух улиц Рейкьявика – более длинная – идет параллельно берегу; торговцы и купцы живут тут в скромных домиках, построенных из выкрашенных в красный цвет деревянных балок; другая улица расположена западнее и упирается в небольшое озеро; тут стоят дома епископа и лиц, не причастных к торговле.
Я быстрыми шагами прошел по этим унылым, мрачным улицам; лишь изредка мой взгляд привлекал то чахлый газон, похожий на старый потертый ковер, то некое подобие огорода, где произрастают тощий латук, картофель и капуста, но в таком жалком количестве, что этих овощей хватило бы разве что для стола лилипутов; несколько хилых левкоев тянутся кое-где к солнцу.
В середине второй, не торговой улицы я набрел на обширное кладбище, обнесенное земляным валом. Пройдя несколько шагов, я увидел губернаторский дом, походивший на лачугу в сравнении с Гамбургской ратушей, но казавшийся дворцом после домиков исландских горожан.
Между озером и городом возвышалась церковь в стиле протестантских кирок, построенная из камня вулканических пород; при сильном западном ветре ее красная черепичная крыша грозила рухнуть, нанеся большой материальный ущерб прихожанам.
На ближнем холме я увидел Национальную школу, где, как я узнал позже от нашего хозяина, обучали еврейскому, английскому, французскому и датскому языкам; на этих четырех языках я, к стыду своему, не знал ни единого слова. Я был бы самым последним из сорока учеников этого небольшого колледжа и даже не удостоился бы чести переночевать вместе с ними в одном из чуланов с двумя отделениями, где наиболее слабым грозила опасность задохнуться в первую же ночь.
В течение трех часов я осмотрел не только город, но и его окрестности. Печальное зрелище! Ни деревца, ни растительности. Повсюду голые грани вулканических скал. Хижины исландцев сооружены из земли и торфа и со своими наклоненными внутрь стенами похожи на крыши, лежащие на земле. Интересно, что крыши эти являются в то же время и лугами. Благодаря теплу, идущему от очагов, трава на кровле растет довольно хорошо и ее добросовестно скашивают во время сенокоса, иначе домашние животные паслись бы прямо на этих доморощенных пастбищах.
Во время прогулки мне почти никто не встретился на пути. Возвращаясь домой по торговой улице, я увидел, что большая часть жителей занята вялением, солением и погрузкой трески, составляющей главный предмет вывоза. Мужчины здесь крепкого сложения, но несколько тяжеловесны, ведь исландцы принадлежат к скандинавской ветви германской расы; белокурые, с задумчивыми лицами, они чувствуют себя как бы вне человеческого общества, добровольными изгнанниками в этой стране льдов, созданной для эскимосов, самой природой обреченных жить у полярного круга. Я тщетно старался подметить улыбку на ихлице; они улыбались порою в силу непроизвольного сокращения лицевых мускулов, но никогда по-настоящему не смеялись.
Одежда их состоит из черной грубошерстной куртки, известной в скандинавских странах под названием vadmel, из широкополой шляпы, штанов с красной оборкой и куска кожи, сложенного наподобие обуви.
Женщины с грустными и довольно приятными, но невыразительными лицами носят корсаж и юбку из темной vadmel; девушки заплетают волосы в косу и носят коричневый вязаный чепчик; замужние повязывают голову цветным платком, поверх которого надевают род кокошника из белого полотна.
Возвратившись после интересной прогулки в дом г-на Фридриксона, я застал моего дядюшку в обществе нашего хозяина.
Глава десятая
Обед был готов; профессор Лиденброк поглощал его с большим аппетитом, ибо желудок его после вынужденного поста на судне превратился в бездонную пропасть. Обед был скорее датский, чем исландский, и сам по себе ничем не был примечателен, но наш хозяин, более исландец, чем датчанин, напомнил мне о древнем гостеприимстве: гость был первым лицом в доме.
Разговор велся на местном языке, к которому дядя примешивал немецкие слова, а г-н Фридриксон – латинские, чтобы и я мог его понять. Беседа касалась научных вопросов, как и подобает ученым; профессор Лиденброк был крайне сдержан и почти ежеминутно приказывал мне взглядом хранить полное молчание о наших планах.
Прежде всего г-н Фридриксон осведомился у дяди о результате его поисков в библиотеке.
– Ваша библиотека, – заметил последний, – состоит лишь из разрозненных сочинений, полки почти пусты.
– Помилуйте! – возразил г-н Фридриксон. – У нас имеется восемь тысяч томов, в том числе много ценных и редких трудов на древнескандинавском языке, а также новинки, которыми ежегодно снабжает нас Копенгатен.
– Где же эти восемь тысяч? На мой взгляд…
– О! господин Лиденброк, они расходятся по всей стране. На нашем старом ледяном острове любят читать! Нет ни одного фермера, ни одного рыбака, который не умел бы читать и не читал бы. Мы думаем, что книги, вместо того чтобы плесневеть на полках, вдали от любознательных глаз, должны приносить пользу, быть постоянно на виду у читателя. Поэтому книги у нас переходят из рук в руки, читаются и перечитываются, и зачастую книга год или два не возвращается на место.
– А вместе с тем, – возразил дядя с досадой, – иностранцы…
– Что вы хотите! У иностранцев на родине есть свои библиотеки, а главное для нас, чтобы наши крестьяне развивались. Повторяю, склонность к учению лежит в крови исландца. Поэтому в тысяча восемьсот шестнадцатом году мы основали Литературное общество, которое теперь процветает. Иностранные ученые почитают за честь принадлежать к нему; оно издает книги, предназначенные для воспитания и образования наших соотечественников, и приносит существенную пользу стране. Если вы, господин Лиденброк, пожелаете быть одним из наших членов-корреспондентов, вы доставите нам большое удовольствие.
Дядюшка, состоявший уже членом сотни научных обществ, изъявил свое согласие с любезностью, тронувшей г-на Фридриксона.
– А теперь, – продолжал последний, – будьте так любезны, назовите книги, которые вы надеялись найти в нашей библиотеке, и я смогу, может быть, разузнать о них.
Я взглянул на дядю. Он медлил с ответом. Это предложение непосредственно касалось его планов. Однако после некоторого размышления он решился заговорить.
– Господин Фридриксон, – сказал он, – я желал бы знать, нет ли у вас среди древних книг сочинений Арне Сакнуссема?
– Арне Сакнуссема? – переспросил рейкьявикский преподаватель. – Вы говорите об ученом шестнадцатого столетия, о великом естествоиспытателе, великом алхимике и путешественнике?
– Именно о нем!
– О гордости исландской науки и литературы?
– Совершенно справедливо.
– О всемирно известном человеке?
– Полностью согласен с вами.
– Отвага которого равнялась его гению?
– Я вижу, что вы о нем наслышаны.
Дядюшка слушал с восторгом лестные отзывы о своем герое. Он не спускал глаз с г-на Фридриксона.
– Конечно! – сказал дядя. – А его сочинения?
– Сочинений у нас нет.
– Как? В Исландии их нет?
– Их нет ни в Исландии, ни где-либо в другом месте.
– Почему?
– Потому что Арне Сакнуссем был гоним, как еретик, и его сочинения были сожжены в тысяча пятьсот семьдесят третьем году в Копенгагене рукой палача.
– Превосходно! – воскликнул дядя к вящему негодованию преподавателя естественных наук.
– Что?.. – переспросил последний.
– Да! Все объясняется, приходит в связь, я понимаю теперь, почему Сакнуссем, после того как его сочинения подверглись преследованию, был вынужден скрывать свои гениальные открытия, зашифровать свою тайну…
– Какую тайну? – живо спросил Фридриксон.
– Тайну… которая… – ответил дядя, заикаясь.
– У вас, может быть, есть какой-нибудь особенный документ?
– Нет… Это только мое предположение.
– Хорошо, – ответил г-н Фридриксон, который по доброте душевной не стал настаивать, заметив смущение дяди. – Надеюсь, – продолжал он, – что вы не покинете наш остров, не изучив его минералогических богатств?
– Несомненно, – ответил дядя, – но я несколько запоздал; другие ученые, конечно, уже побывали здесь.
– Да, господин Лиденброк; работы Олафсена и Повельсена, проведенные по королевскому поручению, исследования Тройля, научная экспедиция Гаймара и Роберта на борту французского корвета «Поиски»[6 - Корвет «Поиски» был отправлен в 1835 году адмиралом. Дюперрэ для розыска судна «Лилианка» с экспедицией де Блоссевиля, пропавшей без вести. – Примеч. автора.] и недавние наблюдения ученых, находившихся на фрегате «Королева Гортензия», во многом содействовали изучению Исландии. Но, поверьте мне, на вашу долю осталось немало.
– Вы думаете? – спросил добродушно дядя, стараясь скрыть блеск своих глаз.
– О да! Сколько еще остается гор, ледников, вулканов, почти совсем неизученных! Не надо далеко ходить за примером: взгляните на гору, что возвышается на горизонте. Это Снефельс.
– Неужели? – сказал дядя. – Снефельс?
– Да, один из самых замечательных вулканов, кратер которого мало кто посещал.
– Он потухший?
– О да! Уже пятьсот лет, как он бездействует.
– Так вот, – ответил дядя, судорожно закидывая ногу на ногу, чтобы не подпрыгнуть, – я думаю начать свои геологические исследования с этого Сеффель… Фессель… как вы сказали?
– Снефельс, – ответил милейший г-н Фридриксон.
Эта часть разговора происходила по-латыни; я все понял и едва мог сохранять серьезное выражение лица, глядя на дядюшку, старавшегося скрыть свою радость, бившую через край; строя из себя невинного младенца, он походил на старого черта.
– Да, – продолжал он, – ваши слова определяют мой выбор! Мы попытаемся взобраться на этот Снефельс и, быть может, даже исследовать его кратер!
– Я очень сожалею, – ответил г-н Фридриксон, – что мои занятия не позволяют мне отлучиться; я с удовольствием и пользой для себя согласился бы сопровождать вас.
– О нет, нет! – живо возразил дядя. – Мне не хотелось бы никого беспокоить, господин Фридриксон; от души благодарю вас. Участие такого ученого, как вы, было бы весьма полезно, но обязанности вашей профессии…
Я склонен думать, что наш хозяин в невинности своей исландской души не понял явных хитростей моего дядюшки.
– Я вполне одобряю, господин Лиденброк, что вы начнете свои изыскания с этого вулкана, – сказал он. – Вы соберете там обильную жатву замечательных наблюдений. Но скажите, как вы думаете пробраться на Снефельский полуостров?
– Морем, через пролив. Путь самый короткий.
– Конечно, но это невозможно.
– Почему?
– Потому что в Рейкьявике вы не найдете сейчас ни одной лодки.
– Ах, черт!
– Вам придется отправиться сухим путем, вдоль берега. Это, правда, большой крюк, но дорога интересная.
– Хорошо. Я постараюсь достать проводника.
– Я могу вам как раз предложить подходящего.
– А это надежный, сообразительный человек?
– Да, житель полуострова. Он весьма искусный охотник за гагами; вы будете им довольны. Он свободно говорит по-датски.
– А когда я могу его увидеть?
– Завтра, если хотите.
– Почему же не сегодня?
– Потому что он будет здесь только завтра.
– Итак, завтра, – ответил дядя, вздыхая.
Вскоре после этого многообещающий разговор закончился, и немецкий профессор горячо поблагодарил своего исландского собрата. Во время этого обеда дядюшка получил важные сведения, узнал историю Сакнуссема, понял причину вынужденной таинственности его документа, а также заручился обещанием получить в свое распоряжение проводника.
Глава одиннадцатая
Вечером я совершил короткую прогулку по берегу моря, пораньше вернулся домой, лег в постель и заснул глубоким сном.
Проснувшись утром, я услыхал, что дядя оживленно с кем-то беседует в соседней комнате. Я тотчас встал и поспешил к нему.
Он говорил по-датски с незнакомцем высокого роста, крепкого сложения. Парень, видимо, обладал большой физической силой. На его грубой и простоватой физиономии выделялись умные глаза. Глаза были голубые, взгляд задумчивый. Длинные волосы, которые даже в Англии сочли бы за рыжие, падали на атлетические плечи. Движения его были гибки, но беседа с помощью жестикуляции была ему незнакома. Все в нем обличало человека уравновешенного, спокойного, но отнюдь не апатичного. Чувствовалось, что он ни от кого не зависит, делает все по собственному усмотрению и ничто в этом мире не способно поколебать его философского отношения к жизни.
Я разгадал характер исландца по той манере, с какой он воспринимал поток речей своего собеседника. Скрестив руки, он молча слушал жестикулирующего профессора; желая сказать «нет», он поворачивал голову слева направо, а в случае согласия наклонял ее, но так плавно, что волосы не падали ему на лоб. Словом, экономия движений граничила у него со скупостью.
При взгляде на незнакомца я, конечно, не угадал бы в нем охотника; он, несомненно, не вспугивал дичь, но как он настигал ее?
Я все понял, узнав от г-на Фридриксона, что этот спокойный человек – охотник за гагами. Действительно, для добывания гагачьего пуха, который представлял собою главное богатство острова, не требуется особой затраты движений.
Впервые летние дни гага – род красивой утки – вьет свое гнездо в скалах фьордов, которыми изрезан весь остров, а затем устилает его тонким пухом, выщипанным из грудки. Тотчас же появляется охотник, или, вернее, торговец пухом, уносит гнездо, а самка начинает сызнова свою работу. Хлопоты птицы продолжаются до тех пор, пока у нее хватает пуха. Когда же она оказывается ощипанной догола, наступает очередь самца. Однако его грубый пух не имеет никакой ценности, а потому охотник не трогает больше гнезда, где самка вскоре кладет яйца и выводит птенцов. На следующий год сбор гагачьего пуха возобновляется тем же способом.
А так как гаги выбирают для своих гнезд легкодоступные, отлогие скалы, спускающиеся в море, исландский охотник может заниматься этим промыслом без большого труда. Он является своего рода фермером, которому не надо ни сеять, ни жать, а только собирать жатву.
Этого серьезного, флегматичного и молчаливого человека звали Ганс Бьелке; он явился по рекомендации г-на Фридриксона как наш будущий проводник. Своими манерами он резко отличался от дядюшки, что не помешало им легко столковаться и быстро сойтись в цене: один был готов взять то, что ему предложат, другой – дать столько, сколько у него потребуют. Никогда сделка не совершалась проще и легче.
Итак, Ганс обязался провести нас до деревни Стапи, находящейся на южном берегу полуострова Снефельс, у самой подошвы вулкана. До деревни было что-то около двадцати двух миль, которые дядюшка рассчитывал пройти в два дня.
Но, узнав, что речь идет о датских милях, в двадцать четыре тысячи футов каждая, он должен был изменить свои планы и ввиду неудовлетворительного состояния дорог примириться с переходом в семь-восемь дней.
Пришлось достать четырех лошадей – двух верховых, для дяди и для меня, и двух для нашего багажа. Ганс по привычке отправлялся пешком. Он превосходно знал эту местность и обещал избрать кратчайший путь.
С нашим прибытием в Стапи служебные обязанности проводника не кончались; он должен был сопровождать нас и дальше, во все время нашего научного путешествия, за вознаграждение в три рейхсталера в неделю. Однако было оговорено, что эта сумма уплачивается ему каждую субботу вечером.
Отъезд был назначен на 16 июня. Дядюшка хотел дать задаток охотнику, но тот отказался взять деньги вперед.
– Efter, – сказал он.
– После, – перевел мне профессор.
Когда договор был заключен, Ганс удалился.
– Превосходный человек! – воскликнул дядя. – Он и не подозревает, какую роль ему предстоит играть.
– Стало быть, он будет сопровождать нас до…
– Да, Аксель, до самого центра Земли.
До отъезда оставалось еще двое суток. К моему большому огорчени, ю их пришлось употребить на сборы. Все наши мыслительные способности были направлены на то, чтобы разместить вещи как можно удобнее: приборы в одно место, оружие в другое, инструменты – в этот тюк, съестные припасы – в тот. В общем, получились четыре группы предметов. В числе приборов находились:
1) Стоградусный термометр Эйгля со шкалой в 150 градусов, что, по-моему, или слишком много, или недостаточно. Слишком много, если окружающая температура поднимется столь высоко, потому что тогда мы все равно изжаримся. Недостаточно, если дело идет об измерении температуры подземных источников или любой расплавленной материи.
2) Манометр для измерения атмосферного давления, превышающего то давление, которое наблюдается на уровне океана. Действительно, обыкновенный барометр не годился бы для этого, потому что атмосферное давление должно было возрастать по мере нашего спуска в глубь Земли.
3) Женевский хронометр Буассона младшего, выверенный по гамбургскому времени.
4) Два компаса для определения склонения и наклонения.
5) Ночная подзорная труба.
6) Два аппарата Румкорфа, которые представляют собой надежный и портативный электрический светильник, безопасный и занимающий мало места.
Оружие состояло из двух карабинов системы «Пердли Мор и К*» и двух револьверов Кольта. Но к чему оружие? Мне казалось, что нам нечего бояться ни дикарей, ни хищных зверей. Но дядюшка, по-видимому, дорожил своим арсеналом не менее, чем приборами, в особенности порядочным запасом пироксилина, не подверженного влиянию сырости, разрушительная сила которого гораздо значительнее, чем сила обыкновенного пороха.
Инструменты состояли из двух мотыг, двух кирок, веревочной шелковой лестницы, трех железных палок, топора, молотка, дюжины железных клиньев, винтов и длинных веревок с узлами. Все это составляло солидный тюк, так как одна только лестница была в триста футов длиной.
Наконец, были еще и съестные припасы: небольшой, но весьма полезный мешок содержал шестимесячный запас концентрированного мяса и сухарей; можжевеловая водка была единственным напитком, ибо воды не было, зато у нас имелись тыквенные фляги, которые дядя рассчитывал наполнять водой из источников. Все мои возражения относительно состава этих последних, температуры и даже самого их существования были оставлены без внимания.
Чтобы дать полный список наших дорожных вещей, я упомяну еще о дорожной аптечке, содержавшей хирургические ножницы, лубки на случай переломов, кусок тесьмы из грубой ткани, бинты и пластырь, таз для кровопускания, множество пузырьков с декстрином, спиртом для промывания ран, со свинцовой примочкой, эфиром, уксусом, нашатырем и другие устрашающие предметы и, наконец, вещества, необходимые для аппарата Румкорфа.
Дядюшка не забыл также табак, порох и трут, а равным образом широкий кожаный пояс с порядочным количеством зашитых в нем золотых, серебряных и бумажных денег. Среди прочих вещей находилось также шесть пар крепких башмаков на прекрасной прочной резиновой подошве.
– С таким снаряжением и запасами, – сказал дядя, – нам нечего бояться далекого путешествия.
Весь день 14 июня был употреблен на то, чтобы тщательно уложить все эти предметы. Вечером мы ужинали у барона Трампе, в обществе бургомистра Рейкьявика и доктора Хуальталина, главного врача страны. Г-на Фридриксона не было среди гостей; впоследствии я узнал, что он находился в натянутых отношениях с губернатором из-за какого-то административного вопроса и поэтому они не бывали друг у друга. Таким образом, я был лишен возможности понять хоть одно слово из того, что говорилось на этом полуофициальном ужине. Я заметил только, что дядюшка говорил не умолкая.
На следующий день, 15 июня, приготовления были закончены. Наш хозяин доставил профессору большое удовольствие, вручив ему карту Исландии, несравненно более полную, чем карта Гендерсона, а именно карту, составленную Олафом Никола Ольсеном, в масштабе 1:480 000, и изданную исландским Литературным обществом на основании геодезических работ Шееля Фризака и топографических съемок Бьерна Гумлаугсона. Для минералога это был драгоценный документ.
Последний вечер был проведен в дружеской беседе с г-ном Фридриксоном, к которому я чувствовал живейшую симпатию; за этой беседой последовал довольно беспокойный сон, по крайней мере для меня.
В пять часов утра меня разбудило ржание четырех лошадей, бивших копытами о землю под моим окном. Я проворно оделся и вышел на улицу. Ганс был тут и молча, с необыкновенной ловкостью навьючивал на лошадей наш багаж. Дядюшка больше шумел, чем помогал в этой работе, и проводник, по-видимому, обращал мало внимания на его указания.
К шести часам все было готово. Г-н Фридриксон пожал нам руки. Дядюшка на исландском языке сердечно поблагодарил его за радушное гостеприимство. Я же произнес по-латыни, как только мог лучше, искреннее приветствие; потом мы сели на лошадей, и г-н Фридриксон крикнул нам вслед, на прощание, стих Вергилия:
«Et quacunque viam dederit fortuna sequamur!»[7 - «Смело двинемся в путь, куда поведет нас фортуна» (лат).]
Глава двенадцатая
Когда мы выехали, погода была пасмурная, но устойчивая. Не приходилось опасаться ни утомительной жары, ни бедственного дождя. Погода для туристов!
Удовольствие от прогулки верхом во многом помогало мне примириться с нашим рискованным предприятием. Я был наверху блаженства, наслаждался своей свободой и уже начинал не так мрачно смотреть на вещи.
«В самом деле, – рассуждал я, – чем я рискую? Нам предстоит путешествие по замечательной стране, подъем на знаменитую гору, в худшем случае – спуск в ее потухший кратер! Очевидно, Сакнуссем ничего иного не совершил. А что касается подземного хода, который ведет к центру Земли, – это сущая фантазия! Полнейшая бессмыслица! Итак, воспользуемся приятной стороной экспедиции, не думая об остальном».
Пока я так размышлял, мы выехали из Рейкьявика.
Ганс шел впереди быстрым, размеренным, спокойным шагом; за ним следовали две лошади с нашим багажом, которых не приходилось подгонять. Вслед за ними ехали мы с дядюшкой, и, право, наши фигуры на низкорослых, но сильных лошадках представляли собою недурное зрелище.
Исландия – один из крупнейших островов Европы. При поверхности в тысячу четыреста квадратных миль[8 - По современным данным, площадь Исландии равна 103 тыс. км
.] она насчитывает только шестьдесят тысяч жителей. Географы делят ее на четыре части; и нам предстояло пересечь ту ее часть, которая носит название «Страны юго-западных ветров»: «Sud-vestr Fjordungr».
По выходе из Рейкьявика Ганс направился по морскому берегу. Мы ехали среди безлюдных тощих пастбищ с чахлой, скорее желтой, нежели зеленой травой. Зубчатые вершины трахитовых гор на востоке были подернуты дымкой; то тут, то там виднелись на склонах дальних гор снежные поляны, тускло мерцавшие в рассеянном свете туманного утра. То тут, то там вздымались горные пики и, прорезая свинцовые тучи, вновь возникали над ними, словно рифы над морскими волнами.
Нередко гряды голых скал спускались к морю, загромождали пастбища, но и тогда оставалось достаточно места, чтобы проехать. Впрочем, наши лошади инстинктивно выбирали наиболее удобный путь, не замедляя притом шага. Дядюшке даже не пришлось подгонять свою лошадку окриком или хлыстом: для этого у него просто не было повода. Я не мог удержаться от улыбки, глядя на него: он был слишком велик для своей лошадки, и так как его длинные ноги почти волочились по земле, он походил на шестиногого кентавра.
– Славная скотинка, славная скотинка! – говорил он. – Ты увидишь, Аксель, что нет животного умнее исландской лошади. Ничто ее не останавливает; ни снега, ни бури, ни плохие дороги, ни скалы, ни ледники; она смела, осторожна, надежна; никогда не оступится, никогда не заупрямится. Если понадобится перейти реку или фьорд, она бросится, не колеблясь, в воду, точно какая-нибудь амфибия, и достигнет другого берега! Но не будем ее подгонять, предоставим ее самой себе, и мы проедем в среднем десять лье в день.
– Мы-то проедем, – отвечал я, – а проводник?
– О нем я не беспокоюсь! Эти люди шагают, сами того не замечая. Наш проводник ступает, как автомат, и, видимо, ничуть не устает. Впрочем, если потребуется, я уступлю ему свою лошадь; меня скоро схватят судороги, если я совсем перестану двигаться. Руки действуют хорошо, но надо подумать и о ногах.
Между тем мы быстро продвигались вперед. Местность становилась пустыннее. Изредка встречалась уединенная ферма, какой-нибудь boёr[9 - Жилище исландского крестьянина. – Примеч. автора.], построенный из дерева, земли, кусков лавы, – словно нищий у края дороги! Эти ветхие хижины точно взывали к жалости прохожих, и, право, брало искушение подать им милостыню. В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок, и как ни жалка здесь растительность, она скоро стирает следы редких путешественников.
И однако эта часть провинции, находящаяся рядом со столицей, принадлежит к населенным и обработанным местностям Исландии. Что же после этого представляли собой места, еще более пустынные, чем эта пустыня? Проехав полмили, мы не увидели ни одного фермера в дверях его хижины, ни одного пастуха, пасущего стадо, менее первобытное, чем он сам; только несколько коров и баранов, предоставленных самим себе, попались нам на глаза. Что же должны были являть собою провинции, подверженные вулканическим извержениям и землетрясениям?
Нам предстояло познакомиться с ними позже; но, глядя на карту Ольсена, я узнал, что их можно миновать, если держаться извилистого морского берега. И действительно, плутоническая деятельность ограничивается преимущественно внутренней частью острова; именно там находятся те горизонтальные пласты, называемые по-скандинавски траппами и состоящие из трахита, базальта, вулканических туфов, застывших потоков лавы и порфира, которые придают острову его сверхъестественный, грозный вид. Я не подозревал тогда, какое зрелище ожидает нас на полуострове Снефельс, где буйства природы создали этот зловещий хаос.
Через два часа после отъезда из Рейкьявика мы достигли местечка Гуфун, называемого также «Aoalkirkja», или «Главная церковь». Там нет ничего примечательного. Всего несколько домов. В Германии они составили бы деревушку.
Тут Ганс сделал получасовую остановку; он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины расспросы о состоянии дороги, а когда его спросили, где он намерен переночевать:
– Гардар, – сказал он коротко.
Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот Гардар, и нашел на берегу Хваль-фьорда, в четырех милях от Рейкьявика, маленькое селение, носящее это название. Когда я указал на него дядюшке, он сказал:
– Только четыре мили! Четыре мили из двадцати двух! Превосходная прогулка!
Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот, не ответив ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди лошадей.
Три часа спустя, держа по-прежнему путь среди пастбищ с выгоревшей травой, мы обогнули Колла-фьорд – этот окольный путь был короче и легче, чем переправа через залив – и прибыли в «pingstaoer», резиденцию окружного суда, под названием Эюльберг, когда на колокольне пробило бы двенадцать, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств, чтобы купить башенные часы. Впрочем, и прихожане не носят часов, за неимением таковых.
Здесь лошадям был задан корм; дальше мы поехали по узкой прибрежной дороге, между цепью холмов и морем, без остановки до Брантарской «Главной церкви», и еще на милю дальше, до Заурбоёрской заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хвальфьорда.
Было четыре часа. Мы покрыли всего четыре мили.
В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в полмили; морские волны с шумом разбивались о крутые, остроконечные скалы: залив лежал среди отвесных, скалистых стен, высотою в три тысячи футов и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались тут с красноватыми пластами туфа. Как ни смышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал при попытке переправиться через этот пролив на спинах наших четвероногих.
– Если они умны, – сказал я, – они и пытаться не будут переправиться вплавь. Во всяком случае, я буду благоразумнее их.
Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к береuу. Животное, почуяв близость воды, остановилось; но дядюшка, который всегда поступал по-своему, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью, но лошадка только лягалась, намереваясь, по-видимому, сбросить всадника. Наконец она подогнула ноги и проскользнула между длинных ног профессора, который остался стоять на двух прибрежных камнях, подобно Колоссу Родосскому.
– Ах ты, проклятое животное! – вскричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту.
– Farja, – сказал проводник, тронув его за плечо.
– Как, паром?
– Der[10 - Там (датск.).], – ответил Ганс, указывая на плот.
– Конечно! – воскликнул я. – Вон там паром!
– Надо было об этом раньше сказать! Ну, ладно, в путь.
– Tidvatten, – продолжал проводник.
– Что он говорит?
– Он говорит – прилив, – отвечал дядя, переводя мне датское слово.
– Во всяком случае, нам придется дождаться прилива.
– Farbida[11 - Долго? (датск.)]? – спросил дядя.
– Ja[12 - Да (датск.).], – отвечал Ганс.
Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Я хорошо понимал, что для переправы через фьорд необходимо дождаться высокой воды, ибо в это время не бывает ни прилива, ни отлива и паром не подвергается опасности быть унесенным вглубь залива или в открытый океан.
Этот благоприятный момент наступил лишь в шесть часов вечера. Дядюшка, я сам, наш проводник, двое паромщиков и четыре лошади поместились на довольно утлой плоской барже. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников показались мне весьма жалким двигателем. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но наконец мы благополучно достигли берега.
Через полчаса мы прибыли в Гардар.
Глава тринадцатая
Настал час, когда должно было бы стемнеть, но на шестьдесят пятом градусе северной широты светлые ночи не могли меня удивить; в июне и июле солнце в Исландии не заходит.
Однако температура понизилась. Я озяб и еще больше проголодался. И как же я обрадовался, когда нашелся «boёr», где нас приветливо приняли.
То был крестьянский дом, но радушие его обитателей не уступало гостеприимству короля. Когда мы подъехали, хозяин подал нам руку и предложил без дальнейших церемоний следовать за ним.
Буквально следовать, ибо идти рядом с ним было невозможно. Длинный, узкий, темный проход вел в жилище, построенное из плохо обтесанных бревен, и из него вы попадали прямо в комнаты; их было четыре: кухня, ткацкая, спальня и комната для гостей, самая лучшая из всех. При постройке дома не подумали о росте моего дядюшки, и он несколько раз стукнулся головой о потолок.
Нас ввели в большую комнату, некое подобие залы, с утоптанным земляным полом и одним окном, в которое вместо стекла был вставлен тусклый бараний пузырь. Постель состояла из охапки жесткого сена, брошенного между двумя деревянными переборками, выкрашенными в красный цвет и украшенными исландскими изречениями. Такого комфорта я не ожидал; правда, в доме стоял терпкий запах сушеной рыбы, соленого мяса и кислого молока, не доставлявший моему обонянию особого удовольствия.
Когда мы сняли нашу дорожную амуницию, хозяин дома пригласил нас пройти в кухню, единственное отапливаемое помещение даже в большие холода.
Дядюшка поспешил последовать любезному приглашению. Я присоединился к нему.
Кухонный очаг был устроен по-первобытному: посреди комнаты лежал плоский камень, на котором разводили огонь, а в крыше над ним было сделано отверстие, заменяющее дымовую трубу. Кухня эта служила и столовой.
При входе в нее хозяин приветствовал нас так, будто раньше не видел, словами «saellvertu», что означает «будьте счастливы», и облобызал нас в щеку.
Вслед за ним жена его произнесла те же самые слова, с той же церемонией; затем, приложив правую руку к сердцу, они отдали нам глубокий поклон.
Спешу сказать, что исландка была матерью девятнадцати детей, которые все, от мала до велика, копошились среди дыма и чада, поднимавшегося от очага и наполнявшего комнату. Ежеминутно то одна, то другая белокурая головка выступала из этого облака. Их можно было принять за группу неумытых ангелов.
Мы обошлись очень ласково с этим «выводком», и вскоре трое или четверо карапузов забрались к нам на плечи, столько же на наши колени, остальные путались у нас под ногами. Те, кто умел говорить, повторяли «saellvertu» на всевозможные лады, а те, кто не умел, кричали что есть мочи.
Концерт был прерван приглашением к обеду. В эту минуту вошел наш проводник, который позаботился о том, чтобы накормить лошадей, говоря попросту, он разнуздал их и ради экономии пустил пастись на воле; бедные животные должны были довольствоваться скудным мхом, растущим на скалах, и тощими приморскими травами; а на следующее утро они сами собой вернутся обратно и опять повезут нас.
– Saellvertu! – сказал Ганс, входя.
Затем последовала та же спокойная, автоматическая, – один поцелуй был не жарче другого, – сцена приветствия со стороны хозяина, хозяйки и девятнадцати ребят.
Когда церемония закончилась, за стол уселось ровным счетом двадцать четыре человека, и, следовательно, друг на друге в буквальном смысле этого слова. У кого на коленях примостилось двое ребят, тот еще легко отделался!
Впрочем, при появлении на столе супа весь этот народец затих, воцарилась тишина, непривычная для исландских мальчишек. Хозяин подал нам довольно вкусный суп из знаменитого исландского мха, затем изрядную порцию сушеной рыбы в масле, которое прогоркло лет двадцать назад и, следовательно, по исландским понятиям, было гораздо лучше свежего. К этому подали «skyr», что-то вроде простокваши с сухарями и подливкой из можжевеловых ягод. Наконец, какой-то напиток из сыворотки, разбавленной водой, так называемая «blanda». Хороша ли была эта неведомая пища или нет, не могу судить. Я проголодался и на десерт проглотил до последней крупинки крутую гречневую кашу.
После обеда детишки разбежались; взрослые сели вокруг очага, в котором горел торф, хворост, коровий помет и кости сушеных рыб. Потом, обогревшись, все разошлись по своим комнатам. Хозяйка, согласно обычаю, хотела снять с нас чулки и штаны, но, получив вежливый отказ, не настаивала, и я мог наконец прикорнуть на своем жестком ложе.
На следующее утро, в пять часов, мы распростились с исландским крестьянином; дядюшка с трудом уговорил его принять приличное вознаграждение, и затем Ганс дал сигнал к отъезду.
Шагах в ста от Гардара характер местности начал меняться: почва становилась болотистой и менее удобной для езды. Справа тянулась нескончаемая цепь гор, точно возведенный самой природой ряд грозных крепостей; часто встречались потоки, через которые приходилось перебираться, стараясь не намочить багаж.
Местность становилась все пустыннее. Порою, впрочем, казалось, что вдали мелькает человеческая фигура. И когда на поворотах дороги мы внезапно оказывались лицом к лицу с одним из этих призраков, меня невольно охватывало отвращение при виде распухшей головы без волос, с лоснящейся кожей и отталкивающих ран, которые проступали под жалкими лохмотьями.
Несчастное создание не протягивало руку для приветствия, напротив, оно стремительно убегало, но Ганс все же успевал крикнуть ему свое обычное «saellvertu».
– Spetelsk, – говорил он.
– Прокаженный, – повторял дядюшка.
Уже одно это слово вызывало чувство омерзения. Эта ужасная болезнь весьма распространена в Исландии; она незаразительна, а передается по наследству, вот почему несчастным прокаженным воспрещается вступать в брак.
Эти призраки не могли, конечно, оживить печального ландшафта. Последние травы увядали у нас под ногами; не было видно ни одного деревца, кроме зарослей карликовых берез, ни единого животного, кроме нескольких лошадей, которые бродили по унылым равнинам, так как хозяева не могли их прокормить. Порою парил в серых тучах сокол, гонимый холодным ветром на юг. Я заражался грустью этой дикой природы, и воспоминания уносили меня в родные края.
Вскоре нам пришлось снова переправляться через несколько узких фьордов и, наконец, через небольшую бухту; наступивший на море отлив позволил нам, не мешкая, продолжить путь, и вскоре мы миновали деревушку Альфтанес, расположенную в миле от берега.
Перебравшись через две речки, Альфа и Хета, кишащие форелями и щуками, мы провели ночь в покинутом ветхом домишке, достойном служить обиталищем всех озорных кобольдов скандинавской мифологии; во всяком случае, злобный дух холода чувствовал себя здесь как дома и терзал нас в течение всей ночи.
Следующий день не принес нам новых впечатлений. Все та же болотистая почва, то же однообразие, тот же печальный пейзаж. К вечеру мы прошли половину пути и переночевали в «annexia» местечка Крёзольбт.
Девятнадцатого июня на протяжении мили мы шли по покровам лавы – «hraun» по-местному. Складки на их поверхности походили на якорные канаты, то вытянутые в длину, то скатанные в рулоны. Огромные потоки застывшей лавы спускались с ныне потухших вулканов, свидетельствуя об их некогда бурной деятельности.
И все же местами пробивались сквозь лаву пары горячих подземных источников. Вскоре под ногами наших лошадей снова оказалась топь вперемежку с мелкими озерами. Наш путь лежал на запад; и когда мы обогнули большой залив Факсафлоуи, раздвоенная снежная вершина Снефельс вздымалась всего в каких-нибудь пяти милях от нас. Лошади шли быстро, невзирая на плохую погоду; что касается меня, я чувствовал себя утомленным, между тем дядюшка так же крепко и прямо держался в седле, как и в первый день; я не мог не удивляться ему, равно как и нашему охотнику, который смотрел на это путешествие как на простую прогулку.
В субботу, двадцатого июня, в шесть часов вечера мы прибыли в Будир, маленькое селение, расположенное на берегу моря, и тут проводник потребовал договоренную плату. Дядюшка рассчитался с ним. Семья нашего Ганса, короче говоря, его дяди и двоюродные братья, оказала нам гостеприимство; мы были приняты радушно, и я охотно отдохнул бы у этих славных людей после утомительного переезда, не боясь злоупотребить их добротой. Но дядюшка, не нуждавшийся в отдыхе, смотрел на дело иначе, и на следующее утро пришлось снова сесть в седло. Почва носила уже следы близости гор, скалистые отроги выступали из-под земли, точно корни старого дуба. Мы огибали подножие вулкана. Профессор не спускал глаз с его конусообразной вершины; он размахивал руками, словно бросая вулкану вызов и как бы восклицая: «Вот исполин, которого я одолею».
Наконец, после четырехчасовой езды лошади сами остановились у ворот пасторского дома в Стапи.
Глава четырнадцатая
Стапи, маленькое селение хижин из тридцати, стоит посреди голого лавового поля и ничем не защищено от слепящих лучей солнца, отражаемых снежными вершинами вулкана. Небольшой фьорд, возле которого оно приютилось, зажат между базальтовыми скалами самого причудливого вида.
Базальт, принадлежащий к тяжелым горным породам вулканического происхождения, поражает в Исландии своим своеобразием. Природа поступила здесь как геометр, вооруженный угломером, циркулем и отвесом. Если повсюду на земном шаре она проявляет свое искусство в хаотическом нагромождении базальтовых глыб, в создании незавершенных конических скал и пирамид, то здесь она пожелала дать образец строгих форм и, предвосхитив мастерство архитекторов первых веков, создала сооружение, не превзойденное ни великолепием Вавилона, ни чудесным искусством Греции.
Я слыхал раньше о «Плотине Гигантов» в Исландии и о Фингаловой пещере на одном из Гебридских островов, но до сих пор мне еще не приходилось видеть базальтовых сооружений.
В Стапи я их увидел во всей красе.
Базальтовые стены по бокам фьорда, как и вдоль всего побережья полуострова, представляют собой ряд колонн тридцати футов высотой. Эти стройные, безупречных пропорций колонны поддерживают свод из горизонтально лежащих столбов, который выступает над морем в виде арки, покрытой причудливой резьбой. Кое-где на берегу глаз замечает под этим естественным «impluvium»[13 - Водостоком (лат.).] стрельчатые пролеты на редкость изящной формы, сквозь которые устремляются вспененные волны. Обломки базальта, сброшенные океаном, лежат на земле, точно развалины античного храма, – вечно юные руины, над которыми проходят века, не нарушая их величия.
Это был последний этап нашего путешествия. Ганс провел нас так умело, что я немного успокоился при мысли, что он будет сопровождать нас и далее.
Когда мы подъехали к воротам пасторского дома, представлявшего собой низкую хижину, которая была ни лучше, ни удобнее соседних, я увидал человека в кожаном фартуке и с молотком в руке, занятого ковкой лошадей.
– Saellvertu, – сказал охотник.
– God dag[14 - Здравствуйте (датск.)], – ответил кузнец на чистом датском языке.
– Kyrkoherde, – сказал Ганс, обращаясь к дядюшке.
– Приходский священник, – перевел последний. – Аксель, ты слышишь, оказывается, этот бравый человек – пастор.
Между тем проводник объяснил «kyrkoherde», в чем дело, и тот, прервав работу, издал крик, бывший, вероятно, в ходу у торговцев лошадьми. Тотчас же из домика вышла великанша, настоящая мегера, ростом без малого шесть футов.
Я боялся, что она подарит путешественников исландским поцелуем, но напрасно: она не слишком приветливо ввела нас в дом!
Комната для гостей показалась мне самой плохой во всем пасторском доме – узкой, грязной и зловонной; но пришлось ею довольствоваться. Пастор, по-видимому, вовсе не признавал старинного гостеприимства. Какое там! Уже к вечеру я понял, что мы имеем дело с кузнецом, рыбаком, охотником, плотником, а никак не с духовной особой. Правда, день был будний; возможно, что в воскресенье наш хозяин становился пастором.
Я не хочу порочить священников, которые, судя по всему, находятся в очень стесненном положении; они получают от датского правительства крайне ничтожное содержание и пользуются четвертой частью церковного десятинного сбора, что не составляет и шестидесяти марок; поэтому они вынуждены работать для пропитания. Но если приходится быть и охотником, и рыбаком, и кузнецом, то поневоле усвоишь и нравы и образ жизни охотника, рыбака, словом, людей физического труда; вечером я заметил, что нашему хозяину была незнакома и добродетель трезвости…
Дядя увидел сразу, с каким человеком он имеет дело; вместо достойного ученого он встретил грубого невежду. Тем скорее решил он покинуть негостеприимный кров и пуститься в путь.
Несмотря на усталость, дядюшка предпочел провести несколько дней в горах.
Итак, на следующий же день после нашего прибытия в Стапи начались приготовления к отъезду. Ганс нанял трех исландцев, которые должны были нести вместо лошадей наш багаж; но было решено, что, как только мы доберемся до кратера, наши провожатые будут отпущены.
По сему случаю дядюшка сообщил Гансу, что он намерен исследовать вулкан, спустившись как можно глубже в его кратер.
Ганс только кивнул головой; ему было все равно, куда идти: вперед или назад, оставаться на поверхности Земли или спускаться в ее недра. Что касается меня, то, поглощенный путевыми впечатлениями, я забыл о будущем, зато теперь мысль о предстоящих опасностях еще сильнее овладела мною. Что же делать? Если сопротивление фантазиям Лиденброка и было возможно, то в Гамбурге, а не у подножия Снефельс.
Больше всего меня терзала мысль, способная расстроить даже самые крепкие нервы.
«Мы поднимемся, – рассуждал я, – на Снефельс. Хорошо! Мы спустимся в кратер. Отлично! Другие тоже проделали это и не погибли. Но ведь тем дело не кончится! Если откроется путь в недра Земли, если злосчастный Сакнуссем сказал правду, мы погибнем в подземных ходах вулкана. Ведь мы еще не знаем наверное, что Снефельс потух, что нам не угрожает извержение! А что тогда будет с нами?»
Стоило подумать над этим, вот я и думал. Стоило мне заснуть, как начинались кошмары: мне снились извержения! А играть роль шлака казалось мне скверной шуткой.
Наконец я не выдержал: я решился поговорить с дядей на эту тему, высказав свое мнение как можно искуснее, в виде гипотезы, пусть даже нелепой.
Я подошел к дядюшке и изложил ему свои опасения в самой дипломатической форме, причем из предосторожности несколько отступил назад.
– Я уже думал об этом, – ответил он просто.
Что это значит? Неужели он внял голосу разума?
После небольшой паузы дядя продолжал:
– Я думал об этом; со времени нашего приезда в Стапи я думал над этим вопросом, ибо безрассудная смелость нам не к лицу. Вот уже пятьсот лет, как Снефельс безмолвствует, но он все же может заговорить. Извержениям, однако, всегда предшествуют определенные явления. Я расспросил жителей этой местности, исследовал почву и могу тебе сказать, Аксель, что извержения ждать не приходится.
Я был поражен этим утверждением и ничего не смог возразить.
– Ты сомневаешься? – сказал дядя. – Ну, так идем со мной!
Я машинально повиновался. Мы покинули пасторский домик, и профессор избрал дорогу, которая через проем в базальтовой стене шла в сторону моря. Вскоре мы очутились в открытом поле, если только можно так назвать огромное скопление вулканических пород. Вся эта местность казалась как бы расплющенной под ливнем гигантских камней, пепла, базальта, гранита, пироксена.
Я видел: тут и там из трещин в вулканическом грунте вырывается пар; этот белый пар, по-исландски «reykir», исходит из горячих подземных источников; он выбрасывается с такой силой, которая говорит о вулканической деятельности. Казалось, это подтверждало мои опасения. Каково же было мое изумление, когда дядюшка сказал:
– Ты видишь эти пары, Аксель? Они доказывают, что нам нечего бояться извержений.
– Как же так? – вскричал я.
– Заметь хорошенько, – продолжал профессор, – что перед извержением водяных паров становится больше, а во время извержения они исчезают. Поэтому если эти пары остаются в обычном своем состоянии, если их напор не увеличивается, если ветер и дождь не сменяются тяжелым и неподвижным состоянием атмосферы, – ты можешь с уверенностью утверждать, что в скором времени никакого извержения не будет.
– Но…
– Довольно! Когда изрекает свой приговор наука, остается только молчать.
Повесив нос, вернулся я в пасторский домик. Научные доводы дядюшки заставили меня умолкнуть. Однако оставалась еще надежда, что когда мы дойдем до дна кратера, там не окажется хода внутрь Земли и, таким образом, будет невозможно проникнуть дальше, несмотря на всех Сакнуссемов на свете.
Следующую ночь я провел в кошмарах; мне снилось, что я нахожусь внутри вулкана, в недрах Земли, а затем вместе с извержением выброшен, точно обломок скалы, в просторы вселенной.
На следующее утро, двадцать третьего июня, Ганс ожидал нас со своими товарищами, которые несли съестные припасы, инструменты и приборы. Две палки с железными наконечниками, два ружья и два патронташа были приготовлены для дяди и меня. Ганс предусмотрительно прибавил к нашему багажу кожаный мех, наполненный водой, что вдобавок к нашим флягам обеспечивало нас водою на восемь дней.
Было девять часов утра. Пастор и его мегера ожидали нас у ворот: надо думать, для того, чтобы сказать путешественникам последнее прости. Но это «прости» неожиданно вылилось в форму чудовищного счета, согласно которому даже зачумленный воздух подлежал оплате. Достойная чета общипала нас не хуже, чем это делают в отелях Швейцарии, дорого оценив свое так называемое гостеприимство.
Дядюшка заплатил не торгуясь. Пустившись в путешествие к центру Земли, не приходится думать о нескольких лишних рейхсталерах.
Когда с расчетами было покончено, Ганс дал сигнал к отправлению, и через минуту мы покинули Стапи.
Глава пятнадцатая
Высота Снефельс равняется пяти тысячам футов. Вулкан замыкает своим двойным конусом трахитовую цепь, обособленную от горной системы острова. С того места, где мы находились, не видно было на сером фоне неба обеих его остроконечных вершин. Я заметил только, что огромная снежная шапка нахлобучена на чело гиганта.
Мы шли гуськом, предшествуемые охотником за гагами; наш проводник вел нас по узким тропинкам, по которым два человека не могли идти рядом. Дорога была трудная, и мы вынуждены были шагать молча.
За базальтовой стеной фьорда Стапи начались торфяные болота, образовавшиеся из древнего растительного мира полуострова. Залежи эти столь богаты, что их хватило бы для отопления жилищ всего населения Исландии в продолжение целого столетия. Они представляют собой чередование пластов торфа с прослойками пористого туфа и нередко достигают в ширину семидесяти футов, о чем можно судить по их вертикальному разрезу со дна какой-нибудь расщелины.
Как истый племянник профессора Лиденброка, я, несмотря на свои страхи, с интересом наблюдал минералогические достопримечательности, представляемые этим огромным естественноисторическим музеем. Вместе с тем я восстанавливал в памяти и геологическую историю Исландии.
Этот удивительный остров, очевидно, поднялся из водных пучин в относительно недавнее время. Быть может, он и теперь все еще продолжает подниматься над уровнем океана. Если это так, то его возникновение можно приписать только действию подземного огня. В таком случае теория Хемфри Дэви, документ Сакнуссема, утверждения моего дядюшки – все это разлетается, как дым. Космогоническая гипотеза заставила меня тщательно исследовать природу почвы, и я тотчас же представил себе все этапы возникновения этого острова.
В отдаленную геологическую эпоху остров представлял собою сплошной горный массив, медленно поднимавшийся над поверхностью океана под действием подземных сил. Вулканов еще не существовало. Огонь еще не вырывался из их недр.
Много позже на острове образовалась огромная трещина, перерезавшая его по диагонали – с юго-запада на северо-восток, через которую стала изливаться трахитовая масса. Явление это еще не носило бурного характера. Трещина была столь велика, что расплавленное вещество, исторгнутое из недр земли, спокойно растекалось в виде обширных гладких или бугорчатых покровов. В эту эпоху появились полевой шпат, сиенит и порфир.
Но благодаря этой огненно-жидкой массе, охладившейся и затвердевшей на поверхности Земли, толща земной коры значительно увеличилась, а стало быть, возросла и сила ее сопротивления.
Образовавшийся трахитовый покров не давал больше выхода расплавленной массе, скопившейся в недрах земли. И вот настал момент, когда сила ее механического давления стала столь значительной, что земная кора приподнялась и на поверхности Земли стали возникать конусообразные возвышенности, в которых образовались глубокие ходы. Так появились вулканы, а на их вершинах впадины, так называемые кратеры.
За этими явлениями последовали явления вулканические. Сперва, через образовавшиеся выводные каналы, извергались базальтовые потоки, которые, застывая, принимали самые причудливые формы, и их замечательные образцы встречались на нашем пути. Мы ступали по базальтовым темно-серым скалам, напоминающим призмы на шестигранном основании. Вдали виднелось множество усеченных конусов, некогда бывших жерлами огнедышащих гор.
Вслед за расплавленным базальтом вулкан, активность которого вновь возросла за счет погасших кратеров, стал извергать лаву, вулканический пепел и шлак; я видел собственными глазами на его склонах их длинные застывшие потоки, похожие на разметанные пряди волос.
Такова была последовательность явлений, в результате которых возникла Исландия. Все они связаны с действием подземной огненной массы, и было бы безумием предполагать, что под земной корой отсутствуют вещества, находящиеся в состоянии плавления и кипения. И еще большим безумием было предположить, что можно достигнуть центра Земли.
Я немного успокоился относительно исхода нашего путешествия, когда мы шли на приступ Снефельс.
Дорога вела в гору, камни выскальзывали из-под ног, и все труднее становилось идти; приходилось быть крайне осторожным, чтобы не упасть.
Ганс преспокойно шествовал впереди нас, словно шел по ровному месту; иной раз он исчезал за огромными глыбами, и мы на мгновение теряли его из виду; тогда резким свистом он указывал направление, по которому мы должны были следовать. Зачастую он останавливался, подбирал обломки скал и располагал их в виде вех, по которым, возвращаясь обратно, было бы легко найти дорогу. Последующие события сделали такую предосторожность излишней.
За три часа утомительного пути мы добрались только до подножия вулкана. Ганс дал знак остановиться, и мы разделили наш скромный завтрак. Дядюшка ел торопливо, чтобы поскорее отправиться дальше; но эта передышка была предназначена также и для отдыха, и ему пришлось подчиниться проводнику, который только через час подал знак трогаться в путь. Три исландца, охотники за гагами, столь же молчаливые, как и их товарищ, не говорили ни слова и ели умеренно.
Мы уже поднимались по склонам Снефельс. Его снежная вершина вследствие оптического обмана, обычного в горах, казалась совсем близко от нас, но сколько еще часов прошло, пока мы добрались до нее! И с какими трудностями! Камни вырывались у нас из-под ног и скатывались на равнину со скоростью лавин. В некоторых местах угол наклона по отношению к горизонтальной плоскости составлял по крайней мере тридцать шесть градусов; было невозможно карабкаться по такой круче, и приходилось не без труда обходить эти места, причем мы всячески помогали друг другу. Дядюшка старался держаться как можно ближе ко мне; он не терял меня из виду, а иногда и поддерживал меня. Что касается самого дядюшки, у него, вероятно, было врожденное чувство равновесия, потому что он ни разу не споткнулся. Исландцы, хотя и нагруженные багажом, взбирались с ловкостью истых горцев. Глядя на вершину Снефельс, я считал невозможным добраться до нее по такой крутизне. К счастью, после целого часа мучительного пути перед нами неожиданно оказалась своеобразная лестница, появившаяся среди снега, покрывавшего вершину вулкана. Эта природная лестница, которая образовалась из массы выброшенных вулканом камней, очень облегчила наше восхождение. Если бы поток камней не был задержан складками почвы, он скатился бы в море, образовав новые острова. Во всяком случае, импровизированная лестница сильно помогла нам. Крутизна склонов все возрастала, но каменные ступени облегчали и ускоряли наш подъем настолько, что стоило мне на минуту отстать от своих спутников, как их фигурки, мелькавшие вдалеке, казались совсем крошечными.
К семи часам вечера, преодолев две тысячи ступеней, мы оказались на выступе горы, служившем как бы основанием для самого конуса кратера.
Море расстилалось перед нами на глубине трех тысяч двухсот футов. Мы перешли границу вечных снегов, которая в Исландии вследствие сырости климата не очень высока. Было холодно. Дул сильный ветер. Я чувствовал себя совершенно измученным. Профессор, убедившись, что мои ноги отказываются служить, решил сделать привал, несмотря на все свое нетерпение. Он дал знак охотнику, но тот покачал головой, сказав:
– Ofvanfor!
– Отказывается, – сказал дядюшка, – надо подняться еще выше.
Потом он спросил у Ганса причину такого ответа.
– Mistour, – ответил наш проводник.
– Ja, mistour, – повторил один из исландцев с явным испугом.
– Что означает это слово? – спросил я тревожно.
– Взгляни! – сказал дядюшка.
Я бросил взгляд вниз.
Огромный столб измельченных горных пород, песка и пыли поднимался, кружась, подобно смерчу; ветер относил его в ту сторону, где находились мы. Темной завесой нависал этот гигантский столб пыли, застилая собою солнце и отбрасывая тень на гору. Обрушься этот смерч на нас, мы неизбежно были бы сметены с лица земли.
Это явление, которое наблюдается довольно часто, когда ветер дует с ледников, называется по-исландски «mistour».
– Hastigt, hastigt! – кричал наш проводник.
Хотя я и не знал датского языка, но сразу понял, что нам надо следовать за Гансом, и как можно скорее. А между тем Ганс уже огибал конус кратера, но наискось, чтобы облегчить нам путь.
Вскоре смерч обрушился на гору, которая задрожала под тяжестью его удара; камни, подхваченные вихрем, сыпались, как при извержении вулкана. К. счастью, мы находились уже по другую сторону горы, а следовательно, были в безопасности. Если бы не предусмотрительность проводника, наши искалеченные тела были бы сброшены вниз, как обломки какого-нибудь метеорита.
Ганс считал, однако, неблагоразумным провести ночь на внешнем склоне горы. Мы продолжали восхождение зигзагами. Тысяча пятьсот футов, которые нам еще оставалось преодолеть, отняли у нас почти пять часов; на обходы и зигзаги пришлось по крайней мере лишних три лье. У меня больше не было сил; я изнемогал от стужи и голода. Воздуха, уже порядочно разреженного, мне не хватало. Наконец в одиннадцать часов вечера, в глубокой темноте, мы достигли вершины Снефельс, и, прежде чем укрыться во внутренности кратера, я успел взглянуть на «полуночное солнце» в низшей точке его стояния, откуда оно бросало свои бледные лучи на дремлющий у моих ног остров.
Глава шестнадцатая
Ужин был быстро съеден, и маленький отряд устроился на ночлег как мог лучше. Ложе было жесткое, крыша малонадежная, в общем, положение не из веселых. Мы находились на высоте пяти тысяч футов над уровнем моря. Однако ж мой сон в эту ночь был особенно спокоен; так хорошо мне не приходилось уже давно спать. Я даже не видел снов.
На другое утро мы проснулись полузамерзшие; было очень холодно, хотя солнце светило чрезвычайно ярко. Я встал со своего каменистого ложа, чтобы насладиться великолепным зрелищем, открывавшимся перед моими глазами.
Я находился на вершине южного конуса Снефельс. Мой взор охватывал с этой высоты большую часть острова. Благодаря обычному оптическому обману при наблюдении с большой высоты берега острова как будто приподнимались, а центральная его часть как бы западала. Казалось, что у моих ног была топографическая карта Хельбесмера. Передо мною лежали долины, пересекавшиеся во всех направлениях, пропасти казались колодцами, озера – прудами, реки – ручейками. Справа от меня тянулись бесчисленные ледники и высились горные пики; над некоторыми из них поднимались легкие клубы дыма. Волнообразные очертания нескончаемых горных кряжей, покрытых вечными снегами, словно гребни волн пеной, напоминали море во время бури. А слева, на западе, как бы являясь продолжением этих вспененных гребней, величественно раскинулся океан. Глаз едва различал границу между сушей и водой.
Я весь отдался восторженному чувству, которое испытываешь обычно на больших высотах, и уже не страдал от головокружения, потому что успел освоиться с высоким наслаждением смотреть на землю с высоты. Я забыл о том, кто я и где я! Я жил жизнью эльфов и сильфов, легендарных персонажей скандинавской мифологии. Мои восхищенные взоры тонули в прозрачном свете солнечных лучей. Я был опьянен этим зрелищем и не думал о бездне, в которую вскоре должна ввергнуть меня судьба. Но появление профессора и Ганса, отыскавших меня на вершине горного пика, вернуло меня к действительности.
Дядюшка, обратясь лицом к западу, указал мне на подернутые дымкой туманные очертания земли, выступавшие над морем.
– Гренландия, – сказал он.
– Гренландия? – воскликнул я.
– Да, мы всего на расстоянии тридцати пяти лье от нее. Во время оттепели белые медведи добираются до Исландии на льдинах, уносимых течением с севера. Но что нам до этого? Мы теперь на вершине Снефельс; вот два его пика – южный и северный. Ганс скажет нам, как по-исландски называется тот, на котором мы сейчас стоим.
Охотник ответил:
– Scartaris.
Дядюшка взглянул на меня торжествующе.
– К кратеру! – сказал он.
Кратер Снефельс представлял собою опрокинутый конус, жерло которого имеет около полулье в диаметре. Глубину же его я определил приблизительно в две тысячи футов. Можно себе вообразить, что творилось бы в этом огромном резервуаре, если бы вулкан вздумал метать свои громы и молнии. Воронка вряд ли была шире пятисот футов в окружности, и по ее довольно отлогим склонам можно было легко спуститься до дна кратера, который я невольно сравнил с жерлом гигантской пушки, и это сравнение меня напугало.
«Забраться в жерло пушки, которая, возможно, заряжена и каждую минуту может выстрелить, настоящее безумие!» – подумал я.
Но отступать было поздно. Ганс равнодушно шагал во главе нашего отряда. Я молча следовал за ним.
Чтобы облегчить спуск, Ганс описывал внутри кратера большие спирали. Приходилось идти среди крупных камней вулканического происхождения, которые иной раз обрывались от малейшего сотрясения и катились на дно пропасти. Глухое эхо сопровождало грохот их падения.
На пути встречались внутренние ледники; тогда Ганс шел с особой осторожностью, ощупывая почву палкой с железным наконечником, чтобы узнать, нет ли где расщелин. В сомнительных местах мы связывались между собой длинной веревкой, чтобы тот, кто потеряет равновесие, мог опереться на своих спутников. Предосторожность эта была необходима, но она не исключала опасностей, ожидавших нас при спуске.
Между тем, несмотря на трудности, неизвестные даже нашему проводнику, все сошло благополучно, если не считать потери связки веревок, выпавшей из рук одного из исландцев и скатившейся кратчайшим путем в пропасть.
В полдень мы оказались на дне кратера. Я взглянул вверх и в жерле вулкана, как в объективе аппарата, увидел клочок неба. Лишь в одном месте глаз различил пик Скартариса, уходящий в бесконечность.
На дне кратера находились три хода, через которые во время извержения центральный очаг вулкана извергал лаву и пары. Каждое из этих отверстий достигало в диаметре приблизительно ста футов. Их зияющие пасти разверзались у наших ног. У меня не хватило духа заглянуть в них. Профессор Лиденброк быстро исследовал расположение отверстий; он бегал, едва переводя дух, от одного к другому, размахивал руками и выкрикивал какие-то непонятные слова. Ганс и его товарищи, сидя на обломке лавы, посматривали на него, видимо, принимая его за сумасшедшего.
Вдруг дядюшка дико вскрикнул. Я подумал, что он оступился и падает в бездну. Но нет! Он стоял, раскинув руки, расставив ноги, перед гранитной скалой, возвышавшейся в середине кратера, подобно грандиозному пьедесталу статуи Плутона. Во всей позе дядюшки чувствовалось, что он до крайности изумлен, но изумление его сменилось вскоре безумной радостью.
– Аксель, Аксель! – кричал он. – Сюда, сюда!
Я поспешил к нему. Ганс и исландцы не тронулись с места.
– Взгляни, – сказал профессор.
И с тем же изумлением, но без всякой радости, я прочел на грани скалы, обращенной к западу, начертанное руническими письменами, полустертыми от времени, тысячу раз проклятое мною имя:
– Арне Сакнуссем! – воскликнул дядюшка. – Неужели ты и теперь будешь сомневаться? – обратился он ко мне.
Я ничего не ответил и в отчаянии вернулся на свою скамью из отложений лавы. Очевидность сразила меня.
Сколько времени я предавался размышлениям, не помню. Знаю только, что, подняв голову, я увидал на дне кратера только дядюшку и Ганса. Исландцы были отпущены и уже спускались по наружному склону Снефельс, возвращаясь к себе домой в Стапи.
Ганс безмятежно спал у подножия скалы, в желобе застывшей лавы, где он устроил себе импровизированное ложе; дядюшка метался внутри кратера, как зверь в волчьей яме. У меня не было ни сил, ни желания встать; и, следуя примеру проводника, я погрузился в мучительную дремоту, боясь услышать подземный гул или почувствовать сотрясение в недрах вулкана.
Так прошла первая ночь внутри кратера.
На следующее утро затянутое свинцовыми тучами небо тяжело нависло над кратером. Поразила меня не столько полная темнота, сколько бешеный гнев дядюшки. Я понял причину его ярости, и у меня мелькнула смутная надежда. И вот почему.
Из трех дорог, открывавшихся перед нами, Сакнуссем избрал один путь. По словам ученого-исландца, этот путь можно было узнать по признаку, указанному в шифре, а именно, что тень Скартариса касается края кратера в последние дни июня месяца.
Действительно, этот пик можно было уподобить стрелке гигантских солнечных часов, которая в известный день, отбрасывая свою тень на кратер, указывает путь к центру Земли. Вот почему, если не выглянет солнце, не будет и тени. А следовательно, и нужного указания! Было уже 25 июня. Если погода не изменится в течение шести дней, нам придется отложить изыскания до следующего года.
Я не могу описать бессильный гнев профессора Лиденброка. День прошел, но никакая тень не легла на дно кратера; Ганс не трогался с места, хотя его должно было удивлять, чего же мы ждем, если только он вообще был способен удивляться! Дядюшка не удостаивал меня ни единым словом. Его взоры, неизменно обращенные к небу, терялись в серой, туманной дали.
26 июня – и никаких изменений! Целый день шел мокрый снег. Ганс соорудил шалаш из обломков лавы. Я несколько развлекался, следя за тысячами импровизированных каскадов, образовавшихся на склонах кратера и с диким ревом разбивавшихся о каждый встречный камень.
Дядюшка уже больше не сдерживался. Даже более терпеливый человек при таких обстоятельствах вышел бы из себя: ведь это значило потерпеть крушение у самой гавани!
Но, по милости неба, за великими огорчениями следуют и великие радости, и профессор Лиденброк получил удовлетворение, искупившее испытанное им отчаяние.
На следующий день небо было все еще затянуто тучами; но в воскресенье, 28 июня, в предпоследний день месяца, смена лунной фазы вызвала и перемену погоды. Солнце заливало кратер потоками света. Каждый пригорок, каждая скала, каждый камень, каждая кочка получала свою долю солнечных лучей и тут же отбрасывала свою тень на землю. Тень Скартариса вырисовывалась вдали своим острым ребром и неприметно следовала за лучезарным светилом.
Дядюшка следовал по ее стопам.
В полдень, когда предметы отбрасывают самую короткую тень, знаменательная тень Скартариса слегка коснулась края среднего отверстия в кратере.
– Тут! – вскричал профессор. – Тут пролегает путь к центру земного шара! – прибавил он по-датски.
Я посмотрел на Ганса.
– For?t! – спокойно сказал проводник.
– Вперед! – повторил дядя.
Часы показывали половину второго пополудни.
Глава семнадцатая
Начиналось настоящее путешествие. До сих пор мы больше страдали от усталости, чем от трудностей пути; теперь же они будут в буквальном смысле вырастать у нас под ногами.
Я не заглядывал еще в этот бездонный колодец, в который мне предстояло спуститься. И вот этот момент настал. Я еще мог принять участие в рискованном предприятии или отказаться от него. Но мне было стыдно отступать из-за нашего проводника. Ганс так охотно соглашался участвовать в этом романтическом приключении; он был так хладнокровен, так мало думал об опасностях, что я устыдился оказаться менее храбрым, чем он. Не будь его, у меня нашлось бы множество веских доводов, но в присутствии проводника я не стал возражать; тут я вспомнил прелестную фирландку и шагнул к центральному отверстию кратера.
Как я уже сказал, оно имело сто футов в диаметре, или триста футов в окружности. Я перегнулся через скалу, над отверстием и заглянул вниз. Волосы встали у меня дыбом. Ощущение пустоты овладело всем моим существом. Я почувствовал, что центр тяжести во мне переместился, голова закружилась, точно у пьяного. Нет ничего притягательнее бездны. Я чуть не упал в нее. Чья-то рука удержала меня. То был Ганс. Положительно, мне следовало взять еще несколько «уроков по головокружению» вроде тех, что я брал в копенгагенском храме Спасителя. Хотя я только мельком увидел колодец, но все же отдал себе отчет в его внутреннем строении. В почти отвесных его стенах имелись выступы, которые должны были облегчить наш спуск. Но если и была лестница, то перила отсутствовали. Веревка, прикрепленная у края отверстия, могла бы послужить нам надежной опорой, но как отвязать ее, когда мы совершим прыжок в бездну?
Однако существовало простое средство, которое и применил дядюшка. Он взял веревку толщиной в дюйм и длиной в четыреста футов. Отмерил половину ее и сбросил вниз, а вторую половину обернул вокруг лавовой глыбы, стоящей у самого отверстия, и тоже бросил в колодец ее конец. Таким образом мы получили возможность спуститься, держась за оба конца веревки. На глубине двухсот футов можно будет удлинить веревку, отпустив один ее конец и уцепившись за другой. Этот прием можно повторять ad infinitum[15 - До бесконечности (лат.).].
– Теперь займемся багажом, – сказал дядюшка, когда все приготовления были закончены, – разделим его на три тюка, и каждый из нас привяжет себе на спину по одному тюку; я говорю только о хрупких предметах.
Очевидно, отважный профессор не относил нас к числу последних.
– Ганс, – продолжал он, – возьмет инструменты и часть съестных припасов; ты, Аксель, вторую треть съестных припасов и оружие; я – остаток провизии и приборы.
– Но кто же, – сказал я, – спустит вниз одежду, лестницу и кучу веревок?
– Они спустятся сами.
– Как так? – спросил я.
– Сейчас увидишь.
И дядюшка, недолго думая, энергично принялся за дело. По его приказу Ганс собрал в один тюк все мягкие вещи и, крепко связав его, без дальнейших церемоний сбросил в пропасть.
Я услыхал, как наш багаж, с громким свистом рассекая воздух, летел вниз. Дядюшка, нагнувшись над бездной, следил с довольным видом за путешествием своих вещей, пока не потерял их из виду.
– Хорошо, – сказал он. – А теперь очередь за нами!
Я спрашиваю любого здравомыслящего человека: можно ли слышать такое без содрогания?
Профессор взвалил себе на спину тюк с приборами, Ганс – с утварью, я – с оружием. Мы спускались в следующем порядке: впереди шел Ганс, за ним дядюшка и, наконец, я. Схождение совершалось в полном молчании, нарушаемом лишь падением камней, которые, оторвавшись от скал, с грохотом скатывались в пропасть.
Я сползал, судорожно ухватясь одной рукой за двойную веревку, а другой опираясь на палку. Единственной моей мыслью было: только бы не потерять точку опоры! Веревка казалась мне слишком тонкой, чтобы выдержать троих человек. Поэтому я пользовался ею по возможности меньше, показывая чудеса эквилибристики на выступах лавы, которые я отыскивал, нащупывая их ногой.
И когда какая-нибудь шаткая ступень попадалась под ноги Ганса, он хладнокровно говорил:
– Gif akt!
– Осторожно! – повторял дядюшка.
Через полчаса мы добрались до прочной скалы, торчавшей из стены пропасти.
Ганс потянул веревку за один конец; другой конец взвился в воздух; соскользнув со скалы, через которую веревка была перекинута, конец ее упал у наших ног, увлекая за собой камни и куски лавы, сыпавшиеся подобно дождю, или, лучше сказать, подобно смертоносному граду.
Нагнувшись над краем узкой площадки, я убедился, что дна пропасти не видно.
Мы снова пустили в ход веревку и через полчаса оказались еще на двести футов ближе к цели.
Не знаю, есть ли на свете другой геолог, столь же ненормальный, как мой дядюшка, который стал бы во время такого спуска изучать природу окружающих его геологических напластований?
Что касается меня, я мало интересовался строением земной коры; какое мне было дело до того, что представляют собою все эти плиоценовые, миоценовые, эоценовые, меловые, юрские, триасовые, каменноугольные, девонские, силурийские или первичные геологические напластования? Но профессор, по-видимому, вел наблюдения и делал заметки, так как во время одной остановки он сказал мне:
– Чем глубже я спускаюсь, тем больше крепнет моя уверенность: строение вулканических пород вполне подтверждает теорию Дэви. Мы находимся в первичных слоях, перед нами порода, в которой произошел химический процесс разложения металлов, раскалившихся и воспламенившихся при соприкосновении с воздухом и водой. Я безусловно отвергаю теорию центрального огня. Впрочем, дальше будет видно!
Все то же заключение! Понятно, что я не имел ни малейшей охоты спорить. Мое молчание было принято за согласие, и нисхождение возобновилось.
После трех часов пути я все еще не мог разглядеть дно пропасти. Взглянув вверх, я заметил, что отверстие кратера заметно уменьшилось. Стены, наклоненные внутрь кратера, постепенно смыкались. Темнота увеличивалась.
А мы спускались все глубже и глубже. Мне казалось, что звук при падении осыпавшихся камней становится более глухим, словно они ударяются о землю.
Я внимательно считал, сколько раз был повторен маневр с веревкой, а потому мог определить глубину, на которой мы находились, и время, потраченное на спуск.
Итак, маневр был повторен четырнадцать раз с промежутками по получасу. Семь часов ушло на спуск и три с половиной – на отдых, что составляло в общем десять с половиной часов. Спуск начался в час, значит, теперь было одиннадцать часов.
Глубина, на которой мы находились, равнялась двум тысячам восьмистам футам, считая четырнадцать раз по двести футов.
В это мгновение раздался голос Ганса.
– Halt! – сказал он.
Я сразу остановился, едва не наступив на голову дядюшки.
– Мы у цели, – сказал дядюшка.
– У какой цели? – спросил я.
– На дне колодца.
– Значит, нет другого прохода?
– Есть! Я вижу направо нечто вроде туннеля. Мы исследуем все это завтра. Сначала поужинаем, а потом спать.
Еще не совсем стемнело. Мы открыли мешок с провизией и поели; затем улеглись, по возможности удобнее, на ложе из камней и обломков лавы.
Когда, лежа на спине, я открыл глаза, в конце колодца – этой трубы гигантского телескопа в три тысячи футов длиной – я заметил блестящую точку.
То была звезда, – по моим соображениям, Бета в созвездии Малой Медведицы, но, видимая из такой глубины, она не мерцала.
Вскоре я заснул крепким сном.
Глава восемнадцатая
В восемь часов утра луч солнца разбудил нас. Тысячи граней лавы вбирали в себя его сияние и отражали в виде целого дождя искр.
Этой игры света было достаточно, чтобы различить окружающие предметы.
– Ну, Аксель, что ты скажешь? – воскликнул дядюшка, потирая руки. – Провел ли ты когда-нибудь такую спокойную ночь в нашем доме на Королевской улице? Тут нет ни шума тележек, ни крика продавцов, ни брани лодочников!
– О, конечно, нам весьма спокойно на дне этого колодца, но в этом спокойствии есть нечто угрожающее.
– Ну и ну! – воскликнул дядюшка. – Если ты уже трусишь, что же будет дальше? Мы еще ни на один дюйм не проникли в недра Земли!
– Как так?
– Да, мы добрались только до основания острова! Дно этого колодца в жерле кратера Снефельс находится примерно на уровне моря.
– Вы убеждены в этом?
– Вполне! Взгляни на барометр.
Действительно, ртуть, поднимавшаяся по мере того, как мы спускались, остановилась на двадцать девятом дюйме.
– Вот видишь, – продолжал профессор, – мы все еще испытываем давление в одну атмосферу, и я жду с нетерпением, когда можно будет заменить барометр манометром.
Барометр, конечно, окажется ненужным, когда атмосферное давление превысит то, которое существует на уровне океана.
– Но, – возразил я, – не следует ли опасаться, что все возрастающее давление будет трудно перенести?
– Нет! Мы спускаемся медленно, и наши легкие привыкнут дышать в более плотной атмосфере. Воздухоплавателям не хватает воздуха при подъеме в верхние слои атмосферы, а у нас, возможно, окажется его избыток. Но последнее все же лучше! Не будем же терять ни минуты. Где вещевой мешок, который мы раньше сбросили вниз?
Я вспомнил, что мы тщетно его искали накануне вечером. Дядюшка спросил об этом Ганса, а тот, поглядев вокруг своим зорким глазом охотника, ответил:
– Der huppe!
– Там, наверху!
Действительно, вещевой мешок, зацепившись за выступ скалы, повис в сотне футов над нашими головами. Ловкий исландец, как кошка, вскарабкался на скалу и вскоре сбросил нам мешок.
– А теперь, – сказал дядюшка, – позавтракаем, но позавтракаем, как люди, которым предстоит далекий путь.
Сухари и сушеное мясо мы запили несколькими глотками воды с можжевеловой водкой.
После завтрака дядюшка вынул из кармана записную книжку и, сверившись с разными приборами, записал:
Понедельник, 1 июля.
Хронометр: 9 ч. 17 м. утра.
Барометр: 29 дюймов 7линий.
Термометр: 6°.
Направление: В.-Ю.-В.
Последнее показание компаса относилось ко дну колодца.
– Теперь, Аксель, – воскликнул профессор восторженно, – мы действительно углубимся в недра земного шара! Теперь собственно и начинается наше путешествие.
Сказав это, дядюшка взял одной рукой висевший у него на шее аппарат Румкорфа, а другой соединил электрический провод со спиралью фонаря, и яркий свет рассеял мрак галереи.
Второй аппарат, который нес Ганс, был также приведен в действие. Остроумное применение электричества позволяло нам, пользуясь искусственным светом, продвигаться вперед даже среди воспламеняющихся газов.
– В дорогу! – сказал дядюшка.
Мы снова взвалили себе на спину мешки. Ганс взялся толкать перед собой тюк с одеждой и веревками, и мы все трое вступили в темный туннель. На пороге его зияющей пасти я взглянул вверх и в последний раз увидел небо Исландии, «которое, быть может, мне уже не суждено увидеть!»
Во время извержения 1229 года лава проложила себе путь через этот туннель, оставив на его стенках плотный и блестящий налет; отражаясь от его зеркальной поверхности, электрический свет усиливался во сто крат. Главная трудность пути состояла в том, чтобы не скользить слишком быстро по скату, угол наклона которого равнялся сорока пяти градусам. К счастью, некоторые выемки – следы эрозии, иные выступы служили нам ступенями, а багаж мы спускали перед собой на длинной веревке.
Но то, что служило для нас ступенями, на других поверхностях являлось сталактитами. Лава, в некоторых местах пористая, вздувалась пузырями, кристаллы кварца, усеянные стекловидными капельками, свешивались со свода, подобно люстрам, казалось, загоравшимся при нашем приближении. Можно было подумать, что подземные духи освещали свой дворец, чтобы принять посланцев Земли.
– Какое великолепие! – невольно воскликнул я. – Что за зрелище! Какие изумительные оттенки принимает лава! От красно-бурого до ярко-желтого! А эти кристаллы, похожие на светящиеся шары!
– А-а, ты теперь восхищаешься, Аксель! – ответил дядюшка. – А-а, ты находишь это зрелище великолепным, мой мальчик! Надеюсь, ты еще и не то увидишь. Идем же! Идем!
Правильнее было бы сказать: «Катимся же!», ибо мы без всякого труда скользили вниз по наклонной плоскости. То был facilis descensus Averni[16 - Легкий спуск в преисподнюю (лат).] Вергилия!
Компас, на который я частенько посматривал, постоянно указывал на юго-восток. Следовательно, поток лавы, не уклоняясь ни вправо, ни влево, все время вел нас по прямой.
Между тем температура почти не поднималась, что подтверждало теорию Дэви; я несколько раз с удивлением посматривал на термометр. Мы были в дороге уже два часа, а на нем было только 10°, иначе говоря, температура повысилась всего на 4°! Это навело меня на мысль, что мы «спускаемся» больше в горизонтальном направлении, чем в вертикальном! Впрочем, не было ничего легче узнать, на какой глубине мы находимся. Профессор исправно измерял угол наклона нашего пути, но хранил про себя результаты своих наблюдений.
В девять часов вечера он дал сигнал остановиться. Ганс тотчас же повиновался. Лампы укрепили на выступе стены. Мы находились в какой-то пещере, где не было недостатка в воздухе. Напротив! Мы чувствовали как бы дуновение ветра. Чему приписать это явление? Откуда мог появиться ветер? Я отложил разрешение этого вопроса. Голод и усталость лишили меня способности размышлять, Семь часов безостановочного пути истощили мои силы. Оклик «halt!» обрадовал меня. Ганс разложил провизию на обломке лавы, и мы поели с аппетитом. Меня все же беспокоила одна вещь: наш запас воды наполовину истощился. Дядюшка рассчитывал пополнить его из подземных источников, но мы еще ни разу их не встретили. Я обратил его внимание на это обстоятельство.
– Тебя удивляет отсутствие источников? – спросил дядюшка.
– Конечно! И больше того, беспокоит! У нас хватит воды только на пять дней.
– Успокойся, Аксель, я ручаюсь, что мы найдем воду, и даже в большем количестве, чем необходимо.
– Когда же?
– Когда выйдем из напластований лавы. Ты воображаешь, что источники могут пробиться сквозь такую толщу?
– Вероятно, этот поток лавы уходит на большую глубину. Но пока что мы, по-моему, не слишком далеко продвинулись в вертикальном направлении.
– На чем основано твое предположение?
– Ведь если бы мы намного продвинулись в глубь земной коры, температура была бы выше.
– Это по твоей теории! – ответил дядюшка. – А что показывает термометр?
– Едва пятнадцать градусов! Следовательно, с того времени, что мы идем по туннелю, температура поднялась на девять градусов.
– Ну, а вывод?
– А вывод таков! Согласно точнейшим измерениям, повышение температуры в недрах Земли равняется одному градусу на каждые сто футов. Но эта цифра может, конечно, изменяться под влиянием местных условий. Так, в Якутске, в Сибири, замечено, что повышение на один градус приходится уже на тридцать шесть футов. Все зависит, очевидно, от теплопроводности скал. Я прибавлю, что вблизи потухшего вулкана повышение температуры в один градус приходится лишь на сто двадцать пять футов. Примем последнюю цифру, как наиболее благоприятную, и вычислим.
– Вычисляй, мой мальчик!
– Это нетрудно, – сказал я, набрасывая цифры в записной книжке. – Девять раз сто двадцать пять дает тысячу сто двадцать пять футов.
– Правильно.
– Так что же?
– А то, что, по моим наблюдениям, мы уже находимся на глубине десяти тысяч футов ниже уровня моря.
– Не может быть!
– Именно так! Или цифры утратили всякий смысл.
Вычисления профессора оказались правильными; мы спустились уже на шесть тысяч футов глубже, чем это когда-либо удавалось человеку, например, в Кицбальских копях в Тироле и Вюттембергских в Богемии.
Температура, которая должна была дойти там до восьмидесяти одного градуса, едва поднялась до пятнадцати. Над этим стоило поразмыслить.
Глава девятнадцатая
На следующий день, во вторник, 30 июня, в шесть часов утра мы вновь пустились в путь.
Мы все еще шли по лавовой галерее, которая теперь полого вела вниз, как те деревянные настилы, что и поныне заменяют лестницы в некоторых старинных домах. Так продолжалось до семнадцати минут первого, когда мы нагнали Ганса, опередившего нас.
– А-а! – воскликнул дядя. – Мы в самом конце трубы.
Я огляделся. Мы находились у перекрестка, от которого вели два пути, оба темных и узких. Какой из них следовало избрать? Вот в чем состояла загадка!
Однако дядюшка, не желавший обнаруживать своих колебаний ни передо мной, ни перед проводником, решительно указал на восточный туннель, в который мы тотчас же вошли.
Впрочем, раздумье при выборе пути могло продолжаться очень долго, ибо не было ни малейшего указания, могущего склонить дядюшку в пользу того или другого хода; приходилось буквально идти наугад.
Наклон в этой новой галерее был едва ощутим, и сама она то расширялась, то суживалась. Иногда перед нами возникала вереница арок, напоминающая неф готического собора. Зодчие средневековья могли бы изучать здесь все виды этой архитектуры, в основе которой лежит стрельчатая арка. Следующую милю нам пришлось идти, нагнув головы под низкими сводами романского стиля и толстыми пилястрами, наклонно вросшими в стены галереи. А в иных местах все это великолепие сменялось сооружениями, похожими на жилища бобров, и мы пробирались уже ползком по их узким ходам.
Температура была сносной, и я невольно подумал, какая нестерпимая жара стояла здесь, когда огненные потоки лавы, извергаемой Снефельс, неслись по этой столь мирной ныне галерее. Я представил себе, как они разбивались о колонны, как горячие пары скоплялись в этих узких проходах.
«Только бы не пришла древнему вулкану фантазия вспомнить былое!» – подумал я.
Впрочем, я не делился с дядюшкой Лиденброком своими мыслями, да он и не понял бы их. Его единственным стремлением было: идти вперед и вперед! Он шел, скользил, даже падал, преисполненный уверенности, которая невольно вызывала удивление.
К шести часам вечера, не слишком утомившись, мы прошли два лье в южном направлении и меньше четверти мили в глубину.
Дядюшка дал знак остановиться и отдохнуть. Мы поели, не обмолвившись ни единым словом, и заснули без долгих размышлений.
Наши приготовления на ночь были весьма несложны; дорожное одеяло, в которое каждый из нас закутывался, составляло всю нашу постель. Нам нечего было бояться ни холода, ни нежданных посетителей. В пустынях Африки или в лесах Нового Света путешественникам приходится вечно быть настороже. Тут – совершенное одиночество и полнейшая безопасность. Нечего было опасаться ни дикарей, ни хищных зверей, ни злоумышленников!
Утром мы проснулись бодрые, отдохнувшие! И снова двинулись в путь. Мы шли, как и накануне, по тому же грунту затвердевшей лавы. Строение почвы под лавовым покровом невозможно было определить. Туннель не углублялся больше в недра Земли, но постепенно принимал горизонтальное направление. Мне показалось даже, что наш путь ведет к поверхности Земли. К десяти часам утра, в этом нельзя было сомневаться, стало труднее идти, и я начал отставать от спутников.
– В чем дело, Аксель? – спросил нетерпеливо профессор.
– Я не могу идти быстрее, – ответил я.
– Что? Всего каких-нибудь три часа ходьбы по столь легкой дороге!
– Легкой, пожалуй, но все же утомительной.
– Но ведь мы же спускаемся!
– Поднимаемся! Не в обиду вам будь сказано!
– Поднимаемся? – переспросил дядя, пожимая плечами.
– Конечно! Вот уже полчаса как наклон грунта изменился, и, если так будет продолжаться, мы непременно вернемся на землю Исландии.
Профессор покачал головой, давая понять, что он не хочет ничего слышать. Я пытался привести новые доводы. Дядюшка упорно молчал и дал сигнал собираться в дороту. Я понял, что его молчание вызвано дурным расположением духа.
Все же я мужественно взвалил на спину свою тяжелую ношу и быстрым шагом последовал за Гансом, который шел впереди дядюшки. Я боялся отстать. Моей главной заботой было не терять из виду спутников. Я содрогался от ужаса при мысли заблудиться в этом лабиринте.
Впрочем, если восходящий путь и был утомительнее, все же я утешался мыслью, что он вел нас на поверхность Земли, вселяя в мое сердце надежду. Каждый шаг подтверждал мою догадку, и меня окрыляла мысль, что я снова увижу милую Гретхен.
Около полудня вид галереи изменился. Я заметил это по отражению электрического света от ее стен. Вместо лавы своды состояли теперь из пластов осадочных пород, расположенных наклонно к горизонтальной плоскости, а зачастую и вертикально. Мы оказались в силурийском периоде.
– Это же яснее ясного! – воскликнул я. – Осадочные породы, как то: сланцы, известняки и песчаники, – относятся к древней палеозойской эре в истории Земли! Мы теперь удаляемся от гранитного массива. Выходит, что мы поступаем, точно гамбуржцы, которые поехали бы в Любек через Ганновер.
Мне следовало бы держать свои наблюдения про себя. Но мой пыл геолога одержал верх над благоразумием, и дядюшка Лиденброк услышал мои восклицания.
– Что случилось? – спросил он.
– Смотрите, – ответил я, указывая ему на пласты слоистых песчано-глинистых и известковых масс, в которых виднелись вкрапления шиферного сланца.
– Ну, и что же?
– Это означает, что мы дошли до того периода, когда появились первые растения и животные.
– А-а, ты так думаешь?
– Да взгляните же, исследуйте, понаблюдайте!
Я заставил профессора направить лампу на стены галереи, ожидая от него обычных в таких случаях восклицаний, но он, не сказав ни слова, пошел дальше.
Понял ли он меня или нет? Или он, как мой дядя и как ученый, не хотел сознаться из самолюбивой гордости, что он ошибся, избрав восточный туннель, или же намеревался исследовать до конца этот ход? Было очевидно, что мы вышли из лавовой галереи и что по этому пути нам не добраться до очага Снефельс.
Все же у меня возникло сомнение, не придал ли я слишком большого значения своим наблюдениям? Не заблуждался ли я сам? Действительно ли мы находимся среди пластов, лежащих над гранитным массивом?
«Если я прав, – думал я, – то должен найти остатки органической жизни, и перед такой очевидностью дяде придется сдаться. Итак, поищем!»
Не прошел я и ста шагов, как мне представились неопровержимые того доказательства. В самом деле, в силурийский период в морях обитало свыше тысячи пятисот растительных и животных видов. Мои ноги, ступавшие до сих пор по затвердевшей лаве, ощутили под собою мягкий грунт, образовавшийся из древних растений и раковин. На стенах ясно виднелись отпечатки морских водорослей – фукусов и ликоподий. Профессор Лиденброк, закрыв на все глаза, шел вперед все тем же ровным шагом.
Упрямство его перешло все границы. Я не выдержал. Подняв раковину, вполне сохранившуюся, принадлежавшую животному, немного похожему на нынешнюю мокрицу, и подойдя к дядюшке, я сказал ему:
– Взгляните!
– Превосходно! – ответил он спокойно. – Это редкий экземпляр вымершего еще в древние времена низшего животного, принадлежавшего к классу трилобитов. Только и всего!
– Но не заключаете ли вы из этого?..
– То же, что заключаешь и ты сам? Разумеется! Мы вышли из зоны гранитных массивов и лавовых потоков. Возможно, что я избрал неверный путь, но я удостоверюсь в своей ошибке лишь тогда, когда мы дойдем до конца этой галереи.
– Вы поступаете правильно, дорогой дядюшка, и я одобрил бы вас, если бы не боялся угрожающей нам опасности.
– Какой именно?
– Недостатка воды.
– Ну что ж! Уменьшим порции, Аксель.
Глава двадцатая
В самом деле, воду пришлось экономить. Нашего запаса могло хватить только на три дня; в этом я убедился за ужином. А между тем мы потеряли всякую надежду встретить источник в этих пластах переходной эпохи. Весь следующий день мы шли под бесконечными арочными перекрытиями, шли, лишь изредка обмениваясь словом. Молчаливость Ганса передалась и нам.
Подъем в гору почти не чувствовался. Порою даже казалось, что мы спускаемся, а не поднимаемся. Последнее обстоятельство, впрочем, едва ощутимое, не обескураживало профессора, хотя структура почвы не менялась и все признаки переходного периода были налицо.
Сланец, известняк и древний красный песчаник ослепительно сверкали при электрическом свете. Казалось, что находишься в копях Девоншира, который и дал свое название этой геологической системе. Стены галереи являли великолепные образцы мрамора, от серовато-коричневого, как агат, с белыми прожилками причудливого рисунка, до алого или желтого с красными вкраплениями; были тут и образцы темного мрамора, оживляемого игрою ярких красок благодаря присутствию в нем известняков. В большинстве этих образцов мрамора встречались отпечатки низших животных. По сравнению с тем, что мы видели накануне, в творчестве природы намечался явный прогресс; вместо рудиментарных трилобитов я обнаружил остатки более совершенных видов, в частности, ганоидных рыб и зароптерисов, в которых глаз палеонтолога мог обнаружить начальные формы пресмыкающихся. Моря девонского периода были богаты животными этого вида. Множество их отложений встречается в горных породах новейшего периода.
Очевидно, перед нами проходила картина животного мира от низшей до высшей его ступени, на которой стоит человек. Но профессор Лиденброк, казалось, не обращал на окружающее никакого внимания.
Он ожидал одного из двух: или разверстого у его ног отверстия колодца, в который он мог бы спуститься, или препятствия, которое преградило бы ему дальнейший путь. Но наступил вечер, а надежды дядюшки были по-прежнему тщетны.
В пятницу, после мучительной ночи, истомленный жаждой, наш маленький отряд снова пустился в скитания по подземному лабиринту.
Мы шли уже два часа, когда я заметил, что отблеск наших ламп на стенах галереи стал значительно слабее. Мрамор, сланец, известняк, песчаник уступили место темному и тусклому покрову. Там, где туннель особенно сузился, я коснулся рукой его стены. Когда я посмотрел на руку, она оказалась черной, Я вгляделся внимательнее. Рука была испачкана каменноугольной пылью.
– Каменноугольные копи! – воскликнул я.
– Копи без рудокопов, – ответил дядюшка.
– Ну, кто знает!
– Я-то знаю! – сухо возразил профессор. – Я твердо убежден, что эта галерея, проложенная в каменноугольных пластах, не дело рук человеческих. Остальное меня мало интересует. Время ужинать. Давайте-ка поужинаем!
Ганс приготовил ужин. Я ел мало и выпил несколько капель воды, составлявших мою порцию. Фляга, которую нес проводник, была лишь наполовину полна; вот все, что осталось у нас для утоления жажды троих человек!
Поужинав, мои спутники растянулись на своих одеялах, черпая отдых в живительном сне. Но я не мог заснуть; я отсчитывал часы до самого утра.
В субботу, в шесть часов утра, мы двинулись дальше. Через двадцать минут мы оказались в большой пещере; я тотчас же понял, что эта «каменноугольная копь» не была сделана рукой человека: ведь иначе своды были бы снабжены подпорками, а здесь они держались лишь каким-то чудом.
Эта своеобразная пещера имела сто футов в ширину и полтораста в вышину. Очевидно, твердые пласты, уступая мощному подземному давлению, сдвинулись с места, образовав это огромное пустое пространство, в которое впервые проникли ныне обитатели Земли.
Вся история каменноугольного периода была начертана на этих темных стенах, по которым геолог мог бы легко проследить различные ее фазы. Как я заметил, угольные пласты чередовались со слоями песчаника и глины и казались сплющенными под верхними наслоениями.
В этот период, предшествовавший образованию вторичных пород, Земля покрылась чрезвычайно богатой растительностью под двойным действием тропической жары и водяных паров. Пары эти окружали весь сфероид и застилали свет солнца.
Отсюда и было сделано заключение, что причина высокой температуры кроется вовсе не в этом источнике тепла и света. Возможно, что в ту эпоху наше дневное светило еще не было в состоянии играть свою благотворную роль. Разделения на климаты тоже не существовало, и одинаково жарко было как у полюсов, так и на экваторе. Откуда же исходил этот жар? Из недр земного шара.
Вопреки теориям профессора Лиденброка внутри Земли таился вечный огонь, и его тепло чувствовалось даже в верхних слоях земной коры. Растения, лишенные благодатных лучей солнца, не имели ни цветов, ни аромата, и корни их черпали свою силу лишь в горячей почве первозданного мира.
Деревья встречались редко, и земную поверхность покрывали только травянистые растения: папоротники, ликоподии, сигиллярии, астерофиллиты – редкие ныне семейства, виды которых насчитывались тогда тысячами.
Этой обильной растительности и обязан своим возникновением каменный уголь. Под влиянием находившейся под ней жидкой массы в еще не вполне отвердевшей земной коре образовались многочисленные трещины и провалы, постепенно наполнившиеся водой. Из погрузившихся в нее растений и образовались с течением времени крупные залежи каменного угля.
Тут в действие вступили естественные химические силы. Растительные залежи на дне морей превратились сначала в торф. Затем, под влиянием газов и брожения, произошла полная минерализация органической массы.
Так образовались мощные пласты каменного угля, которые могут истощиться в течение трех столетий из-за чрезмерного потребления угля, если только промышленность заранее не примет необходимых мер.
Так думал я, обозревая угольные богатства, собранные в этом участке земных недр, которые, конечно, никогда не будут разработаны, ибо это потребовало бы слишком больших затрат. Да и какая в том надобность, если уголь еще можно добывать в стольких странах у самой поверхности земли? Стало быть, пласты эти так и останутся нетронутыми, покуда не пробьет последний час нашей планеты.
А мы все шли и шли. Увлеченный своими геологическими наблюдениями, я не замечал времени. Температура явно осталась такой же, как и во время нашего пути среди пластов лавы и сланцев. Чувствовался сильный запах углеводорода. Я сразу понял, что в этой галерее скопилось значительное количество опасного так называемого рудничного газа, столь часто являющегося причиной страшных бедствий.
К счастью, у нас был остроумный прибор Румкорфа. Имей мы неосторожность осматривать эту галерею с факелом в руке, мощный взрыв положил бы конец нашему существованию.
Наше путешествие по угольной копи длилось вплоть до вечера. Дядюшка едва сдерживал свое нетерпение, – он никак не мог примириться с горизонтальным направлением нашего пути. Мрак, столь глубокий, что в двадцати шагах ничего не было видно, мешал определить длину галереи, и мне уже начало казаться, что она бесконечна, как вдруг, в шесть часов, мы очутились перед стеной. Не было хода ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Мы попали в тупик.
– Тем лучше! – воскликнул дядюшка. – Я знаю теперь, что нам делать. Мы сбились с маршрута Сакнуссема, и нам остается только вернуться назад. Отдохнем за ночь, и не пройдет трех дней, как мы снова будем у того места, где большая галерея разветвляется надвое.
– Да, – сказал я, – если у нас хватит сил!
– А отчего же нет?
– От тото, что завтра у нас не останется и капли воды.
– И ни капли мужества? – сказал профессор, строго взглянув на меня.
Я не осмелился возражать.
Глава двадцать первая
На следующий день, на рассвете, мы пошли обратно. Необходимо было спешить. Мы находились в пяти днях пути от перекрестка.
Я не буду распространяться о трудностях нашего возвращения. Дядюшка выносил все тяготы, внутренне негодуя, как человек, вынужденный покориться необходимости; Ганс относился ко всему с покорностью, свойственной его невозмутимому характеру. А я, должен сознаться в этом, предавался отчаянию; терял всякую бодрость перед лицом такой неудачи.
Как уже упомянуто, вода у нас кончилась к исходу первого дня пути. Нам приходилось для утоления жажды довольствоваться можжевеловой водкой; но этот адский напиток обжигал горло, и один его вид вызывал у меня отвращение. Воздух казался мне удушливым. Я выбился из сил. Порою я готов был лишиться чувств. Тогда делали привал. Дядюшка с исландцем старались ободрить меня. Но я заметил, что сам дядюшка изнемогает от мучительной жажды и усталости.
Наконец, во вторник, 8 июля, ползком, на четвереньках, мы добрались, полумертвые, до скрещения двух галерей. Там я без сил свалился на землю. Было десять часов утра.
Ганс и дядюшка напрасно пытались заставить меня съесть немного сухарей. С моих распухших губ срывались протяжные стоны. Я впал в полузабытье.
Вскоре дядюшка подошел ко мне и, приподняв меня на руках, прошептал с искренней жалостью:
– Бедный мальчик!
Слова эти тронули меня, ведь суровый профессор не баловал меня нежностями. Я схватил его дрожащие руки. Он не отдернул их и посмотрел на меня. На его глазах были слезы.
Затем он взял висевшую у него сбоку фляту и, к моему великому удивлению, поднес ее к моим губам.
– Пей, – сказал он.
Не ослышался ли я? Не сошел ли дядюшка с ума? Я посмотрел на него пристально. Я ничего не понимал.
– Пей, – повторил он.
И, взяв флягу, он вылил мне в рот всю воду, какая оставалась в ней.
Какое наслаждение! Глоток воды освежил мой воспаленный рот. Всего один глоток, но его было достаточно, чтобы оживить меня.
Я горячо поблагодарил дядюшку.
– Да, – сказал он, – последняя капля воды! Понимаешь ли ты? Последняя! Я бережно хранил ее в моей фляге. Двадцать раз, сто раз боролся я с желанием выпить остаток воды! Но, Аксель, я хранил эту воду для тебя!
– Милый дядя! – лепетал я, и слезы текли по моим щекам.
– Да, бедняжка, я знал, что, добравшись до этого перекрестка, ты упадешь полумертвый, и сохранил последние капли воды, чтобы оживить тебя.
– Благодарю, благодарю! – воскликнул я.
Как ни скупо была утолена моя жажда, я все же почувствовал некий подъем сил. Мышцы моей гортани, судорожно сведенные, разошлись, сухость губ уменьшилась. Я мог говорить.
– Видите, – сказал я, – у нас нет теперь иного выбора! Вода кончилась. Надо вернуться на землю.
Пока я говорил, дядюшка избегал моего взгляда; он опустил голову, отвел глаза в сторону…
– Надо вернуться! – повторил я. – Надо идти обратно в сторону Снефельс, если только господь бог даст нам сил добраться до вершины кратера!
– Вернуться! – проговорил дядюшка, как бы отвечая на собственные мысли.
– Да, вернуться, и не теряя ни минуты.
Последовало довольно долгое молчание.
– Итак, Аксель, – продолжал профессор каким-то странным тоном, – несколько капель воды не вернули тебе ни мужества, ни энергии?
– Мужества?!
– Я вижу, что ты столь же малодушен, как и прежде, и слышу от тебя все те же слова отчаяния!
С каким же человеком я имел дело и какие планы все еще лелеял его дерзкий ум?
– Как, вы не хотите?..
– Отказаться от предприятия в тот момент, когда все указывает на то, что оно может удаться? Никогда!
– Так, значит, нам надо идти на верную гибель?
– Нет, Аксель, нет! Возвращайся на землю! Я не хочу твоей смерти! Пусть Ганс проводит тебя. Оставь меня одного!
– Покинуть вас!
– Оставь меня, говорю я тебе! Я предпринял это путешествие. Я доведу его до конца или не вернусь вовсе… Ступай, Аксель, ступай!
Дядюшка говорил с величайшим раздражением. Его голос, на минуту смягчившийся, снова сделался резким, угрожающим. Он с мрачной энергией хотел одолеть неодолимое! Я не мог покинуть его в глубине этой бездны, а, с другой стороны, чувство самосохранения побуждало меня бежать от него.
Проводник понимал, что происходит между нами. Наша жестикуляция указывала достаточно ясно, что спор шел о выборе дороги и что каждый настаивал на своем; но Ганс, казалось, выказывал мало интереса к вопросу, от которого зависела его собственная жизнь; он был готов по знаку своего господина уйти или остаться.
Как же мне объясниться с ним?! Мои слова, мои стенания, самые интонации моего голоса не оказывали влияния на эту холодную натуру. Я хотел внушить нашему проводнику, показать ему со всей ясностью, какая опасность нам грозит. Вдвоем мы, пожалуй, могли бы образумить упрямого профессора и принудить его вернуться. В случае надобности мы заставим его вернуться на вершину Снефельс!
Я подошел к Гансу и коснулся его руки. Он был недвижим. Я указал ему на жерло кратера. Он и пальцем не пошевелил. На моем лице можно было прочитать все мои страдания. Исландец покачал головой и спокойно указал на дядюшку.
– Master! – сказал он.
– Господин? – вскричал я. – Он безумец! Нет, он не господин твоей жизни! Надо бежать! Надо насильно увести его! Слышишь? Понимаешь ли ты меня?
Я схватил Ганса за руку. Я пытался его поднять. Я боролся с ним. Тут вмешался дядюшка.
– Успокойся, Аксель, – сказал он. – Ты ничего не добьешься от этого непоколебимого человека. Выслушай, что я хочу тебе предложить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71134012?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Формат издания в
/
бумажного листа.
2
Туаз равен 1,949 м.
3
Местность близ Гамбурга.
4
Один – в скандинавской мифологии высший из богов.
5
Календы – так римляне называли первые дни каждого месяца.
6
Корвет «Поиски» был отправлен в 1835 году адмиралом. Дюперрэ для розыска судна «Лилианка» с экспедицией де Блоссевиля, пропавшей без вести. – Примеч. автора.
7
«Смело двинемся в путь, куда поведет нас фортуна» (лат).
8
По современным данным, площадь Исландии равна 103 тыс. км
.
9
Жилище исландского крестьянина. – Примеч. автора.
10
Там (датск.).
11
Долго? (датск.)
12
Да (датск.).
13
Водостоком (лат.).
14
Здравствуйте (датск.)
15
До бесконечности (лат.).
16
Легкий спуск в преисподнюю (лат).
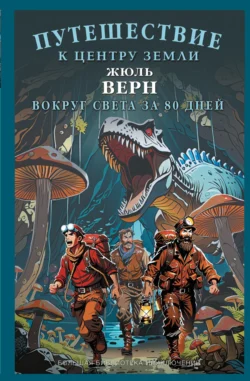
Жюль Верн
Тип: электронная книга
Жанр: Научная фантастика
Язык: на русском языке
Издательство: АСТ
Дата публикации: 27.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Путешествие к центру Земли» – один из самых популярных романов Жюля Верна, неоднократно экранизированный. Написанная с тонким юмором, необычайно увлекательная история эксцентричного немецкого профессора минералогии Отто Лиденброка и его многострадального юного племянника и ассистента Акселя, расшифровавших манускрипт таинственного средневекового исландского алхимика и отправившихся, согласно указаниям этой рукописи, в полное немыслимых приключений странствие по земным недрам, способна и сейчас покорить воображение даже самого искушенного поклонника фантастики.