Анна Иоанновна
Анна Иоанновна
Николай Иванович Павленко
Собиратели Земли Русской
Книга известного историка Николая Павленко посвящена десятилетнему правлению (1730–1740 гг.) императрицы Анны Иоанновны. Автор талантливо и скрупулезно описывает этот период «немецкого засилья» в России через биографии главных действующих лиц эпохи – Бирона, Остермана, Миниха, Волынского и других. Для более точного воссоздания образа императрицы и ее сподвижников историк привлекает большое количество документальных источников, включая архивные материалы, многие из которых приводятся впервые.
На вопрос, была ли в России бироновщина, Н.И. Павленко дает положительный ответ. Не случайно современники называли Бирона «некоронованным правителем России».
В настоящее издание также включен полный текст романа И.И. Лажечникова «Ледяной дом» – классического произведения русской литературы, по которому многие поколения россиян составляли собственное представление об аннинской эпохе в отечественной истории.
Проект «Собиратели Земли Русской» реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии «Единая Россия».
Николай Павленко
Анна Иоанновна
© Павленко Н.И., 2002
© Павленко Н.И., наследник, 2022
© Российское военно-историческое общество, 2022
© Оформление. ООО «Проспект», 2022
Предисловие к серии
Дорогой читатель!
Мы с Вами живем в стране, протянувшейся от Тихого океана до Балтийского моря, от льдов Арктики до субтропиков Черного моря. На этих необозримых пространствах текут полноводные реки, высятся горные хребты, широко раскинулись поля, степи, долины и тысячи километров бескрайнего моря тайги.
Это – Россия, самая большая страна на Земле, наша прекрасная Родина.
Выдающиеся руководители более чем тысячелетнего русского государства – великие князья, цари и императоры – будучи абсолютно разными по образу мышления и стилю правления, вошли в историю как «собиратели Земли Русской». И это не случайно. История России – это история собирания земель. Это не история завоеваний.
Родившись на открытых равнинных пространствах, русское государство не имело естественной географической защиты. Расширение его границ стало единственной возможностью сохранения и развития нашей цивилизации.
Русь издревле становилась объектом опустошающих вторжений. Бывали времена, когда значительные территории исторической России оказывались под властью чужеземных захватчиков.
Восстановление исторической справедливости, воссоединение в границах единой страны оставалось и по сей день остается нашей подлинной национальной идеей. Этой идеей были проникнуты и миллионы простых людей, и те, кто вершил политику государства. Это объединяло и продолжает объединять всех.
И, конечно, одного ума, прозорливости и воли правителей для формирования на протяжении многих веков русского государства как евразийской общности народов было недостаточно. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим предкам – выдающимся государственным деятелям, офицерам, дипломатам, деятелям культуры, а также миллионам, сотням миллионов простых тружеников. Их стойкость, мужество, предприимчивость, личная инициатива и есть исторический фундамент, уникальный генетический код российского народа. Их самоотверженным трудом, силой духа и твердостью характера строились дороги и города, двигался научно-технический прогресс, развивалась культура, защищались от иноземных вторжений границы.
Многократно предпринимались попытки остановить рост русского государства, подчинить и разрушить его. Но наш народ во все времена умел собраться и дать отпор захватчикам. В народной памяти навсегда останутся Ледовое побоище и Куликовская битва, Полтава, Бородино и Сталинград – символы несокрушимого мужества наших воинов при защите своего Отечества.
Народная память хранит имена тех, кто своими ратными подвигами, трудами и походами расширял и защищал просторы родной земли. О них и рассказывает это многотомное издание.
В. Мединский, Б. Грызлов
Предисловие к книге Н.И. Павленко «Анна Иоанновна»
XVIII столетие занимает особое место в российской истории. Во-первых, это первый век русского Нового времени. Средневековая традиционная Московия уступила место великой европейской державе – Российской империи. Правда, статус Империи за Россией и императорский титул за ее монархами был признан не сразу, но благодаря успешной внешней политики середины – второй половины XVIII века это стало данностью.
В целом XVIII век оказался для нашей страны успешным во всех областях: в экономике, развитии общества, особенно его дворянской и городской части, в совершенствовании системы государственного управления. Но это не снимало противоречивости XVIII столетия для России. В своем внутреннем развитии страна укрепляла потенциал старой крепостнической системы. Крепостное право, окончательную победу которого фиксировало Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., при Петре I стало быстро развиваться вглубь и вширь. В эпоху, когда в западноевропейских странах почти повсеместно были освобождены крепостные крестьяне, сельское производство давно было втянуто в товарно-денежные отношения, а параллельно шло бурное развитие буржуазной мануфактурной промышленности, основанной на найме свободных рабочих рук, в Петровской России возник феномен крепостной мануфактуры, основанной на дешевом труде посессионных и приписных крестьян. Это явилось следствием самого простого для государства способа мобилизации наличных людских и хозяйственных ресурсов для удовлетворения нужд армии в долгой Северной войне, которую Петровская Россия вела с 1700 по 1721 год с целью не только вернуть выход к Финскому заливу, потерянный в Смутное время, но и расширить свое присутствие на Балтике за счет отвоевания у Швеции ее прибалтийских колоний Эстляндии и Лифляндии. Некогда они составляли Ливонскую конфедерацию, подчинить которую России пытался еще Иван Грозный в Ливонской войне 1558–1583 гг. Петр I решил эту задачу, мобилизовав все людские и экономические возможности России, но не за счет их модернизации, а используя расширение крепостного права, увеличивая налоговый пресс и работы тяглого населения, увеличив интенсивность бессрочной, как прежде, службы боярской аристократии, дворян и сынов боярских, из которых первый русский император начал формирование консолидированного дворянского сословия. При Петре его чаще именовали на польско-литовский манер «шляхетством». Петр продолжил прежнюю политику заимствования западных экономических, административных, культурных и прежде всего военных и технических новшеств. Такая «поверхностная европеизация» шла со времени правления Ивана III (1462–1505), но в царствование Петра I (1682–1725) масштабы европеизации России возросли в разы. Также были заложены предпосылки модернизации в области создания светского образования и начала развития в России наук.
В. А. Серов. Петр I. 1907. Государственная Третьяковская галерея
Между тем внутренней сутью мирового Нового времени явился процесс модернизации, перехода человечества от средневековых социокультурных моделей к эпохе индустриальной цивилизации (модерна). Раньше всего такое движение начало западноевропейское общество в конце XV в. и в XVI в. Торговля внутренняя и торговля внешняя, особенно морская, стала двигателем хозяйственных новшеств и достижений, привела к открытию Нового Света и другим великим географическим открытиям, технический прогресс и развитие науки стали отличительными чертами эпохи модернизации. Пороховая и военная революция в корне изменила армии стран Запада Европы, обеспечив их преимущество над войсками восточных держав. И в XVII–XVIII вв. как-то почти мгновенно для исторического времени великие азиатские империи – Персия, Индия, Китай – стали превращаться в объект торговой, а потом и колониальной экспансии быстро развивающихся европейских государств. Иными словами, кто «застрял» в Средневековье, тот к концу европейского Нового времени (1914 г.) оказался колонией или полуколонией европейских стран.
Россия не только не разделила судьбу восточных исполинов, но сама к 1914 году была одной из крупнейших в мире обладательницей колониальных владений. XVIII век здесь сыграл решающую роль, причем не только Петровская эпоха, а также укрепление внутренних и внешнеполитических начинаний Петра во второй четверти и второй половине XVIII века. Постпетровское время четко делится на эпоху 1725–1762 годов, удачно названную классиком отечественной исторической науки В. О. Ключевским «Эпохой дворцовых переворотов», и правление Екатерины II (1762–1796).
Представленная вниманию читателя книга известного отечественного ученого Николая Ивановича Павленко «Анна Иоанновна» рассказывает как раз об одном из самых противоречивых царствований эпохи дворцовых переворотов – царствовании императрицы Анны (1730–1740). Противоречивым это время было не только в силу укрепления крепостного права, не имеющего никакого отношения к модернизации экономики России, но при этом позволяющего наращивать сельскохозяйственное производство и промышленные товары (по выплавке металлов Россия вышла на второе место в мире, обогнав Англию и догоняя Швецию), но еще и потому, что европеизация жизни дворянской элиты, становление европейского военного образования и развитие Санкт-Петербургской Академии наук и художеств шло полным ходом.
Кроме того, царствованию Анны Иоанновны современники и историки дают часто прямо противоположные оценки. Одним современникам это правление показалось временем строгих, но «правильных» порядков. А. С. Пушкин в «Капитанской дочке» в уста отца Петруши Гринева вкладывает именно такое в целом позитивное отношение к царствованию Анны и той «прямой службе», которую несли в армейских полках и в гвардии дворяне. Для других воспоминания о правлении суровой племянницы Петра Анны Иоанновны это время злодейств Тайной канцелярии и «засилья немцев» на высоких государственных должностях.
Среди историков, особенно в ХХ в., за эпохой дворцовых переворотов закрепилось мнение, что это некое «безвременье» между двумя великими царствованиями Петра I и Екатерины II. Ну а царствование Анны Иоанновны – это чуть ли не самая мрачная пора эпохи дворцовых переворотов, когда шпионы «лежали на ухе» всесильного фаворита императрицы Эрнеста Иоганна Бирона, который и был теневым правителем России.
Надо сказать, что куда более сдержанное в оценках описание этого царствования мы находим у С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. Хотя они и употребляли термин «бироновщина», но вовсе не считали Бирона главой некой «немецкой партии», показывали противоречия, разделявшие обер-камергера двора Анны Бирона с кабинет-министром Андреем Ивановичем Остерманом, сподвижником Петра I, и с другим выдвиженцем петровской эпохи главой Военной коллегии Минихом. В исследованиях многих современных историков Бирон утрачивает черты «злого гения» эпохи, а само царствование Анны вместе с эпохой дворцовых переворотов предстает отнюдь не «безвременьем», а важным этапом необходимого восстановления сил России после бурных лет беспрерывных войн и преобразований царствования Петра I, укрепившей внешнеполитические достижения первой четверти XVIII в. и одержавшей новые внешние победы.
Беннер Ж. Портрет императрицы Анны Иоанновны.
1817–1821. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Н. И. Павленко принадлежит к той части историков, которые дают времени правления Анны скорее негативную оценку. Здесь можно спорить, однако достоинством всех книг Павленко является огромное знание автором самых разнообразных источников эпохи, со сведениями которых историк щедро знакомит читателя. Опираясь обширный комплекс разнообразных документов, Н. И. Павленко реконструирует фактическую историю, дает яркие картины всех сторон внутренней жизни России, описывает ее внешнюю политику, включая такое важное событие в царствование Анны, как Русско-Турецкая война 1735–1739 гг. Для творческого почерка Николая Ивановича Павленко как исследователя никогда не была свойственна подтасовка материала под свои выводы об описанном им времени. Картины прошлого, воссозданные Н. И. Павленко, потрясающе объективны, поэтому и другие историки, и читатель могут создать свое мнение об эпохе.
На страницах книги о царице Анне, дочери царя Ивана V, старшего единокровного брата и соправителя Петра I в 1682–1696 гг., читатель найдет также информацию о других действующих лицах эпохи – фаворите Бироне, его конкурентах по придворному успеху братьях Леванвольдах, кабинет-министрах, включая реального «серого кардинала» Андрея Ивановича Остермана, а также состоящего из всех пороков и достоинств одновременно кабинет-министра Артемия Петровича Волынского.
Книга написана прекрасным литературным языком, читается увлекательно, оставаясь при этом серьезным историческим исследованием.
Т.В. Черникова,
доктор исторических наук,
профессор кафедры всемирной
и отечественной истории
МГИМО МИД России
Н.И. Павленко
Анна Иоанновна
Глава I
Герцогиня Курляндская
Время, когда накануне женитьбы царя в Москву со всех концов страны свозили красавиц на выданье, чтобы из их числа он избрал пригожую, отошло в прошлое. Уже мать Петра Великого сама присмотрела невесту для сына – Евдокию Лопухину, но брак оказался недолговечным. По свидетельству современника, Евдокия, воспитанная по правилам архаичного Домостроя, хотя и была «лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом несходную своему супругу». В конечном счете она оказалась в монастырской келье – по обычаям того времени развод допускался в двух случаях: либо после доказанной измены супруги, либо в результате желания отказаться от мирской жизни и постричься в монахини.
Жизнь в келье не прельщала молодую красавицу, и ее насильно по повелению царя отправили в Суздальский монастырь, где она под именем инокини Елены должна была влачить унылую жизнь отшельницы, подвергнуться тяжелому испытанию, которого она не выдержала, вступив в интимную связь с капитаном Глебовым.
Вторую супругу Петр I выбирал уже сам, причем это была не боярышня и не дочь отличившегося каким-либо подвигом дворянина, а безродная пленница Марта, находившаяся в услужении у пастора Глюка и вместе с ним оказавшаяся трофеем русских войск, овладевших небольшой крепостью Мариенбург, где пастор имел приход.
Неизвестный художник.
Портрет императрицы Анны Иоанновны. XVIII в. Холст, масло.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
При Петре радикально изменилась судьба царских дочерей. До него выдавать их замуж было не принято – впереди была суровая и однообразная жизнь в тереме, где они занимались рукоделием, а развлекались пением – семейного счастья они были лишены, и царский терем становился для них постылой тюрьмой.
При Петре брачные отношения в царской семье кардинально изменились: дочери вместо затворнической жизни в тереме приобрели возможность выходить замуж, причем не за отечественных женихов, а за иностранных принцев. Равным образом и сына своего Алексея Петр женил не на русской красавице, а на иностранной принцессе – Софии Шарлотте – изуродованной оспой сестре супруги австрийского императора.
Брачным контрактам, таким образом, придавалось политическое значение, главенствовало желание породниться с европейскими дворами и приобрести еще один способ влияния на европейские дела. Правда, в представлении европейских держав Русское государство конца XVII – начала XVIII века еще сохранило репутацию варварской Московии, и среди кандидата в мужья не значились представители английского, испанского, датского и французского дворов.
Между тем в распоряжении Петра I находилось пять невест: три из них, племянницы, были дочерьми сводного брата Иоанна, и две дочери, достигшие брачного возраста, от второй супруги Петра Екатерины Алексеевны – так стала именоваться пленница Марта после принятия православия.
Иоанн Алексеевич был женат на Прасковье Федоровне Салтыковой, родившей пять дочерей: Марию, Феодосию, Екатерину, Анну и Прасковью. Две старшие дочери скончались в младенчестве, а три, точнее, две стали предметом политических комбинаций царя. Старшую, Екатерину, Петр выдал замуж за герцога Мекленбургского; среднюю, Анну, – за герцога Курляндского. Что касается младшей, Прасковьи Иоанновны, женщины внешне непривлекательной, то ей так и не удалось обрести жениха – она до 28 лет оставалась в девах и в 1724 году вступила в интимную связь с гвардии майором Иваном Ильичом Мамоновым. Любопытная деталь – за эту связь был наказан не Мамонов, а царский паж, выступавший сводником[1 - РА. 1887. № 10. С. 180, 181.].
Детство сестер протекало во дворце Прасковьи Федоровны, отличавшейся некоторыми странностями. Она, например, была неравнодушна к почестям, подчеркивавшим ее положение царицы, – при жизни царя Иоанна в ее штате насчитывалось одних только стольников 263 человека. После смерти Иоанна обширный штат придворных заменила челядь дармоедов – нищих богомольцев, богомолок, калек, уродов и юродивых. Среди этого сброда особым уважением царицы пользовался полупомешанный подьячий Тимофей Архипович, выдававший себя за пророка, к нелепым предсказаниям которого она чутко прислушивалась и даже гордилась тем, что такой необыкновенный человек нашел приют в ее доме. «Двор моей невестки, – говаривал Петр I, – госпиталь уродов, ханжей и пустословов».
Во дворце вдовы можно было наблюдать странное сочетание хлебосольства и гостеприимства с подсиживанием, мелкими интригами. Набожность в царице уживалась с беспредельной жестокостью.
Автор исследования о жизни царицы М. И. Семевский поведал об одном эпизоде, вызывающем неприязнь к этой беспощадно жестокой женщине.
Неизвестный художник.
Портрет царя Ивана Алексеевича.
Сер. XVIII в. Музеи Московского Кремля
Однажды в 1722 году фаворит Прасковьи Федоровны Василий Алексеевич Юшков уронил адресованное ему письмо царицы интимного содержания. Его поднял подьячий Василий Деревнин, решивший использовать послание против своего злейшего врага Юшкова. О находке Деревнина стало известно Юшкову и царице. Деревнин был схвачен, закован в пятипудовую цепь и 18 суток содержался в тюрьме царицы, но так и не признался в находке. Некоторое время спустя Деревнину, с 1715 по 1719 год управлявшему казной царицы, было предъявлено обвинение в хищении денег, и он оказался в застенках Тайной канцелярии. Царицу волновал не столько нанесенный ей материальный ущерб, сколько ее письмо к Юшкову. Разъяренная упорством Деревнина, царица, вооружившись тростью, отправилась в Тайную канцелярию, потребовала к себе Деревнина и самолично стала выбивать у него признание пытками: сначала она била его по лицу, затем велела снять рубашку и с побагровевшим от гнева лицом изуродовала ему спину. Не добившись признания, она прибегла к пыткам, вызвавшим удивление даже у видавших виды тюремщиков, тщетно уговаривавших ее не прибегать к ним. Тем не менее Прасковья Федоровна велела жечь бороду Деревнина свечой. Лицо жертвы было изуродовано до неузнаваемости, но царице так и не удалось добиться признания о месте нахождения злополучного письма.
Жестокостью отличался и брат царицы Василий Федорович Салтыков. О садизме Василия Федоровича было известно из-за его постоянных издевательств и непрестанных избиений своей супруги Александры Григорьевны, единственной дочери Григория Федоровича Долгорукого.
В 1719 году в Митаве свидетельницей свирепости Василия Федоровича стала Анна Иоанновна, и даже ее заступничество не помешало Александре Григорьевне быть в очередной раз так изувеченной супругом, что она была вынуждена бежать к своим родителям и жаловаться не только царице Екатерине Алексеевне, но и самому царю. Поскольку князь Григорий был известен Петру и истязателя ожидали неприятности, Прасковья Федоровна решила помочь брату. Она ему писала: «Братец, свет мой, пожалуй поберегися, чтобы тебя не извели или бы не убили… Она (Александра Григорьевна. – Н. П.) била челом, а челобитная писана по-прежнему, только прибавки: “хуже я вдовы и девки”; да еще пишет: “взял мою бабу и живет блудно” и бьет челом, блудного дела с тобой разойтися; к государю пишет просительное письмо, чтобы он миловал». Дело закончилось только в 1730 году разводом и пострижением Александры Григорьевны в монахини.
Мы подробно остановились на нравах царицы и ее брата в связи с тем, что в жилах Анны Иоанновны текла в том числе и кровь Салтыковых, людей свирепого и деспотичного нрава.
При обучении и воспитании Прасковья Федоровна руководствовалась домостроевскими наставлениями, но в то же время по собственной инициативе или по внушению царя держала учителей-иностранцев: немца Иоганна Дитриха Остермана и француза Рабурха. Видимо, оба иноземца готовили царевен к замужеству за принцев европейских дворов и заботились о знании языков и умении танцевать[2 - Семевский М. И. Царица Прасковья // Тайная служба Петра I. Минск, 1992. С. 45, 54, 71–84.].
Современники оставили скупые отзывы о сестрах. Первый из них принадлежит перу секретаря австрийского посольства И. Корбу, посетившего Измайлово в 1698 году вместе с послом, которого сопровождали музыканты. Он отметил, что «незамужние царевны, желая оживить свою спокойную жизнь, которую ведут они в волшебном убежище, часто выходят на прогулку в рощу и любят гулять по тропинкам, где терновник распустил свои коварные ветки. Случилось, что августейшие особы гуляли, когда вдруг до их слуха долетели приятные звуки труб и флейт; они остановились, хотя возвращались уже во дворец… Особы царской крови с четверть часа слушали симфонию, похвалили искусство всех артистов»[3 - Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 г. СПб., 1906. С. 158.].
Более обстоятельные сведения об Анне Иоанновне, относящиеся к 1710 году, обнаруживаем в дневнике датского посла Юста Юля: «В общем, они (дочери Прасковьи Федоровны. – Н. П.) очень вежливы и благовоспитанны, собою ни хороши, ни дурны, говорят немного по-французски, по-немецки и по-итальянски». Секретарь английского посла Ч. Витворта Л. Вейсброд все же выделил внешность Анны Иоанновны, которую среди трех сестер считал самой привлекательной. Иное впечатление о внешности сестер сложилось у испанского посла де Лириа, писавшего в начале 1730-х годов: «Герцогиня Мекленбургская Екатерина Иоанновна, сестра царицы Анны, чрезвычайно живого характера, не имеет скромности и откровенно высказывает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и легкомысленного поведения.
Принцесса Прасковья, вторая сестра царицы, отмечена способностями, очень дурна лицом и худощава, здоровья слабого. Прасковья глупа и имеет такую же склонность к мужчинам, как и сестра».
Затруднительно в наши дни решить, какой портретной зарисовке отдать предпочтение, какая из них наиболее соответствует оригиналу: быть может, Анна Иоанновна в свои 19 лет была более миловидной и привлекательной, чем два с лишком десятилетия спустя, но образ, запечатленный художником в 1730-х годах, не вызывает симпатий. Всматриваясь в ее лицо, мастер создания портретов далекого прошлого В. О. Ключевский описал словами отнюдь не привлекательную внешность императрицы: «Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе…» Скорее всего, все современники были правы, равно как прав был и Ключевский: молодость скрашивала неприглядную внешность царевен, обнаружившуюся в зрелом возрасте.
Никитин Иван Никитич.
Портрет Прасковьи Ивановны, племянницы Петра I. 1714 г.
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Весной 1710 года царь вызвал племянниц из Москвы в Петербург, для того чтобы приучить царевен к морю. Эту мысль почти одинаковыми словами выразили датский дипломат и токарь Петра А. К. Нартов, причем Юст Юль отметил пагубное влияние моря на путешественниц. «Женщины испытывали к морю отвращение… Тем не менее царь почти всегда берет их в плавание и предпочтительно в свежую погоду; запирает их наглухо в каюту, пока их хорошенько не укачает и не вырвет; тут только он доволен, так как в этом находит удовольствие и развлечение»[4 - Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 96.].
Царь пригласил племянниц не только ради морских прогулок, но главным образом чтобы скрепить семейными узами Анну Иоанновну с герцогом Курляндским. В июне состоялась церемония помолвки герцога и Анны Иоанновны.
Согласно старомосковским обычаям, будущий супруг мог увидеть свою невесту только за свадебным столом. До этого их судьбу решали либо родственники жениха и невесты, либо сваха. Случалось, на смотринах родителям жениха показывали подставную невесту, а в подлинной обнаруживались физические недостатки, но уже ничего нельзя было изменить.
Личное знакомство принцесс с принцами западноевропейских дворов тоже чаще всего происходило во время свадебных торжеств. До этого брачующиеся обменивались портретами, и внешняя привлекательность жениха и невесты могла зависеть от мастерства художника, его умения скрыть отсутствие привлекательности.
Церемония помолвки курляндского герцога Фридриха Вильгельма и Анны Иоанновны состоялась в июне 1710 года, причем в отсутствие герцога. Его персону представлял гофмаршал, просивший руки царевны от имени своего господина. Получив согласие царя, он передал невесте обручальное кольцо и портрет жениха, украшенный драгоценными камнями. Царь снял кольцо с руки племянницы для передачи его герцогу. В этой церемонии первостепенное значение имел не обмен кольцами, а брачный договор, предусматривавший финансовые обязательства сторон. Молодой герцог Фридрих Вильгельм предлагал включить в договор обязательства России вывести свои войска из Курляндии, не взыскивать с нее контрибуции, право Курляндии не вмешиваться в конфликты России с другими странами. Наконец, жених запросил 200 тысяч рублей приданого, выдаваемого единовременно.
Петр со всеми условиями герцога не согласился: главное изменение состояло в уменьшении суммы приданого – она была определена в размере 40 тысяч рублей, а остальные 160 тысяч Петр отдавал герцогу взаймы на выкуп заложенных им владений. Герцог обязался выдавать супруге на туалет и прочие мелкие расходы ежегодно по 10 тысяч ригсталеров, а в случае его смерти вдове причиталась ежегодная пенсия в 100 тысяч рублей.
Свадебные торжества, отличавшиеся необычайной для прижимистого царя пышностью, состоялись в ноябре 1710 года. На свадьбу было приглашено множество гостей. Обязанности маршала выполнял сам царь. Церемония происходила во дворце Меншикова, куда гости отправились на 40 шлюпках. Меншиков встретил жениха и невесту на пристани, обряд бракосочетания состоялся в часовне при доме князя. Венец над невестой держал Александр Данилович, а над женихом – царь. После обручения сели за стол, при каждом тосте раздавалось 13 выстрелов. Затем начались танцы, в 11 вечера новобрачных отправили в покои.
Торжества затянулись на две недели и разделились как бы на две части: свадьба герцога и Анны Иоанновны и свадьба карликов, устроенная в честь новобрачных, – торжество, введенное Петром Великим.
После брачной ночи за обедом было выпито 17 заздравных чаш, затем в зал внесли два огромных пирога, поставив их на двух столах. В каждом из них, когда их разрезали, находилось по карлице. Обе – во французском одеянии и с высокой прической. Одна из них произнесла приветственную речь в стихах, после чего царь схватил под мышку вторую карлицу и принес на стол, где сидели новобрачные. Обе, как писал Юст Юль, под музыку весьма изящно протанцевали менуэт. После трапезы зажгли фейерверк, устроителем которого был сам царь. Фейерверк высвечивал слова, обращенные к молодым супругам: «Любовь соединяет». Бал продолжался до ночи.
Свадебные празднества завершились 19 ноября пиром в резиденции герцога, а через три дня состоялся смотр карлов, свезенных со всей России. Их царь распределил среди вельмож и велел роскошно экипировать.
Свадьба карликов состоялась 25 ноября. Их привезли к царскому дворцу, оттуда – в крепость, где произошло венчание. Жених следовал вместе с царем, за ними шествовали внешне приличные пары карлов и карлиц, а заключали процессию самые безобразные пары с уродливыми физиономиями, огромными животами, кривыми ногами. Юст Юль отметил, что все это «походило на балаганную комедию».
Свадебные торжества происходили тоже в доме Меншикова, причем для карлов было изготовлено шесть маленьких овальных столов и соответствующих размеров стулья[5 - Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 256–263.].
В первой половине января 1711 года герцог решил отправиться на родину, но вследствие нескольких приступов лихорадки на несколько дней отложил поездку.
Закончился свадебный двухмесячный угар, и радость герцогини сменилась трагедией, коренным образом изменившей ее жизнь почти на два десятилетия, – по пути в Митаву герцог неожиданно занемог и умер. Историки не располагают подробностями об обстоятельствах и причинах смерти. В их распоряжении лишь краткая, ничего не разъясняющая информация иностранного дипломата: «Герцог выехал из Петербурга в добром здравии, но верстах в сорока отсюда внезапно заболел и умер»[6 - РИО. Т. 50. СПб., 1885. С. 401.].
После его смерти вдова продолжала путь в Митаву навстречу унижениям и материальным невзгодам. Дело в том, что брачный контракт оказался пустой бумагой – вдова не имела никаких юридических прав на собственность, в Курляндии в ее владении был лишь титул герцогини, а казной она не распоряжалась. Казну держал в нетвердых руках престарелый и ни к чему не способный дядя покойного – Фердинанд, назначенный герцогом польским королем.
Как жилось вдове на чужбине? Если ответить коротко, то несладко: чуждые ей нравы и обычаи, высокомерие местного дворянства – потомков тевтонских рыцарей, языковый барьер между герцогиней и придворными, постоянно испытываемые денежные затруднения, лишавшие ее возможности поддерживать престиж герцогини, – все это вело к отсутствию элементарного комфорта. Повторим, по брачному контракту герцогиня, если останется вдовой, должна была получать на содержание ежегодно пенсию в 100 тысяч рублей, но тощая казна герцогства не могла обеспечить ее получение, и Петр потребовал 28 коронных владений в обеспечение этой суммы. Управление имениями Петр I поручил Бестужеву, отправленному в 1712 году в Митаву.
Итак, герцогине приходилось рассчитывать лишь на финансовую помощь дяди, но Петр I не поощрял расточительности герцогини. А появившаяся у герцогини страсть к роскоши вела к постоянным и обременительным долгам.
Представление об условиях жизни герцогини в Митаве, ее чертах характера можно почерпнуть из ее писем. Перед нами практичная женщина, достаточно разумная, чтобы ориентироваться в хитросплетениях придворной жизни Петербурга и использовать ситуацию в своих интересах. Она всегда знала, к кому можно обратиться с просьбой, кому достаточно письмеца с новогодним поздравлением, кто находится в опале и поэтому поддержание связей с ним грозит бедой. В ее письмах поражает способность униженно клянчить, подлаживаться, использовать все рычаги воздействия на того, от кого она ожидала помощи. Особенно эту способность Анны Иоанновны иллюстрируют ее письма к Меншикову и членам его семьи.
А. Д. Меншиков был тем корреспондентом, к которому герцогиня чаще, чем другим, отправляла послания в первое десятилетие своего пребывания в Митаве. Анна Иоанновна не считала бесполезным писать и супруге светлейшего, и даже ее сестре Варваре Михайловне, оказывавшей, как известно, большое влияние на князя. Обычно ее послания нельзя было назвать деловыми – это скорее напоминания о своем существовании – поздравления с наступающим Новым годом, церковными праздниками, днями рождения и тезоименитства, как правило, остававшиеся без ответа. Единственная и часто повторяемая просьба к Меншикову состояла в том, чтобы он не оставил «своей любви к матушке и сестрице», то есть к Прасковье Федоровне и ее дочери Прасковье Иоанновне.
Поздравительные записочки она отправляла и членам царствовавшей фамилии: Петру, Екатерине Алексеевне, сыну Петру Петровичу и дочерям Анне и Елизавете; своего «дядюшку» просьбами она обременять не осмеливалась и даже поздравления не всегда адресовала лично ему, а использовала в качестве посредницы Екатерину Алексеевну. К супруге царя герцогиня несколько раз обращалась с жалобами на своих недругов, которые нанесли урон ее репутации добропорядочной вдовы, чем вызвала такой гнев у строгой и жестокой ее матери, что та едва ее не прокляла.
Гнев царицы, отличавшейся, как мы видели, неукротимым нравом и свирепостью, был обусловлен двумя обстоятельствами. Одно из них было связано с интимными отношениями дочери с Петром Михайловичем Бестужевым-Рюминым, отправленным Петром, как выше упоминалось, для управления имениями герцогини, для присмотра за ее поведением и для защиты от нападок местного дворянства. Бестужев-Рюмин взвалил на себя еще одну обязанность – стал фаворитом герцогини.
Царица Прасковья осуждала безнравственность дочери, но сама, согласно молве, не блюла супружеской верности: отцом трех ее дочерей считался управляющий двором и имениями Василий Алексеевич Юшков – именно ему будто бы уступил супружеские права болезненный и слабоумный Иоанн Алексеевич. Допустим, Прасковья Федоровна могла вступить в интимную связь с Юшковым по принуждению – царевна Софья склонила ее к измене по политическим мотивам, так как была заинтересована в появлении наследника, но Прасковья Федоровна, к ее огорчению, рожала дочерей.
В конце концов царице так и не удалось обрезать крылья молве, порочившей ее репутацию добропорядочной супруги. Воспоминания о грехах молодости не смягчили ее требовательности к дочери. Бестужев, кроме того, по неизвестным нам причинам ни у царицы, ни у ее брата Василия Федоровича расположением не пользовался.
К тому же в 1719 году в Митаве Анна Иоанновна предприняла попытку укротить бешеный нрав дяди, до полусмерти избившего супругу, так что та вынуждена была бежать к своим родителям в Варшаву. Злобный братец пожаловался сестрице на вмешательство племянницы в его семейные дела, вызвал сочувствие царицы и поссорил ее с дочерью.
Царица Прасковья прекратила общение с дочерью. Та пожаловалась Екатерине Алексеевне, представив виновником ссоры с матерью Василия Федоровича Салтыкова, «который здесь бытностию своею многие мне противности делал как словами, так и публичными поступками», в частности «сердился на меня за Бестужева». Между тем «я, – оправдывалась герцогиня в 1719 году в письме к Екатерине, – от Бестужева во всем довольна и в моих здешних делах он очень хорошо поступает». Из писем матери к дочери явствует, что Салтыков обо всем доложил царице и «мошно видеть по письмам, што гневна на меня». Через Екатерину Анна Иоанновна обращалась с просьбой и к «батюшке-дядюшке», чтобы тот устроил ее брачные дела, «дабы я больше в сокрушении и терпении от моих злодеев ссорою к матушке не была»[7 - Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 41, 42.].
Прошло несколько месяцев, и матушка не только не укротила своего гнева, но и прервала переписку с дочерью. Герцогиня дважды в 1720 году извещала Екатерину, что «ко мне уже великое время от государыни, моей матушки, писем нет», «что я животу своему не рада» и настолько огорчена, что «лутче б я на свете не была или б услышала, чтоб его, Василья Салтыкова, при матушке не было».
Стараниями Екатерины все же удалось помирить строптивую мать с дочерью, но потребовалось четыре года, чтобы Прасковья Федоровна простила накануне своей кончины блудную дочь, что явствует из письма Анны Иоанновны к Екатерине от 18 октября 1723 года: «Получила я письмо от государыни-матушки, в котором изволит ко мне писать, что очень она, государыня, моя матушка, недомогает, и ежели я в чем пред нею, государыней-матушкой, погрешила для вашего величества милости, меня изволит прощать, за которую вашего величества милость матушка государыня тетушка всенижайше благодарствую». Екатерина Алексеевна выступала в привычной для себя роли посредницы, и герцогиня знала, что она обязана примирением с матерью только ей.
Единственное письмо-«слезницу» герцогиня осмелилась отправить и самому дядюшке. В пространном послании к Петру I она жаловалась на свою бедность. Ее доходы столь ничтожны, что она может содержать только поварню, конюшню, слуг и драгунскую роту, а обеспечить себя платьем, бельем, кружевами, также алмазами и серебром лишена возможности. Бедность, жаловалась герцогиня императору, роняла ее престиж и влияние, ибо «партикулярные шляхетские жены ювели (ювелирные изделия. – Н. П.) и прочие уборы имеют неубогие, из чего мне в здешних краях не бесподозрительно есть». Откликнулся ли Петр I на мольбу племянницы – прямых свидетельств нет.
Выше мы отмечали подобострастную тональность писем Анны Иоанновны не только к светлейшему, но и к членам его семьи. Так продолжалось до тех пор, пока князь пребывал в силе, пользовался доверием Петра I. Случилось, однако, что он оказался в полуопальном положении – в 1720 году возникло Почепское дело, обнаружившее беспредельную алчность Александра Даниловича, и он уже не мог быть полезен герцогине. Она посчитала, что из общения с ним не только нельзя извлечь выгоды, но можно и накликать беду. Опасность вызвать гнев раздражительного царя вынудила ее прекратить переписку с Меншиковым и членами его семьи.
За время, когда Меншиков, по образному выражению современника, пребывал «с петлей на шее», Анна Иоанновна обрела нового покровителя. Им оказался Андрей Иванович Остерман – после смерти Петра I восходящая звезда на политическом небосклоне. 9 февраля 1725 года герцогиня отправила первое послание Остерману с извещением о прибытии в Москву обер-камер-юнкера Бирона с поручением поздравить Екатерину Алексеевну с восшествием на престол. Поскольку ей, Анне Иоанновне, известна склонность к ней Остермана, то она просила его «ежели что станет сказываться о курляндском моем деле, всякое благодеяние и вспоможение к пользе моей учинить».
Если послания Анны Иоанновны в подавляющем большинстве случаев не удостаивались ответа, то Андрей Иванович откликнулся на просьбу герцогини, что явствует из ее письма с выражением благодарности, отправленного через Бирона бароном Остерманом. Из него она уведомлялась «о многих ваших ко мне благосклонностях, за что и за обнадеженную впредь ко мне склонность по-прежнему благодарствую»[8 - Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 52, 53, 123, 124, 139.].
Герцогиня завела еще одного влиятельного покровителя – графа Левенвольде. До Митавы докатились слухи, что императрица, будучи тяжело больной, все же обзавелась фаворитом и ее выбор пал на молодого, но недалекого красавца графа. Первое письмо к Левенвольде датировано 18 октября с пустяковой просьбой напомнить императрице, что та обещала ей прислать «потрет», но до сих пор она его не получила. В другом письме Анна Иоанновна благодарила фаворита императрицы «за показанную вашу ко мне любовь в Петербурге».
Левенвольде не утратил влияния при дворе и после смерти Екатерины I. В июне 1728 года Анна Иоанновна благодарила его на этот раз «за вашу ко мне склонность в бытность в Москве» и просила его быть посредником в передаче своих посланий Петру II[9 - РС. 1884. № 11. С. 375–380.].
Ни Остерман, ни Левенвольде не могли соревноваться с Меншиковым по влиянию на преемников Петра I на троне. Положение Александра Даниловича настолько упрочилось, а власти настолько прибавилось, что А. С. Пушкин вполне справедливо назвал его «полудержавным властелином» – и при Екатерине I, и при Петре II вплоть до своего падения в 1727 году он был хотя и несамостоятельным (за его спиной стоял Остерман), но фактическим главой государства.
Эти два года были столь знаменательными и насыщены такими драматическими событиями в жизни Анны Иоанновны, что заслуживают подробного описания. Вновь обрел право оказывать влияние на судьбу Курляндской герцогини Александр Данилович, причем право обширное, которым он ранее не располагал.
Во время пребывания в Митаве Анне Иоанновне довелось столкнуться унылой вдовьей жизни. И это несмотря на ее страстное желание выйти замуж и на наличие множества женихов.
Вереницу женихов составляли ландграф Гессен-Гомбургский, принц Ангальтцербский. Замыкал список саксонский генерал-фельдмаршал граф Флеминг. Среди претендентов на супружество с Анной Иоанновной наиболее серьезным считался племянник прусского короля граф Карл Бранденбургский, с которым в 1718 году был заключен даже брачный договор, так и оставшийся нереализованным[10 - Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. С. 216.].
Вдовья жизнь опостылела герцогине, она была разменной монетой в руках русского правительства. Супругов в какой-то мере заменяли фавориты, но она горячо желала обзавестись семьей.
Первым фаворитом Анны Иоанновны, как отмечалось выше, был П. М. Бестужев-Рюмин. Когда его место занял Бирон, Петр Михайлович был крайне огорчен и с сожалением извещал об этом свою дочь княгиню Волконскую: «Я в несносной печали, едва во мне дух держится, потому что чрез злых людей друг мой сердечный (Анна Иоанновна. – Н. П.) от меня отменился, а ваш друг (Бирон. – Н. П.) более в кредите остался»[11 - Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. Кн. X. М., 1993. С. 130.]. Отставку фаворита герцогиня компенсировала хлопотами у императрицы о пожаловании Бестужеву чина тайного советника, ибо он «чина не имеет, что от здешних людей ему подозрительно». С аналогичной просьбой герцогиня обратилась в конце февраля 1725 года, то есть после смерти Петра I, к Остерману, чтобы тот напомнил об этой просьбе кабинет-секретарю А. В. Макарову[12 - Письма русских государей… С. 118, 130, 142, 143.].
Бирон в это время еще не занял в сердце вдовы места, которое он завоевал несколько лет спустя, а Анна Иоанновна не утратила интереса к замужеству. Возможность выйти замуж появилась в 1726 году. Анна Иоанновна отдавала отчет, что это был последний шанс приобрести законного супруга – ей перевалило за 30. Вероятно, такими же мотивами руководствовался и Мориц Саксонский, предложивший ей руку и сердце. Этот известный всей Европе повеса был внебрачным сыном Августа II и графини Авроры Кенигсмарк. 8 октября 1696 года у них родился сын, которого в честь первой встречи родителей в замке Морицбург нарекли Морицем. В 1711 году Август II признал Морица своим сыном, пожаловал графский титул и женил на самой богатой невесте Саксонии. Супруг оказался человеком крайне легкомысленным: в несколько лет промотал состояние супруги, развелся с нею, волочился за многими дамами, подобно родителю без труда завоевывал их сердца и, вдоволь натешившись громкими амурными похождениями в западноевропейских столицах и игрой в войну, наконец решил обрести пристанище. Для полного счастья ему недоставало самой малости – знатной супруги и семейного уюта. Выбор пал на Анну Иоанновну, которая заинтересовала красавца мужчину не женскими прелестями, а приданым, то есть герцогством Курляндским, вместе с которым он при помощи отца рассчитывал получить титул герцога.
Граф Мориц, с которым она ранее не была знакома, приглянулся ей с первого взгляда, и она поспешила обратиться к Меншикову и Остерману с просьбой содействовать осуществлению своей мечты.
Однако шанс стать супругой Морица Саксонского так же быстро исчез, как и появился: брак и на этот раз расстроился по политическим мотивам, герцогиня вновь стала разменной монетой. Дело в том, что за Анной Иоанновной значилось такое приданое, как герцогство, на которое одновременно претендовали три соседних государства: Речь Посполитая, за которой Курляндия формально числилась, Пруссия и Россия. Между тем брачные узы Анны Иоанновны с Морицем Саксонским пресекали все поползновения алчных соседей, полагавших, что в случае заключения брачного контракта с Морицем Курляндия станет провинцией Саксонского курфюршества. Эта опасность сплотила соседей в намерении противодействовать планам Августа II и его сына, причем наиболее непримиримую позицию занимала Россия.
Анна Иоанновна была далека от европейских политических интриг и не подозревала, сколь бессмысленно и бесполезно было обращаться за помощью в устройстве ее брачных дел к Александру Даниловичу, как раз претендовавшему на герцогскую корону.
Меншиков появился в Курляндии добывать корону с большим опозданием – курляндский сейм единогласно избрал герцогом Морица Саксонского 18 июня 1726 года, а инструкция русскому послу в Варшаве В. Л. Долгорукому о противодействии избранию была отправлена из Петербурга только 23 июня. Деликатность поручения Долгорукого, которому должен был оказывать всемерную помощь Бестужев, состояла в том, что депутаты, избрав Морица герцогом, разъехались по домам – им надлежало вновь прибыть в Митаву, чтобы дезавуировать только что принятое постановление.
Поближе к месту событий, в Ригу, 27 июня прибыл и Меншиков, а ранним утром следующего дня там появилась и Анна Иоанновна. Можно представить, чего стоила герцогине эта встреча с князем. С одной стороны, у нее было неукротимое желание выйти замуж за Морица, а с другой – она понимала свое бессилие противостоять натиску светлейшего. Если верить версии А. Д. Меншикова, то герцогиня не только не оспаривала его притязаний на корону, но с величайшей радостью отказалась от замужества. Она, извещал Меншиков свою супругу 29 июня 1726 года, «кажется с великою охотою паче всех желает, чтобы в Курляндии быть князем мне, и обещала на то всех курляндских управителей и депутатов склонить». Другое письмо, адресованное князем императрице, свидетельствует о лживости этого утверждения. В нем он сообщал, что Анна Иоанновна «с великою слезною просьбою» умоляла его ходатайствовать перед императрицей, чтобы та разрешила ей выйти замуж за Морица Саксонского.
Вдовьей мольбе и слезам Меншиков противопоставил три аргумента в пользу отказа от замужества. Первый и главный состоял в том, что утверждение Морица на герцогском троне противоречит интересам России, а избрание герцогом его, Меншикова, напротив, в полной мере соответствует им. Другой довод, в особенности в устах выскочки, звучал менее убедительно: «Ее высочеству в супружество с ним вступать неприлично, понеже тот рожден от метрессы», а не от законной жены. Про запас у Александра Даниловича был еще один довод: если герцогом будет избран он, Меншиков, то ей будут гарантированы права на ее курляндские владения. «Ежели же другой кто избран будет, то она не может знать, ласково ль с ней поступать будет и дабы не лишил ее вдовствующего пропитания».
Если опираться на донесения Меншикова, то его беседа с герцогиней велась в интимном и доверительном ключе: ни выкручивания рук, ни угроз, ни торга не было. В действительности главный аргумент, на который уповал князь, была сила, а в распоряжении герцогини были только слезы.
К находившемуся в Риге Меншикову прибыли Долгорукий с Бестужевым и донесли, что притязания его безнадежны. Тогда князь решил сам отправиться туда, где находилась корона, – в Митаву. Результаты его четырехдневного пребывания в столице Курляндии были малоутешительными. Тем не менее он, либо обманывая себя, либо утешая супругу, писал ей: «Здешние дела, кажется, порядочно следуют, а так ли окончатся, как ее величеству угодно – не знаю. А по обращении здешней шляхты многим о Морице быть отменам». «Отмены», однако, не состоялись, и ни Александр Данилович, ни Мориц Саксонский не водрузили на головы герцогской короны. Но пребывание в Митаве убедило Меншикова в одном – его агенты, на которых возлагалась главная забота об избрании его герцогом, действовали недостаточно энергично. У каждого из них были на то серьезные основания.
Князь Долгорукий долгое время жил за пределами России и успел привыкнуть к светской роскоши и блестящему обществу. В последнее время он был послом в Варшаве, а теперь после веселой и беззаботной жизни, где балы чередовались с маскарадами и зваными обедами, ему довелось сидеть в такой дыре, где хотя и был двор, канцлер и министры, но за всей этой опереточной мишурой проступали бедность и затхлая атмосфера глубокого европейского захолустья. В одном из писем к А. В. Макарову он писал: «О здешнем вам донести нечего, кроме того, что живу в такой скуке, в какой отроду не живал. Ежели б были у окон решетки железные, то б самая была тюрьма, но только того не достает. Коли час бывает покойный, нельзя найти никакого способу чем забавитца, такая пустота».
У князя Долгорукого была и другая причина инертного поведения во время избирательной кампании в пользу Меншикова – в душе он презирал светлейшего и к его домогательствам симпатий питать не мог.
У Бестужева тоже не было стимула стараться в пользу избрания Меншикова, ибо он не без оснований полагал, что если он станет герцогом, то ему, Бестужеву, грозила утрата должности обер-гофмейстера, то есть лишение теплого и доходного местечка.
Мы подробно остановились на этом эпизоде, чтобы ярче осветить степень унижения, четко вырисовывавшегося в письмах Анны Иоанновны за 1727 год. Герцогиня, несомненно, считала главным виновником несостоявшегося счастья Меншикова. Тем не менее подавила чувство обиды. Жертвуя самолюбием и собственным достоинством, Анна Иоанновна после помолвки дочери Александра Даниловича Марии с Петром II 3 июня отправила князю письмо, в котором ему прочли следующие слова: «Я истинно от всего сердца радуюсь и вашей светлости поздравляю». Более того, герцогиня обещала быть «послушной и доброжелательной». Через неделю новое послание будущему тестю императора. Забыв о неприятностях, доставленных ей князем, она льстит ему и наперекор истинным чувствам, к нему питаемым, пишет: «Как прежде я имела вашей светлости к себе многую любовь и милость».
На новую ситуацию в столице, связанную с восшествием на престол Петра II, Анна Иоанновна не замедлила отреагировать. Появляются новые влиятельные корреспонденты: Петр II и его сестра Наталья Алексеевна, с мнением которой, как было всем известно, все же считался отрок-император, прославившийся бесшабашным времяпровождением.
В письмах к Наталье Алексеевне Анна Иоанновна пыталась вызвать чувство жалости и сострадания. «О себе ваше высочество нижайше доношу, – обращалась герцогиня к сестре императора в августе 1728 года, – в разоренье и в печалех своих жива. Всепокорно, матушка моя и государыня, прошу не оставить меня в высокой и неотменной вашего высочества милости, понеже вся моя надежда на вашу высокую милость».
Зная пристрастие Петра II к охоте, Анна Иоанновна пытается завоевать его расположение подарком, которым он должен остаться доволен. «Доношу вашему высочеству, – писала она царевне Наталье, – что несколько собак сыскано как для его величества, так и для вашего высочества, а прежде августа послать невозможно: охотники сказывают, что испортить можно, ежели в нынешнее время послать. И прошу ваше высочество донести государю-братцу о собаках, что сысканы и еще буду стараться».
Иоганн Ведекинд.
Портрет Петра II. 1730-е гг.
Самарский областной художественный музей, Самара
Помимо выражения угодничества Анна Иоанновна обращалась к князю и с деловой просьбой вернуть Бестужева в Митаву. Меншикову все же удалось его отозвать, и теперь герцогиня мобилизует все свои связи, чтобы Бестужев вновь отправлял свою должность – «ведал мой двор и деревни». Анна Иоанновна обращается к Дарье Михайловне Меншиковой, ее сестре Варваре Михайловне, нареченной невесте Петра II Марии Александровне с одной и той же просьбой – ходатайствовать перед светлейшим отпустить Бестужева, «понеже мой двор и деревни без него смотреть некому». К ходатаям перед Меншиковым она подключает и А. И. Остермана, чтобы «попросить за меня супругу у его светлости».
Если верить письмам Анны Иоанновны, то Петр Михайлович незаменим. «Бог свидетель, – повествует она Дарье Михайловне, – что я во всем разорилась, понеже он о всем знает в моем доме и деревнях».
9 сентября 1727 года Меншиков пал. Его ссылка вызвала к жизни три новшества. Если еще в конце июня Анна Иоанновна считала Меньшикова «милостивым моим патроном» и заверяла, что «матушка моя и я из давних лет вашей светлости милостию и протекцией содержини были», теперь, когда 16 сентября его везли в ссылку в Ранненбург, она жаловалась на него Петру II на запрещение князя прибыть на его коронационные торжества, а 18 ноября повторила жалобу в более резкой форме: князь «по злобе на меня не хотел меня до той радости допустить».
Вторая новость состояла в смене патронов – теперь им стал А. И. Остерман. К нему она обращается с просьбой отпустить Бестужева, причем в адрес своего обер-гофмейстера не жалеет комплиментов: она остается им «весьма довольной», «я к нему привыкла, а другому никому не могу поверить». Не преминула она и возможностью обругать своего бывшего патрона: «В прошлом и в нынешнем году князь Меншиков зделал мне многие обиды».
Третья новость не связана с падением Меншикова, но она заслуживает упоминания, поскольку позволяет взглянуть на личность герцогини еще с одной стороны: она раскрывает такую черту ее натуры, как беспечность, нежелание, видимо из-за лени, вникать в состояние своего небольшого хозяйства. Это важно в связи с тем, что ей судьба уготовила управление огромной империей.
Убедившись в бесплодности просьб, герцогиня поручила управление хозяйством камер-юнкеру Корфу. Тот, после ознакомления с делами, доложил герцогине, что состояние хозяйства настолько безысходное, что Анна Иоанновна пришла в отчаяние и с призывом о помощи обратилась ко всем, от кого ее могла ожидать: к Наталье Алексеевне, к императору, к А. И. Остерману. 3 августа 1728 года Анна Иоанновна в самой общей форме известила Наталью Алексеевну, что «в разоренье и печалех своих жива», а в следующем письме объяснила причину своей печали: «По необходимой моей нужде послала моего камер-юнкера Корфа в Москву, велела донести его императорскому величеству, каким образом меня разорил и расхитил Бестужев». Просила откликнуться на то, о чем будет просить Корф. 24 августа она отправила письмо и Петру II: «…во всей покорности представляю, каким образом прежний мой обер-гофмейстер обманом поступал… меня расхитил и в великие долги привел». Остермана она извещала в октябре, что даже заболела: стала «слаба в своем здоровье и ныне пью воды перемунтские».
В ответ на жалобы Анны Иоанновны была создана комиссия для расследования обвинений Бестужева. На поверку оказалось, что дело не было таким однозначным, как его изображала герцогиня, – Бестужев выдвинул встречные претензии к Анне Иоанновне, и следствие затянулось. В январе 1729 года герцогиня просила вице-канцлера Остермана ускорить работу комиссии, «понеже вашему превосходительству известно, что я разорена, а ныне мой камер-юнкер в Москве и ежели еще долго пробудет, и не без убытку ево содержать так долго»[13 - Письма русских государей… С. 214, 224, 249, 252, 254, 259.].
Похоже, Анна Иоанновна сгущала краски, жалуясь на свое бедственное положение. Дело в том, что в феврале 1728 года герцогиня при посредничестве Остермана получила из казны вместо 5875 рублей 12 тысяч, то есть столько, сколько получала ее сестра. Это была единовременная помощь, а Анна Иоанновна пожелала превращения ее в постоянную, «чтоб я не была обижена против их». Поэтому вполне возможно предположить, что ссылкой на свое разорение Анна Иоанновна, привыкшая попрошайничать, стремилась разжалобить корреспондентов, вызвать сочувственное к себе отношение.
Сохранившиеся источники далеко не в полной мере раскрывают натуру Анны Иоанновны в годы пребывания ее в Курляндии. Мы мало осведомлены о ее личной жизни и еще меньше о жизни двора и о ее отношениях с местным дворянством. Но то, что известно, дает основание для однозначно отрицательного ответа на вопрос о степени ее подготовки для управления сложным правительственным механизмом огромной империи. Вместе с тем перед нами предстает практичная женщина, зорко следившая за придворной жизнью в Петербурге, умевшая ориентироваться в расстановке сил при дворе и безошибочно определить, кто может быть ей полезен в данный момент. Но житейская мудрость не компенсировала отсутствия мудрости государственного деятеля.
Глава II
Императорская корона на голове герцогини
В то время как в январские дни 1730 года в Митаве уныло текла сонная жизнь, лишь изредка нарушаемая мелкими придворными интригами, в Москве произошло событие, всколыхнувшее не только русский, но и иностранные дворы, и особенно маленькой Курляндии, круто изменившее положение ее герцогини Анны Иоанновны, – в Лефортовском дворце старой столицы агонизировал пятнадцатилетний император России Петр II. Его ослабленный организм не мог оказать сопротивления опаснейшей в те времена болезни, уносившей множество детских жизней не только в России, но и в Европе, – оспе.
Здоровье императора еще до злополучной оспы не было крепким, что отмечалось неоднократно иностранцами, в частности английским резидентом Клавдием Ронда, доносившим 4 августа 1729 года в Лондон: «Юный государь совершенно оправился от последствий болезни». В декабре того же года Петр II «был нездоров в течение четырех-пяти дней»[14 - РИО. Т. 66. СПб., 1889. С. 71, 115.].
Если кратковременные болезни царя привлекли внимание лишь английского дипломата, ибо он вел важные переговоры о заключении союзного договора между Россией и Англией, то течение рокового недуга, вызвавшего смерть царя, запечатлено многими дипломатами, каждый из которых вносил свою лепту в описание события. Датский посол Вестфален доносил, что 16 января медики считали жизнь царя вне опасности – «вся сыпь высыпала наружу», но ошиблись, ибо в ночь с 16 на 17 «снова показалось множество оспин в горле и даже в носу, что мешало ему дышать».
Французский посол Маньян дополнил эти сведения информацией о том, что инфекция оспы была занесена во дворец Долгорукими, в семье которых несколько человек были заражены ею.
Маньяну была известна еще одна подробность: 11 января царь отправился к невесте (Екатерине Долгорукой. – Н. П.) и «почувствовал там сильную головную боль, что заставило его возвратиться в свои покои»[15 - РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 447.].
Испанский посол де Лириа в депеше назвал день начала болезни царя – 6 января. «На третий день выступила оспа в большом обилии, и до ночи 28-го числа все показывало, что она будет иметь хороший исход; но в этот день она начала подсыхать, и на больного напала такая жестокая лихорадка, что стали опасаться за его жизнь. Вчера весь день он чувствовал себя весьма дурно, лихорадочные припадки повторялись, вечером составили его завещание и принесли ему на подпись; но было уже не время, потому что у него отнялся язык, и после непродолжительной агонии он испустил дух в получасе второго до полуночи»[16 - Осмнадцатый век. Кн. 3. М., 1869. С. 27.].
Виновниками смерти юноши считали Долгоруких, и не только потому, что от кого-то из них он заразился оспой, но и потому, что жертвой ее стал организм отрока, жизненные ресурсы которого в эгоистических целях они неразумно растрачивали.
Обстоятельнее всех причины преждевременной смерти Петра II описал Вестфален: «Тот образ жизни, который вел юный монарх России, пребывания на охоте с утра до ночи, невзирая ни на какую погоду, неправильность в еде, целые ночи, проводимые в танцах, вследствие этого недостаток сна, привычка пить холодное, разгорячившись, все это заставило меня постоянно опасаться за его жизнь»[17 - РС. 1909. № 1. С. 200. 5РИО. Т. 66. С. 19.].
Английский консул Томас Уорд был солидарен с Вестфаленом: в донесении, относящемся к 1728 году, когда в августе в очередной раз заболел Петр II, он писал: «Болезнь эта, вероятно, явилась последствием беспорядочной жизни, которой молодой монарх, по-видимому, предается всем пылом юности и бесконтрольной власти».
Дипломаты справедливо отмечали беспредельную страсть Петра к охоте – ради удовлетворения этой страсти он неделями и даже месяцами в знойное летнее время, зимнюю стужу и осеннюю слякоть носился по полям и лесам ближнего и Дальнего Подмосковья.
Наблюдательный английский резидент справедливо отметил: «Царь думает исключительно о развлечениях и охоте, а сановники о том, как бы сгубить один другого»[18 - РИО. Т. 66. С. 19.].
Страсть царя к охоте подогревал князь Алексей Григорьевич Долгорукий через посредничество своего сына Ивана, являвшегося фаворитом Петра II. Иван Алексеевич Долгорукий с 1708 года жил в Польше и возвратился в Россию в 1725 году. Екатерина I определила его гоф-юнкером при дворе внука Петра Великого Петра Алексеевича, будущего Петра II. Красивый юноша, предприимчивый в изобретении удовольствий, приглянулся юному наследнику, приблизившему его к себе.
Меншиков, зорко следивший за усиливавшимся влиянием князя Ивана на наследника, решил ослабить это влияние назначением Долгорукого камер-юнкером при герцоге Голштинском, обязав его быть переводчиком с русского на немецкий. Этого оказалось недостаточно, чтобы разорвать прочные связи, установившиеся между двумя молодыми людьми, и Александр Данилович добивается привлечения князя Ивана к делу Толстого – Девиера (Толстой и Девиер в 1727 году предприняли попытку лишить Меншикова его положения при дворе) и наказания для него в виде отлучения от двора и отправки в полевые полки с понижение в чине.
С падением Меншикова и воцарением Петра II Иван Долгорукий вновь оказался в фаворе, получил чин обер-камергера и был пожалован Андреевской лентой, а отец его князь Алексей Григорьевич получил 12 тысяч крестьянских дворов. С этого времени началось безграничное влияние князя Ивана, а через него и Долгоруких на Петра II[19 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 77.].
Сохранилось множество отзывов современников об Иване Алексеевиче Долгоруком, но только один из них положительный. Мы не знаем, какую услугу оказал молодой князь герцогу де Лириа, но последний счел нужным отметить его доброту: князь Иван «отличался добрым сердцем. Государь его любил так тесно, что делал для него все, что хотел»[20 - РС. 1873. Т. VIII. С. 39.]. Все остальные современники, русские и иностранные, отмечали пагубное влияние фаворита на царя, называли его наставником в пороках.
Вице-президент Синода Феофан Прокопович считал, что фаворит «пагубу паче нежели роду своему приносит. Понеже бо и природою был злодерзостен; он сам на лошадях, окружен драгунами, часто по всему городу, необычным стремлением, как бы изумленный скакал, но и по ночам в честные домы вскакивал – гость досадный и страшный, и до толикой продерзости пришел, что кроме зависти нечаянной славы уже праведному всенародному ненавидению как самого себя, так и всю фамилию свою аки бы нарочно подвергал…»[21 - Феофан Прокопович. История об избрании на престол Анны Иоанновны // Сын отечества. Ч. 184. № 5. СПб., 1873. С. 31, 32.].
Поверенный в делах Франции Маньян был невысокого мнения об интеллекте фаворита: «Умственные способности этого временщика, говорят, посредственные и недостаточно живые, так что он мало способен сам по себе внушить царю великие мысли». Напротив, фаворит, будучи сам развратником, развивал дурные наклонности и у царя. К. Рондо доносил: «Князь Долгорукий, человек лет двадцати. С ним государь проводит дни и ночи, он единственный участник всех очень частых разгульных похождений императора»[22 - РИО. Т. 66. С. 5.]. Известный историк и публицист второй половины XVIII века князь М. М. Щербатов хотя и не был свидетелем похождений князя, но донес до нашего времени описание одного из его непристойных амурных похождений – о его интимной связи с супругой князя Никиты Юрьевича Трубецкого, урожденной Головкиной, дочерью канцлера: «Князь Иван не только без всякой закрытости с нею жил, но и при частых съездах у князя Трубецкого с другими своими молодыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора и с терпением стыд своей жены сносящего. И мне самому случалось слышать, – продолжал Щербатов, – что единожды он, быв в доме сего князя Трубецкого по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец выкинуть его в окошко и если бы Степан Васильевич Лопухин, свойственник государя по бабке его, Лопухиной, первой супруге Петра Великого, бывший тогда камер-юнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукого, сему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было»[23 - Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. С. 178, 179.].
Интимные связи Ивана Долгорукого с супругой Трубецкого приобрели скандальную известность и могли стать одной из причин опалы фаворита. Об этом 30 сентября 1729 года доносил К. Рондо: «Фаворит князь Долгорукий некоторое время был в немилости, одни говорят вследствие угроз князю Трубецкому, другие уверяют, будто его думали сослать в Сибирь, чтобы помешать любовной интриге его с княгиней Трубецкой, наконец, некоторые с большим основанием полагают, что немилость князя вызвана замыслом его женитьбы на великой княжне Елизавете Петровне». Фаворит приобщил к разврату и царя, бывшего на пять лет моложе его, о чем сообщал де Лириа: «Петр II любил прекрасный пол и даже полагают, что он испытал наслаждения»[24 - РС. 1873. Т. VIII. С. 38.].
Пагубное влияние князя Ивана на царя пыталась предотвратить его старшая сестра Наталья Алексеевна, девушка, по отзывам современников, проницательная, бывшая единственным человеком, к мнению которого иногда прислушивался император. Она видела, к каким пагубным последствиям могла привести дружба брата с князем. Накануне своей смерти от чахотки царевна, по свидетельству К. Рондо, «в самых горячих выражениях представляла брату дурные последствия, которые следует ожидать и для него самого и для всего народа русского, если он и впредь будет следовать советам молодого Долгорукого, поддерживающего и затевающего всякого рода разврат. Она прибавила, что и больна от горя, которое испытывает, видя, как его величество, пренебрегая делом, отдается разгулу. Петр II, чтобы утешить больную, скончавшуюся 29 ноября 1729 года, обещал исполнить волю умирающей, но со смертью царевны он изменил слову, и князь теперь в милости больше, чем когда-нибудь»[25 - РИО. Т. 66. С. 28.].
Действия фаворита, которые направлял его отец, не представляли загадки, ее без особого труда разгадывали современники.
Напомним, князь А. Г. Долгорукий был близок к осуществлению плана женитьбы Петра на своей дочери Екатерине. Напомним также, что он повторял замысел А. Д. Меншикова связать брачными узами императора со своей дочерью Марией. Долгорукие не только повторили затею Меншикова, но и способ ее реализации – чтобы избежать случайного увлечения Петра другой особой либо оградить его от постороннего влияния на юного царя стать под венец с дочерьми, оба потенциальных тестя стремились изолировать жениха. Однако способы достижения цели у Александра Даниловича и Алексея Григорьевича были разными: Меншиков считал верным способом изолировать жениха в собственном дворце и привлечь членов своей семьи и установить надзор за ним; они должны были не спускать глаз с жениха и содержать его как пленника.
Долгорукий придерживался иного плана: поощрялась страсть жениха к охоте, пусть он носится по полям и весям, тешится охотничьими трофеями – волками, лисицами, зайцами, водоплавающей дичью, все они не станут помехой в осуществлении задуманного. Не препятствовала достижению цели и разгульная жизнь молодого царя: в танцах, пьяном угаре, интимных связях с дамами укреплялось влияние на царя фаворита, за спиной которого стоял недалекий отец.
Если, однако, Мария Меншикова не слыла красавицей, то Екатерина Долгорукая, согласно молве, отличалась обольстительной красотой, которой она умело пользовалась, пройдя школу кокетства в Варшаве, где воспитывалась в доме своего дяди Григория Федоровича Долгорукого. Екатерина Алексеевна отличалась еще одним качеством – гордостью, усвоенной отчасти в доме дяди, отчасти унаследованной от родителя, кичившегося своей породой.
Тем не менее судьба обеих царских невест была трагической, предсказанной герцогом де Лириа, писавшим, что «Долгорукие идут по стопам Меншикова и со временем будут иметь тот же конец. Их ненавидят все, они не хотят расположить к себе никого, и теперь они женят, можно сказать, силою, злоупотребляя его нежным возрастом». Надо отдать должное де Лириа – он оказался пророком: в день свадьбы, намеченной на воскресенье 19 января 1730 года, жених неожиданно скончался.
В матримониальных планах Меншикова и Долгоруких обнаруживаются еще две общие черты. Одна из них состояла в том, что царь-отрок не питал нежных чувств к обеим невестам. Де Лириа, наблюдавший за церемонией помолвки Петра II и Екатерины Долгорукой, писал: «Царь не имеет к ней ни капли любви и относится к ней весьма равнодушно, кроме того, он начинает ненавидеть дом Долгоруких и сохраняет еще тень любви только к фавориту. Ему еще не достает решимости, лишь только он обнаружит ее, погибли оба (фаворит и его сестра. – Н. П.) и здесь произойдут новые и ужасные перемены»[26 - Осмнадцатый век. Кн. 2. М., 1869. С. 183, 188, 190, 193.].
Смерть императора оказалась неожиданностью для отца невесты и его сына, а также для Верховного тайного совета, являвшегося высшим органом власти в стране. В соответствии с этим обстоятельством и Долгорукие, и верховники действовали не по заранее обдуманному плану, а занимались импровизацией, то есть принимали решения в соответствии с обстановкой, сложившейся на данный момент. Этим объясняется множество ошибок, допущенных как ближайшими родственниками невесты, так и Верховным тайным советом.
Когда стало ясно безнадежное положение императора, князь Алексей Григорьевич, не расставшийся с мыслью закрепить трон за своей дочерью, пригласил родичей к себе в Головинский дворец. Собравшимся он заявил: «Император болен, и худа надежда, чтоб жив был: надобно выбирать наследника». Василий Лукич Долгорукий спросил: «Кого вы в наследники выбирать думаете?» Князь Алексей Григорьевич указал пальцем наверх, где проживала дочь: «Вот она». Эту мысль развил князь Сергей Григорьевич, такой же незаметный представитель рода, как и князь Алексей: «Нельзя ли написать духовную, будто его императорское величество учинил ее наследницей». Предложение встретило возражение от фельдмаршала Василия Владимировича, державшего во время помолвки племянницы пламенную речь. В передаче французского дипломата она прозвучала так: «Вчера я был твой дядя, нынче ты – моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленная, но, слава Богу, она очень богата, и члены ее занимают хорошие места; итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, но в пользу заслуг и добродетели: это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю»[27 - РИО. Т. 75. С. 429.]. Теперь же он заявил: «Неслыханное дело вы затеваете, чтоб обрученной невесте быть российского престола наследницей. Кто захочет ей подданным быть? Не только посторонние, но и я, и прочие нашей фамилии – никто в подданстве у ней быть не захочет. Княжна Екатерина с государем не венчалась». «Хоть не венчалась, но обручалась», – возразил князь Алексей. Но Василий Владимирович стоял на своем: «Венчанье иное, а обручение иное».
Князья Алексей и Сергей изложили план действий, рассчитанный на использование гвардии: «Мы уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Михайловича Голицына, а если они заспорят, то мы будем их бить. Ты (В. В. Долгорукий. – Н. П.) в Преображенском полку подполковник, а князь Иван майор, и в Семеновском полку спорить о том будет некому». «Что вы, ребячье, врете! – решительно возразил Василий Владимирович. – Как тому может сделаться? И как я полку объявлю? Услышав от меня об этом, не только будут меня бранить, но и убьют».
Фельдмаршал счел затею столь авантюрной и неосуществимой, что решил покинуть собрание[28 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 191, 192.].
После неудачной попытки провозгласить императрицей невесту покойного Петра II и обнаруживавшегося раскола в лагере Долгоруких лидером верховников выступает державшийся до этого в тени князь Дмитрий Михайлович Голицын.
Голицын выделялся среди современников не только талантом, но и образованностью. По мнению К. Рондо, он был «человек необыкновенных природных дарований, развитых работой и опытом. Это человек духа деятельного, глубоко предусмотрительный, разума основательного, превосходящего всех знанием русских законов и мужественным красноречием; он обладает характером живым, предприимчивым, исполнен честолюбия и хитрости, замечательно умерен в привычках, но высокомерен, жесток и неумолим»[29 - РИО. Т. 66. С. 158, 159.].
Несмотря на несомненные достоинства Дмитрия Михайловича, Петр I ему полностью не доверял. Впрочем, и царь не вызывал горячих симпатий Голицына. К. Рондо правильно отметил высокомерие князя. Источником его являлась родовитость, происхождение от литовских князей Гедиминовичей, глубокая вера аристократа в то, что это происхождение давало ему право быть приближенным к царю, занимать высшие должности в государстве. Между тем Петр I окружил себя выскочками, комплектовал «команду» из людей непородистых, пренебрежительно относился к заслугам предков. Более того, Д. М. Голицыну конечно же не импонировала и женитьба Петра I на безродной чухонке, достойной презрения, перед которой он, наряду с прочими, гнул спину, чтобы поцеловать руку. У аристократа Голицына вызывало осуждение и поведение царя, его, если можно так выразиться, демократизм, готовность общаться с простыми людьми, самородками и мастеровыми, если из этого общения можно было извлечь какую-либо пользу для дела.
Петр I, разумеется, догадывался, что князь относится к его тайным недоброжелателям, и поэтому держал его в отдалении, назначив киевским губернатором – на должность, ронявшую родовитого человека в собственных глазах, ущемлявшую его аристократические притязания.
Два десятилетия Голицын тянул лямку киевского губернатора, пока наконец в связи с организацией коллегий не был назначен президентом Камер-коллегии – на должность более высокую, но не первостепенной важности, ибо Камер-коллегия не относилась к числу трех первейших: Военной, Адмиралтейской, Иностранных дел.
Руководство Камер-коллегией стало трамплином для занятия более престижного поста – при Екатерине I в 1726 году он был введен в состав Верховного тайного совета. Но и на этой высокой должности он не чувствовал себя комфортно, ибо в новом учреждении хозяйничали безродный А. Д. Меншиков, иноземец А. И. Остерман и лица, не располагавшие правом хвастаться своими знатными предками: П. А. Толстой, Г. И. Головкин, Ф. М. Апраксин.
Со смертью Петра II, по мнению Дмитрия Михайловича, наступил его звездный час, когда в полной мере могли осуществиться честолюбивые мечты аристократа и раскрыться его дарования и знания. Именно ему принадлежала решающая роль в определении кандидата на осиротевший трон. Голицын с ходу отклонил кандидатуру Екатерины Долгорукой, считая, что она не имела никаких прав на престол, ибо была всего лишь «помолвлена, но не обручена».
Потенциальных кандидаток на трон было пять. Одна из них – бабка умершего императора, первая супруга Петра Великого, заточенная им в монастырскую келью, где она провела свыше трех десятилетий.
В 1727 году инокиня Елена обратилась с просьбой к Меншикову перевести ее в Москву в Новодевичий монастырь и определить «нескудное содержание в пище и в прочем и снабдить бы меня надлежащим числом служителей». Просьба осталась без ответа, но 2 сентября 1727 года ее все же поселили в Новодевичьем монастыре.
Коренные перемены в жизни инокини Елены наступили 9 февраля 1728 года, когда по указу вступившего на престол Петра II инокине вернули светское имя Евдокии Лопухиной, стали содержать «по своему великому достоинству со всеми удовольствиями». Внук щедро окружил бабку заботой: определил на ее содержание 11 139 душ крепостных крестьян, с которых ежегодно собиралось 5564 рубля, утвердил огромный штат придворных. Доход ее с 1 января 1730 года по 1 января 1731 года составил 57 200 рублей. Погреба и башни Новодевичьего монастыря были заполнены яствами и бочками французских вин. Одного заботливый внук не мог возвратить своей бабке – утраченного здоровья: когда ее подвели к постели умершего внука, она, по свидетельству Вестфалена, «вскрикнула и упала в обморок». Она сама отказалась от престола, ссылаясь, по словам того же Вестфалена, «на частые немощи и слабость ума и памяти». Жалобы были обоснованными – Евдокия Федоровна умерла 21 августа 1731 года, хотя, по свидетельству дюка де Лириа, она и невеста царя пользовались поддержкой самых сильных людей[30 - ЧОИДР. 1865. Кн. 3. С. 37–40; Осмнадцатый век. Кн. 2. С. 197, 151.].
Отпала и кандидатура дочери Петра Великого Елизаветы. Хотя по завещанию императрицы Екатерины I трон после смерти Петра II бездетным должна была занять Елизавета Петровна, представители аристократического рода Голицыных и Долгоруких отклонили волеизъявление бывшей служанки, по случаю ставшей супругой царя, по их мнению, незаконно занявшей трон. К тому же Елизавета являлась внебрачной дочерью Петра I – она родилась в 1709 году, то есть за два года до оформления брачных уз. Кроме того, Елизавета, оставшись без отца и матери, вела себя столь легкомысленно, нарушая девическую скромность, что своим поведением смущала современников.
Право занять трон имел еще один потомок Петра Великого, сын его старшей дочери, выданной императором за герцога Голштинского. Родив сына, нареченного Петром, Анна скоро умерла от чахотки. О кандидатуре «кильского ребенка», как прозвали внука Петра, даже никто не заикнулся. Датский посол доносил, что Елизавета Петровна «держит себя спокойно, и сторонники голштинского ребенка не смеют пошевелиться»[31 - РС. 1909. № 1. С. 210.].
Остались три дочери сводного брата Петра Великого Иоанна Алексеевича: Екатерина, Анна и Прасковья. О двух первых и завел речь Дмитрий Михайлович Голицын перед членами Верховного тайного совета. В минуту, когда Петр II испустил дух, Верховный тайный совет состоял из пяти членов, которых принято было называть министрами: канцлера Гавриила Ивановича Головкина, среди присутствовавших человека наиболее преклонного возраста и занимавшего самую высокую должность; вице-канцлера и первого гофмейстера, то есть воспитателя умершего императора, Андрея Ивановича Остермана; второго гофмейстера князя Алексея Григорьевича Долгорукого, отца фаворита Ивана; известного дипломата Василия Лукича Долгорукого и князя Дмитрия Михайловича Голицына.
На ночном заседании с 19 на 20 января в Верховном тайном совете присутствовали не пять, а восемь министров – три члена были кооптированы самими министрами незаконно, ибо назначение в Верховный тайный совет являлось исключительно прерогативой лица, занимавшего трон. Среди новых министров было два фельдмаршала: Василий Владимирович Долгорукий и Михаил Михайлович Голицын старший, а также Михаил Владимирович Долгорукий – сибирский губернатор, прибывший в Москву на свадебные торжества своей племянницы.
В результате кооптации Верховный тайный совет по сравнению с первоначальным его составом существенно изменился, стал вполне аристократическим учреждением; из восьми членов четыре принадлежали роду Долгоруких, два – Голицыных и только два – бывшим активным сотрудникам Петра Великого, под покровительством которого протекала их карьера: немцу Остерману и Головкину. Публичная роль последних во время междуцарствия была незначительной, но по разным причинам. Головкин, как известно, не обладал выдающимися способностями и хотя занимал самую высокую должность, но ничем примечательным не выделялся – даже в годы своего расцвета внешнеполитическими делами заправлял сам царь, а всю черновую работу за спиной Головкина выполняли сначала П. П. Шафиров, а затем А. И. Остерман.
Остерман принадлежал к числу осторожнейших политиков, талантливых интриганов, предпочитавших всегда оставаться в тени и умевших внушать свои мысли вельможам так тонко и ловко, что те считали их собственными и ретиво их претворяли. Он был, выражаясь современным языком, умелым кукловодом, успешно руководившим марионетками-вельможами.
На ночном заседании Верховного тайного совета с пространной речью выступил Дмитрий Михайлович Голицын. Попытаемся, пользуясь различными источниками, сконструировать ее.
«Мужская отрасль императорского дома пресеклась, – начал свою речь Дмитрий Михайлович, – и с нею пресеклось прямое потомство Петра I. Нечего думать о его дочерях, рожденных от брака с Екатериной; завещание Екатерины I не может иметь для нас никакого значения.
Эта женщина низкого происхождения не имела никакого права воссесть на Российский престол, тем менее располагать короной Российской. Завещание покойного императора подложно.
Я отдаю полную дань достоинствам вдовствующей императрицы, но она только вдова государя. Есть дочери царя, три дочери царя Ивана. Конечно, я бы высказался в пользу старшей – герцогини Мекленбургской, если бы она не была замужем за иностранным принцем. Сама она добрая женщина, но ее муж, герцог Мекленбургский, зол и сумасброден». Мнение Голицына о герцогине и ее супруге подтвердили и иностранные дипломаты: Маньян, К. Рондо[32 - РА. 1866. Т. I. С. 2.].
«Я думаю, – рассуждал он после отклонения Екатерины Иоанновны, – что сестра ее, вдовствующая герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, более для нас пригодна: она может выйти замуж и находится в таких летах, чтобы оставить потомство; она родилась среди нас, мать ее русская, старинного и хорошего рода, нам известны сердечная доброта и другие прекрасные качества Анны Иоанновны – вследствие всего этого я считаю ее самой достойной для царства над нами». Другой источник излагает эту фразу по-иному: «Правда, у нее тяжелый характер, но в Курляндии на нее нет неудовольствия». Завершил свое выступление князь Дмитрий на оптимистической ноте: «Вот, братья, мое мнение; если вы можете убедить меня в лучшем – я приму, иначе я останусь при высказанном мнении»[33 - РИО. Т. 75. С. 464.].
Точность речи Д. М. Голицына, переданной К. Рондо; подтверждал французский поверенный в делах Маньян, заявивший, «что он не знает никого, заслуживающего более предпочтения, как герцогиня Курляндская Анна Иоанновна; дочь царя Иоанна, принцесса, достойная не только благодаря царской крови тех предков, от которых она происходит, но и вследствие замечательных достоинств».
Выступление Голицына нашло горячую поддержку у фельдмаршала Долгорукого: «Мысль эта внушена самим Господом и вытекает из патриотического чувства; да благословит Бог и да здравствует императрица Анна Иоанновна!» Этим призывом завершил свою реплику Василий Владимирович. К этому мнению примкнули прочие министры, включая и Алексея Григорьевича, ранее, как мы помним, настойчиво домогавшегося короны для своей дочери.
А о третьей дочери Иоанна Алексеевича – Прасковье – никто не вспомнил. И, видимо, не случайно – она страдала какой-то болезнью, сведшей ее в могилу в следующем году, и к тому же она находилась не то в гражданском, не то в морганатическом браке с Дмитриевым-Мамоновым.
Это событие происходило ночью 19 января, сразу же после кончины Петра II. На этом заседание не закончилось. Убедившись в отсутствии возражений против избрания Анны Иоанновны императрицей, Дмитрий Михайлович продолжил свое выступление, высказав рискованные предложения, к восприятию которых вряд ли были подготовлены присутствовавшие.
– Ваша воля, – обратился он к слушателям, – кого изволите, только надобно себе полегчить.
– Как это полегчить? – спросил канцлер Головкин.
– Так полегчить, чтобы воли себе прибавить, – ответил Голицын.
– Хоть и зачнем, да не удержим этого, – заметил князь Василий Лукич Долгорукий.
– Право удержим, – настаивал на своем Дмитрий Михайлович и тут же добавил: «Будь воля ваша, только надобно, написав, послать к ее величеству».
У уставших и возбужденных бурными событиями министров не было сил продолжить серьезный разговор, и они в четыре утра разъехались по домам, чтобы вновь собраться через шесть часов. Присутствовавшим в других покоях сенаторам, генералитету и шляхетству (как стали называть дворянство во время «затейки» верховников. – Н. П.) было объявлено, чтобы они тоже прибыли, но не в Лефортовский дворец, где лежало тело покойного императора, а в Мастерскую палату Кремля, где обычно заседал Верховный тайный совет.
Около 10 утра Голицын объявил собравшимся сенаторам, генералитету и шляхетству об избрании императрицей Анны Иоанновны, они ответили на это известие возгласами одобрения. Важно отметить, что среди присутствовавших не было представителей церковных иерархов – сколько ни настаивал на их приглашении канцлер Головкин, Голицын протестовал против их участия в событиях на том основании, что «длиннобородые» поступили бесчестно, благословив избрание императрицей Екатерины I, игнорировав интересы законного наследника, каким считался сын царевича Алексея Петр.
Генералитет и сенаторы готовы были разъехаться, а министры по настоянию Голицына собрались для составления «пунктов», намереваемых вручить Анне Иоанновне. Поскольку это был экспромт, готовый проект у Голицына отсутствовал, на заседании начался гвалт и беспорядочные выкрики, которые стал заносить на бумагу секретарь Верховного тайного совета Василий Петрович Степанов. Диктовали все, но чаще всего раздавались голоса князей Дмитрия Михайловича и Василия Лукича.
Лефортовский дворец в конце XIX в.
Фотография. Найденов Н. А.
Москва. Соборы, монастыри и церкви. М., 1883
Записывать «пункты» в такой обстановке было затруднительно, и тогда канцлер Головкин и фельдмаршал М. М. Голицын обратились к Остерману, чтобы тот, «яко знающий лучше штиль», диктовал. Хитрый Остерман решил остаться в стороне от рискованного дела и долго отказывался от чести формулировать «пункты», ссылаясь на то, что он, как иноземец, «в такое важное дело вступать не может». В конце концов Остерману уклониться от роли секретаря-редактора не удалось, и он придавал литературную форму пунктам, произносимым В. Л. Долгоруким и Д. М. Голицыным.
В окончательном варианте «пункты», названные позже «кондициями», выглядели так:
«1. Ни с кем войны не всчинатъ. 2. Миру не заключать. 3. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 4. В знатные чины как в статские, так и в военные, сухопутные, морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета. 5. У шляхетства животы и имения и чести без суда не отнимать. 6. Вотчины и деревни не жаловать. 7. В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховного тайного совета не производить. 8. Государственные доходы и расходы не употреблять.
И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буде чего по своему обещанию не исполню и не додоржу (не осуществлю. – Н. П.), то лишена буду короны российской»[34 - Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 4, 5, 17, 18.].
Условия составления кондиций и их содержание дают основание для нескольких наблюдений. Первое и главное из них состоит в том, что трон достался Анне Иоанновне не в результате борьбы, это была не заранее спланированная, а стихийная акция. Кондиции тоже надлежит отнести к плодам импровизации, к результатам выражения стихийного коллективного творчества. И если в итоге получился довольно стройный документ, каждый пункт которого развивал одну и тут же идею ограничения самодержавия, то это результат творчества не одного Голицына, а всех членов Верховного тайного совета, про себя вынашивавших близкие друг другу мысли. Наконец, третье по счету, но не по важности наблюдение состоит в ответе, почему выбор пал на Анну Иоанновну, почему ей, а не кому другому было решено вручить корону. Расчет верховников был столь же прост, как и убедителен: Анна Иоанновна за 19 лет пребывания в Курляндии лишилась сил, готовых поддержать ее в России, захудалый курляндский двор не представлял опасности, и Анна Иоанновна считалась наиболее удобной фигурой, готовой безропотно выполнить навязанные ей кондиции. Имела значение и ее родословная – она была русской, представительницей правящей династии, имевшей в России корни хотя и слабые, но все же дававшие основание считать ее «своей», а не чужой.
Заметим, полной уверенности в успехе «затейки» верховников, как позже назовет Феофан Прокопович их попытку ограничить самодержавие, у министров не было. Если бы они полностью верили в успешное завершение начатого, тогда показалась бы излишней таинственность осуществления акции. Верховники ожидали сопротивления с двух сторон: широких кругов дворянства и самой императрицы. Если бы подобные опасения отсутствовали, то тогда не к чему было бы скрывать содержание кондиций, вызывать на заседание бригадира Полибина, чтобы дать ему задание оцепить Москву заставами, которым поручено пропускать из Москвы только с паспортами, выданными Верховным тайным советом, запретить выдавать вольным извозчикам ни под каким видом ни подвод, ни подорожных. О неуверенности затейщиков свидетельствует также таинственность отъезда депутации из Москвы.
Выбор главы депутации пал на Василия Лукича Долгорукого не случайно: во-первых, он слыл опытным дипломатом, представлявшим интересы России в Польше, Франции, Дании и Швеции, и верховники, рассчитывая на его опытность и образованность, полагали, что он успешнее других сможет устранить разногласия между депутацией и потенциальной императрицей; во-вторых, Василий Лукич был знаком с Анной Иоанновной в связи с попыткой князя А. Д. Меншикова овладеть короной Курляндского герцога – в 1726 году Долгорукий, будучи послом в Польше, приезжал в Митаву хлопотать, чтобы сейм избрал светлейшего своим герцогом. Похоже, Василий Лукич не проявил должного рвения для исполнения желания князя, чем заслужил расположение герцогини.
В составе депутации находились еще две персоны: сенатор, тайный советник Михаил Михайлович Голицын-младший и генерал Леонтьев, представлявший генералитет. Для полноты недоставало представителя духовенства, но мы знаем о негативном отношении к нему организатора «затейки» Д. М. Голицына.
19 января депутация выехала из Москвы, имея три документа: кондиции, извещение о смерти Петра II и избрании Анны Иоанновны императрицей и инструкцию, которой должна была руководствоваться депутация.
Наиболее уязвимым был первый из перечисленных документов. Известно, что кондиции составлялись келейно, втайне. Между тем в извещении написано: «Как мы, так и духовного и всякого чина свецкие люди того же времени за благо рассудили российский престол вручить Вашему императорскому величеству». Таким образом, воля восьми верховников выдавалась за волю верхов всего общества, под которым подразумевалась его привилегированная часть: вельможи, генералитет, сенаторы, церковные иерархи.
Не совсем ясны мотивы включения ограничительных пунктов в преамбулу к кондициям. Казалось бы, что четыре ограничительных пункта должны влиться в текст кондиции, быть среди них в числе первых либо последних и в итоге составлять не восемь, а двенадцать пунктов. В самом деле, в преамбуле императрица писала «наиглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о содержании, но и о крайнем и всевозможном распространении православной нашей веры греческого исповедания». Вслед за этим преамбула запрещала вступать в супружество, назначать наследника и обязывала императрицу содержать Верховный тайный совет неизменно в составе восьми человек. Эту несуразность можно объяснить только лихорадочной спешкой составления кондиций, написания их впопыхах.
Что касается инструкции депутации, то она не сохранилась и о ее содержании можно лишь догадываться по действиям В. Л. Долгорукого и его информации об этих действиях. Реконструкция этого источника предполагает наличие в нем таких пунктов, как тайное вручение кондиций лично Анне Иоанновне без присутствия посторонних, содержание императрицы в полной изоляции, лишение ее возможности получать информацию из Москвы. Депутация должна убедить императрицу, что подписанные ею кондиции выражают волю «общенародия». Их надлежало немедленно доставить в Москву одному из членов депутации, а Анну Иоанновну убеждать в скорейшем выезде из Митавы. На пути в Москву запрещалось общение Анны Иоанновны с посторонними, она должна была ехать не в отдельной карете, а в сопровождении Василия Лукича. Депутации поручалось также убедить императрицу отказаться от приезда в Россию Бирона и курляндских слуг.
Ни заставы вокруг Москвы, ни стремление держать императрицу в полной изоляции не принесли ожидаемого успеха – тайну того, что происходило в столице, сохранить не удалось.
Мерами предосторожности министры надеялись сразить герцогиню неожиданно выпавшим на ее долю счастьем, сломить ее желание торговаться относительно кондиций. Последним соображением министры были озабочены более всего, ибо не рассчитывали на всеобщее одобрение своих действий широкими кругами шляхетства.
Хотя депутация двигалась в Митаву, по словам Ф. Прокоповича, «с такою скоростью, что на расставленных нарочно для того частых подводах казалось летели они, паче нежели ехали», противникам верховников удалось прибыть в столицу Курляндии раньше В. Л. Долгорукого и его спутников. Гонец Рейнгольда Левенвольде, облачившись в крестьянскую одежду, сумел опередить депутацию на целые сутки. «Он, – по свидетельству Миниха младшего, – первым известил новоизбранную императрицу о возвышении и уведомил о том, что брат к нему писал в рассуждении ограничении самодержавия». Левенвольде советовал Анне Иоанновне подписывать любую предложенную депутатами бумагу, «которую после нетрудно разорвать»[35 - Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 100.]. Не упустил случая противодействовать верховникам и Феофан Прокопович, тоже отправивший в Митаву своего гонца.
Наибольшие злоключения выпали на долю доброхота императрицы П. И. Ягужинского. На следующий день после смерти Петра II он призвал к себе камер-юнкера голштинского герцога Петра Спиридоновича Сумарокова и велел ему отправиться в Митаву.
«Не жалей денег и поезжай как можно скорее в Митаву». И тут же предупредил: «Может быть, поехал князь В. Л. Долгорукий, и, по всей вероятности, заказано никуда никаких подвод не давать».
Прибыв в Митаву, Сумароков должен был устно поведать об обстановке в Москве. Если В. Л. Долгорукий станет убеждать императрицу подписать кондиции и уверять, что они составлены от имени всего народа, то Анна Иоанновна должна была воздержаться от подписания их до своего прибытия в Москву, где убедится, что ее обманывают. Если же депутаты станут угрожать, что они властны избрать другого, то она должна «крепиться до того, пока они свои руки дадут, что от всего народу оные пункты привезены».
«Храни меня и себя, – заключил свое наставление Ягужинский, – и постарайся как можно, чтоб увидеть ее величество тайно и оное объявить».
«Как мне поступать, ежели у меня будут требовать подорожную?» – не унимался Сумароков.
«Все делай через деньги», – ответил Павел Иванович, отвалив своему гонцу изрядную сумму.
Сумароков выехал из Москвы на много часов позже депутации. Кроме того, его на одной из станций задержали на три-четыре часа. В результате Сумароков прибыл в Митаву в тот же день, что и депутация, 25 января, но на три часа позже.
Нам доподлинно не известно, как вел себя Сумароков в Митаве: быть может, он демонстративно хвастал своим важным поручением, быть может, он оказался растяпой, лишенным элементарных способностей конспиратора, но как бы то ни было, он попался как кур в ощип – то ли кто из депутатов, то ли из лиц их свиты его опознали, он был тут же схвачен и закован в кандалы.
Из донесения В. Л. Долгорукого Верховному тайному совету следует, что депутация в Митаву не испытывала ни малейших затруднений – Анна Иоанновна подписала кондиции, предложенные ей в Митаве. По словам Долгорукого, она «те кондиции изволила подписать своею рукой тако: “По сему обещаюсь все без всякого изъятия содержать. Анна”». Эта акция могла быть сопряжена с двумя противоположными последствиями. Подписывая кондиции, Анна Иоанновна меняла захудалую герцогскую корону на пышную императорскую, и эта перспектива была столь заманчивой, что лифляндский дворянин Бракель, неоднократно ссужавший ее деньгами, рекомендовал подписать любую бумагу с любыми требованиями – дальнейшую ее судьбу решат деньги[36 - РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 169.]. В то же время подписание кондиций и поездка в Москву – свидетельство известной отваги Анны Иоанновны, ибо могло случиться так, что вместо того, чтобы восседать на императорском троне, она могла оказаться в келье какого-нибудь захудалого монастыря.
Анна Иоанновна подписала в Митаве еще один принципиально важный документ, заранее заготовленный в Москве: «Хотя я рассуждала, как тяжко есть правление той великой и славной монархии, однако же повинуясь Божеской воле и прося его, Создателя, помощи, к тому же не хотя оставить отечества моего и верных наших подданных, наметилась принять державу и правительство, елико Бог мне поможет так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны.
А понеже к тому моему намерению потребны благие советы, как во всех государствах чинится, того ради пред вступлением моим на российский престол, по здравом рассуждении изобрели мы за потребно для пользы Российского государства и к удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем к отечеству нашему и верным нашим подданным и для того, сколько время наше допустимо, написав, каким способом мы то правление вести хощем, и подписав нашею рукою, послали в Тайный верховный совет, а сами сего месяца в 2 день конечно из Митавы к Москве для вступления на престол пойдем. Дано в Митаве 28 января 1730 года».
Письмо было составлено таким образом, будто инициатива ограничения самодержавия исходила от самой Анны Иоанновны. Она утверждала, что в течение немногих дней, находившихся в ее распоряжении, она написала, «какими способами мы то правление вести хощем», подразумевая под «способами» кондиции. Искушение стать императрицей было столь велико, что Анна Иоанновна отбросила все советы, затруднявшие ее путь к трону, и стала поспешно собираться в дорогу.
1 февраля генерал-майор Леонтьев доставил в Москву подписанные императрицей кондиции, ее письма к членам Верховного тайного совета, а заодно и закованного в кандалы Сумарокова. Казалось бы, все трудности были позади, оставалась пустая формальность – торжественно обнародовать кондиции и согласие императрицы их соблюдать. На торжественное заседание Верховного тайного совета были приглашены Синод, Сенат, генералитет по бригадира включительно, президенты коллегий и «прочие штатские тех рангов».
В 10 часов утра 2 февраля на открывшемся заседании Верховного тайного совета в присутствии всех его членов, за исключением В. Л. Долгорукого, находившегося вместе с императрицей в пути, и прикидывавшегося больным А. И. Остермана, были зачитаны подписанные Анной Иоанновной кондиции и ее письмо. Вслед за тем оба документа были обнародованы всем присутствующим, что вызвало у них удивление и растерянность. Потрясенные, они молчали. Мертвую тишину нарушил Д. М. Голицын, обратившийся с призывом благодарить императрицу за содеянное. Протокол Верховного тайного совета отметил это событие немногословной записью: «За такую ее императорского величества показанную ко всему государству неизреченную милость, благодарили всемогущего Бога и все согласно объявили. что тою е. в. милостию весьма довольны…»[37 - Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 122.].
Официальная версия описания происходившего отличается от описания ее ярыми сторонниками сохранения самодержавия. Ф. Прокопович, например, описал атмосферу заседания, выглядевшую под его пером удручающей: «Никого, почитай, кроме верховников не было, кто бы, таковое слышав, не содрогнулся. И сами те, которые вчера великой от сего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики». Однако никто не осмелился высказать протест. И нельзя было не бояться, «понеже в памяти оного по исходам в сенях и избах многочисленно стояло вооруженное воинство и дивное было всех молчание». Лишь Д. М. Голицын «часто погаркивал, видите, как милостива государыня и какого мы от нее надеемся, таковое она показала отечеству нашему благодеяние. Бог ее подвигнул к сему; отселе счастливая и цветущая Россия будет». Голицын, по словам Прокоповича, спросил: «Для чего никто ни единого слова не проговорит». Послышался робкий вопрос князя А. М. Черкасского: «Каким образом видеть то правление быть имеет?» Еще вопрос в этом же духе: «Не ведаю и весьма чужуся, из чего на мысль пришло государыне так писать»[38 - Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 43, 33.]. Вопросы остались без ответа.
Министры отпустили приглашенных, а сами удалились в палату, куда привели арестованного П. И. Ягужинского. Его спросили, доволен ли он правлением, установленным кондициями, на что он, смутившись, не дал вразумительного ответа. Тогда ему показали письмо, адресованное Анне Иоанновне и изъятое у Сумарокова. Ягужинскому ничего не оставалось, как признать себя автором письма. Тогда по приказанию фельдмаршала В. В. Долгорукого он отдал шпагу и под конвоем сержанта, капрала и 12 рядовых был отведен в темницу. 3 февраля Ягужинского допрашивали, а на следующий день у него после очередного допроса отняли «кавалерию» и при барабанном бое площадные объявили, что он обвиняется в отправке письма, направленного «против блага отечества и ее величества»[39 - РИО. Т. 5. СПб., 1870. С. 349–352.].
Арест Ягужинского относится к самым жестким решительным мерам верховников против своих противников – не помогло даже заступничество канцлера, зятем которого являлся Павел Иванович. Обозначился явный раскол в верхах. Министры, и то не все, выступали сторонниками ограничения самодержавия, остальные вельможи, на стороне которых стояли широкие круги дворянства и гвардейские офицеры, пока открыто не выступали против, но дали понять, что они не будут поддерживать «затейку».
Возникает вопрос, чем не угодны были кондиции собравшимся, почему они не разделяли радость министров, каков был ход мыслей противников новой формы правления. Ответ находим у двух современников, один из которых был активным участником противодействия верховникам, а другой находился вдали от эпицентра событий, губернаторствовал в Казани и пользовался лишь информацией, исходившей от родственника, жившего в Москве. Первым из них был Феофан Прокопович, вторым – А. П. Волынский. Несмотря на различие в их положении, оба они высказывали схожие мысли.
Прокопович полагал, что установление порядков, угодных верховникам, «крайне всему отечеству настоит бедства. Самым им господам нельзя быть долго с собою в согласии, сколько их есть человек, столько явится атаманов междуусобных браней, и Россия возымеет скаредное оное лицо, каковое имела прежде, когда на многие княжения расторженно бедствовала»[40 - Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 36, 37.].
Эти же мысли высказывал и Волынский, причем раскрыл их более основательно, выдвинув три довода против верховников. «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, чтоб быть у нас республике. Я зело в том сумнителен. Боже сохрани, чтоб не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего идолопоклоничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже между главными как бы согласно ни было, однако ж впредь конечно у них без разборов не будет, и так один будет миловать, а другие, на того яряся, вредить и губить станут»[41 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 199.].
Это – основной мотив. За ним следуют менее значительные аргументы: расцветет лесть, причем появится великое множество льстецов, поскольку каждый из них будет льстить одному из многих. Главные будут тем сильнее и влиятельнее, чем больше будут иметь ласкателей; особенную опасность новая форма правления будет представлять во время войны, когда обстановка потребует быстрых и оперативных действий. Исчезнет страх за всякого рода провинность как офицеров, так и штатских, ибо «некоторого присуждения не будет».
О том, что вместо одного монарха «мы увидим в лице каждого члена этого совета тирана, своими притеснениями делавшего нас рабами пуще прежнего», высказывались не только Прокопович и Волынский. Высказывание попало на страницы депеш саксонского посла Лефорта.
В то время как в Москве и за ее пределами горячо обсуждали вопрос о форме правления, карета с Анной Иоанновной и депутацией спешно приближалась к столице под бдительным присмотром Василия Лукича Долгорукого. В распоряжении историков нет сведений, как чувствовала себя императрица и как воспринимала свое пленное состояние, существовал или вызревал у нее план освобождения от кондиций или она полностью отдалась воле судьбы и своих доброжелателей – Левенвольде, Ягужинского, Прокоповича. Сделать выбор она затруднялась еще и потому, что не знала расстановки сил на верхах, не ведала об отношении рядового шляхетства к верховникам, степени их высокомерия, и особенно Долгоруких, один из которых, князь Алексей, вел себя так вызывающе и был настолько высокомерен, что вызвал всеобщую ненависть шляхетства, не обремененного чинами и званиями.
Пребывание Анны Иоанновны в Всехсвятском сопровождалось медленным, но неуклонным расстройством «затейки» верховников. В Всехсвятском произошел ряд примечательных событий: туда прибыли с поздравлениями две сестры Анны Иоанновны и Елизавета Петровна. Хотя они и обменялись любезностями, означавшими настроение двух ветвей дома Романовых жить в мире и согласии, но подлинная теплота между ними отсутствовала. «Мало осталось членов нашего семейства, мы многих потеряли, – обратилась к дочери Петра Великого дочь его сводного брата, – так будем же жить мирно, в полном согласии, и я употреблю все старания не нарушать его». Елизавета Петровна ответила взаимными обязательствами, но тут же пожаловалась на притеснения Долгоруких. «Она, – доносил саксонский посол Лефорт, – не хотела выйти замуж за князя Ивана и за то должна была переносить все неприятности. Ее величество обещала все это исправить»[42 - РИО. Т. 5. С. 356.].
Гораздо важнее приезда сестер было прибытие в Всехсвятское батальона Преображенского полка и членов Верховного тайного совета и генералитета. Канцлер Головкин пытался возложить на Анну Иоанновну ордена Андрея Первозванного и Александра Невского, но императрица сочла попытку вручить ей ордена от подданных унизительной для себя и ненароком перехватила их из рук канцлера, произнеся: «Ах, правда, я и позабыла его надеть» – и велела это сделать одному из придворных. Эта церемония, внешне, казалось бы, незначительная, публично демонстрировала нарушение императрицей кондиций.
Д. М. Голицын обратился к императрице с приветственной речью, в которой заявил, что прибывшие благодарят «за то, что ты удостоила принять из наших рук корону и возвратиться в отечество, и за то, что ты соизволила принять пункты, которые нашим именем предложили тебе наши депутаты».
Ответную речь Анны Иоанновны изложили в донесениях три дипломата: К. Рондо, Лефорт и Вестфален. Содержание их донесений близко друг к другу, в них различествует лишь последовательность расположения фраз, речевые нюансы. В депеше Лефорта ответ Анны Иоанновны изложен подробнее всего: «Я соблаговолила принять пункты, предложенные вами, уверена будучи в неизменном усердии и верности вашей к государыне и отечеству. Я постараюсь только склониться к тем советам, которые бы доказали, что я ищу лишь блага моего отечества и верноподданных моих, прошу вас помогать мне в том; пусть правосудие будет предметом попечительного внимания вашего и пусть мои верноподданные не терпят никакого угнетения». Однако в депеше Лефорта отсутствует ключевая фраза, обнаруживаемая у К. Рондо и Вестфалена. Рондо вложил в уста императрицы слова: подписанные ею «пункты» она будет «соблюдать всю жизнь», а в депеше Вестфалена эти слова звучали так: «Я их свято хранить буду до конца моей жизни».
Первыми приступили к активным действиям верховники – вопреки обещанию жить в мире и согласии они заковали в кандалы сторонника императрицы П. И. Ягужинского. Это был акт устрашения, угрозы всякому, кто посягнет на власть Верховного тайного совета. Не осталась в долгу и Анна Иоанновна – вопреки своему обязательству соблюдать кондиции она объявила себя шефом Преображенского полка и эскадрона кавалергардов, прибывших поздравить императрицу[43 - РИО. Т. 5. С. 355.].
Лефорт доносил в Вену: «На другой день прибытия в Всехсвятское отправили туда батальон гвардии Преображенского полка и эскадрон кавалергардов для занятия почетных караулов». Приняв поздравление преображенцев, императрица объявила себя шефом этого полка. Услышав это, весь отряд «бросился пред ней на колени с криками и со слезами радости. Затем она призвала в свои покои отряд кавалергардов, объявила себя начальником этого эскадрона и каждому собственноручно подносила стакан вина». Этими двумя акциями Анна Иоанновна нарушила четвертый пункт кондиций, предусматривавший «гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета».
Вместо того чтобы напомнить императрице об ее обязательствах и пригрозить ей суровыми санкциями, верховники молча проглотили первую пилюлю и не отважились даже на робкий протест. Таким образом, день 14 февраля, когда совершились описанные выше события – возложение Анной Иоанновной на себя орденов и объявление себя шефом Преображенского полка и кавалергардов, – можно считать днем начала падения «затейки» верховников.
Торжественный въезд Анны Иоанновны в Москву состоялся через четыре дня после похорон Петра II и через день после аудиенции вельмож – 15 февраля, в воскресенье. По своей пышности и торжественности москвичам не доводилось видеть ничего подобного, и эта пышность, первый шаг императрицы, красноречиво свидетельствовала о ее пристрастии к роскоши.
Шествие открывал отряд Преображенского полка, за ним следовали кареты вельмож, в трех из них восседали фельдмаршалы Долгорукий, Трубецкой и Голицын, далее шествовали четыре камер-лакея, за ними – семь карет, в которых сидели придворные дамы, привезенные из Курляндии, а три были пустыми.
Императрица ехала в большой, богато убранной карете с придворными лакеями, четырьмя арапами и скороходами. Шествие замыкали гренадерская рота гвардейского Семеновского полка. Въезд в Земляной город сопровождался залпом из 71 орудия.
У триумфальных ворот в Китай-город императрицу встречали члены Синода во главе с Феофаном Прокоповичем. В Кремле императрица отправилась под звон колоколов в Успенский собор, у входа в который стояли в мундирах сенаторы, президенты и члены коллегий. Вход в собор сопровождался залпом из 101 орудия.
Феофан Прокопович приготовил приветственную речь, но министры запретили ее произносить, и он вручил императрице письменный текст. Мастерскими мазками он в нескольких фразах проследил жизненный путь императрицы, не забыв упомянуть и о вдовьей тоске и житейских лишениях, о преследованиях, которым она подвергалась от неблагодарного раба и весьма «безбожного злодея», под которым подразумевался Меншиков. «Твое персональное состояние всему миру известно, кто же смотря на оное не вздохнул, видя порфирородную особу, в самом цвету лет своих впадшую в сиротство отшеством державных родителей, тоску вдовства приемшую лишением любезнейшей подружки, но по достоинству рода пропитания имущую, но и, что вспомянуть ужасно, сверх многих неприятных приключений и весьма безбожного злодея, тесноту и неслыханное гонение претерпевшую»[44 - Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 50, 55.].
Поселившись во дворце, Анна Иоанновна все еще находилась под бдительным надзором Василия Лукича. Он не спускал с нее глаз, когда она проживала во Всехсвятском. Он поселился у самых дверей светлицы, «ко пребыванию ее уготованною». Заточение продолжалось недолго.
В те дни, когда поставленная на сани карета скользила по российским просторам, останавливалась во Всехсвятском, а затем торжественно въехала в столицу, где с каждым днем накалялись страсти и распри между Верховным тайным советом и шляхетством. Под напором шляхетства верховники вынуждены были идти на одну за другой уступки. Одна из них касалась текста присяги. Ее первоначальный текст развивал кондиции, конкретизировал и в конечном счете расширял полномочия Верховного тайного совета.
Проект присяги выражал благодарность императрице за ее «к российскому народу щедроты», выразившиеся в подписании кондиций и обязательств их свято выполнять, и обязывал принявшего присягу «по силе вышеозначенных ее императорского величества постановленных и утвержденных кондиций в общую пользу и благополучно всего государства правление во всем содержать по сему».
В окончательном тексте присяги, которую подданные принимали 20 февраля 1730 года, отсутствовали наименования таких учреждений, как «Верховный тайный совет, Духовный Синод, Сенат и генералитет», а также слово «кондиции». Вместо них использовано расплывчатое понятие, означавшее отказ верховников от претензий на власть: присягавший давал торжественное обещание «ее величеству великой государыне царице Анне Иоанновне и государству верным рабам и подданным рабом быть, також ее величеству и отечеству моему пользы и благополучия… искать и старатца». Надо полагать, что под терминами «государство» и «отечество мое» следует подразумевать во много крат урезанные притязания верховников на власть, отказаться от роли соправителей императрицы.
События, сокрушившие планы верховников ограничить самодержавную власть императрицы в свою пользу, развернулись в бурные дни между 2 и 10 февраля. 1 февраля генерал Леонтьев доставил в Москву подписанные Анной кондиции и письмо к членам Верховного тайного совета.
Глава III
Крах «затейки» верховников
Со времени памятного заседания Верховного тайного совета, когда министры, обрадованные успехом своей «затейки», обнародовали подписанные Анной Иоанновной кондиции, начался второй и заключительный этап эпопеи об избрании курляндской герцогини императрицей. Напомним, присутствовавшие на заседании генералитет, члены Сената и Синода хотя и не получили ответа на два заданных верховникам вопроса, но Д. М. Голицын, уловивший настроение присутствующих, заявил, «чтобы они (верховники. – Н. П.), ища общей государственной пользы и благополучия, написали проект от себя и подали на другой день».
В событиях последующих дней на первый план вышли широкие круги дворянства – как московские, так и прибывшие из провинции на свадебные торжества Петра II; они оказались вовлеченными в политическую борьбу, причем действовали без заранее разработанного сценария, стихийно, как и сами верховники. Действия шляхетства, полнейшая разноголосица в их мнениях демонстрировали их слабую сословную организованность, точнее ее отсутствие, что заранее определило характер их предложений, возникших, к сожалению, не в результате глубоких раздумий и последовательного, логически стройного их изложения на бумаге.
Но не только неорганизованность шляхетства оказала влияние на содержание и количество поданных ими проектов, но и крайне ограниченное время, отпущенное верховниками на их составление, – совершенно очевидно, для выработки стройной системы управления страной требовалось и немалое время, и достаточное число лиц, владевших юридической подготовкой. Ни тем ни другим шляхетство не располагало.
Включившись в поиски «общей государственной пользы», дворяне разделились на множество групп, каждая из которых составила свой проект, что свидетельствовало не только об отсутствии организующего идейного центра, но и о невозможности собрать всех дворян – в старой столице не было помещения, способного вместить несколько сотен дворян.
Дореволюционные историки в общей сложности насчитывали от 12 до 17 подготовленных проектов. Усилиями советских историков, более скрупулезно подсчитывавших подписи под проектами, их число доведено до 7–8. А число, подписавших их, насчитывалось до 500[45 - Источниковедческие работы Тамбовского педагогического института. Тамбов, 1971. С. 73.].
Отметим, что общим для всех проектов являлось согласие авторов с необходимостью ограничить самодержавную власть императрицы. И еще – их антиолигархическая направленность, стремление обеспечить более активное участие в управлении страной шляхетства и ограничить права аристократии.
Принципиальное различие между проектами (кондициями) верховников и шляхетских состояло в том, что первые стремились «полегчить себе», то есть небольшой группе аристократических фамилий, в то время как вторые предполагали «полегчить» положение всего служилого сословия.
В представленных шляхетских проектах можно обнаружить три сюжета: 1) об организации центральных правительственных учреждений и степени участия в них шляхетства; 2) ограничение прав шляхетства, добывшего это звание шпагой и пером, то есть по Табели о рангах петровского времени и о предоставлении льгот родовитому шляхетству; 3) улучшение положения других сословий: духовенства, крестьян и горожан.
Наиболее радикальный из проектов под пространным названием «Способы, которыми, как видитца, порядочнее, основательнее тверже можно сочинить и утвердить известное и столь важное и полезное всему народу и государству дело» предлагал ликвидировать Верховный тайный совет, поскольку он не оправдал надежд. Высшим органом власти должен стать возглавляемый императрицей Сенат в составе до 30 человек, причем императрица располагает тремя голосами.
Чтобы устранить засилье аристократических фамилий, как то имело место в Верховном тайном совете, сенаторы избираются обществом и от одной фамилии не должно быть более двух человек. Выборного начала придерживаются повсюду: в президенты коллегий, губернаторы, придворные чины. Армия и флот передаются под командование Военной и Адмиралтейской коллегий, а гвардия – Сенату. Заботы об интересах шляхетства выразились в требовании отмены указа о единонаследии, в создании для шляхетства «особливых рот» и гардемаринов для моряков с освобождением их от службы рядовыми.
Другим важным проектом является проект 361, известный под названием проекта князя А. М. Черкасского, поскольку его подпись стоит первой, но составителем его являлся один из образованнейших людей своего времени – энциклопедист В. Н. Татищев. Проект Черкасского – Татищева считал необходимым сохранить Верховный тайный совет, но довести его состав до 21 человека. Зато сенаторов должно быть только 11. Выборы «Вышнего правительства» – Сената и коллегий – осуществляются обществом в составе 100 персон, укомплектованных гражданскими чинами и генералитетом[46 - Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х – начале 30-х годов ХVIII в. М., 1985. С. 274, 275.].
Проект 361 в дополнение к привилегиям шляхетству, перечисленным в «Способах…», предлагал новую – ограничить срок службы дворянства 20 годами. Еще одна примечательная особенность проекта 361 состояла в учете интересов духовенства, купечества и крестьян: первые два сословия освобождались от постойной повинности, «а крестьянам учинить надлежащее облегчение в податях». Остальные проекты ничего принципиально нового не содержат, но варьируют численный состав учреждений. Одни из них предлагали ограничить численность Верховного тайного совета 12–15 человеками, другие предлагали сократить число выборщиков высших учреждений со 100 до 70 человек и т. д. Единственное новшество предложил проект Дмитриева – Мамонтова – перенести столицу империи из Петербурга в Москву.
Шляхетские проекты являются своего рода видимой частъю айсберга. В сложившейся ситуации, когда еще не было известно, кто возьмет верх – Верховный тайный совет или его противники, авторы не решались открыто выражать свои далеко идущие чаяния. В целом нельзя не согласиться с оценкой шляхетских проектов, высказанных в донесении английского дипломата 5 февраля 1730 года. Все проекты, с которыми ему довелось ознакомиться, «очень мало продуманы и ни один из них не мог быть вполне одобрен, хотя проекты эти подписаны и представлены знатнейшими фамилиями»[47 - РИО. Т. 66. С. 136.].
Важное значение в данном случае приобретает скрытая часть айсберга, то есть тайная закулисная борьба, в которой противостояли друг другу олигархи и шляхетство, но исподволь действовала и императрица. Несмотря на усердие В. Л. Долгорукого, противники «затейщиков» находили хитроумные способы извещать ее о происходившем за стенами покоев, о бурном движении умов и возраставшем недовольстве верховниками. Главной посредницей, извещавшей ее о движении среди шляхетства, была статс-дама Прасковья Юрьевна Салтыкова, свойственница императрицы. Лица, настроенные против верховников, а к ним, по сведениям К. Рондо, относились князь Трубецкой и его родственники князь Алексей Черкасский, полковник Преображенского полка Семен Салтыков и другие, передавали обычно записки в пеленках сына Бирона. Феофан Прокопович воспользовался другим способом – он подарил императрице столовые часы, под декой которых находилась записка с уверением, что ее сторонники будут действовать решительно и сплоченно[48 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 211.]. Текла рекой и информация от сестры Анны Иоанновны Прасковьи Иоанновны – единственного человека, имевшего беспрепятственный доступ к императрице.
Мы в точности не знаем и вряд ли когда-либо узнаем, какие мысли тревожили Анну Иоанновну в те дни. Лишь об одном можно сказать с уверенностью – ее голова, на которую нечаянно свалилась императорская корона, не была обременена планами о будущем страны, о намерении что-либо изменить, усовершенствовать, ввести какие-либо новшества. Если она и размышляла о будущем, то ее помыслы ограничивались мечтой о личной судьбе: вероятно, она мечтала о том, как распорядиться 500 тысячами рублей, выделяемыми на содержание ее двора, – они в десять раз превосходили сумму, которой она располагала в скудной Курляндии, об удовлетворении страсти к драгоценным украшениям.
Не могли не роиться в ее голове и мысли о том, как освободиться от унизительной опеки Верховного тайного совета. Вероятно, она понимала, что подаренную ей Верховным тайным советом корону можно так же легко потерять, в случае если она неосторожно нарушит подписанные ею кондиции, – и тогда вместо императорского двора ее ожидала постылая жизнь в монастырской келье. В то же время она была осведомлена, что далеко не все разделяли намерения верховников ограничить ее самодержавную власть, чтобы лишить возможности удовлетворить любую свою страсть; она могла опереться на генералитет, духовных иерархов, вельмож, широкие круги дворянства, чтобы восстановить самодержавие.
Портрет императрицы Анны Иоанновны.
Гравюра Христиана Альбрехта Вортмана с оригинала Луи Каравакка. 1740 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Не бездействовал в эти тревожные дни и Верховный тайный совет: пустить дело на самотек, сидеть сложа руки, уповая на подпись под кондициями, – значит обречь себя на неминуемое поражение. Поэтому в дни, когда шляхетские группировки сочиняли свои проекты, Верховный тайный совет решил перехватить инициативу и в противовес шляхетским проектам представить несколько своих, из которых важным считался «К прежде учиненному определению дополнение».
Предвидя недовольство мелкого и среднего дворянства содержанием кондиции, Верховный тайный совет сразу же отправил в Митаву «К прежде учиненному определению пополнение», состоявшее из четырех пунктов, содержание которых было нацелено на умиротворение общества путем расширения льгот дворянству.
В первом пункте облегчалась служба малолетнего дворянства, начинавшаяся с низших чинов. Намечалось установить срок службы для каждого чина, «чтобы не было в тягость»: морскую службу дворянин должен был начинать не с матроса, а гардемарина, а сухопутную не в гвардейском полку, а в кадетских ротах.
Вторым пунктом для купечества устанавливали свободную торговлю и устраняли причины, ей препятствующие. В третьем пункте «Пополнения» высказано намерение уменьшить бремя крестьян, «каким-нибудь образом облегчить податьми». Специальный пункт касался духовенства и имел в виду восстановление прав архиереев и монастырей, которыми они располагали до учреждения Синода: упразднение Коллегии экономии и передачу управления вотчинами архиереям и монастырям. Им же поручался сбор податей с подвластного населения с передачей сумм Камер-коллегии[49 - Ученые записки Тамбовского пединститута. Вып. 15. Тамбов, 1957. С. 226–231.].
Вершиной уступок верховников шляхетству являются составленные Верховным тайным советом «Пункты присяги», означавшие уступки «затейщиков» натиску шляхетства. Если кондиции четко и последовательно отражали олигархические тенденции верховников, их претензии на полновластие в стране, то «Пункты присяги», напротив, полноту власти предоставляли императрице, а Верховный тайный совет низводился до роли совещательного органа при ней. «Верховный тайный совет состоит ни для какой собственной того собрания власти, точию для лутчей государственной пользы и управления в помощь их императорских величеств».
В этой формуле нетрудно обнаружить сходство с указом Екатерины I 1727 года, определявшим компетенцию Верховного тайного совета[50 - ПСЗ. Т. VII. № 5030.].
Этот пункт присяги вступает в явное противоречие с ее преамбулой.
Далее следует 16 пунктов присяги, обязывавших присягавших свято блюсти установленные в ней нормы, относящиеся к различным сословиям. Духовенству возвращались вотчины, находившиеся в управлении Коллегии экономии, а сама Коллегия упразднялась; члены Синода и архиереи подлежали церковному суду. Пункты присяги учитывали и интересы купечества: провозглашался принцип свободной торговли, отменялись монополии, запрещалось «прочим всяким чинам в купечество мешатца». Здесь же обещано уменьшить размер пошлин и налогов и к «купечеству иметь призрение и отвращать от них всякие обиды». Не оставлены без внимания и интересы крестьян, ограничивающие, правда в минимальных размерах, их налоговые обязательства: «Крестьян податьми сколько можно облегчить, а излишние расходы государственные рассмотреть».
Обстоятельнее всего «Пункты присяги» позаботились о привилегиях шляхетства – дворяне освобождались от бремени солдатской и матросской службы, приобретая офицерские звания при обучении в кадетских ротах, где они осваивали военное дело. Шляхетство было необходимо содержать «в надлежащем почтении» и в «ее императорского величества милости и консидерации»: имущество лиц, наказанных по суду, но принадлежавшее их женам и родственникам, не подлежало конфискации.
Но более всего составители «Пунктов присяги» позаботились о привилегиях аристократии: именно из «фамильных людей», генералитета и знатного шляхетства должны были избираться сенаторы, президенты и члены коллегий, прочие чиновники высшего ранга. Знатным фамилиям предоставлялось преимущество перед остальным шляхетством при назначении на высшие должности[51 - Д. А. Корсаков. Указ. соч. С. 158–161.].
Таким образом, некоторые «Пункты присяги» предоставляли шляхетству больше привилегий, чем оно требовало в своих проектах. Возникает вопрос: почему шляхетство не удовлетворилось уступками верховников и продолжало им противостоять? Ответа на этот вопрос источники не дают. Остается предположить, что участники шляхетского движения, и особенно его руководители, опасаясь мести верховников, решили идти до конца, добиваясь ликвидации этого учреждения. Кроме опасности подвергнуться преследованиям, на крах «затейки» верховников, как увидим ниже, оказала влияние наиболее организованная часть шляхетства – гвардейские полки[52 - Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.]. На решимость шляхетства бороться с верховниками существенно повлияла репутация и А. Г. Долгорукого, и его сына Ивана, пользовавшихся всеобщей ненавистью, вызванной высокомерием и спесью, что бросало мрачную тень на весь род. В итоге верховникам не удалось привлечь дворян на свою сторону.
Между тем лидеры верховников Д. М. Голицын и В. Л. Долгорукий, хотя и участвовали в составлении «Пополнений» и «Пунктов присяги», означавших значительные уступки шляхетству, оставались представителями рода Гедиминовичей и Рюриковичей и втайне не расставались с мыслью ограничить самодержавие: власть императрицы должна распространяться только на ее двор, на содержание которого отпускалась определенная сумма. Право императрицы распоряжаться вооруженными силами ограничивалось только небольшим отрядом гвардейцев, составлявших ее личную охрану.
От действия верховников пером на бумаге перейдем к рассмотрению их поступков.
Первостепенной важности события произошли 25 февраля: в то время как шляхетство и верховники занимались бумаготворчеством, Анна Иоанновна, хорошо осведомленная о брожении шляхетства, недовольная верховниками, приступила к решительным действиям. Надо было спешить, ибо по Москве носились упорные слухи о намерении Верховного тайного совета взять под стражу главаря шляхетского движения А. И. Остермана, князя Черкасского и Барятинского. Слух имел основание, ибо все понимали, что, лишив оппозицию руководителей, верховники без труда одолеют разрозненные группировки шляхетства.
Утром 25 февраля, когда Верховный тайный совет заседал в Мастерской палате Кремля, туда явились 150 человек, преимущественно военные во главе с князем А. М. Черкасским, генерал-лейтенантом и майором гвардии Г. Д. Юсуповым и генерал-лейтенантом Чернышовым, по словам Вестфалена, «с великим шумом» и потребовали удовлетворения своих требований, изложенных в челобитной. Присутствовавшие члены Верховного тайного совета обещали доложить об этом императрице, но челобитчики, не доверяя обещанию верховников, сами решили обратиться к ней. Дальнейшие события подробнее всего описаны датским посланником Вестфаленом.
Явившиеся к императрице челобитчики были ею благосклонно приняты, после чего они вновь появились в покоях Верховного тайного совета, где выразили полное удовлетворение оказанным им приемом императрицы. Князь Юсупов высказал мнение, что внимание императрицы к подданным заслуживает с их стороны искренней признательности, а князь Черкасский добавил: «Мы не можем возблагодарить ее величество за все милости к народу как возвратить похищенное у нее, то есть ту самодержавную власть, которой пользовались ее предки». И далее воскликнул: «Да здравствует наша самодержавная государыня Анна Иоанновна!»
В такой обстановке Долгоруким и Голицыным ничего не оставалось, как заявить: «Пойдем, присоединимся к другим и да будет так, как предопределено св. Провидением». Все направились во дворец к императрице, которой выразили благодарность за подписанные кондиции и в то же время высказали просьбу, чтобы она разрешила собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два от фамилии, чтобы по большинству голосов определить форму государственного правления. В заключение челобитчики заявили: «Всепокорно нижайше желаем и обещаем всякую верность и надлежащую пользу вашему величеству изжаловать и яко сущую всего отечества мать почитать и прославлять во веки бессмертные будем»[53 - Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.].
В. Л. Долгорукий предложил императрице удалиться в кабинет, чтобы вместе с министрами обсудить челобитную, но к ней подошла с пером и чернильницей более решительная и властная Екатерина Иоанновна и произнесла роковую фразу: «Сестра, теперь не время рассуждать и так долго раздумывать». Императрица положила резолюцию: «Учинить по сему».
Шляхетство удалилось на совещание, а оставшиеся в зале гвардейские офицеры кричали: «Не хотим, чтоб государыне предписывались законы, она должна быть такой же самодержицей, как были ее предки». Гвардейские офицеры не ограничились выражением своего желания, они в ответ на призыв утихомириться прибегли к угрозам: «Государыня, мы верные подданные вашего величества, мы верно служили прежним великим государям и сложим свои головы на службе вашего величества; но мы не можем терпеть, чтоб вас притесняли. Прикажите, государыня, и мы сложим к вашим ногам головы ваших злодеев»[54 - Соловьев С. М. Указ. соч. С. 213.].
Угроза гвардейских офицеров оказала решающее влияние на дальнейший ход событий. Она прибавила уверенности как Анне Иоанновне, так и сторонниками самодержавия – шляхетству. Императрица, опираясь на поддержку гвардии, отрешила от командования ею фельдмаршала В. В. Долгорукого и велела подчиняться приказам своего дяди С. А. Салтыкова. Поведение гвардейцев повлияло и на настроения шляхетства. От имени совещавшихся князь Трубецкой вручил ей новую челобитную, в которой за проявленную к ним милость «всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши достохвальные предки имели». Челобитчики просили упразднить Верховный тайный совет и признать недействительными подписанные ею кондиции. В ответ Анна Иоанновна заявила: «Мое постоянное намерение было управлять моими подданными мирно и справедливо, но так как я подписала известные пункты, то должна знать, согласны ли члены Верховного тайного совета, чтобы я приняла предлагаемые мне моим народом?» Те в знак согласия молча склонили головы.
«Как, – задала риторический вопрос императрица В. Л. Долгорукому, – пункты, которые вы мне поднесли в Митаве, были составлены не по желанию всего народа?»
Ей дружно ответили: «Нет!»
«Так, значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул»[55 - Манштейн Х. Г. Записки о России. СПб., 1875. С. 25.].
Императрица велела принести подписанные ею в Митаве кондиции и свое письмо Верховному тайному совету. В протоколе Верховного тайного совета записано: «Те пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, разорвать». Протокол не совсем точно передал случившееся: Анна Иоанновна не разорвала, а надорвала лист с кондициями, что свидетельствует о ее некоторой нерешительности. Этот надорванный лист и поныне хранится в Российском государственном архиве древних актов.
Итак, 25 февраля Анна Иоанновна стала самодержавной императрицей. В тот же день иностранные министры были извещены о принятии Анной Иоанновной самодержавия. Первой акцией самодержицы было освобождение из-под стражи П. И. Ягужинского, причем оно сопровождалось унижением фельдмаршала Долгорукого, который, как мы помним, отобрал у Ягужинского шпагу и «кавалерию».
Описание события 25 февраля оставил бригадир Иван Михайлович Волынский, извещавший письмом двоюродного брата Артемия Петровича Волынского в Казань: «Здесь дела дивные делаются». Далее автор сообщает «о двух поданных шляхетством челобитных; о второй из них с просьбой, чтобы Анна Иоанновна соизволила принять суверенство и тако учинилась в суверенстве… а оные делал все князь Алексей Михайлович (Черкасский. – Н. П.) и генералитет с ним и шляхетство, и что от того будет впредь, Бог знает.
Ныне в великой силе Семен Андреевич Салтыков, и живет он вверху и ночует при ее величестве, а большие в великом подозрении… И такого дела не бывало».
Другим результатом установления самодержавия была опала лиц, причастных к попытке ограничить его. Об их настроении нам известно из донесения Вестфалена от 2 марта 1730 года: «Наши друзья Долгорукие и Голицыны в весьма плачевном положении». Дмитрий Михайлович Голицын предчувствовал беду. Ему приписывают слова, сказанные после поражения: «Трапеза была уготована, но приглашенные оказались недостойными; знаю, что я буду жертвой неудачи этого дела. Так и быть: пострадаю за отечество; мне уже немного остается, и те, которые заставляют меня плакать, будут плакать долее моего»[56 - РС. 1909. № 2. С. 288; Соловьев С. М. Указ. соч. С. 215.].
Предчувствие Дмитрия Михайловича оправдалось – плакать ему придется позже. В первые годы мстительная императрица, обязанная троном именно Голицыну, не только не подвергла его преследованиям, но даже назначила сенатором. Опале подверглись Долгорукие, причем первым из них Василий Лукич, доставивший в Митаву кондиции, сопровождавший ее приезд в Москву и стороживший ее в Кремле. Вестфален доносил, что «императрица сразу же после того, как она надорвала кондиции, подозвала к себе В. Л. Долгорукого и дала ему понять, что очень желает, чтобы он оставил ее кремлевские покои, так как она предназначает их своему родственнику генерал-майору гвардии Симону (Семену. – Н. П.) Салтыкову, которому приказывает сменить дворцовую стражу и лично быть всю ночь в карауле». Впрочем, В. Л. Долгоруков, как и Д. М. Голицын, значился в списке сенаторов.
Действиями Анны Иоанновны, как только она объявила себя самодержицей, руководил срочно выздоровевший А. И. Остерман.
В расчетливых действиях императрицы четко прослеживается почерк хитроумного Остермана, который, как правило, избегал резких движений, предпочитая медленное удушение жертвы мертвой хваткой.
Охраняемая новым караулом, императрица все же не чувствовала себя в безопасности, но то, как она поступила с А. Г. Долгоруким и его сыном, свидетельствует, что ее действиями руководил опытный интриган, опробовавший уже однажды на Меншикове приемы расправы с опальными.
Вестфален, ссылаясь на мнения людей, хорошо знавших русские порядки, доносил: «Иные думают, что этим дело не кончится, для устрашения отрубят несколько голов. Полагают, что карьера Долгоруких и Голицыных закончена[57 - РС. 1909. № 2. С. 292.].
Дипломат полагал, что назначение Долгоруких и Голицына в Сенат – это только повод думать, что она простила нанесенное ей оскорбление. «Но, – продолжал Вестфален, – недавно разразившаяся гроза над главными представителями Долгоруких доказывает, что царица ничуть не забыла злого замысла против своей самодержавной власти».
Первыми жертвами победившей императрицы и ее сторонников стали Долгорукие. Французский дипломат Маньян доносил 9 апреля 1730 года о тайных совещаниях императрицы с обретшим здоровье Остерманом, после чего она велела обнародовать указ об удалении от двора Долгоруких. «Может быть, – рассуждал Маньян, – как думают многие, сегодня станет известным еще большее ухудшение их участи». Четырьмя днями позже более осведомленный де Лириа доносил о том, что предрекал Маньян: «Чего ждали для фамилии Долгоруких, то случилось прошлую неделю. Эта фамилия совершенно убита»[58 - РС. 1909. № 3. С. 548; Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 62.].
Следствие, как и всегда в подобных случаях, велось поспешно и поверхностно. Внимание следователей было приковано к главному вопросу: существовало ли составленное П. П. Шафировым завещание Петра II, объявлявшее Анну Иоанновну наследницей трона. Информация на сей счет исходила от Василия Лукича, признавшегося на допросе, что он, будучи в Митаве, сболтнул об этом, «желая за то ее величества большие к себе милости». Но Василий Лукич поведал Анне Иоанновне не только о выдуманном завещании, но и обо всех событиях, случившихся в Москве до его отъезда в Курляндию. Он рассказал о совещании Долгорукого в занимаемом Алексеем Григорьевичем головнинском дворце, где было решено объявить наследницей престола помолвленную с Петром II Екатерину Алексеевну. Сообщил Василий Лукич и о намерении трех братьев Долгоруких избить министров, если те откажутся поддержать ее вступление на престол. Анна Иоанновна даже переспросила у Василия Владимировича: «Было ли де так». Фельдмаршал ответил уклончиво, назвав замысел трех братьев «дурацким дерзновением».
Таким образом, Анне Иоанновне еще в феврале 1730 года в общих чертах было известно все, что происходило в головнинском дворце. Но, видимо, не в интересах следствия было докапываться до истины: о составлении подложного завещания, о поддельной подписи его Иваном Долгоруким и т. д. Во всяком случае в Манифесте о винах Долгоруких об этом не сказано ни слова.
Главная цель следствия – утвердить на троне самодержицу и как можно скорее избавиться от подследственных, подальше удалить их от столицы, чтобы обезопасить себя от случайностей. 14 апреля 1730 года был обнародован Манифест о вине Долгоруких, причем Манифест разбирал только трех представителей рода: Алексея Григорьевича Долгорукого с сыном Иваном и Василия Лукича Долгорукого.
Ни отцу, ни сыну не были предъявлены обвинения ни в попытке объявить наследницей трона невесту покойного императора, ни в причастности Верховного тайного совета к ограничению самодержавия. Манифест обвинял их лишь в том, что они, пользуясь фавором покойного императора, «стали всеми образы тщится и не допускать, чтоб в Москве его величество жил, где б завсегда правительству государственному присматривало». Вместо этого отец и сын под предлогом забав и увеселений отъезжали от Москвы «в дальные и разные места отлучали его величество от доброго и честного обхождения и, уподоблясь Меншикову, на дочери своей в супружество его готовили». Другая вина отца и сына состояла в разжигании у отрока страсти к охоте, чем его «здравию вред учинили». Наконец, Манифест обвинял отца и сына в казнокрадстве – они из казны взяли «многий наш скарб, состоящий в драгих вещах», правда, потом у них изъятых. Вина Василия Лукича состояла в том, что он по поручению Верховного тайного совета вручил Анне Иоанновне кондиции и во время путешествия из Митавы в Москву, а также во Всехсвятском и столице лишил ее общения с подданными и всячески притеснял.
Мера наказания обвиняемым не отличалась суровостью: князь Алексей вместе с супругой, сыновьями и дочерьми и братом Сергеем с семьей должны были жить в дальних деревнях с запрещением выезда из них. Ссылке в дальние деревни подлежал и «безбожно нас обманывавший» князь Василий Лукич. К остальным Долгоруким Манифест проявил снисходительность: братьев Алексея Григорьевича Ивана и Александра он определил воеводами в дальние города, предварительно лишив их чинов и «кавалерии»[59 - ПСЗ. Т. VIII. № 265.].
В последовательности применения репрессий к Долгоруким чувствуется почерк Остермана, проверенный ранее на Меншикове. Последний, как мы помним, лишался разных почестей постепенно, пока не оказался в Березове. Примерно так же поступили и с Долгорукими. Как только обвиняемые были выдворены из Москвы, вдогонку к кортежу ссыльных был отправлен курьер с указом, существенно ужесточавшим меру наказания. Предлогом для этого стало обвинение в медленном продвижении к месту ссылки – семья князя Алексея делала продолжительные остановки в находившихся по пути имениях, где развлекалась охотой. Теперь маршрут их был изменен, их отправили в Березов. Такая же участь постигла и Сергея Григорьевича – не успел он добраться до своей вотчины, где должен был безбедно жить, как 12 июня последовал новый указ – ссыльного взять под стражу и отправить в Ранненбург.
Среди Долгоруких самым обласканным императрицей в первые дни ее царствования оказался Василий Лукич: ему была уготована должность сибирского губернатора. По сути дела, это тоже была ссылка, хотя и почетная, ибо карьеру в то время обеспечивала близость ко двору.
На пути к месту службы в Тобольск Василия Лукича догнал подпоручик с командой в 14 человек и с повелением взять его под стражу, лишить чинов и «кавалерии» за многие императрице и государству «бессовестные противные поступки» и отправить на жительство в пензенскую вотчину Знаменское. Крутую перемену в жизни Василия Лукича молва связывала с Бироном, якобы заподозрившим в нем соперника.
В Знаменском Василию Лукичу жилось вольготнее, чем прочим ссыльным Долгоруким: ему разрешалось посещать церковь, совершать прогулки во дворе и даже за его пределами, навещать конюшни и присматривать за полевыми работами. Впрочем, относительной свободой ссыльный наслаждался месяца полтора – 23 июня 1730 года его вывезли из Знаменского, а уже 4 августа он оказался на Соловках.
Судьба к Голицыным оказалась благожелательнее, чем к Долгоруким. Вероятно, сказалась настойчивость Дмитрия Михайловича, с которой он продвигал к трону Анну Иоанновну. Но и в лагере Голицына отсутствовала уверенность в своей безнаказанности. Во всяком случае знаменитый фельдмаршал М. М. Голицын, втянутый в «затейку» старшим братом Дмитрием, не исключал возможности оказаться среди преследуемых. Об этом повествует Вестфален в депеше от 23 апреля, то есть после опубликования Манифеста о провинностях Долгоруких. Голицын, согласно рассказу Вестфалена, встав на колени, обратился к императрице со смелой речью, свидетельствующей о благородстве фельдмаршала: «Если ты желаешь видеть в этом желании (ограничить самодержавие. – Н. П.) важное преступление, признаю себя виновным. Но не согласна ли ты, всемилостивейшая императрица, что твой третий или четвертый наследник может быть кровожадным и жестоким государем? Я хотел защитить наше бедное потомство против такого произвола, назначив благородную границу их непомерной власти и власти фаворитов, которые всегда немилосердно нас мучили. Ты сама испытала их низменность во время фавора Меншикова. Я знаю, как бы то ни были чисты мои побуждения, я безвозвратно погиб, если тебе угодно поступить со мною по всей строгости законов.
Я в твоей власти, если ты непременно желаешь меня наказать, всенижайше и серьезно прошу тебя, лучше казни меня смертью, но не огорчай ссылкой. Если мне придется остаток дней моих провести в печали, я буду смертельно страдать все время, пока проживу». Вестфален рассказывает, что Анна Иоанновна, выслушав речь, настолько расстрогалась, что расплакалась.
Нам остается ответить на вопрос, волновавший как современников, так и потомков: почему намерение верховников ограничить самодержавие потерпело неудачу, почему надорванные кондиции стали кульминацией в победе самодержавия? Причин несколько, но главная из них кроется в отсутствии консолидации среди господствующего сословия, которая наступила несколькими десятилетиями позже.
Несмотря на Табель о рангах, формально ликвидировавшую «перегородки» между отдельными группами дворянства, назвав его шляхетством, различия между ними, как показали события 1730 года, сохранились. Их можно было наблюдать на двух уровнях: между аристократией и остальной массой шляхетства и внутри самого шляхетства.
Волею случая Верховный тайный совет был укомплектован преимущественно выходцами из аристократии, причем представителями двух фамилий: Долгоруких и Голицыных. Составленные ими кондиции отражали интересы прежде всего этих двух фамилий. Вчитайтесь в кондиции и их преамбулу, состоявшие из двенадцати пунктов, и вы обнаружите только два, в реализации которых были заинтересованы широкие круги дворянства: обязательство императрицы заботиться об укреплении и расширении православия и лишении императрицы возможности распоряжаться без суда жизнями и имениями дворян. Остальные же десять пунктов были нацелены на удовлетворение интересов двух аристократических фамилий и имели в виду не изменение политического строя в стране, а ограничение власти конкретного монарха в пользу конкретных фамилий. В этом плане представляет интерес восьмой пункт кондиций, обязывающий императрицу содержать Верховный тайный совет в неизменном составе восьми человек.
Сказанное дает основание считать «затейку» верховников олигархической, удовлетворяющей притязания всего лишь двух фамилий. Отсюда брали начало все последующие ошибочные действия верховников, имевшие более или менее стратегическое значение.
Аристократическая спесь Долгоруких и Голицыных препятствовала привлечению на свою сторону таких влиятельных персон, не принадлежавших к кланам аристократии, но пользовавшихся огромным авторитетом среди шляхетства, как Ягужинский, Татищев, Кантемир и другие.
Батюшки мои, обратился Павел Иванович к Василию Лукичу, прибавьте нам, как можно, воли.
Говорено уже о том было, но то не надо, слукавил князь Василий, не желая «прибавить воли» сыну пастора[60 - Соловьев С. М. Указ. соч. С. 203.].
К столь же существенным ошибкам олигархов относится игнорирование интересов духовенства, нежелание иметь его в качестве союзника. Привлечение на свою сторону церковных иерархов и главного из них, Феофана Прокоповича; прибавило бы немало весу верховникам.
Консолидация отсутствовала и среди самого шляхетства. Достаточно в этой связи напомнить существование шести-семи проектов, исходивших от шляхетства, чтобы убедиться в отсутствии у него общности взглядов.
Но наличие разногласий не исключало общности их воззрений, которых, по крайней мере, было две: шляхетство недвусмысленно требовало либо упразднения Верховного тайного совета, либо увеличения численности его состава, следовательно, выступало против узурпации им верховной власти. Во всех шляхетских проектах нет требования сохранить самодержавие в том виде, в каком оно существовало до «затейки» верховников. Подобная ситуация открывала верховникам широкий простор для маневрирования, которым они не воспользовались, поскольку находились в плену олигархических иллюзий.
К тактическим ошибкам, обрекавшим олигархов на поражение, относится их нерешительность, отсутствие смелости и желания добиваться победы с использованием своего влияния и власти. Напомним, среди олигархов находились два уважаемых в армии фельдмаршала: В. В. Долгорукий сосредоточивал в своих руках управление Военной коллегией, то есть административную власть над командным составом полевой армии и гвардии, где он значился подполковником Преображенского полка. Что касается фельдмаршала М. М. Голицына, то у него была репутация отважного офицера, по-отечески заботившегося о солдатах и заслужившего их любовь. Верховники не воспользовались этими возможностями и вспомнили о них с большим опозданием.
О большом влиянии фельдмаршалов на внутренние дела доносил английский дипломат К. Рондо. О В. В. Долгоруком отзывался так: «Он великодушен, смел, держится откровенно, говорит свободно», за что и поплатился во время следствия по делу царевича Алексея. Его Петр I отправил в Соликамск, но Екатерина назначила его командовать войсками в Персию, однако за вольные суждения о царице, его выручившей, и ее фаворите вновь оказался в опале. Возвысился при Петре II благодаря протекции царского фаворита и его отца.
К фельдмаршалу М. М. Голицыну Рондо более строг: «Он характера серьезного, скуповат и не из широких натур, но приветлив и очень доступен, человек высокочестный, неудержимой храбрости, проявленной во многих делах против шведов»[61 - РИО. Т. 66. С. 157, 158.].
Верховники, далее, осуществляли не наступательные, а оборонительные акции, уступая одну за другой позиции противоборствующей стороне, готовя тем самым почву для восстановления самодержавия. Нерешительность действий верховников, распри в лагере Долгоруких тоже не способствовали успеху дела.
Наконец, верховники проявили наивность, уповая на устройство застав, на изоляцию Анны Иоанновны, надеясь превратить ее в свою марионетку.
Об ошибочности тактики верховников, не использовавших возможность апеллировать к шляхетству, быть может и составлявшему меньшинство, но все же разделявшему идеи верховников, свидетельствует позиция бригадира Козлова. Он был очевидцем начальных действий верховников по ограничению самодержавия и, прибыв в Казань, с восторгом делился своими впечатлениями с губернатором А П. Волынским. Они настолько интересны, что хотя и пространны, но заслуживают полного их напечатания: «Теперь у нас прямое правление, государство стало порядочное… и уже больше Бога не надобно просить, кроме, чтоб только между главными согласие было. А если будет между ними согласие, так как положено, конечно, никто сего опровергнуть не может. Есть некоторые бездельники, которые трудятся и мешают, однако ж ничего не сделают, а больше всех мудрствуют с своею партишкою князь Алексей Михайлович (Черкасский. – Н. Я.)… И о государстве так положено, что хотя в малом в чем не так будет поступать, как ей определено, то ее, конечно, вышлют назад в Курляндию, и для того будь она довольна тем, что она государыня Российская; полно и того. Ей же определяют на год 100 000 и тем ей можно довольно быть, понеже дядя ее и император и с теткой ее довольствовались только 60 000 в год, а сверх того не повинна она брать себе ничего, разве с позволения Верховного тайного совета; также и деревень никаких, ни денег не повинна давать никому, и не токмо того, но последней табакерки из государственных сокровищ не может себе вовсе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будет, давать ей с росписками»[62 - С. М. Соловьев. Указ. соч. С. 211.].
Волынский не разделял взглядов Козлова, радовавшегося попыткам ограничить самодержавие, видимо, не только по идейным, но и карьерным мотивам. А. С. Салтыков являлся не только дядей императрицы, но и дядей Волынского, следовательно, полновластие Анны открывало широкие перспективы в карьере Волынского.
Попутно отметим, что Волынский высоко оценивал способности Козлова и считал его высказывания о политическом устройстве страны искренними. Козлов, писал он Салтыкову, «очень не глуп и для того естъ-ли бы совершенной надежды не имел, как бы ему так смело говорить и говорил не пьяный[63 - РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 276. Ч. 2. Л. 38.].
Конечно, вера бригадира Козлова в то, что во время правления Верховного тайного совета в стране наступит благоденствие, исчезнут огромные траты на содержание двора, наступит правосудие, является эфемерной и наивной. Для нас его мнение представляет интерес в том плане, что и среди шляхетства находились сторонники верховников, но они не воспользовались ни услугами Козлова, ни его единомышленников, оставшись невостребованными.
Глава IV
Царствовала, но не управляла
Определяющим при оценке государственного деятеля должны быть не его личные свойства, хотя их не следует игнорировать, а перечень дел, полезных народу и государству: что сделано по инициативе монарха или монархини и при их активном участии в законотворчестве, в реализации внутри- и внешнеполитических планов, в совершенствовании государственного аппарата, в укреплении мощи и престижа государства, в градостроительстве, развитии науки и культуры. Если говорить о XVIII столетии, то этим требованиям вполне соответствовали Петр Великий и Екатерина II.
Общеизвестна кипучая деятельность Петра I, оставившего глубокий след во всех сферах жизни страны: экономической, социальной, дипломатической, военной, культурной и др. Петр I законодательствовал, участвовал в сражениях на суше и на море, вникал во все детали жизни общества. Итог его правления можно сформулировать так: он возвел Московию в ранг европейской державы.
Петр Великий, как и Екатерина II, не только царствовал, но и управлял, нес тяжкое бремя служения государству, не жалел, как он писал, «живота своего» на военной и гражданской службе. Еще одно качество свойственно крупномасштабным государственным деятелям – умение угадывать таланты и комплектовать команду из людей неординарных, энергичных, инициативных.
Удел других монархов и монархинь куда скромнее: подобно английским королям и королевам они царствовали, но не управляли, с тем, однако, различием, что права английских монархов были ограничены законом, в то время как власть русских императоров и императриц была абсолютной, не знающей преград. Анна Иоанновна принадлежала именно к этому типу монархов: как мы убедились выше, она не прошла школы управления огромной империей, на троне оказалась волею случая, не обладала необходимой для государыни энергией, была от природы ленива, бесхарактерна и жестока и использовала трон для личной услады.
Вызывает удивление глубокая пропасть, существовавшая между оценками, обнаруживаемыми в откликах современников об императрице, и ее делами. Впрочем, удивляться не приходится, когда мы читаем официальные отклики о деяниях императрицы, исходившие от придворных льстецов, обязанность которых состояла в прославлении несуществующих добродетелей царствующих особ, или правительственной газеты, печатавшей заметки об усердии императрицы в делах управления, используемых для создания облика мудрой императрицы.
Начнем с отзывов двух присяжных панегиристов: пиита В. К. Тредьяковского и главы православной церкви, прославлявшего с одинаковым усердием на протяжении четырех царствований: Петра Великого, заслуживающего всяческих похвал, бездарную его супругу Екатерину I, ничем не проявившего себя отрока Петра II и оставившую о себе недобрую память Анну Иоанновну.
Все пииты стремились перещеголять друг друга в прославлении императрицы, «высочайшей премудрости Анны». А. Кантемир видел в поступках ее «мудрость многу и сколь ей в истину расчищена дорога». Не уставал воспевать добродетели Анны и Феофан Прокопович.
Луи Каравакк.
Портрет императрицы Анны Иоанновны. 1730 г. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
В «Слове» в честь восшествия на престол Анны 19 января 1733 года проповедник выражал радость, что престол заняла она, а не кто другой. Автор «Слова», произнесенного 28 апреля 1734 года, посвятил его доказательству того, что для России единственно приемлемой формой правления может быть только самодержавие. В подобном контексте комплименты типа «Особа багрянородна не много имела равных себе в толикой чести особ во всей подсолнечной, а в состоянии без числа лучше от себя цвету их видела» не подкреплены фактами и повисали в воздухе[64 - Феофан Прокопович. Слова и речи. Ч. 3. СПб., 1769. С. 48, 53, 146, 152, 158, 188 и др.]. Лишь одно слово, произнесенное Прокоповичем, связано с конкретным событием – овладением Данцигом, но этот эпизод, происшедший при жизни Прокоповича, не относится к числу важных, заслуживающих громких похвал.
Единственная в стране газета – «Санкт-Петербургские ведомости», – являвшаяся рупором правительства, настойчиво внушала читателям мысль, что Анна Иоанновна с необычайным усердием и постоянством участвовала в решении государственных дел, причем чем дальше, тем в большей мере. На поверку, как мы убедимся ниже, здесь обнаруживается обратная зависимость: чем ближе к нашему времени, тем меньше она занималась делами и тем пышнее и многословнее становилась информация о ее заботах о благе государства и его подданных.
30 июня 1730 года «Санкт-Петербургские ведомости» уведомляли подданных: «Хотя ее величество еще непрестанно в Измайлове при нынешнем летнем времени пребывает, однако в государственных делах превеликое попечение иметь изволит, понеже не токмо Сенат здесь (в Москве. – Н. П.) свои ежедневные заседания имеет, но такожде два дня в неделю назначены, чтоб оному у ее императорского величества в Измайлово собираться, и в ее присутствии в среду иностранные, а в субботу здешние государственные дела воспринимать, такожде изволит ее величество сверх того министров до аудиенции допускать».
В последующие годы газета перестала называть дни присутствия императрицы на заседаниях Кабинета министров, поскольку они стали крайне редкими, а ограничивалась самой общей информацией о ее участии в делах управления. Так, после переезда двора из Москвы в Петербург 18 мая 1732 года население столицы извещалось, что Анна Иоанновна «изволит в государственных делах к бессмертной своей славе с неусыпным трудом упражняться». В июньской публикации читаем то же самое, но с некоторым дополнением – императрица «с превеликим матерным попечением упражнятся изволит» в государственных делах. В октябре того же года императрица, как извещала газета, «ежедневно со своими министрами о непременном благополучии своих государств неусыпное попечение имеет». В конце ноября появилось более изощренное и многословное заявление о том, что Анна Иоанновна «к вечной своей славе и к знатной пользе своих вернейших подданных и поныне неусыпное смотрение имеет. Чего ради ее императорское величество ни одного дня не упускает, в котором бы ее императорское величество при обыкновенных того рода советах всевысочайшей особого всемилостивейше присутствовать не изволила».
Таким образом, на протяжении одного года «Ведомости» опубликовали четыре извещения о занятиях императрицы делами. Частое появление их легко объяснимо: Анна Иоанновна еще недостаточно прочно укрепилась на троне и нуждалась в распространении мнения, что она подражает не Петру II, носившемуся по полям и весям, круглый год занимаясь охотой, а Петру Великому, работнику на троне.
В 1733 году «Санкт-Петербургские ведомости» тоже четырежды публиковали извещения о занятиях императрицы делами, но с двумя существенными отличиями: в них отсутствует присущее извещениям 1732 года славословие, а главное – императрица участвовала в заседаниях Кабинета министров лишь при обсуждении секретных дел. 12 февраля Анна Иоанновна «ныне при тайных советах опять обыкновенно присутствовать изволит»; в августе – «беспрестанно при тайных советованиях в нынешнем состоянии присутствует»; 1 ноября – «при советовании о нынешних обстоятельствах завсегда сама присутствовать изволит»; 20 декабря подтверждение предшествующих уведомлений: императрица в советах «непрестанно присутствует».
Самое пространное такого рода известие было обнародовано газетой 2 октября 1735 года: «Ее императорское величество всемилостивейшая наша самодержица обретается во всяком вожделенном благополучии как при дворе ее императорского величества во всем преизрядный порядок и непременная исправность крайне наблюдается, так и многие иностранные дела, в которых ее императорское величество беспрестанно упражняться изволит. Ее величество от того весьма не удерживают, чтоб о своей империи и всегдашнем приращении оные не иметь прозорливого и радетельного смотрения».
Чем дальше, тем реже появляются подобные сообщения. Так, за 1736 год газета ограничилась единственной публикацией в марте, извещавшей, что императрица изволила «при нынешних обстоятельствах с неусыпною матерною ревностию присутствовать».
Большое значение для создания в сознании подданных мыслей о величии Анны Иоанновны придавалось фейерверкам. Общеизвестно, огненными потехами увлекался Петр Великий, но при нем они использовались для прославления величия России, ее достижений. Фейерверки времен Анны Иоанновны прославляли императрицу, связывали с ее именем благополучие страны. Фейерверки устраивались в новогодние дни, дни рождения, тезоименитства и коронации Анны Иоанновны. Как сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», во время первого подобного фейерверка, устроенного в честь дня рождения императрицы 28 января 1733 года, наблюдавшие прочли слова на латинском языке, заимствованные у Овидия: «Оттуда происходит величество и в самой тот день, в которой родилась, уже велико было». В феврале того же года в фейерверке были использованы слова Клавдия: «Имя ее вознесут народы».
О новогоднем фейерверке 1734 года газета писала: изображенный орел держал «в правой лапе лавром обитый меч, а на грудях щит с вензловым именем ее императорского величества, имеющий надпись: “Щит другам, страх неприятелем”». Едва ли не самый подобострастный фейерверк был устроен в честь нового 1736 года. В описании газеты он выглядел так: «На фоне фейерверка изображена была Россия в женском образе, стоящая на коленях перед ее императорским величеством, которая освещалась снисходящими с неба на ее императорское величество и от ее величества возвращающимся сиянием с сею надписью: “Благия нам тобою лета”». На фейерверке, посвященном дню рождения, 28 января 1738 года были обозначены слова: «Да умножаются лета великия Анны».
Важным средством, внушавшим подданным мысль о непрестанной заботе императрицы об их благополучии, являлись манифесты. В отличие от газеты, которую читала малочисленная прослойка населения, манифесты произносились с амвонов и являлись достоянием всех подданных, проживавших в самых глухих местах. Однако далеко не все манифесты и указы информировали читателей и слушателей о неусыпных трудах императрицы, а лишь те из них, где предоставлялась возможность противопоставлять «матерное попечение» неблагодарности подданных, совершивших тяжкие политические преступления.
Манифест от 23 декабря 1731 года о наказаниях Долгоруких должен был усугубить их вину следующими словами: «Хотя всем известно, какие мы неусыпные труды о всяком благополучии и пользе государства нашего, что всякому видеть и чувствовать возможно из всех в действо произведенных государству полезных наших учреждений». Манифест, обнародованный в ноябре 1734 года в связи со ссылкой в Сибирь смоленского губернатора князя Алексея Андреевича Черкасского, начинался словами: «Известно всем нашим подданным, коим образом с начала вступления нашего на наследной прародительский Всероссийской империи самодержавный престол неусыпное попечение имеем об утверждении безопасности нашего государства и благопоспешествования пользы и благополучия всех наших верных подданных». Указ 9 января 1737 года о наказании Д. М. Голицына тоже перечисляет добродетели императрицы: «Ревнуя закону Божьему крайнейшее желание и попечение имеем все происходящие неправды, ябеды, насильства и вымышленные коварства всемерно искоренять, а правосудие утверждать и обидимых от рук сильных избавлять»[65 - ПСЗ. Т. VIII. № 5916; Т. IX. № 6647; Т. X. № 7151.].
Как видим, все средства, которыми располагала правительственная пропаганда, были использованы для создания образа правительницы, денно и нощно пекущейся о благе государства и своих подданных. Вызывает недоумение, что официальную версию о мудрости российской императрицы подхватили и некоторые зарубежные дипломаты, и немцы, находившиеся на русской службе.
Первый благожелательный отзыв об Анне Иоанновне принадлежит английскому резиденту К. Рондо. В донесении от 20 апреля, то есть спустя месяца два знакомства с императрицей, он сумел обнаружить в ней много положительного: «Ее царское величество показала себя монархинею весьма энергичной и смелой, без этих качеств ей вряд ли бы удалось предотвратить ограничение своей власти»[66 - РИО. Т. 66. С. 182.]. Прусский посол Мардефельд тоже высоко отзывался о способностях Анны Иоанновны, хотя отмечал и недостатки: «Настоящая императрица обладает большим умом, расположена к немцам, чем к русским, отчего она в своем курляндском придворном штате не держит ни одного русского, а только немцев». Наблюдения леди Рондо тоже не были продолжительными, тем не менее она оставила привлекательный образ императрицы: «Она примерно моего роста, но очень крупная женщина, с очень хорошей для ее сложения фигурой, движения ее легки и изящны. Кожа ее смугла, волосы черные, глаза темно-голубые. В выражении ее лица есть величавость, поражающая с первого взгляда, но когда она говорит, на губах ее появляется невыразимая милая улыбка. Она много разговаривает со всеми и обращение ее так приветливо, что кажется, будто говоришь с равным, в то же время она ни на минуту не утрачивает достоинства государыни. Она, по-видимому, очень человеколюбива, и будь она частным лицом, то я думаю, что ее бы называли очень приятной женщиной»[67 - Безвременье и временщики. С. 210.]. Леди Рондо, как видим, уклонилась от характеристики натуры, ограничившись описанием ее внешности, судя по другим источникам, далекой от оригинала.
Французскому офицеру Агену де Моне, оказавшемуся в русском плену в 1734 году, удалось увидеть императрицу единственный раз – во время приема, устроенного ею для офицеров, отбывавших на родину: «Мы нашли, что императрица отличалась величественным видом, прекрасной фигурой, смуглым цветом лица, черными волосами и бровями, большими на выкате глазами такого же цвета и многочисленными рябинами на лице; она была причесана по-французски и в волосах у нее было множество драгоценных камней. На ней было золотое парчовое платье с огненным оттенком. На роскошной ее груди виднелась большая бриллиантовая корона. У нее, кажется, мягкий и добрый нрав». Описание величественного облика императрицы и ее безупречной фигуры, надо полагать, являлось знаком признательности французов, оказавшихся в плену и, вероятно, ставших бы жертвами русской зимы, если бы она не распорядилась экипировать пленных зимним обмундированием.
Другой француз, на этот раз командовавший десантом, бригадир Ламотта де ла Перуза, тоже оказавшийся в плену, еще более восторженно отзывался об Анне Иоанновне: «Ее императорское величество повелела нас в одни из своих палат на квартиру поставить, где нас зело богато трактуют и как в свете лучше желать невозможно; я не могу довольно вам, милостивейший государь, все благодеяния изобразить, которые мы получили и получаем от ее императорского величества, которая соизволила нас допустить, что мы имели честь у руки ее величества быть, и повелела нам показать всю красоту и магнифиценцию (величие. – Н. П.) своего двора»[68 - ЧОИДР. 1867. Кн. 3. С. 59.].
Гувернантка Элизавет Джорджия, прослужившая три года (1734–1737) в доме богатого английского купца Хилла, скорее всего, пользовалась оценками других лиц, а не собственными наблюдениями. В ее описании Анна Иоанновна выглядела так: «Ее величество высока, очень крепкого сложения и держится соответственно коронованной особе. На ее лице выражение величия и мягкости. Она живет согласно принципам своей религии. Она владеет отвагой, необычной для своего пола, соединяет в себе все добродетели, какие можно было бы пожелать для монаршеской особы. И хотя является абсолютной владетельницей, всегда милостива. Ее двор очень пышен, многие приближенные – иностранцы. Дважды в неделю устраиваются приемы, но туда допускают только тех, кто принадлежит ко двору»[69 - Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны. СПб., 1997. С. 91, 92.].
Мы располагаем свидетельствами иностранцев-современников, имевших возможность наблюдать императрицу с близкого расстояния и часто общаться с нею. Речь идет о фельдмаршале Минихе и полковнике Манштейне. Так, Манштейн, например, заключил свой рассказ об Анне Иоанновне такими словами: «Императрица Анна по природе была добра и сострадательна и не любила прибегать к строгости. Но как у нее любимцем был человек чрезвычайно суровый и жестокий, имевший всю власть в своих руках, то в царствование ее тьма людей впали в несчастие. Многие из них и даже лица высшего сословия были сосланы в Сибирь без ведома императрицы»[70 - Манштейн Х. Г. Записки о России. С. 194.].
Манштейн, как видим, все добродетели приписывает императрице, а все ее злодейские поступки относит на счет фаворита Бирона. Но всех превзошел в лестных отзывах об императрице английский полномочный министр при русском дворе Эдуард Финч: «…не могу не сказать, что усопшая обладала в высшей степени всеми достоинствами, украшающими великих монархов, и не страдала ни одной из слабостей, способных омрачить добрые стороны ее правления. Самодержавная власть позволяла ей выполнять все, что бы она ни пожелала, но она никогда не желала ничего, кроме должного… При всяком случае проявляла величайшую дружбу, уважение и расположение к особе короля, всегда была глубоко уверена в необходимости союза с его величеством и сердечно стремилась к искреннему сближению с ним». Скорее всего, в этом ключ столь восторженной оценки: при Анне был заключен крайне выгодный английским купцам торговый договор, наносивший ущерб интересам России и ее купечеству.
Откликов современников из числа русских значительно меньше, и они не столь единодушно положительны, как отзывы иностранцев. В своем месте мы приводили отзыв Д. М. Голицына, высказанный им на заседании Верховного тайного совета, когда речь шла об избрании Анны Иоанновны императрицей. По его мнению, она умная женщина, правда, с тяжелым характером. Заметим, тяжелый характер не сопрягается с добродетелями. Однозначно негативно в своих мемуарах отзывалась об императрице Наталья Борисовна Шереметева, дочь фельдмаршала Б. П. Шереметева, вышедшая замуж за И. А. Долгорукого. Она представила императрицу чудовищно безобразной, не соответствующей облику, изображенному современниками-иностранцами. Н. Б. Шереметева писала: императрица «страшного была взору, отвратное лицо имела, так была велика, когда между кавалерами идет, всех головой выше и чрезвычайно толста»[71 - РИО. Т. 75. С. 240.]. Оценка, исходившая от А. П. Волынского, относится не к внешности императрицы, а к ее интеллекту: «Государыня у нас дура, и резолюции от нее не добьешься и ныне у нас герцог что захочет, то и делает»[72 - Безвременье и временщики. С. 58, 59.].
Еще один отзыв об Анне Иоанновне оставил М. М. Щербатов. Под язвительным пером автора памфлета «О повреждении нравов в России» императрица «не имела блистательного рассудка, который тщетной блистательностью в разуме предположительнее; с природы нраву грубого, отчего и с родительницею своею в ссоре находилась и ею была проклята, как мне известно… Грубый ее природный обычай не смягчен был ни воспитанием, ни обычаем того века…». В результате она «не щадила крови своих подданных»[73 - Там же. С. 262; Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1898. С. 364.].
Насколько соответствуют действительности упомянутые выше свидетельства «о неусыпных советованиях», «матерном попечении» «великие государыни», что она обладала достоинствами, «украшающими великих монархов», можно проверить показаниями других источников.
Самым надежным из них, подтверждающим или опровергающим приведенные доказательства, мог бы стать распорядок дня, подобный тому, который имели Петр I и Екатерина II, но она не позаботилась о его составлении. Свидетельства же отца и сына Минихов не дают основательного представления, как распоряжалась своим временем Анна и какую часть его она уделяла делам государственным. Фельдмаршал и его сын сообщают, что императрица вставала в шесть или семь утра, садилась за обеденный стол дважды: в 12 дня и 9 вечера, в 10 отправлялась ко сну. Неясно, что скрывалось под туманного содержания словами: «…если дела не удерживали, то императрица выходила в публику» с 11 до 12 дня и с четырех до половины девятого вечера. Что означали слова «выходила в публику» – их можно толковать по-разному: выходила или выезжала на прогулку, занималась охотой или наблюдала травлю зверей, встречалась с кабинет-министрами и т. д.
Активность занятий императрицей государственными делами делится на три этапа. Первый из них, кратковременный, продолжался несколько месяцев в начале ее царствования, когда на троне она не чувствовала себя достаточно прочно и ей, преодолевая лень, приходилось имитировать активность в решении государственных дел и проводить нудные часы в Сенате.
Второй этап наступил со времени учреждения Кабинета министров в 1731 году и продолжался до указа 9 июня 1735 года, приравнивавшего три подписи кабинет-министров к именному указу императрицы.
Прежде всего надобно установить хотя бы приблизительно количество «рабочих» дней императрицы в году. В течение года отмечалось три праздника, связанных с именем императрицы: день ее рождения, день ее тезоименитства и день коронации, причем важнейшим считался день коронации – единственный день в году, когда Анна Иоанновна, не терпевшая пьяных, разрешала вельможам и придворным напиваться досыта. Каждый из этих праздников продолжался по несколько дней.
Далее следовали дни рождения и тезоименитства представителей и представительниц царствующей фамилии: в начале 1730-х годов отмечались дни двух сестер императрицы, царицы Евдокии Федоровны и царевны Елизаветы Петровны. Сестры и царица вскоре скончались, но появились новые лица: Анна Леопольдовна, ее супруг Антон Ульрих Брауншвейгский, их сын Иван Антонович, а с 1737 года, когда Бирон стал герцогом Курляндским, подобной чести удостоилось все его семейство: супруга, два сына и дочь.
Праздновались также дни основания четырех гвардейских полков, так называемые кавалерские дни, то есть дни учреждения орденов Андрея Первозванного и Александра Невского. Если к ним прибавить церковные праздники и воскресные дни, то в общей сложности в году насчитывалось не менее 90 праздничных дней.
Пользуясь подсчетами визитов кабинет-министров к императрице, мы можем установить реальное число «рабочих» дней императрицы. Для примера возьмем 1733 год. В этом году кабинет-министры навестили императрицу 110 раз, но не все встречи оказались плодотворными. В опубликованных бумагах Кабинета министров встречаются такие формулировки: «ходили к ее императорскому величеству с докладом, токмо отложен до другого дня»; «ходили вверх к ее императорскому величеству, токмо докладов сего числа не было»; «ходили с документами, токмо сего числа подписывать не изволила».
Отсутствуют сведения о причинах отказа императрицы обсуждать с визитерами из Кабинета министров деловые вопросы: то ли она недомогала, то ли пребывала в дурном расположении духа, то ли предавалась забавам и не желала прерывать удовольствие. Из 110 визитов 34 оказались бесполезными, причем наибольшее их число падает на февраль (из восьми семь безрезультатны), май (из девяти – шесть) и март (из двенадцати – семь).
Таким образом, Анна Иоанновна в течение 1733 года занималась делами только 76 дней, то есть чуть больше пятой части числа дней в году. Если учесть, что визиты, надо полагать, занимали время с 11 до 12 часов, причем визитеры являлись с готовыми указами и резолюциями, которые надлежало подписать, и дело ограничивалось короткими докладами, то эти данные ставят под большое сомнение достоверность заявлений «Санкт-Петербургских ведомостей» о старательном исполнении императрицей своих обязанностей.
Еще меньше забот у императрицы стало на третьем этапе ее царствования – после указа 1735 года, когда ко всякого рода празднествам прибавилось полтора-два месяца пребывания двора в загородной резиденции – Петергофе, где ради «увеселения» императрицы запрещалось утруждать ее какими-либо делами. Даже Ушакову довелось испытать унижение. 20 июля 1738 года он отправил Бирону образцы сукна для обмундирования гвардейских полков, чтобы тот показал их императрице. 26 июля Бирон отправил ответ: выслушав его доклад, она «изволила сказать, что в том не великая нужда, чтоб меня в деревне (Петергофе. – Н. П.) тем утруждать, а как де отсюду в Петербург прибудем, тогда и резолюция будет».
Итак, приведенные выше данные не дают основания для вывода о напряженном ритме жизни императрицы, о ее усердном участии в управлении государством.
Убедительный вклад в раскрытие образа Анна Иоанновны как крупного государственного деятеля могло бы внести ее эпистолярное наследие – письма к вельможам. Но они не дают повода для высокой оценки ее деловых качеств. Здесь первостепенное значение имеют письма императрицы к Семену Андреевичу Салтыкову, доводившемуся ей дядей по матери.
В подавляющем большинстве они напоминают послания одного частного, притом недалекого, лица к другому, а не письма императрицы к генерал-губернатору важнейшей в России губернии, первоприсутствующему в Московской конторе Сената, руководителю Московской конторы Тайных розыскных дел канцелярии. Чины и звания Салтыков приобрел не благодаря личным заслугам, как Меншиков при Петре I или Потемкин при Екатерине II, а через родство с императрицей. Именно это обстоятельство обеспечило ему молниеносную карьеру, и без особых усилий он взобрался на вершину власти, недоступную простому смертному: 4 марта 1730 года он получил звание сенатора, через пару дней генерал-лейтенант Салтыков стал полным генералом, получил придворный чин обер-гофмейстера, а в январский день 1732 года, когда двор переезжал из старой столицы в новую, Семен Андреевич, как доверенное лицо императрицы, был оставлен в Москве генерал-губернатором. В дальнейшем Салтыков, единственный родственник императрицы по женской линии, семь лет правил старой столицей, опираясь на родство.
Известно, что ни Петра I, ни Екатерину II, ни Анну Иоанновну не готовили к занятию российского престола, все они получили скудное образование. Но Петр I собственными усилиями постиг вершины многих знаний. Ангальтцербтская принцесса Софья благодаря самообразованию возвысилась до мышления имперского уровня, в то время как Анна Иоанновна, заняв российский престол, не преодолела уровня мышления курляндской герцогини. Общеизвестно, что Петр Великий и особенно Екатерина II много читали, были знакомы лично или находились в переписке с крупнейшими европейскими учеными, в то время как историки не располагают сведениями, что Анна удосужилась прочесть хотя бы одну книгу. Достаточно взглянуть на 303 письма, отправленных императрицей Салтыкову, чтобы убедиться в том, что автор их была обременена преимущественно мелочными заботами и мелкими житейскими интересами.
Инструкция Салтыкову, составленная в январе 1732 года, предоставляла ему обширнейшие полномочия наместника в старой столице. Он обязан был содержать Москву и губернию «в добром порядке» и решительно «пресекать всякие непорядки, конфузии и замешательства». Под его началом находились все должностные лица, в том числе представители центральной военной и гражданской администрации. Ему предоставлялось право в экстремальных условиях действовать по своему усмотрению, не сносясь о случившемся с Петербургом. Короче, Салтыков отвечал за все сферы жизни старой столицы: за правосудие, деятельность контор Сената и коллегий в Москве, содержание батальонов гвардейских полков, за пресечение волокиты и т. д. Инструкция заканчивалась седьмым пунктом: «Впрочем, имеет он обо всем, что здесь происходить станет и к нашему ведению для интересов наших принадлежит, нам часто и обстоятельно доносить, и в прочий сии пункты весьма секретно содержать, и никому, кто бы ни был, об оных сообщать или объявлять».
Казалось бы, в Москву должны были мчаться курьеры с указами, одобрявшими или порицавшими действия генерал-губернатора, с новыми повелениями в связи с изменившейся обстановкой, с запросами о мерах пресечения неправосудия, бесчинства чиновников, волокиты и т. д. Но императрица довольствовалась малым: она поздравляла Салтыкова с рождением внука и выражала удовольствие стать крестной матерью, давала поручение закупить в Сибирском приказе разных сортов материй и обоев, выступала в роли свахи при заключении браков, вмешивалась в семейные отношения знакомых ей в Москве лиц, благодарила за мелкие услуги, обращалась с просьбой удовлетворить неожиданно вспыхнувший интерес к портретам своих предков и родственников и т. п.
Некоторые письма императрицы настолько колоритно отражают круг ее забот, что заслуживают того, чтобы привести их в извлечениях или полностью. «Живут здесь, – писала она Салтыкову, – у Захара Мишукова девушки Гневушевы, сироты и дворянские дочери. Отец их был подконштапель из помещиков с Вологды, из которых одну полюбил Иван Иванович Матюшкин и просит меня, чтоб ему на ней жениться, но они очень бедны, токмо собою недурны и неглупы». Велит спросить у родителей Матюшкина, согласны ли они на брак. «Буде же заупрямятся, для того что они бедны и приданого ничего нет, то ты им при том рассуди, и кто за него богатую даст». Хлопоты коронованной свахи завершились свадьбой…
Анна Иоанновна, как известно, не отличалась постоянством увлечений. В 1734 году ей импонировало занятие брачными и семейными делами. Летом того же года она прослышала, что у Марьи Юсуповой, вышедшей замуж за некоего Возницына, не сложилась семейная жизнь. Поскольку Марья Возницына в детские годы императрицы ухаживала за нею, то она решила ее облагодетельствовать – прислать ее в столицу «А ежели б она от мужа вовсе не похотела ехать, то на время к нам ее конечно отправить на нашем коште немедленно».
Немало писем и указов Анны Иоанновны преследовали цель удовлетворить любопытство. Императрице, например, стало известно, что в Москве мартышка родила детеныша. Велено было бережно переправить их в столицу. Императрица сочла необходимым известить Салтыкова о благополучном прибытии в Петербург мартышки с потомством. 25 мая 1735 года она писала ему: «Мартышки, присланные от тебя сюда, привезены все здоровы, и то нам угодно, что ты их прислал».
Экзотику двора составляли инородцы, проживавшие как на территории России, так и за ее пределами. В 1734 году Анна Иоанновна велела Салтыкову написать командовавшему русскими войсками в прикаспийских территориях генералу Левашову, чтобы он сыскал двух девочек-персиянок, грузинок или милитинок, чтоб были «белы, чисты и не глупы». В другом письме она требует, чтобы Салтыков прислал ко двору калмычку, находившуюся на обучении у Строгановых.
Среди этого бурного потока посланий Салтыкову изредка встречаются деловые письма и указы, важнейшим из которых являлся указ 15 января 1736 года с выражением в резкой форме неудовольствия служебной деятельностью генерал-губернатора. Уже первая фраза указа свидетельствовала о высокой степени раздражения императрицы: «Уведомились мы, что в Москве не только в коллегиях, но и в сенатской конторе в Москве, где вы сами первейшим членом присутствуете, дела не только медленно, но и от большей части по партикулярным страстям от судей челобитчикам производят долговременно, ходя за делами, великие убытки причиняются». Указ завершила угроза: «Ежели вашим недосмотрением и нерадением впредь такие же непорядки происходить и суд и дела по страстям отправляемы будут, то вы в том перед нами в ответе будете».
Недовольство Салтыковым назревало исподволь, в течение полугода до появления обескураживающего указа. Первый сигнал последовал в июле 1735 года, когда императрица больше месяца не получала ответа на свой запрос, «коликое число в Москве при нашем дворце имеется повсегодного и прочих расходов». Напоминает о присылке ведомости «без дальнего замедления». Второй упрек отмечен в письме 15 сентября 1735 года, когда в каком-то официальном документе Салтыков титуловал имеретинскую царевну «высочеством». Этот титул, внушала императрица Салтыкову, принадлежит «только одной нашей фамилии, а ей довольно и царевны»[74 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 264.].
Можно представить, в какое уныние привел Салтыкова указ 15 января 1736 года: строил догадки, чьими происками он вызвал гнев племянницы, но, не обнаружив недруга, решил искать защиты у Бирона. Он просил исхлопотать ему право приезда в Петербург, чтобы оправдаться, ибо «от несносной печали чуть жив хожу, только не даю себя знать людям». Отвечая, Бирон выразил Салтыкову сожаление и сочувствие, «особливо для того, что я про тот указ был не известен». Здесь же Бирон не преминул напомнить, что он во внутренние дела не вмешивается[75 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 135, 136, 160, 173, 177, 224, X.].
Думается, Бирон лукавил, ибо его заявление о невмешательстве во внутренние дела нельзя принимать всерьез – почти все современники единодушно утверждают, что императрица не принимала ни одного решения, предварительно не посоветовавшись с Бироном. Во всяком случае, этот указ являлся гранью во взаимоотношениях племянницы и дяди; о чем свидетельствует резкое сокращение числа записок к нему: в 1732 году их было отправлено 87, в 1736-м – только 28, а в 1737-м еще меньше – 23. До полного разрыва дело не дошло, Салтыков занимал все три должности еще три года и был отставлен только в мае 1739 года[76 - 03. 1873. № 11. С. 9.].
Подчас обескураживают и многочисленные устные повеления императрицы придворным и вельможам. К ним, например, относится недатированное повеление Катерине Лаврельше, выполнявшей какую-то придворную должность: «Известно нам учинилось, что у кастелянши прачки в тех же посудах, в которых моют наши и принцессины сорочки и прочее белье и других посторонних моют же». И далее: надлежало «нашего и принцессного белья «иметь особливую палату», запираемую на замок, и «особливых» семь прачек, а также отдельные принадлежности для стирки»[77 - ПСЗ. Т. X. № 7819.].
В архиве сохранилось дело о письменных и словесных указах императрицы за 1731–1738 годы. Их зарегистрировано 262, из коих львиная доля (197) адресована президенту Адмиралтейской коллегии Головину. Подавляющее большинство из них отражало мелкие житейские заботы повседневной жизни, которые тем не менее Адмиралтейство не отваживалось решить, ибо они требовали непредусмотренных расходов: к ним относится повеление императрицы выкрасить яхту княгини Ромодановской, отремонтировать яхту царевны Елизаветы Петровны «и во что станет – учинить щет», поставить на корабли фузейные штыки для защиты от молнии, то выделить польскому послу баржу, шлюпку и 12 гребцов[78 - РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 24. Л. 5, 6.].
Зачастую удовлетворение личных запросов оформлялось законодательным актом и участием высшего органа государства. Наиболее характерным в этом плане можно считать эпизод с «волосяной бабой», которому было придано государственное значение. Императрице стало известно, что в Воронежской губернии проживает женщина с бородой и усами. Кабинет министров по инициативе императрицы отправил воронежскому губернатору указ о доставке бабы в Петербург. Женщиной с уникальным отклонением от нормы оказалась 45-летняя Аксинья Иванова, у которой с 20 лет стали расти борода и усы, она их не стригла и не выщипывала, почитая это за грех. В результате Аксинья стала обладательницей бороды длиной в пять-шесть дюймов (12,5–15 см).
Женщину обследовали в Академии наук, которая определила, что она «подлинная жена и во всем своем теле, кроме уса и бороды, ничего мускова не имела». Осмотрела бабу и императрица, после чего велела отправить ее домой, выдав «на корм пять рублев, да в награждение пятнадцать рублев, да прогонных денег на две ямские лошади»[79 - Там же. Разряд VI. Д. 252. Л. И, 13, 18, 20 и др.].
Следы законотворчества императрицы можно обнаружить и в других указах, относившихся к устранению бытовых неудобств, либо не радовавших глаз, либо вызывавших неприятные эмоции. К таким указам можно с большой долей вероятности отнести указы, запрещавшие быструю езду по улицам столицы, об избавлении Летнего сада от бездомных собак или о запрещении пьяным вздорить и петь песни по улицам, а также повеление, чтобы мимо резиденции императрицы проход и проезд с мертвыми телами и прочим тому подобным не было и т. д.[80 - РИО. Т. 126. С. 594; Т. 130. Юрьев, 1909. С. 41.]
У иных может сложиться впечатление о полном самоустранении императрицы от дел правления. Подобное представление является ошибочным, ибо известно, что кабинет-министры поочередно либо все вместе навещали императрицу с докладами о текущих делах, требовавших ее одобрения или отклонения. Чтобы освободить ее от необходимости напрягать не привыкшую к умственному труду голову, кабинет-министры подготавливали текст резолюции.
Известные источники не дают оснований для утверждения о том, что императрица участвовала в составлении важнейших законодательных актов царствования. Но эти же источники лишают историков права утверждать, что Анна не участвовала в решении дел, относившихся к компетенции верховной власти. Правда, это участие, как правило, ограничивалось согласием подписать подготовленные Кабинетом министров указ или резолюцию или отклонить их.
Но в одной сфере управления императрица принимала живейшее участие и проявляла подлинный интерес. Речь идет о расследовании политических преступлений, к которым было приковано пристальное внимание не только Анны Иоанновны, но и таких выдающихся государственных деятелей, как Петр I и Екатерина II. Вспомним личное участие Петра I в деле взбунтовавшихся стрельцов в 1698 году и в следствии по царевичу Алексею, а также участие Екатерины II в расследовании заговора Мировича, самозванки Таракановой и суде над главарями крестьянской войны 1773–1775 годов. Интерес к политическим процессам, о которых речь пойдет в других главах, понятен и не вызывает удивления. Но Анна принимала живейшее участие и в расследовании так называемых криминальных дел, связанных с казнокрадством, взяточничеством. Скорее всего, этот интерес подогревался отчасти чисто женским любопытством, отчасти ее садистскими наклонностями, отчасти стремлением заполнить праздное времяпровождение занятием, доставлявшим ей удовольствие. Наиболее выпукло эта страсть проявилась в деле сибирского вице-губернатора Алексея Жолобова, типичного взяточника и казнокрада того времени. Для мздоимцев и казнокрадов Сибирь представлялась благодатным краем – удаленность ее от столицы обеспечивала безнаказанность, крайне затрудняла поиски справедливости и защиты от произвола.
В расследовании нашумевшего дела иркутского вице-губернатора Алексея Жолобова императрица участвовала до конца. Еще 19 февраля 1734 года она велела А. И. Ушакову назначить «доброго офицера и проворного для некоторой важной посылки». Из повеления, переданного в тот же день А. Маслову, узнаем, что «добрый и проворный офицер» должен был доставить в столицу Жолобова[81 - ПСЗ. Т. XI. № 8010; Т. X. № 7580; РИО. Т. 104. С. 43; РИО. Т. 111.].
Для следствия по его делу в феврале 1735 года была назначена комиссия во главе с генерал-лейтенантом А. П. Волынским, но фактически ее руководителем была Анна Иоанновна. В день создания комиссии она, проведав о приезде в столицу супруги обвиняемого, «изустно» велела Волынскому допросить ее, полагая, что она прибыла издалека неспроста: «знатно на кого в надежде и по какой-нибудь корреспонденции». Императрица сама составила вопросы, которые ей следовало задать: кого она навестила, к кому обращалась с просьбами, кому и сколько предложила вещей и денег, наконец, какую сумму привезла с собой[82 - РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 5, 6.].
Интерес к приезду супруги Жолобова не оказался праздным. Следствие установило, что она пыталась вручить взятки сенатскому обер-секретарю и секретарю Сибирского приказа по 100 рублей каждому, но те убоялись их принять.
Следствие настолько увлекло императрицу, что она едва не ежедневно давала указания Волынскому: то она «изустно» велела ему отобрать у зятя Жолобова гвардии-поручика Федора Мещерского «письма, какие есть в доме», то составить опись имущества, принадлежавшего подследственному, то велела, опять же «изустно», выдать бывшему вице-губернатору бумагу и чернила, чтобы тот написал, «какие за губернатором Плещеевым ведает взятки и упущения интересу и у чего сколько и за какие взятки упущено, показал бы о том, написав своею рукою имянно».
Императрица проявила дотошность следователя, «изустно» повелев доставить описанные пожитки Жолобова из Москвы в Петербург «для того, что там на многие вещи положена цена самая малая». Кроме того, она поручила выяснить, у кого сколько имущества Жолобова находится на хранении.
Анна Иоанновна обещала Жолобову «милосердное прощение» за чистосердечное признание своей вины, но алчный вельможа настаивал на скромных размерах украденных денег, хотя комиссия установила более значительную сумму в 32 176 рублей 92 копейки. Более того, Жолобов утверждал, что он, отправляя должность иркутского вице-губернатора, принес казне до 300 тысяч рублей прибыли. Однако комиссия установила, что никакой прибыли «не явилось, и то он, Жолобов, затеял зря». Императрица согласилась с мнением комиссии и на ее доношении подписала подготовленную реляцию: «Жолобов, отбывая следствие, шутовски все то затеял, ибо и кроме прочих его корыстных плутовских дел, взятков и преслушания указов наших является не только что прибылей его нет, но еще упущения и некоторые недоборы в казенных наших доходах против прежних доходов».
1 июля 1735 года Анна Иоанновна «изустно» указала завершить следствие в июле текущего года, «изустно» же велела Волынскому «из Рязанской Жолобова деревни тунгузской породы двух девок взять ко двору ее императорского величества», а третью оставить супруге Жолобова.
Жолобов затягивал следствие широко использовавшимся в те времена способом – оговариванием новых лиц. Их круг настолько расширился, что комиссия о Жолобове обрела статус Сибирской комиссии. А так как оговоренные находились в Сибири, то доставка их для допросов требовала немалого времени. В декабре императрица вновь повелела комиссии «подать краткий экстракт и свое мнение, а прочие дела в комиссии оканчивать скорее». Но экстракт не был готов к середине февраля 1736 года, когда руководителем следствия вместо Волынского был назначен П. П. Шафиров.
Императрица сочла, что Жолобов «написал повинную свою неистинно, ложно» и потому не может рассчитывать на ее милосердие – он был казнен 16 июля 1736 года[83 - РИО. Т. 111. С. 41, 42.].
Жестокость императрицы иногда сменялась порывами милосердия, желанием восстановить справедливость, защитить обманутого. Такой порыв Анна Иоанновна обнаружила 28 июня 1732 года, когда два князя – Семен Федотов и Иван Мещерский – «учинили такое коварство над бедным гардемарином» Иваном Большим Кикиным, силой выманив у него письмо с обязательством уплатить в три дня 5500 рублей и закладную почти на все недвижимое имущество. Поступок вымогателей императрица оценила «богопротивным лукавством и бездушеством» и велела Сенату «помянутое дело от начала исследовать и производить судом». Приговор должен быть таким, «чтоб впредь бездельники такие ж нехристианские поступки чинить опасались»[84 - Там же. С. 58, 59; ПСЗ. Т. IX. № 7009.].
Чем закончилось дело, нам неведомо, как и неведомы побудительные мотивы действий императрицы: стремление защитить слабого, проявить великодушие или милосердие или ненависть к аристократии, к двум князьям.
Анна Иоанновна вникала и в следственные дела А. В. Макарова и проявила даже милосердие. Так, Макаров, секретарь Кабинета Петра Великого, пользовавшийся уважением императора, стал при Анне Иоанновне жертвой мести Феофана Прокоповича и А. И. Остермана и длительное время содержался под домашним арестом. В августе 1737 года он обратился к императрице с челобитной, жалуясь на то, что он содержится под крепким караулом два года и девять месяцев и за это время опечатанные его пожитки, находясь «без просушки», приходят в негодность и «деревнишки мои посторонние нападками разоряют», отчего «я, нижайший раб, от таких тяжких печалей пришел в крайнюю болезнь и слабость». Императрица велела Салтыкову смягчить условия жизни арестанта и содержание его «таким образом облегчить, чтоб ему в церковь Божию и прочие домашние нужды исправлять позволено было», но с ограничением – пожитки и деревни запрещалось продавать без ее разрешения[85 - РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 6.].
Повышенный интерес Анны Иоанновны к политическим процессам подтверждает донесение руководителя Тайных розыскных дел канцелярии А. И. Ушакова Кабинету министров, предложившему всем учреждениям прислать «изустные» указы императрицы. Ушаков отвечал: в подведомственном ему учреждении действительно хранятся занесенные на бумагу словесные указы императрицы, о которых «никому не известно и хранятся оные секретно, для чего Тайная канцелярия без именного его императорского величества указа об оных и Сенату объявить опасны»[86 - Соловьев С. М. Указ. соч. Т. X. С. 643, 644.].
С этой целью рассмотрим два следствия: по делам Черкасского и Голицына. Последнее, правда, тяготеет более к уголовным, но подоплека его бесспорно была политической.
В октябре 1733 года Анна Иоанновна получила донос о том, что в Смоленской губернии существует тайное общество, члены которого замышляли свергнуть немецкое иго в России, считали себя слугами голштинского пятилетнего принца (сына дочери Петра II Анны) и пьют за его здоровье. К доносу были приложены два письма: князя А. А. Черкасского к голштинскому герцогу и генерал-майора Александра Потемкина к претенденту на польскую корону Станиславу Лещинскому.
Донос внушил императрице и ее окружению такой страх, что она отправила в Смоленск для следствия не какого-либо гвардейского офицера, а самого заплечных дел мастера, руководителя Тайных розыскных дел канцелярии А. И. Ушакова, и не одного, а во главе многочисленной воинской команды. Инструкция наделяла Ушакова обширными полномочиями, свидетельствовавшими, что при дворе поверили доносу и что ожидали со стороны заговорщиков вооруженное сопротивление. Ушакову дозволялось всех, кого он заподозрит, «до кого бы ни дошли, несмотря ни на чье лицо, за караул взять». Ушаков начал с ареста губернатора князя Черкасского и генерала Потемкина с их семьями и других оговоренных доносителем лиц.
Доноситель Федор Иванович Красный-Милашевич служил камер-пажом у герцогини Екатерины Иоанновны Мекленбургской, сестры императрицы, но за какую-то вину был отстранен от должности и возвратился на родину к отцу в его деревню в Смоленской губернии. Здесь он познакомился с губернатором Черкасским, жаловавшимся на Бирона, заславшего его в глухой Смоленск губернатором. Из дальнейших разговоров выяснились симпатии губернатора к принцу голштинскому. Черкасский склонил бывшего камер-пажа ориентироваться на принца и уговорил его отправиться в Киль с письмом от него, губернатора, и письмом от генерала Потемкина, как потом выяснилось, фальшивого, составленного с целью создать впечатление, что губернатор не одинок, что за его спиной сильная оппозиция, недовольная нынешним правлением и готовая служить герцогу.
Милашевич, в поисках герцога и его семьи, в пути утратил оба письма и, будучи человеком с авантюристическими наклонностями, решил исправить дело сочинением письма Станиславу Лещинскому. Оказавшись на положении бродяги, он, отчаявшись встретиться с герцогом, решил отправиться в сентябре 1733 года в Гамбург, где подал русскому чрезвычайному посланнику Бестужеву донос, в котором обличал губернатора в злонамеренном умысле. Бестужев в полной мере оценил угрозу трону, срочно вместе с доносом отправил в Петербург и доносителя.
Ушаков отправился вместе с Милашевичем в Смоленск, а оттуда с взятыми под стражу обвиняемыми возвратился в Петербург, где была создана следственная комиссия в составе канцлера Г. И. Головкина, вице-канцлера А. И. Остермана, А. И. Ушакова, П. П. Шафирова, А. П. Бестужева-Рюмина и Бахметева.
Подвергнувшись розыску, Милашевич, не выдержав пыток, сочинил новые доносы, в том числе и клеветнические на своего старика-отца. В последнем, пятом по счету доносе Милашевич ограничил число участников «заговора» двумя лицами: собой и князем Черкасским.
«Заговор» оказался блефом, плодом воображения Милашевича, поэтому и приговор оказался на редкость мягким, быть может, результатом заступничества кабинет-министра: Черкасский был отправлен в пожизненную ссылку в Сибирь, отцу и сыну Милашевичам велено жить в их ярославской деревне, а генерал-майора Потемкина за неповинное содержание под стражей велено наградить чином генерал-лейтенанта. Доклад следственной комиссии императрице установил: «А по исследованию во учрежденной комиссии и по повинным Черкасского и Милашевича явилось, что они такой присяги (принцу голштинскому. – Н. П.) не чинили и не подписывались, а тое присягу и роспись сочинили они, Черкасский и Милашевич, а вымышлял Черкасский сам собою один, а другие про то никто не знали, и комиссия признавает их неповинными (к следствию был привлечен 31 человек), которые несколько месяцев неповинно содержались в аресте». Под докладом резолюция Анны Иоанновны: «По сему учинить».
Из указов императрицы явствует, что она вникала во все детали следствия и, получая ежедневную информацию о его ходе, давала указание, кого дополнительно надлежит привлечь к допросу, кому следовало устроить очные ставки, велела обратиться к Черкасскому «с призывом чистосердечно во всем признаться, за что ему милость оказана будет», наконец, велела печатать указ, чтобы все, кто знал о замысле Черкасского, «приходили и доношения свои подавали не только без опасения, но еще за праведный донос нашей милостью награждены будут»[87 - ПСЗ. Т. IX. № 6753.].
Тревога оказалась ложной, а опасения – напрасными, но активность императрицы показала, сколь цепко она держалась за трон.
Прямое касательство Анна Иоанновна имела и к делу Д. М. Голицына, причем из ее письма Салтыкову от 19 декабря 1736 года просматривается профессионализм следователя, то ли уже приобретенный собственной практикой, то ли подсказанный А. И. Ушаковым. Письмо заканчивалось повелением срочно выполнить поручение: «Сию врученную от нас вам комиссию имеете вы как наискорее окончать, и в том свой собственный труд приложить и все то исправно с нашим посланным к вам курьером отправить в Вышний суд»[88 - РА. 1871. № 2. С. 037–070.].
Императрица была достаточно активна и при решении, выражаясь современным языком, кадрового вопроса. Все назначения на высшие должности в государственном аппарате совершались либо по инициативе императрицы, либо по представлению Сената нескольких кандидатов, из которых она выбирала одного. Президенты и вице-президенты коллегий до советника включительно, губернаторы и вице-губернаторы, не говоря уже о сенаторах и кабинет-министрах, назначались именными указами с неизменной подписью императрицы. Генеральские звания тоже присваивались императрицей. В качестве примера приведем богатый на назначения день 16 июня 1736 года, когда И. А. Мусин-Пушкин был назначен президентом Коммерц-коллегии, А. Нарышкин – президентом Канцелярии от строений, князь Юсупов – сенатором, а князь С. Д. Голицын – казанским губернатором. В тот же день Кабинет министров предложил Ю. Голенищева-Кутузова повысить в должности: из асессоров Канцелярии конфискации перевести в советники. Последовала резолюция: «Учинить по сему»[89 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 136.]. 12 декабря 1737 года Сенат представил трех кандидатов на судью Судного приказа тайных советников – Федора Наумова и Алексея Плещеева, генерал-майора Ивана Измайлова. Анна Иоанновна предпочла Федора Наумова. В январе 1732 года она отклонила всех кандидатов, предложенных в казанские вице-губернаторы, и назначила своего. В марте того же года она отвергла шесть кандидатов в сибирские вице-губернаторы и назначила седьмого, не включенного в список[90 - РИО. Т. 114. С. 351–354.].
Что касается более сложных вопросов как внутренней, так и внешней политики, то Анна уклонялась от их решения, перекладывая этот груз на плечи Кабинета министров.
Военачальники адресовали свои реляции непосредственно императрице, и та отправляла их для составления ответа Кабинету министров. Нагляднее всего этот порядок иллюстрирует указ Анны Иоанновны Кабинету министров 7 июля 1735 года. В этот день курьер доставил ей донесение фельдцейхмейстера князя Гессен-Гомбургского с определенным вопросом. Вряд ли императрица знакомилась с содержанием реляции князя. Она в этот же день переправила ее Кабинету министров, сопроводив указом: «Послать к нему надлежащей указ по состоянию нынешних конъюнктуров, которой отправить с прежде присланным куриэром князем Мещерским немедленно»[91 - Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. I. М., 1913. С. 138.].
Аналогичного содержания указ, но по другому поводу последовал 14 июня 1736 года: из Польши были получены два послания, требовавшие от императрицы ответа. Решив не затруднять себя, Анна Иоанновна все отдала на усмотрение Кабинета министров: «Извольте надлежащий ответ заготовить, такожде и мнение ваше нам объявить». Иногда в ответ на донесение Кабинета следовало столь же лаконичное, как и невнятное, повеление: «Учинить, что потребно»[92 - РГАДА. Ф. Кабинета министров 1735 г. Д. 4.].
Бесспорно очевидно, что ноша государыни была не по плечу Анне Иоанновне и она несла ее с большим трудом. Ей вообще была чужда мысль, что она, императрица, слуга государства, обремененная обязанностями, требовавшими напряженного труда[93 - Там же. 1736 г. Д. 4. Л. 4, 8.].
Глава V
Окружение императрицы
Характеристику иноземцев, пользовавшихся особым доверием императрицы, начнем с человека, имя которого олицетворяло мрачное время ее царствования – Эрнста Иоганна Бирона (1690–1772). Мы опускаем скудные сведения о его жизни до времени, когда он стал фаворитом курляндской герцогини и российской императрицы Анны Иоанновны, поскольку они были сообщены в главе «Герцогиня Курляндская», и остановимся на десятилетнем его пребывании в чине обер-камергера при русском дворе. Заметим, и этот период в жизни фаворита освещен скудно, причем историки вынуждены довольствоваться информацией иностранных дипломатов, не всегда достоверной, но другие источники отсутствуют – Бирон не занимал государственных постов, действовал через своих клевретов, следовательно, не оставил следов своей деятельности.
В обязанность иностранных послов и резидентов входило наблюдение за частной жизнью монарха, характеристика представителей правящей элиты, информация о менявшемся раскладе сил при дворе, об интригах, в результате которых одни приобретали доверенность монарха, другие ее утрачивали. Иностранцу не всегда удается разобраться в хитросплетениях придворной жизни, отличавшейся атмосферой соперничества, желанием опорочить своего недруга, чтобы занять его место, пользоваться при этом слухами, нередко сомнительными, но у историка имеется возможность докопаться до истины, сопоставляя свидетельства одного дипломата с другим.
Ко времени появления Анны Иоанновны в Москве Бирон настолько овладел сердцем императрицы, в свои 37 лет отчаявшейся завести семью, что она стала в его руках марионеткой, подчинявшейся его воле и безоговорочно выполнявшей его прихоти. На этот счет свидетельства иностранцев единодушны. Французский дипломат Маньян доносил в июле 1731 года: «Бирон достиг такой высоты, что Остерман не считает для себя возможным удержаться в силе не иначе, как представляя этому камергеру точный отчет обо всех государственных делах, какого бы рода они ни были». Ему вторил английский дипломат Форбес, назвавший обер-камергера «всемогущим фаворитом»[94 - РИО. Т. 81. С. 221, 222.]. Самые подробные сведения о влиянии Бирона на императрицу оставил Миних-младший: «К несчастью ее и целой империи, воля монархини окована была беспредельною над сердцем ее властью необузданного честолюбца. До такой степени Бирон господствовал над Анною Иоанновною, что все поступки располагала она по прихотям сего деспота, не могла надолго разлучиться с ним и всегда не иначе как в его сопутствии выходила и выезжала. Невозможно более участия принимать в радости и скорби друга, сколько императрица принимала в Бироне. На лице ее можно было видеть, в каком расположении духа наперсник. Являлся ли наперсник с пасмурным видом – мгновенно и чело государыни покрывалось печалью; когда первый казался довольным, веселье блистало во взоре; не угодивший же любимцу тотчас примечал живое неудовольствие монархини. Бирон, страстный охотник к лошадям, большую часть утра проводил в конюшне или в манеже. Императрица, скучая отсутствием его, решилась обучаться верховой езде, дабы иметь предлог в сих местах быть с наперсником своим, и потом хорошо ездила по-дамски.
Бирон Эрнст Иоганн.
Гравюра Лаврентия Авксентьевича Серякова с портрета Корякова (1881).
Русские деятели в портретах, гравированных академиком Лаврентием Серяковым
(с краткими биографическими заметками и перечнем статей о русских деятелях,
помещенных в журнале «Русская старина»).
1-е собрание. Санкт-Петербург: Типография В.С. Балашева, 1882
Непомерная привязанность императрицы стала тягостью для Бирона. Приближенные многократно слышали от него жалобу, что не имеет он ни одного мгновения для отдыха. Никогда Бирон никого не посещал, ни у кого не обедал и не присутствовал на пирах и праздниках, даваемых знатными боярами. Дабы удержать любимца от участия в оных, государыня осуждала и даже называла распутством всякий пир и собрание, в коих по сделанному ей донесению господствовала веселость. Бирон со своей стороны тщательно наблюдал, дабы никто без ведома его не был допускаем к императрице, и если случалось, что по необходимой надобности герцог должен отлучиться, тогда при государыне неотступно находилась Биронова жена и дети».
Для полноты приведем еще один отзыв о фаворите, исходивший от мастера словесного портрета маркиза де ля Шетарди, относившийся к 1740 году: «Герцог курляндский наружности простой и скромной, он воспользовался счастливым случаем, в котором достоинства, кажется, не участвовали; его приближенные много расхваливают его суждения, и он хвастается своей великой честностью и твердостью, готовою на все. Он высокомерен и неприступен; нетерпелив и не может этого скрыть; любит роскошь, которую и ввел при русском дворе. Так как он один только приближен к императрице, то государыня и знает только то, что он хочет, чтобы она знала. Он считает себя происходящим из Франции из дома Бирона, но некоторые уверяют, что он называется Бирен и что курляндское дворянство отказалось признать его благородным в 1726 году»[95 - Пекарский П. Маркиз де да Шетарди в России в 1740–1742 годах. СПб., 1862. С. 1.].
Необоснованность притязаний Бирона на знатность происхождения подтверждал и П. М. Бестужев-Рюмин, на свою голову протежировавший ему и хорошо знавший его прошлое. Правда, у Бестужева были основания люто ненавидеть опекаемого, который отблагодарил своего покровителя тем, что занял место фаворита курляндской герцогини, ранее принадлежавшее Петру Михайловичу: «Не шляхтич и не курляндец пришел из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко двору без чина, а год от году я, его любя, по его прошению производил и до сего градуса произвел, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды и сколько мог здесь лживо меня вредил и поносил и чрез некакие слухи пришел в небытность мою в кредит».
Репутацию Бирона как некоронованного правителя России подтверждает и саксонский дипломат Линар, доносивший в 1734 году: «Вы с трудом можете себе представить, какой клад мы имеем в дружбе графа Бирона; ведь в конце концов не происходит ровно ничего помимо его воли». Такого же мнения придерживался и Манштейн; Бирон «в продолжение всей жизни Анны и даже несколько недель после ее кончины царствовал над обширной империей России, и царствовал, как совершенный деспот». Фельдмаршал Миних подтверждает колоссальную роль Бирона при Анне Иоанновне: кабинет-министры Остерман и Черкасский «находились в совершенном подчинении у обер-камергера герцога Бирона и не осмеливались делать ничего, что не нравилось бы этому фавориту»[96 - Миних Б. Х. Записки. С. 63.].
О силе влияния Бирона говорит тот факт, что Анна Иоанновна вопреки запрещению Верховного тайного совета вызвала его в Москву. С этого времени начался новый этап в жизни фаворита. Императрица приобрела широкие возможности, чтобы облагодетельствовать своего любимца. В день коронации, 28 апреля 1730 года, императрица пожаловала его чином обер-камергера, в этом же году он был возведен в графское достоинство. В рескрипте о пожаловании чина обер-камергера дано следующее обоснование милостей императрицы: «Он во всем так похвально поступал и такую совершенную верность к нам и нашим интересам оказал, что его особливые добрые квалитеты и достохвальные поступки и к нам оказанные многие верные, усердные и полезные службы не инако, как совершенной всемилостивейшей благодарности нашей касаться могли». Рескрипт не объясняет, в чем конкретно выражались достохвальные поступки фаворита, но он свидетельствует о стремлении внушить подданным мысль о его огромных заслугах.
В октябре того же 1730 года императрица пожаловала фавориту орден Андрея Первозванного, а в начале апреля следующего года – свой портрет, осыпанный бриллиантами; Кажется, самое значительное пожалование Бирон получил в 1739 году по случаю заключения Белградского мира – полмиллиона рублей. Так щедро отблагодарила императрица фаворита за ночные утехи – никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам, завершившимся позорным миром, он не имел.
Зная силу Бирона, стремились задобрить его и монархи европейских государств. Прусский посол Мардефельд уведомил фаворита, что его государь подарил ему владения, ранее принадлежавшие Меншикову, дававшие владельцу семь тысяч рублей ежегодного дохода. Австрийский посол Вратислав вручил от имени цесаря диплом на графское достоинство Священной Римской империи и портрет Карла VI, украшенный бриллиантами, оцененный в 200 тысяч талеров. Зная страсть Бирона к лошадям, саксонский курфюрст решил угодить фавориту подарком четырех «верховых лошадей необычайной красоты»[97 - РИО. Т. 76. С. 129.]. Французский посол Маньян доносил, что министры, представлявшие венский и прусский дворы в Петербурге, чтобы привязать к себе фаворита, «простирают свое низкопоклонство до того, что не только целуют Бирону руку, но даже при пиршествах, часто устраиваемых ими между собою, пьют на коленях за его здоровье».
Императрица выказывала фавориту знаки внимания не только пожалованиями, но и трогательной заботой о его здоровье. В январе 1731 года Бирон занемог, и императрица, по сведениям Рондо, «во время болезни графа кушала в его комнате». В июле того же года она была приглашена на обед сыном канцлера М. Г. Головкиным. Ее карету верхом сопровождал Бирон. Лошадь чего-то внезапно испугалась и сбросила фаворита. У того появилась легкая ссадина, но этого было достаточно, чтобы императрица, принявшая «это событие к сердцу», вьшла из кареты и не поехала на пир. К. Рондо объяснил поступок тем, «что граф Бирон не мог обедать с нею»[98 - РИО. Т. 81. С. 221.]. Самое сильное впечатление производит свидетельство К. Рондо о его разговоре в сентябре 1734 года с императрицей по поводу какой-то серьезной болезни фаворита. Хворь обер-камергера «глубоко опечалила государыню; она со слезами на глазах высказывала, что граф единственный человек, которому она может довериться, а также уверенность в том, что Остерман очень рад будет смерти графа, хотя и прикидывается огорченным его болезнью»[99 - РИО. Т. 76. С. 129.]. «Три четверти суток он (Бирон. – Н. П.) проводит с царицей», – доносил французский дипломат Шетарди в конце 1739 года. Справедливые итоги сложившимся отношениям Бирона с императрицей подвел Миних-сын: «Никогда на свете, чаю, не бывало дружественнейшей четы, приемлющей взаимно в увеселении или скорбя совершенное участие, как императрица с герцогом Курляндским»[100 - Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. СПб., 1891. С. 94.].
Безграничное влияние фаворита на императрицу подтверждает и источник отечественного происхождения: чтобы сохранить расположение Бирона, Анна Иоанновна готова была жертвовать едва ли не всем. Об этом писал В. Н. Татищев в доносе на полковника Давыдова, говорившего ему: «Чего добра уповать, что государыню мало видят весь день с герцогом: он встанет рано, пойдет в манежию … поставят караул, и как государыня встанет, то уйдет к ней и долго не дождутся, и так государыней дела волочатся, и в Сенат редко когда трое (сенаторов) приедут»[101 - Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 236, 237.].
Растущее влияние Бирона и немцев на императрицу отразили и документы Тайной розыскных дел канцелярии, регистрировавшие высказывания не рядовых подданных, а лиц, более или менее осведомленных о жизни двора и значении в ней фаворита и вельмож.
Например, советник Тимофей Торбеев тоже стал жертвой неосторожных разговоров с придворными служителями. Один из них, камергер Беликов, в 1737 году доносил о содержании рассуждений Торбеева: «Бирон де взял силу, и государыня де без него ничего не сделает, как де всякому о том изестно, что де донесут ей, то де и сделается. Всем де ныне овладели иноземцы. Лещинский де из Данцига уехал мильонах на двух, не даром де его генерал-фельдмаршал граф фон Миних упустил; это де все в его воле было… Нет де у нас никакого доброго порядку. Овладели де всем у нас иноземцы – Бирон де всем овладел».
Торбеева публично высекли плетьми и сослали на Камчатку, а прочих слушателей крамольных высказываний «советника Ивана Анненкова и асессора Константина Скороходова за то, что не донесли, сослали на вечное житье в Азов»[102 - Пекарский П. Указ. соч. С. 50, 51; РГАДА. Госархив. Разряд VII. Д. 444. Л. 59.].
Заботы императрицы о фаворите простирались на членов его семьи. Его супруга, по дородности соперничавшая с Анной Иоанновной, была в 1730 году пожалована статс-дамой. Когда младший сын Бирона заболел оспой, императрица была «в высшей степени встревожена. Опасения – поправится ли». Этого тринадцатилетнего отрока, пользовавшегося особым вниманием императрицы, которого молва приписывала к ее сыновьям, она пожаловала командиром Измайловского полка в чине гвардейского подполковника. Старший брат фаворита генерал-лейтенант Карл Бирон в 1739 году просил отставки, но вместо освобождения от службы получил 10 тысяч рублей и, удовлетворенный, отбыл в армию[103 - РИО. Т. 80. С. 442.]. О нем украинский историк Георгий Конисский писал: «Калека сей, квартируя несколько лет с войском в Стародубе с многочисленным штабом, уподоблялся пышностью и надменностью гордому султану азиатскому: поведение его и того ж больше имело варварских странностей. И не говоря об обширном серале, комплектуемом насилием, хватали женщин, особенно кормилиц, и отбирали у них грудных детей, а вместо их грудью своею заставляли кормить малых щенков из псовой охоты сего изверга, другие же его скаредства мерзит самое воображение человеческое».
Бирон любил повторять, что во внутренние дела правительственной деятельности он не вмешивается. Напомним его письмо к С. А. Салтыкову, в котором он заявил: «Я во внутренние государственные дела ни во что не вступаюсь». Фельдмаршал Миних тоже засвидетельствовал: Бирон «не стыдился публично говорить при жизни императрицы, что он не хочет учиться читать и писать по-русски, чтобы не быть обязанным читать ее величеству прошений, донесений и других бумаг, присылавшихся ему ежедневно»[104 - Безвременье и временщики. С. 61.]. Эти заявления не соответствуют истине. Известна зловещая роль Бирона в гибели Долгоруких, Голицына и Волынского. Ни одно пожалование вельмож чинами, орденами и деньгами не происходило без ведома Бирона. В его распоряжении находились такие непосредственные исполнители его воли, как Остерман, Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. По свидетельству Миниха-сына, «сия щедрая царица не смела и малейшего подарка сделать без ведома Бирона».
Неумение Бирона читать и писать по-русски подтверждается общеизвестным фактом: Волынский, подавая Бирону свои записки, велел перевести их на немецкий. Подтверждается источниками и вмешательство Бирона во внутренние дела. Один из них – от самого обер-камергера, оправдывавшего свое назначение регентом Иоанна Антоновича тем, что вельможи «по довольному рассуждению не нашли никого, кто бы человечески удобнее был для государства, как я; и по тем главным причинам, что я знаю положение государства, каждую особу, что они собою свычны; что иностранные, до государства относящиеся дела, мне известны».
Другой источник, возникший после свержения Бирона с регентства и следствия над ним, содержал вопросы, тоже не оставляющие сомнения в его вмешательстве во внутренние дела: «Всему свету, а особливо всему государству известно есть: 1) что с самого вступления на всероссийский престол до самого окончания жизни ее величества его старательством никому, кто б не был, мимо его к ее величеству никакого доступа не было и что он до милости и конфиденции ее величества никого не допускал; 2) что все милости и награждения только через него одного и по одним его страстям происходили; 3) и что от того добрые и заслуженные люди, особливо всероссийские науки в тех милостях и награждениях не токмо никакого участия не имели, но паче еще противно богоучрежденным государственным регламентам и уставам нагло обойдены и обижены, следовательно же, как натурально есть, у них тем потребное усердие и охота к службе отняты были». Далее следует вывод: Бирон «во все государственные дела, хоть оные до чина его обер-камергерского весьма не принадлежали, он вступал, и хотя ему, яко чужестранному, прямое состояние оных ведать было и невозможно, однако же часто и в самых важнейших делах без всякого с которыми надлежало в том совету, по своей воле и страстям отправлялся».
Из обвинения вытекает, что Бирон вмешивался в дела не часто, следовательно, не всегда, и не всегда ограничивался камергерскими обязанностями, властно вторгаясь во все сферы управления страной.
Особый интерес Бирон проявлял к «кадровым» вопросам, назначением на высшие должности, о чем свидетельствуют заискивающие письма к нему вельмож с благодарностью за «предстательство» или с просьбами о нем. Такого рода примеров источники донесли немало, но ограничимся лишь несколькими. Генерал Г. Чернышев писал фавориту: «Сиятельнейший граф, милостивый мой патрон! Покорно ваше сиятельство прошу во благополучное время милостиво доложить ее императорскому величеству, всемилостивейшей государыне… чтоб всемилостивейшей ее императорского величества указом определен я был в указное число генералов и определить мне команду, при которой были генералы Бон или Матюшкин». Другой вельможа, руководитель Оренбургской экспедиции, ведавшей подавлением башкирского движения в 1734–1735 годах, писал Бирону: «Окроме вашего высокографского сиятельства иной помощи не имею, дабы ваше высокографское сиятельство старание о пользе Российской империи к безсмертной славе осталось»[105 - Русская беседа. 1860. № 2. С. 197, 201, 202.].
О беспредельном влиянии на дела сообщал анонимный иностранный автор: «Касательно же правления, она (императрица. – Н. П.) отдала всю власть своему дорогому герцогу Курляндскому. Граф Остерман считается помощником герцога, не будучи им на самом деле. Правда, что герцог советуется с ним, как с самым просвещенным и опытным министром в России, но он не доверяет ему по многим важным причинам». Думается, автор недостаточно глубоко вник во взаимоотношения Бирона и Остермана или был свидетелем периода охлаждения этих отношений. Влияние Остермана на повседневную работу правительства было неизмеримо значительнее влияния Бирона.
Неизвестно, какими качествами натуры завоевал привязанность императрицы этот невежественный, грубый, высокомерный и безмерно честолюбивый фаворит. Во всяком случае, никто из современников не отметил наличия у него талантов и добродетелей. Напротив, императорский посланник Остейн, по словам Манштейна, отзывался о Бироне так: «Когда граф Бирон говорит о лошадях, он говорит как человек; когда же он говорит о людях или с людьми, он выражается, как лошадь»[106 - Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 32.].
Бирон заслужил ненависть большинства вельмож презрительным отношением к ним, своей надменностью и высокомерием. Подобного рода факты могли быть запечатлены правительственными документами либо мемуаристами. Однако известно, что Бирон – делец закулисного плана, поэтому его действия и поступки официальными источниками не запечатлены. Бедны свидетельствами и мемуаристы-современники: их насчитывались единицы, но и из них лишь автор «Записок» Яков Шаховской имел встречу с Бироном и описал ее.
Яков Шаховской доводился племянником Алексею Шаховскому, управлявшему Малороссией, и выполнял поручения дяди ходатайствовать перед Бироном о разрешении ему продлить проживание в Москве для лечения глаза. Бирон, опираясь на донесение Миниха, конфликтовавшего с А. Шаховским, был настроен враждебно к киевскому губернатору, который, согласно донесению фельдмаршала, якобы содержал казацкое войско «не в добром порядке». Приведем описание разговора Я. Шаховского с Бироном: «несколько суровым видом и вспыльчивыми речами на мою просьбу, ответствовал, что он уже знает о желании моего дяди пробыть еще в Москве для того только, что по нынешним обстоятельствам весьма нужные и время не терпящие к военным подвигам, а особливо там, дела ныне неисправно исполняемые, свалить на ответы других…». Племянник встал на защиту дяди, заявив, «что то донесено несправедливо. На сии мои слова герцог Бирон, осердясь весьма вспыльчиво, мне сказал, что как я так отважно говорю? Ибо де о сем в тех же числах фельдмаршал граф Миних государыне представлял и можно ль де кому подумать, чтоб он то представил ее величеству ложно». Шаховской ответил, что надобно кого-либо послать для подлинного освидетельствования, ибо донесение произошло «от ухищрения коварных завистников», которые утратили надежду заслужить милости честной службой. «Такая моя смелость наивящще рассердила его, и он в великой запальчивости мне сказал: «Вы, русские, часто так смело в самых винах себя защищать дерзаете», на что Яков Шаховской ответил: «Сие будет высочайшая милость, и вскоре всеобщее благосостояние умножится, когда коварность обманщиков истребляема, а добродетельная невинность от притеснения защищаема будет и когда дядя мой ни в каких несправедливых ее величеству представлениях найдется, помилования просить не будет. В таких я в колких и дерзких с его светлостью разговорах находясь, увидел, что все бывшие в той палате господа один по одному ретировались вон и оставили меня в комнате одного с его светлостью, который ходил по палате, а я, во унылости пред ним стоя, с перерывкою продолжал об оной материи речи близ получаса…» Императрица, стоя за ширмой, слушала этот диалог и в конце концов прервала его, позвав герцога»[107 - Шаховской Л. Записки. СПб., 1872. С. 5, 6.].
Этот выскочка, третировавший русских вельмож, вызывал у них раздражение и ненависть, которые они из-за чувства страха скрывали под льстивыми улыбками.
Бирон прославился еще одним пороком – он слыл казнокрадом. Миних-младший свидетельствовал: «Из государственной казны в чужие края утекали несметные суммы на покупку земель в Курляндии и на стройку там двух дворцов – не герцогских, а королевских, и на приобретение герцогу друзей, приспешников в Польше. Кроме того, истрачены были многие миллионы на драгоценности и жемчуги для семейства Биронов; ни у одной королевы Европы не было бриллиантов в таком изобилии, как у герцогини Курляндской».
Относительно драгоценностей историки не располагают данными, но два дворца, один в Митаве с 300 комнатами, другой, загородный, – в Рундале, их меблировка, богатейшие сервизы подтверждают свидетельство Миниха о безмерных притязаниях Бирона. Грандиозных размеров замок в Рундале построен был по проекту архитектора Растрелли и по своим размерам превосходил Зимний дворец, сооруженный по проекту того же знаменитого архитектора при Елизавете Петровне. Сооружение его было приостановлено в связи с падением Бирона, но возобновлено после возвращения семейства из ссылки. Бирон прожил в нем до своей смерти только 20 дней[108 - ИВ. 1893. № 9. С. 841, 842.].
Все вышесказанное о свойствах натуры Бирона дополняется еще одним – его беспредельным честолюбием. Он не довольствовался наградами, пожалованиями, получением герцогства Курляндского и вынашивал далеко идущие планы овладения российской короной. Эту тайную мечту Бирона отметил английский резидент Рондо, дважды доносивший своему двору в 1738 году, то есть за два года до попытки ее реализовать. Бирон намеревался породниться с царствующей династией путем брачных уз своего сына Петра на одной из принцесс, Брауншвейгской либо Мекленбургской. «Вспомнив, чем герцог был несколько лет тому назад, нельзя не сознаться, что помыслы о таком браке – помыслы очень смелые; но правда уже и то, что он владетельный герцог, всевладеющий при дворе ее величества, что невозможно и предвидеть, где остановится его чрезмерное честолюбие, если он по-прежнему останется угодным государыне». Герцога не смущало даже то, что жениху, его сыну Петру, едва минуло четырнадцать, а невесте, герцогине Мекленбургской, шел двадцатый год. В другой депеше Рондо сообщал: «Его честолюбие не знает пределов и вряд ли он упустит возможность возвести сына в сан государя российского, если ему удастся сохранить расположение ее величества впредь до совершеннолетия принца Петра»[109 - РИО. Т. 80. С. 361, 416, 449.].
Главный фасад Рундальского дворца. Современный вид.
Фотография Tiago Fioreze (31.07.2008)
Золотой зал Рундальского дворца. Фотография Woisyl, 2006 г.
Матримониальные планы завершились крахом – Бирону не удалось женить своего сына ни на принцессе Мекленбургской, ни на принцессе Брауншвейгской. В 1740 году, когда скончалась императрица, Бирон отважился реализовать новый дерзкий план – он был объявлен регентом грудного императора и в течение 17 лет намеревался управлять Россией.
Вторым после Бирона лицом среди немецкой камарильи был Остерман. Между ними было больше различий, чем сходства. Их роднили два качества: оба были жестокими и неразборчивыми в средствах достижения цели, безжалостно сметая с пути всех конкурентов и соперников, не останавливаясь перед отправкой их на эшафот. Это свойство натуры Бирона и Остермана отметили многие современники. Остерман доносил Рондо в Лондон в мае 1730 года: «Всегда вел свою игру очень хитро, незаметно удалив одну за другим все крупные личности, которые могли стать ему на пути: Толстого, барона Шафирова, князя Меншикова, а в последнее время и Василия Лукича Долгорукого – единственного из русских, знающего иностранные дела…»[110 - РИО. Т. 61. С. 191.]. Список жертв Остермана, расправлявшегося с противниками в царствование Анны Иоанновны вместе с Бироном, можно продолжить фамилиями рода Долгоруких, Голицыных и Волынского; оба, Бирон и Остерман, находились в плену честолюбивых замыслов, впрочем, удовлетворявшихся несхожими средствами: Бирон сделал карьеру только потому, что оказался, как говаривали в XVIII столетии, «в случае», то есть фаворитом императрицы. Остерман достиг вершин власти благодаря талантам и необыкновенной работоспособности. По интеллекту, образованности, обхождению, способности плести интригу, умению навязывать свои мысли собеседнику, скрывать неприязнь и жестокие намерения за обаятельными улыбками, вкрадчивостью, втираться в доверие к собеседнику, долго разговаривать с ним, но ничего нового не сказать, что особенно ценилось среди дипломатов, – всеми качествами был щедро наделен Остерман и столь же щедро обделен Бирон – человек ничтожный, мстительный, необразованный, имя которого затерялось бы среди тысяч других ординарных людей, если бы он не привлек внимания императрицы отнюдь не деловыми качествами, а тем, что овладел ее сердцем в такой степени, что она готова была поступиться многим, чтобы угодить фавориту и удержать его при себе.
Неизвестный художник.
Портрет графа Андрея Ивановича Остермана.
Пер. пол. XVIII в. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Между ними существовало еще два различия. Остерман владел немецким, латинским, голландским, французским, итальянским, русский усвоил настолько, что его стиль приближался к ломоносовскому, в то время как Бирон мог изъясняться только на плохом курляндском наречии немецкого, а русской грамотой так и не овладел до конца дней своих. Еще важнее было другое различие: Бирон был стяжателем, тяготел к роскоши и блеску, не гнушался брать взятки, слыл казнокрадом, в то время как Остерман отличался непритязательностью в быту, довольствовался жалованьем и пожалованиями, не был причастен к таким порокам современников, как взяточничество и казнокрадство. Чем было вызвано его бескорыстие – неведомо: возможно, принципиальным неприятием этих пороков, а возможно, и страхом за свою будущую судьбу – он знал, что за его поступками зорко следили десятки завистливых глаз и всякий оплошный шаг с его стороны мог положить конец не только его карьере, но и жизни.
Андрей Иванович Остерман (Генрих Иоанн Фридрих) родился в семье лютеранского пастора в городе Бохуме в Вестфалии (1686–1747). Учился в Иенском университете, откуда бежал сначала в Эйзенах, а затем в Голландию, скрываясь от правосудия за убийство на дуэли своего товарища. В Голландии его приметил адмирал Крюйс, принял в 1703 году на русскую службу и прибыл с ним в Россию в следующем году. Его старший брат Иоанн Христофор Дитрих, не отличавшийся дарованиями, служил воспитателем дочерей Иоанна Алексеевича. Знание иностранных языков позволило Остерману в 1708 году занять должность переводчика Посольского приказа. С этого года надобно вести отсчет времени в поступательной карьере Андрея Ивановича: в 1710 году его послали к польскому королю с извещением о взятии Риги, а также к дворам датскому и прусскому с целью вовлечения в войну со Швецией. В том же году он занял должность секретаря Посольской канцелярии, а в следующем году под руководством П. П. Шафирова участвовал в мирных переговорах с Османской империей, завершившихся заключением Прутского мирного договора.
Самым важным событием в карьере Остермана было назначение его членом делегации во главе с Я. В. Брюсом, отправленным на Аландский конгресс для ведения мирных переговоров со Швецией. Пользуясь покровительством вице-канцлера Шафирова, Остерман оттеснил на второй план Брюса, вступил в непосредственный контакт с главой шведской делегации бароном Герцем и, похоже, мог добиться выгодного для России мира, если бы после внезапной гибели шведского короля Карла XII в Стокгольме не взяли верх реваншистские силы, готовые продолжать войну. Петр I, уверовав в дипломатические способности Остермана, отправил его в 1719 году в Стокгольм, чтобы убедить Швецию принять условия мира, продиктованные Россией. Хотя миссия и закончилась неудачей, но Остерман в 1721 году вновь был включен в состав мирной делегации на Ништадтский конгресс. На этот раз переговоры завершились заключением выгодного для России Ништадтского мирного договора. После этого успеха Петр I пожаловал Остермана бароном, а в 1723 году, после того как Шафиров оказался в опале, – назначил на должность вице-президента коллегии Иностранных дел. При Екатерине I он стал вице-канцлером, получил чин действительного тайного советника и стал членом Верховного тайного совета.
О тайной роли Андрея Ивановича в установлении самодержавия и в учреждении Кабинета министров уже было рассказано. Здесь мы приведем отзывы иностранцев об Андрее Ивановиче в годы, когда он практически правил Кабинетом министров. Императрица в феврале 1730 года навестила больного Остермана и дважды в день справлялась о его здоровье, а в мае он был возведен в графское достоинство и пожалован имением в 180 тысяч рублей. Однако положение вельможи в абсолютной монархии никогда не было неизменно устойчивым: оно постоянно менялось, находилось в зависимости от настроения и капризов монархини и ее фаворита. Остерман в этом плане не составлял исключения – иностранные дипломаты постоянно доносили своим дворам то о падении кредита барона и графа, то о восстановлении его влияния. В этой обстановке надо было обладать изворотливостью, умением угождать и приспосабливаться, чтобы удержаться на плаву на протяжении четырех царствований. Этими свойствами натуры вполне овладел Остерман, что засвидетельствовал К. Рондо.
Остерман находился в неприязненных отношениях с Минихом. «Хотя фельдмаршал и силен в интриге, – доносил Рондо в 1732 году, – в нем нет и десятой доли ловкости и опытности вице-канцлера». Но Андрей Иванович был силен и ловок не только в интриге. Все иностранные наблюдатели отмечали в нем наличие высокой степени деловых качеств. Тот же Рондо, продолжая цитированную выше депешу, писал: «Это не только единственный в России человек, знакомый с иностранными делами, но и в других делах нет человека, ему равного». Этот факт подтвердил и французский посол Маньян, в одном из донесений сообщавший: «Никто не обладал такими сильными умственными способностями, как Остерман». В другом донесении, отправленном восемь месяцев спустя, в феврале 1732 года: «Нельзя указать ни одного человека русского происхождения, обладающего авторитетом или способностями». Саксонский дипломат доносил в 1730 году, когда Остерман еще не приобрел влияния, которым располагал в последующие годы: «Вся эта огромная машина держится на нем (Остермане. – Н. П.); однако он один только бескорыстен»[111 - РИО. Т. 5. С. 353, 374.].
Одним словом, Андрей Иванович был незаменим, и императрице и ее фавориту ничего не оставалось, как временами гнев сменять на милость. Свою незаменимость в Верховном тайном совете Остерман подкреплял еще и своеобразной организацией делопроизводства, в котором только он и разбирался. В его отсутствие члены Верховного тайного совета соберутся, выпьют по чарке водки, поболтают и разойдутся. О степени его влияния на разбирательство дел в Кабинете министров можно судить по тому, что ему, в последние пять лет существования Кабинета министров прикованному к постели, приносили дела на дом. Это дало основание английскому послу Форбесу донести своему двору в 1734 году: «Обер-камергер – всемогущий фаворит, вице-канцлер – человек, необходимый по опытности и способностям. Первый обладает всеми качествами сердца, второй – всеми качествами ума, но сердцем несколько порочен»[112 - РИО. Т. 76. С. 102.]. Коротко, образно и точно охарактеризовал Остермана английский дипломат Финч: «Это кормчий в хорошую погоду, скрывающийся под палубой во время бури».
Каждое из приведенных выше свидетельств, разумеется, субъективно. Если речь идет об отзывах об Остермане иностранных дипломатов, то они зависели от позиции, занимаемой вице-канцлером к стране, которую они представляли. Отсюда альтернативные характеристики Андрея Ивановича: одни авторы акцентировали внимание на положительных свойствах его натуры, другие – на негативных, одни обращали внимание на чисто человеческие достоинства и недостатки, другие – на его служебную деятельность. Эти предварительные замечания уместно напомнить, перед тем как привести характеристику Остермана его недоброжелателем, французским дипломатом маркизом Шетарди, хотя и одностороннюю, но не лишенную интереса, поскольку автор схватил и запечатлел черты, бывшие на слуху, а также его личные наблюдения. Эта характеристика как бы обобщает частные наблюдения и относится к числу собирательных.
«Граф Остерман слывет за самого хитрого и двуличного человека в целой России. Вся его жизнь есть не что иное, как постоянная комедия. Каждый решительный переворот в государстве доставляет ему случай разыгрывать различные сцены: занятый единственной мыслью удержаться на месте во время частых дворских бурь, он всегда притворно страдает подагрой и судорогами в глазах, чтобы лишиться возможности пристать к которой-либо партии. Тишина в правительстве есть для него лекарство, возвращающее его здоровье. Никто лучше его не знает обо всем происходящем в Петербурге, и караульные, расставляемые будто для безопасности к домам знатных и иностранных министров, служат шпионами, обязанными ему отчетом во всем, что там ни происходит. На нем одном лежит вся тяжесть дел, и хотя его правила, совершенно нейтральные, не внушают обыкновенно много доверия, однако принуждены прибегать к нему, потому что не знают, как обойтись без этого человека… Это человек чрезвычайно вежливый и вкрадчивый, говорит на многих языках»[113 - Пекарский П. Указ. соч. С. 2, 3.].
Источники русского происхождения подтверждают свидетельства иностранцев – указы о «винах Остермана» неоднократно подчеркивали, что важнейшие решения он принимал самостоятельно, не советуясь с коллегами. «В важных делах с прочими поверенными персонами откровенных советов не держал, но большей частью поступал по своей собственной воле, о некоторых важных государственных делах генеральных советов собирать не старался и не хотел». И далее: «Мнения свои о важнейших государственных делах так переменял, как оные в угодность другим быть могли, а не так, как присяжная должность требовала».
Напомним еще об одном свойстве Андрея Ивановича – он никогда не афишировал своей причастности к важным событиям и обладал богатым арсеналом средств оставаться незамеченным, непричастным к происходившему. Но главное средство из этого арсенала состояло в умении сказываться больным. К слову сказать, эта хитрость от частого ее использования перестала быть тайной – при дворе и в среде иностранных дипломатов говаривали: раз Андрей Иванович обложился подушками, жди крутых перемен.
Характеристика Остермана будет ущербной без освещения его частной жизни. Здесь он выглядит совсем иным человеком: лукавство, коварство, мстительность, жестокость он оставлял на службе, и, переступив порог дома, он предстает совсем иным человеком: он нежно любящий супруг, заботливый отец – словом, самый добродетельный семьянин, не вызывающий нареканий со стороны самого строгого судьи.
Супругу Остерману выбрал сам Петр I – 18 декабря 1720 года состоялась помолвка с дочерью ближнего боярина и стольника Ивана Родионовича Стрешнева Марфой. Жениху было 34, а невесте 22. Столь поздний брак жениха был нетипичным явлением того времени – Андрей Иванович, видимо, ожидал выгодной партии.
Марфа Ивановна выходила замуж не по любви и не по собственной воле, а по воле царя, которой не мог противиться и отец, придерживавшийся старомосковских взглядов и презиравший заезжих иноземцев. Но разве мог отец предполагать, что его зять совершит умопомрачительную карьеру и станет фактическим правителем России?
Будучи уже в ссылке в Березове, Остерман на странице немецкой Библии сделал следующую надпись: «1721 года, января 21-го старого штиля праздновано бракосочетание наше со всем возможным великолепием, при котором с обеих сторон их императорские высочества, заступая место родителей наших, присутствовать изволили, и мы от высочайших особ, их императорских высочеств отвезены были к брачному ложу».
Получив богатое приданое деньгами, драгоценностями и поместьями, Андрей Иванович был обласкан полюбившей его супругой. Супруг отвечал взаимностью и преданностью семейному очагу. 21 марта 1722 года Марфа Ивановна родила сына Петра, умершего чуть более года спустя, в марте 1723 года родился еще один сын – Федор, в 1724 году – дочь Анна, а год спустя – сын Иван.
В отличие от своего шефа графа Г. И. Головкина, человека жадного и скупого, Остерман, по свидетельству М. М. Щербатова, держал открытый стол – щедрость, характерная для вельмож не первой, а второй половины XVIII века. Но современники отметили и бытовые свойства Андрея Ивановича, не вызывающие симпатий: он был равнодушен к экипировке, появлялся в неряшливом виде и настолько пренебрегал баней, что от него неприятно пахло. Манштейн отмечал, что серебряный сервиз в доме находился в таком грязном виде, что напоминал оловянный.
Историки располагают письмами Марфы Ивановны супругу, содержание которых позволяет судить о счастье и любви, царивших в семье. Первое письмо ее датировано 2 марта 1723 года, когда весь двор, в том числе и Остерман, отправился в Москву на коронацию супруги Петра I Екатерины. Будучи на сносях (дочь Анну родила 22 апреля 1724 года), Марфа Ивановна должна была остаться в северной столице. Надо отметить, что письма супруги отличались нежностью, неподдельной тоской от разлуки. Супруга беспокоится о здоровье Андрея Ивановича, вспоминает о его болезни в Риге, в канун отъезда на Ништадтский конгресс, заявляет, что «покуль не увижу тебя, моя радость, то мне кажется, что ты все нездоров». Супруга она называет «батюшкой дорогим», «любезным другом», обещает «до смерти своей любить» и надеется на взаимность, заклинает не печалиться о ее здоровье. Заканчивается письмо словами: «Любимый мой друг дорогой батюшка Андрей Иванович, живи весело и будь здоров и меня, бедную, люби всегда и я тебя до смерти буду любить. Верная твоя Марфутченка Остерманова».
Всего опубликовано пять писем за март – апрель 1724 года, одно из них хозяйственного содержания, а четыре – с излиянием нежных чувств. Последнее из них датировано 6 апреля, то есть за две с половиной недели до родов: «Богу единому известно, каково мне твое здоровье потребно и каков ты мне мил ныне, в каком я состоянии обретаюсь, однако ж ради тебя желаю себе живота, хотя бы и умерла, только бы при твоих глазах и в твоих дорогих руках»[114 - РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 321. Ч. I. Л. 8–11; ИВ. 1884. № 9. С. 611.].
Нежное письмо Марфы Ивановны к супругу, правда, недатированное, опубликовал С. М. Соловьев. Оно поражает непосредственностью, искренностью, теплотой, переживаниями от разлуки с супругом в «великий праздник». «Я вчера, – извещала Марфа Ивановна Андрея Ивановича, – у обедни сколько могла крепилась, что в такой великий день не плакать только не могла укрепить: слезы сами пошли»[115 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 301, 302.]. Даже не верится, чтобы Андрей Иванович, имевший репутацию скрытного, черствого и жестокого человека, раскрылся неожиданными чертами своего характера в семейной жизни, в которой он пользовался любовью супруги и отвечал ей взаимностью.
Марфа Ивановна разделила участь супруга и отправилась с ним в Березов 18 января 1742 года. С мая 1742 года Остерман стал поправляться от подагры. Поручик Космачев, командовавший караулом, получил подписанный 10 ноября 1746 года указ прислать в Сенат «известие, по получение сего указа в самой скорости: означенный Остерман ходит ли сам и буде де ходит, давно ли ходить начал. И о сем указе никому тебе, Космачеву, ни под каким видом не объявлять, а содержать в секрете».
14 января 1747 года Космачев отвечал: «Остерман освободился от болезни и начал ходить с 1742 года, августа месяца, о костылях, а потом не в долгое время и без костылей зачал ходить. И по се число прежней его болезни не видим». Не ясно, прикидывался ли он больным настолько, что с 1736 года не выходил из дому, или на него благотворно подействовал сибирский климат и более скромная трапеза ссыльного, но донесение Космачева представляет известный интерес.
С 5 мая 1747 года по доношению того же поручика Космачева Остерман «заболел грудью, впадал в обморок, и 21 мая того же года умер». Хоронила его Марфа Ивановна. Освобождена она была указом 21 июня 1749 года, в январе следующего года она прибыла в Москву, где и скончалась в феврале 1781 года на 84-м году от рождения.
Зададимся вопросом: какое отношение имел обрусевший немец Остерман к немецкому засилью? Самое прямое. С его именем связаны неудачные внешнеполитические акции правительства, а также предоставление теплых местечек своим соотечественникам. Маньян 12 февраля 1732 года доносил: «Все главные должности, как гражданские, так и военные, заняты иностранцами, представляющими из себя клевретов или вообще людей, преданных Остерману»[116 - РИО. Т. 81. С. 308.].
Суммируя отзывы об А. И. Остермане, можно составить о нем общее представление как о человеке неординарном, но не выдающемся, чиновнике, но не государственном деятеле. Он был всего лишь немцем-педантом, прекрасно ориентировавшимся в хитросплетениях придворной жизни, талантливым исполнителем чужой воли, человеком, чуравшимся крутых поворотов как в личной судьбе, так и в судьбе государства, умевшим подстраиваться под вкусы тех, кто стоял выше его. Надобно отметить и такие несомненно привлекательные черты его натуры, как трудолюбие, колоссальную работоспособность, непричастность к казнокрадству и мздоимству, умение не поддаться соблазну быть подкупленным дипломатами иностранных государств. Достойна похвалы его супружеская верность, трогательная забота о супруге и детях.
В то же время этот вкрадчивый и внешне приветливый человек за порогом своего дома был крайне честолюбив, мстителен и коварен. Настойчиво и последовательно, ступень за ступенью он взбирался к вершинам власти, сделался необходимой принадлежностью трона и выполнял все это столь ловко и незаметно, что лишь немногие современники замечали и его лукавство, и готовность предать своего покровителя, и умение скрывать за обаятельной улыбкой подлинные чувства и в критические минуты сказываться больным, чтобы не участвовать в схватке, а затем примкнуть к победившей стороне.
Третьим влиятельным немцем был Бурхард Христофор Антонович Миних.
Генрих Бухгольц.
Портрет Миниха Бурхарда Кристофа. 1765 г.
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Родился Миних в 1683 году в крестьянской семье, однако глава ее со временем получил чин дворянина и был уволен в отставку в чине подполковника. Располагая приличным по тому времени образованием, Миних начал службу в 17-летнем возрасте в должности то пехотного офицера, то инженера, руководившего сооружением канала. Канальное дело ему было знакомо – этой специальностью владел его отец. В 1716 году в чине полковника Миних был принят Августом II на польско-саксонскую службу. В 1718 году велись переговоры с Герцем о поступлении на шведскую службу; но смерть Карла XII и казнь Герца помешали осуществлению этого намерения. Тогда он решил попытать счастья в России и, прибыв в Петербург в 1721 году в чине генерал-лейтенанта, представил Петру записку, в которой изложил степень своей подготовленности к различным профессиям. В записке он признавался, что совершенно не знаком с морской и кавалерийской службами, поверхностно знал артиллерийское дело и гражданскую архитектуру и считал себя специалистом по службе в пехоте, сооружению и штурму крепостей.
В 1723 году Миних по поручению Петра I обследовал ход строительства Ладожского канала, подал царю записку, в которой проявил хорошее знакомство с канальным делом. В результате в январе 1724 года последовал указ Петра I: «Канальное дело во управление поручить ему, генерал-лейтенанту Миниху». Осенью 1724 года Петр I лично осматривал строительные работы и остался доволен результатами усердия Миниха: в весенне-летние месяцы этого года было вырыто около 12 верст канала, в то время как за предшествующие шесть лет было сооружено значительно меньше.
Историк-любитель второй половины XVIII века И. И. Голиков, автор 30-томного сочинения о «Деяниях императора Петра Великого», запечатлел услышанные кем-то слова царя, сказанные супруге: «В Минихе нашел я такого человека, который скоро приведет к окончанию Ладожский канал. Я еще не имел ни одного чужестранца, который бы так, как сей, умел предпринимать и совершать великие дела. Помогайте ему во всем, чего он пожелает»[117 - Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 10. М., 1839. С. 87.]. Проверить эти слова не представляется возможным, но, несомненно, у Петра Великого были основания для хвалебной оценки деятельности Миниха – он получил назначение «над всеми казенными и гражданскими строениями генерал-директором».
После смерти Петра Великого Михин в полной мере проявил такую черту характера, как алчность, – он то и дело осаждал Екатерину I и Петра II челобитными с просьбой о пожалованиях, которые, впрочем, удовлетворялись: он просил наградить его пятью тысячами рублей за то, что при строении Ладожского канала учинил в казну «немалую прибыль», просил пожаловать «деревеньку Ледново», в потомственное владение дом в Петербурге, наконец, должность генерал-цейхмейстера, то есть главнокомандующего артиллерией России.
Просьба поручить управление артиллерией изобличает в Минихе лишь одну не вызывающую симпатий черту – безмерное честолюбие и карьеризм. Дело в том, что в записке, поданной Петру I в 1721 году, он признавался: «По артиллерии равномерно не могу служить, не зная ее в подробности и умея распоряжаться ею только при атаке и обороне крепостей и в сражениях». В 1728 году он был пожалован Петром II генерал-губернатором столицы, графским достоинством, а в следующем году получил должность, которой давно домогался, – генерал-фельдцейхмейстера.
Не зная в тонкости дела, которым взялся командовать, Миних с немецкой педантичностью сосредоточил свое внимание на внешнем блеске и обрядной стороне управления артиллерией. Чтобы угодить Анне Иоанновне, тоже не равнодушной к внешнему блеску, Миних особое внимание уделял фейерверкам, устройство которых находилось в его ведении. Свою энергию, которой обладал в избытке, он отдал организации московских придворных увеселений. Усердие Миниха было замечено императрицей. В 1731 году «Санкт-Петербургские ведомости» извещали о пожалованиях Миниха «как за его государству поныне верно показанные зело полезные заслуги… изрядными вотчинами и знатною суммою…». В том же году в день коронации Анна Иоанновна пожаловала Миниху орден Андрея Первозванного – высшую награду России.
Мы не станем перегружать главу деталями управления Минихом артиллерией. Приведем несколько отмеченных им «великих неисправностей»: «1) офицеры не только б подчиненных своих экзерциции могли обучать, и в протчих воинских поступках исправлять, но и сами чести своему генералитету отдать не умеют; 2) у капралов некоторых на обшлагах и позументу не нашито; 3) у подпоручика у том смотре башмаки были востроносые, а не тупоносые, а шляпа весьма велика и не в такую пропорцию, как офицеру иметь надлежит… 5) багинеты многие не в надлежащих местах носят». Прочие пункты в том же духе: унтер-офицеры и рядовые не имеют кос, пользуются износившимися портупеями и т. д.[118 - Хмыров М. Фельдцейхмейстерство графа Миниха // Записки фельдмаршала графа Миниха. С. 231, 318.]
Если внутреннюю и внешнюю политику определял Остерман, то военное ведомство и командование армией было отдано на откуп Миниху – человеку, пользовавшемуся огромным расположением императрицы и едва не ставшим ее фаворитом. Это доверие выразилось в чинах и должностях Миниха, а также в щедрых пожалованиях поместьями и деньгами: в феврале 1732 года он занял должность президента Военной коллегии, а в марте стал фельдмаршалом. Миних занимал еще четыре должности, случай для XVIII века уникальный. Совершенно очевидно, что Миних не мог одновременно успешно нести бремя пяти должностей, в особенности в годы, когда Россия вела войну. Уделять внимание остальным должностям он мог лишь во время кратковременного пребывания в столице, которую навещал в месяцы затишья на войне. И все же плоды немецкого влияния на организацию вооруженных сил России сказались как на тактике, которой руководствовался Миних при осуществлении военных операций и заимствованной у прусской армии, так и в экзерцициях и экипировке солдат и офицеров. Английский резидент К. Рондо доносил в сентябре 1732 года своему двору о повелении императрицы, «дабы впредь русские войска обучались по прусскому образцу»[119 - РИО. Т. 66. С. 507.]. Косы и пудра, заимствованные у прусской армии, тоже являлись «подарком» Миниха русским солдатам.
Нельзя не отметить одно свойство натуры Миниха – он был удачлив, причем настолько, что едва не проигранные сражения, как по мановению волшебной палочки, оборачивались победой, как то случилось при взятии Очакова и сражении под Ставучанами. Военное искусство Миних проявил лишь при овладении Перекопом, но этот успех перечеркивается неудачным походом в глубь Крыма в 1736 году.
Что касается пороков, то у Миниха их было в избытке. Уже перечисленные можно дополнить склонностями к интригам, авантюризму, хвастовству. Незначительные по масштабам победы под его пером превращались в крупные военные успехи. В гражданских делах он тоже приписывал себе заслуги, к которым не имел отношения. Так, согласно версии Миниха, ему принадлежала мысль об учреждении Кабинета министров. Остерман, «зная, что императрица питала ко мне большое доверие, просил меня предложить ее величеству учредить Кабинет, который заведывал бы важнейшими государственными делами и мог посылать именные указы Сенату и другим присутственным местам». Миних будто бы выполнил просьбу Остермана, императрица согласилась с предложением, и Кабинет был якобы учрежден в 1730 году, «тотчас по вступлении на престол императрицы, причем она настаивала, чтобы Миних стал членом Кабинета»[120 - Миних Б. X. Записки. С. 44.]. Здесь что ни слово, то ложь, искажение хода событий, стремление поставить себя в их центре.
Один из современников сообщает факт жестокости Миниха. Он относится к 1740 году, когда назначение Бирона регентом вызвало острое недовольство в офицерском корпусе, – девять офицеров арестовали и пытали в присутствии генерал-прокурора Трубецкого, генерала Ушакова, Бирона и Миниха. «Раздражение графа Миниха дошло до того, что он… не мог вдоволь упиться страданиями, причинявшимися этим офицерам»[121 - РИО. Т. 92. СПб., 1894. С. 39, 40.].
Другим примером жестокости фельдмаршала является дело шведского майора Синклера. Оно заслуживает внимания прежде всего потому, что высвечивает нравственный облик как Миниха, так и его покровительницы Анны Иоанновны. Оба они выступают в двух ипостасях: публичной в роли респектабельных людей, осуждающих убийство майора, и тайной, характеризующей их заказчиками и организаторами этого убийства.
Синклер имел репутацию явного недруга России. Он должен был доставить из Стамбула в Стокгольм секретные депеши, в которых турки склоняли шведов включиться в войну против России. О миссии Синклера стало известно русскому резиденту в Швеции М. П. Бестужеву-Рюмину, предложившему русскому двору коварный план убийства Синклера с тем, чтобы овладеть депешами, которые он должен был проездом через Польшу доставить в Стокгольм. «Мое мнение – писал Бестужев, – чтоб его анлевировать (уничтожить. – Н. П.), а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок с Синклером будет приятен королю и министерству».
План Бестужева в Петербурге одобрили и даже его удалось реализовать, но сработано было так грубо, что назревал скандал европейского масштаба и случившееся давало повод Швеции без околичностей объявить войну России. Создавалась опасность войны на два фронта, что, естественно, не устраивало русский двор, стремившийся отмежеваться от причастности к преступлению.
Императрица в послании к Миниху называла убийство Синклера богомерзким, безумным и безответственным поступком, но рекомендовала, если убийцы «из наших людей суть», то их «надлежит самым тайным образом отвесть и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит и не изыщутся ли иные способы оное утолить».
Рескриптом русскому дипломату Кейзерлингу в Дрездене Анна Иоанновна решительно отвергала всякую причастность России к убийству: «Не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших оное определить мог».
Столь же решительно императрица отклоняла причастие русских агентов к «богомерзкому делу» и в рескрипте в Вену к дипломату Бракелю: «Нам же никогда в мысли не приходило, что от наших людей он (Синклер. – Н. П.) до шленских границ преследован бьггь мог, яко же мы по сие время верить не хощем, чтоб то наши люди были, но некоторые интриги в том обращаются, от кого б оные ни произошли».
Миних в тон рескрипту Анны Иоанновны отвечал ей: «Я знаю, что все вашего императорского величества дела и поведение не на чем, как на великодушии и честности, основаны, чего я сам с самых моих молодых лет по сие время навыкнуть тщился…»
Таким образом, императрица поручала своим представителям убеждать иностранные дворы в том, что Россия никакого касательства к гибели Синклера не имела. Эту абсолютно ложную версию должна была подкрепить и мысль о порядочности и офицерской чести фельдмаршала Миниха. Императрице и Миниху хотелось, чтобы именно так, а не иначе выглядело дело Синклера.
Подлинную картину событий отразили не цитированные выше письма императрицы и Миниха, содержание которых предполагалось для успокоения иностранных дворов, а секретнейшие документы, повествующие о том, кто был организатором и исполнителем преступной акции. С холодной расчетливостью инструкция, подписанная Минихом 28 сентября 1738 года, поручает драгунскому поручику Левицкому тайным образом в Польше «перенять» Синклера со всеми имеющимися при нем письмами. «Ежели такой случай найдете, – продолжал Миних, – то старатца его умертвить или в воду утопить, а письма прежде без остатка отобрать».
1 августа 1739 года Миних донес императрице о выполнении Левицким поручения. Синклер убит, а депеши переданы барону Кейзерлингу. Однако «анвелирование» было выполнено Левицким столь топорно, что становилось трудно отрицать причастность русского двора к убийству: Не полагаясь на скромность убийц, их умение молчать, кабинет-министры велели содержать заключенных в полной изоляции, лишив их возможности общения с кем бы то ни было, чтобы затем отправить в ссылку в глухой монастырь в Сибири. Такова цена заверения Миниха не совершать того, «что честности противно», и заявления императрицы, осуждавшей «богомерзкое» убийство[122 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 604, 686–689.].
«Анвелирование» Синклера вызвало огромный резонанс – европейские дворы были единодушны в осуждении этой акции, тем более что она не осталась тайной, ибо союзница России Австрия известила всех, что убийство шведского майора было осуществлено четырьмя русскими офицерами. Но больше всех акцией возмущались в Швеции, где действия России дали повод реваншистам всех мастей для открытия против нее военных действий. Это была не беспочвенная угроза: к русским границам стягивались шведские полки, в Петербурге ожидали шведского вторжения.
Похоже, двор в Петербурге запаниковал и готов был заключить мир с турками. Об этом можно судить по письму императрицы к Остерману с указанием причин, вынуждавших пойти на этот шаг: Россия в одиночестве не в состоянии победить турок – Персия готова заключить с ними мир, а действия Австрии не приносили ожидаемого успеха. Императрица, кроме того, писала о распрях между генерал-фельдмаршалами Минихом и Ласси с генералитетом. С пагубным влиянием этой распри согласился и Остерман: «Бесспорно истинно то, что несогласие между предводителями армии и генералитетом производит следствия зело вредные интересу вашего императорского величества».
Таковы были результаты злодейского поступка Миниха, едва не накликавшего войну России на два фронта. История с Синклером изобличает в злодеянии не только Миниха, но и императрицу.
Общеизвестно, что все современники единодушны в отрицательной оценке человеческих качеств фельдмаршала. Дюк де Лириа, наблюдавший Миниха в 1727–1730 годах, когда тот был еще далек от пика своей карьеры, писал: «Граф Миних, немец, служил генералом от артиллерии, он очень хорошо знал всякое дело и был отличным инженером, но самолюбив до чрезвычайности, весьма тщеславен, а честолюбие его выходило из пределов; он был лжив, двоедушен, казался каждому другом, а на деле не был ничьим; внимателен и вежлив с посторонними, он был несносен в обращении с подчиненными».
Дошедшие до нас документы не уличают Миниха в казнокрадстве и взяточничестве. Но один из современников обвинял в нечистоплотности его супругу: «Его жену считают за женщину корыстолюбивую, и, как утверждают, она ничем более не занимается, как хапаньем и поборами». Вряд ли она это делала без ведома супруга[123 - РИО. Т. 5. С. 453, 454.].
Мы рассказали о наиболее влиятельных немцах, в руках которых сосредоточивалась реальная власть в России. Если бы этот «триумвират» жил в мире и дружбе, действовал согласованно, то немецкому правлению не было бы конца. Но в том-то и дело, что три честолюбца, одолеваемых далеко идущими планами, соперничали друг с другом, ревниво следили за кредитом доверия у императрицы, чем в конечном счете погубили себя.
Самое устойчивое положение в этом триумвирате занимал Бирон, но и он не был освобожден от забот о сохранении за собой «должности» фаворита и должен был зорко следить за лицами, привлекшими внимание императрицы, и принимать срочные меры для удаления соперников от двора.
Возмутителем спокойствия был самый честолюбивый из них, менее других владевший тайнами и искусством дворцовых интриг, посчитавший, что ему все было нипочем, после того как он стал фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, – граф Миних.
Своей карьере Миних был обязан прежде всего Остерману, с которым в конце 1720-х – начале 1730-х годов находился в дружеских отношениях. Андрей Иванович усердно хлопотал о пожалованиях Миниху перед Екатериной I, Петром II и Анной Иоанновной. Миних принимал хлопоты друга как должное, безотказно получал просимые денежные вознаграждения и поместья и до времени довольствовался скромной ролью строителя Ладожского канала, начальника артиллерии русской армии, шефа кадетского корпуса и полковника Ладожского и Кирасирского полков. Милости, посыпавшиеся на Миниха в 1732 году, вскружили ему голову настолько, что он решился на открытый выпад против своего друга Остермана. К удивлению современников, фельдмаршал отважился придерживаться взглядов, противоположных взглядам Остермана: вице-канцлер выступал противником утверждения на польском троне ставленника французского короля Станислава Лещинского, в то время как Миних осмелился его поддерживать. Противостояние бывших друзей усилилось после того, как Миних, вопреки желанию вице-канцлера, добился зачисления в Иностранную коллегию своего брата.
Фельдмаршал, как и следовало ожидать, проиграл единоборство с более опытным интриганом вице-канцлером, сумевшим обуздать притязания зарвавшегося бывшего друга, использовав влияние могущественного фаворита: Андрей Иванович в привычной для себя манере исподволь настраивал Бирона против Миниха и в конце концов достиг своей цели сообщением, что Миних неодобрительно о нем отзывался. Этого было достаточно, чтобы вызвать гнев фаворита, ранее покровительствовавшего Миниху, так как, по словам Маньяна, намеревался «сосредоточить власть над русскими войсками в руках верного человека»[124 - РИО. Т. 81. С. 313, 314.].
Усилия Остермана увенчались успехом. Еще 13 мая 1732 года саксонский министр при русском дворе Лефорт извещал свой двор: «Граф Бирон сам признался мне, что удивляется его (Миниха. – Н. П.) образу действий и сожалеет все, что сделал для этого хамелеона, у которого ложь должна заменять правду».
Недовольство, вызванное самоуправством и заносчивостью Миниха, распространилось среди различных кругов столичного общества. Купечество, в частности, было раздражено тем, что генерал-губернатор отправил отряды солдат на купеческие склады и в их дома для проверки, уплачена ли пошлина за хранимые товары.
Говоря по правде, Лефорт и Маньян выдавали желаемое за действительное, преувеличивая степень утраты Минихом влияния при дворе: должность генерал-фельдцейхмейстера Миних потерял в 1735 году, сохранив за собой три ключевых поста – президента Военной коллегии, генерал-губернатора столичного города, главнокомандующего русской армией во время русско-турецкой войны и право отправлять реляции в адрес не Кабинета министров, а императрице.
Прослеживая карьеру Миниха, отметим, что она протекала в соответствии с традициями, унаследованными от предшествующего столетия, когда считалось, что боярин или воевода с одинаковым успехом мог командовать войсками, вести дипломатические переговоры, осуществлять административные и судебные функции и т. д. Миних тоже отправлял разнообразные поручения, но преуспел только в одном – в строительстве Ладожского канала, где он обнаружил талант инженера.
Между Минихом, с одной стороны, и Бироном и Остерманом – с другой, сложились неприязненные отношения, о чем свидетельствует публичная пощечина, нанесенная Бироном самолюбию фельдмаршала. Миних намеревался породниться с фаворитом благодаря женитьбе своего сына на сестре его супруги. На этот счет была достигнута договоренность. Миних вызвал сына из-за границы, но брак не состоялся – как только Бирону стал известен недоброжелательный отзыв Миниха о своей персоне, сестра супруги была тут же обвенчана с генерал-майором Бисмарком.
Не безоблачными были отношения у Бирона с Остерманом. Последний, в отличие от Миниха, не претендовал на роль фаворита, стремился угодить Бирону, но незаметно приобрел такую власть в Кабинете министров, что вызывал беспокойство у Бирона. Фаворит, как отмечалось выше, противодействовал росту влияния Остермана включением в состав Кабинета министров своих людей: Ягужинского, Волынского, Бестужева-Рюмина.
В управлении страной принимал горячее участие не только упомянутый «триумвират». Этим не исчерпывалось немецкое засилье – существовал, если так можно выразиться, второй эшелон власти, в котором немцы выполняли хотя и менее масштабную, но ведущую роль. Остановимся подробнее на двух из них, выступавших откровенными грабителями казны и народного достояния, – Розене и Шемберге. Барон Ганс Густав фон Розен, назначенный генерал-директором дворцовых волостей в 1732 году, был примитивным грабителем находившихся в его управлении дворцовых крестьян, вымогая у них дополнительные сборы в свою пользу. В 1735 году он инспектировал дворцовые волости, но от его поездки, по мнению Главной дворцовой канцелярии, «интересу не было и толку тоже». Главная дворцовая канцелярия обвинила барона в самоуправстве, превышении своих полномочий, в игнорировании указов вышестоящих инстанций, в результате чего крестьянам последовало «вместо пользы – разорение».
5 сентября 1739 года в ответ на донесение Санкт-Петербургской дворцовой канцелярии от 18 мая того же года последовала именная резолюция: генерал-директору Дворцовой канцелярии «у дел не быть», ибо он по жалобам дворцовых крестьян находится под следствием за взятки, а также «за многотысячное упущение денежных и прочих дворцовых доходов наших и что он учинил знатно чрез такие взятки в дворцовой нашей пашне и в посеве хлеба великое уменьшение; он же, Розен, собственных своих лошадей сам у себя на нас покупал и за них себе из казны нашей без указа нашего деньги брал». Резолюция повелевала расследовать преступление и привлечь всех виновных к ответственности[125 - РИО. Т. 130. С. 217.].
В ответ в феврале 1740 года Розен подал челобитную, на которую 25 февраля последовала резолюция Анны Иоанновны: «В дом свой ехать позволяется, а ежели по комиссии важное что касаться до него будет, то должен он ответствовать». Поскольку на Розене значились взятки в сумме 27 338 рублей 68 копеек и прочее, то Сенат запросил у Кабинета министров: руководствоваться ли ему резолюцией императрицы, разрешавшей выезд из России, или «ответствовать» за содеянное преступление?
Если бы в таком преступлении был уличен русский вельможа, то ему грозила бы виселица либо по меньшей мере ссылка в Сибирь с конфискацией имущества. Но у Розена, видимо, нашлись могущественные покровители, и при Анне Иоанновне его судьба так и не была решена, а в правление Анны Леопольдовны должность генерал-директора над дворцовыми волостями была восстановлена и ее вновь занял Розен. В конце мая 1742 года по донесению обер-гофмейстера Салтыкова Сенату, повторившему старые обвинения в адрес Розена с предложением освободить его от занимаемой должности, так как он «экономии никакой к приращению интереса… не показал, а между тем на содержание канцелярии тратилась немалая сумма», сообщалось, что за ним числятся «многотысячные взятки». Указом Сената 8 июня 1742 года Розен «за непорядочные его поступки от ведомства дворцовых дел был отрешен» вновь и взят под следствие Юстиц-коллегии[126 - Индова Е. И. Дворцовое хозяйство России. Первая половина ХVIII века. М., 1964. С. 295, 296.]. Дальнейшая судьба Розена нам неизвестна.
Проделки Розена по сравнению с разграблением казны немцем Шембергом представляются детскими забавами.
Александра-Курта Шемберга – саксонского обер-гауптмана и королевско-польского камергера – на русскую службу нанял другой немец – посол России в Варшаве Кейзерлинг. По заключенному с Шембергом контракту должность, которую ему предстояло занять, получила название генерал-берг-директор, а возглавляемое им учреждение – Генерал-берг-директориум. Это беспрецедентный случай, когда учреждению присваивалось название по чину его руководителя.
Хотя указ 31 августа 1736 года объявлял Генерал-берг-директориум на таких же правах, «как прежде Берг-коллегия была», в действительности вновь созданное учреждение имело мало сходства с коллегией. Штат Берг-коллегии, как и остальных коллегий, состоял из десяти персон: президента, вице-президента, четырех советников и такого же числа асессоров. Штат Генерал-берг-директориума состоял из двух человек: Шемберга и другого немца – советника В. Рейзера. Права Шемберга были значительно шире прав президента Берг-коллегии, находившейся в подчинении Сената, в то время как Генерал-берг-директориум подчинялся «беспосредственно от ее императорского величества высочайших повелений и указов» и состоял в ведении Кабинета министров. Позже Генерал-берг-директориум пополнился новыми чиновниками, но вновь иноземцами: проворовавшимся шведским военнопленным В. Бланкенгагеном и немцем Кохиусом. Принятый на русскую службу Бланкенгаген ведал экспортом казенного железа и меди за границу, в 1734 году был уличен в подлоге, караемом смертной казнью, но Шемберг добился освобождения Бланкенгагена от наказания и назначил его без ведома Сената берг-асессором на Урале. Расставляя своих людей в горной администрации, Шемберг избавился от В. П. Татищева, сопротивлявшегося передаче Казенных Горноблагодатских заводов, жемчужины уральской металлургии, Шембергу. В марте 1739 года Шемберг получил Горноблагодатские заводы, стоившие казне свыше 42 тысяч рублей, а также ссуду в 65 тысяч рублей. Кроме того, он взял на откуп продажу сибирского железа, овладел Лапландскими медными и серебряными рудниками. Все эти сделки совершались при покровительстве, разумеется не безвозмездном, Шемберга. В результате трехлетнего содержания откупа по продаже железа и меди и эксплуатации Горноблагодатских заводов Шембергом сумма долга казне, которую он так и не погасил, составила около 135 тысяч рублей[127 - Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. М., 1953. С. 131, 132.].
Кроме перечисленных здесь фамилий можно назвать еще несколько влиятельных немцев: гофмаршала Левенвольде, президента Коммерц-коллегии Менгдена и др.
Итак, немцы при Анне Иоанновне занимали важнейшие должности в правительстве, в то время как при Петре I иностранные наемники использовались в качестве специалистов и не занимали руководящих постов в правительственном механизме. Вспомним, как Петр I обжегся, поручив командовать войсками, атаковавшими Нарву, герцогу фон Круи, как он уволил часть иностранных офицеров после трагедии на реке Прут.
Среди губернаторов при Петре I не было ни одного иностранца, при Анне Иоанновне обязанности генерал-губернатора не какой-либо, а столичной губернии выполнял Миних, впрочем, назначенный на эту должность при Петре II.
Президентами коллегий Петр I назначил русских вельмож. Услуги иностранцев использовались на должностях вице-президентов и советников. Исключение составляла Берг-коллегия, возглавлявшаяся президентом Я. В. Брюсом, принадлежавшим ко второму поколению шотландцев, эмигрировавших в Россию еще при Алексее Михайловиче и давно обрусевших, а также генерал А. Вейде, занимавший в течение полугода вместе с неграмотным Меншиковым пост президента Военной коллегии. При Анне Иоанновне одной из «первейших» коллегий, Военной, руководил Миних, он же занимал пост главнокомандующего.
В списке сенаторов при Петре I встречаем одного Остермана, он же проник в Верховный тайный совет, где его фамилия терялась среди русских вельмож, смотревших на него как на рабочую лошадку. При Анне Иоанновне Остерман стал первым человеком в правительстве, на откупе у которого находилась внутренняя и внешняя политика России.
И еще один, как нам представляется, веский аргумент в пользу существования немецкого засилья: при Петре I жалоб на его существование со стороны русских вельмож источники не отметили; при Анне Иоанновне в руках немцев находилась вся власть, они занимали доходные места, что вызывало раздражение русских вельмож, выплеснувшееся в деле смоленского губернатора Черкасского, а затем и А. П. Волынского. Приведем несколько свидетельств иностранных наблюдателей.
Уже в мае 1730 года, то есть пару месяцев спустя после восшествия на престол, пристрастие Анны Иоанновны к немцам отметил английский резидент Рондо. «Дворянство, по-видимому, очень недовольно, что ее величество окружает себя иноземцами. Бирон, курляндец, прибывший с нею из Митавы, назначен обер-камергером, многие курляндцы пользуются также большой милостью, что очень не по сердцу русским, которые надеялись, что им отдано будет предпочтение».
Саксонские дипломаты точно определили, кому принадлежала власть в России в конце 1730-х годов: «Несмотря на все внутренние несогласия и личные антипатии, триумвират, состоящий из Бирона, Остермана и Миниха, представлял полное согласие в главном, а именно касательно удержания начала существующих порядков. Государыня Анна поняла вполне, что дарование первенствующего положения этому триумвирату было самым верным средством к возвышению его собственного влияния и к усилению могущества государства»[128 - РИО. Т. 5. С. 409.].
Зададимся вопросом, почему при русской Анне Иоанновне возникло немецкое засилье, олицетворенное Бироном, а у немки Екатерины Великой соратниками выступали русские вельможи? Ответ не представляет трудности: Екатерина II, как и Анна Иоанновна, не располагала кланом родственников, на которых она могла опереться, но Екатерина II заняла трон в результате переворота и она опиралась на заговорщиков. У Анны Иоанновны подобная опора отсутствовала, и она воспользовалась услугами своего курляндского окружения. Если к этому прибавить 19-летнее пребывание императрицы в Курляндии, где она в известной мере отличилась, то станут понятными ее симпатии и к немцам, и к иностранцам вообще.
Глава VI
Утехи Анны Иоанновны
В этой главе мы рассмотрим личные качества Анны Иоанновны, потому что именно они оказали немалое влияние и на историю России, и на формирование «команды», с которой она хотя бы официально правила страной, и на вкусы двора, и на характер развлечений императрицы, и на ее распорядок дня. Последний крайне важен, ибо дает полное представление о времени, отведенном на занятия делами государства, на забавы, сон, отдых и т. д.
Напомним о страсти императрицы к роскоши, в равной мере проявлявшейся как в укладе жизни императрицы, так и ее двора. В отличие от Елизаветы Петровны, неравнодушной к нарядам, гардероб которой насчитывал 15 тысяч платьев, Анна Иоанновна питала страсть к украшениям, которую она не могла утолить, будучи герцогиней Курляндской. Не случайно уже через несколько дней после приезда из Митавы в Москву она затребовала драгоценности, конфискованные у опального Меншикова. К ее огорчению, улов был невелик, так как большую часть бриллиантов использовали для изготовления короны Петру II. Но Анна Иоанновна тратила колоссальные по тому времени суммы на приобретение драгоценностей для себя, а также для подарков. Так, только в 1733 году купцу Липману было уплачено за усыпанную бриллиантами золотую табакерку и собственный портрет, а также за бриллианты, изумруды и прочие драгоценные камни свыше 168 тысяч рублей. В начале следующего года тот же Липман «за алмазные вещи» получили 18 733 рубля.
Расточительность императрицы отмечали источники как иностранного, так и отечественного происхождения с тем различием, что вторые лишь констатировали факт, а первые иногда осуждали огромные расходы на празднества.
В первую очередь это относится к устройству многочисленных празднеств, посвященных лицам царской фамилии, которые отличались необыкновенной пышностью и помпезностью. Среди них, как отмечалось выше, особой роскошью выделялись день рождения, восшествие на престол и тезоименитство императрицы. Так как дни эти были близки друг другу (28 января – день рождения, коронации – 28 апреля, тезоименитства – 3 апреля), то празднества продолжались неделями. Менее торжественно отмечались дни рождения и тезоименитства герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны, Елизаветы Петровны, Анны Леопольдовны и ее супруга Антона Ульриха Брауншвейгского, членов семьи Бирона, после того как глава ее в 1737 году стал герцогом Курляндским. Празднества устраивались по случаю смотра гвардейских полков, годовщин их возникновения, по случаю отъезда из Петербурга в Петергоф и обратно царской семьи, по случаю годовщины учреждения орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, Св. Екатерины, в которых участвовали кавалеры перечисленных орденов.
Уже первые дни царствования императрицы ошеломили видавшего виды иностранного наблюдателя небывалой роскошью церемонии. 5 мая нового стиля 1730 года заканчивались коронационные торжества. «Могу уведомить вас, – доносил де Лириа в Мадрид, – что я никогда не видел такого блестящего и великолепного празднества, к тому же исполненного с такой распорядительностью и порядком». А ведь де Лириа представлял не какое-либо захудалое герцогство в Европе, а богатую Испанию.
К. Рондо доносил 4 мая 1730 года из Москвы: «Коронование ее величества состоялось 28 апреля с большей торжественностью, чем коронование кого бы то ни было из ее предшественников. Никогда здешний двор не был так блистателен, как в этот день». В следующей депеше резидент сообщал, что празднование дня восшествия на престол продолжалось восемь дней. «Во все время двор являлся в чрезвычайном блеске, в заключение же праздника сожжен был фейерверк, который, пожалуй, не превзойти где бы то ни было в белом свете – такова внешняя степень цивилизованной роскоши, достигнутой в России в непродолжительное время».
Маньян, сравнивая двор Петра Великого и Анны, приметил, что «у Петра не было вовсе двора и жил он чрезвычайно умеренно, храня свою казну на государственные нужды». Анна Иоанновна, напротив, выглядела расточительной с самого начала своего царствования.
В июне 1731 года императрица поселилась в Измайлове, «где живет в чрезвычайной роскоши». Еженедельно по четвергам и субботам в Измайлово приезжали дипломаты приветствовать императрицу и возвращались вполне довольные баснословным приемом.
24 сентября – день рождения Прасковьи Ивановны, который, как сообщал К. Рондо, «был отпразднован с большой торжественностью: вечером был большой ужин и бал»[129 - РИО. Т 66. С. 186, 190, 193, 199, 237.]. Празднества дорого обходились казне, в особенности фейерверки, представлявшие сложные и грандиозные по размерам сооружения со статуями, приветственными словами, огромным количеством ламп. Так, фейерверк, сожженный по случаю дня рождения императрицы в 1733 году, имел в высоту 135 футов, в ширину 462 фута, на нем горело 25 000 ламп.
Праздничные приемы стоили немалых денег не только казне, но и придворным, вельможам, а также иностранным министрам. Дело в том, что Анна Иоанновна требовала, чтобы гости на каждый прием являлись в новых, специально для этой цели сшитых мундирах. «Среди вельмож нет людей, которые не жаловались бы уже, и довольно громко, что издержки, требуемые царицей для заказа на каждый праздничный день новых платьев, блещущих богатством, превышают у одних получаемые ими доходы, у других – жалованье и из всех этих трат не только ничего не поступает в казну царицы, но, напротив, она опустошается не менее кошельков русских подданных, во-первых, ради частых празднеств, во-вторых, для других секретных расходов». Манштейн, видимо, нисколько не преувеличивал, когда в свои записки занес такую фразу: «Довольно было торговцу мод прожить в Петербурге два года, чтобы составить себе состояние, хотя бы в начале весь его товар был взят в кредит»[130 - Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 182.].
О желании императрицы каждый раз встречать своих придворных в новой экипировке писал и Миних-младший. «Придворные чины и служители не могли сделать лучшего уважения государыне, как если в дни ее рождения, тезоименитства и коронования, каждогодно праздновавшиеся с великим торжеством, приезжали во дворец в новых и богатых платьях. Многие вельможи, угождая императрице, разорялись».
1732 год не был ничем примечателен в истории России, страну не поразила эпизоотия и чума, крестьянин, как и обычно, собрал средний урожай. Роскошь двора не контрастировала с нищетой трудового населения, как в 1733–1736 годах, когда одну губернию за другой в течение трех лет поражали небывалые неурожаи и тысячи людей с протянутой рукой просили кусок хлеба и умирали с голоду. Двор, как и в предыдущие годы, продолжал развлекаться, как и раньше, роскошь и блеск мундиров продолжали удивлять иностранцев.
Справедливости ради отметим обнародование двух указов, долженствующих проявить заботу о голодающих крестьянах. Один из них обязывал помещиков губерний, охваченных неурожаем, выдавать крестьянам зерно на посев, другой указ с аналогичным повелением был адресован приказчикам дворцовых волостей. Характерная деталь – указы помещикам и приказчикам об оказании помощи были опубликованы по одному разу, и законодательство не дает оснований для суждений о том, с каким рвением они исполнялись властями. Зато указы о борьбе с чумою следовали один за другим, один другого суровее наказывавших нерадивых администраторов. Напомним, чума не щадила ни жителей хижин, ни обитателей дворцов, в то время как голод обходил стороной царские хоромы.
Такова была подлинная цена главной добродетели императрицы – доброта, милосердие, настойчиво подчеркиваемые иностранными наблюдателями. Впрочем, по-своему они были правы – Анна Иоанновна, например, по отношению к немцам проявляла и снисходительность, и милосердие, и доброту.
Заслуживает освещения еще одна, отнюдь не добродетельная черта характера императрицы, вероятно унаследованная от матери, – жестокость. В нашем распоряжении нет свидетельств ее повседневного проявления, но такова природа помещичьего быта, установленного в царском дворце, когда пощечины, привычка таскать за волосы и прочие истязания, а также обязательная ссылка провинившегося на изнурительные работы крайне редко регистрировались источниками.
Описание одного из таких случаев принадлежит известному пииту В. К. Тредиаковскому, чем-то не угодившему императрице своими виршами. Он с наивной простотой, даже с гордостью описал эпизод, когда царская длань коснулась его щеки: «Имел счастие читать государыне-императрице у камина, стоя на коленях перед ее императорским величеством; и по окончании оного чтения удостоился получить из собственных ее императорского величества рук всемилостивейшую оплеушину».
Другой случай связан с фрейлинами Салтыковыми. Известно, что императрица любила засыпать под успокаивающие песни фрейлин, или, как она их называла, девок. Однажды Салтыковы пели целый вечер до изнеможения, а императрицу не клонило ко сну. Когда они пожаловались на усталость, Анна Иоанновна в приступе гнева, забыв, что она императрица, уподобилась сварливой помещице, отправила провинившихся в прачечную стирать белье. Известен и эпизод с танцовщицами: императрица велела призвать во дворец лучших танцовщиц столицы, чтобы те в ее присутствии исполнили какой-то танец. Девицы, находясь под впечатлением грозного взора царственной зрительницы, перепутали фигуры и остановились. Каждая из них была награждена пощечиной и повелением возобновить танец[131 - РС. 1873. Т. VIII. С. 314.].
Пример, свидетельствующий о склонности императрицы не столько к жестокости, сколько к садизму, привел в своей монографии В. Строев. Однажды в Петербург прибыла вдова полковника и осмелилась передать непосредственно императрице челобитную с просьбой уплатить ей 400 рублей заслуженного покойным супругом жалованья. Императрица, руководствуясь указом, запрещавшим лично ей подавать челобитные, велела ее публично высечь, а затем, усадив в карету, отвезти ее в казначейство, чтобы там ей выдали просимые деньги. Челобитчица, опасаясь, что ее высекут там еще раз, отказалась ехать за деньгами и отправилась домой[132 - Строев В. Бироновщина и Кабинет министров. М., 1909. С. 40, 41.].
Капризы, произвол, самодурство были присущи Анне Иоанновне в такой же мере, как и сварливой помещице, проживавшей в глухомани. Об одном из эпизодов, вызвавшем ярость императрицы, рассказал собиратель исторических анекдотов П. Ф. Карабанов. Анна Иоанновна любила за обедом пить иностранные вина. Однажды за столом вместе с императрицей сидели Бирон и недавно прибывший из-за границы дипломат Андрей Борисович Куракин. Императрица, откушав из бокала вина и подавая его Куракину, спросила: «Вам почти все европейские вина известны, каково это?»
Куракин, перед тем как отведать вино, обтер бокал салфеткой. Императрица, покраснев от гнева, закричала: «Ты мной брезгуешь. Я тебя выучу, с каким подобострастием должен взирать на мою особу. Гей, Андрей Иванович!» (Ушаков, руководитель Тайной розыскных дел канцелярии. – Н. П.).
Провинившегося ждали большие неприятности, но он их избежал благодаря заступничеству Бирона: «Помилуй, государыня. Он сие сделал не умышленно, а следуя иностранным обычаям». Обер-шталмейстер был помилован[133 - РС. 1871. Т. IV. С. 691.].
Не всегда вспышки гнева заканчивались столь безоблачно. Иногда следствием каприза становилась опала или наказание, коверкавшие всю жизнь провинившегося.
Маньян в конце ноября 1731 года доносил о придворном происшествии, отразившем меру произвола императрицы. Отличавшаяся привлекательной внешностью статс-фрейлина Анны Иоанновны, родственница императрицы по материнской линии графиня Салтыкова завела интригу с камергером Лопухиным. Сестра Бирона, побуждаемая исключительной ревностью к графине Салтыковой, пожаловалась императрице, и та потребовала от родственницы прервать отношения с женатым камергером, однако статс-фрейлина не оказала должного повиновения. Тогда императрица призвала обер-гофмейстера своего двора и велела ему отправиться в Преображенский полк, подполковником которого он состоял, и выбрать мужа для помянутой фрейлины из числа солдат своего полка. Тот ответил: «От всей души, тем более что это воля императрицы». Когда жениха показали прелестной фрейлине, та лишилась чувств, а очнувшись, разразилась криком отчаяния, но в конечном счете произнесла роковое «да». Венчание происходило на следующий день. Когда солдат явился благодарить императрицу, она произвела его в чин прапорщика.
Самым ярким примером изощренного самодурства и жестокости императрицы был ее поступок с А. И. Румянцевым. Александр Иванович, всю жизнь прослуживший в армии, известный боевой генерал-лейтенант, был вызван императрицей в Москву, чтобы предложить ему пост президента Камер-коллегии. Румянцев, будучи честным служакой, ответил, что он всю жизнь служил в армии и понятия не имеет о финансах. Разгорячившись, он заявил, что не умеет выдумывать налоги для удовлетворения роскоши двора. Анна не стерпела этого выпада, выгнала генерала вон, велела его арестовать, лишив чина и наград, и отдать под суд Сената, приговорившего его к смерти. Императрица сохранила ему жизнь, но сослала в его казанскую деревню.
Маньян сообщил дополнительные сведения, видимо главные, о причинах опалы. Поводом к его опале, доносил дипломат 31 мая 1731 года, «послужили резкие выражения, вырвавшиеся у него недавно в разговоре с обер-камергером (Бироном. – Н. П.), и какие-то нескромные слова, задевавшие особу царицы»[134 - РИО. Т. 81. С. 195, 262, 265.].
Три года Румянцев отбывал в ссылке, но в 1735 году Анна Иоанновна назначила его казанским губернатором, затем определила в армию в разгар русско-турецкой войны. Эпизод с Румянцевым – пример того, как рациональные доводы вступают в конфликт с капризами монарха.
Характер развлечений императрицы в достаточной мере раскрывает ее духовные запросы, а вместе с ними и ее интеллектуальный уровень. Сразу же отметим, что выбор досуга и развлечений во многом лишают возможности дать адекватную оценку ее личности в том смысле, что Анна Иоанновна находилась либо в плену представлений XVII века, либо уже преодолела их и пользовалась плодами европейской цивилизации. Правление императрицы пришлось на переходную эпоху, в которой сочетались нравы и вкусы старомосковского быта с новыми веяниями Запада. Хотя, оговоримся, полное наслаждение императрица находила в развлечениях русской старины.
Анна Иоанновна многое унаследовала от порядков, заведенных в доме матери, а также от петровского дворца, придав им оригинальные черты собственных вкусов.
Обратимся, например, к шутам. Дураками, уродами, кликушами, юродивыми, шутами был наполнен двор матери Анны Иоанновны Прасковьи Федоровны. Петр I кликуш и уродцев не терпел, но зато жаловал шутов, выполнявших не столько развлекательные, сколько разоблачительные функции: шутками, насмешками они разоблачали нечистоплотных вельмож, казнокрадов, взяточников, неправедных судей и т. д. – шутам дозволялось безнаказанно изобличать вельмож в человеческих слабостях, и, когда обиженные пытались жаловаться на якобы несправедливые упреки, царь всегда отвечал им: «Что с дурака возьмешь». Шут при Петре I – один из винтиков государственной машины, выполнявших полезные функции бичевания человеческих пороков.
Якоби Валерий Иванович.
Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872 г. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Иные функции шуты выполняли при дворе Анны Иоанновны – их роль сводилась к забавам императрицы, удовлетворению ее примитивных развлекательных запросов. Отсюда у шутов Анны Иоанновны ценились иные качества, чем у шутов Петра Великого. Шут Анны Иоанновны должен вызывать смех, улыбку у зрителей, достигаемые любыми, в том числе и самыми грубыми, приемами: кривляниями, тасканием друг друга за волосы, кувырканием, побоями до крови; остроумие, острословие, находчивость, умение молниеносно отвечать на словесные уколы отодвигались на второй план. Шутовство, доставлявшее удовольствие императрице и ее двору, – свидетельство его низкого культурного уровня.
Иным был и принцип комплектования шутовской команды: при Петре I она собиралась из самородков, людей наблюдательных и находчивых, умевших подмечать человеческие слабости. При Анне Иоанновне шутовская команда комплектовалась из иной социальной среды, а сама принадлежность к ней являлась наказанием, шутовские наклонности отводились на второй план.
Среди шутов Анны Иоанновны числился граф Алексей Петрович Апраксин, племянник знаменитого адмирала петровского времени Федора Матвеевича Апраксина. В шуты он был пожалован за то, что принял католическую веру. Свою должность он выполнял с вдохновением и усердием.
Князь Михаил Алексеевич Голицын, внук фаворита царевны Софьи, тоже отбывал наказание за принятие католичества: будучи во Флоренции, он влюбился в итальянку, женился на ней, привез в Россию и по внушению супруги стал католиком. Супруги долго скрывали это обстоятельство, но, когда измена православию стала известна императрице, она велела развести супругов, отправила виновника в Тайную розыскных дел канцелярию, а затем назначила шутом. Ему было велено сидеть на лукошке с яйцами у двери в кабинет императрицы, так что все Голицыны могли наблюдать унижение своего знатного родственника.
Князь Никита Иванович Волконский был наказан в отместку за свою супругу Аграфену Петровну, урожденную Бестужеву-Рюмину, отличавшуюся умом и образованностью. За интриги она еще в 1728 году была сослана в Тихвинский монастырь, а немолодой и больной князь получил назначение шута, ему было поручено смотреть за левреткой Анны Иоанновны[135 - РС. 1873. Т. VII. С. 346.].
В подражание своей матери Анна Иоанновна держала при дворе и дураков. Любопытную записку в 1733 году она отправила С. А. Салтыкову: «Зиновьев сюда приехал, и как мы усмотрели, что он не дурак, как здесь об нем сказано, того ради хотим, не мешкая, отпустить его назад»[136 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 96.].
О знаменитом шуте Петра Великого И. Балакиреве, достигшем старости, Анна Иоанновна проявила заботу. В 1733 году, когда этот ветеран шутовской компании уже не мог нести службу, она назначила ему пенсию деньгами и провиантом, за ним присматривали двое слуг. Заслуживает упоминания еще один шут – неаполитанец Пьетро Мита, более известный под именем Педрилло. Начинал он службу скрипачом, но затем решил, что шутом быть доходнее. Помимо шутовских обязанностей Педрилло нанимал музыкантов и актеров для придворного театра. Он отличался также умением выпрашивать деньги, так что уехал на родину сравнительно богатым человеком[137 - РС. 1873. XVII. С. 343–345.].
Один из современников-иностранцев недоумевал по поводу назначения шутов при дворе: «Способ, когда государыня забавлялась сими людьми, был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала становиться к стенке, кроме одного, который бил их по поджилкам и чрез то принуждал их упасть на землю. Часто заставляли их производить между собою драки, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху».
У императрицы существовало еще одно развлечение, сведения о котором не попали на страницы депеш иностранных дипломатов. Она питала слабость к женщинам, умевшим болтать без умолку, при этом они несли всякий вздор и главное их достоинство состояло в том, что они ни на минуту не закрывали рта. Анна Иоанновна интересовалась местом проживания таких болтливых женщин и поручала С. А. Салтыкову разыскать их. 7 августа 1734 года она писала ему: «У вдовы Загряжской Авдотьи Ивановны живет одна княжна Вяземская, девка. И ты ее сыщи и отправь сюда, только чтоб она не испужалась, то объяви ей, что я беру ее из милости, и в дороге вели беречь ее, а я ее беру для своей забавы, как сказывают, что она много говорит».
Одна из таких говоруний, своего рода эталон, Настасья Новокщенова, постарела, и ожидали ее скорой смерти. Тому же Салтыкову Анна Иоанновна поручает подыскать ей замену. «Ты знаешь наш нрав, – писала она генерал-губернатору, – что мы таких жалуем, которые бы были лет по сорока и так же говорливы, как Новокщенова или как были княжны Настасья и Анисья Мещерские».
Об активных поисках замены Новокщеновой свидетельствуют еще две инициативы императрицы. Одна из них хотя прямо и не сообщает, что речь идет о поисках говоруньи, но из содержания инструкции курьеру Алексею Самсонову явствует, что речь шла именно об этом поручении: курьеру надлежало отправиться «в Новгородскую сторону, чтобы разыскать там тещу генерал-поручика Елкина Бухвостову и объявить ей, что ее императорское величество указала ее привесть к себе, только ее не испужать и потом взяв ее хотя б она была в уме или без ума, привезти прямо в Петергоф». Другое повеление тоже исходило от императрицы: Анна Иоанновна поручила некоей Наталье Ивановне в Переславле «из бедных дворянских девок или из посацких, которые бы похожи были на Настасью Новокщенову, а она, как мы знаем, уже скоро умрет, то чтоб годна была ей на перемену»[138 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 138.].
Один из диалогов императрицы с говоруньей Филатовной описан источником. Разговор примечателен сумбурными вопросами императрицы, отсутствием логической связи между темами: то ее интересовала служба супруга Филатовны, то она спрашивала, в довольстве ли живут мужики, то неожиданно спросила, стреляют ли московские дамы в птиц, наконец, велела рассказывать о разбойниках.
Филатовне явно повезло – она потрафила вкусу императрицы, и та ее щедро наградила. Случалось, однако, что Анна Иоанновна, слывшая за женщину добрую, расправлялась с неугодившими ей служанками, удовлетворявшими ее капризы, как заправская помещица, изобретательная в наказаниях и пускавшая в ход кулаки.
Перечень забав и развлечений императрицы не будет исчерпывающим, если мы не упомянем об охоте. В XVIII веке охота являлась страстью многих королей Западной Европы. Ею увлекался Август II, Людовик XV, Петр II и др. Исключение составлял Петр Великий, не любивший охоты. Исключение составляла и Анна Иоанновна, кажется, единственная из коронованных дам, с неподдельной страстью отдававшаяся охоте. В этой привязанности она конечно же уступала своему предшественнику Петру II, но у того это была отроческая страсть, у достаточно зрелой русской императрицы эта страсть трудно объяснима: то ли это было подражание моде, то ли охота доставляла возможность даме демонстрировать утехи в чисто мужском занятии, то ли это было одно из проявлений отнюдь не женственного характера императрицы, которой доставляли удовольствие кровавые сцены звериной травли.
Когда речь заходит об охоте, то мы толкуем ее в расширительном смысле, включая сюда создание специальных учреждений, опубликование указов, запрещавших охоту частным лицам, стрельбу из лука и ружья по цели, птичью охоту, охоту на диких зверей, создание зверинцев и птичников и, наконец, наблюдение за звериной травлей.
Суриков Василий Иванович.
Императрица Анна Иоанновна петергофском «Темпле» стреляет оленей. 1900 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Для удовлетворения страсти к охоте при дворце была создана специальная служба, возглавлявшаяся обер-егермейстером А. П. Волынским. На обер-егермейстерскую контору, в ведомстве которой находились зверинцы и псарни, возлагалась обязанность обеспечения окрестностей столицы объектами охоты: лисицами, зайцами, лосями, разной породы птицами. Зимой Анна Иоанновна охотилась преимущественно в Петербурге и его окрестностях, летом – в окрестностях Петергофа. В псарне в 1740 году содержалось 195 собак разного назначения и разных пород: для травли оленей – 60, столько же для травли зайцев, 23 брозых, русских разных пород – 21 и др. В зверинце Петербурга содержались львы, леопарды, белые и бурые медведи, волки, кабаны, дикие кошки, дикобразы, слоны, дикие быки, олени, дикие индийские козы, обезьяны, рыси, барсуки, песцы и др. Одни предназначались для охоты, другие, экзотические, – для обозрения, третьи – для стола. К последним относились кабаны, дикие козы, олени и зайцы. На парадных обедах использовались в качестве приправы тертые оленьи рога, кабаньи головы, сваренные в рейнвейне.
Кроме зверей, в зверинцах содержались птицы – одни, чтобы их поражала из окна дворца императрица, другие – чтобы услаждать ее слух: соловьи, щеглы, зяблики, овсянки и др. Императрица, кроме выездов на охоту, любила стрелять из ружья и лука из окон своего дома, обращенных к саду. Из «минажерии», как называли зверинец с мелкими животными и птицами, выпускали огромное количество птиц, которых императрица убивала наповал.
Устраивали охоту с гончими, когда была облава, а затем травля гончими диких коз, кабанов, оленей, лосей и зайцев. О такой охоте «Санкт-Петербургские ведомости» 26 августа 1740 года сообщали: «Ее величество для особливого своего удовольствия, как парфорс, ягдою затравить (специальный экипаж, в котором находились охотники. – Н. П.), так и собственноручно зверей и птиц застрелить изволила: 9 оленей, у которых по 24, по 18 и по 14 отростков на рогах было, 16 диких коз, 4 кабана, 24 зайца, 68 диких уток и 16 больших морских птиц».
Охотничьи трофеи, о которых шла речь выше, вероятно, были добыты с начала 1740 года по конец августа. Газета уведомляла и о разовых охотничьих успехах императрицы. Так, в 1734 году «Санкт-Петербургские ведомости» извещали читателей, что императрица «при продолжающейся приятной погоде иногда гулянием, иногда охотою забавляться изволила». В июле следующего года в Петергофе тоже стояла прекрасная погода, и Анна Иоанновна забавлялась «стрелянием в цель». В 1732 году императрица перед возвращением из Петергофа в столицу устроила «последний кураж и в тот же день развлекалась охотой в зверинце, застрелив оленя с шестью отраслями на рогах»; 26 апреля 1736 года императрица изволила на дворе ходившего молодого оленя и дикого кабана собственноручно застрелить.
В 1740 году стала в моде английская охота с купленными в Англии собаками и прибывшими с ними егерями. В том же 1740 году Штатс-конторе велено было отпустить на петербургскую, петергофскую и московскую охоту круглую сумму в 18 871 рубль 21 копейку[139 - РА. 1873. № 9. С. 1643–1648.].
Расположение императрицы к охоте нашло отражение не только в затрате значительных сумм, но и в законодательстве. Первый «охотничий указ» был обнародован в 1730 году, когда императрица вместе с двором проживала в Москве. Указом 2 апреля запрещалось охотиться на перепелов всем, в том числе и владельцам имений, в радиусе 20 верст от Москвы. Подлежали уничтожению только волки и медведи. В мае следующего года вышел новый указ, запрещавший псовую охоту и тоже в радиусе 20 верст от Москвы[140 - ИВ. 1881. № 7. С. 488–490.].
Зимой 1732 года двор переехал в Петербург, и забота о сохранении живности для царской охоты пала на долю новой столицы. Особое рвение в организации царской охоты проявил А. П. Волынский, назначенный обер-егермейстером. С его подачи начиная с 1736 года посыпались указы, обязывавшие губернаторов Малороссии, Воронежской и других губерний выловить по несколько сот серых куропаток и 500 зайцев и отправить их в Петербург. Одновременно запрещалась охота на них в радиусе 100 верст от столицы. Ряд указов запрещал продажу частным лицам певчих птиц – их надлежало доставлять для продажи в Дворцовую канцелярию[141 - ПСЗ. X VIII. № 5527.].
К забавам императрицы относилось также наблюдение за травлей медведей и волков. 8 марта 1737 года население столицы прочитало в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Третьего дня изволила ее императорское величество, наша всемилостивейшая государыня в Зимнем императорском доме забавляться травлей диких зверей. При сем случае травили дикую свинью, которую наконец ее императорское величество собственноручно застрелить изволила». Судя по объявлению, помещенному в том же году в столичной газете, императрица довольно часто изъявляла желание наблюдать звериную травлю: «Едва не ежедневно по часу перед полуднем ее императорское величество смотрением в Зимнем доме медвежьей и волчьей травли забавляться изволит». К этому же типу грубых забав относится устройство пира для населения столицы. На площади перед Зимним домом была приготовлена обильная трапеза, которой не доводилось вкушать столичной бедноте: два зажаренных быка, пирамиды из хлеба, жареная рыба, колбаса, 60 бочек красного виноградного вина. Жаждущие выпить и закусить на дармовщину бросились к снеди и напиткам. Начиналась несусветная свалка: участники пира разрывали в клочья сукно, отнимали друг у друга куски мяса, хлеба, окороков, топтали до смерти не удержавшихся на ногах, пускали в ход кулаки и т. д. Эту неприглядную сцену наблюдала императрица, стоя у окна и испытывая при этом «немалое веселие»[142 - ПСЗ. Т. X. № 7145, 7147, 7575, 7587, 7886 и др.; РИО. Т. 117. С. 305, 308.].
Анна Иоанновна находила удовольствие, помимо охоты, еще верховой езде, пристрастие к которой современники приписывали влиянию фаворита Бирона, имевшего репутацию великолепного знатока лошадей. Желание как можно больше времени находиться в обществе фаворита побудило ее, женщину грузную и неуклюжую, с трудом взбиравшуюся на лошадь, заниматься верховой ездой, которой она ежедневно уделяла немало времени. В конце концов ей удалось достичь известных успехов – современники отметили ее способность недурно управлять лошадью, причем она пользовалась не дамским, а мужским седлом. Для тренировок императрица в 1732 году велела соорудить великолепный манеж, в котором Бирон, понимавший толк в лошадях, демонстрировал знатным гостям своих великолепной породы рысаков.
Еще одна забава императрицы относилась к картежной игре. Если, однако, верховая езда увлекала ее возможностью находиться рядом с любовником, от которого она всякий раз теряла голову, то за картежный стол Анну Иоанновну вынуждала садиться дань моде. Играть в карты она не любила, по крайней мере удовольствия от игры не получала, но всегда играла, чтобы не уронить престиж своего двора. Императрица сама выбирала себе партнеров, всегда проигрывала и тут же расплачивалась наличными. Здесь должен быть отмечен такой любопытный факт: указом 23 января 1733 года населению страны запрещалось играть в карты на деньги, так как «картежники проигрывают деньги и пожитки, людей и деревни свои, отчего не только в крайнее убожество приходят, но и в самый тяжкий грех впадают», причем инициатором указа была сама императрица. Видимо, игра в карты на деньги не запрещалась при дворе, где, по наблюдению исследователя придворного быта С. Н. Шубинского, отмечалось, что иные богачи за ночь проигрывали свое состояние, а другие – обогащались[143 - ИВ. 1884. № 9. С. 625, 628, 629.].
Приведем свидетельство современника – полковника Манштейна: в моду вошла игра в карты. Указы на игру на интерес не соблюдались. «При дворе играли в большую игру, которая многих обогатила в России, но в то же время и многих и разорила. Я видел, как проигрывали до 20 тысяч за один присест… Императрица не была охотница до игры: если она играла, то не иначе как с целью поиграть. Она тогда держала банк, но только тому позволялось понтировать, кого она называла; выигравший тотчас получал деньги, но так как игра проходила на марки, то императрица никогда не брала деньги от тех, кто ей проигрывал»[144 - РС. 1873. XVII. С. 338.].
Вершиной безвкусицы и расточительства двора была шутовская свадьба в Ледяном доме. Калмычка Авдотья Ивановна, которой была присвоена фамилия Буженинова в честь любимою ею кушанья, заявила императрице о своем желании выйти замуж. Жениха ей подыскала сама Анна Иоанновна – им оказался шут М. А. Голицын. Камергер Татищев подал мысль устроить свадебные торжества в Ледяном доме. Осуществил затею А. П. Волынский.
Якоби Валерий Иванович.
Ледяной дом. 1878 г. Холст, масло.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Ледяной дом был сооружен на Неве между Адмиралтейством и Зимним дворцом. Его подробное описание оставил профессор физики, член Академии наук Вольфганг Крафт. Размеры дома невелики – длина восемь сажен, ширина – две с половиной. Дом состоял из квадратных плит льда, скрепленных водой, немедленно замерзавшей, так что дом выглядел монолитом, окрашенным под мрамор. Не только внешность дома была изготовлена изо льда, но и его внутреннее убранство и обстановка, начиная от кровати, столов, стульев, кресел и кончая горшками с цветами, померанцевыми деревьями с листьями и сидевшими на ветках птицами, подсвечниками. По свидетельству французского посла Шетарда, даже туалет, туфли и ночные колпаки были изготовлены из льда[145 - Манштейн X. Г. Указ. соч. С. 183.].
Перед фасадом стояло шесть ледяных пушек, из которых неоднократно стреляли слабыми зарядами, ледяными ядрами. У ворот стояли два дельфина, из которых с помощью насосов извергалась зажженная нефть. По правую сторону дома стоял ледяной слон в натуральную величину. Крафт его описал так: «Сей слон внутри был пуст и столь хитро сделан, что днем воду вышиною на 24 фута пускал, которая из близнаходящегося канала Адмиралтейской крепости трубами приведена; а ночью с великим удивлением всех смотрителей горящую нефть выбрасывал. Сверх же того мог он, как живой слон, кричать, который голос потаенный на нем человек трубою производил. На левой стороне дома стояла баня изо льда, которую несколько раз топили ледяными поленьями, облитыми нефтью»[146 - РИО. Т. 86. С. 225.].
Подготовка к шутовской свадьбе началась задолго до времени, когда она состоялась. 27 ноября 1739 года Волынский объявил указ императрицы казанскому губернатору о присылке в Петербург «из черемисского, мордовского, чувашского и татарского народов по три пары», чтобы «были собою не гнусны». Архангелогородскому губернатору велено прислать «из лопарей и самоедей по шесть пар; московскому губернатору – по шесть баб и столько же мужиков, умеющих плясать; из Украины – молодых баб и девок и казаков по шесть человек, умеющих танцевать. Всех присланных велено убрать в новое платье и приборы, какие у них употребляются, на казенный счет»[147 - РС. 1873. XVII. С. 358.].
Иркутский губернатор получил задание доставить в столицу камчадалов. Выбирали крепкого сложения и везли их с большою поспешностью «в том образе, как они есть, то есть с их домашним скарбом на собаках». После свадьбы все они были возвращены на родину[148 - РИО. Т. 126. Юрьев, 1907. С. 552–558.].
Свадебная церемония открылась 6 февраля 1740 года восседающими в клетке на слоне женихом и невестой, за ними следовали «инородцы на волах, свиньях, оленях, собаках и др. Шествие сначала остановилось у Зимнего дворца, где был накрыт стол с национальными блюдами и напитками». Во время обеда Тредиаковский декларировал вирши, обращенные к новобрачным; начинались они словами «Здравствуйте, женившись, дурак и дурка».
После обеда гости, разгоряченные напитками, стали исполнять национальные пляски. Потешив императрицу и придворных, свадебный кортеж двинулся к Ледяному дому, освещенному фонтанами, извергавшимися из хобота слона и пасти дельфинов.
Молодоженов уложили в ледяную постель и оставили на ночь, приставив караул, чтобы они не убежали. Брак имел потомков: калмычка родила Михаилу Алексеевичу двух сыновей и вскоре умерла. Голицын в 1744 году переехал в Москву, где женился еще раз и от второго брака прижил трех дочерей[149 - Древняя и новая Россия. 1877. Т. I. С. 224.].
На свадьбу Голицына и Бужениновой со всеми приготовлениями и представлениями была израсходована немалая по тому времени сумма – 9712 рублей 96 копеек.
К новым видам развлечений относился смотр гвардейских полков и полков, составлявших гарнизон столицы: Ингерманландского, Ладожского, Углицкого. Общеизвестна вводимая президентом Военной коллегии в русскую армию немецкая муштра. Императрица нередко наблюдала «экзерциции» гвардейских и полевых полков, расположенных в столице, производившиеся преимущественно в годы, когда Россия не вела войн. Это была демонстрация не боевой подготовки полков, а их умения маршировать шеренгами, перестраивать ряды, упражняться с ружьями и т. д. Обычно, как сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», Анна Иоанновна высказывала удовлетворение увиденным и выражала благодарность либо Миниху, либо офицерам, командовавшим экзерцициями.
Общее представление о духовной жизни императрицы оставил потомкам Миних-младший: «В досужее время (она) не имела ни к чему определенной склонности. В первые годы своего правления играла она почти каждый день в карты. Потом проводила целые полдни, не вставая со стула, в разговорах или слушая крик шутов и дураков. Когда все сии каждодневно встречающиеся упражнения ей наскучили, то возымела она охоту стрелять, в чем приобрела такое искусство, что без ошибки попадала в цель и на лету птицу убивала. Сею охотою занималась она дольше других, так что в ее комнатах стояли всегда заряженные ружья, которыми, когда заблагорассудится, стреляла из окна мимо пролетающих ласточек, ворон, скворцов и тому подобных»[150 - РС. 1873. Т. VII. С. 347–351.].
Заметим, что ни один современник, отечественный и иноземный, не свидетельствовал ни об одной прочитанной Анной Иоанновной книге, ни об ее интересе к искусству, приобретению знаний, изучению чужеземного и отечественного опыта управления страной.
С этой негативной оценкой на первый взгляд нисколько не вяжется открытие при Анне Иоанновне первого в России постоянно действующего театра с труппой в 70 человек, среди которых были певцы, музыканты, актеры, постоянно услаждавшие слух и зрение вельмож и иностранных министров исполнением опер, балетов и игрой оркестра.
Странности во вкусах императрицы, ее досуге и привязанностях легко объяснимы, если учесть, как складывалась ее личная жизнь. По сути, Анна не была избалована ни материнской лаской, ни счастьем семейной жизни, ни материальным благополучием. Ленивая от природы, она не стремилась восполнить пробелы в образовании и довольствовалась времяпрепровождением, свидетельствующим о ее среднего уровня интеллекте.
По-человечески ее судьба может вызвать сочувствие: по сути одинокая женщина, обрела единственного человека, которому безоглядно вручила свою судьбу. В Бироне, не принадлежавшем к лучшим представителям человеческого рода, она обрела верного слугу и доверяла ему больше, чем кому бы то ни было.
Одиночество понуждало ее к постоянным поискам, к смене своих вкусов, она забывалась то за картежным и биллиардным столом, то за зрелищами и занятиями, не присущими слабому полу, то находила удовольствие в созерцании разного рода диких сцен, то тупым взглядом часами наблюдала за движением судов на Неве.
Глава VII
У кормила правления
Воцарение на троне, как мы убедились выше, не представляло для Анны Иоанновны значительных трудностей. Здесь императрица выполняла пассивную роль исполнительницы постановления Верховного тайного совета. Труднее было удержать трон. Трудность состояла в отсутствии у императрицы мощной опоры в лице многочисленного клана родственников и преданных ей вельмож. Список их ограничивался[151 - Безвременье и временщики. С. 164.] двумя персонами: дядей С. А. Салтыковым и А. И. Остерманом, с которым, как мы помним, у Анны Иоанновны, когда она была еще герцогиней Курляндской, сложились добрые отношения.
В такой обстановке неискушенная монархиня столкнулась лицом к лицу с проблемами, которые ей самостоятельно не решить: как управлять огромной империей, какие меры относятся к первоочередным. К тому же Анну Иоанновну, беззаботно мчавшуюся из Митавы в Москву, по прибытии в столицу одолевало чувство страха. Оно не было беспочвенным. Поводом для опасения за свою жизнь послужила внезапная смерть генерала Дмитриева-Мамонова, не то фаворита, не то супруга младшей сестры императрицы Прасковьи Иоанновны. Он сопровождал верхом на лошади карету Анны Иоанновны и неожиданно замертво свалился на землю. Подозревали, что его отравили. Императрица опасалась, что ей тоже могут подбросить отраву, и поэтому, по свидетельству К. Рондо, «она ест только то, что готовит ей доверенный повар, и ее фавориты следят за этим с особенным вниманием».
Чувство страха подвигнуло Анну Иоанновну отправиться в Измайлово под защиту расположившихся там лагерем двух гвардейских полков и батальона кавалергардов. Они должны были обеспечить ее безопасность в случае покушения на ее трон или жизнь[152 - Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.].
О страхе за жизнь свидетельствует опубликованный 2 апреля 1730 года указ, призывавший подданных доносить: «о злом умысле против персоны нашей или измене и о возмущении и бунте». Доносчикам обещаны «милость и награда».
Обезопасить императрицу намеревались не только поощрением доносов, но и восстановлением учреждения, занимавшегося их разбирательством. Такое учреждение существовало при Петре Великом и называлось Преображенским приказом. При Петре II оно было упразднено, но в марте 1731 года восстановлено под названием Тайных розыскных дел канцелярии. Под руководством все того же мастера пыточных дел А. И. Ушакова она занималась политическим сыском. На призыв подавать доносы откликнулось так много охотников «получить милость и награждение», что указ 15 февраля 1733 года подтвердил угрозу наказания за ложный донос смертной казнью[153 - ПСЗ. Т. IX. № 5727, 5738, 6325.].
Чувство неуверенности связано и с наплывом немцев в Россию, плотно окруживших трон и вызывавших с первых недель царствования Анны Иоанновны недовольство русских вельмож, о чем 5 июля 1730 года доносил в Мадрид посол де Лириа: «Народ публично вопиет против немцев и особенно против двоих: графа Левенвольде и обер-гофмаршала (надо: обер-камергера. – Н. П.) Бирона. А тщеславие этих господ усиливается с каждым днем, и я боюсь, чтобы со временем здесь не было какого-нибудь переворота»[154 - Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.].
Страх за свое будущее выразился и в срочном удалении из столицы лиц, причастных к попытке ограничить самодержавие и оказанию противодействия ее намерениям. Показателен в этом плане эпизод, запечатленный Маньяном в донесении 31 декабря 1731 года: «За несколько дней перед отправлением депеши императрица ночью повелела призвать к себе гвардии майора Волкова, чтобы приказать ему к четырем часам утра привести к входу во дворец все три гвардейских полка. Цель неожиданного и странного повеления состояла в том, что Анна Иоанновна решила назначить своей преемницей дочь герцогини Мекленбургской и потребовала от гвардейских полков присягнуть ей. В этот же день утром императрица велела арестовать последнего представителя клана Долгоруких – фельдмаршала Василия Владимировича»[155 - РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 278, 292.].
Опасения оказались напрасными – противники императрицы были повержены и смиренно ожидали своей участи. И не случайно: за спиной императрицы стоял опытный делец, руководивший ее действиями, – барон Андрей Иванович Остерман.
Почему вице-канцлер свой бесспорный талант и недюжинные способности к интриге отдал в полное распоряжение Анны Иоанновны и втайне противодействовал «затейке» верховников? Прежде всего потому, что в случае победы верховников он чувствовал бы себя неуютно в окружении родовитых людей, надменных и спесивых, мирившихся с тем, что он сидел в Верховном тайном совете рядом с ними только потому, что выполнял всю черновую работу учреждения. Но роль чернорабочего, овладевшего всеми тонкостями управления правительственным механизмом и умевшего четко формулировать мысли на бумаге, необходимость заискивать и терпеть унижения перед недалекими сыном и отцом Долгорукими не устраивала Остермана, вынашивавшего далеко идущие честолюбивые планы. Его честолюбие могло быть удовлетворено только в том случае, если исчезнет необходимость искать покровительство вельмож, и между ним и государыней исчезнут посредники и он с нею будет общаться напрямую и даже руководить ею. Такое могло случиться только при утверждении на троне Анны Иоанновны, которой он стал верно и усердно служить. В свою очередь, он пользовался полным доверием императрицы, нуждавшейся в его услугах.
Андрей Иванович в первые месяцы правления Анны Иоанновны выполнял обязанности, близкие к тем, которые нес кабинет-секретарь А. В. Макаров при Петре I, с одним отличием – царь имел собственное мнение о происходившем, в то время как императрица смотрела на события глазами Остермана и безоговорочно внимала его советам. Остерман в полной мере использовал свои необыкновенные способности влезать в доверие, исподволь, вкрадчиво навязывать мысли, умение держаться в тени, на вторых ролях, укрываться за спиной сильных и влиятельных личностей. Императрице он был необходим и просто незаменим; при этом на первых порах выполнял обязанности тайного кабинет-секретаря, о чем поведала комиссия, учрежденная в 1741 году Елизаветой Петровной, поручившей ей «иметь рассуждение как о Сенате, так и о Кабинете и какому впредь правительству быть». Комиссия установила, что после восшествия на престол Анны Иоанновны «почти целый год тайно содержался в руках Остермана Кабинет и указы именные и резолюции многие писаны были рукою при нем, Остермане, обретающегося секретаря Сергея Семенова»[156 - ЖМНП. 1897. № 2. С. 286, 289.].
Слухи о предстоящем возникновении Кабинета носились в придворных кругах несколько недель спустя после воцарения Анны Иоанновны и стали достоянием иностранных дипломатов, немедленно информировавших свои правительства об ожидавшемся новшестве. Уже в марте 1730 года французский посол Маньян доносил: «Царица не оформила еще Кабинета, как того ожидали». В мае того же года английский резидент К. Рондо сообщал: «Из хорошего источника слышал, что вскоре для совещания о государственных делах будет назначен Кабинет и тогда секретных дел на рассмотрение Сената более представлять не будут».
Дипломаты ошиблись в сроках – Кабинет возник как учреждение почти полтора года спустя. Ответ на вопрос, почему потребовался такой длительный срок для превращения Кабинета из личной канцелярии императрицы в правительственное учреждение, следует искать в нежелании Остермана иметь в его составе П. И. Ягужинского: Андрею Ивановичу необходимы были послушные его воле члены Кабинета, а Ягужинский, с которым у вице-канцлера издавна сложились неприязненные отношения, сам претендовал на роль лидера, имел собственный взгляд на события и умел отстаивать свои взгляды.
Рисунок Скино А.Т.; литография Каспар Эргот.
Портрет Павла Ивановича Ягужинского. 1862 г.
Иванов П. Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции. СПб., 1863
История с назначением Ягужинского кабинет-министром выявила еще одно свойство характера Остермана – он обладал бесспорным терпением, способностью не форсировать события, делать вид, что стоит в стороне от них. Остерман выжидал, когда его соперник Ягужинский сам оступится и даст повод для недовольства императрицы. Ему, как и прочим современникам, были хорошо известны два его недостатка: он был невоздержан на язык и неравнодушен к горячительным напиткам.
Ягужинский вправе был рассчитывать на присутствие в Кабинете министров, но наличие в этом учреждении человека независимого, отнюдь не покладистого не входило в расчеты Остермана, желавшего видеть среди своих коллег людей безропотных и угодливых.
Отсутствие своей фамилии в намечаемом списке Кабинета министров вызвало естественный гнев оскорбленного Ягужинского. Он конечно же знал, кому этим обязан. Неудивительно, что в адрес Остермана и Кабинета министров посыпались слова осуждения, резкость которых определялась степенью опьянения. Более того, они коснулись и императрицы.
Гнев Ягужинский обрушил и на своего тестя Г. И. Головкина, пожаловавшегося императрице на недостойное поведение зятя. Тем самым он лишился последнего защитника, не раз выручавшего его из беды, но теперь Павел Иванович оказался в немилости и получил назначение посла в Берлин. С его удалением Остерман добился своего – теперь пришло время сформировать Кабинет министров, куда, кроме него, вошли Г. И. Головкин и А. М. Черкасский.
Характер и способности Гавриила Ивановича Головкина досконально были изучены Остерманом за долгие годы службы в Коллегии иностранных дел, где он под началом канцлера прошел все ступени карьеры, от переводчика до вице-канцлера. Он без труда обнаружил главные достоинства Головкина: мягкость, вежливость и услужливость. Эти свойства натуры Гавриила Ивановича были хорошо известны и К. Рондо: «Лучшее качество Головкина – его приветливое и ласковое обращение; благодаря ему, а также своему усердию и личине набожности он приобрел большое влияние между старыми русскими ханжами и особенно между духовенством».
Что касается способностей руководителя внешней политики, то они были ограниченными: незнание языков в сочетании с отсутствием дарований не позволяло ему обстоятельно ориентироваться в международной обстановке и в хитросплетении дипломатических служб иностранных дворов. В деловом отношении он целиком находился в полной зависимости от вице-канцлеров: сначала П. П. Шафирова, а после того как тот оказался в опале – Остермана. К этим свойствам натуры, вполне устраивавшим Остермана, добавилось еще одно – Гавриилу Ивановичу перевалило за 70, в таком преклонном возрасте у него обнаружились явные нелады со здоровьем, и он даже мечтал об удалении от мирской суеты в тихую заводь монастырской кельи. Головкин с трудом тянул служебную лямку, поэтому он был редким гостем Кабинета министров. По указу Кабинет должен был заседать дважды в неделю. Практически он собирался ежедневно и даже нередко в праздничные дни. Так, в 1733 году Кабинет министров заседал 348 раз, а Головкин навестил его только 27 раз. Активность он проявлял в летние месяцы: июнь (присутствовал 6 раз) и июль (7 раз). В остальные месяцы года он появлялся один-два раза, лишь в мае – три раза. Такой министр вполне подходил Остерману.
Устраивал его и второй кандидат – князь Алексей Михайлович Черкасский. Если Головкин почти четверть столетия занимал высокую должность канцлера, был сенатором и находился в обойме первых лиц в государственном механизме, то Черкасский пребывал на вторых ролях, вершиной его карьеры была должность сибирского губернатора, далеко отстоявшая от двора. Он всплыл на волне движения шляхетства в феврале 1730 года, во время которого оно воспротивилось намерению верховников ограничить власть императрицы. Качествами лидера он не обладал, был человеком вполне ординарным и приобрел популярность среди дворянской мелкоты, составлявшей большинство участников шляхетского движения, благодаря своему богатству и княжескому достоинству. Если к посредственным способностям Черкасского прибавить его восточную лень, его желание быть ведомым, а не ведущим, то такой человек был угоден Остерману. Черкасский вполне соответствовал характеристике, данной ему французским дипломатом маркизом Шетарди: он «совмещал в себе самое знатное происхождение, очень значительное состояние и ограниченность, равняющуюся его покорности, качества, которыми он себя всегда выказывал очень одаренным»[157 - РИО. Т. 86. Юрьев. 1893. С. 498.]. Не менее язвительную и столь же уничтожающую характеристику Черкасскому дал в памфлете «О повреждении нравов в России» известный историк и публицист князь М. М. Щербатов: «Сей человек весьма посредственный разумом своим, ленив, незнающ в делах и, одним словом, таскающий, а не носящий имя свое и гордящийся единым своим богатством».
Ход мыслей Андрея Ивановича, радевшего о назначении Черкасского кабинет-министром, был весьма прозрачен: он был уверен, что князь будет удовлетворен своей высокой должностью, не станет вникать в дела Кабинета и перечить мнениям человека, оказавшего ему протекцию при назначении на высокую должность.
Состав Кабинета превзошел самые смелые надежды Остермана: на его заседаниях в подавляющем большинстве случаев присутствовало не три, а два министра – Головкин постоянно недомогал и месяцами не переступал порога Кабинета. В нем безраздельно господствовал Остерман. Но за его действиями и растущим влиянием бдительно и ревниво следил другой немец – Бирон, видевший в нем опасного конкурента, становившегося, как в свое время был Меншиков, полудержавным властелином.
Бирон после смерти Головкина в 1734 году пытался найти ему замену в лице человека, который не только информировал бы его, Бирона, о делах Кабинета, но и представлял бы в нем его интересы, был способен иметь собственное мнение и упорно защищал бы его. Таким человеком, по мнению Бирона, мог стать П. И. Ягужинский, и он, вопреки желанию Остермана, 28 апреля 1735 года был введен в состав Кабинета министров.
Необходимость создания противовеса Остерману вынудила Бирона забыть об инциденте, происшедшем в 1731 году, когда Ягужинский, находясь в гостях у обер-камергера, по словам Манштейна, «выпив лишнее, не удержался и насказал ему грубостей. Ссора дошла до того, что Ягужинский вынул уже шпагу против хозяина дома; их разняли, и Ягужинского отвезли домой». Если бы подобный поступок совершил кто другой, ему было бы не миновать опалы, но императрица еще помнила об оказанных ей услугах Ягужинским в 1730 году и ограничилась выговором дебоширу.
В своем выборе Бирон ошибся: Ягужинский к 1736 году утратил качества, которыми обладал ранее, – энергичность, твердость воли, настойчивость, честолюбие. Вероятно, его энергии доставало на то, чтобы держать в курсе дела своего покровителя, но не хватало на то, чтобы вникать во все детали работы правительственного механизма и противостоять Остерману. Во всяком случае, в делах Кабинета отсутствуют следы его противоборства с Остерманом; он не высказывал своего особого мнения, противоположного мнению Остермана, и выполнял такую же пассивную роль, как и Черкасский. К тому же должность кабинет-министра Павел Иванович занимал только несколько месяцев – в апреле 1736 года он скончался на 53-м году жизни. В начале февраля он уже был тяжело болен[158 - РИО. Т. 70. С. 489.].
Подлинным противовесом Остерману стал назначенный 3 апреля 1738 года новый клеврет Бирона – А. П. Волынский, личность, бесспорно, столь же талантливая, как и наделенная множеством пороков. Он сумел привлечь на свою сторону Черкасского, и делопроизводство Кабинета министров стало регистрировать либо особые мнения, подписанные Волынским и Черкасским, либо несогласие с их мнением Остермана. Волынский, как мы убедимся в дальнейшем, не довольствовался ролью ставленника Бирона, угодничеством завоевал доверие императрицы и в своих честолюбивых замыслах был готов оттеснить от кормила правления не только Остермана, но и всемогущего фаворита императрицы Бирона.
Якоби Валерий Иванович.
А.П. Волынский на заседании кабинета министров. 1875 г.
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омск
Артемий Петрович явно переоценил свои силы, он уступал Остерману в способностях к придворным интригам, и последний руками Бирона не только сумел убрать опасного соперника, но и подвести его к эшафоту.
Кабинет министров вновь действовал в составе двух человек, правда недолго, Бирон подобрал нового ставленника – А. П. Бестужева-Рюмина, личность весьма сомнительных нравственных качеств. О свойствах его натуры Шетарди писал: «Он настолько тщеславен, что не пожелает играть такую же роль, как князь Черкасский». А в депеше Шетарди от 5 августа 1740 года читаем: «Бестужев, судя по тому, что думают о нем многие, один из людей, не признающих никакой узды, сдерживающей людские пороки; поэтому большинство убеждено, что он кончит трагически, как и его предшественники. Полагают, кроме того, что Бестужев скорее будет подчиняться влечению гнева, нежели долгу признательности»[159 - РИО. Т. 86. С. 478.].
Сведения, которыми располагал Шетарди, оказались ошибочными – Бестужев после смерти Анны Иоанновны стал одним из организаторов процедуры провозглашения Бирона регентом: убедил вельмож обратиться к нему с просьбой согласиться с их доводами принять регентство.
Итак, мы видим, что на протяжении десятилетнего существования Кабинета только два из трех министров постоянно участвовали в его работе. Место третьего министра не менее шести лет из десяти оставалось вакантным, его последовательно занимали Головкин, Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. Иными словами, создавалась благоприятная обстановка для хозяйничанья в нем Остермана, руководящего под покровом Кабинета министров всеми сферами деятельности правительства.
Обратимся к ответу на другой вопрос: как формировалась компетенция Кабинета министров? В докладе императрице Елизавете Петровне упоминавшаяся выше комиссия не находила существенных различий между Кабинетом министров и предшествовавшим ему Верховным тайным советом: «Хотя имена разные, а действо почти одно с обоих было»[160 - ЖМНП. 1897. № 2. С. 280, 281.].
Между тем в деталях эта оценка требует значительных уточнений, относящихся прежде всего к определению компетенции обоих учреждений.
Права и обязанности Верховного тайного совета были очерчены тремя указами. Учредительный указ 6 февраля 1726 года определял обязанности создаваемого учреждения в самом общем виде – он возникал «при дворе нашем как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел, в котором мы сами будем присутствовать». Второй нормативный акт, известный под названием «Мнение не в указ о новом учрежденном Тайном совете», составленный самими членами «нового учреждения», в 13 пунктах раскрывает его права и обязанности, а также место в правительственном механизме. Верховный тайный совет учреждался «для облегчения ее величества в тяжком бремени правления». «Мнение не в указ…» определял дела, подлежавшие рассмотрению в Верховном тайном совете, в которых «есть немалый труд»: по этим делам министры дают «тайные советы» прежде всего по вопросам внешней политики, а также по делам, которые могла решить только императрица, то есть не имевшим прецедентов. Три первейшие коллегии (Иностранная, Военная и Морская) подчиняются не Сенату, а Верховному тайному совету. Сам Сенат переводили из положения Правительствующего в разряд Высокого, подчинявшегося Верховному тайному совету. «Мнение не в указ…» определял и дни заседаний совета: внутренние дела надлежало рассматривать по средам, внешние – по пятницам. Однако «когда случится много дел», то назначается чрезвычайный съезд. Определен также порядок делопроизводства.
Третий указ, обнародованный в 1727 году, вносит одно уточнение в компетенцию Верховного тайного совета, как бы отвергавшую присвоенную ему «Мнением не в указ…» функцию контроля за законодательством: «Никаким указам прежде не выходить, пока они в Верховном тайном совете совершенно не состоялись, протоколы не закрепились (не подписаны. – Н. П.) и ее величеству для всемилостивейшей апробации прочтены не будут и потом могут быть закреплены и разосланы действительным статским советником Степановым» (секретарем Верховного тайного совета. – Н. П.). Указ 1727 года еще раз напоминал: Верховный тайный совет должен выполнять обязанности совещательного органа, он учрежден «при боку нашем не для чего иного, только дабы оной в сем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и бесстрастным объявлением мнений своих нам вспоможение и облегчение учинил и тако все дела по довольном зрелом рассуждении от нас решены и их тому отправлено быть могли».
В этой пространной формуле обращают внимание на два «ударных» положения… «при боку нашем» и «своими советами и бесстрастным объявлением мнений». Оба положения подчеркивают значение Верховного тайного совета как совещательного органа и ограничивают его роль подачей советов.
Ничего подобного нет в законодательстве о Кабинете министров. В единственном указе 10 ноября 1731 года, расплывчатом и аморфном, сформулирована цель создания Кабинета министров: «Для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел к собственному нашему всемилостивейшему решению подлежащих и ради пользы государственной и верных наших подданных»[161 - ПСЗ. XVIII. № 5871.].
В учредительном указе не расшифрованы ни права, ни обязанности нового учреждения, не определено и его место в структуре государственного аппарата, в частности его отношение к Сенату. Вряд ли опытный делец Остерман допустил такую элементарную оплошность случайно. Думается, это было сознательное умолчание, ибо раскрытие компетенции нового учреждения и его отношение к Сенату означало возврат к практике Верховного тайного совета о низведении Сената в ранг Высокого, то есть возвращение к практике, осужденной манифестом 4 марта 1730 года. Между тем манифест сохранял за Сенатом звание Правительствующего, чем формально устанавливал своего рода двоевластие: юридически высшими правительственными учреждениями являлись и Сенат, и Кабинет министров, грань между ними отсутствовала. В этом формальном двоевластии отразилась манера Остермана выходить из тупикового положения: действовать осторожно, постепенно подчиняя Сенат Кабинету министров, лишая противников возможности упреков в возрождении осужденной системы.
Роль Остермана в этой системе определялась не только его деловыми качествами, отсутствием в составе Кабинета личностей с беспредельным честолюбием, за исключением А. П. Волынского, но и неумением и нежеланием императрицы управлять государством.
Принято делить историю Кабинета министров на два этапа. Первый из них продолжался со времени его учреждения 10 ноября 1731 года до указа 9 июня 1735 года, приравнивавшего подписи трех кабинет-министров к именному указу[162 - ПСЗ. Т. IX. № 6745.]. Не отрицая правильности этого деления, все же следует отметить наличие большего количества этапов на пути самоотстранения императрицы от дел. Первый, протяженностью в пару месяцев, отличался присутствием императрицы на заседаниях Кабинета министров: в ноябре она навестила Кабинет министров 7 раз, а в декабре и того больше – 19. Впрочем, с самого возникновения Кабинета министров было положено начало хождения министров к императрице, а уже с января 1732 года, то есть со времени переезда двора из Москвы в Петербург, посещение покоев Анны Иоанновны стало обычной практикой ее общения с первыми вельможами государства. Из этого можно сделать вывод, что присутствие императрицы на заседаниях Кабинета ее утомляло, было непосильной обузой, от которой она освободилась слушанием докладов и подписанием указов, а также подготовленных резолюций. К тому же присутствие императрицы не было необходимостью – документы Кабинета не отметили ее законодательной инициативы либо замечаний по обсуждаемым вопросам. Следовательно, указу 9 июня 1735 года предшествовала практика отстранения Анны Иоанновны от участия в делах.
Эта линия поведения императрицы продолжалась и после 1735 года. Она отмечена сокращением времени ее занятий делами, узаконенными двумя указами – от 11 июля и 7 декабря 1738 года, объявленными Волынским Кабинету министров. Первый из них извещал министров об отъезде императрицы из Петербурга в Петергоф «для своего увеселения и покоя». Поэтому министрам запрещалось тревожить ее делами, а поскольку им «дана полная мочь», то разрешалось доносить только о делах, «которые они сами решить не могут».
Второй указ устанавливал для докладов министров три дня в неделю, причем министров указ обязывал являться к ней с указами и резолюциями, ими подписанными, что освобождало ее от слушания докладов, и она, обнаружив три подписи, ставила свою: «Анна»[163 - РИО. Т. 124. Юрьев. 1909. С. 54, 463.].
Характеризуя деятельность Кабинета министров, откажемся от обстоятельного ее изложения – это будет весьма скучно для массового читателя, а приведем слова кабинет-министра А. П. Волынского, который как-то заявил, имея в виду себя и своих коллег: «Мы натащили на себя много дел и не надлежащих нам». Комиссия, составлявшая доклад для Елизаветы Петровны, почти дословно повторила наблюдение Волынского: «Кабинет-министры натащили на себя много дел и не надлежащих им».
Обе оценки бесспорны: Кабинет министров нередко на своих заседаниях наряду с вопросами государственного масштаба обсуждал такие, которые могли решить Сенат и даже коллегии. Отчасти Кабинет стал жертвой собственной нераспорядительности – отсутствие актов, определявших его функции; отчасти вкоренившейся в сознание населения веры в справедливость решений самой высокой инстанции.
Мы не станем перечислять множество важных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Кабинета министров, а ограничимся констатацией пестроты, разномасштабности и в известной мере случайности повестки дня его заседаний.
Так, к войне за польское наследство, как к важному внешнеполитическому акту, было приковано внимание Кабинета министров на протяжении всей акции, от подготовки к вторжению до выяснения причин, как удалось Станиславу Лещинскому бежать из Данцига. Двор проявлял интерес не только к осаде Данцига, но и высказывал свои сомнения относительно обстоятельств успешного бегства короля из осажденного города. 6 июня 1734 года был отправлен рескрипт командовавшему русскими войсками фельдмаршалу Миниху, подписанный императрицей, но, конечно же, составленный Остерманом, с выражением сомнения и подозрительности: «Весьма невероятно, чтоб город или магистрат оного о таком уходе не ведал». 24 июля Кабинет даже высказал Миниху недовольство результатами деятельности комиссии, учрежденной для следствия о бегстве Лещинского и отсутствии на этот счет донесений фельдмаршала: «Без того быть невозможно, чтоб у него, Станислава, не токмо при нем, во Гданске, но и в других местах не было довольно скарбу, вещей и пожитков». Видимо, у Кабинета министров было подозрение относительно причастности Миниха к бегству короля и стремлению последнего замять дело, ибо 4 августа Кабинет вновь напоминал: «Ожидаем от вас обстоятельного известия… об уходе из Гданска Лещинского»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71043085?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
РА. 1887. № 10. С. 180, 181.
2
Семевский М. И. Царица Прасковья // Тайная служба Петра I. Минск, 1992. С. 45, 54, 71–84.
3
Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 г. СПб., 1906. С. 158.
4
Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 96.
5
Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 256–263.
6
РИО. Т. 50. СПб., 1885. С. 401.
7
Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 41, 42.
8
Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 52, 53, 123, 124, 139.
9
РС. 1884. № 11. С. 375–380.
10
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. С. 216.
11
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. Кн. X. М., 1993. С. 130.
12
Письма русских государей… С. 118, 130, 142, 143.
13
Письма русских государей… С. 214, 224, 249, 252, 254, 259.
14
РИО. Т. 66. СПб., 1889. С. 71, 115.
15
РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 447.
16
Осмнадцатый век. Кн. 3. М., 1869. С. 27.
17
РС. 1909. № 1. С. 200. 5РИО. Т. 66. С. 19.
18
РИО. Т. 66. С. 19.
19
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 77.
20
РС. 1873. Т. VIII. С. 39.
21
Феофан Прокопович. История об избрании на престол Анны Иоанновны // Сын отечества. Ч. 184. № 5. СПб., 1873. С. 31, 32.
22
РИО. Т. 66. С. 5.
23
Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. С. 178, 179.
24
РС. 1873. Т. VIII. С. 38.
25
РИО. Т. 66. С. 28.
26
Осмнадцатый век. Кн. 2. М., 1869. С. 183, 188, 190, 193.
27
РИО. Т. 75. С. 429.
28
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 191, 192.
29
РИО. Т. 66. С. 158, 159.
30
ЧОИДР. 1865. Кн. 3. С. 37–40; Осмнадцатый век. Кн. 2. С. 197, 151.
31
РС. 1909. № 1. С. 210.
32
РА. 1866. Т. I. С. 2.
33
РИО. Т. 75. С. 464.
34
Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 4, 5, 17, 18.
35
Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 100.
36
РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 169.
37
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 122.
38
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 43, 33.
39
РИО. Т. 5. СПб., 1870. С. 349–352.
40
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 36, 37.
41
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 199.
42
РИО. Т. 5. С. 356.
43
РИО. Т. 5. С. 355.
44
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 50, 55.
45
Источниковедческие работы Тамбовского педагогического института. Тамбов, 1971. С. 73.
46
Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х – начале 30-х годов ХVIII в. М., 1985. С. 274, 275.
47
РИО. Т. 66. С. 136.
48
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 211.
49
Ученые записки Тамбовского пединститута. Вып. 15. Тамбов, 1957. С. 226–231.
50
ПСЗ. Т. VII. № 5030.
51
Д. А. Корсаков. Указ. соч. С. 158–161.
52
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.
53
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.
54
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 213.
55
Манштейн Х. Г. Записки о России. СПб., 1875. С. 25.
56
РС. 1909. № 2. С. 288; Соловьев С. М. Указ. соч. С. 215.
57
РС. 1909. № 2. С. 292.
58
РС. 1909. № 3. С. 548; Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 62.
59
ПСЗ. Т. VIII. № 265.
60
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 203.
61
РИО. Т. 66. С. 157, 158.
62
С. М. Соловьев. Указ. соч. С. 211.
63
РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 276. Ч. 2. Л. 38.
64
Феофан Прокопович. Слова и речи. Ч. 3. СПб., 1769. С. 48, 53, 146, 152, 158, 188 и др.
65
ПСЗ. Т. VIII. № 5916; Т. IX. № 6647; Т. X. № 7151.
66
РИО. Т. 66. С. 182.
67
Безвременье и временщики. С. 210.
68
ЧОИДР. 1867. Кн. 3. С. 59.
69
Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны. СПб., 1997. С. 91, 92.
70
Манштейн Х. Г. Записки о России. С. 194.
71
РИО. Т. 75. С. 240.
72
Безвременье и временщики. С. 58, 59.
73
Там же. С. 262; Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1898. С. 364.
74
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 264.
75
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 135, 136, 160, 173, 177, 224, X.
76
03. 1873. № 11. С. 9.
77
ПСЗ. Т. X. № 7819.
78
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 24. Л. 5, 6.
79
Там же. Разряд VI. Д. 252. Л. И, 13, 18, 20 и др.
80
РИО. Т. 126. С. 594; Т. 130. Юрьев, 1909. С. 41.
81
ПСЗ. Т. XI. № 8010; Т. X. № 7580; РИО. Т. 104. С. 43; РИО. Т. 111.
82
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 5, 6.
83
РИО. Т. 111. С. 41, 42.
84
Там же. С. 58, 59; ПСЗ. Т. IX. № 7009.
85
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 6.
86
Соловьев С. М. Указ. соч. Т. X. С. 643, 644.
87
ПСЗ. Т. IX. № 6753.
88
РА. 1871. № 2. С. 037–070.
89
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 136.
90
РИО. Т. 114. С. 351–354.
91
Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. I. М., 1913. С. 138.
92
РГАДА. Ф. Кабинета министров 1735 г. Д. 4.
93
Там же. 1736 г. Д. 4. Л. 4, 8.
94
РИО. Т. 81. С. 221, 222.
95
Пекарский П. Маркиз де да Шетарди в России в 1740–1742 годах. СПб., 1862. С. 1.
96
Миних Б. Х. Записки. С. 63.
97
РИО. Т. 76. С. 129.
98
РИО. Т. 81. С. 221.
99
РИО. Т. 76. С. 129.
100
Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. СПб., 1891. С. 94.
101
Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 236, 237.
102
Пекарский П. Указ. соч. С. 50, 51; РГАДА. Госархив. Разряд VII. Д. 444. Л. 59.
103
РИО. Т. 80. С. 442.
104
Безвременье и временщики. С. 61.
105
Русская беседа. 1860. № 2. С. 197, 201, 202.
106
Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 32.
107
Шаховской Л. Записки. СПб., 1872. С. 5, 6.
108
ИВ. 1893. № 9. С. 841, 842.
109
РИО. Т. 80. С. 361, 416, 449.
110
РИО. Т. 61. С. 191.
111
РИО. Т. 5. С. 353, 374.
112
РИО. Т. 76. С. 102.
113
Пекарский П. Указ. соч. С. 2, 3.
114
РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 321. Ч. I. Л. 8–11; ИВ. 1884. № 9. С. 611.
115
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 301, 302.
116
РИО. Т. 81. С. 308.
117
Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 10. М., 1839. С. 87.
118
Хмыров М. Фельдцейхмейстерство графа Миниха // Записки фельдмаршала графа Миниха. С. 231, 318.
119
РИО. Т. 66. С. 507.
120
Миних Б. X. Записки. С. 44.
121
РИО. Т. 92. СПб., 1894. С. 39, 40.
122
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 604, 686–689.
123
РИО. Т. 5. С. 453, 454.
124
РИО. Т. 81. С. 313, 314.
125
РИО. Т. 130. С. 217.
126
Индова Е. И. Дворцовое хозяйство России. Первая половина ХVIII века. М., 1964. С. 295, 296.
127
Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. М., 1953. С. 131, 132.
128
РИО. Т. 5. С. 409.
129
РИО. Т 66. С. 186, 190, 193, 199, 237.
130
Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 182.
131
РС. 1873. Т. VIII. С. 314.
132
Строев В. Бироновщина и Кабинет министров. М., 1909. С. 40, 41.
133
РС. 1871. Т. IV. С. 691.
134
РИО. Т. 81. С. 195, 262, 265.
135
РС. 1873. Т. VII. С. 346.
136
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 96.
137
РС. 1873. XVII. С. 343–345.
138
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 138.
139
РА. 1873. № 9. С. 1643–1648.
140
ИВ. 1881. № 7. С. 488–490.
141
ПСЗ. X VIII. № 5527.
142
ПСЗ. Т. X. № 7145, 7147, 7575, 7587, 7886 и др.; РИО. Т. 117. С. 305, 308.
143
ИВ. 1884. № 9. С. 625, 628, 629.
144
РС. 1873. XVII. С. 338.
145
Манштейн X. Г. Указ. соч. С. 183.
146
РИО. Т. 86. С. 225.
147
РС. 1873. XVII. С. 358.
148
РИО. Т. 126. Юрьев, 1907. С. 552–558.
149
Древняя и новая Россия. 1877. Т. I. С. 224.
150
РС. 1873. Т. VII. С. 347–351.
151
Безвременье и временщики. С. 164.
152
Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.
153
ПСЗ. Т. IX. № 5727, 5738, 6325.
154
Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.
155
РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 278, 292.
156
ЖМНП. 1897. № 2. С. 286, 289.
157
РИО. Т. 86. Юрьев. 1893. С. 498.
158
РИО. Т. 70. С. 489.
159
РИО. Т. 86. С. 478.
160
ЖМНП. 1897. № 2. С. 280, 281.
161
ПСЗ. XVIII. № 5871.
162
ПСЗ. Т. IX. № 6745.
163
РИО. Т. 124. Юрьев. 1909. С. 54, 463.
Николай Иванович Павленко
Собиратели Земли Русской
Книга известного историка Николая Павленко посвящена десятилетнему правлению (1730–1740 гг.) императрицы Анны Иоанновны. Автор талантливо и скрупулезно описывает этот период «немецкого засилья» в России через биографии главных действующих лиц эпохи – Бирона, Остермана, Миниха, Волынского и других. Для более точного воссоздания образа императрицы и ее сподвижников историк привлекает большое количество документальных источников, включая архивные материалы, многие из которых приводятся впервые.
На вопрос, была ли в России бироновщина, Н.И. Павленко дает положительный ответ. Не случайно современники называли Бирона «некоронованным правителем России».
В настоящее издание также включен полный текст романа И.И. Лажечникова «Ледяной дом» – классического произведения русской литературы, по которому многие поколения россиян составляли собственное представление об аннинской эпохе в отечественной истории.
Проект «Собиратели Земли Русской» реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии «Единая Россия».
Николай Павленко
Анна Иоанновна
© Павленко Н.И., 2002
© Павленко Н.И., наследник, 2022
© Российское военно-историческое общество, 2022
© Оформление. ООО «Проспект», 2022
Предисловие к серии
Дорогой читатель!
Мы с Вами живем в стране, протянувшейся от Тихого океана до Балтийского моря, от льдов Арктики до субтропиков Черного моря. На этих необозримых пространствах текут полноводные реки, высятся горные хребты, широко раскинулись поля, степи, долины и тысячи километров бескрайнего моря тайги.
Это – Россия, самая большая страна на Земле, наша прекрасная Родина.
Выдающиеся руководители более чем тысячелетнего русского государства – великие князья, цари и императоры – будучи абсолютно разными по образу мышления и стилю правления, вошли в историю как «собиратели Земли Русской». И это не случайно. История России – это история собирания земель. Это не история завоеваний.
Родившись на открытых равнинных пространствах, русское государство не имело естественной географической защиты. Расширение его границ стало единственной возможностью сохранения и развития нашей цивилизации.
Русь издревле становилась объектом опустошающих вторжений. Бывали времена, когда значительные территории исторической России оказывались под властью чужеземных захватчиков.
Восстановление исторической справедливости, воссоединение в границах единой страны оставалось и по сей день остается нашей подлинной национальной идеей. Этой идеей были проникнуты и миллионы простых людей, и те, кто вершил политику государства. Это объединяло и продолжает объединять всех.
И, конечно, одного ума, прозорливости и воли правителей для формирования на протяжении многих веков русского государства как евразийской общности народов было недостаточно. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим предкам – выдающимся государственным деятелям, офицерам, дипломатам, деятелям культуры, а также миллионам, сотням миллионов простых тружеников. Их стойкость, мужество, предприимчивость, личная инициатива и есть исторический фундамент, уникальный генетический код российского народа. Их самоотверженным трудом, силой духа и твердостью характера строились дороги и города, двигался научно-технический прогресс, развивалась культура, защищались от иноземных вторжений границы.
Многократно предпринимались попытки остановить рост русского государства, подчинить и разрушить его. Но наш народ во все времена умел собраться и дать отпор захватчикам. В народной памяти навсегда останутся Ледовое побоище и Куликовская битва, Полтава, Бородино и Сталинград – символы несокрушимого мужества наших воинов при защите своего Отечества.
Народная память хранит имена тех, кто своими ратными подвигами, трудами и походами расширял и защищал просторы родной земли. О них и рассказывает это многотомное издание.
В. Мединский, Б. Грызлов
Предисловие к книге Н.И. Павленко «Анна Иоанновна»
XVIII столетие занимает особое место в российской истории. Во-первых, это первый век русского Нового времени. Средневековая традиционная Московия уступила место великой европейской державе – Российской империи. Правда, статус Империи за Россией и императорский титул за ее монархами был признан не сразу, но благодаря успешной внешней политики середины – второй половины XVIII века это стало данностью.
В целом XVIII век оказался для нашей страны успешным во всех областях: в экономике, развитии общества, особенно его дворянской и городской части, в совершенствовании системы государственного управления. Но это не снимало противоречивости XVIII столетия для России. В своем внутреннем развитии страна укрепляла потенциал старой крепостнической системы. Крепостное право, окончательную победу которого фиксировало Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., при Петре I стало быстро развиваться вглубь и вширь. В эпоху, когда в западноевропейских странах почти повсеместно были освобождены крепостные крестьяне, сельское производство давно было втянуто в товарно-денежные отношения, а параллельно шло бурное развитие буржуазной мануфактурной промышленности, основанной на найме свободных рабочих рук, в Петровской России возник феномен крепостной мануфактуры, основанной на дешевом труде посессионных и приписных крестьян. Это явилось следствием самого простого для государства способа мобилизации наличных людских и хозяйственных ресурсов для удовлетворения нужд армии в долгой Северной войне, которую Петровская Россия вела с 1700 по 1721 год с целью не только вернуть выход к Финскому заливу, потерянный в Смутное время, но и расширить свое присутствие на Балтике за счет отвоевания у Швеции ее прибалтийских колоний Эстляндии и Лифляндии. Некогда они составляли Ливонскую конфедерацию, подчинить которую России пытался еще Иван Грозный в Ливонской войне 1558–1583 гг. Петр I решил эту задачу, мобилизовав все людские и экономические возможности России, но не за счет их модернизации, а используя расширение крепостного права, увеличивая налоговый пресс и работы тяглого населения, увеличив интенсивность бессрочной, как прежде, службы боярской аристократии, дворян и сынов боярских, из которых первый русский император начал формирование консолидированного дворянского сословия. При Петре его чаще именовали на польско-литовский манер «шляхетством». Петр продолжил прежнюю политику заимствования западных экономических, административных, культурных и прежде всего военных и технических новшеств. Такая «поверхностная европеизация» шла со времени правления Ивана III (1462–1505), но в царствование Петра I (1682–1725) масштабы европеизации России возросли в разы. Также были заложены предпосылки модернизации в области создания светского образования и начала развития в России наук.
В. А. Серов. Петр I. 1907. Государственная Третьяковская галерея
Между тем внутренней сутью мирового Нового времени явился процесс модернизации, перехода человечества от средневековых социокультурных моделей к эпохе индустриальной цивилизации (модерна). Раньше всего такое движение начало западноевропейское общество в конце XV в. и в XVI в. Торговля внутренняя и торговля внешняя, особенно морская, стала двигателем хозяйственных новшеств и достижений, привела к открытию Нового Света и другим великим географическим открытиям, технический прогресс и развитие науки стали отличительными чертами эпохи модернизации. Пороховая и военная революция в корне изменила армии стран Запада Европы, обеспечив их преимущество над войсками восточных держав. И в XVII–XVIII вв. как-то почти мгновенно для исторического времени великие азиатские империи – Персия, Индия, Китай – стали превращаться в объект торговой, а потом и колониальной экспансии быстро развивающихся европейских государств. Иными словами, кто «застрял» в Средневековье, тот к концу европейского Нового времени (1914 г.) оказался колонией или полуколонией европейских стран.
Россия не только не разделила судьбу восточных исполинов, но сама к 1914 году была одной из крупнейших в мире обладательницей колониальных владений. XVIII век здесь сыграл решающую роль, причем не только Петровская эпоха, а также укрепление внутренних и внешнеполитических начинаний Петра во второй четверти и второй половине XVIII века. Постпетровское время четко делится на эпоху 1725–1762 годов, удачно названную классиком отечественной исторической науки В. О. Ключевским «Эпохой дворцовых переворотов», и правление Екатерины II (1762–1796).
Представленная вниманию читателя книга известного отечественного ученого Николая Ивановича Павленко «Анна Иоанновна» рассказывает как раз об одном из самых противоречивых царствований эпохи дворцовых переворотов – царствовании императрицы Анны (1730–1740). Противоречивым это время было не только в силу укрепления крепостного права, не имеющего никакого отношения к модернизации экономики России, но при этом позволяющего наращивать сельскохозяйственное производство и промышленные товары (по выплавке металлов Россия вышла на второе место в мире, обогнав Англию и догоняя Швецию), но еще и потому, что европеизация жизни дворянской элиты, становление европейского военного образования и развитие Санкт-Петербургской Академии наук и художеств шло полным ходом.
Кроме того, царствованию Анны Иоанновны современники и историки дают часто прямо противоположные оценки. Одним современникам это правление показалось временем строгих, но «правильных» порядков. А. С. Пушкин в «Капитанской дочке» в уста отца Петруши Гринева вкладывает именно такое в целом позитивное отношение к царствованию Анны и той «прямой службе», которую несли в армейских полках и в гвардии дворяне. Для других воспоминания о правлении суровой племянницы Петра Анны Иоанновны это время злодейств Тайной канцелярии и «засилья немцев» на высоких государственных должностях.
Среди историков, особенно в ХХ в., за эпохой дворцовых переворотов закрепилось мнение, что это некое «безвременье» между двумя великими царствованиями Петра I и Екатерины II. Ну а царствование Анны Иоанновны – это чуть ли не самая мрачная пора эпохи дворцовых переворотов, когда шпионы «лежали на ухе» всесильного фаворита императрицы Эрнеста Иоганна Бирона, который и был теневым правителем России.
Надо сказать, что куда более сдержанное в оценках описание этого царствования мы находим у С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. Хотя они и употребляли термин «бироновщина», но вовсе не считали Бирона главой некой «немецкой партии», показывали противоречия, разделявшие обер-камергера двора Анны Бирона с кабинет-министром Андреем Ивановичем Остерманом, сподвижником Петра I, и с другим выдвиженцем петровской эпохи главой Военной коллегии Минихом. В исследованиях многих современных историков Бирон утрачивает черты «злого гения» эпохи, а само царствование Анны вместе с эпохой дворцовых переворотов предстает отнюдь не «безвременьем», а важным этапом необходимого восстановления сил России после бурных лет беспрерывных войн и преобразований царствования Петра I, укрепившей внешнеполитические достижения первой четверти XVIII в. и одержавшей новые внешние победы.
Беннер Ж. Портрет императрицы Анны Иоанновны.
1817–1821. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Н. И. Павленко принадлежит к той части историков, которые дают времени правления Анны скорее негативную оценку. Здесь можно спорить, однако достоинством всех книг Павленко является огромное знание автором самых разнообразных источников эпохи, со сведениями которых историк щедро знакомит читателя. Опираясь обширный комплекс разнообразных документов, Н. И. Павленко реконструирует фактическую историю, дает яркие картины всех сторон внутренней жизни России, описывает ее внешнюю политику, включая такое важное событие в царствование Анны, как Русско-Турецкая война 1735–1739 гг. Для творческого почерка Николая Ивановича Павленко как исследователя никогда не была свойственна подтасовка материала под свои выводы об описанном им времени. Картины прошлого, воссозданные Н. И. Павленко, потрясающе объективны, поэтому и другие историки, и читатель могут создать свое мнение об эпохе.
На страницах книги о царице Анне, дочери царя Ивана V, старшего единокровного брата и соправителя Петра I в 1682–1696 гг., читатель найдет также информацию о других действующих лицах эпохи – фаворите Бироне, его конкурентах по придворному успеху братьях Леванвольдах, кабинет-министрах, включая реального «серого кардинала» Андрея Ивановича Остермана, а также состоящего из всех пороков и достоинств одновременно кабинет-министра Артемия Петровича Волынского.
Книга написана прекрасным литературным языком, читается увлекательно, оставаясь при этом серьезным историческим исследованием.
Т.В. Черникова,
доктор исторических наук,
профессор кафедры всемирной
и отечественной истории
МГИМО МИД России
Н.И. Павленко
Анна Иоанновна
Глава I
Герцогиня Курляндская
Время, когда накануне женитьбы царя в Москву со всех концов страны свозили красавиц на выданье, чтобы из их числа он избрал пригожую, отошло в прошлое. Уже мать Петра Великого сама присмотрела невесту для сына – Евдокию Лопухину, но брак оказался недолговечным. По свидетельству современника, Евдокия, воспитанная по правилам архаичного Домостроя, хотя и была «лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом несходную своему супругу». В конечном счете она оказалась в монастырской келье – по обычаям того времени развод допускался в двух случаях: либо после доказанной измены супруги, либо в результате желания отказаться от мирской жизни и постричься в монахини.
Жизнь в келье не прельщала молодую красавицу, и ее насильно по повелению царя отправили в Суздальский монастырь, где она под именем инокини Елены должна была влачить унылую жизнь отшельницы, подвергнуться тяжелому испытанию, которого она не выдержала, вступив в интимную связь с капитаном Глебовым.
Вторую супругу Петр I выбирал уже сам, причем это была не боярышня и не дочь отличившегося каким-либо подвигом дворянина, а безродная пленница Марта, находившаяся в услужении у пастора Глюка и вместе с ним оказавшаяся трофеем русских войск, овладевших небольшой крепостью Мариенбург, где пастор имел приход.
Неизвестный художник.
Портрет императрицы Анны Иоанновны. XVIII в. Холст, масло.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
При Петре радикально изменилась судьба царских дочерей. До него выдавать их замуж было не принято – впереди была суровая и однообразная жизнь в тереме, где они занимались рукоделием, а развлекались пением – семейного счастья они были лишены, и царский терем становился для них постылой тюрьмой.
При Петре брачные отношения в царской семье кардинально изменились: дочери вместо затворнической жизни в тереме приобрели возможность выходить замуж, причем не за отечественных женихов, а за иностранных принцев. Равным образом и сына своего Алексея Петр женил не на русской красавице, а на иностранной принцессе – Софии Шарлотте – изуродованной оспой сестре супруги австрийского императора.
Брачным контрактам, таким образом, придавалось политическое значение, главенствовало желание породниться с европейскими дворами и приобрести еще один способ влияния на европейские дела. Правда, в представлении европейских держав Русское государство конца XVII – начала XVIII века еще сохранило репутацию варварской Московии, и среди кандидата в мужья не значились представители английского, испанского, датского и французского дворов.
Между тем в распоряжении Петра I находилось пять невест: три из них, племянницы, были дочерьми сводного брата Иоанна, и две дочери, достигшие брачного возраста, от второй супруги Петра Екатерины Алексеевны – так стала именоваться пленница Марта после принятия православия.
Иоанн Алексеевич был женат на Прасковье Федоровне Салтыковой, родившей пять дочерей: Марию, Феодосию, Екатерину, Анну и Прасковью. Две старшие дочери скончались в младенчестве, а три, точнее, две стали предметом политических комбинаций царя. Старшую, Екатерину, Петр выдал замуж за герцога Мекленбургского; среднюю, Анну, – за герцога Курляндского. Что касается младшей, Прасковьи Иоанновны, женщины внешне непривлекательной, то ей так и не удалось обрести жениха – она до 28 лет оставалась в девах и в 1724 году вступила в интимную связь с гвардии майором Иваном Ильичом Мамоновым. Любопытная деталь – за эту связь был наказан не Мамонов, а царский паж, выступавший сводником[1 - РА. 1887. № 10. С. 180, 181.].
Детство сестер протекало во дворце Прасковьи Федоровны, отличавшейся некоторыми странностями. Она, например, была неравнодушна к почестям, подчеркивавшим ее положение царицы, – при жизни царя Иоанна в ее штате насчитывалось одних только стольников 263 человека. После смерти Иоанна обширный штат придворных заменила челядь дармоедов – нищих богомольцев, богомолок, калек, уродов и юродивых. Среди этого сброда особым уважением царицы пользовался полупомешанный подьячий Тимофей Архипович, выдававший себя за пророка, к нелепым предсказаниям которого она чутко прислушивалась и даже гордилась тем, что такой необыкновенный человек нашел приют в ее доме. «Двор моей невестки, – говаривал Петр I, – госпиталь уродов, ханжей и пустословов».
Во дворце вдовы можно было наблюдать странное сочетание хлебосольства и гостеприимства с подсиживанием, мелкими интригами. Набожность в царице уживалась с беспредельной жестокостью.
Автор исследования о жизни царицы М. И. Семевский поведал об одном эпизоде, вызывающем неприязнь к этой беспощадно жестокой женщине.
Неизвестный художник.
Портрет царя Ивана Алексеевича.
Сер. XVIII в. Музеи Московского Кремля
Однажды в 1722 году фаворит Прасковьи Федоровны Василий Алексеевич Юшков уронил адресованное ему письмо царицы интимного содержания. Его поднял подьячий Василий Деревнин, решивший использовать послание против своего злейшего врага Юшкова. О находке Деревнина стало известно Юшкову и царице. Деревнин был схвачен, закован в пятипудовую цепь и 18 суток содержался в тюрьме царицы, но так и не признался в находке. Некоторое время спустя Деревнину, с 1715 по 1719 год управлявшему казной царицы, было предъявлено обвинение в хищении денег, и он оказался в застенках Тайной канцелярии. Царицу волновал не столько нанесенный ей материальный ущерб, сколько ее письмо к Юшкову. Разъяренная упорством Деревнина, царица, вооружившись тростью, отправилась в Тайную канцелярию, потребовала к себе Деревнина и самолично стала выбивать у него признание пытками: сначала она била его по лицу, затем велела снять рубашку и с побагровевшим от гнева лицом изуродовала ему спину. Не добившись признания, она прибегла к пыткам, вызвавшим удивление даже у видавших виды тюремщиков, тщетно уговаривавших ее не прибегать к ним. Тем не менее Прасковья Федоровна велела жечь бороду Деревнина свечой. Лицо жертвы было изуродовано до неузнаваемости, но царице так и не удалось добиться признания о месте нахождения злополучного письма.
Жестокостью отличался и брат царицы Василий Федорович Салтыков. О садизме Василия Федоровича было известно из-за его постоянных издевательств и непрестанных избиений своей супруги Александры Григорьевны, единственной дочери Григория Федоровича Долгорукого.
В 1719 году в Митаве свидетельницей свирепости Василия Федоровича стала Анна Иоанновна, и даже ее заступничество не помешало Александре Григорьевне быть в очередной раз так изувеченной супругом, что она была вынуждена бежать к своим родителям и жаловаться не только царице Екатерине Алексеевне, но и самому царю. Поскольку князь Григорий был известен Петру и истязателя ожидали неприятности, Прасковья Федоровна решила помочь брату. Она ему писала: «Братец, свет мой, пожалуй поберегися, чтобы тебя не извели или бы не убили… Она (Александра Григорьевна. – Н. П.) била челом, а челобитная писана по-прежнему, только прибавки: “хуже я вдовы и девки”; да еще пишет: “взял мою бабу и живет блудно” и бьет челом, блудного дела с тобой разойтися; к государю пишет просительное письмо, чтобы он миловал». Дело закончилось только в 1730 году разводом и пострижением Александры Григорьевны в монахини.
Мы подробно остановились на нравах царицы и ее брата в связи с тем, что в жилах Анны Иоанновны текла в том числе и кровь Салтыковых, людей свирепого и деспотичного нрава.
При обучении и воспитании Прасковья Федоровна руководствовалась домостроевскими наставлениями, но в то же время по собственной инициативе или по внушению царя держала учителей-иностранцев: немца Иоганна Дитриха Остермана и француза Рабурха. Видимо, оба иноземца готовили царевен к замужеству за принцев европейских дворов и заботились о знании языков и умении танцевать[2 - Семевский М. И. Царица Прасковья // Тайная служба Петра I. Минск, 1992. С. 45, 54, 71–84.].
Современники оставили скупые отзывы о сестрах. Первый из них принадлежит перу секретаря австрийского посольства И. Корбу, посетившего Измайлово в 1698 году вместе с послом, которого сопровождали музыканты. Он отметил, что «незамужние царевны, желая оживить свою спокойную жизнь, которую ведут они в волшебном убежище, часто выходят на прогулку в рощу и любят гулять по тропинкам, где терновник распустил свои коварные ветки. Случилось, что августейшие особы гуляли, когда вдруг до их слуха долетели приятные звуки труб и флейт; они остановились, хотя возвращались уже во дворец… Особы царской крови с четверть часа слушали симфонию, похвалили искусство всех артистов»[3 - Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 г. СПб., 1906. С. 158.].
Более обстоятельные сведения об Анне Иоанновне, относящиеся к 1710 году, обнаруживаем в дневнике датского посла Юста Юля: «В общем, они (дочери Прасковьи Федоровны. – Н. П.) очень вежливы и благовоспитанны, собою ни хороши, ни дурны, говорят немного по-французски, по-немецки и по-итальянски». Секретарь английского посла Ч. Витворта Л. Вейсброд все же выделил внешность Анны Иоанновны, которую среди трех сестер считал самой привлекательной. Иное впечатление о внешности сестер сложилось у испанского посла де Лириа, писавшего в начале 1730-х годов: «Герцогиня Мекленбургская Екатерина Иоанновна, сестра царицы Анны, чрезвычайно живого характера, не имеет скромности и откровенно высказывает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и легкомысленного поведения.
Принцесса Прасковья, вторая сестра царицы, отмечена способностями, очень дурна лицом и худощава, здоровья слабого. Прасковья глупа и имеет такую же склонность к мужчинам, как и сестра».
Затруднительно в наши дни решить, какой портретной зарисовке отдать предпочтение, какая из них наиболее соответствует оригиналу: быть может, Анна Иоанновна в свои 19 лет была более миловидной и привлекательной, чем два с лишком десятилетия спустя, но образ, запечатленный художником в 1730-х годах, не вызывает симпатий. Всматриваясь в ее лицо, мастер создания портретов далекого прошлого В. О. Ключевский описал словами отнюдь не привлекательную внешность императрицы: «Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе…» Скорее всего, все современники были правы, равно как прав был и Ключевский: молодость скрашивала неприглядную внешность царевен, обнаружившуюся в зрелом возрасте.
Никитин Иван Никитич.
Портрет Прасковьи Ивановны, племянницы Петра I. 1714 г.
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Весной 1710 года царь вызвал племянниц из Москвы в Петербург, для того чтобы приучить царевен к морю. Эту мысль почти одинаковыми словами выразили датский дипломат и токарь Петра А. К. Нартов, причем Юст Юль отметил пагубное влияние моря на путешественниц. «Женщины испытывали к морю отвращение… Тем не менее царь почти всегда берет их в плавание и предпочтительно в свежую погоду; запирает их наглухо в каюту, пока их хорошенько не укачает и не вырвет; тут только он доволен, так как в этом находит удовольствие и развлечение»[4 - Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 96.].
Царь пригласил племянниц не только ради морских прогулок, но главным образом чтобы скрепить семейными узами Анну Иоанновну с герцогом Курляндским. В июне состоялась церемония помолвки герцога и Анны Иоанновны.
Согласно старомосковским обычаям, будущий супруг мог увидеть свою невесту только за свадебным столом. До этого их судьбу решали либо родственники жениха и невесты, либо сваха. Случалось, на смотринах родителям жениха показывали подставную невесту, а в подлинной обнаруживались физические недостатки, но уже ничего нельзя было изменить.
Личное знакомство принцесс с принцами западноевропейских дворов тоже чаще всего происходило во время свадебных торжеств. До этого брачующиеся обменивались портретами, и внешняя привлекательность жениха и невесты могла зависеть от мастерства художника, его умения скрыть отсутствие привлекательности.
Церемония помолвки курляндского герцога Фридриха Вильгельма и Анны Иоанновны состоялась в июне 1710 года, причем в отсутствие герцога. Его персону представлял гофмаршал, просивший руки царевны от имени своего господина. Получив согласие царя, он передал невесте обручальное кольцо и портрет жениха, украшенный драгоценными камнями. Царь снял кольцо с руки племянницы для передачи его герцогу. В этой церемонии первостепенное значение имел не обмен кольцами, а брачный договор, предусматривавший финансовые обязательства сторон. Молодой герцог Фридрих Вильгельм предлагал включить в договор обязательства России вывести свои войска из Курляндии, не взыскивать с нее контрибуции, право Курляндии не вмешиваться в конфликты России с другими странами. Наконец, жених запросил 200 тысяч рублей приданого, выдаваемого единовременно.
Петр со всеми условиями герцога не согласился: главное изменение состояло в уменьшении суммы приданого – она была определена в размере 40 тысяч рублей, а остальные 160 тысяч Петр отдавал герцогу взаймы на выкуп заложенных им владений. Герцог обязался выдавать супруге на туалет и прочие мелкие расходы ежегодно по 10 тысяч ригсталеров, а в случае его смерти вдове причиталась ежегодная пенсия в 100 тысяч рублей.
Свадебные торжества, отличавшиеся необычайной для прижимистого царя пышностью, состоялись в ноябре 1710 года. На свадьбу было приглашено множество гостей. Обязанности маршала выполнял сам царь. Церемония происходила во дворце Меншикова, куда гости отправились на 40 шлюпках. Меншиков встретил жениха и невесту на пристани, обряд бракосочетания состоялся в часовне при доме князя. Венец над невестой держал Александр Данилович, а над женихом – царь. После обручения сели за стол, при каждом тосте раздавалось 13 выстрелов. Затем начались танцы, в 11 вечера новобрачных отправили в покои.
Торжества затянулись на две недели и разделились как бы на две части: свадьба герцога и Анны Иоанновны и свадьба карликов, устроенная в честь новобрачных, – торжество, введенное Петром Великим.
После брачной ночи за обедом было выпито 17 заздравных чаш, затем в зал внесли два огромных пирога, поставив их на двух столах. В каждом из них, когда их разрезали, находилось по карлице. Обе – во французском одеянии и с высокой прической. Одна из них произнесла приветственную речь в стихах, после чего царь схватил под мышку вторую карлицу и принес на стол, где сидели новобрачные. Обе, как писал Юст Юль, под музыку весьма изящно протанцевали менуэт. После трапезы зажгли фейерверк, устроителем которого был сам царь. Фейерверк высвечивал слова, обращенные к молодым супругам: «Любовь соединяет». Бал продолжался до ночи.
Свадебные празднества завершились 19 ноября пиром в резиденции герцога, а через три дня состоялся смотр карлов, свезенных со всей России. Их царь распределил среди вельмож и велел роскошно экипировать.
Свадьба карликов состоялась 25 ноября. Их привезли к царскому дворцу, оттуда – в крепость, где произошло венчание. Жених следовал вместе с царем, за ними шествовали внешне приличные пары карлов и карлиц, а заключали процессию самые безобразные пары с уродливыми физиономиями, огромными животами, кривыми ногами. Юст Юль отметил, что все это «походило на балаганную комедию».
Свадебные торжества происходили тоже в доме Меншикова, причем для карлов было изготовлено шесть маленьких овальных столов и соответствующих размеров стулья[5 - Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 256–263.].
В первой половине января 1711 года герцог решил отправиться на родину, но вследствие нескольких приступов лихорадки на несколько дней отложил поездку.
Закончился свадебный двухмесячный угар, и радость герцогини сменилась трагедией, коренным образом изменившей ее жизнь почти на два десятилетия, – по пути в Митаву герцог неожиданно занемог и умер. Историки не располагают подробностями об обстоятельствах и причинах смерти. В их распоряжении лишь краткая, ничего не разъясняющая информация иностранного дипломата: «Герцог выехал из Петербурга в добром здравии, но верстах в сорока отсюда внезапно заболел и умер»[6 - РИО. Т. 50. СПб., 1885. С. 401.].
После его смерти вдова продолжала путь в Митаву навстречу унижениям и материальным невзгодам. Дело в том, что брачный контракт оказался пустой бумагой – вдова не имела никаких юридических прав на собственность, в Курляндии в ее владении был лишь титул герцогини, а казной она не распоряжалась. Казну держал в нетвердых руках престарелый и ни к чему не способный дядя покойного – Фердинанд, назначенный герцогом польским королем.
Как жилось вдове на чужбине? Если ответить коротко, то несладко: чуждые ей нравы и обычаи, высокомерие местного дворянства – потомков тевтонских рыцарей, языковый барьер между герцогиней и придворными, постоянно испытываемые денежные затруднения, лишавшие ее возможности поддерживать престиж герцогини, – все это вело к отсутствию элементарного комфорта. Повторим, по брачному контракту герцогиня, если останется вдовой, должна была получать на содержание ежегодно пенсию в 100 тысяч рублей, но тощая казна герцогства не могла обеспечить ее получение, и Петр потребовал 28 коронных владений в обеспечение этой суммы. Управление имениями Петр I поручил Бестужеву, отправленному в 1712 году в Митаву.
Итак, герцогине приходилось рассчитывать лишь на финансовую помощь дяди, но Петр I не поощрял расточительности герцогини. А появившаяся у герцогини страсть к роскоши вела к постоянным и обременительным долгам.
Представление об условиях жизни герцогини в Митаве, ее чертах характера можно почерпнуть из ее писем. Перед нами практичная женщина, достаточно разумная, чтобы ориентироваться в хитросплетениях придворной жизни Петербурга и использовать ситуацию в своих интересах. Она всегда знала, к кому можно обратиться с просьбой, кому достаточно письмеца с новогодним поздравлением, кто находится в опале и поэтому поддержание связей с ним грозит бедой. В ее письмах поражает способность униженно клянчить, подлаживаться, использовать все рычаги воздействия на того, от кого она ожидала помощи. Особенно эту способность Анны Иоанновны иллюстрируют ее письма к Меншикову и членам его семьи.
А. Д. Меншиков был тем корреспондентом, к которому герцогиня чаще, чем другим, отправляла послания в первое десятилетие своего пребывания в Митаве. Анна Иоанновна не считала бесполезным писать и супруге светлейшего, и даже ее сестре Варваре Михайловне, оказывавшей, как известно, большое влияние на князя. Обычно ее послания нельзя было назвать деловыми – это скорее напоминания о своем существовании – поздравления с наступающим Новым годом, церковными праздниками, днями рождения и тезоименитства, как правило, остававшиеся без ответа. Единственная и часто повторяемая просьба к Меншикову состояла в том, чтобы он не оставил «своей любви к матушке и сестрице», то есть к Прасковье Федоровне и ее дочери Прасковье Иоанновне.
Поздравительные записочки она отправляла и членам царствовавшей фамилии: Петру, Екатерине Алексеевне, сыну Петру Петровичу и дочерям Анне и Елизавете; своего «дядюшку» просьбами она обременять не осмеливалась и даже поздравления не всегда адресовала лично ему, а использовала в качестве посредницы Екатерину Алексеевну. К супруге царя герцогиня несколько раз обращалась с жалобами на своих недругов, которые нанесли урон ее репутации добропорядочной вдовы, чем вызвала такой гнев у строгой и жестокой ее матери, что та едва ее не прокляла.
Гнев царицы, отличавшейся, как мы видели, неукротимым нравом и свирепостью, был обусловлен двумя обстоятельствами. Одно из них было связано с интимными отношениями дочери с Петром Михайловичем Бестужевым-Рюминым, отправленным Петром, как выше упоминалось, для управления имениями герцогини, для присмотра за ее поведением и для защиты от нападок местного дворянства. Бестужев-Рюмин взвалил на себя еще одну обязанность – стал фаворитом герцогини.
Царица Прасковья осуждала безнравственность дочери, но сама, согласно молве, не блюла супружеской верности: отцом трех ее дочерей считался управляющий двором и имениями Василий Алексеевич Юшков – именно ему будто бы уступил супружеские права болезненный и слабоумный Иоанн Алексеевич. Допустим, Прасковья Федоровна могла вступить в интимную связь с Юшковым по принуждению – царевна Софья склонила ее к измене по политическим мотивам, так как была заинтересована в появлении наследника, но Прасковья Федоровна, к ее огорчению, рожала дочерей.
В конце концов царице так и не удалось обрезать крылья молве, порочившей ее репутацию добропорядочной супруги. Воспоминания о грехах молодости не смягчили ее требовательности к дочери. Бестужев, кроме того, по неизвестным нам причинам ни у царицы, ни у ее брата Василия Федоровича расположением не пользовался.
К тому же в 1719 году в Митаве Анна Иоанновна предприняла попытку укротить бешеный нрав дяди, до полусмерти избившего супругу, так что та вынуждена была бежать к своим родителям в Варшаву. Злобный братец пожаловался сестрице на вмешательство племянницы в его семейные дела, вызвал сочувствие царицы и поссорил ее с дочерью.
Царица Прасковья прекратила общение с дочерью. Та пожаловалась Екатерине Алексеевне, представив виновником ссоры с матерью Василия Федоровича Салтыкова, «который здесь бытностию своею многие мне противности делал как словами, так и публичными поступками», в частности «сердился на меня за Бестужева». Между тем «я, – оправдывалась герцогиня в 1719 году в письме к Екатерине, – от Бестужева во всем довольна и в моих здешних делах он очень хорошо поступает». Из писем матери к дочери явствует, что Салтыков обо всем доложил царице и «мошно видеть по письмам, што гневна на меня». Через Екатерину Анна Иоанновна обращалась с просьбой и к «батюшке-дядюшке», чтобы тот устроил ее брачные дела, «дабы я больше в сокрушении и терпении от моих злодеев ссорою к матушке не была»[7 - Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 41, 42.].
Прошло несколько месяцев, и матушка не только не укротила своего гнева, но и прервала переписку с дочерью. Герцогиня дважды в 1720 году извещала Екатерину, что «ко мне уже великое время от государыни, моей матушки, писем нет», «что я животу своему не рада» и настолько огорчена, что «лутче б я на свете не была или б услышала, чтоб его, Василья Салтыкова, при матушке не было».
Стараниями Екатерины все же удалось помирить строптивую мать с дочерью, но потребовалось четыре года, чтобы Прасковья Федоровна простила накануне своей кончины блудную дочь, что явствует из письма Анны Иоанновны к Екатерине от 18 октября 1723 года: «Получила я письмо от государыни-матушки, в котором изволит ко мне писать, что очень она, государыня, моя матушка, недомогает, и ежели я в чем пред нею, государыней-матушкой, погрешила для вашего величества милости, меня изволит прощать, за которую вашего величества милость матушка государыня тетушка всенижайше благодарствую». Екатерина Алексеевна выступала в привычной для себя роли посредницы, и герцогиня знала, что она обязана примирением с матерью только ей.
Единственное письмо-«слезницу» герцогиня осмелилась отправить и самому дядюшке. В пространном послании к Петру I она жаловалась на свою бедность. Ее доходы столь ничтожны, что она может содержать только поварню, конюшню, слуг и драгунскую роту, а обеспечить себя платьем, бельем, кружевами, также алмазами и серебром лишена возможности. Бедность, жаловалась герцогиня императору, роняла ее престиж и влияние, ибо «партикулярные шляхетские жены ювели (ювелирные изделия. – Н. П.) и прочие уборы имеют неубогие, из чего мне в здешних краях не бесподозрительно есть». Откликнулся ли Петр I на мольбу племянницы – прямых свидетельств нет.
Выше мы отмечали подобострастную тональность писем Анны Иоанновны не только к светлейшему, но и к членам его семьи. Так продолжалось до тех пор, пока князь пребывал в силе, пользовался доверием Петра I. Случилось, однако, что он оказался в полуопальном положении – в 1720 году возникло Почепское дело, обнаружившее беспредельную алчность Александра Даниловича, и он уже не мог быть полезен герцогине. Она посчитала, что из общения с ним не только нельзя извлечь выгоды, но можно и накликать беду. Опасность вызвать гнев раздражительного царя вынудила ее прекратить переписку с Меншиковым и членами его семьи.
За время, когда Меншиков, по образному выражению современника, пребывал «с петлей на шее», Анна Иоанновна обрела нового покровителя. Им оказался Андрей Иванович Остерман – после смерти Петра I восходящая звезда на политическом небосклоне. 9 февраля 1725 года герцогиня отправила первое послание Остерману с извещением о прибытии в Москву обер-камер-юнкера Бирона с поручением поздравить Екатерину Алексеевну с восшествием на престол. Поскольку ей, Анне Иоанновне, известна склонность к ней Остермана, то она просила его «ежели что станет сказываться о курляндском моем деле, всякое благодеяние и вспоможение к пользе моей учинить».
Если послания Анны Иоанновны в подавляющем большинстве случаев не удостаивались ответа, то Андрей Иванович откликнулся на просьбу герцогини, что явствует из ее письма с выражением благодарности, отправленного через Бирона бароном Остерманом. Из него она уведомлялась «о многих ваших ко мне благосклонностях, за что и за обнадеженную впредь ко мне склонность по-прежнему благодарствую»[8 - Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 52, 53, 123, 124, 139.].
Герцогиня завела еще одного влиятельного покровителя – графа Левенвольде. До Митавы докатились слухи, что императрица, будучи тяжело больной, все же обзавелась фаворитом и ее выбор пал на молодого, но недалекого красавца графа. Первое письмо к Левенвольде датировано 18 октября с пустяковой просьбой напомнить императрице, что та обещала ей прислать «потрет», но до сих пор она его не получила. В другом письме Анна Иоанновна благодарила фаворита императрицы «за показанную вашу ко мне любовь в Петербурге».
Левенвольде не утратил влияния при дворе и после смерти Екатерины I. В июне 1728 года Анна Иоанновна благодарила его на этот раз «за вашу ко мне склонность в бытность в Москве» и просила его быть посредником в передаче своих посланий Петру II[9 - РС. 1884. № 11. С. 375–380.].
Ни Остерман, ни Левенвольде не могли соревноваться с Меншиковым по влиянию на преемников Петра I на троне. Положение Александра Даниловича настолько упрочилось, а власти настолько прибавилось, что А. С. Пушкин вполне справедливо назвал его «полудержавным властелином» – и при Екатерине I, и при Петре II вплоть до своего падения в 1727 году он был хотя и несамостоятельным (за его спиной стоял Остерман), но фактическим главой государства.
Эти два года были столь знаменательными и насыщены такими драматическими событиями в жизни Анны Иоанновны, что заслуживают подробного описания. Вновь обрел право оказывать влияние на судьбу Курляндской герцогини Александр Данилович, причем право обширное, которым он ранее не располагал.
Во время пребывания в Митаве Анне Иоанновне довелось столкнуться унылой вдовьей жизни. И это несмотря на ее страстное желание выйти замуж и на наличие множества женихов.
Вереницу женихов составляли ландграф Гессен-Гомбургский, принц Ангальтцербский. Замыкал список саксонский генерал-фельдмаршал граф Флеминг. Среди претендентов на супружество с Анной Иоанновной наиболее серьезным считался племянник прусского короля граф Карл Бранденбургский, с которым в 1718 году был заключен даже брачный договор, так и оставшийся нереализованным[10 - Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. С. 216.].
Вдовья жизнь опостылела герцогине, она была разменной монетой в руках русского правительства. Супругов в какой-то мере заменяли фавориты, но она горячо желала обзавестись семьей.
Первым фаворитом Анны Иоанновны, как отмечалось выше, был П. М. Бестужев-Рюмин. Когда его место занял Бирон, Петр Михайлович был крайне огорчен и с сожалением извещал об этом свою дочь княгиню Волконскую: «Я в несносной печали, едва во мне дух держится, потому что чрез злых людей друг мой сердечный (Анна Иоанновна. – Н. П.) от меня отменился, а ваш друг (Бирон. – Н. П.) более в кредите остался»[11 - Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. Кн. X. М., 1993. С. 130.]. Отставку фаворита герцогиня компенсировала хлопотами у императрицы о пожаловании Бестужеву чина тайного советника, ибо он «чина не имеет, что от здешних людей ему подозрительно». С аналогичной просьбой герцогиня обратилась в конце февраля 1725 года, то есть после смерти Петра I, к Остерману, чтобы тот напомнил об этой просьбе кабинет-секретарю А. В. Макарову[12 - Письма русских государей… С. 118, 130, 142, 143.].
Бирон в это время еще не занял в сердце вдовы места, которое он завоевал несколько лет спустя, а Анна Иоанновна не утратила интереса к замужеству. Возможность выйти замуж появилась в 1726 году. Анна Иоанновна отдавала отчет, что это был последний шанс приобрести законного супруга – ей перевалило за 30. Вероятно, такими же мотивами руководствовался и Мориц Саксонский, предложивший ей руку и сердце. Этот известный всей Европе повеса был внебрачным сыном Августа II и графини Авроры Кенигсмарк. 8 октября 1696 года у них родился сын, которого в честь первой встречи родителей в замке Морицбург нарекли Морицем. В 1711 году Август II признал Морица своим сыном, пожаловал графский титул и женил на самой богатой невесте Саксонии. Супруг оказался человеком крайне легкомысленным: в несколько лет промотал состояние супруги, развелся с нею, волочился за многими дамами, подобно родителю без труда завоевывал их сердца и, вдоволь натешившись громкими амурными похождениями в западноевропейских столицах и игрой в войну, наконец решил обрести пристанище. Для полного счастья ему недоставало самой малости – знатной супруги и семейного уюта. Выбор пал на Анну Иоанновну, которая заинтересовала красавца мужчину не женскими прелестями, а приданым, то есть герцогством Курляндским, вместе с которым он при помощи отца рассчитывал получить титул герцога.
Граф Мориц, с которым она ранее не была знакома, приглянулся ей с первого взгляда, и она поспешила обратиться к Меншикову и Остерману с просьбой содействовать осуществлению своей мечты.
Однако шанс стать супругой Морица Саксонского так же быстро исчез, как и появился: брак и на этот раз расстроился по политическим мотивам, герцогиня вновь стала разменной монетой. Дело в том, что за Анной Иоанновной значилось такое приданое, как герцогство, на которое одновременно претендовали три соседних государства: Речь Посполитая, за которой Курляндия формально числилась, Пруссия и Россия. Между тем брачные узы Анны Иоанновны с Морицем Саксонским пресекали все поползновения алчных соседей, полагавших, что в случае заключения брачного контракта с Морицем Курляндия станет провинцией Саксонского курфюршества. Эта опасность сплотила соседей в намерении противодействовать планам Августа II и его сына, причем наиболее непримиримую позицию занимала Россия.
Анна Иоанновна была далека от европейских политических интриг и не подозревала, сколь бессмысленно и бесполезно было обращаться за помощью в устройстве ее брачных дел к Александру Даниловичу, как раз претендовавшему на герцогскую корону.
Меншиков появился в Курляндии добывать корону с большим опозданием – курляндский сейм единогласно избрал герцогом Морица Саксонского 18 июня 1726 года, а инструкция русскому послу в Варшаве В. Л. Долгорукому о противодействии избранию была отправлена из Петербурга только 23 июня. Деликатность поручения Долгорукого, которому должен был оказывать всемерную помощь Бестужев, состояла в том, что депутаты, избрав Морица герцогом, разъехались по домам – им надлежало вновь прибыть в Митаву, чтобы дезавуировать только что принятое постановление.
Поближе к месту событий, в Ригу, 27 июня прибыл и Меншиков, а ранним утром следующего дня там появилась и Анна Иоанновна. Можно представить, чего стоила герцогине эта встреча с князем. С одной стороны, у нее было неукротимое желание выйти замуж за Морица, а с другой – она понимала свое бессилие противостоять натиску светлейшего. Если верить версии А. Д. Меншикова, то герцогиня не только не оспаривала его притязаний на корону, но с величайшей радостью отказалась от замужества. Она, извещал Меншиков свою супругу 29 июня 1726 года, «кажется с великою охотою паче всех желает, чтобы в Курляндии быть князем мне, и обещала на то всех курляндских управителей и депутатов склонить». Другое письмо, адресованное князем императрице, свидетельствует о лживости этого утверждения. В нем он сообщал, что Анна Иоанновна «с великою слезною просьбою» умоляла его ходатайствовать перед императрицей, чтобы та разрешила ей выйти замуж за Морица Саксонского.
Вдовьей мольбе и слезам Меншиков противопоставил три аргумента в пользу отказа от замужества. Первый и главный состоял в том, что утверждение Морица на герцогском троне противоречит интересам России, а избрание герцогом его, Меншикова, напротив, в полной мере соответствует им. Другой довод, в особенности в устах выскочки, звучал менее убедительно: «Ее высочеству в супружество с ним вступать неприлично, понеже тот рожден от метрессы», а не от законной жены. Про запас у Александра Даниловича был еще один довод: если герцогом будет избран он, Меншиков, то ей будут гарантированы права на ее курляндские владения. «Ежели же другой кто избран будет, то она не может знать, ласково ль с ней поступать будет и дабы не лишил ее вдовствующего пропитания».
Если опираться на донесения Меншикова, то его беседа с герцогиней велась в интимном и доверительном ключе: ни выкручивания рук, ни угроз, ни торга не было. В действительности главный аргумент, на который уповал князь, была сила, а в распоряжении герцогини были только слезы.
К находившемуся в Риге Меншикову прибыли Долгорукий с Бестужевым и донесли, что притязания его безнадежны. Тогда князь решил сам отправиться туда, где находилась корона, – в Митаву. Результаты его четырехдневного пребывания в столице Курляндии были малоутешительными. Тем не менее он, либо обманывая себя, либо утешая супругу, писал ей: «Здешние дела, кажется, порядочно следуют, а так ли окончатся, как ее величеству угодно – не знаю. А по обращении здешней шляхты многим о Морице быть отменам». «Отмены», однако, не состоялись, и ни Александр Данилович, ни Мориц Саксонский не водрузили на головы герцогской короны. Но пребывание в Митаве убедило Меншикова в одном – его агенты, на которых возлагалась главная забота об избрании его герцогом, действовали недостаточно энергично. У каждого из них были на то серьезные основания.
Князь Долгорукий долгое время жил за пределами России и успел привыкнуть к светской роскоши и блестящему обществу. В последнее время он был послом в Варшаве, а теперь после веселой и беззаботной жизни, где балы чередовались с маскарадами и зваными обедами, ему довелось сидеть в такой дыре, где хотя и был двор, канцлер и министры, но за всей этой опереточной мишурой проступали бедность и затхлая атмосфера глубокого европейского захолустья. В одном из писем к А. В. Макарову он писал: «О здешнем вам донести нечего, кроме того, что живу в такой скуке, в какой отроду не живал. Ежели б были у окон решетки железные, то б самая была тюрьма, но только того не достает. Коли час бывает покойный, нельзя найти никакого способу чем забавитца, такая пустота».
У князя Долгорукого была и другая причина инертного поведения во время избирательной кампании в пользу Меншикова – в душе он презирал светлейшего и к его домогательствам симпатий питать не мог.
У Бестужева тоже не было стимула стараться в пользу избрания Меншикова, ибо он не без оснований полагал, что если он станет герцогом, то ему, Бестужеву, грозила утрата должности обер-гофмейстера, то есть лишение теплого и доходного местечка.
Мы подробно остановились на этом эпизоде, чтобы ярче осветить степень унижения, четко вырисовывавшегося в письмах Анны Иоанновны за 1727 год. Герцогиня, несомненно, считала главным виновником несостоявшегося счастья Меншикова. Тем не менее подавила чувство обиды. Жертвуя самолюбием и собственным достоинством, Анна Иоанновна после помолвки дочери Александра Даниловича Марии с Петром II 3 июня отправила князю письмо, в котором ему прочли следующие слова: «Я истинно от всего сердца радуюсь и вашей светлости поздравляю». Более того, герцогиня обещала быть «послушной и доброжелательной». Через неделю новое послание будущему тестю императора. Забыв о неприятностях, доставленных ей князем, она льстит ему и наперекор истинным чувствам, к нему питаемым, пишет: «Как прежде я имела вашей светлости к себе многую любовь и милость».
На новую ситуацию в столице, связанную с восшествием на престол Петра II, Анна Иоанновна не замедлила отреагировать. Появляются новые влиятельные корреспонденты: Петр II и его сестра Наталья Алексеевна, с мнением которой, как было всем известно, все же считался отрок-император, прославившийся бесшабашным времяпровождением.
В письмах к Наталье Алексеевне Анна Иоанновна пыталась вызвать чувство жалости и сострадания. «О себе ваше высочество нижайше доношу, – обращалась герцогиня к сестре императора в августе 1728 года, – в разоренье и в печалех своих жива. Всепокорно, матушка моя и государыня, прошу не оставить меня в высокой и неотменной вашего высочества милости, понеже вся моя надежда на вашу высокую милость».
Зная пристрастие Петра II к охоте, Анна Иоанновна пытается завоевать его расположение подарком, которым он должен остаться доволен. «Доношу вашему высочеству, – писала она царевне Наталье, – что несколько собак сыскано как для его величества, так и для вашего высочества, а прежде августа послать невозможно: охотники сказывают, что испортить можно, ежели в нынешнее время послать. И прошу ваше высочество донести государю-братцу о собаках, что сысканы и еще буду стараться».
Иоганн Ведекинд.
Портрет Петра II. 1730-е гг.
Самарский областной художественный музей, Самара
Помимо выражения угодничества Анна Иоанновна обращалась к князю и с деловой просьбой вернуть Бестужева в Митаву. Меншикову все же удалось его отозвать, и теперь герцогиня мобилизует все свои связи, чтобы Бестужев вновь отправлял свою должность – «ведал мой двор и деревни». Анна Иоанновна обращается к Дарье Михайловне Меншиковой, ее сестре Варваре Михайловне, нареченной невесте Петра II Марии Александровне с одной и той же просьбой – ходатайствовать перед светлейшим отпустить Бестужева, «понеже мой двор и деревни без него смотреть некому». К ходатаям перед Меншиковым она подключает и А. И. Остермана, чтобы «попросить за меня супругу у его светлости».
Если верить письмам Анны Иоанновны, то Петр Михайлович незаменим. «Бог свидетель, – повествует она Дарье Михайловне, – что я во всем разорилась, понеже он о всем знает в моем доме и деревнях».
9 сентября 1727 года Меншиков пал. Его ссылка вызвала к жизни три новшества. Если еще в конце июня Анна Иоанновна считала Меньшикова «милостивым моим патроном» и заверяла, что «матушка моя и я из давних лет вашей светлости милостию и протекцией содержини были», теперь, когда 16 сентября его везли в ссылку в Ранненбург, она жаловалась на него Петру II на запрещение князя прибыть на его коронационные торжества, а 18 ноября повторила жалобу в более резкой форме: князь «по злобе на меня не хотел меня до той радости допустить».
Вторая новость состояла в смене патронов – теперь им стал А. И. Остерман. К нему она обращается с просьбой отпустить Бестужева, причем в адрес своего обер-гофмейстера не жалеет комплиментов: она остается им «весьма довольной», «я к нему привыкла, а другому никому не могу поверить». Не преминула она и возможностью обругать своего бывшего патрона: «В прошлом и в нынешнем году князь Меншиков зделал мне многие обиды».
Третья новость не связана с падением Меншикова, но она заслуживает упоминания, поскольку позволяет взглянуть на личность герцогини еще с одной стороны: она раскрывает такую черту ее натуры, как беспечность, нежелание, видимо из-за лени, вникать в состояние своего небольшого хозяйства. Это важно в связи с тем, что ей судьба уготовила управление огромной империей.
Убедившись в бесплодности просьб, герцогиня поручила управление хозяйством камер-юнкеру Корфу. Тот, после ознакомления с делами, доложил герцогине, что состояние хозяйства настолько безысходное, что Анна Иоанновна пришла в отчаяние и с призывом о помощи обратилась ко всем, от кого ее могла ожидать: к Наталье Алексеевне, к императору, к А. И. Остерману. 3 августа 1728 года Анна Иоанновна в самой общей форме известила Наталью Алексеевну, что «в разоренье и печалех своих жива», а в следующем письме объяснила причину своей печали: «По необходимой моей нужде послала моего камер-юнкера Корфа в Москву, велела донести его императорскому величеству, каким образом меня разорил и расхитил Бестужев». Просила откликнуться на то, о чем будет просить Корф. 24 августа она отправила письмо и Петру II: «…во всей покорности представляю, каким образом прежний мой обер-гофмейстер обманом поступал… меня расхитил и в великие долги привел». Остермана она извещала в октябре, что даже заболела: стала «слаба в своем здоровье и ныне пью воды перемунтские».
В ответ на жалобы Анны Иоанновны была создана комиссия для расследования обвинений Бестужева. На поверку оказалось, что дело не было таким однозначным, как его изображала герцогиня, – Бестужев выдвинул встречные претензии к Анне Иоанновне, и следствие затянулось. В январе 1729 года герцогиня просила вице-канцлера Остермана ускорить работу комиссии, «понеже вашему превосходительству известно, что я разорена, а ныне мой камер-юнкер в Москве и ежели еще долго пробудет, и не без убытку ево содержать так долго»[13 - Письма русских государей… С. 214, 224, 249, 252, 254, 259.].
Похоже, Анна Иоанновна сгущала краски, жалуясь на свое бедственное положение. Дело в том, что в феврале 1728 года герцогиня при посредничестве Остермана получила из казны вместо 5875 рублей 12 тысяч, то есть столько, сколько получала ее сестра. Это была единовременная помощь, а Анна Иоанновна пожелала превращения ее в постоянную, «чтоб я не была обижена против их». Поэтому вполне возможно предположить, что ссылкой на свое разорение Анна Иоанновна, привыкшая попрошайничать, стремилась разжалобить корреспондентов, вызвать сочувственное к себе отношение.
Сохранившиеся источники далеко не в полной мере раскрывают натуру Анны Иоанновны в годы пребывания ее в Курляндии. Мы мало осведомлены о ее личной жизни и еще меньше о жизни двора и о ее отношениях с местным дворянством. Но то, что известно, дает основание для однозначно отрицательного ответа на вопрос о степени ее подготовки для управления сложным правительственным механизмом огромной империи. Вместе с тем перед нами предстает практичная женщина, зорко следившая за придворной жизнью в Петербурге, умевшая ориентироваться в расстановке сил при дворе и безошибочно определить, кто может быть ей полезен в данный момент. Но житейская мудрость не компенсировала отсутствия мудрости государственного деятеля.
Глава II
Императорская корона на голове герцогини
В то время как в январские дни 1730 года в Митаве уныло текла сонная жизнь, лишь изредка нарушаемая мелкими придворными интригами, в Москве произошло событие, всколыхнувшее не только русский, но и иностранные дворы, и особенно маленькой Курляндии, круто изменившее положение ее герцогини Анны Иоанновны, – в Лефортовском дворце старой столицы агонизировал пятнадцатилетний император России Петр II. Его ослабленный организм не мог оказать сопротивления опаснейшей в те времена болезни, уносившей множество детских жизней не только в России, но и в Европе, – оспе.
Здоровье императора еще до злополучной оспы не было крепким, что отмечалось неоднократно иностранцами, в частности английским резидентом Клавдием Ронда, доносившим 4 августа 1729 года в Лондон: «Юный государь совершенно оправился от последствий болезни». В декабре того же года Петр II «был нездоров в течение четырех-пяти дней»[14 - РИО. Т. 66. СПб., 1889. С. 71, 115.].
Если кратковременные болезни царя привлекли внимание лишь английского дипломата, ибо он вел важные переговоры о заключении союзного договора между Россией и Англией, то течение рокового недуга, вызвавшего смерть царя, запечатлено многими дипломатами, каждый из которых вносил свою лепту в описание события. Датский посол Вестфален доносил, что 16 января медики считали жизнь царя вне опасности – «вся сыпь высыпала наружу», но ошиблись, ибо в ночь с 16 на 17 «снова показалось множество оспин в горле и даже в носу, что мешало ему дышать».
Французский посол Маньян дополнил эти сведения информацией о том, что инфекция оспы была занесена во дворец Долгорукими, в семье которых несколько человек были заражены ею.
Маньяну была известна еще одна подробность: 11 января царь отправился к невесте (Екатерине Долгорукой. – Н. П.) и «почувствовал там сильную головную боль, что заставило его возвратиться в свои покои»[15 - РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 447.].
Испанский посол де Лириа в депеше назвал день начала болезни царя – 6 января. «На третий день выступила оспа в большом обилии, и до ночи 28-го числа все показывало, что она будет иметь хороший исход; но в этот день она начала подсыхать, и на больного напала такая жестокая лихорадка, что стали опасаться за его жизнь. Вчера весь день он чувствовал себя весьма дурно, лихорадочные припадки повторялись, вечером составили его завещание и принесли ему на подпись; но было уже не время, потому что у него отнялся язык, и после непродолжительной агонии он испустил дух в получасе второго до полуночи»[16 - Осмнадцатый век. Кн. 3. М., 1869. С. 27.].
Виновниками смерти юноши считали Долгоруких, и не только потому, что от кого-то из них он заразился оспой, но и потому, что жертвой ее стал организм отрока, жизненные ресурсы которого в эгоистических целях они неразумно растрачивали.
Обстоятельнее всех причины преждевременной смерти Петра II описал Вестфален: «Тот образ жизни, который вел юный монарх России, пребывания на охоте с утра до ночи, невзирая ни на какую погоду, неправильность в еде, целые ночи, проводимые в танцах, вследствие этого недостаток сна, привычка пить холодное, разгорячившись, все это заставило меня постоянно опасаться за его жизнь»[17 - РС. 1909. № 1. С. 200. 5РИО. Т. 66. С. 19.].
Английский консул Томас Уорд был солидарен с Вестфаленом: в донесении, относящемся к 1728 году, когда в августе в очередной раз заболел Петр II, он писал: «Болезнь эта, вероятно, явилась последствием беспорядочной жизни, которой молодой монарх, по-видимому, предается всем пылом юности и бесконтрольной власти».
Дипломаты справедливо отмечали беспредельную страсть Петра к охоте – ради удовлетворения этой страсти он неделями и даже месяцами в знойное летнее время, зимнюю стужу и осеннюю слякоть носился по полям и лесам ближнего и Дальнего Подмосковья.
Наблюдательный английский резидент справедливо отметил: «Царь думает исключительно о развлечениях и охоте, а сановники о том, как бы сгубить один другого»[18 - РИО. Т. 66. С. 19.].
Страсть царя к охоте подогревал князь Алексей Григорьевич Долгорукий через посредничество своего сына Ивана, являвшегося фаворитом Петра II. Иван Алексеевич Долгорукий с 1708 года жил в Польше и возвратился в Россию в 1725 году. Екатерина I определила его гоф-юнкером при дворе внука Петра Великого Петра Алексеевича, будущего Петра II. Красивый юноша, предприимчивый в изобретении удовольствий, приглянулся юному наследнику, приблизившему его к себе.
Меншиков, зорко следивший за усиливавшимся влиянием князя Ивана на наследника, решил ослабить это влияние назначением Долгорукого камер-юнкером при герцоге Голштинском, обязав его быть переводчиком с русского на немецкий. Этого оказалось недостаточно, чтобы разорвать прочные связи, установившиеся между двумя молодыми людьми, и Александр Данилович добивается привлечения князя Ивана к делу Толстого – Девиера (Толстой и Девиер в 1727 году предприняли попытку лишить Меншикова его положения при дворе) и наказания для него в виде отлучения от двора и отправки в полевые полки с понижение в чине.
С падением Меншикова и воцарением Петра II Иван Долгорукий вновь оказался в фаворе, получил чин обер-камергера и был пожалован Андреевской лентой, а отец его князь Алексей Григорьевич получил 12 тысяч крестьянских дворов. С этого времени началось безграничное влияние князя Ивана, а через него и Долгоруких на Петра II[19 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 77.].
Сохранилось множество отзывов современников об Иване Алексеевиче Долгоруком, но только один из них положительный. Мы не знаем, какую услугу оказал молодой князь герцогу де Лириа, но последний счел нужным отметить его доброту: князь Иван «отличался добрым сердцем. Государь его любил так тесно, что делал для него все, что хотел»[20 - РС. 1873. Т. VIII. С. 39.]. Все остальные современники, русские и иностранные, отмечали пагубное влияние фаворита на царя, называли его наставником в пороках.
Вице-президент Синода Феофан Прокопович считал, что фаворит «пагубу паче нежели роду своему приносит. Понеже бо и природою был злодерзостен; он сам на лошадях, окружен драгунами, часто по всему городу, необычным стремлением, как бы изумленный скакал, но и по ночам в честные домы вскакивал – гость досадный и страшный, и до толикой продерзости пришел, что кроме зависти нечаянной славы уже праведному всенародному ненавидению как самого себя, так и всю фамилию свою аки бы нарочно подвергал…»[21 - Феофан Прокопович. История об избрании на престол Анны Иоанновны // Сын отечества. Ч. 184. № 5. СПб., 1873. С. 31, 32.].
Поверенный в делах Франции Маньян был невысокого мнения об интеллекте фаворита: «Умственные способности этого временщика, говорят, посредственные и недостаточно живые, так что он мало способен сам по себе внушить царю великие мысли». Напротив, фаворит, будучи сам развратником, развивал дурные наклонности и у царя. К. Рондо доносил: «Князь Долгорукий, человек лет двадцати. С ним государь проводит дни и ночи, он единственный участник всех очень частых разгульных похождений императора»[22 - РИО. Т. 66. С. 5.]. Известный историк и публицист второй половины XVIII века князь М. М. Щербатов хотя и не был свидетелем похождений князя, но донес до нашего времени описание одного из его непристойных амурных похождений – о его интимной связи с супругой князя Никиты Юрьевича Трубецкого, урожденной Головкиной, дочерью канцлера: «Князь Иван не только без всякой закрытости с нею жил, но и при частых съездах у князя Трубецкого с другими своими молодыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора и с терпением стыд своей жены сносящего. И мне самому случалось слышать, – продолжал Щербатов, – что единожды он, быв в доме сего князя Трубецкого по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец выкинуть его в окошко и если бы Степан Васильевич Лопухин, свойственник государя по бабке его, Лопухиной, первой супруге Петра Великого, бывший тогда камер-юнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукого, сему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было»[23 - Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. С. 178, 179.].
Интимные связи Ивана Долгорукого с супругой Трубецкого приобрели скандальную известность и могли стать одной из причин опалы фаворита. Об этом 30 сентября 1729 года доносил К. Рондо: «Фаворит князь Долгорукий некоторое время был в немилости, одни говорят вследствие угроз князю Трубецкому, другие уверяют, будто его думали сослать в Сибирь, чтобы помешать любовной интриге его с княгиней Трубецкой, наконец, некоторые с большим основанием полагают, что немилость князя вызвана замыслом его женитьбы на великой княжне Елизавете Петровне». Фаворит приобщил к разврату и царя, бывшего на пять лет моложе его, о чем сообщал де Лириа: «Петр II любил прекрасный пол и даже полагают, что он испытал наслаждения»[24 - РС. 1873. Т. VIII. С. 38.].
Пагубное влияние князя Ивана на царя пыталась предотвратить его старшая сестра Наталья Алексеевна, девушка, по отзывам современников, проницательная, бывшая единственным человеком, к мнению которого иногда прислушивался император. Она видела, к каким пагубным последствиям могла привести дружба брата с князем. Накануне своей смерти от чахотки царевна, по свидетельству К. Рондо, «в самых горячих выражениях представляла брату дурные последствия, которые следует ожидать и для него самого и для всего народа русского, если он и впредь будет следовать советам молодого Долгорукого, поддерживающего и затевающего всякого рода разврат. Она прибавила, что и больна от горя, которое испытывает, видя, как его величество, пренебрегая делом, отдается разгулу. Петр II, чтобы утешить больную, скончавшуюся 29 ноября 1729 года, обещал исполнить волю умирающей, но со смертью царевны он изменил слову, и князь теперь в милости больше, чем когда-нибудь»[25 - РИО. Т. 66. С. 28.].
Действия фаворита, которые направлял его отец, не представляли загадки, ее без особого труда разгадывали современники.
Напомним, князь А. Г. Долгорукий был близок к осуществлению плана женитьбы Петра на своей дочери Екатерине. Напомним также, что он повторял замысел А. Д. Меншикова связать брачными узами императора со своей дочерью Марией. Долгорукие не только повторили затею Меншикова, но и способ ее реализации – чтобы избежать случайного увлечения Петра другой особой либо оградить его от постороннего влияния на юного царя стать под венец с дочерьми, оба потенциальных тестя стремились изолировать жениха. Однако способы достижения цели у Александра Даниловича и Алексея Григорьевича были разными: Меншиков считал верным способом изолировать жениха в собственном дворце и привлечь членов своей семьи и установить надзор за ним; они должны были не спускать глаз с жениха и содержать его как пленника.
Долгорукий придерживался иного плана: поощрялась страсть жениха к охоте, пусть он носится по полям и весям, тешится охотничьими трофеями – волками, лисицами, зайцами, водоплавающей дичью, все они не станут помехой в осуществлении задуманного. Не препятствовала достижению цели и разгульная жизнь молодого царя: в танцах, пьяном угаре, интимных связях с дамами укреплялось влияние на царя фаворита, за спиной которого стоял недалекий отец.
Если, однако, Мария Меншикова не слыла красавицей, то Екатерина Долгорукая, согласно молве, отличалась обольстительной красотой, которой она умело пользовалась, пройдя школу кокетства в Варшаве, где воспитывалась в доме своего дяди Григория Федоровича Долгорукого. Екатерина Алексеевна отличалась еще одним качеством – гордостью, усвоенной отчасти в доме дяди, отчасти унаследованной от родителя, кичившегося своей породой.
Тем не менее судьба обеих царских невест была трагической, предсказанной герцогом де Лириа, писавшим, что «Долгорукие идут по стопам Меншикова и со временем будут иметь тот же конец. Их ненавидят все, они не хотят расположить к себе никого, и теперь они женят, можно сказать, силою, злоупотребляя его нежным возрастом». Надо отдать должное де Лириа – он оказался пророком: в день свадьбы, намеченной на воскресенье 19 января 1730 года, жених неожиданно скончался.
В матримониальных планах Меншикова и Долгоруких обнаруживаются еще две общие черты. Одна из них состояла в том, что царь-отрок не питал нежных чувств к обеим невестам. Де Лириа, наблюдавший за церемонией помолвки Петра II и Екатерины Долгорукой, писал: «Царь не имеет к ней ни капли любви и относится к ней весьма равнодушно, кроме того, он начинает ненавидеть дом Долгоруких и сохраняет еще тень любви только к фавориту. Ему еще не достает решимости, лишь только он обнаружит ее, погибли оба (фаворит и его сестра. – Н. П.) и здесь произойдут новые и ужасные перемены»[26 - Осмнадцатый век. Кн. 2. М., 1869. С. 183, 188, 190, 193.].
Смерть императора оказалась неожиданностью для отца невесты и его сына, а также для Верховного тайного совета, являвшегося высшим органом власти в стране. В соответствии с этим обстоятельством и Долгорукие, и верховники действовали не по заранее обдуманному плану, а занимались импровизацией, то есть принимали решения в соответствии с обстановкой, сложившейся на данный момент. Этим объясняется множество ошибок, допущенных как ближайшими родственниками невесты, так и Верховным тайным советом.
Когда стало ясно безнадежное положение императора, князь Алексей Григорьевич, не расставшийся с мыслью закрепить трон за своей дочерью, пригласил родичей к себе в Головинский дворец. Собравшимся он заявил: «Император болен, и худа надежда, чтоб жив был: надобно выбирать наследника». Василий Лукич Долгорукий спросил: «Кого вы в наследники выбирать думаете?» Князь Алексей Григорьевич указал пальцем наверх, где проживала дочь: «Вот она». Эту мысль развил князь Сергей Григорьевич, такой же незаметный представитель рода, как и князь Алексей: «Нельзя ли написать духовную, будто его императорское величество учинил ее наследницей». Предложение встретило возражение от фельдмаршала Василия Владимировича, державшего во время помолвки племянницы пламенную речь. В передаче французского дипломата она прозвучала так: «Вчера я был твой дядя, нынче ты – моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленная, но, слава Богу, она очень богата, и члены ее занимают хорошие места; итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, но в пользу заслуг и добродетели: это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю»[27 - РИО. Т. 75. С. 429.]. Теперь же он заявил: «Неслыханное дело вы затеваете, чтоб обрученной невесте быть российского престола наследницей. Кто захочет ей подданным быть? Не только посторонние, но и я, и прочие нашей фамилии – никто в подданстве у ней быть не захочет. Княжна Екатерина с государем не венчалась». «Хоть не венчалась, но обручалась», – возразил князь Алексей. Но Василий Владимирович стоял на своем: «Венчанье иное, а обручение иное».
Князья Алексей и Сергей изложили план действий, рассчитанный на использование гвардии: «Мы уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Михайловича Голицына, а если они заспорят, то мы будем их бить. Ты (В. В. Долгорукий. – Н. П.) в Преображенском полку подполковник, а князь Иван майор, и в Семеновском полку спорить о том будет некому». «Что вы, ребячье, врете! – решительно возразил Василий Владимирович. – Как тому может сделаться? И как я полку объявлю? Услышав от меня об этом, не только будут меня бранить, но и убьют».
Фельдмаршал счел затею столь авантюрной и неосуществимой, что решил покинуть собрание[28 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 191, 192.].
После неудачной попытки провозгласить императрицей невесту покойного Петра II и обнаруживавшегося раскола в лагере Долгоруких лидером верховников выступает державшийся до этого в тени князь Дмитрий Михайлович Голицын.
Голицын выделялся среди современников не только талантом, но и образованностью. По мнению К. Рондо, он был «человек необыкновенных природных дарований, развитых работой и опытом. Это человек духа деятельного, глубоко предусмотрительный, разума основательного, превосходящего всех знанием русских законов и мужественным красноречием; он обладает характером живым, предприимчивым, исполнен честолюбия и хитрости, замечательно умерен в привычках, но высокомерен, жесток и неумолим»[29 - РИО. Т. 66. С. 158, 159.].
Несмотря на несомненные достоинства Дмитрия Михайловича, Петр I ему полностью не доверял. Впрочем, и царь не вызывал горячих симпатий Голицына. К. Рондо правильно отметил высокомерие князя. Источником его являлась родовитость, происхождение от литовских князей Гедиминовичей, глубокая вера аристократа в то, что это происхождение давало ему право быть приближенным к царю, занимать высшие должности в государстве. Между тем Петр I окружил себя выскочками, комплектовал «команду» из людей непородистых, пренебрежительно относился к заслугам предков. Более того, Д. М. Голицыну конечно же не импонировала и женитьба Петра I на безродной чухонке, достойной презрения, перед которой он, наряду с прочими, гнул спину, чтобы поцеловать руку. У аристократа Голицына вызывало осуждение и поведение царя, его, если можно так выразиться, демократизм, готовность общаться с простыми людьми, самородками и мастеровыми, если из этого общения можно было извлечь какую-либо пользу для дела.
Петр I, разумеется, догадывался, что князь относится к его тайным недоброжелателям, и поэтому держал его в отдалении, назначив киевским губернатором – на должность, ронявшую родовитого человека в собственных глазах, ущемлявшую его аристократические притязания.
Два десятилетия Голицын тянул лямку киевского губернатора, пока наконец в связи с организацией коллегий не был назначен президентом Камер-коллегии – на должность более высокую, но не первостепенной важности, ибо Камер-коллегия не относилась к числу трех первейших: Военной, Адмиралтейской, Иностранных дел.
Руководство Камер-коллегией стало трамплином для занятия более престижного поста – при Екатерине I в 1726 году он был введен в состав Верховного тайного совета. Но и на этой высокой должности он не чувствовал себя комфортно, ибо в новом учреждении хозяйничали безродный А. Д. Меншиков, иноземец А. И. Остерман и лица, не располагавшие правом хвастаться своими знатными предками: П. А. Толстой, Г. И. Головкин, Ф. М. Апраксин.
Со смертью Петра II, по мнению Дмитрия Михайловича, наступил его звездный час, когда в полной мере могли осуществиться честолюбивые мечты аристократа и раскрыться его дарования и знания. Именно ему принадлежала решающая роль в определении кандидата на осиротевший трон. Голицын с ходу отклонил кандидатуру Екатерины Долгорукой, считая, что она не имела никаких прав на престол, ибо была всего лишь «помолвлена, но не обручена».
Потенциальных кандидаток на трон было пять. Одна из них – бабка умершего императора, первая супруга Петра Великого, заточенная им в монастырскую келью, где она провела свыше трех десятилетий.
В 1727 году инокиня Елена обратилась с просьбой к Меншикову перевести ее в Москву в Новодевичий монастырь и определить «нескудное содержание в пище и в прочем и снабдить бы меня надлежащим числом служителей». Просьба осталась без ответа, но 2 сентября 1727 года ее все же поселили в Новодевичьем монастыре.
Коренные перемены в жизни инокини Елены наступили 9 февраля 1728 года, когда по указу вступившего на престол Петра II инокине вернули светское имя Евдокии Лопухиной, стали содержать «по своему великому достоинству со всеми удовольствиями». Внук щедро окружил бабку заботой: определил на ее содержание 11 139 душ крепостных крестьян, с которых ежегодно собиралось 5564 рубля, утвердил огромный штат придворных. Доход ее с 1 января 1730 года по 1 января 1731 года составил 57 200 рублей. Погреба и башни Новодевичьего монастыря были заполнены яствами и бочками французских вин. Одного заботливый внук не мог возвратить своей бабке – утраченного здоровья: когда ее подвели к постели умершего внука, она, по свидетельству Вестфалена, «вскрикнула и упала в обморок». Она сама отказалась от престола, ссылаясь, по словам того же Вестфалена, «на частые немощи и слабость ума и памяти». Жалобы были обоснованными – Евдокия Федоровна умерла 21 августа 1731 года, хотя, по свидетельству дюка де Лириа, она и невеста царя пользовались поддержкой самых сильных людей[30 - ЧОИДР. 1865. Кн. 3. С. 37–40; Осмнадцатый век. Кн. 2. С. 197, 151.].
Отпала и кандидатура дочери Петра Великого Елизаветы. Хотя по завещанию императрицы Екатерины I трон после смерти Петра II бездетным должна была занять Елизавета Петровна, представители аристократического рода Голицыных и Долгоруких отклонили волеизъявление бывшей служанки, по случаю ставшей супругой царя, по их мнению, незаконно занявшей трон. К тому же Елизавета являлась внебрачной дочерью Петра I – она родилась в 1709 году, то есть за два года до оформления брачных уз. Кроме того, Елизавета, оставшись без отца и матери, вела себя столь легкомысленно, нарушая девическую скромность, что своим поведением смущала современников.
Право занять трон имел еще один потомок Петра Великого, сын его старшей дочери, выданной императором за герцога Голштинского. Родив сына, нареченного Петром, Анна скоро умерла от чахотки. О кандидатуре «кильского ребенка», как прозвали внука Петра, даже никто не заикнулся. Датский посол доносил, что Елизавета Петровна «держит себя спокойно, и сторонники голштинского ребенка не смеют пошевелиться»[31 - РС. 1909. № 1. С. 210.].
Остались три дочери сводного брата Петра Великого Иоанна Алексеевича: Екатерина, Анна и Прасковья. О двух первых и завел речь Дмитрий Михайлович Голицын перед членами Верховного тайного совета. В минуту, когда Петр II испустил дух, Верховный тайный совет состоял из пяти членов, которых принято было называть министрами: канцлера Гавриила Ивановича Головкина, среди присутствовавших человека наиболее преклонного возраста и занимавшего самую высокую должность; вице-канцлера и первого гофмейстера, то есть воспитателя умершего императора, Андрея Ивановича Остермана; второго гофмейстера князя Алексея Григорьевича Долгорукого, отца фаворита Ивана; известного дипломата Василия Лукича Долгорукого и князя Дмитрия Михайловича Голицына.
На ночном заседании с 19 на 20 января в Верховном тайном совете присутствовали не пять, а восемь министров – три члена были кооптированы самими министрами незаконно, ибо назначение в Верховный тайный совет являлось исключительно прерогативой лица, занимавшего трон. Среди новых министров было два фельдмаршала: Василий Владимирович Долгорукий и Михаил Михайлович Голицын старший, а также Михаил Владимирович Долгорукий – сибирский губернатор, прибывший в Москву на свадебные торжества своей племянницы.
В результате кооптации Верховный тайный совет по сравнению с первоначальным его составом существенно изменился, стал вполне аристократическим учреждением; из восьми членов четыре принадлежали роду Долгоруких, два – Голицыных и только два – бывшим активным сотрудникам Петра Великого, под покровительством которого протекала их карьера: немцу Остерману и Головкину. Публичная роль последних во время междуцарствия была незначительной, но по разным причинам. Головкин, как известно, не обладал выдающимися способностями и хотя занимал самую высокую должность, но ничем примечательным не выделялся – даже в годы своего расцвета внешнеполитическими делами заправлял сам царь, а всю черновую работу за спиной Головкина выполняли сначала П. П. Шафиров, а затем А. И. Остерман.
Остерман принадлежал к числу осторожнейших политиков, талантливых интриганов, предпочитавших всегда оставаться в тени и умевших внушать свои мысли вельможам так тонко и ловко, что те считали их собственными и ретиво их претворяли. Он был, выражаясь современным языком, умелым кукловодом, успешно руководившим марионетками-вельможами.
На ночном заседании Верховного тайного совета с пространной речью выступил Дмитрий Михайлович Голицын. Попытаемся, пользуясь различными источниками, сконструировать ее.
«Мужская отрасль императорского дома пресеклась, – начал свою речь Дмитрий Михайлович, – и с нею пресеклось прямое потомство Петра I. Нечего думать о его дочерях, рожденных от брака с Екатериной; завещание Екатерины I не может иметь для нас никакого значения.
Эта женщина низкого происхождения не имела никакого права воссесть на Российский престол, тем менее располагать короной Российской. Завещание покойного императора подложно.
Я отдаю полную дань достоинствам вдовствующей императрицы, но она только вдова государя. Есть дочери царя, три дочери царя Ивана. Конечно, я бы высказался в пользу старшей – герцогини Мекленбургской, если бы она не была замужем за иностранным принцем. Сама она добрая женщина, но ее муж, герцог Мекленбургский, зол и сумасброден». Мнение Голицына о герцогине и ее супруге подтвердили и иностранные дипломаты: Маньян, К. Рондо[32 - РА. 1866. Т. I. С. 2.].
«Я думаю, – рассуждал он после отклонения Екатерины Иоанновны, – что сестра ее, вдовствующая герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, более для нас пригодна: она может выйти замуж и находится в таких летах, чтобы оставить потомство; она родилась среди нас, мать ее русская, старинного и хорошего рода, нам известны сердечная доброта и другие прекрасные качества Анны Иоанновны – вследствие всего этого я считаю ее самой достойной для царства над нами». Другой источник излагает эту фразу по-иному: «Правда, у нее тяжелый характер, но в Курляндии на нее нет неудовольствия». Завершил свое выступление князь Дмитрий на оптимистической ноте: «Вот, братья, мое мнение; если вы можете убедить меня в лучшем – я приму, иначе я останусь при высказанном мнении»[33 - РИО. Т. 75. С. 464.].
Точность речи Д. М. Голицына, переданной К. Рондо; подтверждал французский поверенный в делах Маньян, заявивший, «что он не знает никого, заслуживающего более предпочтения, как герцогиня Курляндская Анна Иоанновна; дочь царя Иоанна, принцесса, достойная не только благодаря царской крови тех предков, от которых она происходит, но и вследствие замечательных достоинств».
Выступление Голицына нашло горячую поддержку у фельдмаршала Долгорукого: «Мысль эта внушена самим Господом и вытекает из патриотического чувства; да благословит Бог и да здравствует императрица Анна Иоанновна!» Этим призывом завершил свою реплику Василий Владимирович. К этому мнению примкнули прочие министры, включая и Алексея Григорьевича, ранее, как мы помним, настойчиво домогавшегося короны для своей дочери.
А о третьей дочери Иоанна Алексеевича – Прасковье – никто не вспомнил. И, видимо, не случайно – она страдала какой-то болезнью, сведшей ее в могилу в следующем году, и к тому же она находилась не то в гражданском, не то в морганатическом браке с Дмитриевым-Мамоновым.
Это событие происходило ночью 19 января, сразу же после кончины Петра II. На этом заседание не закончилось. Убедившись в отсутствии возражений против избрания Анны Иоанновны императрицей, Дмитрий Михайлович продолжил свое выступление, высказав рискованные предложения, к восприятию которых вряд ли были подготовлены присутствовавшие.
– Ваша воля, – обратился он к слушателям, – кого изволите, только надобно себе полегчить.
– Как это полегчить? – спросил канцлер Головкин.
– Так полегчить, чтобы воли себе прибавить, – ответил Голицын.
– Хоть и зачнем, да не удержим этого, – заметил князь Василий Лукич Долгорукий.
– Право удержим, – настаивал на своем Дмитрий Михайлович и тут же добавил: «Будь воля ваша, только надобно, написав, послать к ее величеству».
У уставших и возбужденных бурными событиями министров не было сил продолжить серьезный разговор, и они в четыре утра разъехались по домам, чтобы вновь собраться через шесть часов. Присутствовавшим в других покоях сенаторам, генералитету и шляхетству (как стали называть дворянство во время «затейки» верховников. – Н. П.) было объявлено, чтобы они тоже прибыли, но не в Лефортовский дворец, где лежало тело покойного императора, а в Мастерскую палату Кремля, где обычно заседал Верховный тайный совет.
Около 10 утра Голицын объявил собравшимся сенаторам, генералитету и шляхетству об избрании императрицей Анны Иоанновны, они ответили на это известие возгласами одобрения. Важно отметить, что среди присутствовавших не было представителей церковных иерархов – сколько ни настаивал на их приглашении канцлер Головкин, Голицын протестовал против их участия в событиях на том основании, что «длиннобородые» поступили бесчестно, благословив избрание императрицей Екатерины I, игнорировав интересы законного наследника, каким считался сын царевича Алексея Петр.
Генералитет и сенаторы готовы были разъехаться, а министры по настоянию Голицына собрались для составления «пунктов», намереваемых вручить Анне Иоанновне. Поскольку это был экспромт, готовый проект у Голицына отсутствовал, на заседании начался гвалт и беспорядочные выкрики, которые стал заносить на бумагу секретарь Верховного тайного совета Василий Петрович Степанов. Диктовали все, но чаще всего раздавались голоса князей Дмитрия Михайловича и Василия Лукича.
Лефортовский дворец в конце XIX в.
Фотография. Найденов Н. А.
Москва. Соборы, монастыри и церкви. М., 1883
Записывать «пункты» в такой обстановке было затруднительно, и тогда канцлер Головкин и фельдмаршал М. М. Голицын обратились к Остерману, чтобы тот, «яко знающий лучше штиль», диктовал. Хитрый Остерман решил остаться в стороне от рискованного дела и долго отказывался от чести формулировать «пункты», ссылаясь на то, что он, как иноземец, «в такое важное дело вступать не может». В конце концов Остерману уклониться от роли секретаря-редактора не удалось, и он придавал литературную форму пунктам, произносимым В. Л. Долгоруким и Д. М. Голицыным.
В окончательном варианте «пункты», названные позже «кондициями», выглядели так:
«1. Ни с кем войны не всчинатъ. 2. Миру не заключать. 3. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 4. В знатные чины как в статские, так и в военные, сухопутные, морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета. 5. У шляхетства животы и имения и чести без суда не отнимать. 6. Вотчины и деревни не жаловать. 7. В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховного тайного совета не производить. 8. Государственные доходы и расходы не употреблять.
И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буде чего по своему обещанию не исполню и не додоржу (не осуществлю. – Н. П.), то лишена буду короны российской»[34 - Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 4, 5, 17, 18.].
Условия составления кондиций и их содержание дают основание для нескольких наблюдений. Первое и главное из них состоит в том, что трон достался Анне Иоанновне не в результате борьбы, это была не заранее спланированная, а стихийная акция. Кондиции тоже надлежит отнести к плодам импровизации, к результатам выражения стихийного коллективного творчества. И если в итоге получился довольно стройный документ, каждый пункт которого развивал одну и тут же идею ограничения самодержавия, то это результат творчества не одного Голицына, а всех членов Верховного тайного совета, про себя вынашивавших близкие друг другу мысли. Наконец, третье по счету, но не по важности наблюдение состоит в ответе, почему выбор пал на Анну Иоанновну, почему ей, а не кому другому было решено вручить корону. Расчет верховников был столь же прост, как и убедителен: Анна Иоанновна за 19 лет пребывания в Курляндии лишилась сил, готовых поддержать ее в России, захудалый курляндский двор не представлял опасности, и Анна Иоанновна считалась наиболее удобной фигурой, готовой безропотно выполнить навязанные ей кондиции. Имела значение и ее родословная – она была русской, представительницей правящей династии, имевшей в России корни хотя и слабые, но все же дававшие основание считать ее «своей», а не чужой.
Заметим, полной уверенности в успехе «затейки» верховников, как позже назовет Феофан Прокопович их попытку ограничить самодержавие, у министров не было. Если бы они полностью верили в успешное завершение начатого, тогда показалась бы излишней таинственность осуществления акции. Верховники ожидали сопротивления с двух сторон: широких кругов дворянства и самой императрицы. Если бы подобные опасения отсутствовали, то тогда не к чему было бы скрывать содержание кондиций, вызывать на заседание бригадира Полибина, чтобы дать ему задание оцепить Москву заставами, которым поручено пропускать из Москвы только с паспортами, выданными Верховным тайным советом, запретить выдавать вольным извозчикам ни под каким видом ни подвод, ни подорожных. О неуверенности затейщиков свидетельствует также таинственность отъезда депутации из Москвы.
Выбор главы депутации пал на Василия Лукича Долгорукого не случайно: во-первых, он слыл опытным дипломатом, представлявшим интересы России в Польше, Франции, Дании и Швеции, и верховники, рассчитывая на его опытность и образованность, полагали, что он успешнее других сможет устранить разногласия между депутацией и потенциальной императрицей; во-вторых, Василий Лукич был знаком с Анной Иоанновной в связи с попыткой князя А. Д. Меншикова овладеть короной Курляндского герцога – в 1726 году Долгорукий, будучи послом в Польше, приезжал в Митаву хлопотать, чтобы сейм избрал светлейшего своим герцогом. Похоже, Василий Лукич не проявил должного рвения для исполнения желания князя, чем заслужил расположение герцогини.
В составе депутации находились еще две персоны: сенатор, тайный советник Михаил Михайлович Голицын-младший и генерал Леонтьев, представлявший генералитет. Для полноты недоставало представителя духовенства, но мы знаем о негативном отношении к нему организатора «затейки» Д. М. Голицына.
19 января депутация выехала из Москвы, имея три документа: кондиции, извещение о смерти Петра II и избрании Анны Иоанновны императрицей и инструкцию, которой должна была руководствоваться депутация.
Наиболее уязвимым был первый из перечисленных документов. Известно, что кондиции составлялись келейно, втайне. Между тем в извещении написано: «Как мы, так и духовного и всякого чина свецкие люди того же времени за благо рассудили российский престол вручить Вашему императорскому величеству». Таким образом, воля восьми верховников выдавалась за волю верхов всего общества, под которым подразумевалась его привилегированная часть: вельможи, генералитет, сенаторы, церковные иерархи.
Не совсем ясны мотивы включения ограничительных пунктов в преамбулу к кондициям. Казалось бы, что четыре ограничительных пункта должны влиться в текст кондиции, быть среди них в числе первых либо последних и в итоге составлять не восемь, а двенадцать пунктов. В самом деле, в преамбуле императрица писала «наиглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о содержании, но и о крайнем и всевозможном распространении православной нашей веры греческого исповедания». Вслед за этим преамбула запрещала вступать в супружество, назначать наследника и обязывала императрицу содержать Верховный тайный совет неизменно в составе восьми человек. Эту несуразность можно объяснить только лихорадочной спешкой составления кондиций, написания их впопыхах.
Что касается инструкции депутации, то она не сохранилась и о ее содержании можно лишь догадываться по действиям В. Л. Долгорукого и его информации об этих действиях. Реконструкция этого источника предполагает наличие в нем таких пунктов, как тайное вручение кондиций лично Анне Иоанновне без присутствия посторонних, содержание императрицы в полной изоляции, лишение ее возможности получать информацию из Москвы. Депутация должна убедить императрицу, что подписанные ею кондиции выражают волю «общенародия». Их надлежало немедленно доставить в Москву одному из членов депутации, а Анну Иоанновну убеждать в скорейшем выезде из Митавы. На пути в Москву запрещалось общение Анны Иоанновны с посторонними, она должна была ехать не в отдельной карете, а в сопровождении Василия Лукича. Депутации поручалось также убедить императрицу отказаться от приезда в Россию Бирона и курляндских слуг.
Ни заставы вокруг Москвы, ни стремление держать императрицу в полной изоляции не принесли ожидаемого успеха – тайну того, что происходило в столице, сохранить не удалось.
Мерами предосторожности министры надеялись сразить герцогиню неожиданно выпавшим на ее долю счастьем, сломить ее желание торговаться относительно кондиций. Последним соображением министры были озабочены более всего, ибо не рассчитывали на всеобщее одобрение своих действий широкими кругами шляхетства.
Хотя депутация двигалась в Митаву, по словам Ф. Прокоповича, «с такою скоростью, что на расставленных нарочно для того частых подводах казалось летели они, паче нежели ехали», противникам верховников удалось прибыть в столицу Курляндии раньше В. Л. Долгорукого и его спутников. Гонец Рейнгольда Левенвольде, облачившись в крестьянскую одежду, сумел опередить депутацию на целые сутки. «Он, – по свидетельству Миниха младшего, – первым известил новоизбранную императрицу о возвышении и уведомил о том, что брат к нему писал в рассуждении ограничении самодержавия». Левенвольде советовал Анне Иоанновне подписывать любую предложенную депутатами бумагу, «которую после нетрудно разорвать»[35 - Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 100.]. Не упустил случая противодействовать верховникам и Феофан Прокопович, тоже отправивший в Митаву своего гонца.
Наибольшие злоключения выпали на долю доброхота императрицы П. И. Ягужинского. На следующий день после смерти Петра II он призвал к себе камер-юнкера голштинского герцога Петра Спиридоновича Сумарокова и велел ему отправиться в Митаву.
«Не жалей денег и поезжай как можно скорее в Митаву». И тут же предупредил: «Может быть, поехал князь В. Л. Долгорукий, и, по всей вероятности, заказано никуда никаких подвод не давать».
Прибыв в Митаву, Сумароков должен был устно поведать об обстановке в Москве. Если В. Л. Долгорукий станет убеждать императрицу подписать кондиции и уверять, что они составлены от имени всего народа, то Анна Иоанновна должна была воздержаться от подписания их до своего прибытия в Москву, где убедится, что ее обманывают. Если же депутаты станут угрожать, что они властны избрать другого, то она должна «крепиться до того, пока они свои руки дадут, что от всего народу оные пункты привезены».
«Храни меня и себя, – заключил свое наставление Ягужинский, – и постарайся как можно, чтоб увидеть ее величество тайно и оное объявить».
«Как мне поступать, ежели у меня будут требовать подорожную?» – не унимался Сумароков.
«Все делай через деньги», – ответил Павел Иванович, отвалив своему гонцу изрядную сумму.
Сумароков выехал из Москвы на много часов позже депутации. Кроме того, его на одной из станций задержали на три-четыре часа. В результате Сумароков прибыл в Митаву в тот же день, что и депутация, 25 января, но на три часа позже.
Нам доподлинно не известно, как вел себя Сумароков в Митаве: быть может, он демонстративно хвастал своим важным поручением, быть может, он оказался растяпой, лишенным элементарных способностей конспиратора, но как бы то ни было, он попался как кур в ощип – то ли кто из депутатов, то ли из лиц их свиты его опознали, он был тут же схвачен и закован в кандалы.
Из донесения В. Л. Долгорукого Верховному тайному совету следует, что депутация в Митаву не испытывала ни малейших затруднений – Анна Иоанновна подписала кондиции, предложенные ей в Митаве. По словам Долгорукого, она «те кондиции изволила подписать своею рукой тако: “По сему обещаюсь все без всякого изъятия содержать. Анна”». Эта акция могла быть сопряжена с двумя противоположными последствиями. Подписывая кондиции, Анна Иоанновна меняла захудалую герцогскую корону на пышную императорскую, и эта перспектива была столь заманчивой, что лифляндский дворянин Бракель, неоднократно ссужавший ее деньгами, рекомендовал подписать любую бумагу с любыми требованиями – дальнейшую ее судьбу решат деньги[36 - РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 169.]. В то же время подписание кондиций и поездка в Москву – свидетельство известной отваги Анны Иоанновны, ибо могло случиться так, что вместо того, чтобы восседать на императорском троне, она могла оказаться в келье какого-нибудь захудалого монастыря.
Анна Иоанновна подписала в Митаве еще один принципиально важный документ, заранее заготовленный в Москве: «Хотя я рассуждала, как тяжко есть правление той великой и славной монархии, однако же повинуясь Божеской воле и прося его, Создателя, помощи, к тому же не хотя оставить отечества моего и верных наших подданных, наметилась принять державу и правительство, елико Бог мне поможет так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны.
А понеже к тому моему намерению потребны благие советы, как во всех государствах чинится, того ради пред вступлением моим на российский престол, по здравом рассуждении изобрели мы за потребно для пользы Российского государства и к удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем к отечеству нашему и верным нашим подданным и для того, сколько время наше допустимо, написав, каким способом мы то правление вести хощем, и подписав нашею рукою, послали в Тайный верховный совет, а сами сего месяца в 2 день конечно из Митавы к Москве для вступления на престол пойдем. Дано в Митаве 28 января 1730 года».
Письмо было составлено таким образом, будто инициатива ограничения самодержавия исходила от самой Анны Иоанновны. Она утверждала, что в течение немногих дней, находившихся в ее распоряжении, она написала, «какими способами мы то правление вести хощем», подразумевая под «способами» кондиции. Искушение стать императрицей было столь велико, что Анна Иоанновна отбросила все советы, затруднявшие ее путь к трону, и стала поспешно собираться в дорогу.
1 февраля генерал-майор Леонтьев доставил в Москву подписанные императрицей кондиции, ее письма к членам Верховного тайного совета, а заодно и закованного в кандалы Сумарокова. Казалось бы, все трудности были позади, оставалась пустая формальность – торжественно обнародовать кондиции и согласие императрицы их соблюдать. На торжественное заседание Верховного тайного совета были приглашены Синод, Сенат, генералитет по бригадира включительно, президенты коллегий и «прочие штатские тех рангов».
В 10 часов утра 2 февраля на открывшемся заседании Верховного тайного совета в присутствии всех его членов, за исключением В. Л. Долгорукого, находившегося вместе с императрицей в пути, и прикидывавшегося больным А. И. Остермана, были зачитаны подписанные Анной Иоанновной кондиции и ее письмо. Вслед за тем оба документа были обнародованы всем присутствующим, что вызвало у них удивление и растерянность. Потрясенные, они молчали. Мертвую тишину нарушил Д. М. Голицын, обратившийся с призывом благодарить императрицу за содеянное. Протокол Верховного тайного совета отметил это событие немногословной записью: «За такую ее императорского величества показанную ко всему государству неизреченную милость, благодарили всемогущего Бога и все согласно объявили. что тою е. в. милостию весьма довольны…»[37 - Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 122.].
Официальная версия описания происходившего отличается от описания ее ярыми сторонниками сохранения самодержавия. Ф. Прокопович, например, описал атмосферу заседания, выглядевшую под его пером удручающей: «Никого, почитай, кроме верховников не было, кто бы, таковое слышав, не содрогнулся. И сами те, которые вчера великой от сего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики». Однако никто не осмелился высказать протест. И нельзя было не бояться, «понеже в памяти оного по исходам в сенях и избах многочисленно стояло вооруженное воинство и дивное было всех молчание». Лишь Д. М. Голицын «часто погаркивал, видите, как милостива государыня и какого мы от нее надеемся, таковое она показала отечеству нашему благодеяние. Бог ее подвигнул к сему; отселе счастливая и цветущая Россия будет». Голицын, по словам Прокоповича, спросил: «Для чего никто ни единого слова не проговорит». Послышался робкий вопрос князя А. М. Черкасского: «Каким образом видеть то правление быть имеет?» Еще вопрос в этом же духе: «Не ведаю и весьма чужуся, из чего на мысль пришло государыне так писать»[38 - Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 43, 33.]. Вопросы остались без ответа.
Министры отпустили приглашенных, а сами удалились в палату, куда привели арестованного П. И. Ягужинского. Его спросили, доволен ли он правлением, установленным кондициями, на что он, смутившись, не дал вразумительного ответа. Тогда ему показали письмо, адресованное Анне Иоанновне и изъятое у Сумарокова. Ягужинскому ничего не оставалось, как признать себя автором письма. Тогда по приказанию фельдмаршала В. В. Долгорукого он отдал шпагу и под конвоем сержанта, капрала и 12 рядовых был отведен в темницу. 3 февраля Ягужинского допрашивали, а на следующий день у него после очередного допроса отняли «кавалерию» и при барабанном бое площадные объявили, что он обвиняется в отправке письма, направленного «против блага отечества и ее величества»[39 - РИО. Т. 5. СПб., 1870. С. 349–352.].
Арест Ягужинского относится к самым жестким решительным мерам верховников против своих противников – не помогло даже заступничество канцлера, зятем которого являлся Павел Иванович. Обозначился явный раскол в верхах. Министры, и то не все, выступали сторонниками ограничения самодержавия, остальные вельможи, на стороне которых стояли широкие круги дворянства и гвардейские офицеры, пока открыто не выступали против, но дали понять, что они не будут поддерживать «затейку».
Возникает вопрос, чем не угодны были кондиции собравшимся, почему они не разделяли радость министров, каков был ход мыслей противников новой формы правления. Ответ находим у двух современников, один из которых был активным участником противодействия верховникам, а другой находился вдали от эпицентра событий, губернаторствовал в Казани и пользовался лишь информацией, исходившей от родственника, жившего в Москве. Первым из них был Феофан Прокопович, вторым – А. П. Волынский. Несмотря на различие в их положении, оба они высказывали схожие мысли.
Прокопович полагал, что установление порядков, угодных верховникам, «крайне всему отечеству настоит бедства. Самым им господам нельзя быть долго с собою в согласии, сколько их есть человек, столько явится атаманов междуусобных браней, и Россия возымеет скаредное оное лицо, каковое имела прежде, когда на многие княжения расторженно бедствовала»[40 - Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 36, 37.].
Эти же мысли высказывал и Волынский, причем раскрыл их более основательно, выдвинув три довода против верховников. «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, чтоб быть у нас республике. Я зело в том сумнителен. Боже сохрани, чтоб не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего идолопоклоничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже между главными как бы согласно ни было, однако ж впредь конечно у них без разборов не будет, и так один будет миловать, а другие, на того яряся, вредить и губить станут»[41 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 199.].
Это – основной мотив. За ним следуют менее значительные аргументы: расцветет лесть, причем появится великое множество льстецов, поскольку каждый из них будет льстить одному из многих. Главные будут тем сильнее и влиятельнее, чем больше будут иметь ласкателей; особенную опасность новая форма правления будет представлять во время войны, когда обстановка потребует быстрых и оперативных действий. Исчезнет страх за всякого рода провинность как офицеров, так и штатских, ибо «некоторого присуждения не будет».
О том, что вместо одного монарха «мы увидим в лице каждого члена этого совета тирана, своими притеснениями делавшего нас рабами пуще прежнего», высказывались не только Прокопович и Волынский. Высказывание попало на страницы депеш саксонского посла Лефорта.
В то время как в Москве и за ее пределами горячо обсуждали вопрос о форме правления, карета с Анной Иоанновной и депутацией спешно приближалась к столице под бдительным присмотром Василия Лукича Долгорукого. В распоряжении историков нет сведений, как чувствовала себя императрица и как воспринимала свое пленное состояние, существовал или вызревал у нее план освобождения от кондиций или она полностью отдалась воле судьбы и своих доброжелателей – Левенвольде, Ягужинского, Прокоповича. Сделать выбор она затруднялась еще и потому, что не знала расстановки сил на верхах, не ведала об отношении рядового шляхетства к верховникам, степени их высокомерия, и особенно Долгоруких, один из которых, князь Алексей, вел себя так вызывающе и был настолько высокомерен, что вызвал всеобщую ненависть шляхетства, не обремененного чинами и званиями.
Пребывание Анны Иоанновны в Всехсвятском сопровождалось медленным, но неуклонным расстройством «затейки» верховников. В Всехсвятском произошел ряд примечательных событий: туда прибыли с поздравлениями две сестры Анны Иоанновны и Елизавета Петровна. Хотя они и обменялись любезностями, означавшими настроение двух ветвей дома Романовых жить в мире и согласии, но подлинная теплота между ними отсутствовала. «Мало осталось членов нашего семейства, мы многих потеряли, – обратилась к дочери Петра Великого дочь его сводного брата, – так будем же жить мирно, в полном согласии, и я употреблю все старания не нарушать его». Елизавета Петровна ответила взаимными обязательствами, но тут же пожаловалась на притеснения Долгоруких. «Она, – доносил саксонский посол Лефорт, – не хотела выйти замуж за князя Ивана и за то должна была переносить все неприятности. Ее величество обещала все это исправить»[42 - РИО. Т. 5. С. 356.].
Гораздо важнее приезда сестер было прибытие в Всехсвятское батальона Преображенского полка и членов Верховного тайного совета и генералитета. Канцлер Головкин пытался возложить на Анну Иоанновну ордена Андрея Первозванного и Александра Невского, но императрица сочла попытку вручить ей ордена от подданных унизительной для себя и ненароком перехватила их из рук канцлера, произнеся: «Ах, правда, я и позабыла его надеть» – и велела это сделать одному из придворных. Эта церемония, внешне, казалось бы, незначительная, публично демонстрировала нарушение императрицей кондиций.
Д. М. Голицын обратился к императрице с приветственной речью, в которой заявил, что прибывшие благодарят «за то, что ты удостоила принять из наших рук корону и возвратиться в отечество, и за то, что ты соизволила принять пункты, которые нашим именем предложили тебе наши депутаты».
Ответную речь Анны Иоанновны изложили в донесениях три дипломата: К. Рондо, Лефорт и Вестфален. Содержание их донесений близко друг к другу, в них различествует лишь последовательность расположения фраз, речевые нюансы. В депеше Лефорта ответ Анны Иоанновны изложен подробнее всего: «Я соблаговолила принять пункты, предложенные вами, уверена будучи в неизменном усердии и верности вашей к государыне и отечеству. Я постараюсь только склониться к тем советам, которые бы доказали, что я ищу лишь блага моего отечества и верноподданных моих, прошу вас помогать мне в том; пусть правосудие будет предметом попечительного внимания вашего и пусть мои верноподданные не терпят никакого угнетения». Однако в депеше Лефорта отсутствует ключевая фраза, обнаруживаемая у К. Рондо и Вестфалена. Рондо вложил в уста императрицы слова: подписанные ею «пункты» она будет «соблюдать всю жизнь», а в депеше Вестфалена эти слова звучали так: «Я их свято хранить буду до конца моей жизни».
Первыми приступили к активным действиям верховники – вопреки обещанию жить в мире и согласии они заковали в кандалы сторонника императрицы П. И. Ягужинского. Это был акт устрашения, угрозы всякому, кто посягнет на власть Верховного тайного совета. Не осталась в долгу и Анна Иоанновна – вопреки своему обязательству соблюдать кондиции она объявила себя шефом Преображенского полка и эскадрона кавалергардов, прибывших поздравить императрицу[43 - РИО. Т. 5. С. 355.].
Лефорт доносил в Вену: «На другой день прибытия в Всехсвятское отправили туда батальон гвардии Преображенского полка и эскадрон кавалергардов для занятия почетных караулов». Приняв поздравление преображенцев, императрица объявила себя шефом этого полка. Услышав это, весь отряд «бросился пред ней на колени с криками и со слезами радости. Затем она призвала в свои покои отряд кавалергардов, объявила себя начальником этого эскадрона и каждому собственноручно подносила стакан вина». Этими двумя акциями Анна Иоанновна нарушила четвертый пункт кондиций, предусматривавший «гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета».
Вместо того чтобы напомнить императрице об ее обязательствах и пригрозить ей суровыми санкциями, верховники молча проглотили первую пилюлю и не отважились даже на робкий протест. Таким образом, день 14 февраля, когда совершились описанные выше события – возложение Анной Иоанновной на себя орденов и объявление себя шефом Преображенского полка и кавалергардов, – можно считать днем начала падения «затейки» верховников.
Торжественный въезд Анны Иоанновны в Москву состоялся через четыре дня после похорон Петра II и через день после аудиенции вельмож – 15 февраля, в воскресенье. По своей пышности и торжественности москвичам не доводилось видеть ничего подобного, и эта пышность, первый шаг императрицы, красноречиво свидетельствовала о ее пристрастии к роскоши.
Шествие открывал отряд Преображенского полка, за ним следовали кареты вельмож, в трех из них восседали фельдмаршалы Долгорукий, Трубецкой и Голицын, далее шествовали четыре камер-лакея, за ними – семь карет, в которых сидели придворные дамы, привезенные из Курляндии, а три были пустыми.
Императрица ехала в большой, богато убранной карете с придворными лакеями, четырьмя арапами и скороходами. Шествие замыкали гренадерская рота гвардейского Семеновского полка. Въезд в Земляной город сопровождался залпом из 71 орудия.
У триумфальных ворот в Китай-город императрицу встречали члены Синода во главе с Феофаном Прокоповичем. В Кремле императрица отправилась под звон колоколов в Успенский собор, у входа в который стояли в мундирах сенаторы, президенты и члены коллегий. Вход в собор сопровождался залпом из 101 орудия.
Феофан Прокопович приготовил приветственную речь, но министры запретили ее произносить, и он вручил императрице письменный текст. Мастерскими мазками он в нескольких фразах проследил жизненный путь императрицы, не забыв упомянуть и о вдовьей тоске и житейских лишениях, о преследованиях, которым она подвергалась от неблагодарного раба и весьма «безбожного злодея», под которым подразумевался Меншиков. «Твое персональное состояние всему миру известно, кто же смотря на оное не вздохнул, видя порфирородную особу, в самом цвету лет своих впадшую в сиротство отшеством державных родителей, тоску вдовства приемшую лишением любезнейшей подружки, но по достоинству рода пропитания имущую, но и, что вспомянуть ужасно, сверх многих неприятных приключений и весьма безбожного злодея, тесноту и неслыханное гонение претерпевшую»[44 - Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 50, 55.].
Поселившись во дворце, Анна Иоанновна все еще находилась под бдительным надзором Василия Лукича. Он не спускал с нее глаз, когда она проживала во Всехсвятском. Он поселился у самых дверей светлицы, «ко пребыванию ее уготованною». Заточение продолжалось недолго.
В те дни, когда поставленная на сани карета скользила по российским просторам, останавливалась во Всехсвятском, а затем торжественно въехала в столицу, где с каждым днем накалялись страсти и распри между Верховным тайным советом и шляхетством. Под напором шляхетства верховники вынуждены были идти на одну за другой уступки. Одна из них касалась текста присяги. Ее первоначальный текст развивал кондиции, конкретизировал и в конечном счете расширял полномочия Верховного тайного совета.
Проект присяги выражал благодарность императрице за ее «к российскому народу щедроты», выразившиеся в подписании кондиций и обязательств их свято выполнять, и обязывал принявшего присягу «по силе вышеозначенных ее императорского величества постановленных и утвержденных кондиций в общую пользу и благополучно всего государства правление во всем содержать по сему».
В окончательном тексте присяги, которую подданные принимали 20 февраля 1730 года, отсутствовали наименования таких учреждений, как «Верховный тайный совет, Духовный Синод, Сенат и генералитет», а также слово «кондиции». Вместо них использовано расплывчатое понятие, означавшее отказ верховников от претензий на власть: присягавший давал торжественное обещание «ее величеству великой государыне царице Анне Иоанновне и государству верным рабам и подданным рабом быть, також ее величеству и отечеству моему пользы и благополучия… искать и старатца». Надо полагать, что под терминами «государство» и «отечество мое» следует подразумевать во много крат урезанные притязания верховников на власть, отказаться от роли соправителей императрицы.
События, сокрушившие планы верховников ограничить самодержавную власть императрицы в свою пользу, развернулись в бурные дни между 2 и 10 февраля. 1 февраля генерал Леонтьев доставил в Москву подписанные Анной кондиции и письмо к членам Верховного тайного совета.
Глава III
Крах «затейки» верховников
Со времени памятного заседания Верховного тайного совета, когда министры, обрадованные успехом своей «затейки», обнародовали подписанные Анной Иоанновной кондиции, начался второй и заключительный этап эпопеи об избрании курляндской герцогини императрицей. Напомним, присутствовавшие на заседании генералитет, члены Сената и Синода хотя и не получили ответа на два заданных верховникам вопроса, но Д. М. Голицын, уловивший настроение присутствующих, заявил, «чтобы они (верховники. – Н. П.), ища общей государственной пользы и благополучия, написали проект от себя и подали на другой день».
В событиях последующих дней на первый план вышли широкие круги дворянства – как московские, так и прибывшие из провинции на свадебные торжества Петра II; они оказались вовлеченными в политическую борьбу, причем действовали без заранее разработанного сценария, стихийно, как и сами верховники. Действия шляхетства, полнейшая разноголосица в их мнениях демонстрировали их слабую сословную организованность, точнее ее отсутствие, что заранее определило характер их предложений, возникших, к сожалению, не в результате глубоких раздумий и последовательного, логически стройного их изложения на бумаге.
Но не только неорганизованность шляхетства оказала влияние на содержание и количество поданных ими проектов, но и крайне ограниченное время, отпущенное верховниками на их составление, – совершенно очевидно, для выработки стройной системы управления страной требовалось и немалое время, и достаточное число лиц, владевших юридической подготовкой. Ни тем ни другим шляхетство не располагало.
Включившись в поиски «общей государственной пользы», дворяне разделились на множество групп, каждая из которых составила свой проект, что свидетельствовало не только об отсутствии организующего идейного центра, но и о невозможности собрать всех дворян – в старой столице не было помещения, способного вместить несколько сотен дворян.
Дореволюционные историки в общей сложности насчитывали от 12 до 17 подготовленных проектов. Усилиями советских историков, более скрупулезно подсчитывавших подписи под проектами, их число доведено до 7–8. А число, подписавших их, насчитывалось до 500[45 - Источниковедческие работы Тамбовского педагогического института. Тамбов, 1971. С. 73.].
Отметим, что общим для всех проектов являлось согласие авторов с необходимостью ограничить самодержавную власть императрицы. И еще – их антиолигархическая направленность, стремление обеспечить более активное участие в управлении страной шляхетства и ограничить права аристократии.
Принципиальное различие между проектами (кондициями) верховников и шляхетских состояло в том, что первые стремились «полегчить себе», то есть небольшой группе аристократических фамилий, в то время как вторые предполагали «полегчить» положение всего служилого сословия.
В представленных шляхетских проектах можно обнаружить три сюжета: 1) об организации центральных правительственных учреждений и степени участия в них шляхетства; 2) ограничение прав шляхетства, добывшего это звание шпагой и пером, то есть по Табели о рангах петровского времени и о предоставлении льгот родовитому шляхетству; 3) улучшение положения других сословий: духовенства, крестьян и горожан.
Наиболее радикальный из проектов под пространным названием «Способы, которыми, как видитца, порядочнее, основательнее тверже можно сочинить и утвердить известное и столь важное и полезное всему народу и государству дело» предлагал ликвидировать Верховный тайный совет, поскольку он не оправдал надежд. Высшим органом власти должен стать возглавляемый императрицей Сенат в составе до 30 человек, причем императрица располагает тремя голосами.
Чтобы устранить засилье аристократических фамилий, как то имело место в Верховном тайном совете, сенаторы избираются обществом и от одной фамилии не должно быть более двух человек. Выборного начала придерживаются повсюду: в президенты коллегий, губернаторы, придворные чины. Армия и флот передаются под командование Военной и Адмиралтейской коллегий, а гвардия – Сенату. Заботы об интересах шляхетства выразились в требовании отмены указа о единонаследии, в создании для шляхетства «особливых рот» и гардемаринов для моряков с освобождением их от службы рядовыми.
Другим важным проектом является проект 361, известный под названием проекта князя А. М. Черкасского, поскольку его подпись стоит первой, но составителем его являлся один из образованнейших людей своего времени – энциклопедист В. Н. Татищев. Проект Черкасского – Татищева считал необходимым сохранить Верховный тайный совет, но довести его состав до 21 человека. Зато сенаторов должно быть только 11. Выборы «Вышнего правительства» – Сената и коллегий – осуществляются обществом в составе 100 персон, укомплектованных гражданскими чинами и генералитетом[46 - Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х – начале 30-х годов ХVIII в. М., 1985. С. 274, 275.].
Проект 361 в дополнение к привилегиям шляхетству, перечисленным в «Способах…», предлагал новую – ограничить срок службы дворянства 20 годами. Еще одна примечательная особенность проекта 361 состояла в учете интересов духовенства, купечества и крестьян: первые два сословия освобождались от постойной повинности, «а крестьянам учинить надлежащее облегчение в податях». Остальные проекты ничего принципиально нового не содержат, но варьируют численный состав учреждений. Одни из них предлагали ограничить численность Верховного тайного совета 12–15 человеками, другие предлагали сократить число выборщиков высших учреждений со 100 до 70 человек и т. д. Единственное новшество предложил проект Дмитриева – Мамонтова – перенести столицу империи из Петербурга в Москву.
Шляхетские проекты являются своего рода видимой частъю айсберга. В сложившейся ситуации, когда еще не было известно, кто возьмет верх – Верховный тайный совет или его противники, авторы не решались открыто выражать свои далеко идущие чаяния. В целом нельзя не согласиться с оценкой шляхетских проектов, высказанных в донесении английского дипломата 5 февраля 1730 года. Все проекты, с которыми ему довелось ознакомиться, «очень мало продуманы и ни один из них не мог быть вполне одобрен, хотя проекты эти подписаны и представлены знатнейшими фамилиями»[47 - РИО. Т. 66. С. 136.].
Важное значение в данном случае приобретает скрытая часть айсберга, то есть тайная закулисная борьба, в которой противостояли друг другу олигархи и шляхетство, но исподволь действовала и императрица. Несмотря на усердие В. Л. Долгорукого, противники «затейщиков» находили хитроумные способы извещать ее о происходившем за стенами покоев, о бурном движении умов и возраставшем недовольстве верховниками. Главной посредницей, извещавшей ее о движении среди шляхетства, была статс-дама Прасковья Юрьевна Салтыкова, свойственница императрицы. Лица, настроенные против верховников, а к ним, по сведениям К. Рондо, относились князь Трубецкой и его родственники князь Алексей Черкасский, полковник Преображенского полка Семен Салтыков и другие, передавали обычно записки в пеленках сына Бирона. Феофан Прокопович воспользовался другим способом – он подарил императрице столовые часы, под декой которых находилась записка с уверением, что ее сторонники будут действовать решительно и сплоченно[48 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 211.]. Текла рекой и информация от сестры Анны Иоанновны Прасковьи Иоанновны – единственного человека, имевшего беспрепятственный доступ к императрице.
Мы в точности не знаем и вряд ли когда-либо узнаем, какие мысли тревожили Анну Иоанновну в те дни. Лишь об одном можно сказать с уверенностью – ее голова, на которую нечаянно свалилась императорская корона, не была обременена планами о будущем страны, о намерении что-либо изменить, усовершенствовать, ввести какие-либо новшества. Если она и размышляла о будущем, то ее помыслы ограничивались мечтой о личной судьбе: вероятно, она мечтала о том, как распорядиться 500 тысячами рублей, выделяемыми на содержание ее двора, – они в десять раз превосходили сумму, которой она располагала в скудной Курляндии, об удовлетворении страсти к драгоценным украшениям.
Не могли не роиться в ее голове и мысли о том, как освободиться от унизительной опеки Верховного тайного совета. Вероятно, она понимала, что подаренную ей Верховным тайным советом корону можно так же легко потерять, в случае если она неосторожно нарушит подписанные ею кондиции, – и тогда вместо императорского двора ее ожидала постылая жизнь в монастырской келье. В то же время она была осведомлена, что далеко не все разделяли намерения верховников ограничить ее самодержавную власть, чтобы лишить возможности удовлетворить любую свою страсть; она могла опереться на генералитет, духовных иерархов, вельмож, широкие круги дворянства, чтобы восстановить самодержавие.
Портрет императрицы Анны Иоанновны.
Гравюра Христиана Альбрехта Вортмана с оригинала Луи Каравакка. 1740 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Не бездействовал в эти тревожные дни и Верховный тайный совет: пустить дело на самотек, сидеть сложа руки, уповая на подпись под кондициями, – значит обречь себя на неминуемое поражение. Поэтому в дни, когда шляхетские группировки сочиняли свои проекты, Верховный тайный совет решил перехватить инициативу и в противовес шляхетским проектам представить несколько своих, из которых важным считался «К прежде учиненному определению дополнение».
Предвидя недовольство мелкого и среднего дворянства содержанием кондиции, Верховный тайный совет сразу же отправил в Митаву «К прежде учиненному определению пополнение», состоявшее из четырех пунктов, содержание которых было нацелено на умиротворение общества путем расширения льгот дворянству.
В первом пункте облегчалась служба малолетнего дворянства, начинавшаяся с низших чинов. Намечалось установить срок службы для каждого чина, «чтобы не было в тягость»: морскую службу дворянин должен был начинать не с матроса, а гардемарина, а сухопутную не в гвардейском полку, а в кадетских ротах.
Вторым пунктом для купечества устанавливали свободную торговлю и устраняли причины, ей препятствующие. В третьем пункте «Пополнения» высказано намерение уменьшить бремя крестьян, «каким-нибудь образом облегчить податьми». Специальный пункт касался духовенства и имел в виду восстановление прав архиереев и монастырей, которыми они располагали до учреждения Синода: упразднение Коллегии экономии и передачу управления вотчинами архиереям и монастырям. Им же поручался сбор податей с подвластного населения с передачей сумм Камер-коллегии[49 - Ученые записки Тамбовского пединститута. Вып. 15. Тамбов, 1957. С. 226–231.].
Вершиной уступок верховников шляхетству являются составленные Верховным тайным советом «Пункты присяги», означавшие уступки «затейщиков» натиску шляхетства. Если кондиции четко и последовательно отражали олигархические тенденции верховников, их претензии на полновластие в стране, то «Пункты присяги», напротив, полноту власти предоставляли императрице, а Верховный тайный совет низводился до роли совещательного органа при ней. «Верховный тайный совет состоит ни для какой собственной того собрания власти, точию для лутчей государственной пользы и управления в помощь их императорских величеств».
В этой формуле нетрудно обнаружить сходство с указом Екатерины I 1727 года, определявшим компетенцию Верховного тайного совета[50 - ПСЗ. Т. VII. № 5030.].
Этот пункт присяги вступает в явное противоречие с ее преамбулой.
Далее следует 16 пунктов присяги, обязывавших присягавших свято блюсти установленные в ней нормы, относящиеся к различным сословиям. Духовенству возвращались вотчины, находившиеся в управлении Коллегии экономии, а сама Коллегия упразднялась; члены Синода и архиереи подлежали церковному суду. Пункты присяги учитывали и интересы купечества: провозглашался принцип свободной торговли, отменялись монополии, запрещалось «прочим всяким чинам в купечество мешатца». Здесь же обещано уменьшить размер пошлин и налогов и к «купечеству иметь призрение и отвращать от них всякие обиды». Не оставлены без внимания и интересы крестьян, ограничивающие, правда в минимальных размерах, их налоговые обязательства: «Крестьян податьми сколько можно облегчить, а излишние расходы государственные рассмотреть».
Обстоятельнее всего «Пункты присяги» позаботились о привилегиях шляхетства – дворяне освобождались от бремени солдатской и матросской службы, приобретая офицерские звания при обучении в кадетских ротах, где они осваивали военное дело. Шляхетство было необходимо содержать «в надлежащем почтении» и в «ее императорского величества милости и консидерации»: имущество лиц, наказанных по суду, но принадлежавшее их женам и родственникам, не подлежало конфискации.
Но более всего составители «Пунктов присяги» позаботились о привилегиях аристократии: именно из «фамильных людей», генералитета и знатного шляхетства должны были избираться сенаторы, президенты и члены коллегий, прочие чиновники высшего ранга. Знатным фамилиям предоставлялось преимущество перед остальным шляхетством при назначении на высшие должности[51 - Д. А. Корсаков. Указ. соч. С. 158–161.].
Таким образом, некоторые «Пункты присяги» предоставляли шляхетству больше привилегий, чем оно требовало в своих проектах. Возникает вопрос: почему шляхетство не удовлетворилось уступками верховников и продолжало им противостоять? Ответа на этот вопрос источники не дают. Остается предположить, что участники шляхетского движения, и особенно его руководители, опасаясь мести верховников, решили идти до конца, добиваясь ликвидации этого учреждения. Кроме опасности подвергнуться преследованиям, на крах «затейки» верховников, как увидим ниже, оказала влияние наиболее организованная часть шляхетства – гвардейские полки[52 - Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.]. На решимость шляхетства бороться с верховниками существенно повлияла репутация и А. Г. Долгорукого, и его сына Ивана, пользовавшихся всеобщей ненавистью, вызванной высокомерием и спесью, что бросало мрачную тень на весь род. В итоге верховникам не удалось привлечь дворян на свою сторону.
Между тем лидеры верховников Д. М. Голицын и В. Л. Долгорукий, хотя и участвовали в составлении «Пополнений» и «Пунктов присяги», означавших значительные уступки шляхетству, оставались представителями рода Гедиминовичей и Рюриковичей и втайне не расставались с мыслью ограничить самодержавие: власть императрицы должна распространяться только на ее двор, на содержание которого отпускалась определенная сумма. Право императрицы распоряжаться вооруженными силами ограничивалось только небольшим отрядом гвардейцев, составлявших ее личную охрану.
От действия верховников пером на бумаге перейдем к рассмотрению их поступков.
Первостепенной важности события произошли 25 февраля: в то время как шляхетство и верховники занимались бумаготворчеством, Анна Иоанновна, хорошо осведомленная о брожении шляхетства, недовольная верховниками, приступила к решительным действиям. Надо было спешить, ибо по Москве носились упорные слухи о намерении Верховного тайного совета взять под стражу главаря шляхетского движения А. И. Остермана, князя Черкасского и Барятинского. Слух имел основание, ибо все понимали, что, лишив оппозицию руководителей, верховники без труда одолеют разрозненные группировки шляхетства.
Утром 25 февраля, когда Верховный тайный совет заседал в Мастерской палате Кремля, туда явились 150 человек, преимущественно военные во главе с князем А. М. Черкасским, генерал-лейтенантом и майором гвардии Г. Д. Юсуповым и генерал-лейтенантом Чернышовым, по словам Вестфалена, «с великим шумом» и потребовали удовлетворения своих требований, изложенных в челобитной. Присутствовавшие члены Верховного тайного совета обещали доложить об этом императрице, но челобитчики, не доверяя обещанию верховников, сами решили обратиться к ней. Дальнейшие события подробнее всего описаны датским посланником Вестфаленом.
Явившиеся к императрице челобитчики были ею благосклонно приняты, после чего они вновь появились в покоях Верховного тайного совета, где выразили полное удовлетворение оказанным им приемом императрицы. Князь Юсупов высказал мнение, что внимание императрицы к подданным заслуживает с их стороны искренней признательности, а князь Черкасский добавил: «Мы не можем возблагодарить ее величество за все милости к народу как возвратить похищенное у нее, то есть ту самодержавную власть, которой пользовались ее предки». И далее воскликнул: «Да здравствует наша самодержавная государыня Анна Иоанновна!»
В такой обстановке Долгоруким и Голицыным ничего не оставалось, как заявить: «Пойдем, присоединимся к другим и да будет так, как предопределено св. Провидением». Все направились во дворец к императрице, которой выразили благодарность за подписанные кондиции и в то же время высказали просьбу, чтобы она разрешила собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два от фамилии, чтобы по большинству голосов определить форму государственного правления. В заключение челобитчики заявили: «Всепокорно нижайше желаем и обещаем всякую верность и надлежащую пользу вашему величеству изжаловать и яко сущую всего отечества мать почитать и прославлять во веки бессмертные будем»[53 - Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.].
В. Л. Долгорукий предложил императрице удалиться в кабинет, чтобы вместе с министрами обсудить челобитную, но к ней подошла с пером и чернильницей более решительная и властная Екатерина Иоанновна и произнесла роковую фразу: «Сестра, теперь не время рассуждать и так долго раздумывать». Императрица положила резолюцию: «Учинить по сему».
Шляхетство удалилось на совещание, а оставшиеся в зале гвардейские офицеры кричали: «Не хотим, чтоб государыне предписывались законы, она должна быть такой же самодержицей, как были ее предки». Гвардейские офицеры не ограничились выражением своего желания, они в ответ на призыв утихомириться прибегли к угрозам: «Государыня, мы верные подданные вашего величества, мы верно служили прежним великим государям и сложим свои головы на службе вашего величества; но мы не можем терпеть, чтоб вас притесняли. Прикажите, государыня, и мы сложим к вашим ногам головы ваших злодеев»[54 - Соловьев С. М. Указ. соч. С. 213.].
Угроза гвардейских офицеров оказала решающее влияние на дальнейший ход событий. Она прибавила уверенности как Анне Иоанновне, так и сторонниками самодержавия – шляхетству. Императрица, опираясь на поддержку гвардии, отрешила от командования ею фельдмаршала В. В. Долгорукого и велела подчиняться приказам своего дяди С. А. Салтыкова. Поведение гвардейцев повлияло и на настроения шляхетства. От имени совещавшихся князь Трубецкой вручил ей новую челобитную, в которой за проявленную к ним милость «всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши достохвальные предки имели». Челобитчики просили упразднить Верховный тайный совет и признать недействительными подписанные ею кондиции. В ответ Анна Иоанновна заявила: «Мое постоянное намерение было управлять моими подданными мирно и справедливо, но так как я подписала известные пункты, то должна знать, согласны ли члены Верховного тайного совета, чтобы я приняла предлагаемые мне моим народом?» Те в знак согласия молча склонили головы.
«Как, – задала риторический вопрос императрица В. Л. Долгорукому, – пункты, которые вы мне поднесли в Митаве, были составлены не по желанию всего народа?»
Ей дружно ответили: «Нет!»
«Так, значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул»[55 - Манштейн Х. Г. Записки о России. СПб., 1875. С. 25.].
Императрица велела принести подписанные ею в Митаве кондиции и свое письмо Верховному тайному совету. В протоколе Верховного тайного совета записано: «Те пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, разорвать». Протокол не совсем точно передал случившееся: Анна Иоанновна не разорвала, а надорвала лист с кондициями, что свидетельствует о ее некоторой нерешительности. Этот надорванный лист и поныне хранится в Российском государственном архиве древних актов.
Итак, 25 февраля Анна Иоанновна стала самодержавной императрицей. В тот же день иностранные министры были извещены о принятии Анной Иоанновной самодержавия. Первой акцией самодержицы было освобождение из-под стражи П. И. Ягужинского, причем оно сопровождалось унижением фельдмаршала Долгорукого, который, как мы помним, отобрал у Ягужинского шпагу и «кавалерию».
Описание события 25 февраля оставил бригадир Иван Михайлович Волынский, извещавший письмом двоюродного брата Артемия Петровича Волынского в Казань: «Здесь дела дивные делаются». Далее автор сообщает «о двух поданных шляхетством челобитных; о второй из них с просьбой, чтобы Анна Иоанновна соизволила принять суверенство и тако учинилась в суверенстве… а оные делал все князь Алексей Михайлович (Черкасский. – Н. П.) и генералитет с ним и шляхетство, и что от того будет впредь, Бог знает.
Ныне в великой силе Семен Андреевич Салтыков, и живет он вверху и ночует при ее величестве, а большие в великом подозрении… И такого дела не бывало».
Другим результатом установления самодержавия была опала лиц, причастных к попытке ограничить его. Об их настроении нам известно из донесения Вестфалена от 2 марта 1730 года: «Наши друзья Долгорукие и Голицыны в весьма плачевном положении». Дмитрий Михайлович Голицын предчувствовал беду. Ему приписывают слова, сказанные после поражения: «Трапеза была уготована, но приглашенные оказались недостойными; знаю, что я буду жертвой неудачи этого дела. Так и быть: пострадаю за отечество; мне уже немного остается, и те, которые заставляют меня плакать, будут плакать долее моего»[56 - РС. 1909. № 2. С. 288; Соловьев С. М. Указ. соч. С. 215.].
Предчувствие Дмитрия Михайловича оправдалось – плакать ему придется позже. В первые годы мстительная императрица, обязанная троном именно Голицыну, не только не подвергла его преследованиям, но даже назначила сенатором. Опале подверглись Долгорукие, причем первым из них Василий Лукич, доставивший в Митаву кондиции, сопровождавший ее приезд в Москву и стороживший ее в Кремле. Вестфален доносил, что «императрица сразу же после того, как она надорвала кондиции, подозвала к себе В. Л. Долгорукого и дала ему понять, что очень желает, чтобы он оставил ее кремлевские покои, так как она предназначает их своему родственнику генерал-майору гвардии Симону (Семену. – Н. П.) Салтыкову, которому приказывает сменить дворцовую стражу и лично быть всю ночь в карауле». Впрочем, В. Л. Долгоруков, как и Д. М. Голицын, значился в списке сенаторов.
Действиями Анны Иоанновны, как только она объявила себя самодержицей, руководил срочно выздоровевший А. И. Остерман.
В расчетливых действиях императрицы четко прослеживается почерк хитроумного Остермана, который, как правило, избегал резких движений, предпочитая медленное удушение жертвы мертвой хваткой.
Охраняемая новым караулом, императрица все же не чувствовала себя в безопасности, но то, как она поступила с А. Г. Долгоруким и его сыном, свидетельствует, что ее действиями руководил опытный интриган, опробовавший уже однажды на Меншикове приемы расправы с опальными.
Вестфален, ссылаясь на мнения людей, хорошо знавших русские порядки, доносил: «Иные думают, что этим дело не кончится, для устрашения отрубят несколько голов. Полагают, что карьера Долгоруких и Голицыных закончена[57 - РС. 1909. № 2. С. 292.].
Дипломат полагал, что назначение Долгоруких и Голицына в Сенат – это только повод думать, что она простила нанесенное ей оскорбление. «Но, – продолжал Вестфален, – недавно разразившаяся гроза над главными представителями Долгоруких доказывает, что царица ничуть не забыла злого замысла против своей самодержавной власти».
Первыми жертвами победившей императрицы и ее сторонников стали Долгорукие. Французский дипломат Маньян доносил 9 апреля 1730 года о тайных совещаниях императрицы с обретшим здоровье Остерманом, после чего она велела обнародовать указ об удалении от двора Долгоруких. «Может быть, – рассуждал Маньян, – как думают многие, сегодня станет известным еще большее ухудшение их участи». Четырьмя днями позже более осведомленный де Лириа доносил о том, что предрекал Маньян: «Чего ждали для фамилии Долгоруких, то случилось прошлую неделю. Эта фамилия совершенно убита»[58 - РС. 1909. № 3. С. 548; Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 62.].
Следствие, как и всегда в подобных случаях, велось поспешно и поверхностно. Внимание следователей было приковано к главному вопросу: существовало ли составленное П. П. Шафировым завещание Петра II, объявлявшее Анну Иоанновну наследницей трона. Информация на сей счет исходила от Василия Лукича, признавшегося на допросе, что он, будучи в Митаве, сболтнул об этом, «желая за то ее величества большие к себе милости». Но Василий Лукич поведал Анне Иоанновне не только о выдуманном завещании, но и обо всех событиях, случившихся в Москве до его отъезда в Курляндию. Он рассказал о совещании Долгорукого в занимаемом Алексеем Григорьевичем головнинском дворце, где было решено объявить наследницей престола помолвленную с Петром II Екатерину Алексеевну. Сообщил Василий Лукич и о намерении трех братьев Долгоруких избить министров, если те откажутся поддержать ее вступление на престол. Анна Иоанновна даже переспросила у Василия Владимировича: «Было ли де так». Фельдмаршал ответил уклончиво, назвав замысел трех братьев «дурацким дерзновением».
Таким образом, Анне Иоанновне еще в феврале 1730 года в общих чертах было известно все, что происходило в головнинском дворце. Но, видимо, не в интересах следствия было докапываться до истины: о составлении подложного завещания, о поддельной подписи его Иваном Долгоруким и т. д. Во всяком случае в Манифесте о винах Долгоруких об этом не сказано ни слова.
Главная цель следствия – утвердить на троне самодержицу и как можно скорее избавиться от подследственных, подальше удалить их от столицы, чтобы обезопасить себя от случайностей. 14 апреля 1730 года был обнародован Манифест о вине Долгоруких, причем Манифест разбирал только трех представителей рода: Алексея Григорьевича Долгорукого с сыном Иваном и Василия Лукича Долгорукого.
Ни отцу, ни сыну не были предъявлены обвинения ни в попытке объявить наследницей трона невесту покойного императора, ни в причастности Верховного тайного совета к ограничению самодержавия. Манифест обвинял их лишь в том, что они, пользуясь фавором покойного императора, «стали всеми образы тщится и не допускать, чтоб в Москве его величество жил, где б завсегда правительству государственному присматривало». Вместо этого отец и сын под предлогом забав и увеселений отъезжали от Москвы «в дальные и разные места отлучали его величество от доброго и честного обхождения и, уподоблясь Меншикову, на дочери своей в супружество его готовили». Другая вина отца и сына состояла в разжигании у отрока страсти к охоте, чем его «здравию вред учинили». Наконец, Манифест обвинял отца и сына в казнокрадстве – они из казны взяли «многий наш скарб, состоящий в драгих вещах», правда, потом у них изъятых. Вина Василия Лукича состояла в том, что он по поручению Верховного тайного совета вручил Анне Иоанновне кондиции и во время путешествия из Митавы в Москву, а также во Всехсвятском и столице лишил ее общения с подданными и всячески притеснял.
Мера наказания обвиняемым не отличалась суровостью: князь Алексей вместе с супругой, сыновьями и дочерьми и братом Сергеем с семьей должны были жить в дальних деревнях с запрещением выезда из них. Ссылке в дальние деревни подлежал и «безбожно нас обманывавший» князь Василий Лукич. К остальным Долгоруким Манифест проявил снисходительность: братьев Алексея Григорьевича Ивана и Александра он определил воеводами в дальние города, предварительно лишив их чинов и «кавалерии»[59 - ПСЗ. Т. VIII. № 265.].
В последовательности применения репрессий к Долгоруким чувствуется почерк Остермана, проверенный ранее на Меншикове. Последний, как мы помним, лишался разных почестей постепенно, пока не оказался в Березове. Примерно так же поступили и с Долгорукими. Как только обвиняемые были выдворены из Москвы, вдогонку к кортежу ссыльных был отправлен курьер с указом, существенно ужесточавшим меру наказания. Предлогом для этого стало обвинение в медленном продвижении к месту ссылки – семья князя Алексея делала продолжительные остановки в находившихся по пути имениях, где развлекалась охотой. Теперь маршрут их был изменен, их отправили в Березов. Такая же участь постигла и Сергея Григорьевича – не успел он добраться до своей вотчины, где должен был безбедно жить, как 12 июня последовал новый указ – ссыльного взять под стражу и отправить в Ранненбург.
Среди Долгоруких самым обласканным императрицей в первые дни ее царствования оказался Василий Лукич: ему была уготована должность сибирского губернатора. По сути дела, это тоже была ссылка, хотя и почетная, ибо карьеру в то время обеспечивала близость ко двору.
На пути к месту службы в Тобольск Василия Лукича догнал подпоручик с командой в 14 человек и с повелением взять его под стражу, лишить чинов и «кавалерии» за многие императрице и государству «бессовестные противные поступки» и отправить на жительство в пензенскую вотчину Знаменское. Крутую перемену в жизни Василия Лукича молва связывала с Бироном, якобы заподозрившим в нем соперника.
В Знаменском Василию Лукичу жилось вольготнее, чем прочим ссыльным Долгоруким: ему разрешалось посещать церковь, совершать прогулки во дворе и даже за его пределами, навещать конюшни и присматривать за полевыми работами. Впрочем, относительной свободой ссыльный наслаждался месяца полтора – 23 июня 1730 года его вывезли из Знаменского, а уже 4 августа он оказался на Соловках.
Судьба к Голицыным оказалась благожелательнее, чем к Долгоруким. Вероятно, сказалась настойчивость Дмитрия Михайловича, с которой он продвигал к трону Анну Иоанновну. Но и в лагере Голицына отсутствовала уверенность в своей безнаказанности. Во всяком случае знаменитый фельдмаршал М. М. Голицын, втянутый в «затейку» старшим братом Дмитрием, не исключал возможности оказаться среди преследуемых. Об этом повествует Вестфален в депеше от 23 апреля, то есть после опубликования Манифеста о провинностях Долгоруких. Голицын, согласно рассказу Вестфалена, встав на колени, обратился к императрице со смелой речью, свидетельствующей о благородстве фельдмаршала: «Если ты желаешь видеть в этом желании (ограничить самодержавие. – Н. П.) важное преступление, признаю себя виновным. Но не согласна ли ты, всемилостивейшая императрица, что твой третий или четвертый наследник может быть кровожадным и жестоким государем? Я хотел защитить наше бедное потомство против такого произвола, назначив благородную границу их непомерной власти и власти фаворитов, которые всегда немилосердно нас мучили. Ты сама испытала их низменность во время фавора Меншикова. Я знаю, как бы то ни были чисты мои побуждения, я безвозвратно погиб, если тебе угодно поступить со мною по всей строгости законов.
Я в твоей власти, если ты непременно желаешь меня наказать, всенижайше и серьезно прошу тебя, лучше казни меня смертью, но не огорчай ссылкой. Если мне придется остаток дней моих провести в печали, я буду смертельно страдать все время, пока проживу». Вестфален рассказывает, что Анна Иоанновна, выслушав речь, настолько расстрогалась, что расплакалась.
Нам остается ответить на вопрос, волновавший как современников, так и потомков: почему намерение верховников ограничить самодержавие потерпело неудачу, почему надорванные кондиции стали кульминацией в победе самодержавия? Причин несколько, но главная из них кроется в отсутствии консолидации среди господствующего сословия, которая наступила несколькими десятилетиями позже.
Несмотря на Табель о рангах, формально ликвидировавшую «перегородки» между отдельными группами дворянства, назвав его шляхетством, различия между ними, как показали события 1730 года, сохранились. Их можно было наблюдать на двух уровнях: между аристократией и остальной массой шляхетства и внутри самого шляхетства.
Волею случая Верховный тайный совет был укомплектован преимущественно выходцами из аристократии, причем представителями двух фамилий: Долгоруких и Голицыных. Составленные ими кондиции отражали интересы прежде всего этих двух фамилий. Вчитайтесь в кондиции и их преамбулу, состоявшие из двенадцати пунктов, и вы обнаружите только два, в реализации которых были заинтересованы широкие круги дворянства: обязательство императрицы заботиться об укреплении и расширении православия и лишении императрицы возможности распоряжаться без суда жизнями и имениями дворян. Остальные же десять пунктов были нацелены на удовлетворение интересов двух аристократических фамилий и имели в виду не изменение политического строя в стране, а ограничение власти конкретного монарха в пользу конкретных фамилий. В этом плане представляет интерес восьмой пункт кондиций, обязывающий императрицу содержать Верховный тайный совет в неизменном составе восьми человек.
Сказанное дает основание считать «затейку» верховников олигархической, удовлетворяющей притязания всего лишь двух фамилий. Отсюда брали начало все последующие ошибочные действия верховников, имевшие более или менее стратегическое значение.
Аристократическая спесь Долгоруких и Голицыных препятствовала привлечению на свою сторону таких влиятельных персон, не принадлежавших к кланам аристократии, но пользовавшихся огромным авторитетом среди шляхетства, как Ягужинский, Татищев, Кантемир и другие.
Батюшки мои, обратился Павел Иванович к Василию Лукичу, прибавьте нам, как можно, воли.
Говорено уже о том было, но то не надо, слукавил князь Василий, не желая «прибавить воли» сыну пастора[60 - Соловьев С. М. Указ. соч. С. 203.].
К столь же существенным ошибкам олигархов относится игнорирование интересов духовенства, нежелание иметь его в качестве союзника. Привлечение на свою сторону церковных иерархов и главного из них, Феофана Прокоповича; прибавило бы немало весу верховникам.
Консолидация отсутствовала и среди самого шляхетства. Достаточно в этой связи напомнить существование шести-семи проектов, исходивших от шляхетства, чтобы убедиться в отсутствии у него общности взглядов.
Но наличие разногласий не исключало общности их воззрений, которых, по крайней мере, было две: шляхетство недвусмысленно требовало либо упразднения Верховного тайного совета, либо увеличения численности его состава, следовательно, выступало против узурпации им верховной власти. Во всех шляхетских проектах нет требования сохранить самодержавие в том виде, в каком оно существовало до «затейки» верховников. Подобная ситуация открывала верховникам широкий простор для маневрирования, которым они не воспользовались, поскольку находились в плену олигархических иллюзий.
К тактическим ошибкам, обрекавшим олигархов на поражение, относится их нерешительность, отсутствие смелости и желания добиваться победы с использованием своего влияния и власти. Напомним, среди олигархов находились два уважаемых в армии фельдмаршала: В. В. Долгорукий сосредоточивал в своих руках управление Военной коллегией, то есть административную власть над командным составом полевой армии и гвардии, где он значился подполковником Преображенского полка. Что касается фельдмаршала М. М. Голицына, то у него была репутация отважного офицера, по-отечески заботившегося о солдатах и заслужившего их любовь. Верховники не воспользовались этими возможностями и вспомнили о них с большим опозданием.
О большом влиянии фельдмаршалов на внутренние дела доносил английский дипломат К. Рондо. О В. В. Долгоруком отзывался так: «Он великодушен, смел, держится откровенно, говорит свободно», за что и поплатился во время следствия по делу царевича Алексея. Его Петр I отправил в Соликамск, но Екатерина назначила его командовать войсками в Персию, однако за вольные суждения о царице, его выручившей, и ее фаворите вновь оказался в опале. Возвысился при Петре II благодаря протекции царского фаворита и его отца.
К фельдмаршалу М. М. Голицыну Рондо более строг: «Он характера серьезного, скуповат и не из широких натур, но приветлив и очень доступен, человек высокочестный, неудержимой храбрости, проявленной во многих делах против шведов»[61 - РИО. Т. 66. С. 157, 158.].
Верховники, далее, осуществляли не наступательные, а оборонительные акции, уступая одну за другой позиции противоборствующей стороне, готовя тем самым почву для восстановления самодержавия. Нерешительность действий верховников, распри в лагере Долгоруких тоже не способствовали успеху дела.
Наконец, верховники проявили наивность, уповая на устройство застав, на изоляцию Анны Иоанновны, надеясь превратить ее в свою марионетку.
Об ошибочности тактики верховников, не использовавших возможность апеллировать к шляхетству, быть может и составлявшему меньшинство, но все же разделявшему идеи верховников, свидетельствует позиция бригадира Козлова. Он был очевидцем начальных действий верховников по ограничению самодержавия и, прибыв в Казань, с восторгом делился своими впечатлениями с губернатором А П. Волынским. Они настолько интересны, что хотя и пространны, но заслуживают полного их напечатания: «Теперь у нас прямое правление, государство стало порядочное… и уже больше Бога не надобно просить, кроме, чтоб только между главными согласие было. А если будет между ними согласие, так как положено, конечно, никто сего опровергнуть не может. Есть некоторые бездельники, которые трудятся и мешают, однако ж ничего не сделают, а больше всех мудрствуют с своею партишкою князь Алексей Михайлович (Черкасский. – Н. Я.)… И о государстве так положено, что хотя в малом в чем не так будет поступать, как ей определено, то ее, конечно, вышлют назад в Курляндию, и для того будь она довольна тем, что она государыня Российская; полно и того. Ей же определяют на год 100 000 и тем ей можно довольно быть, понеже дядя ее и император и с теткой ее довольствовались только 60 000 в год, а сверх того не повинна она брать себе ничего, разве с позволения Верховного тайного совета; также и деревень никаких, ни денег не повинна давать никому, и не токмо того, но последней табакерки из государственных сокровищ не может себе вовсе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будет, давать ей с росписками»[62 - С. М. Соловьев. Указ. соч. С. 211.].
Волынский не разделял взглядов Козлова, радовавшегося попыткам ограничить самодержавие, видимо, не только по идейным, но и карьерным мотивам. А. С. Салтыков являлся не только дядей императрицы, но и дядей Волынского, следовательно, полновластие Анны открывало широкие перспективы в карьере Волынского.
Попутно отметим, что Волынский высоко оценивал способности Козлова и считал его высказывания о политическом устройстве страны искренними. Козлов, писал он Салтыкову, «очень не глуп и для того естъ-ли бы совершенной надежды не имел, как бы ему так смело говорить и говорил не пьяный[63 - РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 276. Ч. 2. Л. 38.].
Конечно, вера бригадира Козлова в то, что во время правления Верховного тайного совета в стране наступит благоденствие, исчезнут огромные траты на содержание двора, наступит правосудие, является эфемерной и наивной. Для нас его мнение представляет интерес в том плане, что и среди шляхетства находились сторонники верховников, но они не воспользовались ни услугами Козлова, ни его единомышленников, оставшись невостребованными.
Глава IV
Царствовала, но не управляла
Определяющим при оценке государственного деятеля должны быть не его личные свойства, хотя их не следует игнорировать, а перечень дел, полезных народу и государству: что сделано по инициативе монарха или монархини и при их активном участии в законотворчестве, в реализации внутри- и внешнеполитических планов, в совершенствовании государственного аппарата, в укреплении мощи и престижа государства, в градостроительстве, развитии науки и культуры. Если говорить о XVIII столетии, то этим требованиям вполне соответствовали Петр Великий и Екатерина II.
Общеизвестна кипучая деятельность Петра I, оставившего глубокий след во всех сферах жизни страны: экономической, социальной, дипломатической, военной, культурной и др. Петр I законодательствовал, участвовал в сражениях на суше и на море, вникал во все детали жизни общества. Итог его правления можно сформулировать так: он возвел Московию в ранг европейской державы.
Петр Великий, как и Екатерина II, не только царствовал, но и управлял, нес тяжкое бремя служения государству, не жалел, как он писал, «живота своего» на военной и гражданской службе. Еще одно качество свойственно крупномасштабным государственным деятелям – умение угадывать таланты и комплектовать команду из людей неординарных, энергичных, инициативных.
Удел других монархов и монархинь куда скромнее: подобно английским королям и королевам они царствовали, но не управляли, с тем, однако, различием, что права английских монархов были ограничены законом, в то время как власть русских императоров и императриц была абсолютной, не знающей преград. Анна Иоанновна принадлежала именно к этому типу монархов: как мы убедились выше, она не прошла школы управления огромной империей, на троне оказалась волею случая, не обладала необходимой для государыни энергией, была от природы ленива, бесхарактерна и жестока и использовала трон для личной услады.
Вызывает удивление глубокая пропасть, существовавшая между оценками, обнаруживаемыми в откликах современников об императрице, и ее делами. Впрочем, удивляться не приходится, когда мы читаем официальные отклики о деяниях императрицы, исходившие от придворных льстецов, обязанность которых состояла в прославлении несуществующих добродетелей царствующих особ, или правительственной газеты, печатавшей заметки об усердии императрицы в делах управления, используемых для создания облика мудрой императрицы.
Начнем с отзывов двух присяжных панегиристов: пиита В. К. Тредьяковского и главы православной церкви, прославлявшего с одинаковым усердием на протяжении четырех царствований: Петра Великого, заслуживающего всяческих похвал, бездарную его супругу Екатерину I, ничем не проявившего себя отрока Петра II и оставившую о себе недобрую память Анну Иоанновну.
Все пииты стремились перещеголять друг друга в прославлении императрицы, «высочайшей премудрости Анны». А. Кантемир видел в поступках ее «мудрость многу и сколь ей в истину расчищена дорога». Не уставал воспевать добродетели Анны и Феофан Прокопович.
Луи Каравакк.
Портрет императрицы Анны Иоанновны. 1730 г. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
В «Слове» в честь восшествия на престол Анны 19 января 1733 года проповедник выражал радость, что престол заняла она, а не кто другой. Автор «Слова», произнесенного 28 апреля 1734 года, посвятил его доказательству того, что для России единственно приемлемой формой правления может быть только самодержавие. В подобном контексте комплименты типа «Особа багрянородна не много имела равных себе в толикой чести особ во всей подсолнечной, а в состоянии без числа лучше от себя цвету их видела» не подкреплены фактами и повисали в воздухе[64 - Феофан Прокопович. Слова и речи. Ч. 3. СПб., 1769. С. 48, 53, 146, 152, 158, 188 и др.]. Лишь одно слово, произнесенное Прокоповичем, связано с конкретным событием – овладением Данцигом, но этот эпизод, происшедший при жизни Прокоповича, не относится к числу важных, заслуживающих громких похвал.
Единственная в стране газета – «Санкт-Петербургские ведомости», – являвшаяся рупором правительства, настойчиво внушала читателям мысль, что Анна Иоанновна с необычайным усердием и постоянством участвовала в решении государственных дел, причем чем дальше, тем в большей мере. На поверку, как мы убедимся ниже, здесь обнаруживается обратная зависимость: чем ближе к нашему времени, тем меньше она занималась делами и тем пышнее и многословнее становилась информация о ее заботах о благе государства и его подданных.
30 июня 1730 года «Санкт-Петербургские ведомости» уведомляли подданных: «Хотя ее величество еще непрестанно в Измайлове при нынешнем летнем времени пребывает, однако в государственных делах превеликое попечение иметь изволит, понеже не токмо Сенат здесь (в Москве. – Н. П.) свои ежедневные заседания имеет, но такожде два дня в неделю назначены, чтоб оному у ее императорского величества в Измайлово собираться, и в ее присутствии в среду иностранные, а в субботу здешние государственные дела воспринимать, такожде изволит ее величество сверх того министров до аудиенции допускать».
В последующие годы газета перестала называть дни присутствия императрицы на заседаниях Кабинета министров, поскольку они стали крайне редкими, а ограничивалась самой общей информацией о ее участии в делах управления. Так, после переезда двора из Москвы в Петербург 18 мая 1732 года население столицы извещалось, что Анна Иоанновна «изволит в государственных делах к бессмертной своей славе с неусыпным трудом упражняться». В июньской публикации читаем то же самое, но с некоторым дополнением – императрица «с превеликим матерным попечением упражнятся изволит» в государственных делах. В октябре того же года императрица, как извещала газета, «ежедневно со своими министрами о непременном благополучии своих государств неусыпное попечение имеет». В конце ноября появилось более изощренное и многословное заявление о том, что Анна Иоанновна «к вечной своей славе и к знатной пользе своих вернейших подданных и поныне неусыпное смотрение имеет. Чего ради ее императорское величество ни одного дня не упускает, в котором бы ее императорское величество при обыкновенных того рода советах всевысочайшей особого всемилостивейше присутствовать не изволила».
Таким образом, на протяжении одного года «Ведомости» опубликовали четыре извещения о занятиях императрицы делами. Частое появление их легко объяснимо: Анна Иоанновна еще недостаточно прочно укрепилась на троне и нуждалась в распространении мнения, что она подражает не Петру II, носившемуся по полям и весям, круглый год занимаясь охотой, а Петру Великому, работнику на троне.
В 1733 году «Санкт-Петербургские ведомости» тоже четырежды публиковали извещения о занятиях императрицы делами, но с двумя существенными отличиями: в них отсутствует присущее извещениям 1732 года славословие, а главное – императрица участвовала в заседаниях Кабинета министров лишь при обсуждении секретных дел. 12 февраля Анна Иоанновна «ныне при тайных советах опять обыкновенно присутствовать изволит»; в августе – «беспрестанно при тайных советованиях в нынешнем состоянии присутствует»; 1 ноября – «при советовании о нынешних обстоятельствах завсегда сама присутствовать изволит»; 20 декабря подтверждение предшествующих уведомлений: императрица в советах «непрестанно присутствует».
Самое пространное такого рода известие было обнародовано газетой 2 октября 1735 года: «Ее императорское величество всемилостивейшая наша самодержица обретается во всяком вожделенном благополучии как при дворе ее императорского величества во всем преизрядный порядок и непременная исправность крайне наблюдается, так и многие иностранные дела, в которых ее императорское величество беспрестанно упражняться изволит. Ее величество от того весьма не удерживают, чтоб о своей империи и всегдашнем приращении оные не иметь прозорливого и радетельного смотрения».
Чем дальше, тем реже появляются подобные сообщения. Так, за 1736 год газета ограничилась единственной публикацией в марте, извещавшей, что императрица изволила «при нынешних обстоятельствах с неусыпною матерною ревностию присутствовать».
Большое значение для создания в сознании подданных мыслей о величии Анны Иоанновны придавалось фейерверкам. Общеизвестно, огненными потехами увлекался Петр Великий, но при нем они использовались для прославления величия России, ее достижений. Фейерверки времен Анны Иоанновны прославляли императрицу, связывали с ее именем благополучие страны. Фейерверки устраивались в новогодние дни, дни рождения, тезоименитства и коронации Анны Иоанновны. Как сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», во время первого подобного фейерверка, устроенного в честь дня рождения императрицы 28 января 1733 года, наблюдавшие прочли слова на латинском языке, заимствованные у Овидия: «Оттуда происходит величество и в самой тот день, в которой родилась, уже велико было». В феврале того же года в фейерверке были использованы слова Клавдия: «Имя ее вознесут народы».
О новогоднем фейерверке 1734 года газета писала: изображенный орел держал «в правой лапе лавром обитый меч, а на грудях щит с вензловым именем ее императорского величества, имеющий надпись: “Щит другам, страх неприятелем”». Едва ли не самый подобострастный фейерверк был устроен в честь нового 1736 года. В описании газеты он выглядел так: «На фоне фейерверка изображена была Россия в женском образе, стоящая на коленях перед ее императорским величеством, которая освещалась снисходящими с неба на ее императорское величество и от ее величества возвращающимся сиянием с сею надписью: “Благия нам тобою лета”». На фейерверке, посвященном дню рождения, 28 января 1738 года были обозначены слова: «Да умножаются лета великия Анны».
Важным средством, внушавшим подданным мысль о непрестанной заботе императрицы об их благополучии, являлись манифесты. В отличие от газеты, которую читала малочисленная прослойка населения, манифесты произносились с амвонов и являлись достоянием всех подданных, проживавших в самых глухих местах. Однако далеко не все манифесты и указы информировали читателей и слушателей о неусыпных трудах императрицы, а лишь те из них, где предоставлялась возможность противопоставлять «матерное попечение» неблагодарности подданных, совершивших тяжкие политические преступления.
Манифест от 23 декабря 1731 года о наказаниях Долгоруких должен был усугубить их вину следующими словами: «Хотя всем известно, какие мы неусыпные труды о всяком благополучии и пользе государства нашего, что всякому видеть и чувствовать возможно из всех в действо произведенных государству полезных наших учреждений». Манифест, обнародованный в ноябре 1734 года в связи со ссылкой в Сибирь смоленского губернатора князя Алексея Андреевича Черкасского, начинался словами: «Известно всем нашим подданным, коим образом с начала вступления нашего на наследной прародительский Всероссийской империи самодержавный престол неусыпное попечение имеем об утверждении безопасности нашего государства и благопоспешествования пользы и благополучия всех наших верных подданных». Указ 9 января 1737 года о наказании Д. М. Голицына тоже перечисляет добродетели императрицы: «Ревнуя закону Божьему крайнейшее желание и попечение имеем все происходящие неправды, ябеды, насильства и вымышленные коварства всемерно искоренять, а правосудие утверждать и обидимых от рук сильных избавлять»[65 - ПСЗ. Т. VIII. № 5916; Т. IX. № 6647; Т. X. № 7151.].
Как видим, все средства, которыми располагала правительственная пропаганда, были использованы для создания образа правительницы, денно и нощно пекущейся о благе государства и своих подданных. Вызывает недоумение, что официальную версию о мудрости российской императрицы подхватили и некоторые зарубежные дипломаты, и немцы, находившиеся на русской службе.
Первый благожелательный отзыв об Анне Иоанновне принадлежит английскому резиденту К. Рондо. В донесении от 20 апреля, то есть спустя месяца два знакомства с императрицей, он сумел обнаружить в ней много положительного: «Ее царское величество показала себя монархинею весьма энергичной и смелой, без этих качеств ей вряд ли бы удалось предотвратить ограничение своей власти»[66 - РИО. Т. 66. С. 182.]. Прусский посол Мардефельд тоже высоко отзывался о способностях Анны Иоанновны, хотя отмечал и недостатки: «Настоящая императрица обладает большим умом, расположена к немцам, чем к русским, отчего она в своем курляндском придворном штате не держит ни одного русского, а только немцев». Наблюдения леди Рондо тоже не были продолжительными, тем не менее она оставила привлекательный образ императрицы: «Она примерно моего роста, но очень крупная женщина, с очень хорошей для ее сложения фигурой, движения ее легки и изящны. Кожа ее смугла, волосы черные, глаза темно-голубые. В выражении ее лица есть величавость, поражающая с первого взгляда, но когда она говорит, на губах ее появляется невыразимая милая улыбка. Она много разговаривает со всеми и обращение ее так приветливо, что кажется, будто говоришь с равным, в то же время она ни на минуту не утрачивает достоинства государыни. Она, по-видимому, очень человеколюбива, и будь она частным лицом, то я думаю, что ее бы называли очень приятной женщиной»[67 - Безвременье и временщики. С. 210.]. Леди Рондо, как видим, уклонилась от характеристики натуры, ограничившись описанием ее внешности, судя по другим источникам, далекой от оригинала.
Французскому офицеру Агену де Моне, оказавшемуся в русском плену в 1734 году, удалось увидеть императрицу единственный раз – во время приема, устроенного ею для офицеров, отбывавших на родину: «Мы нашли, что императрица отличалась величественным видом, прекрасной фигурой, смуглым цветом лица, черными волосами и бровями, большими на выкате глазами такого же цвета и многочисленными рябинами на лице; она была причесана по-французски и в волосах у нее было множество драгоценных камней. На ней было золотое парчовое платье с огненным оттенком. На роскошной ее груди виднелась большая бриллиантовая корона. У нее, кажется, мягкий и добрый нрав». Описание величественного облика императрицы и ее безупречной фигуры, надо полагать, являлось знаком признательности французов, оказавшихся в плену и, вероятно, ставших бы жертвами русской зимы, если бы она не распорядилась экипировать пленных зимним обмундированием.
Другой француз, на этот раз командовавший десантом, бригадир Ламотта де ла Перуза, тоже оказавшийся в плену, еще более восторженно отзывался об Анне Иоанновне: «Ее императорское величество повелела нас в одни из своих палат на квартиру поставить, где нас зело богато трактуют и как в свете лучше желать невозможно; я не могу довольно вам, милостивейший государь, все благодеяния изобразить, которые мы получили и получаем от ее императорского величества, которая соизволила нас допустить, что мы имели честь у руки ее величества быть, и повелела нам показать всю красоту и магнифиценцию (величие. – Н. П.) своего двора»[68 - ЧОИДР. 1867. Кн. 3. С. 59.].
Гувернантка Элизавет Джорджия, прослужившая три года (1734–1737) в доме богатого английского купца Хилла, скорее всего, пользовалась оценками других лиц, а не собственными наблюдениями. В ее описании Анна Иоанновна выглядела так: «Ее величество высока, очень крепкого сложения и держится соответственно коронованной особе. На ее лице выражение величия и мягкости. Она живет согласно принципам своей религии. Она владеет отвагой, необычной для своего пола, соединяет в себе все добродетели, какие можно было бы пожелать для монаршеской особы. И хотя является абсолютной владетельницей, всегда милостива. Ее двор очень пышен, многие приближенные – иностранцы. Дважды в неделю устраиваются приемы, но туда допускают только тех, кто принадлежит ко двору»[69 - Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны. СПб., 1997. С. 91, 92.].
Мы располагаем свидетельствами иностранцев-современников, имевших возможность наблюдать императрицу с близкого расстояния и часто общаться с нею. Речь идет о фельдмаршале Минихе и полковнике Манштейне. Так, Манштейн, например, заключил свой рассказ об Анне Иоанновне такими словами: «Императрица Анна по природе была добра и сострадательна и не любила прибегать к строгости. Но как у нее любимцем был человек чрезвычайно суровый и жестокий, имевший всю власть в своих руках, то в царствование ее тьма людей впали в несчастие. Многие из них и даже лица высшего сословия были сосланы в Сибирь без ведома императрицы»[70 - Манштейн Х. Г. Записки о России. С. 194.].
Манштейн, как видим, все добродетели приписывает императрице, а все ее злодейские поступки относит на счет фаворита Бирона. Но всех превзошел в лестных отзывах об императрице английский полномочный министр при русском дворе Эдуард Финч: «…не могу не сказать, что усопшая обладала в высшей степени всеми достоинствами, украшающими великих монархов, и не страдала ни одной из слабостей, способных омрачить добрые стороны ее правления. Самодержавная власть позволяла ей выполнять все, что бы она ни пожелала, но она никогда не желала ничего, кроме должного… При всяком случае проявляла величайшую дружбу, уважение и расположение к особе короля, всегда была глубоко уверена в необходимости союза с его величеством и сердечно стремилась к искреннему сближению с ним». Скорее всего, в этом ключ столь восторженной оценки: при Анне был заключен крайне выгодный английским купцам торговый договор, наносивший ущерб интересам России и ее купечеству.
Откликов современников из числа русских значительно меньше, и они не столь единодушно положительны, как отзывы иностранцев. В своем месте мы приводили отзыв Д. М. Голицына, высказанный им на заседании Верховного тайного совета, когда речь шла об избрании Анны Иоанновны императрицей. По его мнению, она умная женщина, правда, с тяжелым характером. Заметим, тяжелый характер не сопрягается с добродетелями. Однозначно негативно в своих мемуарах отзывалась об императрице Наталья Борисовна Шереметева, дочь фельдмаршала Б. П. Шереметева, вышедшая замуж за И. А. Долгорукого. Она представила императрицу чудовищно безобразной, не соответствующей облику, изображенному современниками-иностранцами. Н. Б. Шереметева писала: императрица «страшного была взору, отвратное лицо имела, так была велика, когда между кавалерами идет, всех головой выше и чрезвычайно толста»[71 - РИО. Т. 75. С. 240.]. Оценка, исходившая от А. П. Волынского, относится не к внешности императрицы, а к ее интеллекту: «Государыня у нас дура, и резолюции от нее не добьешься и ныне у нас герцог что захочет, то и делает»[72 - Безвременье и временщики. С. 58, 59.].
Еще один отзыв об Анне Иоанновне оставил М. М. Щербатов. Под язвительным пером автора памфлета «О повреждении нравов в России» императрица «не имела блистательного рассудка, который тщетной блистательностью в разуме предположительнее; с природы нраву грубого, отчего и с родительницею своею в ссоре находилась и ею была проклята, как мне известно… Грубый ее природный обычай не смягчен был ни воспитанием, ни обычаем того века…». В результате она «не щадила крови своих подданных»[73 - Там же. С. 262; Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1898. С. 364.].
Насколько соответствуют действительности упомянутые выше свидетельства «о неусыпных советованиях», «матерном попечении» «великие государыни», что она обладала достоинствами, «украшающими великих монархов», можно проверить показаниями других источников.
Самым надежным из них, подтверждающим или опровергающим приведенные доказательства, мог бы стать распорядок дня, подобный тому, который имели Петр I и Екатерина II, но она не позаботилась о его составлении. Свидетельства же отца и сына Минихов не дают основательного представления, как распоряжалась своим временем Анна и какую часть его она уделяла делам государственным. Фельдмаршал и его сын сообщают, что императрица вставала в шесть или семь утра, садилась за обеденный стол дважды: в 12 дня и 9 вечера, в 10 отправлялась ко сну. Неясно, что скрывалось под туманного содержания словами: «…если дела не удерживали, то императрица выходила в публику» с 11 до 12 дня и с четырех до половины девятого вечера. Что означали слова «выходила в публику» – их можно толковать по-разному: выходила или выезжала на прогулку, занималась охотой или наблюдала травлю зверей, встречалась с кабинет-министрами и т. д.
Активность занятий императрицей государственными делами делится на три этапа. Первый из них, кратковременный, продолжался несколько месяцев в начале ее царствования, когда на троне она не чувствовала себя достаточно прочно и ей, преодолевая лень, приходилось имитировать активность в решении государственных дел и проводить нудные часы в Сенате.
Второй этап наступил со времени учреждения Кабинета министров в 1731 году и продолжался до указа 9 июня 1735 года, приравнивавшего три подписи кабинет-министров к именному указу императрицы.
Прежде всего надобно установить хотя бы приблизительно количество «рабочих» дней императрицы в году. В течение года отмечалось три праздника, связанных с именем императрицы: день ее рождения, день ее тезоименитства и день коронации, причем важнейшим считался день коронации – единственный день в году, когда Анна Иоанновна, не терпевшая пьяных, разрешала вельможам и придворным напиваться досыта. Каждый из этих праздников продолжался по несколько дней.
Далее следовали дни рождения и тезоименитства представителей и представительниц царствующей фамилии: в начале 1730-х годов отмечались дни двух сестер императрицы, царицы Евдокии Федоровны и царевны Елизаветы Петровны. Сестры и царица вскоре скончались, но появились новые лица: Анна Леопольдовна, ее супруг Антон Ульрих Брауншвейгский, их сын Иван Антонович, а с 1737 года, когда Бирон стал герцогом Курляндским, подобной чести удостоилось все его семейство: супруга, два сына и дочь.
Праздновались также дни основания четырех гвардейских полков, так называемые кавалерские дни, то есть дни учреждения орденов Андрея Первозванного и Александра Невского. Если к ним прибавить церковные праздники и воскресные дни, то в общей сложности в году насчитывалось не менее 90 праздничных дней.
Пользуясь подсчетами визитов кабинет-министров к императрице, мы можем установить реальное число «рабочих» дней императрицы. Для примера возьмем 1733 год. В этом году кабинет-министры навестили императрицу 110 раз, но не все встречи оказались плодотворными. В опубликованных бумагах Кабинета министров встречаются такие формулировки: «ходили к ее императорскому величеству с докладом, токмо отложен до другого дня»; «ходили вверх к ее императорскому величеству, токмо докладов сего числа не было»; «ходили с документами, токмо сего числа подписывать не изволила».
Отсутствуют сведения о причинах отказа императрицы обсуждать с визитерами из Кабинета министров деловые вопросы: то ли она недомогала, то ли пребывала в дурном расположении духа, то ли предавалась забавам и не желала прерывать удовольствие. Из 110 визитов 34 оказались бесполезными, причем наибольшее их число падает на февраль (из восьми семь безрезультатны), май (из девяти – шесть) и март (из двенадцати – семь).
Таким образом, Анна Иоанновна в течение 1733 года занималась делами только 76 дней, то есть чуть больше пятой части числа дней в году. Если учесть, что визиты, надо полагать, занимали время с 11 до 12 часов, причем визитеры являлись с готовыми указами и резолюциями, которые надлежало подписать, и дело ограничивалось короткими докладами, то эти данные ставят под большое сомнение достоверность заявлений «Санкт-Петербургских ведомостей» о старательном исполнении императрицей своих обязанностей.
Еще меньше забот у императрицы стало на третьем этапе ее царствования – после указа 1735 года, когда ко всякого рода празднествам прибавилось полтора-два месяца пребывания двора в загородной резиденции – Петергофе, где ради «увеселения» императрицы запрещалось утруждать ее какими-либо делами. Даже Ушакову довелось испытать унижение. 20 июля 1738 года он отправил Бирону образцы сукна для обмундирования гвардейских полков, чтобы тот показал их императрице. 26 июля Бирон отправил ответ: выслушав его доклад, она «изволила сказать, что в том не великая нужда, чтоб меня в деревне (Петергофе. – Н. П.) тем утруждать, а как де отсюду в Петербург прибудем, тогда и резолюция будет».
Итак, приведенные выше данные не дают основания для вывода о напряженном ритме жизни императрицы, о ее усердном участии в управлении государством.
Убедительный вклад в раскрытие образа Анна Иоанновны как крупного государственного деятеля могло бы внести ее эпистолярное наследие – письма к вельможам. Но они не дают повода для высокой оценки ее деловых качеств. Здесь первостепенное значение имеют письма императрицы к Семену Андреевичу Салтыкову, доводившемуся ей дядей по матери.
В подавляющем большинстве они напоминают послания одного частного, притом недалекого, лица к другому, а не письма императрицы к генерал-губернатору важнейшей в России губернии, первоприсутствующему в Московской конторе Сената, руководителю Московской конторы Тайных розыскных дел канцелярии. Чины и звания Салтыков приобрел не благодаря личным заслугам, как Меншиков при Петре I или Потемкин при Екатерине II, а через родство с императрицей. Именно это обстоятельство обеспечило ему молниеносную карьеру, и без особых усилий он взобрался на вершину власти, недоступную простому смертному: 4 марта 1730 года он получил звание сенатора, через пару дней генерал-лейтенант Салтыков стал полным генералом, получил придворный чин обер-гофмейстера, а в январский день 1732 года, когда двор переезжал из старой столицы в новую, Семен Андреевич, как доверенное лицо императрицы, был оставлен в Москве генерал-губернатором. В дальнейшем Салтыков, единственный родственник императрицы по женской линии, семь лет правил старой столицей, опираясь на родство.
Известно, что ни Петра I, ни Екатерину II, ни Анну Иоанновну не готовили к занятию российского престола, все они получили скудное образование. Но Петр I собственными усилиями постиг вершины многих знаний. Ангальтцербтская принцесса Софья благодаря самообразованию возвысилась до мышления имперского уровня, в то время как Анна Иоанновна, заняв российский престол, не преодолела уровня мышления курляндской герцогини. Общеизвестно, что Петр Великий и особенно Екатерина II много читали, были знакомы лично или находились в переписке с крупнейшими европейскими учеными, в то время как историки не располагают сведениями, что Анна удосужилась прочесть хотя бы одну книгу. Достаточно взглянуть на 303 письма, отправленных императрицей Салтыкову, чтобы убедиться в том, что автор их была обременена преимущественно мелочными заботами и мелкими житейскими интересами.
Инструкция Салтыкову, составленная в январе 1732 года, предоставляла ему обширнейшие полномочия наместника в старой столице. Он обязан был содержать Москву и губернию «в добром порядке» и решительно «пресекать всякие непорядки, конфузии и замешательства». Под его началом находились все должностные лица, в том числе представители центральной военной и гражданской администрации. Ему предоставлялось право в экстремальных условиях действовать по своему усмотрению, не сносясь о случившемся с Петербургом. Короче, Салтыков отвечал за все сферы жизни старой столицы: за правосудие, деятельность контор Сената и коллегий в Москве, содержание батальонов гвардейских полков, за пресечение волокиты и т. д. Инструкция заканчивалась седьмым пунктом: «Впрочем, имеет он обо всем, что здесь происходить станет и к нашему ведению для интересов наших принадлежит, нам часто и обстоятельно доносить, и в прочий сии пункты весьма секретно содержать, и никому, кто бы ни был, об оных сообщать или объявлять».
Казалось бы, в Москву должны были мчаться курьеры с указами, одобрявшими или порицавшими действия генерал-губернатора, с новыми повелениями в связи с изменившейся обстановкой, с запросами о мерах пресечения неправосудия, бесчинства чиновников, волокиты и т. д. Но императрица довольствовалась малым: она поздравляла Салтыкова с рождением внука и выражала удовольствие стать крестной матерью, давала поручение закупить в Сибирском приказе разных сортов материй и обоев, выступала в роли свахи при заключении браков, вмешивалась в семейные отношения знакомых ей в Москве лиц, благодарила за мелкие услуги, обращалась с просьбой удовлетворить неожиданно вспыхнувший интерес к портретам своих предков и родственников и т. п.
Некоторые письма императрицы настолько колоритно отражают круг ее забот, что заслуживают того, чтобы привести их в извлечениях или полностью. «Живут здесь, – писала она Салтыкову, – у Захара Мишукова девушки Гневушевы, сироты и дворянские дочери. Отец их был подконштапель из помещиков с Вологды, из которых одну полюбил Иван Иванович Матюшкин и просит меня, чтоб ему на ней жениться, но они очень бедны, токмо собою недурны и неглупы». Велит спросить у родителей Матюшкина, согласны ли они на брак. «Буде же заупрямятся, для того что они бедны и приданого ничего нет, то ты им при том рассуди, и кто за него богатую даст». Хлопоты коронованной свахи завершились свадьбой…
Анна Иоанновна, как известно, не отличалась постоянством увлечений. В 1734 году ей импонировало занятие брачными и семейными делами. Летом того же года она прослышала, что у Марьи Юсуповой, вышедшей замуж за некоего Возницына, не сложилась семейная жизнь. Поскольку Марья Возницына в детские годы императрицы ухаживала за нею, то она решила ее облагодетельствовать – прислать ее в столицу «А ежели б она от мужа вовсе не похотела ехать, то на время к нам ее конечно отправить на нашем коште немедленно».
Немало писем и указов Анны Иоанновны преследовали цель удовлетворить любопытство. Императрице, например, стало известно, что в Москве мартышка родила детеныша. Велено было бережно переправить их в столицу. Императрица сочла необходимым известить Салтыкова о благополучном прибытии в Петербург мартышки с потомством. 25 мая 1735 года она писала ему: «Мартышки, присланные от тебя сюда, привезены все здоровы, и то нам угодно, что ты их прислал».
Экзотику двора составляли инородцы, проживавшие как на территории России, так и за ее пределами. В 1734 году Анна Иоанновна велела Салтыкову написать командовавшему русскими войсками в прикаспийских территориях генералу Левашову, чтобы он сыскал двух девочек-персиянок, грузинок или милитинок, чтоб были «белы, чисты и не глупы». В другом письме она требует, чтобы Салтыков прислал ко двору калмычку, находившуюся на обучении у Строгановых.
Среди этого бурного потока посланий Салтыкову изредка встречаются деловые письма и указы, важнейшим из которых являлся указ 15 января 1736 года с выражением в резкой форме неудовольствия служебной деятельностью генерал-губернатора. Уже первая фраза указа свидетельствовала о высокой степени раздражения императрицы: «Уведомились мы, что в Москве не только в коллегиях, но и в сенатской конторе в Москве, где вы сами первейшим членом присутствуете, дела не только медленно, но и от большей части по партикулярным страстям от судей челобитчикам производят долговременно, ходя за делами, великие убытки причиняются». Указ завершила угроза: «Ежели вашим недосмотрением и нерадением впредь такие же непорядки происходить и суд и дела по страстям отправляемы будут, то вы в том перед нами в ответе будете».
Недовольство Салтыковым назревало исподволь, в течение полугода до появления обескураживающего указа. Первый сигнал последовал в июле 1735 года, когда императрица больше месяца не получала ответа на свой запрос, «коликое число в Москве при нашем дворце имеется повсегодного и прочих расходов». Напоминает о присылке ведомости «без дальнего замедления». Второй упрек отмечен в письме 15 сентября 1735 года, когда в каком-то официальном документе Салтыков титуловал имеретинскую царевну «высочеством». Этот титул, внушала императрица Салтыкову, принадлежит «только одной нашей фамилии, а ей довольно и царевны»[74 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 264.].
Можно представить, в какое уныние привел Салтыкова указ 15 января 1736 года: строил догадки, чьими происками он вызвал гнев племянницы, но, не обнаружив недруга, решил искать защиты у Бирона. Он просил исхлопотать ему право приезда в Петербург, чтобы оправдаться, ибо «от несносной печали чуть жив хожу, только не даю себя знать людям». Отвечая, Бирон выразил Салтыкову сожаление и сочувствие, «особливо для того, что я про тот указ был не известен». Здесь же Бирон не преминул напомнить, что он во внутренние дела не вмешивается[75 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 135, 136, 160, 173, 177, 224, X.].
Думается, Бирон лукавил, ибо его заявление о невмешательстве во внутренние дела нельзя принимать всерьез – почти все современники единодушно утверждают, что императрица не принимала ни одного решения, предварительно не посоветовавшись с Бироном. Во всяком случае, этот указ являлся гранью во взаимоотношениях племянницы и дяди; о чем свидетельствует резкое сокращение числа записок к нему: в 1732 году их было отправлено 87, в 1736-м – только 28, а в 1737-м еще меньше – 23. До полного разрыва дело не дошло, Салтыков занимал все три должности еще три года и был отставлен только в мае 1739 года[76 - 03. 1873. № 11. С. 9.].
Подчас обескураживают и многочисленные устные повеления императрицы придворным и вельможам. К ним, например, относится недатированное повеление Катерине Лаврельше, выполнявшей какую-то придворную должность: «Известно нам учинилось, что у кастелянши прачки в тех же посудах, в которых моют наши и принцессины сорочки и прочее белье и других посторонних моют же». И далее: надлежало «нашего и принцессного белья «иметь особливую палату», запираемую на замок, и «особливых» семь прачек, а также отдельные принадлежности для стирки»[77 - ПСЗ. Т. X. № 7819.].
В архиве сохранилось дело о письменных и словесных указах императрицы за 1731–1738 годы. Их зарегистрировано 262, из коих львиная доля (197) адресована президенту Адмиралтейской коллегии Головину. Подавляющее большинство из них отражало мелкие житейские заботы повседневной жизни, которые тем не менее Адмиралтейство не отваживалось решить, ибо они требовали непредусмотренных расходов: к ним относится повеление императрицы выкрасить яхту княгини Ромодановской, отремонтировать яхту царевны Елизаветы Петровны «и во что станет – учинить щет», поставить на корабли фузейные штыки для защиты от молнии, то выделить польскому послу баржу, шлюпку и 12 гребцов[78 - РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 24. Л. 5, 6.].
Зачастую удовлетворение личных запросов оформлялось законодательным актом и участием высшего органа государства. Наиболее характерным в этом плане можно считать эпизод с «волосяной бабой», которому было придано государственное значение. Императрице стало известно, что в Воронежской губернии проживает женщина с бородой и усами. Кабинет министров по инициативе императрицы отправил воронежскому губернатору указ о доставке бабы в Петербург. Женщиной с уникальным отклонением от нормы оказалась 45-летняя Аксинья Иванова, у которой с 20 лет стали расти борода и усы, она их не стригла и не выщипывала, почитая это за грех. В результате Аксинья стала обладательницей бороды длиной в пять-шесть дюймов (12,5–15 см).
Женщину обследовали в Академии наук, которая определила, что она «подлинная жена и во всем своем теле, кроме уса и бороды, ничего мускова не имела». Осмотрела бабу и императрица, после чего велела отправить ее домой, выдав «на корм пять рублев, да в награждение пятнадцать рублев, да прогонных денег на две ямские лошади»[79 - Там же. Разряд VI. Д. 252. Л. И, 13, 18, 20 и др.].
Следы законотворчества императрицы можно обнаружить и в других указах, относившихся к устранению бытовых неудобств, либо не радовавших глаз, либо вызывавших неприятные эмоции. К таким указам можно с большой долей вероятности отнести указы, запрещавшие быструю езду по улицам столицы, об избавлении Летнего сада от бездомных собак или о запрещении пьяным вздорить и петь песни по улицам, а также повеление, чтобы мимо резиденции императрицы проход и проезд с мертвыми телами и прочим тому подобным не было и т. д.[80 - РИО. Т. 126. С. 594; Т. 130. Юрьев, 1909. С. 41.]
У иных может сложиться впечатление о полном самоустранении императрицы от дел правления. Подобное представление является ошибочным, ибо известно, что кабинет-министры поочередно либо все вместе навещали императрицу с докладами о текущих делах, требовавших ее одобрения или отклонения. Чтобы освободить ее от необходимости напрягать не привыкшую к умственному труду голову, кабинет-министры подготавливали текст резолюции.
Известные источники не дают оснований для утверждения о том, что императрица участвовала в составлении важнейших законодательных актов царствования. Но эти же источники лишают историков права утверждать, что Анна не участвовала в решении дел, относившихся к компетенции верховной власти. Правда, это участие, как правило, ограничивалось согласием подписать подготовленные Кабинетом министров указ или резолюцию или отклонить их.
Но в одной сфере управления императрица принимала живейшее участие и проявляла подлинный интерес. Речь идет о расследовании политических преступлений, к которым было приковано пристальное внимание не только Анны Иоанновны, но и таких выдающихся государственных деятелей, как Петр I и Екатерина II. Вспомним личное участие Петра I в деле взбунтовавшихся стрельцов в 1698 году и в следствии по царевичу Алексею, а также участие Екатерины II в расследовании заговора Мировича, самозванки Таракановой и суде над главарями крестьянской войны 1773–1775 годов. Интерес к политическим процессам, о которых речь пойдет в других главах, понятен и не вызывает удивления. Но Анна принимала живейшее участие и в расследовании так называемых криминальных дел, связанных с казнокрадством, взяточничеством. Скорее всего, этот интерес подогревался отчасти чисто женским любопытством, отчасти ее садистскими наклонностями, отчасти стремлением заполнить праздное времяпровождение занятием, доставлявшим ей удовольствие. Наиболее выпукло эта страсть проявилась в деле сибирского вице-губернатора Алексея Жолобова, типичного взяточника и казнокрада того времени. Для мздоимцев и казнокрадов Сибирь представлялась благодатным краем – удаленность ее от столицы обеспечивала безнаказанность, крайне затрудняла поиски справедливости и защиты от произвола.
В расследовании нашумевшего дела иркутского вице-губернатора Алексея Жолобова императрица участвовала до конца. Еще 19 февраля 1734 года она велела А. И. Ушакову назначить «доброго офицера и проворного для некоторой важной посылки». Из повеления, переданного в тот же день А. Маслову, узнаем, что «добрый и проворный офицер» должен был доставить в столицу Жолобова[81 - ПСЗ. Т. XI. № 8010; Т. X. № 7580; РИО. Т. 104. С. 43; РИО. Т. 111.].
Для следствия по его делу в феврале 1735 года была назначена комиссия во главе с генерал-лейтенантом А. П. Волынским, но фактически ее руководителем была Анна Иоанновна. В день создания комиссии она, проведав о приезде в столицу супруги обвиняемого, «изустно» велела Волынскому допросить ее, полагая, что она прибыла издалека неспроста: «знатно на кого в надежде и по какой-нибудь корреспонденции». Императрица сама составила вопросы, которые ей следовало задать: кого она навестила, к кому обращалась с просьбами, кому и сколько предложила вещей и денег, наконец, какую сумму привезла с собой[82 - РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 5, 6.].
Интерес к приезду супруги Жолобова не оказался праздным. Следствие установило, что она пыталась вручить взятки сенатскому обер-секретарю и секретарю Сибирского приказа по 100 рублей каждому, но те убоялись их принять.
Следствие настолько увлекло императрицу, что она едва не ежедневно давала указания Волынскому: то она «изустно» велела ему отобрать у зятя Жолобова гвардии-поручика Федора Мещерского «письма, какие есть в доме», то составить опись имущества, принадлежавшего подследственному, то велела, опять же «изустно», выдать бывшему вице-губернатору бумагу и чернила, чтобы тот написал, «какие за губернатором Плещеевым ведает взятки и упущения интересу и у чего сколько и за какие взятки упущено, показал бы о том, написав своею рукою имянно».
Императрица проявила дотошность следователя, «изустно» повелев доставить описанные пожитки Жолобова из Москвы в Петербург «для того, что там на многие вещи положена цена самая малая». Кроме того, она поручила выяснить, у кого сколько имущества Жолобова находится на хранении.
Анна Иоанновна обещала Жолобову «милосердное прощение» за чистосердечное признание своей вины, но алчный вельможа настаивал на скромных размерах украденных денег, хотя комиссия установила более значительную сумму в 32 176 рублей 92 копейки. Более того, Жолобов утверждал, что он, отправляя должность иркутского вице-губернатора, принес казне до 300 тысяч рублей прибыли. Однако комиссия установила, что никакой прибыли «не явилось, и то он, Жолобов, затеял зря». Императрица согласилась с мнением комиссии и на ее доношении подписала подготовленную реляцию: «Жолобов, отбывая следствие, шутовски все то затеял, ибо и кроме прочих его корыстных плутовских дел, взятков и преслушания указов наших является не только что прибылей его нет, но еще упущения и некоторые недоборы в казенных наших доходах против прежних доходов».
1 июля 1735 года Анна Иоанновна «изустно» указала завершить следствие в июле текущего года, «изустно» же велела Волынскому «из Рязанской Жолобова деревни тунгузской породы двух девок взять ко двору ее императорского величества», а третью оставить супруге Жолобова.
Жолобов затягивал следствие широко использовавшимся в те времена способом – оговариванием новых лиц. Их круг настолько расширился, что комиссия о Жолобове обрела статус Сибирской комиссии. А так как оговоренные находились в Сибири, то доставка их для допросов требовала немалого времени. В декабре императрица вновь повелела комиссии «подать краткий экстракт и свое мнение, а прочие дела в комиссии оканчивать скорее». Но экстракт не был готов к середине февраля 1736 года, когда руководителем следствия вместо Волынского был назначен П. П. Шафиров.
Императрица сочла, что Жолобов «написал повинную свою неистинно, ложно» и потому не может рассчитывать на ее милосердие – он был казнен 16 июля 1736 года[83 - РИО. Т. 111. С. 41, 42.].
Жестокость императрицы иногда сменялась порывами милосердия, желанием восстановить справедливость, защитить обманутого. Такой порыв Анна Иоанновна обнаружила 28 июня 1732 года, когда два князя – Семен Федотов и Иван Мещерский – «учинили такое коварство над бедным гардемарином» Иваном Большим Кикиным, силой выманив у него письмо с обязательством уплатить в три дня 5500 рублей и закладную почти на все недвижимое имущество. Поступок вымогателей императрица оценила «богопротивным лукавством и бездушеством» и велела Сенату «помянутое дело от начала исследовать и производить судом». Приговор должен быть таким, «чтоб впредь бездельники такие ж нехристианские поступки чинить опасались»[84 - Там же. С. 58, 59; ПСЗ. Т. IX. № 7009.].
Чем закончилось дело, нам неведомо, как и неведомы побудительные мотивы действий императрицы: стремление защитить слабого, проявить великодушие или милосердие или ненависть к аристократии, к двум князьям.
Анна Иоанновна вникала и в следственные дела А. В. Макарова и проявила даже милосердие. Так, Макаров, секретарь Кабинета Петра Великого, пользовавшийся уважением императора, стал при Анне Иоанновне жертвой мести Феофана Прокоповича и А. И. Остермана и длительное время содержался под домашним арестом. В августе 1737 года он обратился к императрице с челобитной, жалуясь на то, что он содержится под крепким караулом два года и девять месяцев и за это время опечатанные его пожитки, находясь «без просушки», приходят в негодность и «деревнишки мои посторонние нападками разоряют», отчего «я, нижайший раб, от таких тяжких печалей пришел в крайнюю болезнь и слабость». Императрица велела Салтыкову смягчить условия жизни арестанта и содержание его «таким образом облегчить, чтоб ему в церковь Божию и прочие домашние нужды исправлять позволено было», но с ограничением – пожитки и деревни запрещалось продавать без ее разрешения[85 - РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 6.].
Повышенный интерес Анны Иоанновны к политическим процессам подтверждает донесение руководителя Тайных розыскных дел канцелярии А. И. Ушакова Кабинету министров, предложившему всем учреждениям прислать «изустные» указы императрицы. Ушаков отвечал: в подведомственном ему учреждении действительно хранятся занесенные на бумагу словесные указы императрицы, о которых «никому не известно и хранятся оные секретно, для чего Тайная канцелярия без именного его императорского величества указа об оных и Сенату объявить опасны»[86 - Соловьев С. М. Указ. соч. Т. X. С. 643, 644.].
С этой целью рассмотрим два следствия: по делам Черкасского и Голицына. Последнее, правда, тяготеет более к уголовным, но подоплека его бесспорно была политической.
В октябре 1733 года Анна Иоанновна получила донос о том, что в Смоленской губернии существует тайное общество, члены которого замышляли свергнуть немецкое иго в России, считали себя слугами голштинского пятилетнего принца (сына дочери Петра II Анны) и пьют за его здоровье. К доносу были приложены два письма: князя А. А. Черкасского к голштинскому герцогу и генерал-майора Александра Потемкина к претенденту на польскую корону Станиславу Лещинскому.
Донос внушил императрице и ее окружению такой страх, что она отправила в Смоленск для следствия не какого-либо гвардейского офицера, а самого заплечных дел мастера, руководителя Тайных розыскных дел канцелярии А. И. Ушакова, и не одного, а во главе многочисленной воинской команды. Инструкция наделяла Ушакова обширными полномочиями, свидетельствовавшими, что при дворе поверили доносу и что ожидали со стороны заговорщиков вооруженное сопротивление. Ушакову дозволялось всех, кого он заподозрит, «до кого бы ни дошли, несмотря ни на чье лицо, за караул взять». Ушаков начал с ареста губернатора князя Черкасского и генерала Потемкина с их семьями и других оговоренных доносителем лиц.
Доноситель Федор Иванович Красный-Милашевич служил камер-пажом у герцогини Екатерины Иоанновны Мекленбургской, сестры императрицы, но за какую-то вину был отстранен от должности и возвратился на родину к отцу в его деревню в Смоленской губернии. Здесь он познакомился с губернатором Черкасским, жаловавшимся на Бирона, заславшего его в глухой Смоленск губернатором. Из дальнейших разговоров выяснились симпатии губернатора к принцу голштинскому. Черкасский склонил бывшего камер-пажа ориентироваться на принца и уговорил его отправиться в Киль с письмом от него, губернатора, и письмом от генерала Потемкина, как потом выяснилось, фальшивого, составленного с целью создать впечатление, что губернатор не одинок, что за его спиной сильная оппозиция, недовольная нынешним правлением и готовая служить герцогу.
Милашевич, в поисках герцога и его семьи, в пути утратил оба письма и, будучи человеком с авантюристическими наклонностями, решил исправить дело сочинением письма Станиславу Лещинскому. Оказавшись на положении бродяги, он, отчаявшись встретиться с герцогом, решил отправиться в сентябре 1733 года в Гамбург, где подал русскому чрезвычайному посланнику Бестужеву донос, в котором обличал губернатора в злонамеренном умысле. Бестужев в полной мере оценил угрозу трону, срочно вместе с доносом отправил в Петербург и доносителя.
Ушаков отправился вместе с Милашевичем в Смоленск, а оттуда с взятыми под стражу обвиняемыми возвратился в Петербург, где была создана следственная комиссия в составе канцлера Г. И. Головкина, вице-канцлера А. И. Остермана, А. И. Ушакова, П. П. Шафирова, А. П. Бестужева-Рюмина и Бахметева.
Подвергнувшись розыску, Милашевич, не выдержав пыток, сочинил новые доносы, в том числе и клеветнические на своего старика-отца. В последнем, пятом по счету доносе Милашевич ограничил число участников «заговора» двумя лицами: собой и князем Черкасским.
«Заговор» оказался блефом, плодом воображения Милашевича, поэтому и приговор оказался на редкость мягким, быть может, результатом заступничества кабинет-министра: Черкасский был отправлен в пожизненную ссылку в Сибирь, отцу и сыну Милашевичам велено жить в их ярославской деревне, а генерал-майора Потемкина за неповинное содержание под стражей велено наградить чином генерал-лейтенанта. Доклад следственной комиссии императрице установил: «А по исследованию во учрежденной комиссии и по повинным Черкасского и Милашевича явилось, что они такой присяги (принцу голштинскому. – Н. П.) не чинили и не подписывались, а тое присягу и роспись сочинили они, Черкасский и Милашевич, а вымышлял Черкасский сам собою один, а другие про то никто не знали, и комиссия признавает их неповинными (к следствию был привлечен 31 человек), которые несколько месяцев неповинно содержались в аресте». Под докладом резолюция Анны Иоанновны: «По сему учинить».
Из указов императрицы явствует, что она вникала во все детали следствия и, получая ежедневную информацию о его ходе, давала указание, кого дополнительно надлежит привлечь к допросу, кому следовало устроить очные ставки, велела обратиться к Черкасскому «с призывом чистосердечно во всем признаться, за что ему милость оказана будет», наконец, велела печатать указ, чтобы все, кто знал о замысле Черкасского, «приходили и доношения свои подавали не только без опасения, но еще за праведный донос нашей милостью награждены будут»[87 - ПСЗ. Т. IX. № 6753.].
Тревога оказалась ложной, а опасения – напрасными, но активность императрицы показала, сколь цепко она держалась за трон.
Прямое касательство Анна Иоанновна имела и к делу Д. М. Голицына, причем из ее письма Салтыкову от 19 декабря 1736 года просматривается профессионализм следователя, то ли уже приобретенный собственной практикой, то ли подсказанный А. И. Ушаковым. Письмо заканчивалось повелением срочно выполнить поручение: «Сию врученную от нас вам комиссию имеете вы как наискорее окончать, и в том свой собственный труд приложить и все то исправно с нашим посланным к вам курьером отправить в Вышний суд»[88 - РА. 1871. № 2. С. 037–070.].
Императрица была достаточно активна и при решении, выражаясь современным языком, кадрового вопроса. Все назначения на высшие должности в государственном аппарате совершались либо по инициативе императрицы, либо по представлению Сената нескольких кандидатов, из которых она выбирала одного. Президенты и вице-президенты коллегий до советника включительно, губернаторы и вице-губернаторы, не говоря уже о сенаторах и кабинет-министрах, назначались именными указами с неизменной подписью императрицы. Генеральские звания тоже присваивались императрицей. В качестве примера приведем богатый на назначения день 16 июня 1736 года, когда И. А. Мусин-Пушкин был назначен президентом Коммерц-коллегии, А. Нарышкин – президентом Канцелярии от строений, князь Юсупов – сенатором, а князь С. Д. Голицын – казанским губернатором. В тот же день Кабинет министров предложил Ю. Голенищева-Кутузова повысить в должности: из асессоров Канцелярии конфискации перевести в советники. Последовала резолюция: «Учинить по сему»[89 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 136.]. 12 декабря 1737 года Сенат представил трех кандидатов на судью Судного приказа тайных советников – Федора Наумова и Алексея Плещеева, генерал-майора Ивана Измайлова. Анна Иоанновна предпочла Федора Наумова. В январе 1732 года она отклонила всех кандидатов, предложенных в казанские вице-губернаторы, и назначила своего. В марте того же года она отвергла шесть кандидатов в сибирские вице-губернаторы и назначила седьмого, не включенного в список[90 - РИО. Т. 114. С. 351–354.].
Что касается более сложных вопросов как внутренней, так и внешней политики, то Анна уклонялась от их решения, перекладывая этот груз на плечи Кабинета министров.
Военачальники адресовали свои реляции непосредственно императрице, и та отправляла их для составления ответа Кабинету министров. Нагляднее всего этот порядок иллюстрирует указ Анны Иоанновны Кабинету министров 7 июля 1735 года. В этот день курьер доставил ей донесение фельдцейхмейстера князя Гессен-Гомбургского с определенным вопросом. Вряд ли императрица знакомилась с содержанием реляции князя. Она в этот же день переправила ее Кабинету министров, сопроводив указом: «Послать к нему надлежащей указ по состоянию нынешних конъюнктуров, которой отправить с прежде присланным куриэром князем Мещерским немедленно»[91 - Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. I. М., 1913. С. 138.].
Аналогичного содержания указ, но по другому поводу последовал 14 июня 1736 года: из Польши были получены два послания, требовавшие от императрицы ответа. Решив не затруднять себя, Анна Иоанновна все отдала на усмотрение Кабинета министров: «Извольте надлежащий ответ заготовить, такожде и мнение ваше нам объявить». Иногда в ответ на донесение Кабинета следовало столь же лаконичное, как и невнятное, повеление: «Учинить, что потребно»[92 - РГАДА. Ф. Кабинета министров 1735 г. Д. 4.].
Бесспорно очевидно, что ноша государыни была не по плечу Анне Иоанновне и она несла ее с большим трудом. Ей вообще была чужда мысль, что она, императрица, слуга государства, обремененная обязанностями, требовавшими напряженного труда[93 - Там же. 1736 г. Д. 4. Л. 4, 8.].
Глава V
Окружение императрицы
Характеристику иноземцев, пользовавшихся особым доверием императрицы, начнем с человека, имя которого олицетворяло мрачное время ее царствования – Эрнста Иоганна Бирона (1690–1772). Мы опускаем скудные сведения о его жизни до времени, когда он стал фаворитом курляндской герцогини и российской императрицы Анны Иоанновны, поскольку они были сообщены в главе «Герцогиня Курляндская», и остановимся на десятилетнем его пребывании в чине обер-камергера при русском дворе. Заметим, и этот период в жизни фаворита освещен скудно, причем историки вынуждены довольствоваться информацией иностранных дипломатов, не всегда достоверной, но другие источники отсутствуют – Бирон не занимал государственных постов, действовал через своих клевретов, следовательно, не оставил следов своей деятельности.
В обязанность иностранных послов и резидентов входило наблюдение за частной жизнью монарха, характеристика представителей правящей элиты, информация о менявшемся раскладе сил при дворе, об интригах, в результате которых одни приобретали доверенность монарха, другие ее утрачивали. Иностранцу не всегда удается разобраться в хитросплетениях придворной жизни, отличавшейся атмосферой соперничества, желанием опорочить своего недруга, чтобы занять его место, пользоваться при этом слухами, нередко сомнительными, но у историка имеется возможность докопаться до истины, сопоставляя свидетельства одного дипломата с другим.
Ко времени появления Анны Иоанновны в Москве Бирон настолько овладел сердцем императрицы, в свои 37 лет отчаявшейся завести семью, что она стала в его руках марионеткой, подчинявшейся его воле и безоговорочно выполнявшей его прихоти. На этот счет свидетельства иностранцев единодушны. Французский дипломат Маньян доносил в июле 1731 года: «Бирон достиг такой высоты, что Остерман не считает для себя возможным удержаться в силе не иначе, как представляя этому камергеру точный отчет обо всех государственных делах, какого бы рода они ни были». Ему вторил английский дипломат Форбес, назвавший обер-камергера «всемогущим фаворитом»[94 - РИО. Т. 81. С. 221, 222.]. Самые подробные сведения о влиянии Бирона на императрицу оставил Миних-младший: «К несчастью ее и целой империи, воля монархини окована была беспредельною над сердцем ее властью необузданного честолюбца. До такой степени Бирон господствовал над Анною Иоанновною, что все поступки располагала она по прихотям сего деспота, не могла надолго разлучиться с ним и всегда не иначе как в его сопутствии выходила и выезжала. Невозможно более участия принимать в радости и скорби друга, сколько императрица принимала в Бироне. На лице ее можно было видеть, в каком расположении духа наперсник. Являлся ли наперсник с пасмурным видом – мгновенно и чело государыни покрывалось печалью; когда первый казался довольным, веселье блистало во взоре; не угодивший же любимцу тотчас примечал живое неудовольствие монархини. Бирон, страстный охотник к лошадям, большую часть утра проводил в конюшне или в манеже. Императрица, скучая отсутствием его, решилась обучаться верховой езде, дабы иметь предлог в сих местах быть с наперсником своим, и потом хорошо ездила по-дамски.
Бирон Эрнст Иоганн.
Гравюра Лаврентия Авксентьевича Серякова с портрета Корякова (1881).
Русские деятели в портретах, гравированных академиком Лаврентием Серяковым
(с краткими биографическими заметками и перечнем статей о русских деятелях,
помещенных в журнале «Русская старина»).
1-е собрание. Санкт-Петербург: Типография В.С. Балашева, 1882
Непомерная привязанность императрицы стала тягостью для Бирона. Приближенные многократно слышали от него жалобу, что не имеет он ни одного мгновения для отдыха. Никогда Бирон никого не посещал, ни у кого не обедал и не присутствовал на пирах и праздниках, даваемых знатными боярами. Дабы удержать любимца от участия в оных, государыня осуждала и даже называла распутством всякий пир и собрание, в коих по сделанному ей донесению господствовала веселость. Бирон со своей стороны тщательно наблюдал, дабы никто без ведома его не был допускаем к императрице, и если случалось, что по необходимой надобности герцог должен отлучиться, тогда при государыне неотступно находилась Биронова жена и дети».
Для полноты приведем еще один отзыв о фаворите, исходивший от мастера словесного портрета маркиза де ля Шетарди, относившийся к 1740 году: «Герцог курляндский наружности простой и скромной, он воспользовался счастливым случаем, в котором достоинства, кажется, не участвовали; его приближенные много расхваливают его суждения, и он хвастается своей великой честностью и твердостью, готовою на все. Он высокомерен и неприступен; нетерпелив и не может этого скрыть; любит роскошь, которую и ввел при русском дворе. Так как он один только приближен к императрице, то государыня и знает только то, что он хочет, чтобы она знала. Он считает себя происходящим из Франции из дома Бирона, но некоторые уверяют, что он называется Бирен и что курляндское дворянство отказалось признать его благородным в 1726 году»[95 - Пекарский П. Маркиз де да Шетарди в России в 1740–1742 годах. СПб., 1862. С. 1.].
Необоснованность притязаний Бирона на знатность происхождения подтверждал и П. М. Бестужев-Рюмин, на свою голову протежировавший ему и хорошо знавший его прошлое. Правда, у Бестужева были основания люто ненавидеть опекаемого, который отблагодарил своего покровителя тем, что занял место фаворита курляндской герцогини, ранее принадлежавшее Петру Михайловичу: «Не шляхтич и не курляндец пришел из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко двору без чина, а год от году я, его любя, по его прошению производил и до сего градуса произвел, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды и сколько мог здесь лживо меня вредил и поносил и чрез некакие слухи пришел в небытность мою в кредит».
Репутацию Бирона как некоронованного правителя России подтверждает и саксонский дипломат Линар, доносивший в 1734 году: «Вы с трудом можете себе представить, какой клад мы имеем в дружбе графа Бирона; ведь в конце концов не происходит ровно ничего помимо его воли». Такого же мнения придерживался и Манштейн; Бирон «в продолжение всей жизни Анны и даже несколько недель после ее кончины царствовал над обширной империей России, и царствовал, как совершенный деспот». Фельдмаршал Миних подтверждает колоссальную роль Бирона при Анне Иоанновне: кабинет-министры Остерман и Черкасский «находились в совершенном подчинении у обер-камергера герцога Бирона и не осмеливались делать ничего, что не нравилось бы этому фавориту»[96 - Миних Б. Х. Записки. С. 63.].
О силе влияния Бирона говорит тот факт, что Анна Иоанновна вопреки запрещению Верховного тайного совета вызвала его в Москву. С этого времени начался новый этап в жизни фаворита. Императрица приобрела широкие возможности, чтобы облагодетельствовать своего любимца. В день коронации, 28 апреля 1730 года, императрица пожаловала его чином обер-камергера, в этом же году он был возведен в графское достоинство. В рескрипте о пожаловании чина обер-камергера дано следующее обоснование милостей императрицы: «Он во всем так похвально поступал и такую совершенную верность к нам и нашим интересам оказал, что его особливые добрые квалитеты и достохвальные поступки и к нам оказанные многие верные, усердные и полезные службы не инако, как совершенной всемилостивейшей благодарности нашей касаться могли». Рескрипт не объясняет, в чем конкретно выражались достохвальные поступки фаворита, но он свидетельствует о стремлении внушить подданным мысль о его огромных заслугах.
В октябре того же 1730 года императрица пожаловала фавориту орден Андрея Первозванного, а в начале апреля следующего года – свой портрет, осыпанный бриллиантами; Кажется, самое значительное пожалование Бирон получил в 1739 году по случаю заключения Белградского мира – полмиллиона рублей. Так щедро отблагодарила императрица фаворита за ночные утехи – никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам, завершившимся позорным миром, он не имел.
Зная силу Бирона, стремились задобрить его и монархи европейских государств. Прусский посол Мардефельд уведомил фаворита, что его государь подарил ему владения, ранее принадлежавшие Меншикову, дававшие владельцу семь тысяч рублей ежегодного дохода. Австрийский посол Вратислав вручил от имени цесаря диплом на графское достоинство Священной Римской империи и портрет Карла VI, украшенный бриллиантами, оцененный в 200 тысяч талеров. Зная страсть Бирона к лошадям, саксонский курфюрст решил угодить фавориту подарком четырех «верховых лошадей необычайной красоты»[97 - РИО. Т. 76. С. 129.]. Французский посол Маньян доносил, что министры, представлявшие венский и прусский дворы в Петербурге, чтобы привязать к себе фаворита, «простирают свое низкопоклонство до того, что не только целуют Бирону руку, но даже при пиршествах, часто устраиваемых ими между собою, пьют на коленях за его здоровье».
Императрица выказывала фавориту знаки внимания не только пожалованиями, но и трогательной заботой о его здоровье. В январе 1731 года Бирон занемог, и императрица, по сведениям Рондо, «во время болезни графа кушала в его комнате». В июле того же года она была приглашена на обед сыном канцлера М. Г. Головкиным. Ее карету верхом сопровождал Бирон. Лошадь чего-то внезапно испугалась и сбросила фаворита. У того появилась легкая ссадина, но этого было достаточно, чтобы императрица, принявшая «это событие к сердцу», вьшла из кареты и не поехала на пир. К. Рондо объяснил поступок тем, «что граф Бирон не мог обедать с нею»[98 - РИО. Т. 81. С. 221.]. Самое сильное впечатление производит свидетельство К. Рондо о его разговоре в сентябре 1734 года с императрицей по поводу какой-то серьезной болезни фаворита. Хворь обер-камергера «глубоко опечалила государыню; она со слезами на глазах высказывала, что граф единственный человек, которому она может довериться, а также уверенность в том, что Остерман очень рад будет смерти графа, хотя и прикидывается огорченным его болезнью»[99 - РИО. Т. 76. С. 129.]. «Три четверти суток он (Бирон. – Н. П.) проводит с царицей», – доносил французский дипломат Шетарди в конце 1739 года. Справедливые итоги сложившимся отношениям Бирона с императрицей подвел Миних-сын: «Никогда на свете, чаю, не бывало дружественнейшей четы, приемлющей взаимно в увеселении или скорбя совершенное участие, как императрица с герцогом Курляндским»[100 - Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. СПб., 1891. С. 94.].
Безграничное влияние фаворита на императрицу подтверждает и источник отечественного происхождения: чтобы сохранить расположение Бирона, Анна Иоанновна готова была жертвовать едва ли не всем. Об этом писал В. Н. Татищев в доносе на полковника Давыдова, говорившего ему: «Чего добра уповать, что государыню мало видят весь день с герцогом: он встанет рано, пойдет в манежию … поставят караул, и как государыня встанет, то уйдет к ней и долго не дождутся, и так государыней дела волочатся, и в Сенат редко когда трое (сенаторов) приедут»[101 - Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 236, 237.].
Растущее влияние Бирона и немцев на императрицу отразили и документы Тайной розыскных дел канцелярии, регистрировавшие высказывания не рядовых подданных, а лиц, более или менее осведомленных о жизни двора и значении в ней фаворита и вельмож.
Например, советник Тимофей Торбеев тоже стал жертвой неосторожных разговоров с придворными служителями. Один из них, камергер Беликов, в 1737 году доносил о содержании рассуждений Торбеева: «Бирон де взял силу, и государыня де без него ничего не сделает, как де всякому о том изестно, что де донесут ей, то де и сделается. Всем де ныне овладели иноземцы. Лещинский де из Данцига уехал мильонах на двух, не даром де его генерал-фельдмаршал граф фон Миних упустил; это де все в его воле было… Нет де у нас никакого доброго порядку. Овладели де всем у нас иноземцы – Бирон де всем овладел».
Торбеева публично высекли плетьми и сослали на Камчатку, а прочих слушателей крамольных высказываний «советника Ивана Анненкова и асессора Константина Скороходова за то, что не донесли, сослали на вечное житье в Азов»[102 - Пекарский П. Указ. соч. С. 50, 51; РГАДА. Госархив. Разряд VII. Д. 444. Л. 59.].
Заботы императрицы о фаворите простирались на членов его семьи. Его супруга, по дородности соперничавшая с Анной Иоанновной, была в 1730 году пожалована статс-дамой. Когда младший сын Бирона заболел оспой, императрица была «в высшей степени встревожена. Опасения – поправится ли». Этого тринадцатилетнего отрока, пользовавшегося особым вниманием императрицы, которого молва приписывала к ее сыновьям, она пожаловала командиром Измайловского полка в чине гвардейского подполковника. Старший брат фаворита генерал-лейтенант Карл Бирон в 1739 году просил отставки, но вместо освобождения от службы получил 10 тысяч рублей и, удовлетворенный, отбыл в армию[103 - РИО. Т. 80. С. 442.]. О нем украинский историк Георгий Конисский писал: «Калека сей, квартируя несколько лет с войском в Стародубе с многочисленным штабом, уподоблялся пышностью и надменностью гордому султану азиатскому: поведение его и того ж больше имело варварских странностей. И не говоря об обширном серале, комплектуемом насилием, хватали женщин, особенно кормилиц, и отбирали у них грудных детей, а вместо их грудью своею заставляли кормить малых щенков из псовой охоты сего изверга, другие же его скаредства мерзит самое воображение человеческое».
Бирон любил повторять, что во внутренние дела правительственной деятельности он не вмешивается. Напомним его письмо к С. А. Салтыкову, в котором он заявил: «Я во внутренние государственные дела ни во что не вступаюсь». Фельдмаршал Миних тоже засвидетельствовал: Бирон «не стыдился публично говорить при жизни императрицы, что он не хочет учиться читать и писать по-русски, чтобы не быть обязанным читать ее величеству прошений, донесений и других бумаг, присылавшихся ему ежедневно»[104 - Безвременье и временщики. С. 61.]. Эти заявления не соответствуют истине. Известна зловещая роль Бирона в гибели Долгоруких, Голицына и Волынского. Ни одно пожалование вельмож чинами, орденами и деньгами не происходило без ведома Бирона. В его распоряжении находились такие непосредственные исполнители его воли, как Остерман, Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. По свидетельству Миниха-сына, «сия щедрая царица не смела и малейшего подарка сделать без ведома Бирона».
Неумение Бирона читать и писать по-русски подтверждается общеизвестным фактом: Волынский, подавая Бирону свои записки, велел перевести их на немецкий. Подтверждается источниками и вмешательство Бирона во внутренние дела. Один из них – от самого обер-камергера, оправдывавшего свое назначение регентом Иоанна Антоновича тем, что вельможи «по довольному рассуждению не нашли никого, кто бы человечески удобнее был для государства, как я; и по тем главным причинам, что я знаю положение государства, каждую особу, что они собою свычны; что иностранные, до государства относящиеся дела, мне известны».
Другой источник, возникший после свержения Бирона с регентства и следствия над ним, содержал вопросы, тоже не оставляющие сомнения в его вмешательстве во внутренние дела: «Всему свету, а особливо всему государству известно есть: 1) что с самого вступления на всероссийский престол до самого окончания жизни ее величества его старательством никому, кто б не был, мимо его к ее величеству никакого доступа не было и что он до милости и конфиденции ее величества никого не допускал; 2) что все милости и награждения только через него одного и по одним его страстям происходили; 3) и что от того добрые и заслуженные люди, особливо всероссийские науки в тех милостях и награждениях не токмо никакого участия не имели, но паче еще противно богоучрежденным государственным регламентам и уставам нагло обойдены и обижены, следовательно же, как натурально есть, у них тем потребное усердие и охота к службе отняты были». Далее следует вывод: Бирон «во все государственные дела, хоть оные до чина его обер-камергерского весьма не принадлежали, он вступал, и хотя ему, яко чужестранному, прямое состояние оных ведать было и невозможно, однако же часто и в самых важнейших делах без всякого с которыми надлежало в том совету, по своей воле и страстям отправлялся».
Из обвинения вытекает, что Бирон вмешивался в дела не часто, следовательно, не всегда, и не всегда ограничивался камергерскими обязанностями, властно вторгаясь во все сферы управления страной.
Особый интерес Бирон проявлял к «кадровым» вопросам, назначением на высшие должности, о чем свидетельствуют заискивающие письма к нему вельмож с благодарностью за «предстательство» или с просьбами о нем. Такого рода примеров источники донесли немало, но ограничимся лишь несколькими. Генерал Г. Чернышев писал фавориту: «Сиятельнейший граф, милостивый мой патрон! Покорно ваше сиятельство прошу во благополучное время милостиво доложить ее императорскому величеству, всемилостивейшей государыне… чтоб всемилостивейшей ее императорского величества указом определен я был в указное число генералов и определить мне команду, при которой были генералы Бон или Матюшкин». Другой вельможа, руководитель Оренбургской экспедиции, ведавшей подавлением башкирского движения в 1734–1735 годах, писал Бирону: «Окроме вашего высокографского сиятельства иной помощи не имею, дабы ваше высокографское сиятельство старание о пользе Российской империи к безсмертной славе осталось»[105 - Русская беседа. 1860. № 2. С. 197, 201, 202.].
О беспредельном влиянии на дела сообщал анонимный иностранный автор: «Касательно же правления, она (императрица. – Н. П.) отдала всю власть своему дорогому герцогу Курляндскому. Граф Остерман считается помощником герцога, не будучи им на самом деле. Правда, что герцог советуется с ним, как с самым просвещенным и опытным министром в России, но он не доверяет ему по многим важным причинам». Думается, автор недостаточно глубоко вник во взаимоотношения Бирона и Остермана или был свидетелем периода охлаждения этих отношений. Влияние Остермана на повседневную работу правительства было неизмеримо значительнее влияния Бирона.
Неизвестно, какими качествами натуры завоевал привязанность императрицы этот невежественный, грубый, высокомерный и безмерно честолюбивый фаворит. Во всяком случае, никто из современников не отметил наличия у него талантов и добродетелей. Напротив, императорский посланник Остейн, по словам Манштейна, отзывался о Бироне так: «Когда граф Бирон говорит о лошадях, он говорит как человек; когда же он говорит о людях или с людьми, он выражается, как лошадь»[106 - Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 32.].
Бирон заслужил ненависть большинства вельмож презрительным отношением к ним, своей надменностью и высокомерием. Подобного рода факты могли быть запечатлены правительственными документами либо мемуаристами. Однако известно, что Бирон – делец закулисного плана, поэтому его действия и поступки официальными источниками не запечатлены. Бедны свидетельствами и мемуаристы-современники: их насчитывались единицы, но и из них лишь автор «Записок» Яков Шаховской имел встречу с Бироном и описал ее.
Яков Шаховской доводился племянником Алексею Шаховскому, управлявшему Малороссией, и выполнял поручения дяди ходатайствовать перед Бироном о разрешении ему продлить проживание в Москве для лечения глаза. Бирон, опираясь на донесение Миниха, конфликтовавшего с А. Шаховским, был настроен враждебно к киевскому губернатору, который, согласно донесению фельдмаршала, якобы содержал казацкое войско «не в добром порядке». Приведем описание разговора Я. Шаховского с Бироном: «несколько суровым видом и вспыльчивыми речами на мою просьбу, ответствовал, что он уже знает о желании моего дяди пробыть еще в Москве для того только, что по нынешним обстоятельствам весьма нужные и время не терпящие к военным подвигам, а особливо там, дела ныне неисправно исполняемые, свалить на ответы других…». Племянник встал на защиту дяди, заявив, «что то донесено несправедливо. На сии мои слова герцог Бирон, осердясь весьма вспыльчиво, мне сказал, что как я так отважно говорю? Ибо де о сем в тех же числах фельдмаршал граф Миних государыне представлял и можно ль де кому подумать, чтоб он то представил ее величеству ложно». Шаховской ответил, что надобно кого-либо послать для подлинного освидетельствования, ибо донесение произошло «от ухищрения коварных завистников», которые утратили надежду заслужить милости честной службой. «Такая моя смелость наивящще рассердила его, и он в великой запальчивости мне сказал: «Вы, русские, часто так смело в самых винах себя защищать дерзаете», на что Яков Шаховской ответил: «Сие будет высочайшая милость, и вскоре всеобщее благосостояние умножится, когда коварность обманщиков истребляема, а добродетельная невинность от притеснения защищаема будет и когда дядя мой ни в каких несправедливых ее величеству представлениях найдется, помилования просить не будет. В таких я в колких и дерзких с его светлостью разговорах находясь, увидел, что все бывшие в той палате господа один по одному ретировались вон и оставили меня в комнате одного с его светлостью, который ходил по палате, а я, во унылости пред ним стоя, с перерывкою продолжал об оной материи речи близ получаса…» Императрица, стоя за ширмой, слушала этот диалог и в конце концов прервала его, позвав герцога»[107 - Шаховской Л. Записки. СПб., 1872. С. 5, 6.].
Этот выскочка, третировавший русских вельмож, вызывал у них раздражение и ненависть, которые они из-за чувства страха скрывали под льстивыми улыбками.
Бирон прославился еще одним пороком – он слыл казнокрадом. Миних-младший свидетельствовал: «Из государственной казны в чужие края утекали несметные суммы на покупку земель в Курляндии и на стройку там двух дворцов – не герцогских, а королевских, и на приобретение герцогу друзей, приспешников в Польше. Кроме того, истрачены были многие миллионы на драгоценности и жемчуги для семейства Биронов; ни у одной королевы Европы не было бриллиантов в таком изобилии, как у герцогини Курляндской».
Относительно драгоценностей историки не располагают данными, но два дворца, один в Митаве с 300 комнатами, другой, загородный, – в Рундале, их меблировка, богатейшие сервизы подтверждают свидетельство Миниха о безмерных притязаниях Бирона. Грандиозных размеров замок в Рундале построен был по проекту архитектора Растрелли и по своим размерам превосходил Зимний дворец, сооруженный по проекту того же знаменитого архитектора при Елизавете Петровне. Сооружение его было приостановлено в связи с падением Бирона, но возобновлено после возвращения семейства из ссылки. Бирон прожил в нем до своей смерти только 20 дней[108 - ИВ. 1893. № 9. С. 841, 842.].
Все вышесказанное о свойствах натуры Бирона дополняется еще одним – его беспредельным честолюбием. Он не довольствовался наградами, пожалованиями, получением герцогства Курляндского и вынашивал далеко идущие планы овладения российской короной. Эту тайную мечту Бирона отметил английский резидент Рондо, дважды доносивший своему двору в 1738 году, то есть за два года до попытки ее реализовать. Бирон намеревался породниться с царствующей династией путем брачных уз своего сына Петра на одной из принцесс, Брауншвейгской либо Мекленбургской. «Вспомнив, чем герцог был несколько лет тому назад, нельзя не сознаться, что помыслы о таком браке – помыслы очень смелые; но правда уже и то, что он владетельный герцог, всевладеющий при дворе ее величества, что невозможно и предвидеть, где остановится его чрезмерное честолюбие, если он по-прежнему останется угодным государыне». Герцога не смущало даже то, что жениху, его сыну Петру, едва минуло четырнадцать, а невесте, герцогине Мекленбургской, шел двадцатый год. В другой депеше Рондо сообщал: «Его честолюбие не знает пределов и вряд ли он упустит возможность возвести сына в сан государя российского, если ему удастся сохранить расположение ее величества впредь до совершеннолетия принца Петра»[109 - РИО. Т. 80. С. 361, 416, 449.].
Главный фасад Рундальского дворца. Современный вид.
Фотография Tiago Fioreze (31.07.2008)
Золотой зал Рундальского дворца. Фотография Woisyl, 2006 г.
Матримониальные планы завершились крахом – Бирону не удалось женить своего сына ни на принцессе Мекленбургской, ни на принцессе Брауншвейгской. В 1740 году, когда скончалась императрица, Бирон отважился реализовать новый дерзкий план – он был объявлен регентом грудного императора и в течение 17 лет намеревался управлять Россией.
Вторым после Бирона лицом среди немецкой камарильи был Остерман. Между ними было больше различий, чем сходства. Их роднили два качества: оба были жестокими и неразборчивыми в средствах достижения цели, безжалостно сметая с пути всех конкурентов и соперников, не останавливаясь перед отправкой их на эшафот. Это свойство натуры Бирона и Остермана отметили многие современники. Остерман доносил Рондо в Лондон в мае 1730 года: «Всегда вел свою игру очень хитро, незаметно удалив одну за другим все крупные личности, которые могли стать ему на пути: Толстого, барона Шафирова, князя Меншикова, а в последнее время и Василия Лукича Долгорукого – единственного из русских, знающего иностранные дела…»[110 - РИО. Т. 61. С. 191.]. Список жертв Остермана, расправлявшегося с противниками в царствование Анны Иоанновны вместе с Бироном, можно продолжить фамилиями рода Долгоруких, Голицыных и Волынского; оба, Бирон и Остерман, находились в плену честолюбивых замыслов, впрочем, удовлетворявшихся несхожими средствами: Бирон сделал карьеру только потому, что оказался, как говаривали в XVIII столетии, «в случае», то есть фаворитом императрицы. Остерман достиг вершин власти благодаря талантам и необыкновенной работоспособности. По интеллекту, образованности, обхождению, способности плести интригу, умению навязывать свои мысли собеседнику, скрывать неприязнь и жестокие намерения за обаятельными улыбками, вкрадчивостью, втираться в доверие к собеседнику, долго разговаривать с ним, но ничего нового не сказать, что особенно ценилось среди дипломатов, – всеми качествами был щедро наделен Остерман и столь же щедро обделен Бирон – человек ничтожный, мстительный, необразованный, имя которого затерялось бы среди тысяч других ординарных людей, если бы он не привлек внимания императрицы отнюдь не деловыми качествами, а тем, что овладел ее сердцем в такой степени, что она готова была поступиться многим, чтобы угодить фавориту и удержать его при себе.
Неизвестный художник.
Портрет графа Андрея Ивановича Остермана.
Пер. пол. XVIII в. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Между ними существовало еще два различия. Остерман владел немецким, латинским, голландским, французским, итальянским, русский усвоил настолько, что его стиль приближался к ломоносовскому, в то время как Бирон мог изъясняться только на плохом курляндском наречии немецкого, а русской грамотой так и не овладел до конца дней своих. Еще важнее было другое различие: Бирон был стяжателем, тяготел к роскоши и блеску, не гнушался брать взятки, слыл казнокрадом, в то время как Остерман отличался непритязательностью в быту, довольствовался жалованьем и пожалованиями, не был причастен к таким порокам современников, как взяточничество и казнокрадство. Чем было вызвано его бескорыстие – неведомо: возможно, принципиальным неприятием этих пороков, а возможно, и страхом за свою будущую судьбу – он знал, что за его поступками зорко следили десятки завистливых глаз и всякий оплошный шаг с его стороны мог положить конец не только его карьере, но и жизни.
Андрей Иванович Остерман (Генрих Иоанн Фридрих) родился в семье лютеранского пастора в городе Бохуме в Вестфалии (1686–1747). Учился в Иенском университете, откуда бежал сначала в Эйзенах, а затем в Голландию, скрываясь от правосудия за убийство на дуэли своего товарища. В Голландии его приметил адмирал Крюйс, принял в 1703 году на русскую службу и прибыл с ним в Россию в следующем году. Его старший брат Иоанн Христофор Дитрих, не отличавшийся дарованиями, служил воспитателем дочерей Иоанна Алексеевича. Знание иностранных языков позволило Остерману в 1708 году занять должность переводчика Посольского приказа. С этого года надобно вести отсчет времени в поступательной карьере Андрея Ивановича: в 1710 году его послали к польскому королю с извещением о взятии Риги, а также к дворам датскому и прусскому с целью вовлечения в войну со Швецией. В том же году он занял должность секретаря Посольской канцелярии, а в следующем году под руководством П. П. Шафирова участвовал в мирных переговорах с Османской империей, завершившихся заключением Прутского мирного договора.
Самым важным событием в карьере Остермана было назначение его членом делегации во главе с Я. В. Брюсом, отправленным на Аландский конгресс для ведения мирных переговоров со Швецией. Пользуясь покровительством вице-канцлера Шафирова, Остерман оттеснил на второй план Брюса, вступил в непосредственный контакт с главой шведской делегации бароном Герцем и, похоже, мог добиться выгодного для России мира, если бы после внезапной гибели шведского короля Карла XII в Стокгольме не взяли верх реваншистские силы, готовые продолжать войну. Петр I, уверовав в дипломатические способности Остермана, отправил его в 1719 году в Стокгольм, чтобы убедить Швецию принять условия мира, продиктованные Россией. Хотя миссия и закончилась неудачей, но Остерман в 1721 году вновь был включен в состав мирной делегации на Ништадтский конгресс. На этот раз переговоры завершились заключением выгодного для России Ништадтского мирного договора. После этого успеха Петр I пожаловал Остермана бароном, а в 1723 году, после того как Шафиров оказался в опале, – назначил на должность вице-президента коллегии Иностранных дел. При Екатерине I он стал вице-канцлером, получил чин действительного тайного советника и стал членом Верховного тайного совета.
О тайной роли Андрея Ивановича в установлении самодержавия и в учреждении Кабинета министров уже было рассказано. Здесь мы приведем отзывы иностранцев об Андрее Ивановиче в годы, когда он практически правил Кабинетом министров. Императрица в феврале 1730 года навестила больного Остермана и дважды в день справлялась о его здоровье, а в мае он был возведен в графское достоинство и пожалован имением в 180 тысяч рублей. Однако положение вельможи в абсолютной монархии никогда не было неизменно устойчивым: оно постоянно менялось, находилось в зависимости от настроения и капризов монархини и ее фаворита. Остерман в этом плане не составлял исключения – иностранные дипломаты постоянно доносили своим дворам то о падении кредита барона и графа, то о восстановлении его влияния. В этой обстановке надо было обладать изворотливостью, умением угождать и приспосабливаться, чтобы удержаться на плаву на протяжении четырех царствований. Этими свойствами натуры вполне овладел Остерман, что засвидетельствовал К. Рондо.
Остерман находился в неприязненных отношениях с Минихом. «Хотя фельдмаршал и силен в интриге, – доносил Рондо в 1732 году, – в нем нет и десятой доли ловкости и опытности вице-канцлера». Но Андрей Иванович был силен и ловок не только в интриге. Все иностранные наблюдатели отмечали в нем наличие высокой степени деловых качеств. Тот же Рондо, продолжая цитированную выше депешу, писал: «Это не только единственный в России человек, знакомый с иностранными делами, но и в других делах нет человека, ему равного». Этот факт подтвердил и французский посол Маньян, в одном из донесений сообщавший: «Никто не обладал такими сильными умственными способностями, как Остерман». В другом донесении, отправленном восемь месяцев спустя, в феврале 1732 года: «Нельзя указать ни одного человека русского происхождения, обладающего авторитетом или способностями». Саксонский дипломат доносил в 1730 году, когда Остерман еще не приобрел влияния, которым располагал в последующие годы: «Вся эта огромная машина держится на нем (Остермане. – Н. П.); однако он один только бескорыстен»[111 - РИО. Т. 5. С. 353, 374.].
Одним словом, Андрей Иванович был незаменим, и императрице и ее фавориту ничего не оставалось, как временами гнев сменять на милость. Свою незаменимость в Верховном тайном совете Остерман подкреплял еще и своеобразной организацией делопроизводства, в котором только он и разбирался. В его отсутствие члены Верховного тайного совета соберутся, выпьют по чарке водки, поболтают и разойдутся. О степени его влияния на разбирательство дел в Кабинете министров можно судить по тому, что ему, в последние пять лет существования Кабинета министров прикованному к постели, приносили дела на дом. Это дало основание английскому послу Форбесу донести своему двору в 1734 году: «Обер-камергер – всемогущий фаворит, вице-канцлер – человек, необходимый по опытности и способностям. Первый обладает всеми качествами сердца, второй – всеми качествами ума, но сердцем несколько порочен»[112 - РИО. Т. 76. С. 102.]. Коротко, образно и точно охарактеризовал Остермана английский дипломат Финч: «Это кормчий в хорошую погоду, скрывающийся под палубой во время бури».
Каждое из приведенных выше свидетельств, разумеется, субъективно. Если речь идет об отзывах об Остермане иностранных дипломатов, то они зависели от позиции, занимаемой вице-канцлером к стране, которую они представляли. Отсюда альтернативные характеристики Андрея Ивановича: одни авторы акцентировали внимание на положительных свойствах его натуры, другие – на негативных, одни обращали внимание на чисто человеческие достоинства и недостатки, другие – на его служебную деятельность. Эти предварительные замечания уместно напомнить, перед тем как привести характеристику Остермана его недоброжелателем, французским дипломатом маркизом Шетарди, хотя и одностороннюю, но не лишенную интереса, поскольку автор схватил и запечатлел черты, бывшие на слуху, а также его личные наблюдения. Эта характеристика как бы обобщает частные наблюдения и относится к числу собирательных.
«Граф Остерман слывет за самого хитрого и двуличного человека в целой России. Вся его жизнь есть не что иное, как постоянная комедия. Каждый решительный переворот в государстве доставляет ему случай разыгрывать различные сцены: занятый единственной мыслью удержаться на месте во время частых дворских бурь, он всегда притворно страдает подагрой и судорогами в глазах, чтобы лишиться возможности пристать к которой-либо партии. Тишина в правительстве есть для него лекарство, возвращающее его здоровье. Никто лучше его не знает обо всем происходящем в Петербурге, и караульные, расставляемые будто для безопасности к домам знатных и иностранных министров, служат шпионами, обязанными ему отчетом во всем, что там ни происходит. На нем одном лежит вся тяжесть дел, и хотя его правила, совершенно нейтральные, не внушают обыкновенно много доверия, однако принуждены прибегать к нему, потому что не знают, как обойтись без этого человека… Это человек чрезвычайно вежливый и вкрадчивый, говорит на многих языках»[113 - Пекарский П. Указ. соч. С. 2, 3.].
Источники русского происхождения подтверждают свидетельства иностранцев – указы о «винах Остермана» неоднократно подчеркивали, что важнейшие решения он принимал самостоятельно, не советуясь с коллегами. «В важных делах с прочими поверенными персонами откровенных советов не держал, но большей частью поступал по своей собственной воле, о некоторых важных государственных делах генеральных советов собирать не старался и не хотел». И далее: «Мнения свои о важнейших государственных делах так переменял, как оные в угодность другим быть могли, а не так, как присяжная должность требовала».
Напомним еще об одном свойстве Андрея Ивановича – он никогда не афишировал своей причастности к важным событиям и обладал богатым арсеналом средств оставаться незамеченным, непричастным к происходившему. Но главное средство из этого арсенала состояло в умении сказываться больным. К слову сказать, эта хитрость от частого ее использования перестала быть тайной – при дворе и в среде иностранных дипломатов говаривали: раз Андрей Иванович обложился подушками, жди крутых перемен.
Характеристика Остермана будет ущербной без освещения его частной жизни. Здесь он выглядит совсем иным человеком: лукавство, коварство, мстительность, жестокость он оставлял на службе, и, переступив порог дома, он предстает совсем иным человеком: он нежно любящий супруг, заботливый отец – словом, самый добродетельный семьянин, не вызывающий нареканий со стороны самого строгого судьи.
Супругу Остерману выбрал сам Петр I – 18 декабря 1720 года состоялась помолвка с дочерью ближнего боярина и стольника Ивана Родионовича Стрешнева Марфой. Жениху было 34, а невесте 22. Столь поздний брак жениха был нетипичным явлением того времени – Андрей Иванович, видимо, ожидал выгодной партии.
Марфа Ивановна выходила замуж не по любви и не по собственной воле, а по воле царя, которой не мог противиться и отец, придерживавшийся старомосковских взглядов и презиравший заезжих иноземцев. Но разве мог отец предполагать, что его зять совершит умопомрачительную карьеру и станет фактическим правителем России?
Будучи уже в ссылке в Березове, Остерман на странице немецкой Библии сделал следующую надпись: «1721 года, января 21-го старого штиля праздновано бракосочетание наше со всем возможным великолепием, при котором с обеих сторон их императорские высочества, заступая место родителей наших, присутствовать изволили, и мы от высочайших особ, их императорских высочеств отвезены были к брачному ложу».
Получив богатое приданое деньгами, драгоценностями и поместьями, Андрей Иванович был обласкан полюбившей его супругой. Супруг отвечал взаимностью и преданностью семейному очагу. 21 марта 1722 года Марфа Ивановна родила сына Петра, умершего чуть более года спустя, в марте 1723 года родился еще один сын – Федор, в 1724 году – дочь Анна, а год спустя – сын Иван.
В отличие от своего шефа графа Г. И. Головкина, человека жадного и скупого, Остерман, по свидетельству М. М. Щербатова, держал открытый стол – щедрость, характерная для вельмож не первой, а второй половины XVIII века. Но современники отметили и бытовые свойства Андрея Ивановича, не вызывающие симпатий: он был равнодушен к экипировке, появлялся в неряшливом виде и настолько пренебрегал баней, что от него неприятно пахло. Манштейн отмечал, что серебряный сервиз в доме находился в таком грязном виде, что напоминал оловянный.
Историки располагают письмами Марфы Ивановны супругу, содержание которых позволяет судить о счастье и любви, царивших в семье. Первое письмо ее датировано 2 марта 1723 года, когда весь двор, в том числе и Остерман, отправился в Москву на коронацию супруги Петра I Екатерины. Будучи на сносях (дочь Анну родила 22 апреля 1724 года), Марфа Ивановна должна была остаться в северной столице. Надо отметить, что письма супруги отличались нежностью, неподдельной тоской от разлуки. Супруга беспокоится о здоровье Андрея Ивановича, вспоминает о его болезни в Риге, в канун отъезда на Ништадтский конгресс, заявляет, что «покуль не увижу тебя, моя радость, то мне кажется, что ты все нездоров». Супруга она называет «батюшкой дорогим», «любезным другом», обещает «до смерти своей любить» и надеется на взаимность, заклинает не печалиться о ее здоровье. Заканчивается письмо словами: «Любимый мой друг дорогой батюшка Андрей Иванович, живи весело и будь здоров и меня, бедную, люби всегда и я тебя до смерти буду любить. Верная твоя Марфутченка Остерманова».
Всего опубликовано пять писем за март – апрель 1724 года, одно из них хозяйственного содержания, а четыре – с излиянием нежных чувств. Последнее из них датировано 6 апреля, то есть за две с половиной недели до родов: «Богу единому известно, каково мне твое здоровье потребно и каков ты мне мил ныне, в каком я состоянии обретаюсь, однако ж ради тебя желаю себе живота, хотя бы и умерла, только бы при твоих глазах и в твоих дорогих руках»[114 - РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 321. Ч. I. Л. 8–11; ИВ. 1884. № 9. С. 611.].
Нежное письмо Марфы Ивановны к супругу, правда, недатированное, опубликовал С. М. Соловьев. Оно поражает непосредственностью, искренностью, теплотой, переживаниями от разлуки с супругом в «великий праздник». «Я вчера, – извещала Марфа Ивановна Андрея Ивановича, – у обедни сколько могла крепилась, что в такой великий день не плакать только не могла укрепить: слезы сами пошли»[115 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 301, 302.]. Даже не верится, чтобы Андрей Иванович, имевший репутацию скрытного, черствого и жестокого человека, раскрылся неожиданными чертами своего характера в семейной жизни, в которой он пользовался любовью супруги и отвечал ей взаимностью.
Марфа Ивановна разделила участь супруга и отправилась с ним в Березов 18 января 1742 года. С мая 1742 года Остерман стал поправляться от подагры. Поручик Космачев, командовавший караулом, получил подписанный 10 ноября 1746 года указ прислать в Сенат «известие, по получение сего указа в самой скорости: означенный Остерман ходит ли сам и буде де ходит, давно ли ходить начал. И о сем указе никому тебе, Космачеву, ни под каким видом не объявлять, а содержать в секрете».
14 января 1747 года Космачев отвечал: «Остерман освободился от болезни и начал ходить с 1742 года, августа месяца, о костылях, а потом не в долгое время и без костылей зачал ходить. И по се число прежней его болезни не видим». Не ясно, прикидывался ли он больным настолько, что с 1736 года не выходил из дому, или на него благотворно подействовал сибирский климат и более скромная трапеза ссыльного, но донесение Космачева представляет известный интерес.
С 5 мая 1747 года по доношению того же поручика Космачева Остерман «заболел грудью, впадал в обморок, и 21 мая того же года умер». Хоронила его Марфа Ивановна. Освобождена она была указом 21 июня 1749 года, в январе следующего года она прибыла в Москву, где и скончалась в феврале 1781 года на 84-м году от рождения.
Зададимся вопросом: какое отношение имел обрусевший немец Остерман к немецкому засилью? Самое прямое. С его именем связаны неудачные внешнеполитические акции правительства, а также предоставление теплых местечек своим соотечественникам. Маньян 12 февраля 1732 года доносил: «Все главные должности, как гражданские, так и военные, заняты иностранцами, представляющими из себя клевретов или вообще людей, преданных Остерману»[116 - РИО. Т. 81. С. 308.].
Суммируя отзывы об А. И. Остермане, можно составить о нем общее представление как о человеке неординарном, но не выдающемся, чиновнике, но не государственном деятеле. Он был всего лишь немцем-педантом, прекрасно ориентировавшимся в хитросплетениях придворной жизни, талантливым исполнителем чужой воли, человеком, чуравшимся крутых поворотов как в личной судьбе, так и в судьбе государства, умевшим подстраиваться под вкусы тех, кто стоял выше его. Надобно отметить и такие несомненно привлекательные черты его натуры, как трудолюбие, колоссальную работоспособность, непричастность к казнокрадству и мздоимству, умение не поддаться соблазну быть подкупленным дипломатами иностранных государств. Достойна похвалы его супружеская верность, трогательная забота о супруге и детях.
В то же время этот вкрадчивый и внешне приветливый человек за порогом своего дома был крайне честолюбив, мстителен и коварен. Настойчиво и последовательно, ступень за ступенью он взбирался к вершинам власти, сделался необходимой принадлежностью трона и выполнял все это столь ловко и незаметно, что лишь немногие современники замечали и его лукавство, и готовность предать своего покровителя, и умение скрывать за обаятельной улыбкой подлинные чувства и в критические минуты сказываться больным, чтобы не участвовать в схватке, а затем примкнуть к победившей стороне.
Третьим влиятельным немцем был Бурхард Христофор Антонович Миних.
Генрих Бухгольц.
Портрет Миниха Бурхарда Кристофа. 1765 г.
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Родился Миних в 1683 году в крестьянской семье, однако глава ее со временем получил чин дворянина и был уволен в отставку в чине подполковника. Располагая приличным по тому времени образованием, Миних начал службу в 17-летнем возрасте в должности то пехотного офицера, то инженера, руководившего сооружением канала. Канальное дело ему было знакомо – этой специальностью владел его отец. В 1716 году в чине полковника Миних был принят Августом II на польско-саксонскую службу. В 1718 году велись переговоры с Герцем о поступлении на шведскую службу; но смерть Карла XII и казнь Герца помешали осуществлению этого намерения. Тогда он решил попытать счастья в России и, прибыв в Петербург в 1721 году в чине генерал-лейтенанта, представил Петру записку, в которой изложил степень своей подготовленности к различным профессиям. В записке он признавался, что совершенно не знаком с морской и кавалерийской службами, поверхностно знал артиллерийское дело и гражданскую архитектуру и считал себя специалистом по службе в пехоте, сооружению и штурму крепостей.
В 1723 году Миних по поручению Петра I обследовал ход строительства Ладожского канала, подал царю записку, в которой проявил хорошее знакомство с канальным делом. В результате в январе 1724 года последовал указ Петра I: «Канальное дело во управление поручить ему, генерал-лейтенанту Миниху». Осенью 1724 года Петр I лично осматривал строительные работы и остался доволен результатами усердия Миниха: в весенне-летние месяцы этого года было вырыто около 12 верст канала, в то время как за предшествующие шесть лет было сооружено значительно меньше.
Историк-любитель второй половины XVIII века И. И. Голиков, автор 30-томного сочинения о «Деяниях императора Петра Великого», запечатлел услышанные кем-то слова царя, сказанные супруге: «В Минихе нашел я такого человека, который скоро приведет к окончанию Ладожский канал. Я еще не имел ни одного чужестранца, который бы так, как сей, умел предпринимать и совершать великие дела. Помогайте ему во всем, чего он пожелает»[117 - Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 10. М., 1839. С. 87.]. Проверить эти слова не представляется возможным, но, несомненно, у Петра Великого были основания для хвалебной оценки деятельности Миниха – он получил назначение «над всеми казенными и гражданскими строениями генерал-директором».
После смерти Петра Великого Михин в полной мере проявил такую черту характера, как алчность, – он то и дело осаждал Екатерину I и Петра II челобитными с просьбой о пожалованиях, которые, впрочем, удовлетворялись: он просил наградить его пятью тысячами рублей за то, что при строении Ладожского канала учинил в казну «немалую прибыль», просил пожаловать «деревеньку Ледново», в потомственное владение дом в Петербурге, наконец, должность генерал-цейхмейстера, то есть главнокомандующего артиллерией России.
Просьба поручить управление артиллерией изобличает в Минихе лишь одну не вызывающую симпатий черту – безмерное честолюбие и карьеризм. Дело в том, что в записке, поданной Петру I в 1721 году, он признавался: «По артиллерии равномерно не могу служить, не зная ее в подробности и умея распоряжаться ею только при атаке и обороне крепостей и в сражениях». В 1728 году он был пожалован Петром II генерал-губернатором столицы, графским достоинством, а в следующем году получил должность, которой давно домогался, – генерал-фельдцейхмейстера.
Не зная в тонкости дела, которым взялся командовать, Миних с немецкой педантичностью сосредоточил свое внимание на внешнем блеске и обрядной стороне управления артиллерией. Чтобы угодить Анне Иоанновне, тоже не равнодушной к внешнему блеску, Миних особое внимание уделял фейерверкам, устройство которых находилось в его ведении. Свою энергию, которой обладал в избытке, он отдал организации московских придворных увеселений. Усердие Миниха было замечено императрицей. В 1731 году «Санкт-Петербургские ведомости» извещали о пожалованиях Миниха «как за его государству поныне верно показанные зело полезные заслуги… изрядными вотчинами и знатною суммою…». В том же году в день коронации Анна Иоанновна пожаловала Миниху орден Андрея Первозванного – высшую награду России.
Мы не станем перегружать главу деталями управления Минихом артиллерией. Приведем несколько отмеченных им «великих неисправностей»: «1) офицеры не только б подчиненных своих экзерциции могли обучать, и в протчих воинских поступках исправлять, но и сами чести своему генералитету отдать не умеют; 2) у капралов некоторых на обшлагах и позументу не нашито; 3) у подпоручика у том смотре башмаки были востроносые, а не тупоносые, а шляпа весьма велика и не в такую пропорцию, как офицеру иметь надлежит… 5) багинеты многие не в надлежащих местах носят». Прочие пункты в том же духе: унтер-офицеры и рядовые не имеют кос, пользуются износившимися портупеями и т. д.[118 - Хмыров М. Фельдцейхмейстерство графа Миниха // Записки фельдмаршала графа Миниха. С. 231, 318.]
Если внутреннюю и внешнюю политику определял Остерман, то военное ведомство и командование армией было отдано на откуп Миниху – человеку, пользовавшемуся огромным расположением императрицы и едва не ставшим ее фаворитом. Это доверие выразилось в чинах и должностях Миниха, а также в щедрых пожалованиях поместьями и деньгами: в феврале 1732 года он занял должность президента Военной коллегии, а в марте стал фельдмаршалом. Миних занимал еще четыре должности, случай для XVIII века уникальный. Совершенно очевидно, что Миних не мог одновременно успешно нести бремя пяти должностей, в особенности в годы, когда Россия вела войну. Уделять внимание остальным должностям он мог лишь во время кратковременного пребывания в столице, которую навещал в месяцы затишья на войне. И все же плоды немецкого влияния на организацию вооруженных сил России сказались как на тактике, которой руководствовался Миних при осуществлении военных операций и заимствованной у прусской армии, так и в экзерцициях и экипировке солдат и офицеров. Английский резидент К. Рондо доносил в сентябре 1732 года своему двору о повелении императрицы, «дабы впредь русские войска обучались по прусскому образцу»[119 - РИО. Т. 66. С. 507.]. Косы и пудра, заимствованные у прусской армии, тоже являлись «подарком» Миниха русским солдатам.
Нельзя не отметить одно свойство натуры Миниха – он был удачлив, причем настолько, что едва не проигранные сражения, как по мановению волшебной палочки, оборачивались победой, как то случилось при взятии Очакова и сражении под Ставучанами. Военное искусство Миних проявил лишь при овладении Перекопом, но этот успех перечеркивается неудачным походом в глубь Крыма в 1736 году.
Что касается пороков, то у Миниха их было в избытке. Уже перечисленные можно дополнить склонностями к интригам, авантюризму, хвастовству. Незначительные по масштабам победы под его пером превращались в крупные военные успехи. В гражданских делах он тоже приписывал себе заслуги, к которым не имел отношения. Так, согласно версии Миниха, ему принадлежала мысль об учреждении Кабинета министров. Остерман, «зная, что императрица питала ко мне большое доверие, просил меня предложить ее величеству учредить Кабинет, который заведывал бы важнейшими государственными делами и мог посылать именные указы Сенату и другим присутственным местам». Миних будто бы выполнил просьбу Остермана, императрица согласилась с предложением, и Кабинет был якобы учрежден в 1730 году, «тотчас по вступлении на престол императрицы, причем она настаивала, чтобы Миних стал членом Кабинета»[120 - Миних Б. X. Записки. С. 44.]. Здесь что ни слово, то ложь, искажение хода событий, стремление поставить себя в их центре.
Один из современников сообщает факт жестокости Миниха. Он относится к 1740 году, когда назначение Бирона регентом вызвало острое недовольство в офицерском корпусе, – девять офицеров арестовали и пытали в присутствии генерал-прокурора Трубецкого, генерала Ушакова, Бирона и Миниха. «Раздражение графа Миниха дошло до того, что он… не мог вдоволь упиться страданиями, причинявшимися этим офицерам»[121 - РИО. Т. 92. СПб., 1894. С. 39, 40.].
Другим примером жестокости фельдмаршала является дело шведского майора Синклера. Оно заслуживает внимания прежде всего потому, что высвечивает нравственный облик как Миниха, так и его покровительницы Анны Иоанновны. Оба они выступают в двух ипостасях: публичной в роли респектабельных людей, осуждающих убийство майора, и тайной, характеризующей их заказчиками и организаторами этого убийства.
Синклер имел репутацию явного недруга России. Он должен был доставить из Стамбула в Стокгольм секретные депеши, в которых турки склоняли шведов включиться в войну против России. О миссии Синклера стало известно русскому резиденту в Швеции М. П. Бестужеву-Рюмину, предложившему русскому двору коварный план убийства Синклера с тем, чтобы овладеть депешами, которые он должен был проездом через Польшу доставить в Стокгольм. «Мое мнение – писал Бестужев, – чтоб его анлевировать (уничтожить. – Н. П.), а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок с Синклером будет приятен королю и министерству».
План Бестужева в Петербурге одобрили и даже его удалось реализовать, но сработано было так грубо, что назревал скандал европейского масштаба и случившееся давало повод Швеции без околичностей объявить войну России. Создавалась опасность войны на два фронта, что, естественно, не устраивало русский двор, стремившийся отмежеваться от причастности к преступлению.
Императрица в послании к Миниху называла убийство Синклера богомерзким, безумным и безответственным поступком, но рекомендовала, если убийцы «из наших людей суть», то их «надлежит самым тайным образом отвесть и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит и не изыщутся ли иные способы оное утолить».
Рескриптом русскому дипломату Кейзерлингу в Дрездене Анна Иоанновна решительно отвергала всякую причастность России к убийству: «Не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших оное определить мог».
Столь же решительно императрица отклоняла причастие русских агентов к «богомерзкому делу» и в рескрипте в Вену к дипломату Бракелю: «Нам же никогда в мысли не приходило, что от наших людей он (Синклер. – Н. П.) до шленских границ преследован бьггь мог, яко же мы по сие время верить не хощем, чтоб то наши люди были, но некоторые интриги в том обращаются, от кого б оные ни произошли».
Миних в тон рескрипту Анны Иоанновны отвечал ей: «Я знаю, что все вашего императорского величества дела и поведение не на чем, как на великодушии и честности, основаны, чего я сам с самых моих молодых лет по сие время навыкнуть тщился…»
Таким образом, императрица поручала своим представителям убеждать иностранные дворы в том, что Россия никакого касательства к гибели Синклера не имела. Эту абсолютно ложную версию должна была подкрепить и мысль о порядочности и офицерской чести фельдмаршала Миниха. Императрице и Миниху хотелось, чтобы именно так, а не иначе выглядело дело Синклера.
Подлинную картину событий отразили не цитированные выше письма императрицы и Миниха, содержание которых предполагалось для успокоения иностранных дворов, а секретнейшие документы, повествующие о том, кто был организатором и исполнителем преступной акции. С холодной расчетливостью инструкция, подписанная Минихом 28 сентября 1738 года, поручает драгунскому поручику Левицкому тайным образом в Польше «перенять» Синклера со всеми имеющимися при нем письмами. «Ежели такой случай найдете, – продолжал Миних, – то старатца его умертвить или в воду утопить, а письма прежде без остатка отобрать».
1 августа 1739 года Миних донес императрице о выполнении Левицким поручения. Синклер убит, а депеши переданы барону Кейзерлингу. Однако «анвелирование» было выполнено Левицким столь топорно, что становилось трудно отрицать причастность русского двора к убийству: Не полагаясь на скромность убийц, их умение молчать, кабинет-министры велели содержать заключенных в полной изоляции, лишив их возможности общения с кем бы то ни было, чтобы затем отправить в ссылку в глухой монастырь в Сибири. Такова цена заверения Миниха не совершать того, «что честности противно», и заявления императрицы, осуждавшей «богомерзкое» убийство[122 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 604, 686–689.].
«Анвелирование» Синклера вызвало огромный резонанс – европейские дворы были единодушны в осуждении этой акции, тем более что она не осталась тайной, ибо союзница России Австрия известила всех, что убийство шведского майора было осуществлено четырьмя русскими офицерами. Но больше всех акцией возмущались в Швеции, где действия России дали повод реваншистам всех мастей для открытия против нее военных действий. Это была не беспочвенная угроза: к русским границам стягивались шведские полки, в Петербурге ожидали шведского вторжения.
Похоже, двор в Петербурге запаниковал и готов был заключить мир с турками. Об этом можно судить по письму императрицы к Остерману с указанием причин, вынуждавших пойти на этот шаг: Россия в одиночестве не в состоянии победить турок – Персия готова заключить с ними мир, а действия Австрии не приносили ожидаемого успеха. Императрица, кроме того, писала о распрях между генерал-фельдмаршалами Минихом и Ласси с генералитетом. С пагубным влиянием этой распри согласился и Остерман: «Бесспорно истинно то, что несогласие между предводителями армии и генералитетом производит следствия зело вредные интересу вашего императорского величества».
Таковы были результаты злодейского поступка Миниха, едва не накликавшего войну России на два фронта. История с Синклером изобличает в злодеянии не только Миниха, но и императрицу.
Общеизвестно, что все современники единодушны в отрицательной оценке человеческих качеств фельдмаршала. Дюк де Лириа, наблюдавший Миниха в 1727–1730 годах, когда тот был еще далек от пика своей карьеры, писал: «Граф Миних, немец, служил генералом от артиллерии, он очень хорошо знал всякое дело и был отличным инженером, но самолюбив до чрезвычайности, весьма тщеславен, а честолюбие его выходило из пределов; он был лжив, двоедушен, казался каждому другом, а на деле не был ничьим; внимателен и вежлив с посторонними, он был несносен в обращении с подчиненными».
Дошедшие до нас документы не уличают Миниха в казнокрадстве и взяточничестве. Но один из современников обвинял в нечистоплотности его супругу: «Его жену считают за женщину корыстолюбивую, и, как утверждают, она ничем более не занимается, как хапаньем и поборами». Вряд ли она это делала без ведома супруга[123 - РИО. Т. 5. С. 453, 454.].
Мы рассказали о наиболее влиятельных немцах, в руках которых сосредоточивалась реальная власть в России. Если бы этот «триумвират» жил в мире и дружбе, действовал согласованно, то немецкому правлению не было бы конца. Но в том-то и дело, что три честолюбца, одолеваемых далеко идущими планами, соперничали друг с другом, ревниво следили за кредитом доверия у императрицы, чем в конечном счете погубили себя.
Самое устойчивое положение в этом триумвирате занимал Бирон, но и он не был освобожден от забот о сохранении за собой «должности» фаворита и должен был зорко следить за лицами, привлекшими внимание императрицы, и принимать срочные меры для удаления соперников от двора.
Возмутителем спокойствия был самый честолюбивый из них, менее других владевший тайнами и искусством дворцовых интриг, посчитавший, что ему все было нипочем, после того как он стал фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, – граф Миних.
Своей карьере Миних был обязан прежде всего Остерману, с которым в конце 1720-х – начале 1730-х годов находился в дружеских отношениях. Андрей Иванович усердно хлопотал о пожалованиях Миниху перед Екатериной I, Петром II и Анной Иоанновной. Миних принимал хлопоты друга как должное, безотказно получал просимые денежные вознаграждения и поместья и до времени довольствовался скромной ролью строителя Ладожского канала, начальника артиллерии русской армии, шефа кадетского корпуса и полковника Ладожского и Кирасирского полков. Милости, посыпавшиеся на Миниха в 1732 году, вскружили ему голову настолько, что он решился на открытый выпад против своего друга Остермана. К удивлению современников, фельдмаршал отважился придерживаться взглядов, противоположных взглядам Остермана: вице-канцлер выступал противником утверждения на польском троне ставленника французского короля Станислава Лещинского, в то время как Миних осмелился его поддерживать. Противостояние бывших друзей усилилось после того, как Миних, вопреки желанию вице-канцлера, добился зачисления в Иностранную коллегию своего брата.
Фельдмаршал, как и следовало ожидать, проиграл единоборство с более опытным интриганом вице-канцлером, сумевшим обуздать притязания зарвавшегося бывшего друга, использовав влияние могущественного фаворита: Андрей Иванович в привычной для себя манере исподволь настраивал Бирона против Миниха и в конце концов достиг своей цели сообщением, что Миних неодобрительно о нем отзывался. Этого было достаточно, чтобы вызвать гнев фаворита, ранее покровительствовавшего Миниху, так как, по словам Маньяна, намеревался «сосредоточить власть над русскими войсками в руках верного человека»[124 - РИО. Т. 81. С. 313, 314.].
Усилия Остермана увенчались успехом. Еще 13 мая 1732 года саксонский министр при русском дворе Лефорт извещал свой двор: «Граф Бирон сам признался мне, что удивляется его (Миниха. – Н. П.) образу действий и сожалеет все, что сделал для этого хамелеона, у которого ложь должна заменять правду».
Недовольство, вызванное самоуправством и заносчивостью Миниха, распространилось среди различных кругов столичного общества. Купечество, в частности, было раздражено тем, что генерал-губернатор отправил отряды солдат на купеческие склады и в их дома для проверки, уплачена ли пошлина за хранимые товары.
Говоря по правде, Лефорт и Маньян выдавали желаемое за действительное, преувеличивая степень утраты Минихом влияния при дворе: должность генерал-фельдцейхмейстера Миних потерял в 1735 году, сохранив за собой три ключевых поста – президента Военной коллегии, генерал-губернатора столичного города, главнокомандующего русской армией во время русско-турецкой войны и право отправлять реляции в адрес не Кабинета министров, а императрице.
Прослеживая карьеру Миниха, отметим, что она протекала в соответствии с традициями, унаследованными от предшествующего столетия, когда считалось, что боярин или воевода с одинаковым успехом мог командовать войсками, вести дипломатические переговоры, осуществлять административные и судебные функции и т. д. Миних тоже отправлял разнообразные поручения, но преуспел только в одном – в строительстве Ладожского канала, где он обнаружил талант инженера.
Между Минихом, с одной стороны, и Бироном и Остерманом – с другой, сложились неприязненные отношения, о чем свидетельствует публичная пощечина, нанесенная Бироном самолюбию фельдмаршала. Миних намеревался породниться с фаворитом благодаря женитьбе своего сына на сестре его супруги. На этот счет была достигнута договоренность. Миних вызвал сына из-за границы, но брак не состоялся – как только Бирону стал известен недоброжелательный отзыв Миниха о своей персоне, сестра супруги была тут же обвенчана с генерал-майором Бисмарком.
Не безоблачными были отношения у Бирона с Остерманом. Последний, в отличие от Миниха, не претендовал на роль фаворита, стремился угодить Бирону, но незаметно приобрел такую власть в Кабинете министров, что вызывал беспокойство у Бирона. Фаворит, как отмечалось выше, противодействовал росту влияния Остермана включением в состав Кабинета министров своих людей: Ягужинского, Волынского, Бестужева-Рюмина.
В управлении страной принимал горячее участие не только упомянутый «триумвират». Этим не исчерпывалось немецкое засилье – существовал, если так можно выразиться, второй эшелон власти, в котором немцы выполняли хотя и менее масштабную, но ведущую роль. Остановимся подробнее на двух из них, выступавших откровенными грабителями казны и народного достояния, – Розене и Шемберге. Барон Ганс Густав фон Розен, назначенный генерал-директором дворцовых волостей в 1732 году, был примитивным грабителем находившихся в его управлении дворцовых крестьян, вымогая у них дополнительные сборы в свою пользу. В 1735 году он инспектировал дворцовые волости, но от его поездки, по мнению Главной дворцовой канцелярии, «интересу не было и толку тоже». Главная дворцовая канцелярия обвинила барона в самоуправстве, превышении своих полномочий, в игнорировании указов вышестоящих инстанций, в результате чего крестьянам последовало «вместо пользы – разорение».
5 сентября 1739 года в ответ на донесение Санкт-Петербургской дворцовой канцелярии от 18 мая того же года последовала именная резолюция: генерал-директору Дворцовой канцелярии «у дел не быть», ибо он по жалобам дворцовых крестьян находится под следствием за взятки, а также «за многотысячное упущение денежных и прочих дворцовых доходов наших и что он учинил знатно чрез такие взятки в дворцовой нашей пашне и в посеве хлеба великое уменьшение; он же, Розен, собственных своих лошадей сам у себя на нас покупал и за них себе из казны нашей без указа нашего деньги брал». Резолюция повелевала расследовать преступление и привлечь всех виновных к ответственности[125 - РИО. Т. 130. С. 217.].
В ответ в феврале 1740 года Розен подал челобитную, на которую 25 февраля последовала резолюция Анны Иоанновны: «В дом свой ехать позволяется, а ежели по комиссии важное что касаться до него будет, то должен он ответствовать». Поскольку на Розене значились взятки в сумме 27 338 рублей 68 копеек и прочее, то Сенат запросил у Кабинета министров: руководствоваться ли ему резолюцией императрицы, разрешавшей выезд из России, или «ответствовать» за содеянное преступление?
Если бы в таком преступлении был уличен русский вельможа, то ему грозила бы виселица либо по меньшей мере ссылка в Сибирь с конфискацией имущества. Но у Розена, видимо, нашлись могущественные покровители, и при Анне Иоанновне его судьба так и не была решена, а в правление Анны Леопольдовны должность генерал-директора над дворцовыми волостями была восстановлена и ее вновь занял Розен. В конце мая 1742 года по донесению обер-гофмейстера Салтыкова Сенату, повторившему старые обвинения в адрес Розена с предложением освободить его от занимаемой должности, так как он «экономии никакой к приращению интереса… не показал, а между тем на содержание канцелярии тратилась немалая сумма», сообщалось, что за ним числятся «многотысячные взятки». Указом Сената 8 июня 1742 года Розен «за непорядочные его поступки от ведомства дворцовых дел был отрешен» вновь и взят под следствие Юстиц-коллегии[126 - Индова Е. И. Дворцовое хозяйство России. Первая половина ХVIII века. М., 1964. С. 295, 296.]. Дальнейшая судьба Розена нам неизвестна.
Проделки Розена по сравнению с разграблением казны немцем Шембергом представляются детскими забавами.
Александра-Курта Шемберга – саксонского обер-гауптмана и королевско-польского камергера – на русскую службу нанял другой немец – посол России в Варшаве Кейзерлинг. По заключенному с Шембергом контракту должность, которую ему предстояло занять, получила название генерал-берг-директор, а возглавляемое им учреждение – Генерал-берг-директориум. Это беспрецедентный случай, когда учреждению присваивалось название по чину его руководителя.
Хотя указ 31 августа 1736 года объявлял Генерал-берг-директориум на таких же правах, «как прежде Берг-коллегия была», в действительности вновь созданное учреждение имело мало сходства с коллегией. Штат Берг-коллегии, как и остальных коллегий, состоял из десяти персон: президента, вице-президента, четырех советников и такого же числа асессоров. Штат Генерал-берг-директориума состоял из двух человек: Шемберга и другого немца – советника В. Рейзера. Права Шемберга были значительно шире прав президента Берг-коллегии, находившейся в подчинении Сената, в то время как Генерал-берг-директориум подчинялся «беспосредственно от ее императорского величества высочайших повелений и указов» и состоял в ведении Кабинета министров. Позже Генерал-берг-директориум пополнился новыми чиновниками, но вновь иноземцами: проворовавшимся шведским военнопленным В. Бланкенгагеном и немцем Кохиусом. Принятый на русскую службу Бланкенгаген ведал экспортом казенного железа и меди за границу, в 1734 году был уличен в подлоге, караемом смертной казнью, но Шемберг добился освобождения Бланкенгагена от наказания и назначил его без ведома Сената берг-асессором на Урале. Расставляя своих людей в горной администрации, Шемберг избавился от В. П. Татищева, сопротивлявшегося передаче Казенных Горноблагодатских заводов, жемчужины уральской металлургии, Шембергу. В марте 1739 года Шемберг получил Горноблагодатские заводы, стоившие казне свыше 42 тысяч рублей, а также ссуду в 65 тысяч рублей. Кроме того, он взял на откуп продажу сибирского железа, овладел Лапландскими медными и серебряными рудниками. Все эти сделки совершались при покровительстве, разумеется не безвозмездном, Шемберга. В результате трехлетнего содержания откупа по продаже железа и меди и эксплуатации Горноблагодатских заводов Шембергом сумма долга казне, которую он так и не погасил, составила около 135 тысяч рублей[127 - Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. М., 1953. С. 131, 132.].
Кроме перечисленных здесь фамилий можно назвать еще несколько влиятельных немцев: гофмаршала Левенвольде, президента Коммерц-коллегии Менгдена и др.
Итак, немцы при Анне Иоанновне занимали важнейшие должности в правительстве, в то время как при Петре I иностранные наемники использовались в качестве специалистов и не занимали руководящих постов в правительственном механизме. Вспомним, как Петр I обжегся, поручив командовать войсками, атаковавшими Нарву, герцогу фон Круи, как он уволил часть иностранных офицеров после трагедии на реке Прут.
Среди губернаторов при Петре I не было ни одного иностранца, при Анне Иоанновне обязанности генерал-губернатора не какой-либо, а столичной губернии выполнял Миних, впрочем, назначенный на эту должность при Петре II.
Президентами коллегий Петр I назначил русских вельмож. Услуги иностранцев использовались на должностях вице-президентов и советников. Исключение составляла Берг-коллегия, возглавлявшаяся президентом Я. В. Брюсом, принадлежавшим ко второму поколению шотландцев, эмигрировавших в Россию еще при Алексее Михайловиче и давно обрусевших, а также генерал А. Вейде, занимавший в течение полугода вместе с неграмотным Меншиковым пост президента Военной коллегии. При Анне Иоанновне одной из «первейших» коллегий, Военной, руководил Миних, он же занимал пост главнокомандующего.
В списке сенаторов при Петре I встречаем одного Остермана, он же проник в Верховный тайный совет, где его фамилия терялась среди русских вельмож, смотревших на него как на рабочую лошадку. При Анне Иоанновне Остерман стал первым человеком в правительстве, на откупе у которого находилась внутренняя и внешняя политика России.
И еще один, как нам представляется, веский аргумент в пользу существования немецкого засилья: при Петре I жалоб на его существование со стороны русских вельмож источники не отметили; при Анне Иоанновне в руках немцев находилась вся власть, они занимали доходные места, что вызывало раздражение русских вельмож, выплеснувшееся в деле смоленского губернатора Черкасского, а затем и А. П. Волынского. Приведем несколько свидетельств иностранных наблюдателей.
Уже в мае 1730 года, то есть пару месяцев спустя после восшествия на престол, пристрастие Анны Иоанновны к немцам отметил английский резидент Рондо. «Дворянство, по-видимому, очень недовольно, что ее величество окружает себя иноземцами. Бирон, курляндец, прибывший с нею из Митавы, назначен обер-камергером, многие курляндцы пользуются также большой милостью, что очень не по сердцу русским, которые надеялись, что им отдано будет предпочтение».
Саксонские дипломаты точно определили, кому принадлежала власть в России в конце 1730-х годов: «Несмотря на все внутренние несогласия и личные антипатии, триумвират, состоящий из Бирона, Остермана и Миниха, представлял полное согласие в главном, а именно касательно удержания начала существующих порядков. Государыня Анна поняла вполне, что дарование первенствующего положения этому триумвирату было самым верным средством к возвышению его собственного влияния и к усилению могущества государства»[128 - РИО. Т. 5. С. 409.].
Зададимся вопросом, почему при русской Анне Иоанновне возникло немецкое засилье, олицетворенное Бироном, а у немки Екатерины Великой соратниками выступали русские вельможи? Ответ не представляет трудности: Екатерина II, как и Анна Иоанновна, не располагала кланом родственников, на которых она могла опереться, но Екатерина II заняла трон в результате переворота и она опиралась на заговорщиков. У Анны Иоанновны подобная опора отсутствовала, и она воспользовалась услугами своего курляндского окружения. Если к этому прибавить 19-летнее пребывание императрицы в Курляндии, где она в известной мере отличилась, то станут понятными ее симпатии и к немцам, и к иностранцам вообще.
Глава VI
Утехи Анны Иоанновны
В этой главе мы рассмотрим личные качества Анны Иоанновны, потому что именно они оказали немалое влияние и на историю России, и на формирование «команды», с которой она хотя бы официально правила страной, и на вкусы двора, и на характер развлечений императрицы, и на ее распорядок дня. Последний крайне важен, ибо дает полное представление о времени, отведенном на занятия делами государства, на забавы, сон, отдых и т. д.
Напомним о страсти императрицы к роскоши, в равной мере проявлявшейся как в укладе жизни императрицы, так и ее двора. В отличие от Елизаветы Петровны, неравнодушной к нарядам, гардероб которой насчитывал 15 тысяч платьев, Анна Иоанновна питала страсть к украшениям, которую она не могла утолить, будучи герцогиней Курляндской. Не случайно уже через несколько дней после приезда из Митавы в Москву она затребовала драгоценности, конфискованные у опального Меншикова. К ее огорчению, улов был невелик, так как большую часть бриллиантов использовали для изготовления короны Петру II. Но Анна Иоанновна тратила колоссальные по тому времени суммы на приобретение драгоценностей для себя, а также для подарков. Так, только в 1733 году купцу Липману было уплачено за усыпанную бриллиантами золотую табакерку и собственный портрет, а также за бриллианты, изумруды и прочие драгоценные камни свыше 168 тысяч рублей. В начале следующего года тот же Липман «за алмазные вещи» получили 18 733 рубля.
Расточительность императрицы отмечали источники как иностранного, так и отечественного происхождения с тем различием, что вторые лишь констатировали факт, а первые иногда осуждали огромные расходы на празднества.
В первую очередь это относится к устройству многочисленных празднеств, посвященных лицам царской фамилии, которые отличались необыкновенной пышностью и помпезностью. Среди них, как отмечалось выше, особой роскошью выделялись день рождения, восшествие на престол и тезоименитство императрицы. Так как дни эти были близки друг другу (28 января – день рождения, коронации – 28 апреля, тезоименитства – 3 апреля), то празднества продолжались неделями. Менее торжественно отмечались дни рождения и тезоименитства герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны, Елизаветы Петровны, Анны Леопольдовны и ее супруга Антона Ульриха Брауншвейгского, членов семьи Бирона, после того как глава ее в 1737 году стал герцогом Курляндским. Празднества устраивались по случаю смотра гвардейских полков, годовщин их возникновения, по случаю отъезда из Петербурга в Петергоф и обратно царской семьи, по случаю годовщины учреждения орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, Св. Екатерины, в которых участвовали кавалеры перечисленных орденов.
Уже первые дни царствования императрицы ошеломили видавшего виды иностранного наблюдателя небывалой роскошью церемонии. 5 мая нового стиля 1730 года заканчивались коронационные торжества. «Могу уведомить вас, – доносил де Лириа в Мадрид, – что я никогда не видел такого блестящего и великолепного празднества, к тому же исполненного с такой распорядительностью и порядком». А ведь де Лириа представлял не какое-либо захудалое герцогство в Европе, а богатую Испанию.
К. Рондо доносил 4 мая 1730 года из Москвы: «Коронование ее величества состоялось 28 апреля с большей торжественностью, чем коронование кого бы то ни было из ее предшественников. Никогда здешний двор не был так блистателен, как в этот день». В следующей депеше резидент сообщал, что празднование дня восшествия на престол продолжалось восемь дней. «Во все время двор являлся в чрезвычайном блеске, в заключение же праздника сожжен был фейерверк, который, пожалуй, не превзойти где бы то ни было в белом свете – такова внешняя степень цивилизованной роскоши, достигнутой в России в непродолжительное время».
Маньян, сравнивая двор Петра Великого и Анны, приметил, что «у Петра не было вовсе двора и жил он чрезвычайно умеренно, храня свою казну на государственные нужды». Анна Иоанновна, напротив, выглядела расточительной с самого начала своего царствования.
В июне 1731 года императрица поселилась в Измайлове, «где живет в чрезвычайной роскоши». Еженедельно по четвергам и субботам в Измайлово приезжали дипломаты приветствовать императрицу и возвращались вполне довольные баснословным приемом.
24 сентября – день рождения Прасковьи Ивановны, который, как сообщал К. Рондо, «был отпразднован с большой торжественностью: вечером был большой ужин и бал»[129 - РИО. Т 66. С. 186, 190, 193, 199, 237.]. Празднества дорого обходились казне, в особенности фейерверки, представлявшие сложные и грандиозные по размерам сооружения со статуями, приветственными словами, огромным количеством ламп. Так, фейерверк, сожженный по случаю дня рождения императрицы в 1733 году, имел в высоту 135 футов, в ширину 462 фута, на нем горело 25 000 ламп.
Праздничные приемы стоили немалых денег не только казне, но и придворным, вельможам, а также иностранным министрам. Дело в том, что Анна Иоанновна требовала, чтобы гости на каждый прием являлись в новых, специально для этой цели сшитых мундирах. «Среди вельмож нет людей, которые не жаловались бы уже, и довольно громко, что издержки, требуемые царицей для заказа на каждый праздничный день новых платьев, блещущих богатством, превышают у одних получаемые ими доходы, у других – жалованье и из всех этих трат не только ничего не поступает в казну царицы, но, напротив, она опустошается не менее кошельков русских подданных, во-первых, ради частых празднеств, во-вторых, для других секретных расходов». Манштейн, видимо, нисколько не преувеличивал, когда в свои записки занес такую фразу: «Довольно было торговцу мод прожить в Петербурге два года, чтобы составить себе состояние, хотя бы в начале весь его товар был взят в кредит»[130 - Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 182.].
О желании императрицы каждый раз встречать своих придворных в новой экипировке писал и Миних-младший. «Придворные чины и служители не могли сделать лучшего уважения государыне, как если в дни ее рождения, тезоименитства и коронования, каждогодно праздновавшиеся с великим торжеством, приезжали во дворец в новых и богатых платьях. Многие вельможи, угождая императрице, разорялись».
1732 год не был ничем примечателен в истории России, страну не поразила эпизоотия и чума, крестьянин, как и обычно, собрал средний урожай. Роскошь двора не контрастировала с нищетой трудового населения, как в 1733–1736 годах, когда одну губернию за другой в течение трех лет поражали небывалые неурожаи и тысячи людей с протянутой рукой просили кусок хлеба и умирали с голоду. Двор, как и в предыдущие годы, продолжал развлекаться, как и раньше, роскошь и блеск мундиров продолжали удивлять иностранцев.
Справедливости ради отметим обнародование двух указов, долженствующих проявить заботу о голодающих крестьянах. Один из них обязывал помещиков губерний, охваченных неурожаем, выдавать крестьянам зерно на посев, другой указ с аналогичным повелением был адресован приказчикам дворцовых волостей. Характерная деталь – указы помещикам и приказчикам об оказании помощи были опубликованы по одному разу, и законодательство не дает оснований для суждений о том, с каким рвением они исполнялись властями. Зато указы о борьбе с чумою следовали один за другим, один другого суровее наказывавших нерадивых администраторов. Напомним, чума не щадила ни жителей хижин, ни обитателей дворцов, в то время как голод обходил стороной царские хоромы.
Такова была подлинная цена главной добродетели императрицы – доброта, милосердие, настойчиво подчеркиваемые иностранными наблюдателями. Впрочем, по-своему они были правы – Анна Иоанновна, например, по отношению к немцам проявляла и снисходительность, и милосердие, и доброту.
Заслуживает освещения еще одна, отнюдь не добродетельная черта характера императрицы, вероятно унаследованная от матери, – жестокость. В нашем распоряжении нет свидетельств ее повседневного проявления, но такова природа помещичьего быта, установленного в царском дворце, когда пощечины, привычка таскать за волосы и прочие истязания, а также обязательная ссылка провинившегося на изнурительные работы крайне редко регистрировались источниками.
Описание одного из таких случаев принадлежит известному пииту В. К. Тредиаковскому, чем-то не угодившему императрице своими виршами. Он с наивной простотой, даже с гордостью описал эпизод, когда царская длань коснулась его щеки: «Имел счастие читать государыне-императрице у камина, стоя на коленях перед ее императорским величеством; и по окончании оного чтения удостоился получить из собственных ее императорского величества рук всемилостивейшую оплеушину».
Другой случай связан с фрейлинами Салтыковыми. Известно, что императрица любила засыпать под успокаивающие песни фрейлин, или, как она их называла, девок. Однажды Салтыковы пели целый вечер до изнеможения, а императрицу не клонило ко сну. Когда они пожаловались на усталость, Анна Иоанновна в приступе гнева, забыв, что она императрица, уподобилась сварливой помещице, отправила провинившихся в прачечную стирать белье. Известен и эпизод с танцовщицами: императрица велела призвать во дворец лучших танцовщиц столицы, чтобы те в ее присутствии исполнили какой-то танец. Девицы, находясь под впечатлением грозного взора царственной зрительницы, перепутали фигуры и остановились. Каждая из них была награждена пощечиной и повелением возобновить танец[131 - РС. 1873. Т. VIII. С. 314.].
Пример, свидетельствующий о склонности императрицы не столько к жестокости, сколько к садизму, привел в своей монографии В. Строев. Однажды в Петербург прибыла вдова полковника и осмелилась передать непосредственно императрице челобитную с просьбой уплатить ей 400 рублей заслуженного покойным супругом жалованья. Императрица, руководствуясь указом, запрещавшим лично ей подавать челобитные, велела ее публично высечь, а затем, усадив в карету, отвезти ее в казначейство, чтобы там ей выдали просимые деньги. Челобитчица, опасаясь, что ее высекут там еще раз, отказалась ехать за деньгами и отправилась домой[132 - Строев В. Бироновщина и Кабинет министров. М., 1909. С. 40, 41.].
Капризы, произвол, самодурство были присущи Анне Иоанновне в такой же мере, как и сварливой помещице, проживавшей в глухомани. Об одном из эпизодов, вызвавшем ярость императрицы, рассказал собиратель исторических анекдотов П. Ф. Карабанов. Анна Иоанновна любила за обедом пить иностранные вина. Однажды за столом вместе с императрицей сидели Бирон и недавно прибывший из-за границы дипломат Андрей Борисович Куракин. Императрица, откушав из бокала вина и подавая его Куракину, спросила: «Вам почти все европейские вина известны, каково это?»
Куракин, перед тем как отведать вино, обтер бокал салфеткой. Императрица, покраснев от гнева, закричала: «Ты мной брезгуешь. Я тебя выучу, с каким подобострастием должен взирать на мою особу. Гей, Андрей Иванович!» (Ушаков, руководитель Тайной розыскных дел канцелярии. – Н. П.).
Провинившегося ждали большие неприятности, но он их избежал благодаря заступничеству Бирона: «Помилуй, государыня. Он сие сделал не умышленно, а следуя иностранным обычаям». Обер-шталмейстер был помилован[133 - РС. 1871. Т. IV. С. 691.].
Не всегда вспышки гнева заканчивались столь безоблачно. Иногда следствием каприза становилась опала или наказание, коверкавшие всю жизнь провинившегося.
Маньян в конце ноября 1731 года доносил о придворном происшествии, отразившем меру произвола императрицы. Отличавшаяся привлекательной внешностью статс-фрейлина Анны Иоанновны, родственница императрицы по материнской линии графиня Салтыкова завела интригу с камергером Лопухиным. Сестра Бирона, побуждаемая исключительной ревностью к графине Салтыковой, пожаловалась императрице, и та потребовала от родственницы прервать отношения с женатым камергером, однако статс-фрейлина не оказала должного повиновения. Тогда императрица призвала обер-гофмейстера своего двора и велела ему отправиться в Преображенский полк, подполковником которого он состоял, и выбрать мужа для помянутой фрейлины из числа солдат своего полка. Тот ответил: «От всей души, тем более что это воля императрицы». Когда жениха показали прелестной фрейлине, та лишилась чувств, а очнувшись, разразилась криком отчаяния, но в конечном счете произнесла роковое «да». Венчание происходило на следующий день. Когда солдат явился благодарить императрицу, она произвела его в чин прапорщика.
Самым ярким примером изощренного самодурства и жестокости императрицы был ее поступок с А. И. Румянцевым. Александр Иванович, всю жизнь прослуживший в армии, известный боевой генерал-лейтенант, был вызван императрицей в Москву, чтобы предложить ему пост президента Камер-коллегии. Румянцев, будучи честным служакой, ответил, что он всю жизнь служил в армии и понятия не имеет о финансах. Разгорячившись, он заявил, что не умеет выдумывать налоги для удовлетворения роскоши двора. Анна не стерпела этого выпада, выгнала генерала вон, велела его арестовать, лишив чина и наград, и отдать под суд Сената, приговорившего его к смерти. Императрица сохранила ему жизнь, но сослала в его казанскую деревню.
Маньян сообщил дополнительные сведения, видимо главные, о причинах опалы. Поводом к его опале, доносил дипломат 31 мая 1731 года, «послужили резкие выражения, вырвавшиеся у него недавно в разговоре с обер-камергером (Бироном. – Н. П.), и какие-то нескромные слова, задевавшие особу царицы»[134 - РИО. Т. 81. С. 195, 262, 265.].
Три года Румянцев отбывал в ссылке, но в 1735 году Анна Иоанновна назначила его казанским губернатором, затем определила в армию в разгар русско-турецкой войны. Эпизод с Румянцевым – пример того, как рациональные доводы вступают в конфликт с капризами монарха.
Характер развлечений императрицы в достаточной мере раскрывает ее духовные запросы, а вместе с ними и ее интеллектуальный уровень. Сразу же отметим, что выбор досуга и развлечений во многом лишают возможности дать адекватную оценку ее личности в том смысле, что Анна Иоанновна находилась либо в плену представлений XVII века, либо уже преодолела их и пользовалась плодами европейской цивилизации. Правление императрицы пришлось на переходную эпоху, в которой сочетались нравы и вкусы старомосковского быта с новыми веяниями Запада. Хотя, оговоримся, полное наслаждение императрица находила в развлечениях русской старины.
Анна Иоанновна многое унаследовала от порядков, заведенных в доме матери, а также от петровского дворца, придав им оригинальные черты собственных вкусов.
Обратимся, например, к шутам. Дураками, уродами, кликушами, юродивыми, шутами был наполнен двор матери Анны Иоанновны Прасковьи Федоровны. Петр I кликуш и уродцев не терпел, но зато жаловал шутов, выполнявших не столько развлекательные, сколько разоблачительные функции: шутками, насмешками они разоблачали нечистоплотных вельмож, казнокрадов, взяточников, неправедных судей и т. д. – шутам дозволялось безнаказанно изобличать вельмож в человеческих слабостях, и, когда обиженные пытались жаловаться на якобы несправедливые упреки, царь всегда отвечал им: «Что с дурака возьмешь». Шут при Петре I – один из винтиков государственной машины, выполнявших полезные функции бичевания человеческих пороков.
Якоби Валерий Иванович.
Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872 г. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Иные функции шуты выполняли при дворе Анны Иоанновны – их роль сводилась к забавам императрицы, удовлетворению ее примитивных развлекательных запросов. Отсюда у шутов Анны Иоанновны ценились иные качества, чем у шутов Петра Великого. Шут Анны Иоанновны должен вызывать смех, улыбку у зрителей, достигаемые любыми, в том числе и самыми грубыми, приемами: кривляниями, тасканием друг друга за волосы, кувырканием, побоями до крови; остроумие, острословие, находчивость, умение молниеносно отвечать на словесные уколы отодвигались на второй план. Шутовство, доставлявшее удовольствие императрице и ее двору, – свидетельство его низкого культурного уровня.
Иным был и принцип комплектования шутовской команды: при Петре I она собиралась из самородков, людей наблюдательных и находчивых, умевших подмечать человеческие слабости. При Анне Иоанновне шутовская команда комплектовалась из иной социальной среды, а сама принадлежность к ней являлась наказанием, шутовские наклонности отводились на второй план.
Среди шутов Анны Иоанновны числился граф Алексей Петрович Апраксин, племянник знаменитого адмирала петровского времени Федора Матвеевича Апраксина. В шуты он был пожалован за то, что принял католическую веру. Свою должность он выполнял с вдохновением и усердием.
Князь Михаил Алексеевич Голицын, внук фаворита царевны Софьи, тоже отбывал наказание за принятие католичества: будучи во Флоренции, он влюбился в итальянку, женился на ней, привез в Россию и по внушению супруги стал католиком. Супруги долго скрывали это обстоятельство, но, когда измена православию стала известна императрице, она велела развести супругов, отправила виновника в Тайную розыскных дел канцелярию, а затем назначила шутом. Ему было велено сидеть на лукошке с яйцами у двери в кабинет императрицы, так что все Голицыны могли наблюдать унижение своего знатного родственника.
Князь Никита Иванович Волконский был наказан в отместку за свою супругу Аграфену Петровну, урожденную Бестужеву-Рюмину, отличавшуюся умом и образованностью. За интриги она еще в 1728 году была сослана в Тихвинский монастырь, а немолодой и больной князь получил назначение шута, ему было поручено смотреть за левреткой Анны Иоанновны[135 - РС. 1873. Т. VII. С. 346.].
В подражание своей матери Анна Иоанновна держала при дворе и дураков. Любопытную записку в 1733 году она отправила С. А. Салтыкову: «Зиновьев сюда приехал, и как мы усмотрели, что он не дурак, как здесь об нем сказано, того ради хотим, не мешкая, отпустить его назад»[136 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 96.].
О знаменитом шуте Петра Великого И. Балакиреве, достигшем старости, Анна Иоанновна проявила заботу. В 1733 году, когда этот ветеран шутовской компании уже не мог нести службу, она назначила ему пенсию деньгами и провиантом, за ним присматривали двое слуг. Заслуживает упоминания еще один шут – неаполитанец Пьетро Мита, более известный под именем Педрилло. Начинал он службу скрипачом, но затем решил, что шутом быть доходнее. Помимо шутовских обязанностей Педрилло нанимал музыкантов и актеров для придворного театра. Он отличался также умением выпрашивать деньги, так что уехал на родину сравнительно богатым человеком[137 - РС. 1873. XVII. С. 343–345.].
Один из современников-иностранцев недоумевал по поводу назначения шутов при дворе: «Способ, когда государыня забавлялась сими людьми, был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала становиться к стенке, кроме одного, который бил их по поджилкам и чрез то принуждал их упасть на землю. Часто заставляли их производить между собою драки, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху».
У императрицы существовало еще одно развлечение, сведения о котором не попали на страницы депеш иностранных дипломатов. Она питала слабость к женщинам, умевшим болтать без умолку, при этом они несли всякий вздор и главное их достоинство состояло в том, что они ни на минуту не закрывали рта. Анна Иоанновна интересовалась местом проживания таких болтливых женщин и поручала С. А. Салтыкову разыскать их. 7 августа 1734 года она писала ему: «У вдовы Загряжской Авдотьи Ивановны живет одна княжна Вяземская, девка. И ты ее сыщи и отправь сюда, только чтоб она не испужалась, то объяви ей, что я беру ее из милости, и в дороге вели беречь ее, а я ее беру для своей забавы, как сказывают, что она много говорит».
Одна из таких говоруний, своего рода эталон, Настасья Новокщенова, постарела, и ожидали ее скорой смерти. Тому же Салтыкову Анна Иоанновна поручает подыскать ей замену. «Ты знаешь наш нрав, – писала она генерал-губернатору, – что мы таких жалуем, которые бы были лет по сорока и так же говорливы, как Новокщенова или как были княжны Настасья и Анисья Мещерские».
Об активных поисках замены Новокщеновой свидетельствуют еще две инициативы императрицы. Одна из них хотя прямо и не сообщает, что речь идет о поисках говоруньи, но из содержания инструкции курьеру Алексею Самсонову явствует, что речь шла именно об этом поручении: курьеру надлежало отправиться «в Новгородскую сторону, чтобы разыскать там тещу генерал-поручика Елкина Бухвостову и объявить ей, что ее императорское величество указала ее привесть к себе, только ее не испужать и потом взяв ее хотя б она была в уме или без ума, привезти прямо в Петергоф». Другое повеление тоже исходило от императрицы: Анна Иоанновна поручила некоей Наталье Ивановне в Переславле «из бедных дворянских девок или из посацких, которые бы похожи были на Настасью Новокщенову, а она, как мы знаем, уже скоро умрет, то чтоб годна была ей на перемену»[138 - ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 138.].
Один из диалогов императрицы с говоруньей Филатовной описан источником. Разговор примечателен сумбурными вопросами императрицы, отсутствием логической связи между темами: то ее интересовала служба супруга Филатовны, то она спрашивала, в довольстве ли живут мужики, то неожиданно спросила, стреляют ли московские дамы в птиц, наконец, велела рассказывать о разбойниках.
Филатовне явно повезло – она потрафила вкусу императрицы, и та ее щедро наградила. Случалось, однако, что Анна Иоанновна, слывшая за женщину добрую, расправлялась с неугодившими ей служанками, удовлетворявшими ее капризы, как заправская помещица, изобретательная в наказаниях и пускавшая в ход кулаки.
Перечень забав и развлечений императрицы не будет исчерпывающим, если мы не упомянем об охоте. В XVIII веке охота являлась страстью многих королей Западной Европы. Ею увлекался Август II, Людовик XV, Петр II и др. Исключение составлял Петр Великий, не любивший охоты. Исключение составляла и Анна Иоанновна, кажется, единственная из коронованных дам, с неподдельной страстью отдававшаяся охоте. В этой привязанности она конечно же уступала своему предшественнику Петру II, но у того это была отроческая страсть, у достаточно зрелой русской императрицы эта страсть трудно объяснима: то ли это было подражание моде, то ли охота доставляла возможность даме демонстрировать утехи в чисто мужском занятии, то ли это было одно из проявлений отнюдь не женственного характера императрицы, которой доставляли удовольствие кровавые сцены звериной травли.
Когда речь заходит об охоте, то мы толкуем ее в расширительном смысле, включая сюда создание специальных учреждений, опубликование указов, запрещавших охоту частным лицам, стрельбу из лука и ружья по цели, птичью охоту, охоту на диких зверей, создание зверинцев и птичников и, наконец, наблюдение за звериной травлей.
Суриков Василий Иванович.
Императрица Анна Иоанновна петергофском «Темпле» стреляет оленей. 1900 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Для удовлетворения страсти к охоте при дворце была создана специальная служба, возглавлявшаяся обер-егермейстером А. П. Волынским. На обер-егермейстерскую контору, в ведомстве которой находились зверинцы и псарни, возлагалась обязанность обеспечения окрестностей столицы объектами охоты: лисицами, зайцами, лосями, разной породы птицами. Зимой Анна Иоанновна охотилась преимущественно в Петербурге и его окрестностях, летом – в окрестностях Петергофа. В псарне в 1740 году содержалось 195 собак разного назначения и разных пород: для травли оленей – 60, столько же для травли зайцев, 23 брозых, русских разных пород – 21 и др. В зверинце Петербурга содержались львы, леопарды, белые и бурые медведи, волки, кабаны, дикие кошки, дикобразы, слоны, дикие быки, олени, дикие индийские козы, обезьяны, рыси, барсуки, песцы и др. Одни предназначались для охоты, другие, экзотические, – для обозрения, третьи – для стола. К последним относились кабаны, дикие козы, олени и зайцы. На парадных обедах использовались в качестве приправы тертые оленьи рога, кабаньи головы, сваренные в рейнвейне.
Кроме зверей, в зверинцах содержались птицы – одни, чтобы их поражала из окна дворца императрица, другие – чтобы услаждать ее слух: соловьи, щеглы, зяблики, овсянки и др. Императрица, кроме выездов на охоту, любила стрелять из ружья и лука из окон своего дома, обращенных к саду. Из «минажерии», как называли зверинец с мелкими животными и птицами, выпускали огромное количество птиц, которых императрица убивала наповал.
Устраивали охоту с гончими, когда была облава, а затем травля гончими диких коз, кабанов, оленей, лосей и зайцев. О такой охоте «Санкт-Петербургские ведомости» 26 августа 1740 года сообщали: «Ее величество для особливого своего удовольствия, как парфорс, ягдою затравить (специальный экипаж, в котором находились охотники. – Н. П.), так и собственноручно зверей и птиц застрелить изволила: 9 оленей, у которых по 24, по 18 и по 14 отростков на рогах было, 16 диких коз, 4 кабана, 24 зайца, 68 диких уток и 16 больших морских птиц».
Охотничьи трофеи, о которых шла речь выше, вероятно, были добыты с начала 1740 года по конец августа. Газета уведомляла и о разовых охотничьих успехах императрицы. Так, в 1734 году «Санкт-Петербургские ведомости» извещали читателей, что императрица «при продолжающейся приятной погоде иногда гулянием, иногда охотою забавляться изволила». В июле следующего года в Петергофе тоже стояла прекрасная погода, и Анна Иоанновна забавлялась «стрелянием в цель». В 1732 году императрица перед возвращением из Петергофа в столицу устроила «последний кураж и в тот же день развлекалась охотой в зверинце, застрелив оленя с шестью отраслями на рогах»; 26 апреля 1736 года императрица изволила на дворе ходившего молодого оленя и дикого кабана собственноручно застрелить.
В 1740 году стала в моде английская охота с купленными в Англии собаками и прибывшими с ними егерями. В том же 1740 году Штатс-конторе велено было отпустить на петербургскую, петергофскую и московскую охоту круглую сумму в 18 871 рубль 21 копейку[139 - РА. 1873. № 9. С. 1643–1648.].
Расположение императрицы к охоте нашло отражение не только в затрате значительных сумм, но и в законодательстве. Первый «охотничий указ» был обнародован в 1730 году, когда императрица вместе с двором проживала в Москве. Указом 2 апреля запрещалось охотиться на перепелов всем, в том числе и владельцам имений, в радиусе 20 верст от Москвы. Подлежали уничтожению только волки и медведи. В мае следующего года вышел новый указ, запрещавший псовую охоту и тоже в радиусе 20 верст от Москвы[140 - ИВ. 1881. № 7. С. 488–490.].
Зимой 1732 года двор переехал в Петербург, и забота о сохранении живности для царской охоты пала на долю новой столицы. Особое рвение в организации царской охоты проявил А. П. Волынский, назначенный обер-егермейстером. С его подачи начиная с 1736 года посыпались указы, обязывавшие губернаторов Малороссии, Воронежской и других губерний выловить по несколько сот серых куропаток и 500 зайцев и отправить их в Петербург. Одновременно запрещалась охота на них в радиусе 100 верст от столицы. Ряд указов запрещал продажу частным лицам певчих птиц – их надлежало доставлять для продажи в Дворцовую канцелярию[141 - ПСЗ. X VIII. № 5527.].
К забавам императрицы относилось также наблюдение за травлей медведей и волков. 8 марта 1737 года население столицы прочитало в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Третьего дня изволила ее императорское величество, наша всемилостивейшая государыня в Зимнем императорском доме забавляться травлей диких зверей. При сем случае травили дикую свинью, которую наконец ее императорское величество собственноручно застрелить изволила». Судя по объявлению, помещенному в том же году в столичной газете, императрица довольно часто изъявляла желание наблюдать звериную травлю: «Едва не ежедневно по часу перед полуднем ее императорское величество смотрением в Зимнем доме медвежьей и волчьей травли забавляться изволит». К этому же типу грубых забав относится устройство пира для населения столицы. На площади перед Зимним домом была приготовлена обильная трапеза, которой не доводилось вкушать столичной бедноте: два зажаренных быка, пирамиды из хлеба, жареная рыба, колбаса, 60 бочек красного виноградного вина. Жаждущие выпить и закусить на дармовщину бросились к снеди и напиткам. Начиналась несусветная свалка: участники пира разрывали в клочья сукно, отнимали друг у друга куски мяса, хлеба, окороков, топтали до смерти не удержавшихся на ногах, пускали в ход кулаки и т. д. Эту неприглядную сцену наблюдала императрица, стоя у окна и испытывая при этом «немалое веселие»[142 - ПСЗ. Т. X. № 7145, 7147, 7575, 7587, 7886 и др.; РИО. Т. 117. С. 305, 308.].
Анна Иоанновна находила удовольствие, помимо охоты, еще верховой езде, пристрастие к которой современники приписывали влиянию фаворита Бирона, имевшего репутацию великолепного знатока лошадей. Желание как можно больше времени находиться в обществе фаворита побудило ее, женщину грузную и неуклюжую, с трудом взбиравшуюся на лошадь, заниматься верховой ездой, которой она ежедневно уделяла немало времени. В конце концов ей удалось достичь известных успехов – современники отметили ее способность недурно управлять лошадью, причем она пользовалась не дамским, а мужским седлом. Для тренировок императрица в 1732 году велела соорудить великолепный манеж, в котором Бирон, понимавший толк в лошадях, демонстрировал знатным гостям своих великолепной породы рысаков.
Еще одна забава императрицы относилась к картежной игре. Если, однако, верховая езда увлекала ее возможностью находиться рядом с любовником, от которого она всякий раз теряла голову, то за картежный стол Анну Иоанновну вынуждала садиться дань моде. Играть в карты она не любила, по крайней мере удовольствия от игры не получала, но всегда играла, чтобы не уронить престиж своего двора. Императрица сама выбирала себе партнеров, всегда проигрывала и тут же расплачивалась наличными. Здесь должен быть отмечен такой любопытный факт: указом 23 января 1733 года населению страны запрещалось играть в карты на деньги, так как «картежники проигрывают деньги и пожитки, людей и деревни свои, отчего не только в крайнее убожество приходят, но и в самый тяжкий грех впадают», причем инициатором указа была сама императрица. Видимо, игра в карты на деньги не запрещалась при дворе, где, по наблюдению исследователя придворного быта С. Н. Шубинского, отмечалось, что иные богачи за ночь проигрывали свое состояние, а другие – обогащались[143 - ИВ. 1884. № 9. С. 625, 628, 629.].
Приведем свидетельство современника – полковника Манштейна: в моду вошла игра в карты. Указы на игру на интерес не соблюдались. «При дворе играли в большую игру, которая многих обогатила в России, но в то же время и многих и разорила. Я видел, как проигрывали до 20 тысяч за один присест… Императрица не была охотница до игры: если она играла, то не иначе как с целью поиграть. Она тогда держала банк, но только тому позволялось понтировать, кого она называла; выигравший тотчас получал деньги, но так как игра проходила на марки, то императрица никогда не брала деньги от тех, кто ей проигрывал»[144 - РС. 1873. XVII. С. 338.].
Вершиной безвкусицы и расточительства двора была шутовская свадьба в Ледяном доме. Калмычка Авдотья Ивановна, которой была присвоена фамилия Буженинова в честь любимою ею кушанья, заявила императрице о своем желании выйти замуж. Жениха ей подыскала сама Анна Иоанновна – им оказался шут М. А. Голицын. Камергер Татищев подал мысль устроить свадебные торжества в Ледяном доме. Осуществил затею А. П. Волынский.
Якоби Валерий Иванович.
Ледяной дом. 1878 г. Холст, масло.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Ледяной дом был сооружен на Неве между Адмиралтейством и Зимним дворцом. Его подробное описание оставил профессор физики, член Академии наук Вольфганг Крафт. Размеры дома невелики – длина восемь сажен, ширина – две с половиной. Дом состоял из квадратных плит льда, скрепленных водой, немедленно замерзавшей, так что дом выглядел монолитом, окрашенным под мрамор. Не только внешность дома была изготовлена изо льда, но и его внутреннее убранство и обстановка, начиная от кровати, столов, стульев, кресел и кончая горшками с цветами, померанцевыми деревьями с листьями и сидевшими на ветках птицами, подсвечниками. По свидетельству французского посла Шетарда, даже туалет, туфли и ночные колпаки были изготовлены из льда[145 - Манштейн X. Г. Указ. соч. С. 183.].
Перед фасадом стояло шесть ледяных пушек, из которых неоднократно стреляли слабыми зарядами, ледяными ядрами. У ворот стояли два дельфина, из которых с помощью насосов извергалась зажженная нефть. По правую сторону дома стоял ледяной слон в натуральную величину. Крафт его описал так: «Сей слон внутри был пуст и столь хитро сделан, что днем воду вышиною на 24 фута пускал, которая из близнаходящегося канала Адмиралтейской крепости трубами приведена; а ночью с великим удивлением всех смотрителей горящую нефть выбрасывал. Сверх же того мог он, как живой слон, кричать, который голос потаенный на нем человек трубою производил. На левой стороне дома стояла баня изо льда, которую несколько раз топили ледяными поленьями, облитыми нефтью»[146 - РИО. Т. 86. С. 225.].
Подготовка к шутовской свадьбе началась задолго до времени, когда она состоялась. 27 ноября 1739 года Волынский объявил указ императрицы казанскому губернатору о присылке в Петербург «из черемисского, мордовского, чувашского и татарского народов по три пары», чтобы «были собою не гнусны». Архангелогородскому губернатору велено прислать «из лопарей и самоедей по шесть пар; московскому губернатору – по шесть баб и столько же мужиков, умеющих плясать; из Украины – молодых баб и девок и казаков по шесть человек, умеющих танцевать. Всех присланных велено убрать в новое платье и приборы, какие у них употребляются, на казенный счет»[147 - РС. 1873. XVII. С. 358.].
Иркутский губернатор получил задание доставить в столицу камчадалов. Выбирали крепкого сложения и везли их с большою поспешностью «в том образе, как они есть, то есть с их домашним скарбом на собаках». После свадьбы все они были возвращены на родину[148 - РИО. Т. 126. Юрьев, 1907. С. 552–558.].
Свадебная церемония открылась 6 февраля 1740 года восседающими в клетке на слоне женихом и невестой, за ними следовали «инородцы на волах, свиньях, оленях, собаках и др. Шествие сначала остановилось у Зимнего дворца, где был накрыт стол с национальными блюдами и напитками». Во время обеда Тредиаковский декларировал вирши, обращенные к новобрачным; начинались они словами «Здравствуйте, женившись, дурак и дурка».
После обеда гости, разгоряченные напитками, стали исполнять национальные пляски. Потешив императрицу и придворных, свадебный кортеж двинулся к Ледяному дому, освещенному фонтанами, извергавшимися из хобота слона и пасти дельфинов.
Молодоженов уложили в ледяную постель и оставили на ночь, приставив караул, чтобы они не убежали. Брак имел потомков: калмычка родила Михаилу Алексеевичу двух сыновей и вскоре умерла. Голицын в 1744 году переехал в Москву, где женился еще раз и от второго брака прижил трех дочерей[149 - Древняя и новая Россия. 1877. Т. I. С. 224.].
На свадьбу Голицына и Бужениновой со всеми приготовлениями и представлениями была израсходована немалая по тому времени сумма – 9712 рублей 96 копеек.
К новым видам развлечений относился смотр гвардейских полков и полков, составлявших гарнизон столицы: Ингерманландского, Ладожского, Углицкого. Общеизвестна вводимая президентом Военной коллегии в русскую армию немецкая муштра. Императрица нередко наблюдала «экзерциции» гвардейских и полевых полков, расположенных в столице, производившиеся преимущественно в годы, когда Россия не вела войн. Это была демонстрация не боевой подготовки полков, а их умения маршировать шеренгами, перестраивать ряды, упражняться с ружьями и т. д. Обычно, как сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», Анна Иоанновна высказывала удовлетворение увиденным и выражала благодарность либо Миниху, либо офицерам, командовавшим экзерцициями.
Общее представление о духовной жизни императрицы оставил потомкам Миних-младший: «В досужее время (она) не имела ни к чему определенной склонности. В первые годы своего правления играла она почти каждый день в карты. Потом проводила целые полдни, не вставая со стула, в разговорах или слушая крик шутов и дураков. Когда все сии каждодневно встречающиеся упражнения ей наскучили, то возымела она охоту стрелять, в чем приобрела такое искусство, что без ошибки попадала в цель и на лету птицу убивала. Сею охотою занималась она дольше других, так что в ее комнатах стояли всегда заряженные ружья, которыми, когда заблагорассудится, стреляла из окна мимо пролетающих ласточек, ворон, скворцов и тому подобных»[150 - РС. 1873. Т. VII. С. 347–351.].
Заметим, что ни один современник, отечественный и иноземный, не свидетельствовал ни об одной прочитанной Анной Иоанновной книге, ни об ее интересе к искусству, приобретению знаний, изучению чужеземного и отечественного опыта управления страной.
С этой негативной оценкой на первый взгляд нисколько не вяжется открытие при Анне Иоанновне первого в России постоянно действующего театра с труппой в 70 человек, среди которых были певцы, музыканты, актеры, постоянно услаждавшие слух и зрение вельмож и иностранных министров исполнением опер, балетов и игрой оркестра.
Странности во вкусах императрицы, ее досуге и привязанностях легко объяснимы, если учесть, как складывалась ее личная жизнь. По сути, Анна не была избалована ни материнской лаской, ни счастьем семейной жизни, ни материальным благополучием. Ленивая от природы, она не стремилась восполнить пробелы в образовании и довольствовалась времяпрепровождением, свидетельствующим о ее среднего уровня интеллекте.
По-человечески ее судьба может вызвать сочувствие: по сути одинокая женщина, обрела единственного человека, которому безоглядно вручила свою судьбу. В Бироне, не принадлежавшем к лучшим представителям человеческого рода, она обрела верного слугу и доверяла ему больше, чем кому бы то ни было.
Одиночество понуждало ее к постоянным поискам, к смене своих вкусов, она забывалась то за картежным и биллиардным столом, то за зрелищами и занятиями, не присущими слабому полу, то находила удовольствие в созерцании разного рода диких сцен, то тупым взглядом часами наблюдала за движением судов на Неве.
Глава VII
У кормила правления
Воцарение на троне, как мы убедились выше, не представляло для Анны Иоанновны значительных трудностей. Здесь императрица выполняла пассивную роль исполнительницы постановления Верховного тайного совета. Труднее было удержать трон. Трудность состояла в отсутствии у императрицы мощной опоры в лице многочисленного клана родственников и преданных ей вельмож. Список их ограничивался[151 - Безвременье и временщики. С. 164.] двумя персонами: дядей С. А. Салтыковым и А. И. Остерманом, с которым, как мы помним, у Анны Иоанновны, когда она была еще герцогиней Курляндской, сложились добрые отношения.
В такой обстановке неискушенная монархиня столкнулась лицом к лицу с проблемами, которые ей самостоятельно не решить: как управлять огромной империей, какие меры относятся к первоочередным. К тому же Анну Иоанновну, беззаботно мчавшуюся из Митавы в Москву, по прибытии в столицу одолевало чувство страха. Оно не было беспочвенным. Поводом для опасения за свою жизнь послужила внезапная смерть генерала Дмитриева-Мамонова, не то фаворита, не то супруга младшей сестры императрицы Прасковьи Иоанновны. Он сопровождал верхом на лошади карету Анны Иоанновны и неожиданно замертво свалился на землю. Подозревали, что его отравили. Императрица опасалась, что ей тоже могут подбросить отраву, и поэтому, по свидетельству К. Рондо, «она ест только то, что готовит ей доверенный повар, и ее фавориты следят за этим с особенным вниманием».
Чувство страха подвигнуло Анну Иоанновну отправиться в Измайлово под защиту расположившихся там лагерем двух гвардейских полков и батальона кавалергардов. Они должны были обеспечить ее безопасность в случае покушения на ее трон или жизнь[152 - Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.].
О страхе за жизнь свидетельствует опубликованный 2 апреля 1730 года указ, призывавший подданных доносить: «о злом умысле против персоны нашей или измене и о возмущении и бунте». Доносчикам обещаны «милость и награда».
Обезопасить императрицу намеревались не только поощрением доносов, но и восстановлением учреждения, занимавшегося их разбирательством. Такое учреждение существовало при Петре Великом и называлось Преображенским приказом. При Петре II оно было упразднено, но в марте 1731 года восстановлено под названием Тайных розыскных дел канцелярии. Под руководством все того же мастера пыточных дел А. И. Ушакова она занималась политическим сыском. На призыв подавать доносы откликнулось так много охотников «получить милость и награждение», что указ 15 февраля 1733 года подтвердил угрозу наказания за ложный донос смертной казнью[153 - ПСЗ. Т. IX. № 5727, 5738, 6325.].
Чувство неуверенности связано и с наплывом немцев в Россию, плотно окруживших трон и вызывавших с первых недель царствования Анны Иоанновны недовольство русских вельмож, о чем 5 июля 1730 года доносил в Мадрид посол де Лириа: «Народ публично вопиет против немцев и особенно против двоих: графа Левенвольде и обер-гофмаршала (надо: обер-камергера. – Н. П.) Бирона. А тщеславие этих господ усиливается с каждым днем, и я боюсь, чтобы со временем здесь не было какого-нибудь переворота»[154 - Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.].
Страх за свое будущее выразился и в срочном удалении из столицы лиц, причастных к попытке ограничить самодержавие и оказанию противодействия ее намерениям. Показателен в этом плане эпизод, запечатленный Маньяном в донесении 31 декабря 1731 года: «За несколько дней перед отправлением депеши императрица ночью повелела призвать к себе гвардии майора Волкова, чтобы приказать ему к четырем часам утра привести к входу во дворец все три гвардейских полка. Цель неожиданного и странного повеления состояла в том, что Анна Иоанновна решила назначить своей преемницей дочь герцогини Мекленбургской и потребовала от гвардейских полков присягнуть ей. В этот же день утром императрица велела арестовать последнего представителя клана Долгоруких – фельдмаршала Василия Владимировича»[155 - РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 278, 292.].
Опасения оказались напрасными – противники императрицы были повержены и смиренно ожидали своей участи. И не случайно: за спиной императрицы стоял опытный делец, руководивший ее действиями, – барон Андрей Иванович Остерман.
Почему вице-канцлер свой бесспорный талант и недюжинные способности к интриге отдал в полное распоряжение Анны Иоанновны и втайне противодействовал «затейке» верховников? Прежде всего потому, что в случае победы верховников он чувствовал бы себя неуютно в окружении родовитых людей, надменных и спесивых, мирившихся с тем, что он сидел в Верховном тайном совете рядом с ними только потому, что выполнял всю черновую работу учреждения. Но роль чернорабочего, овладевшего всеми тонкостями управления правительственным механизмом и умевшего четко формулировать мысли на бумаге, необходимость заискивать и терпеть унижения перед недалекими сыном и отцом Долгорукими не устраивала Остермана, вынашивавшего далеко идущие честолюбивые планы. Его честолюбие могло быть удовлетворено только в том случае, если исчезнет необходимость искать покровительство вельмож, и между ним и государыней исчезнут посредники и он с нею будет общаться напрямую и даже руководить ею. Такое могло случиться только при утверждении на троне Анны Иоанновны, которой он стал верно и усердно служить. В свою очередь, он пользовался полным доверием императрицы, нуждавшейся в его услугах.
Андрей Иванович в первые месяцы правления Анны Иоанновны выполнял обязанности, близкие к тем, которые нес кабинет-секретарь А. В. Макаров при Петре I, с одним отличием – царь имел собственное мнение о происходившем, в то время как императрица смотрела на события глазами Остермана и безоговорочно внимала его советам. Остерман в полной мере использовал свои необыкновенные способности влезать в доверие, исподволь, вкрадчиво навязывать мысли, умение держаться в тени, на вторых ролях, укрываться за спиной сильных и влиятельных личностей. Императрице он был необходим и просто незаменим; при этом на первых порах выполнял обязанности тайного кабинет-секретаря, о чем поведала комиссия, учрежденная в 1741 году Елизаветой Петровной, поручившей ей «иметь рассуждение как о Сенате, так и о Кабинете и какому впредь правительству быть». Комиссия установила, что после восшествия на престол Анны Иоанновны «почти целый год тайно содержался в руках Остермана Кабинет и указы именные и резолюции многие писаны были рукою при нем, Остермане, обретающегося секретаря Сергея Семенова»[156 - ЖМНП. 1897. № 2. С. 286, 289.].
Слухи о предстоящем возникновении Кабинета носились в придворных кругах несколько недель спустя после воцарения Анны Иоанновны и стали достоянием иностранных дипломатов, немедленно информировавших свои правительства об ожидавшемся новшестве. Уже в марте 1730 года французский посол Маньян доносил: «Царица не оформила еще Кабинета, как того ожидали». В мае того же года английский резидент К. Рондо сообщал: «Из хорошего источника слышал, что вскоре для совещания о государственных делах будет назначен Кабинет и тогда секретных дел на рассмотрение Сената более представлять не будут».
Дипломаты ошиблись в сроках – Кабинет возник как учреждение почти полтора года спустя. Ответ на вопрос, почему потребовался такой длительный срок для превращения Кабинета из личной канцелярии императрицы в правительственное учреждение, следует искать в нежелании Остермана иметь в его составе П. И. Ягужинского: Андрею Ивановичу необходимы были послушные его воле члены Кабинета, а Ягужинский, с которым у вице-канцлера издавна сложились неприязненные отношения, сам претендовал на роль лидера, имел собственный взгляд на события и умел отстаивать свои взгляды.
Рисунок Скино А.Т.; литография Каспар Эргот.
Портрет Павла Ивановича Ягужинского. 1862 г.
Иванов П. Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции. СПб., 1863
История с назначением Ягужинского кабинет-министром выявила еще одно свойство характера Остермана – он обладал бесспорным терпением, способностью не форсировать события, делать вид, что стоит в стороне от них. Остерман выжидал, когда его соперник Ягужинский сам оступится и даст повод для недовольства императрицы. Ему, как и прочим современникам, были хорошо известны два его недостатка: он был невоздержан на язык и неравнодушен к горячительным напиткам.
Ягужинский вправе был рассчитывать на присутствие в Кабинете министров, но наличие в этом учреждении человека независимого, отнюдь не покладистого не входило в расчеты Остермана, желавшего видеть среди своих коллег людей безропотных и угодливых.
Отсутствие своей фамилии в намечаемом списке Кабинета министров вызвало естественный гнев оскорбленного Ягужинского. Он конечно же знал, кому этим обязан. Неудивительно, что в адрес Остермана и Кабинета министров посыпались слова осуждения, резкость которых определялась степенью опьянения. Более того, они коснулись и императрицы.
Гнев Ягужинский обрушил и на своего тестя Г. И. Головкина, пожаловавшегося императрице на недостойное поведение зятя. Тем самым он лишился последнего защитника, не раз выручавшего его из беды, но теперь Павел Иванович оказался в немилости и получил назначение посла в Берлин. С его удалением Остерман добился своего – теперь пришло время сформировать Кабинет министров, куда, кроме него, вошли Г. И. Головкин и А. М. Черкасский.
Характер и способности Гавриила Ивановича Головкина досконально были изучены Остерманом за долгие годы службы в Коллегии иностранных дел, где он под началом канцлера прошел все ступени карьеры, от переводчика до вице-канцлера. Он без труда обнаружил главные достоинства Головкина: мягкость, вежливость и услужливость. Эти свойства натуры Гавриила Ивановича были хорошо известны и К. Рондо: «Лучшее качество Головкина – его приветливое и ласковое обращение; благодаря ему, а также своему усердию и личине набожности он приобрел большое влияние между старыми русскими ханжами и особенно между духовенством».
Что касается способностей руководителя внешней политики, то они были ограниченными: незнание языков в сочетании с отсутствием дарований не позволяло ему обстоятельно ориентироваться в международной обстановке и в хитросплетении дипломатических служб иностранных дворов. В деловом отношении он целиком находился в полной зависимости от вице-канцлеров: сначала П. П. Шафирова, а после того как тот оказался в опале – Остермана. К этим свойствам натуры, вполне устраивавшим Остермана, добавилось еще одно – Гавриилу Ивановичу перевалило за 70, в таком преклонном возрасте у него обнаружились явные нелады со здоровьем, и он даже мечтал об удалении от мирской суеты в тихую заводь монастырской кельи. Головкин с трудом тянул служебную лямку, поэтому он был редким гостем Кабинета министров. По указу Кабинет должен был заседать дважды в неделю. Практически он собирался ежедневно и даже нередко в праздничные дни. Так, в 1733 году Кабинет министров заседал 348 раз, а Головкин навестил его только 27 раз. Активность он проявлял в летние месяцы: июнь (присутствовал 6 раз) и июль (7 раз). В остальные месяцы года он появлялся один-два раза, лишь в мае – три раза. Такой министр вполне подходил Остерману.
Устраивал его и второй кандидат – князь Алексей Михайлович Черкасский. Если Головкин почти четверть столетия занимал высокую должность канцлера, был сенатором и находился в обойме первых лиц в государственном механизме, то Черкасский пребывал на вторых ролях, вершиной его карьеры была должность сибирского губернатора, далеко отстоявшая от двора. Он всплыл на волне движения шляхетства в феврале 1730 года, во время которого оно воспротивилось намерению верховников ограничить власть императрицы. Качествами лидера он не обладал, был человеком вполне ординарным и приобрел популярность среди дворянской мелкоты, составлявшей большинство участников шляхетского движения, благодаря своему богатству и княжескому достоинству. Если к посредственным способностям Черкасского прибавить его восточную лень, его желание быть ведомым, а не ведущим, то такой человек был угоден Остерману. Черкасский вполне соответствовал характеристике, данной ему французским дипломатом маркизом Шетарди: он «совмещал в себе самое знатное происхождение, очень значительное состояние и ограниченность, равняющуюся его покорности, качества, которыми он себя всегда выказывал очень одаренным»[157 - РИО. Т. 86. Юрьев. 1893. С. 498.]. Не менее язвительную и столь же уничтожающую характеристику Черкасскому дал в памфлете «О повреждении нравов в России» известный историк и публицист князь М. М. Щербатов: «Сей человек весьма посредственный разумом своим, ленив, незнающ в делах и, одним словом, таскающий, а не носящий имя свое и гордящийся единым своим богатством».
Ход мыслей Андрея Ивановича, радевшего о назначении Черкасского кабинет-министром, был весьма прозрачен: он был уверен, что князь будет удовлетворен своей высокой должностью, не станет вникать в дела Кабинета и перечить мнениям человека, оказавшего ему протекцию при назначении на высокую должность.
Состав Кабинета превзошел самые смелые надежды Остермана: на его заседаниях в подавляющем большинстве случаев присутствовало не три, а два министра – Головкин постоянно недомогал и месяцами не переступал порога Кабинета. В нем безраздельно господствовал Остерман. Но за его действиями и растущим влиянием бдительно и ревниво следил другой немец – Бирон, видевший в нем опасного конкурента, становившегося, как в свое время был Меншиков, полудержавным властелином.
Бирон после смерти Головкина в 1734 году пытался найти ему замену в лице человека, который не только информировал бы его, Бирона, о делах Кабинета, но и представлял бы в нем его интересы, был способен иметь собственное мнение и упорно защищал бы его. Таким человеком, по мнению Бирона, мог стать П. И. Ягужинский, и он, вопреки желанию Остермана, 28 апреля 1735 года был введен в состав Кабинета министров.
Необходимость создания противовеса Остерману вынудила Бирона забыть об инциденте, происшедшем в 1731 году, когда Ягужинский, находясь в гостях у обер-камергера, по словам Манштейна, «выпив лишнее, не удержался и насказал ему грубостей. Ссора дошла до того, что Ягужинский вынул уже шпагу против хозяина дома; их разняли, и Ягужинского отвезли домой». Если бы подобный поступок совершил кто другой, ему было бы не миновать опалы, но императрица еще помнила об оказанных ей услугах Ягужинским в 1730 году и ограничилась выговором дебоширу.
В своем выборе Бирон ошибся: Ягужинский к 1736 году утратил качества, которыми обладал ранее, – энергичность, твердость воли, настойчивость, честолюбие. Вероятно, его энергии доставало на то, чтобы держать в курсе дела своего покровителя, но не хватало на то, чтобы вникать во все детали работы правительственного механизма и противостоять Остерману. Во всяком случае, в делах Кабинета отсутствуют следы его противоборства с Остерманом; он не высказывал своего особого мнения, противоположного мнению Остермана, и выполнял такую же пассивную роль, как и Черкасский. К тому же должность кабинет-министра Павел Иванович занимал только несколько месяцев – в апреле 1736 года он скончался на 53-м году жизни. В начале февраля он уже был тяжело болен[158 - РИО. Т. 70. С. 489.].
Подлинным противовесом Остерману стал назначенный 3 апреля 1738 года новый клеврет Бирона – А. П. Волынский, личность, бесспорно, столь же талантливая, как и наделенная множеством пороков. Он сумел привлечь на свою сторону Черкасского, и делопроизводство Кабинета министров стало регистрировать либо особые мнения, подписанные Волынским и Черкасским, либо несогласие с их мнением Остермана. Волынский, как мы убедимся в дальнейшем, не довольствовался ролью ставленника Бирона, угодничеством завоевал доверие императрицы и в своих честолюбивых замыслах был готов оттеснить от кормила правления не только Остермана, но и всемогущего фаворита императрицы Бирона.
Якоби Валерий Иванович.
А.П. Волынский на заседании кабинета министров. 1875 г.
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омск
Артемий Петрович явно переоценил свои силы, он уступал Остерману в способностях к придворным интригам, и последний руками Бирона не только сумел убрать опасного соперника, но и подвести его к эшафоту.
Кабинет министров вновь действовал в составе двух человек, правда недолго, Бирон подобрал нового ставленника – А. П. Бестужева-Рюмина, личность весьма сомнительных нравственных качеств. О свойствах его натуры Шетарди писал: «Он настолько тщеславен, что не пожелает играть такую же роль, как князь Черкасский». А в депеше Шетарди от 5 августа 1740 года читаем: «Бестужев, судя по тому, что думают о нем многие, один из людей, не признающих никакой узды, сдерживающей людские пороки; поэтому большинство убеждено, что он кончит трагически, как и его предшественники. Полагают, кроме того, что Бестужев скорее будет подчиняться влечению гнева, нежели долгу признательности»[159 - РИО. Т. 86. С. 478.].
Сведения, которыми располагал Шетарди, оказались ошибочными – Бестужев после смерти Анны Иоанновны стал одним из организаторов процедуры провозглашения Бирона регентом: убедил вельмож обратиться к нему с просьбой согласиться с их доводами принять регентство.
Итак, мы видим, что на протяжении десятилетнего существования Кабинета только два из трех министров постоянно участвовали в его работе. Место третьего министра не менее шести лет из десяти оставалось вакантным, его последовательно занимали Головкин, Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. Иными словами, создавалась благоприятная обстановка для хозяйничанья в нем Остермана, руководящего под покровом Кабинета министров всеми сферами деятельности правительства.
Обратимся к ответу на другой вопрос: как формировалась компетенция Кабинета министров? В докладе императрице Елизавете Петровне упоминавшаяся выше комиссия не находила существенных различий между Кабинетом министров и предшествовавшим ему Верховным тайным советом: «Хотя имена разные, а действо почти одно с обоих было»[160 - ЖМНП. 1897. № 2. С. 280, 281.].
Между тем в деталях эта оценка требует значительных уточнений, относящихся прежде всего к определению компетенции обоих учреждений.
Права и обязанности Верховного тайного совета были очерчены тремя указами. Учредительный указ 6 февраля 1726 года определял обязанности создаваемого учреждения в самом общем виде – он возникал «при дворе нашем как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел, в котором мы сами будем присутствовать». Второй нормативный акт, известный под названием «Мнение не в указ о новом учрежденном Тайном совете», составленный самими членами «нового учреждения», в 13 пунктах раскрывает его права и обязанности, а также место в правительственном механизме. Верховный тайный совет учреждался «для облегчения ее величества в тяжком бремени правления». «Мнение не в указ…» определял дела, подлежавшие рассмотрению в Верховном тайном совете, в которых «есть немалый труд»: по этим делам министры дают «тайные советы» прежде всего по вопросам внешней политики, а также по делам, которые могла решить только императрица, то есть не имевшим прецедентов. Три первейшие коллегии (Иностранная, Военная и Морская) подчиняются не Сенату, а Верховному тайному совету. Сам Сенат переводили из положения Правительствующего в разряд Высокого, подчинявшегося Верховному тайному совету. «Мнение не в указ…» определял и дни заседаний совета: внутренние дела надлежало рассматривать по средам, внешние – по пятницам. Однако «когда случится много дел», то назначается чрезвычайный съезд. Определен также порядок делопроизводства.
Третий указ, обнародованный в 1727 году, вносит одно уточнение в компетенцию Верховного тайного совета, как бы отвергавшую присвоенную ему «Мнением не в указ…» функцию контроля за законодательством: «Никаким указам прежде не выходить, пока они в Верховном тайном совете совершенно не состоялись, протоколы не закрепились (не подписаны. – Н. П.) и ее величеству для всемилостивейшей апробации прочтены не будут и потом могут быть закреплены и разосланы действительным статским советником Степановым» (секретарем Верховного тайного совета. – Н. П.). Указ 1727 года еще раз напоминал: Верховный тайный совет должен выполнять обязанности совещательного органа, он учрежден «при боку нашем не для чего иного, только дабы оной в сем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и бесстрастным объявлением мнений своих нам вспоможение и облегчение учинил и тако все дела по довольном зрелом рассуждении от нас решены и их тому отправлено быть могли».
В этой пространной формуле обращают внимание на два «ударных» положения… «при боку нашем» и «своими советами и бесстрастным объявлением мнений». Оба положения подчеркивают значение Верховного тайного совета как совещательного органа и ограничивают его роль подачей советов.
Ничего подобного нет в законодательстве о Кабинете министров. В единственном указе 10 ноября 1731 года, расплывчатом и аморфном, сформулирована цель создания Кабинета министров: «Для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел к собственному нашему всемилостивейшему решению подлежащих и ради пользы государственной и верных наших подданных»[161 - ПСЗ. XVIII. № 5871.].
В учредительном указе не расшифрованы ни права, ни обязанности нового учреждения, не определено и его место в структуре государственного аппарата, в частности его отношение к Сенату. Вряд ли опытный делец Остерман допустил такую элементарную оплошность случайно. Думается, это было сознательное умолчание, ибо раскрытие компетенции нового учреждения и его отношение к Сенату означало возврат к практике Верховного тайного совета о низведении Сената в ранг Высокого, то есть возвращение к практике, осужденной манифестом 4 марта 1730 года. Между тем манифест сохранял за Сенатом звание Правительствующего, чем формально устанавливал своего рода двоевластие: юридически высшими правительственными учреждениями являлись и Сенат, и Кабинет министров, грань между ними отсутствовала. В этом формальном двоевластии отразилась манера Остермана выходить из тупикового положения: действовать осторожно, постепенно подчиняя Сенат Кабинету министров, лишая противников возможности упреков в возрождении осужденной системы.
Роль Остермана в этой системе определялась не только его деловыми качествами, отсутствием в составе Кабинета личностей с беспредельным честолюбием, за исключением А. П. Волынского, но и неумением и нежеланием императрицы управлять государством.
Принято делить историю Кабинета министров на два этапа. Первый из них продолжался со времени его учреждения 10 ноября 1731 года до указа 9 июня 1735 года, приравнивавшего подписи трех кабинет-министров к именному указу[162 - ПСЗ. Т. IX. № 6745.]. Не отрицая правильности этого деления, все же следует отметить наличие большего количества этапов на пути самоотстранения императрицы от дел. Первый, протяженностью в пару месяцев, отличался присутствием императрицы на заседаниях Кабинета министров: в ноябре она навестила Кабинет министров 7 раз, а в декабре и того больше – 19. Впрочем, с самого возникновения Кабинета министров было положено начало хождения министров к императрице, а уже с января 1732 года, то есть со времени переезда двора из Москвы в Петербург, посещение покоев Анны Иоанновны стало обычной практикой ее общения с первыми вельможами государства. Из этого можно сделать вывод, что присутствие императрицы на заседаниях Кабинета ее утомляло, было непосильной обузой, от которой она освободилась слушанием докладов и подписанием указов, а также подготовленных резолюций. К тому же присутствие императрицы не было необходимостью – документы Кабинета не отметили ее законодательной инициативы либо замечаний по обсуждаемым вопросам. Следовательно, указу 9 июня 1735 года предшествовала практика отстранения Анны Иоанновны от участия в делах.
Эта линия поведения императрицы продолжалась и после 1735 года. Она отмечена сокращением времени ее занятий делами, узаконенными двумя указами – от 11 июля и 7 декабря 1738 года, объявленными Волынским Кабинету министров. Первый из них извещал министров об отъезде императрицы из Петербурга в Петергоф «для своего увеселения и покоя». Поэтому министрам запрещалось тревожить ее делами, а поскольку им «дана полная мочь», то разрешалось доносить только о делах, «которые они сами решить не могут».
Второй указ устанавливал для докладов министров три дня в неделю, причем министров указ обязывал являться к ней с указами и резолюциями, ими подписанными, что освобождало ее от слушания докладов, и она, обнаружив три подписи, ставила свою: «Анна»[163 - РИО. Т. 124. Юрьев. 1909. С. 54, 463.].
Характеризуя деятельность Кабинета министров, откажемся от обстоятельного ее изложения – это будет весьма скучно для массового читателя, а приведем слова кабинет-министра А. П. Волынского, который как-то заявил, имея в виду себя и своих коллег: «Мы натащили на себя много дел и не надлежащих нам». Комиссия, составлявшая доклад для Елизаветы Петровны, почти дословно повторила наблюдение Волынского: «Кабинет-министры натащили на себя много дел и не надлежащих им».
Обе оценки бесспорны: Кабинет министров нередко на своих заседаниях наряду с вопросами государственного масштаба обсуждал такие, которые могли решить Сенат и даже коллегии. Отчасти Кабинет стал жертвой собственной нераспорядительности – отсутствие актов, определявших его функции; отчасти вкоренившейся в сознание населения веры в справедливость решений самой высокой инстанции.
Мы не станем перечислять множество важных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Кабинета министров, а ограничимся констатацией пестроты, разномасштабности и в известной мере случайности повестки дня его заседаний.
Так, к войне за польское наследство, как к важному внешнеполитическому акту, было приковано внимание Кабинета министров на протяжении всей акции, от подготовки к вторжению до выяснения причин, как удалось Станиславу Лещинскому бежать из Данцига. Двор проявлял интерес не только к осаде Данцига, но и высказывал свои сомнения относительно обстоятельств успешного бегства короля из осажденного города. 6 июня 1734 года был отправлен рескрипт командовавшему русскими войсками фельдмаршалу Миниху, подписанный императрицей, но, конечно же, составленный Остерманом, с выражением сомнения и подозрительности: «Весьма невероятно, чтоб город или магистрат оного о таком уходе не ведал». 24 июля Кабинет даже высказал Миниху недовольство результатами деятельности комиссии, учрежденной для следствия о бегстве Лещинского и отсутствии на этот счет донесений фельдмаршала: «Без того быть невозможно, чтоб у него, Станислава, не токмо при нем, во Гданске, но и в других местах не было довольно скарбу, вещей и пожитков». Видимо, у Кабинета министров было подозрение относительно причастности Миниха к бегству короля и стремлению последнего замять дело, ибо 4 августа Кабинет вновь напоминал: «Ожидаем от вас обстоятельного известия… об уходе из Гданска Лещинского»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71043085?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
РА. 1887. № 10. С. 180, 181.
2
Семевский М. И. Царица Прасковья // Тайная служба Петра I. Минск, 1992. С. 45, 54, 71–84.
3
Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 г. СПб., 1906. С. 158.
4
Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 96.
5
Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 256–263.
6
РИО. Т. 50. СПб., 1885. С. 401.
7
Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 41, 42.
8
Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 52, 53, 123, 124, 139.
9
РС. 1884. № 11. С. 375–380.
10
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. С. 216.
11
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. Кн. X. М., 1993. С. 130.
12
Письма русских государей… С. 118, 130, 142, 143.
13
Письма русских государей… С. 214, 224, 249, 252, 254, 259.
14
РИО. Т. 66. СПб., 1889. С. 71, 115.
15
РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 447.
16
Осмнадцатый век. Кн. 3. М., 1869. С. 27.
17
РС. 1909. № 1. С. 200. 5РИО. Т. 66. С. 19.
18
РИО. Т. 66. С. 19.
19
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 77.
20
РС. 1873. Т. VIII. С. 39.
21
Феофан Прокопович. История об избрании на престол Анны Иоанновны // Сын отечества. Ч. 184. № 5. СПб., 1873. С. 31, 32.
22
РИО. Т. 66. С. 5.
23
Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. С. 178, 179.
24
РС. 1873. Т. VIII. С. 38.
25
РИО. Т. 66. С. 28.
26
Осмнадцатый век. Кн. 2. М., 1869. С. 183, 188, 190, 193.
27
РИО. Т. 75. С. 429.
28
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 191, 192.
29
РИО. Т. 66. С. 158, 159.
30
ЧОИДР. 1865. Кн. 3. С. 37–40; Осмнадцатый век. Кн. 2. С. 197, 151.
31
РС. 1909. № 1. С. 210.
32
РА. 1866. Т. I. С. 2.
33
РИО. Т. 75. С. 464.
34
Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 4, 5, 17, 18.
35
Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 100.
36
РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 169.
37
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 122.
38
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 43, 33.
39
РИО. Т. 5. СПб., 1870. С. 349–352.
40
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 36, 37.
41
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 199.
42
РИО. Т. 5. С. 356.
43
РИО. Т. 5. С. 355.
44
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 50, 55.
45
Источниковедческие работы Тамбовского педагогического института. Тамбов, 1971. С. 73.
46
Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х – начале 30-х годов ХVIII в. М., 1985. С. 274, 275.
47
РИО. Т. 66. С. 136.
48
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 211.
49
Ученые записки Тамбовского пединститута. Вып. 15. Тамбов, 1957. С. 226–231.
50
ПСЗ. Т. VII. № 5030.
51
Д. А. Корсаков. Указ. соч. С. 158–161.
52
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.
53
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.
54
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 213.
55
Манштейн Х. Г. Записки о России. СПб., 1875. С. 25.
56
РС. 1909. № 2. С. 288; Соловьев С. М. Указ. соч. С. 215.
57
РС. 1909. № 2. С. 292.
58
РС. 1909. № 3. С. 548; Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 62.
59
ПСЗ. Т. VIII. № 265.
60
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 203.
61
РИО. Т. 66. С. 157, 158.
62
С. М. Соловьев. Указ. соч. С. 211.
63
РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 276. Ч. 2. Л. 38.
64
Феофан Прокопович. Слова и речи. Ч. 3. СПб., 1769. С. 48, 53, 146, 152, 158, 188 и др.
65
ПСЗ. Т. VIII. № 5916; Т. IX. № 6647; Т. X. № 7151.
66
РИО. Т. 66. С. 182.
67
Безвременье и временщики. С. 210.
68
ЧОИДР. 1867. Кн. 3. С. 59.
69
Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны. СПб., 1997. С. 91, 92.
70
Манштейн Х. Г. Записки о России. С. 194.
71
РИО. Т. 75. С. 240.
72
Безвременье и временщики. С. 58, 59.
73
Там же. С. 262; Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1898. С. 364.
74
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 264.
75
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 135, 136, 160, 173, 177, 224, X.
76
03. 1873. № 11. С. 9.
77
ПСЗ. Т. X. № 7819.
78
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 24. Л. 5, 6.
79
Там же. Разряд VI. Д. 252. Л. И, 13, 18, 20 и др.
80
РИО. Т. 126. С. 594; Т. 130. Юрьев, 1909. С. 41.
81
ПСЗ. Т. XI. № 8010; Т. X. № 7580; РИО. Т. 104. С. 43; РИО. Т. 111.
82
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 5, 6.
83
РИО. Т. 111. С. 41, 42.
84
Там же. С. 58, 59; ПСЗ. Т. IX. № 7009.
85
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 6.
86
Соловьев С. М. Указ. соч. Т. X. С. 643, 644.
87
ПСЗ. Т. IX. № 6753.
88
РА. 1871. № 2. С. 037–070.
89
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 136.
90
РИО. Т. 114. С. 351–354.
91
Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. I. М., 1913. С. 138.
92
РГАДА. Ф. Кабинета министров 1735 г. Д. 4.
93
Там же. 1736 г. Д. 4. Л. 4, 8.
94
РИО. Т. 81. С. 221, 222.
95
Пекарский П. Маркиз де да Шетарди в России в 1740–1742 годах. СПб., 1862. С. 1.
96
Миних Б. Х. Записки. С. 63.
97
РИО. Т. 76. С. 129.
98
РИО. Т. 81. С. 221.
99
РИО. Т. 76. С. 129.
100
Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. СПб., 1891. С. 94.
101
Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 236, 237.
102
Пекарский П. Указ. соч. С. 50, 51; РГАДА. Госархив. Разряд VII. Д. 444. Л. 59.
103
РИО. Т. 80. С. 442.
104
Безвременье и временщики. С. 61.
105
Русская беседа. 1860. № 2. С. 197, 201, 202.
106
Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 32.
107
Шаховской Л. Записки. СПб., 1872. С. 5, 6.
108
ИВ. 1893. № 9. С. 841, 842.
109
РИО. Т. 80. С. 361, 416, 449.
110
РИО. Т. 61. С. 191.
111
РИО. Т. 5. С. 353, 374.
112
РИО. Т. 76. С. 102.
113
Пекарский П. Указ. соч. С. 2, 3.
114
РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 321. Ч. I. Л. 8–11; ИВ. 1884. № 9. С. 611.
115
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 301, 302.
116
РИО. Т. 81. С. 308.
117
Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 10. М., 1839. С. 87.
118
Хмыров М. Фельдцейхмейстерство графа Миниха // Записки фельдмаршала графа Миниха. С. 231, 318.
119
РИО. Т. 66. С. 507.
120
Миних Б. X. Записки. С. 44.
121
РИО. Т. 92. СПб., 1894. С. 39, 40.
122
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 604, 686–689.
123
РИО. Т. 5. С. 453, 454.
124
РИО. Т. 81. С. 313, 314.
125
РИО. Т. 130. С. 217.
126
Индова Е. И. Дворцовое хозяйство России. Первая половина ХVIII века. М., 1964. С. 295, 296.
127
Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. М., 1953. С. 131, 132.
128
РИО. Т. 5. С. 409.
129
РИО. Т 66. С. 186, 190, 193, 199, 237.
130
Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 182.
131
РС. 1873. Т. VIII. С. 314.
132
Строев В. Бироновщина и Кабинет министров. М., 1909. С. 40, 41.
133
РС. 1871. Т. IV. С. 691.
134
РИО. Т. 81. С. 195, 262, 265.
135
РС. 1873. Т. VII. С. 346.
136
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 96.
137
РС. 1873. XVII. С. 343–345.
138
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 138.
139
РА. 1873. № 9. С. 1643–1648.
140
ИВ. 1881. № 7. С. 488–490.
141
ПСЗ. X VIII. № 5527.
142
ПСЗ. Т. X. № 7145, 7147, 7575, 7587, 7886 и др.; РИО. Т. 117. С. 305, 308.
143
ИВ. 1884. № 9. С. 625, 628, 629.
144
РС. 1873. XVII. С. 338.
145
Манштейн X. Г. Указ. соч. С. 183.
146
РИО. Т. 86. С. 225.
147
РС. 1873. XVII. С. 358.
148
РИО. Т. 126. Юрьев, 1907. С. 552–558.
149
Древняя и новая Россия. 1877. Т. I. С. 224.
150
РС. 1873. Т. VII. С. 347–351.
151
Безвременье и временщики. С. 164.
152
Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.
153
ПСЗ. Т. IX. № 5727, 5738, 6325.
154
Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 76.
155
РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 278, 292.
156
ЖМНП. 1897. № 2. С. 286, 289.
157
РИО. Т. 86. Юрьев. 1893. С. 498.
158
РИО. Т. 70. С. 489.
159
РИО. Т. 86. С. 478.
160
ЖМНП. 1897. № 2. С. 280, 281.
161
ПСЗ. XVIII. № 5871.
162
ПСЗ. Т. IX. № 6745.
163
РИО. Т. 124. Юрьев. 1909. С. 54, 463.
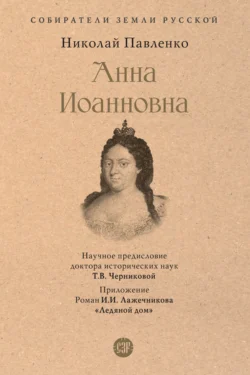
Николай Павленко
Тип: электронная книга
Жанр: Популярно об истории
Язык: на русском языке
Издательство: Издательство Проспект
Дата публикации: 08.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Книга известного историка Николая Павленко посвящена десятилетнему правлению (1730–1740 гг.) императрицы Анны Иоанновны. Автор талантливо и скрупулезно описывает этот период «немецкого засилья» в России через биографии главных действующих лиц эпохи – Бирона, Остермана, Миниха, Волынского и других. Для более точного воссоздания образа императрицы и ее сподвижников историк привлекает большое количество документальных источников, включая архивные материалы, многие из которых приводятся впервые.