Собачьи истории
Редьярд Джозеф Киплинг
Книга представляет собой сборник рассказов и стихотворений Киплинга, объединённый общей темой: взаимоотношениями людей и собак. Здесь и служба, и дружба, и любовь, и, увы, предательство. Иногда о собаках рассказывает человек, иногда о себе и о людях рассказывают сами собаки. Многие обстоятельства и условия жизни за сто лет неузнаваемо переменились, разобраться в них читателю помогут обширные примечания переводчика. Но главное понятно и без примечаний: у всех живых существ общности больше, чем различий. Нам надо только вглядеться – и не задаваться. В переводе С. Сапожникова это желание чувствуется. Часть рассказов ранее на русский язык не переводилась. Впечатление дополняют иллюстрации Дж. Л. Стампы, выполненные к первым изданиям 1930-х годов.
Джозеф Редьярд Киплинг
Собачьи истории
Перевод, предисловие и примечания С. Сапожникова
В книге использованы иллюстрации Дж. Л. Стампы (1875–1951) к первым изданиям “Collected Dog Stories” (1934) и “Thy Servant A Dog” (1938).
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© С. Сапожников, перевод на русский язык, примечания, предисловие, 2024
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024
От переводчика
Памяти всех моих ньюфаундлендов, делавших жизнь светлее.
Редьярд Киплинг собак любил, держал, описывал в стихах и прозе в течение всей литературной жизни. Написанное нравилось публике и, думаю, автору, поэтому в тридцатых годах прошлого уже века вышли книги «Сборник собачьих историй» и «Твой слуга пёс».
Дотошный собачник найдёт в них как несуразности, так и ошибки в обращении с Верными Друзьями и Слугами Человека (у Киплинга много прописных букв). Самые очевидные упомянуты в примечаниях.
Разумный собачник всё это простит, потому что в каждой строчке почувствует любовь к собакам, понимание их натуры и уважение к ней.
Кто бы сказал, где граница между собачьими дружбой и службой? Почему собаки живут так быстро? Не Киплинг и, уверен, не мы. Грусть витает между строчками живых и местами весёлых рассказов и густо разлита по стихотворениям. Истоки её очевидны. В силу мастерства и стоицизма автора грусть эта пронзительная, но светлая.
Три рассказа написаны от лица абердинского (ныне шотландского) терьера Бутса. Язык, юмор и восприятие мира у него совершенно терьерские. Киплингу ли не перевоплотиться: терьеры – его собаки; по тому, что называют линейной психикой и мировосприятием, в том числе.
Тщеславный, но добрый пёсик-француз, охотник за трюфелями, оказавшись на английской чужбине, вначале строит рассказ вокруг своей персоны, но потом проникается сочувствием к углежогу и его чахоточной дочери, начинает понимать грубоватую тётушку-овчарку – и всё это с галльской лёгкостью и восторженной чувствительностью. Так выразить столкновение двух культур – с любовью к обеим – мог только мастер. Чем и восхищаемся.
Включил в книгу всё, что было в упомянутых сборниках, добавив заключительное стихотворение из «Квайкверна». Оригиналы всех стихов привёл в примечаниях. При составлении примечаний с радостной благодарностью воспользовался материалами британского «Киплинговского общества», столь доступными в Интернете. Без них многого бы не понял – и, конечно, толком не перевёл бы.
Воспроизвёл чудесные рисунки к первым изданиям работы Дж. Л. Стампы
.[1 - Сноски, обозначенные числами, см. в «Примечаниях» (примеч. перев.).] На них, среди прочего, видно, как изменились за век с лишним привычные нам породы.
Хямекоски, Карелия,
июль – август 2021 года. С. Сапожников
Рассказ рядового Лиройда
И он поведал историю.
«Хроники Гаутама Будды
»
Вдалеке от ротных офицеров, вечно оглядывающих амуницию, вдалеке от чутких сержантских носов, что вынюхают набитую трубку в свернутом постельном белье, в двух милях
от шума и суеты казарм находится «Ловушка». Это старый сухой колодец; узловатое дерево пиппала
бросает на него тень, высокая трава окаймляет его. Тут-то в былые годы рядовой Ортерис устроил склад такого своего имущества, живого и неживого, какое нельзя было без опаски вносить в казарму. Он держал в колодце гудинских кур
и фокстерьеров с несомненной родословной
, на которых имел более чем сомнительные права: Ортерис был прирожденным браконьером и принадлежал к числу самых ловких собачьих воров в полку.
Вовек не вернутся те долгие ленивые вечера, в какие Ортерис, тихонько насвистывая, походкой врача-хирурга расхаживал между своими пленниками, Лиройд сидел в нише, давая ему мудрые советы относительно ухода за «псинками
», а Малвени, свесив ноги с кривого сука пиппалы, покровительственно болтал сапожищами у нас над головами и восхищал рассказами о войне, и о любви, и о том, что узнал о городах и людях.
Ортерис в конце концов завел «лавчонку птичьих чучел», к которым ваша душа неравнодушна, Лиройд вернулся на свой родной дымный и каменистый север, к гулу бедфордских ткацких станков
, Малвени же – седой, нежный и весьма мудрый Улисс – устроился при земляных работах на Центрально-Индийской железнодорожной линии. Судите сами, в силах ли я забыть былые деньки в «Ловушке»?
Ортрис вечно считал
, что знает больше других, и твердил, что она не настоящая леди, а полукровка. Спорить не стану, лицом была смугловата. Но всё же была леди. Ну, ездила в коляске, да на славных лошадках, и волосы у ней так блестели, что, право, себя в них увидишь, носила ещё брильянтовые кольца и золотые цепочки, шёлковые да атласные платья. А недешев товар в тех лавках, где материи хватит для такой фигуры, как у ней. Звали её миссис Де Сусса, и познакомились мы с ней из-за Рипа, пёсика жены нашего полковника.
Много перевидал я собак на веку, но Рип этот был самым чудным образчиком умницы-фокстерьера, лучше его не встречал. Мог сделать, что скажут, и леди полковница дорожила им больше, чем любым христианином. У ней были свои детишки, но в Англии, и Рип получал все ласки, всё баловство, которые по праву принадлежали им.
Только Рип был разбойник, и у него вошло в обычай удирать из казарм и носиться повсюду, точно лагерное начальство во время инспекторского смотра. Раза два полковник вздул его, но Рипу такое нипочём; он продолжал смотры, крутя хвостом, ни дать ни взять семафорил всему свету: «Спасибо, я в порядке, а вы?» Ну, полковник был ни капли не собачник. А пёс был что надо, и немудрено, что он понравился миссис Де Сусса. Одна из десяти заповедей гласит, что человек не смеет желать ни вола соседа, ни осла его, но о терьерах там ни слова, и, вероятно, по этой-то причине миссис Де Сусса желала Рипа, хотя постоянно ходила в церковь с мужем, который был настолько смуглей её, что, не будь у него такого ладного сюртука, вы могли бы, не солгав, назвать его чернокожим, да и только. Говорили, что он торгует индийской коноплей, и нажился он предостаточно!
Ну вот, Рипа посадили на привязь, и здоровье у бедолаги пошатнулось. Поэтому леди полковница послала за мной – ведь все знали, что я разбираюсь в собаках – да и спросила, что с ним.
«Просто, – отвечаю, – заскучал, и нужны ему свобода и компания, как и нам самим; крыса-другая тотчас бы его оживили. Крысы, мэм, твари низкие, – говорю, – но такова уж собачья натура; нужно ему также прогуляться, встретить собаку или двух, провести с ними день да сцепиться, как подобает христианину».
Тут она ответила, что её пёс никогда не дерётся, как никогда не дерётся также и христианин.
«Так зачем же тогда солдаты? – я ей, и принялся объяснять все собачьи повадки; а ведь если подумаете, то поймёте, что удивительней собаки никого в мире нет. Псов учат держаться, как природных джентльменов самого высокого круга – говорят, сама Вдова
любит хороших собак и узнаёт породистого пса, едва завидит; с другой стороны, они любят гоняться за кошками, водятся с разными дрянными уличными бродягами, ловят крыс и дерутся между собой, как черти.
Тут полковница мне: «Ну, Лиройд, я с вами не согласна, но в известной мере вы правы, и я хотела бы, чтобы вы иногда брали Рипа на прогулку, только не позволяйте ему драться, бегать за кошками и вообще творить что-то ужасное». Так и сказала.
Стали мы с Рипом гулять вечерами, а такой пёс делает честь человеку; наловил с ним пропасть крыс, а однажды мы устроили охоту в высохшей купальне, сразу за лагерем, и вскорости он снова засиял, как надраенная пуговица. Он летел на здоровенных рыжих собак-парий
, точь-в-точь стрела из лука, и пусть весу в нём не было никакого, так неожиданно врезался, что те валились, как кегли под шаром, а когда кидались наутек, гнался за ними, точно за кроликами. Бросался и за встречными кошками.
Раз вечером мы перебрались через стену одного дома за мангустом, которого он преследовал; слезли около колючего куста; вдруг смотрим и видим миссис Де Сусса. Закинула этак зонтик на плечо и смотрит на нас. «Ах, – говорит, – это тот самый хорошенький фокстерьер? Он позволит себя погладить, мистер солдат?»
«Да, мэм, позволит, – говорю. – Он любит общество леди. Поди сюда, Рип, потолкуй с этой доброй леди». – И, видя, что мангуст успел удрать, Рип подходит, как джентльмен: он никогда не боялся стать неловким и никогда не становился.
«Ах ты красавчик, прелестный пёсик! – говорит она так нежно и нараспев, как всегда говорят такие леди. – Вот бы мне собачку вроде тебя. Ты такой милый, такой ужасно хорошенький». И дальше несёт всё, что, может, вовсе не нужное разумному псу, но что он сносит в силу хорошего воспитания.
Потом я заставил Рипа прыгать через трость, давать лапку, просить, умирать – словом, проделал с ним всякие штуки, которым дамы учат своих собак, хотя мне самому подобные затеи не нравятся: они делают толкового пса дурнем.
В конце концов выясняется, что она уже давно, так сказать, «положила глаз» на Рипа. Видите ли, её дети выросли, дел у неё мало, и она всегда любила собак. И вот миссис Де Сусса спрашивает меня, не хочу ли я выпить чего-нибудь. Идём в гостиную, где сидит её муж. Они оба затеяли возню с собакой, а мне досталась бутылка эля и несколько сигар.
Наконец, я ушёл, но эта дама крикнула: «О, мистер солдат, пожалуйста, придите снова с этой хорошенькой собачкой!»
Леди полковнице я о миссис Де Сусса и Рипе не обмолвился; сам он, конечно, тоже ничего не рассказал; стал захаживать в гости, и каждый раз получал славную выпивку и пригоршню отличных сигар. Наболтал ей о Рипе то, чего сам отродясь не слышал: будто он получил в Лондоне первую награду на собачьей выставке; будто заводчику за него дали тридцать три фунта четыре шиллинга; будто брат его живёт у принца Уэльского и, наконец, будто у него родословная не короче, чем у герцога. Она всё это глотала и без устали пса нахваливала. Но когда миссис Де Сусса вздумала дать мне денег, и я увидел, что она очень полюбила собаку, я стал кое-что подозревать. Всякий
13 может дать солдату на пинту пива, так, из вежливости, и в этом ничего худого, но, когда в руку незаметно суют пять рупий, легко понять, что вас пытаются подкупить и соблазнить. К тому же миссис Де Сусса стала поговаривать, что прохладная погода скоро кончится, и она отправится в Мансури Пахар
, а мы в Равалпинди
, и что после этого она уж никогда больше не увидит Рипа, если только кто-то, кого она знает, не сжалится над ней.
Я рассказал Малвени и Ортрису всю историю с начала до конца.
«Дрянная старая леди задумала мошенничество, – сказал ирландец, – она соблазняет тебя, дружище Лиройд, и подстрекает на воровство; но я сберегу твою невинность. Спасу от злых замыслов богатой старухи; сегодня же вечером пойду с тобой и выскажу ей слова истины и чести. Только, Джок, – добавил он, покачав головой, – на тебя не похоже, чтобы ты наслаждался хорошим пивом и тонкими сигарами в то время, как мы с Ортрисом бродили здесь и во рту у нас было сухо, как в известковом карьере. Да и курили-то мы всякую дрянь, купленную в лавке. Ты нарочно сыграл скверную шутку со своими товарищами; иначе зачем было бы тебе, Лиройд, качаться на атласном стуле? Точно Теренс Малвени чем-то хуже всякого продавца индийской конопли!»
«Не говоря уже обо мне, – заметил Ортрис, – но такова жизнь. Люди, действительно способные украшать общество, остаются в тени, а такие неуклюжие йоркширцы, как ты…»
«Да нет, – отвечаю. – Не йоркширец неуклюжий ей нужен, а Рип. Тут он главный герой».
На следующий день Малвени, Рип и я отправились к миссис Де Сусса, и поскольку ирландец был ей незнаком, она сначала стеснялась. Но вы слышали, как Малвени говорит, и вам нетрудно поверить, что он совсем очаровал даму. Она, наконец, сказала, что ей хочется увезти с собой Рипа в Мансури Пахар. Тут Малвени сменил тон и серьёзно спросил, подумала ли она о последствиях? О том, что двое бедных, но честных солдат будут отправлены в ссылку на Андаманские острова
. Миссис Де Сусса заплакала. Малвени стал утешать её, согласился, что Рипу было бы гораздо лучше в горах, чем в Бенгалии
, и выразил сожаление, что Рип не может жить там, где его так любят. Он продолжал лавировать
то так, то иначе, пока, наконец, бедная леди не почувствовала, что для неё жизнь будет не в жизнь, если собачка не достанется ей.
И тут вдруг Малвени говорит: «Рип будет вашим, мэм, потому что у меня чувствительное сердце, не то что у бесчувственного йоркширца; только обойдётся вам это ни на пенни меньше, чем в триста рупий
».
«Не верьте ему, мэм, – говорю я. – Полковница не отдаст Рипа и за пятьсот».
«А кто говорит, что отдаст? – спросил Малвени. – Речь не о продаже; ради этой доброй, славной леди сделаю то, чего в жизни не делал. Я украду Рипа».
«Ни слова о краже, – возразила миссис Де Сусса. – Он будет так счастлив! Вы знаете, собаки иногда теряются, потом пристают к кому-нибудь, а Рип любит меня, и я люблю Рипа, как никогда не любила ни одну собаку, и он должен быть моим. Если бы мне отдали его в последнюю минуту, я увезла бы его в Мансури Пахар, и никто никогда ничего не узнал бы».
Малвени то и дело поглядывал на меня, и хоть я не понимал, что он задумал, но решил соглашаться с ним.
«Ну, мэм, – говорю, – вовек мне и не снилось опуститься до кражи собак, но раз мой товарищ видит, как можно угодить такой леди, как вы, то я не стану удерживать его, хотя это дурное дело, думается мне, и триста рупий жалкая награда за возможность попасть на проклятые острова, о которых говорил Малвени».
«Дам триста пятьдесят, – сказала Де Сусса, – только достаньте мне собачку».
Так мы позволили уговорить себя; она тотчас же смерила шею Рипа и послала в магазин Гамильтона
заказ на серебряный ошейник, чтобы он был готов к тому времени, когда Рип станет ее собственностью, а это должно было случиться в день отъезда в М ансури Пахар.
«Слушай, Малвени, – говорю, когда мы вышли из дома. – Ты не отдашь ей Рипа».
«Неужто захочешь огорчить бедную старушку? – ответил он. – У ней будет свой Рип».
«А откуда ты его возьмёшь?» – спрашиваю.
«Лиройд, милейший, – тянет он, – ты славный рослый малый и хороший товарищ, но в башке у тебя мякина. Разве наш друг Ортрис не таксидермист, не настоящий художник, мастерски владеющей тонкими белыми пальцами? А что такое таксидермист, как не человек, который умеет обращаться с шерстью? Помнишь белого пса у сержанта из солдатской столовой – скверного, злого, что половину времени в бегах, а другую ворчит? В этот раз он потеряется насовсем. Заметил ли ты, что по сложению и росту этот пес – просто слепок с полковничьего фокса, хотя хвост у него длиннее на дюйм, и нет на нём пятен настоящего Рипа? Ну, и характер у него, как у хозяина, или ещё лучше. Но что значит дюйм собачьего хвоста и несколько чёрных, коричневых и белых пятен для такого ловкого профессионала, как Ортрис? Сущую ерунду.
Скоро мы встретили Ортриса, и, так как этот малый был вострей иголки, он вмиг понял, чего от него ждут. На следующий день он принялся практиковаться в окраске шкуры, начав со своих белых кроликов, и вскоре разместил все Риповы пятна на спине белого обозного вола, чтобы запомнить их и быть уверенным в окрасах; коричневый и чёрный оттенки вышли совершенно натуральными. Если у Рипа и был какой недостаток, так именно избыток пятен; зато они располагались на диво правильно, и Ортрис готов был первоклассно сделать работу к тому времени, когда раздобудет собаку столовского сержанта.
Сроду не бывало пса свирепей сержантского, и он, ясное дело, не подобрел, когда хвост его стал на полтора дюйма короче
. Только пусть, кто хочет, болтает про Королевскую Академию
. Сам я ни разу не видел картины с изображением животного, которая была бы лучше копии Ортриса с милого Рипа, хотя копия эта ворчала, скалила зубы и старалась кинуться на Рипа – натурщика, каких поискать.
В Ортрисе всегда самомнения хватало, чтоб поднять воздушный шар, но даже ему так полюбился поддельный Рип, что он хотел отвести его к миссис Де Сусса раньше её отъезда. Но мы с Малвени его удержали, зная, что, как ни велико искусство Ортриса, его живопись была всё же поверхностной.
Вот, наконец, миссис Де Сусса назначила день отъезда в Мансури Пахар. Мы решили принести Рипа на станцию в корзине, передать его как раз перед отходом поезда и тогда же получить от неё деньги; всё, как было договорено.
Бог мой, ей давно пора было уехать; пятна на спине собаки требовали множество материала для поддержания надлежащего колера; Ортрису пришлось истратить на краски семь рупий и шесть анна
в лучшем аптекарском магазине Калькутты
.
Тем временем столовский сержант повсюду искал своего пса, а тот сидел на привязи и ярился пуще и пуще.
Раз вечером поезд пришёл со стороны Ховры
, и мы помогли миссис Де Сусса сесть в вагон, и подали ей около шестидесяти коробок, и, наконец, поднесли свою корзину. Из гордости Ортрис попросился пойти с нами и не мог не приподнять крышку и не показать ей пёсика, который свернулся клубком.
«Ой, – воскликнула чудная дама, – красавчик, какой он миленький!» Тут «красавчик» заворчал и оскалился, поэтому Малвени закрыл крышку и сказал: «Смотрите, мэм, вынимая Рипа, будьте осторожны. Он отвык путешествовать по железной дороге и, вероятно, будет скучать по своей настоящей хозяйке и по своему другу Лиройду; так что на первых порах принимайте во внимание его чувства».
Да, она сделает всё это и ещё больше для милого славного Рипа; она не откроет корзины, пока они не уедут на много миль; она и сама боится, чтобы кто-нибудь не узнал его; мы же истинно добрые, хорошие солдаты, действительно хорошие. И она передала мне пачку кредиток; в это время к вагону подошли её друзья и знакомые проститься с нею – числом не более семидесяти пяти – а мы сразу ушли.
Что стало с тремястами и пятьюдесятью рупиями? Трудно сказать; они растаяли у нас в руках, прямо растаяли. Мы поделили их поровну, потому что Малвени сказал: «Если Лиройд первым познакомился с миссис Де Сусса, то я вспомнил о собаке сержанта; Ортрис же был художником – гением, который создал произведение искусства из безобразного произведения природы. Однако в благодарность за то, что дурная старая женщина не довела меня до мошенничества, я отдал часть денег отцу Виктору
на бедняков, для которых он всегда просит пожертвования».
Но мы с Ортрисом смотрели на вещи иначе: он был кокни
, а я славный малый с далёкого севера. Мы получили деньги и хотели ими пользоваться. И пользовались – недолго.
Нет-нет, мы никогда больше не слышали об этой милой даме. Наш полк пошёл в Пинди
, а столовский сержант завёл себе другого пса вместо того, что постоянно пропадал и, наконец, совсем потерялся.
Гарм-заложник
Как-то вечером, много лет назад, я ехал в военное поселение Миан-Мир
, чтобы посмотреть любительский спектакль. С задворок пехотных казарм наперерез лошадям выскочил солдат в надвинутой на глаза фуражке, вопя, что он страшный дорожный грабитель. При ближайшем рассмотрении я узнал в нём доброго знакомого и стал уговаривать шутника вернуться назад, в казармы, пока не поймали, но тот, не внимая уговорам, попал под дышло
– а я тем временем услышал голоса высланного на поиски патруля.
Мы с возницей устроили солдата в коляске, поторопились отвезти домой, раздели, уложили в постель; наутро он проснулся с тяжёлой головой и совершенно сконфуженным. Когда постиранная форма высохла, а сам он умылся, побрился и поел, я доставил малого с рукою на свежей перевязи в казармы и доложил там, что накануне случайно переехал солдата коляской. Я не стал говорить с сержантом, злым и недоверчивым, а пошёл прямо к лейтенанту: тот был мало с нами знаком.
Через три дня мой друг вернулся по приглашению, и у ног его ласкался и пускал слюни превосходный – лучшего не встречал – бультерьер классических кровей: две части от бульдога, одна – от терьера
; чистейший белый окрас, коричневый ободок прямо за шеей, коричневое пятно у корня упругого хвоста. Я знал этого пса больше года и часто восхищался им издали, и Виксен, моя фокстерьерша
, тоже его знала – хотя и не одобряла.
– Это вам, – сказал мой приятель, без всякой, впрочем, радости от скорого расставания.
– Глупости! Этот пёс лучше большинства людей, Стенли
,– ответил я.
– Не просто лучше. Стойку!
Пёс поднялся на задние лапы и простоял так целую минуту.
– Равнение на… право!
Бультерьер уселся и рывком повернул голову направо. По следующей команде он поднялся и трижды пролаял. Затем, подав правую лапу, легко вспрыгнул мне на плечо, обратился в шарф, мягкий м податливый, и свесился по обе стороны шеи. Мне велено было снять его и подбросить в воздух. Пёс приземлился с визгом, подвернув лапу.
– Немного не вышло, – сказал владелец. – Теперь идёшь помирать. Выкопай себе могилку и сомкни глазки.
Пёс, прихрамывая, поплёлся в угол сада, выкопал яму и улёгся на дно. Услыхав, что исцелён, он вскочил, завилял хвостом и заскулил, прося овации. Затем последовала полудюжина прочих штук вроде задержания без причинения вреда (задержан был я, а бультерьер сидел напротив, и скалился, готовый к прыжку), и ещё он показал, как прекращает есть сразу же после команды. Я утомился нахваливать все эти трюки, когда мой друг сделал какой-то жест – и пёс рухнул, как подстреленный – а его хозяин достал из шлема листок голубой линованной бумаги, какую продают в военных лавках, вручил мне записку и зашагал прочь, а пёс смотрел вслед и выл. Я прочёл:
«СЭР, отдаю вам пса
за то, что вы выручили меня. Он лучший из всех, каких знал, ведь выучил его сам, и он теперь не хуже человека. Не давайте ему много есть и, пожалуйста, не возвращайте мне – я не возьму этого пса, раз он ваш. Поэтому, прошу вас, не пытайтесь привести его назад. Я забрал у него прежнее имя, и вы можете назвать его, как захотите, и он станет откликаться, только, прошу, не приводите его назад. Он убьёт человека как от нечего делать, только не перекармливайте его. Он умней человека».
Виксен сочувственно присоединила тоненькое верещание к безнадёжному вою бультерьера, а я расстроился, потому что человек, держащий собак, совсем не тот, кто просто любит собаку. Собаки всего-навсего блохастые, шелудивые бродяги, падальщики, нечистые твари по учениям Моисея и Магомета; но собака, с которой вы неразлучны хотя бы шесть месяцев в году, вольная тварь, привязанная к вам любовью так крепко, что не займётся одна ни игрой, ни делом, терпеливая, сдержанная, забавная и мудрая душа – та, что распознает ваш настрой прежде вас самих – такая собака не подчинена всяким общим соображениям.
У меня была Виксен, собака всей души моей, и я знал, что чувствовал мой друг, с кровью сердца оставляя пса в моём саду. Однако пёс чётко усвоил, что теперь я его новый хозяин, и не побежал за солдатом. Вскоре он затих, к полному моему уважению, но Виксен, ревниво тявкая, принялась наскакивать на него. Будь она одного с ним пола, новичок смог бы развлечься дракой, но теперь лишь озабоченно поглядел, как она хватает его за мощные стальные бока, положил тяжёлую голову мне на колени и снова завыл. Тем вечером я собирался пообедать в клубе, но, когда стемнело, а пёс бродил по пустому дому, словно малыш, пытающийся унять слёзы, понял, что не могу оставить пса вынести первый вечер в одиночестве. Итак, все мы обедали дома, Виксен по одну руку от меня, чужак по другую; она провожала взглядом каждый его глоток, и явно признавала, что его застольные манеры куда лучше её собственных.
В жаркую пору у Виксен вошло в обычай спать на моей постели, с головой на подушке, подобно христианке, и поутру я просыпался на самом краю – маленькое существо выталкивало меня прочь, упёршись лапами в стену. Той ночью она особенно спешила улечься, задрав шерсть дыбом, косилась на чужака, рухнувшего на коврик беспомощно и безнадёжно, растопырив все четыре лапы и тяжко вздыхая. Виксен долго пристраивала голову на подушке, являя манеры и воспитание, и спела обычную, жалостливую песенку перед сном. Чужак тихо скользнул в мою сторону. Я спустил руку, а он лизнул её.
И тотчас моё запястье оказалось промеж зубов Виксен, а упреждающее «гррррр!» понятней слов объяснило, что при дальнейшем внимании к новому псу она меня цапнет.
Я ухватил Виксен левой рукой за жирный загривок, хорошенько встряхнул и сказал:
– Ещё раз такое – и пойдёшь на веранду! Заруби на носу!
Виксен смекнула прекрасно, но стоило мне отпустить её загривок, снова прихватила зубами правое запястье – прижав уши, напрягшись всем телом, готовая куснуть. Хвост большого пса застучал по полу покорно и миролюбиво.
Я снова ухватил Виксен, поднял над кроватью, словно кролика (она терпеть не могла такого обращения и взвизгнула), и выполнил обещание, отправив её на веранду к летучим мышам и лунному свету. Тогда она завыла. Пошла ругань – захлёбывающийся кашель – собака честила не меня, а бультерьера. Потом Виксен обежала дом, пытаясь открыть каждую дверь. Затем она выскочила на конюшню и лаяла так, словно застала конокрадов – её старый трюк. Наконец, вернувшись, одышливо провизжала: «Я больше не буду! Впусти, я больше не буду!»
Виксен впустили, она скользнула на подушку. Когда она успокоилась, я шепнул второй собаке: «Можешь лечь в ногах». Буль тотчас вспрыгнул на кровать, и хоть я чувствовал, что Виксен дрожит от ярости, та сочла за лучшее не противиться. Так мы и спали до раннего утра; потом они, кусок за куском, позавтракали со мной; затем подвели лошадь, и мы отправилась на прогулку. Прежде я не знал, что бультерьер может бежать за лошадью. Гоньба была ему в радость, а Виксен, как всегда, визжала, и бегала, и шмыгала взад-вперёд, возглавляя процессию.
Была деревенская околица, которую мы обычно миновали с осторожностью из-за рыжих собак-парий
, вечно там отиравшихся.
Эти полудикие, голодные твари, были поодиночке трусливы, но девять-десять вместе становились стаей и вполне могли затравить, убить и съесть английскую собаку. На этот случай я специально брал хлыст с длинным ремнём.
В то утро они атаковали Виксен: она – допускаю, нарочно – отбежала из-под тени моей лошади.
Буль взбороздил пыль в полусотне ярдов
позади и круто развернулся, ухмыльнувшись по-бультерьерски. Я услышал визг Виксен – на неё бросились сразу пять дворняг; позади мелькнуло что-то белое; около Виксен взметнулось облако пыли, а когда оно улеглось, я увидел высоченного парию с перекушенным хребтом, а бультерьер валял по земле другого. Виксен вернулась под защиту моего хлыста, а следом явился и буль – ухмыляющийся веселей обыкновенного, весь во вражеской крови. Тогда я решил назвать его именем великого губителя сарацин, «Гарина в окровавленных доспехах» или, короче, «Гармом»
; итак, наклонившись в седле, я объявил псу его новое имя. Он выслушал его несколько раз и отбежал в сторону, но лишь я крикнул «Гарм!», немедленно примчал обратно, готовый исполнить мою волю.
Тут я понял, как прав был мой друг солдат: пёс был умней и лучше человека. После прогулки я отдал собакам привычный и ненавистный для Виксен приказ; «Живо мыться!» – велел я. Гарм понял команду отчасти, Виксен объяснила остальное, и пара спокойно затрусила прочь. На веранде меня встретила отмытая до снежной белизны и крайне собой довольная Виксен, но псарь наотрез отказался и прикоснуться к Гарму, пока я не встал рядом. Так и стоял, наблюдая, как слуга скребёт пса щёткой, а Гарм, с мылом, пузырившимся поверх широкой башки, глядел на меня, заверяя, что вытерпит всё, что я предписал. Он отлично знал, что псарь лишь исполняет приказы.
– В другой раз, – сказал я слуге, – будешь мыть большого пса вместе с Виксен, когда пришлю их к тебе.
– Он знает об этом? – спросил псарь, разбиравшийся в собаках.
– Гарм, – приказал я, – в следующий раз тебя вымоют с Виксен.
Я знал, что Гарм понял. Так и было: в день следующей помывки, когда Виксен по обыкновению удрала под кровать, Гарм вышел на веранду, пристально глянул на нерешительного псаря, пошёл к месту прошлого купания и с непреклонным видом встал в лохань.
Но долгие часы у меня в конторе угнетали пса. Мы втроём выезжали в половине девятого и возвращались домой не раньше шести. Привычная к такой рутине Виксен спала под моим рабочим столом, но несвобода грызла Гармову душу. Обычно пёс сидел на веранде, глядя на Мэлл
, и я отлично понимал, чего он ждёт.
Время от времени мимо нас к форту проходила рота солдат; тогда Гарм срывался с места чтобы учинить смотр; или же в контору заходил офицер в мундире – и больно было смотреть, как беднягу Гарма тянет к униформе, не к человеку. Он подскакивал к гостю, обнюхивал его и радостно тявкал, носился к дверям и назад. Однажды утром я услышал, как буль залаял в полный голос – неслыханное дело! – а потом пропал. Когда в конце дня я вернулся, солдат в белой форме метнулся через стену в дальнем конце сада, а встретивший меня Гарм был счастливейшим из псов. Такое продолжалось целый месяц, дважды-трижды в неделю.
Я притворялся, что ничего не замечаю, но Гарм и Виксен знали правду. Пёс выскальзывал из офиса около четырёх под видом обычного любопытства к чему-то на улице и делал это тихо, совсем незаметно для меня – но не для Виксен. Ревнивая собачка фыркала и сопела из-под стола достаточно громко, чтобы привлечь моё внимание к побегу. Гарм выходил наружу по сорока раз на дню, и Виксен не шелохнётся, но как только он удирал ко мне в сад на свидание со своим настоящим хозяином, сообщала мне об этом на своём языке. Это был один из способов показать, что Гарм не вполне член нашей семьи. Они были не разлей вода, но Виксен объясняла, что Гарм никогда не будет любить меня, как она.
И я всегда это помнил. Этот пёс не был моим, не мог стать моим, и я знал, что он несчастен так же, как его хозяин-солдат, проходивший по восемь утомительных миль
в день ради их встречи. Мне казалось, что чем быстрее эти двое воссоединятся, тем лучше. Как-то раз днём я отослал Виксен домой в собачьей коляске
(Гарм к тому времени успел уйти), а сам поехал верхом в военное поселение потолковать с другим своим приятелем, солдатом-ирландцем
, закадычным другом собачьего хозяина.
Я объяснил суть дела и сердито добавил:
– И как раз сейчас Стенли плачет над псом у меня в саду. Почему он не заберёт его? Они оба несчастны.
– Несчастны! Да малый просто рехнулся с горя. Но такой с ним припадок.
– Что за припадок? Он проходит полсотни миль
неделю, чтобы увидеться с этим животным, прикидывается, что не замечает меня, когда видит на дороге; и теперь я так же несчастен, как и он. Заставь его забрать собаку.
– Такой наложил на себя обет. Я подшутил над ним, когда вы так удачно переехали его пьяного коляской в тот вечер; сказал; если он католик, то должен дать обет воздержания. Вышел он с припадком в головёнке, и с лихорадкой в придачу, и ничего лучшего не придумал, чем отдать пса вам в залог.
– Какой ещё залог? – мне вовсе не был нужен заложник от Стенли.
– Залог его хорошего поведения. Он теперь правильный парень и водиться с ним нет никакой радости.
– То есть это что-то вроде заклада?
– Будь так, я не беспокоился бы. Вы сдаёте в заклад на три месяца, а потом забираете назад. Но он сказал, что больше никогда не увидит собаку и, уважая вас, никогда не собьётся с правильного пути. Вы знаете, какой он припадочный? Вот, это очередной заскок. Как вам этот пёс?
– Он как человек. Лучший пёс в Индии. Так ты заставишь Стенли взять его назад?
– Нет, я уж всё испробовал. Вы знаете, он припадочный. Исполняет свой обет. Что с ним будет в горах? Врач внёс его в список.
В Индии принято с наступлением жары отправлять некоторое число больных от каждого полка в горные гималайские лагеря; хотя там они живут в прохладе и с удобствами, но тоскуют по оставшемуся внизу казарменному сообществу и делают всё возможное, чтобы поскорей вернуться или вообще не ехать в горы. Я предположил, что отъезд станет выходом, и обнадёжил в том Теренса
, хотя тот и сказал на прощание: «Он не возьмёт собаку, сэр. Вы можете без риска поставить за это своё месячное жалование. Вы знаете, он припадочный».
Я никогда не считал, что понимаю рядового Ортериса, и счёл за лучшее удалиться.
В то лето недужных из полка, где служил мой приятель, отправили в горный лагерь рано: доктора решили, что переходы прохладными пока ещё днями пойдут им на пользу. Маршрут тянулся на сто двадцать миль
на юг, к месту под названием Амбала
. Затем следовало повернуть на восток и двигаться в горы – в Казаулй, или в Дагшай, или в Субатху
. Я ужинал с полковыми офицерами вечером, накануне похода, – они собирались выйти в пять утра. Вернувшись домой за полночь, я несказанно удивился, увидав, как белая фигура удирает через стену сада.
– Этот человек, – сказал мне старший слуга, – пришёл к девяти вечера и всё это время разговаривал с собакой. Он точно не в себе. Я не прогнал его, потому что он бывал тут много раз и раньше, а псарь сказал, что большая собака тотчас убьёт меня, если я прикажу этому человеку уйти. Он не пожелал говорить с Покровителем Бедных и не просил ни еды, ни питья.
– Кадир Бакш, – ответил я, – ты сделал всё правильно, иначе бы пёс тебя прикончил. Но не думаю, что этот белый солдат появится здесь снова.
Той ночью Гарм плохо спал, поскуливая во сне. Один раз он вскочил с лаем – звонким, пронзительным – я слышал, как он машет хвостом, но затем он проснулся, лай перешёл в вой и замер. Пёс видел сны – себя и хозяина, снова вместе, а я чуть не рыдал. Стенли повёл себя совершенно по-дурацки.
Инвалидная команда сделала первый привал на Амритсарской дороге
, в нескольких милях от казарм, в десяти милях
от моего дома. Один из офицеров изловчился вернуться ради последнего хорошего ужина (в походе всегда готовят скверно) и случайно повстречал меня в клубе. Мы состояли в близкой дружбе, и я знал, что ему ведома настоящая любовь к собаке. Приятель мой держал большого толстого ретривера
и взял его с собой в горы для поправки здоровья; сейчас был только апрель, но пухлый коричневый пёс на клубной веранде шумно отдувался и пыхтел, словно готов был взорваться.
– Удивительно, – сказал офицер, – под какими предлогами эти мои хворые стремятся назад, в казармы. Сегодня один малый из моей роты попросился обратно в поселение, чтобы уплатить просроченный долг. Эта уловка так меня захватила, что я дал разрешение, и счастливец покатил по дороге в экке
, гремя бубенцами, как Панч
на ярмарке. Десять миль чтобы уплатить долг! А вдруг это правда?
– Подвезите меня до дому, и узнаете ответ, – сказал я.
И мы поехали домой в его собачьей коляске с ретривером; и по дороге я рассказал спутнику историю Гарма.
– А я-то дивился, куда пропал этот зверь. Лучшая собака в полку, – сказал мой друг. – Месяц назад я предложил за него двадцать рупий. Но, как вы говорите, теперь он залог хорошего поведения Стенли – а тот один из лучших моих людей, когда выбирает в пользу службы.
– Теперь мы знаем подоплёку, – ответил я. – Он принимает всё близко к сердцу, второсортный человек так не умеет.
Стараясь не шуметь, мы подъехали к дальнему концу сада и крадучись обогнули дом. У самой стены между деревьями тамариска
было укромное местечко, где, как я приметил, Гарм прятал косточки и куда не пускал никого, даже Виксен. Полная индийская луна высветила склонённую над собакой фигуру в белом мундире.
– Прощай, старина!
Увы, мы подслушивали, не в силах удержаться от соблазна.
– Бога ради, не давай себя кусать, не заразись бешенством от какой-нибудь мерзкой шавки. И блюди себя, старик. Не напейся; не носись, не обижай друзей. Ты будешь грызть кости, и есть галеты, и убивать врагов как джентльмен. Я ухожу – только не вой – ухожу в Казаули, и больше не смогу тебя навещать.
Я слышал, как он тронул Гарма за нос, задранный к звёздам.
– Останешься здесь и будешь вести себя хорошо, а я… я ухожу, и постараюсь выдержать, вот только не знаю, как уйти от тебя. Не знаю…
– Что за чушь, – сказал офицер, поглаживая своего старенького, толстого, глупого ретривера. Он окликнул рядового; тот вскочил на ноги, вышел к нам и отдал честь.
– Вы здесь? – спросил офицер, пряча глаза.
– Так точно, сэр, но как раз ухожу.
– Я собираюсь ехать в одиннадцать. Поедете со мной, в коляске. Мне не нужны загнанные до полусмерти больные. Прибудете и доложитесь в одиннадцать.
Мы вошли в дом, едва ли обменявшись и парой слов; офицер что-то бормотал и ласково потрёпывал уши ретривера.
Он – позорно и неприкрыто – пребывал под пятой у пса; и когда тот заковылял на кормёжку в кухонный домик, меня осенило.
В одиннадцать, когда выяснилось, что собака офицера исчезла, и никто не может её найти, мой гость поднял неимоверный шум. Он звал собаку, кричал, бурлил яростью, устроил получасовую облаву в моём саду.
Я сказал:
– Он непременно вернётся к утру. Пошлите человека с попутным поездом, и я передам ему пса – если животинка вернётся.
– Животинка? – взвился офицер. – Я ценю пса выше любого из своих знакомых. Вам хорошо говорить: ваша собака при вас.
Она была при мне – у моих ног – а если бы Виксен потерялась, никто в доме не получил бы ни денег, ни еды до её возвращения. Но люди, обуянные любовью к собакам, не заслуживают удара хлыстом. Мой друг обязан был ехать со Стенли на заднем сидении, а потом псарь обратился ко мне:
– Что за скотина, эта собака Буллен-сагиба! Только посмотрите!
Я пошёл в хижину псаря, где тщательно связанный жирный старый подлец спокойно лежал на коврике. Он, должен был слышать, как хозяин битых полчаса звал его, но не сделал и попытки откликнуться.
– У него нет лица
, – ядовито выразился слуга. – Он пунья-кутер (спаниель). Слышал голос хозяина, и совсем не пытался содрать повязку с морды. Виксен-баба постаралась бы уйти через окно, а Большой Пёс – растерзать меня связанными челюстями. Верно, что собаки бывают разные.
На следующий вечер вернулся не кто иной, как Стенли. Офицер послал его за четырнадцать миль
по железной дороге с запиской ко мне: вернуть ретривера, если тот нашёлся, а если нет – назначить большое вознаграждение. Обратный поезд отправлялся в половине одиннадцатого, и Стенли прогостил у нас до десяти, беседуя с Гармом. Я спорил, я умолял его; я даже грозился пристрелить бультерьера; но тщедушный солдат был твёрже камня, хоть я расщедрился на превосходный обед и вёл себя очень сурово. Гарм не хуже меня понимал, что видит хозяина в последний раз, и тенью ходил за Стенли. Ретривер промолчал, только облизнулся после ужина, да затрусил вразвалочку прочь, не подумав сказать «спасибо», и псарь посмотрел на него с омерзением.
Так прошло последнее свидание, и я чувствовал себя несчастным, как Гарм, всю ночь стонавший сквозь сон. Наутро, в конторе, он улёгся под стол рядом с Виксен и лежал там ничком до самого возвращения домой. Он больше не бегал на веранду и не выскальзывал из конторы для тайных бесед со Стенли. Наступили жаркие дни, и я запретил собакам бегать за коляской. Теперь мы ездили на одном сидении: Виксен клала голову на сгиб моего левого локтя, а Гарм цеплялся за левый поручень.
Виксен в эти минуты ликовала. Она отзывалась на любое обстоятельство в уличном движении – будь то преградившая путь воловья упряжка, верблюд или ведомый под уздцы пони; она простирала своё величие над плебеями-соплеменниками, бегущими в дорожной пыли. Она никогда не тявкала попусту, но лай её был известен всей Мэлл, и прочие имевшие хозяев терьеры тявкали в ответ, а погонщики волов, обернувшись через плечо, с усмешкой уступали нам дорогу.
Но Гарму было не до того. Он сидел, уставившись вдаль крупными глазами и плотно сомкнув страшную пасть. В конторе ютилась и третья собака – питомец моего босса. Мы звали пса «Бобом-библиотекарем» за обыкновение воображать, что за книжными полками таятся несуществующие крысы, и охотиться на них, сбрасывая на пол добрую половину папок с подшивками старых газет. Но и Боб, этот благонамеренный дурень, никак не мог развлечь Гарма. Когда он высовывал башку из-за двери и пыхтел: «Гарм! Крысы! За мной!», буль скрещивал передние лапы, делал поворот кругом, и брошенный без внимания Боб безответно скулил ему в безразличную спину. В те дни контора была не приветливее могилы.
Раз, всего лишь раз я увидел Гарма в полной гармонии с окружающим миром. Ранним воскресным утром он с Виксен отправился на недозволенную прогулку, и некий артиллерист, очень юный и очень глупый (его батарея совсем недавно прибыла в нашу часть света) попытался украсть их обоих. Виксен, разумеется, побрезговала есть из солдатского котла – тем более, что недавно позавтракала. Она примчалась назад с солидным куском баранины, какой кормят войска, положила мясо на веранду и подняла на меня глаза, желая узнать хозяйское мнение. Я спросил, где Гарм, и Виксен затрусила впереди моей лошади, указывая путь. Примерно через милю
мы нашли артиллериста – тот неуклюже мостился на самом краешке дренажной трубы, и колено его было перевязано грязным носовым платком. Гарм сидел перед ним и глядел сердито. Лишь человек пытался шевельнуть рукой или ногой, Гарм молча показывал зубы. На шее у буля болтался обрывок верёвки, а вторую часть поводка артиллерист крепко сжимал в оцепенелой руке. Он объяснил мне, уставившись строго перед собой, что встретил этого одиноко бродящего пса (артиллерист называл его нехорошими словами) и решил увести в форт, чтобы истребить как бездомного парию.
Я ответил, что, по моему мнению, Гарм совсем не похож на парию, но, если он понимает в этом лучше меня, то пусть ведёт пса в форт. Артиллерист сказал, что не желает. Тогда я предложил ему пойти в форт без собаки. Солдат ответил, что именно теперь он не желает и этого, но с удовольствием последует моему совету, как только я отзову пса. Я велел Гарму проводить артиллериста в форт, и буль с важным видом довёл обидчика до самых ворот – полторы мили
под солнцепёком – а когда я рассказал о наших приключениях в караулке, молодой артиллерист под градом жестоких насмешек взбесился сверх всякой меры. Очень многие, из разных полков – сказали ему – пытались в своё время украсть Гарма.
Тот месяц выдался особенно жарким, и собаки спали в купальне, на холодном и влажном кирпичном полу. Каждое утро, когда слуга приходил наполнять ванну, они прыгали в воду, и каждое утро слуге приходилось заново наливать ванну уже для меня. Я посоветовал ему начинать не с ванны, а с маленькой лохани, поставленной специально для собак. «Нет, улыбнулся он, – такое не для них. Не поймут. Да им в большой ванне и просторней».
Кули при панке
, работавший теперь денно и нощно, узнал Гарма самым тесным образом. Пёс заметил, что когда опахало перестаёт колыхаться, я окликаю слугу и велю ему тянуть длинную верёвку. Если слуга спит, я бужу его. Гарм также открыл, как приятно лежать в струе воздуха от панки. Возможно, Стенли обучил его этому в казарме. Так или иначе, но теперь, когда панка останавливалась, Гарм, прежде всего, рычал и косился на верёвку; и если слуга, почти постоянно остававшийся при панке, не просыпался, крался к нему и говорил что-то на ухо. Виксен, псинка смышлёная, никогда не соотносила работу панки со слугой; так Гарм обеспечил мне блаженство сна в прохладе. Но он был глубоко несчастен – скорбен, как то бывает с людьми – и в своём горе привязался ко мне так крепко, что посторонние, глядя на нас, завидовали. Если я шёл из комнаты в комнату, за мною шёл Гарм; если моё перо переставало скрипеть, голова пса утыкалась мне в руку; если я ворочался во сне, Гарм всегда поднимался и ложился под бок.
Он знал, что я – единственная связь между ним и хозяином, и глаза его – днём и ночью, ночью и днём – спрашивали одно и то же: «Когда это кончится?»
Живя бок о бок с Гармом, я не заметил, что пёс изнурён не только жарой, пока посторонний человек в клубе не сказал: «Вашему псу жить неделю-две. От него осталась одна тень». Я всполошился, принялся кормить Гарма железом и ненавистной ему хиной. Он потерял аппетит, и Виксен дозволено стало открыто лезть в Гармову миску. Даже это не волновало пса, и мы повезли его на приём к лучшему человеческому доктору в наших краях, к женщине-врачу, лечившей больных княжеских жён, и к заместителю Генерального инспектора ветеринарной службы всей Индии. Врачи спросила о симптомах, и я рассказал историю Гарма, а пёс лежал на кушетке и лизал мою руку.
– Он умирает от разбитого сердца, – сказала вдруг женщина-доктор.
– Честное слово, так и есть; миссис Макрей совершенно права, как всегда, – сказал заместитель Генерального инспектора.
Лучший в наших краях человеческий доктор назначила лечение, а ветеринарный заместитель Генерального инспектора тщательно проверил пригодность лекарств для собаки такой комплекции, и это стало первым в жизни нашего доктора случаем, когда она позволила исправлять свои рецепты. Сильное укрепляющее средство поставило любимца на ноги за пару недель, но затем он снова начал худеть. Я попросил знакомого, отъезжавшего в горы, взять пса с собой, и когда он приехал к нам в коляске, с уложенным на крыше багажом, Гарм понял всё с полувзгляда. Он ощетинился, сел передо мной и испустил самый жуткий рык – никогда не слышал такого из собачьей пасти. Я крикнул приятелю, чтобы тот немедленно уезжал, и когда коляска покинула сад, Гарм положил голову мне на колени и захныкал. Я понял его и стал узнавать адрес Стенли в горах.
В конце августа настала моя очередь ехать в прохладные места. Нам полагались тридцать дней отпуска в году, если никто не болел и если находилась замена. Шеф и Боб-библиотекарь отдыхали первыми, и когда они уехали я, как обычно, достал календарь, повесил его в изголовье кровати и отрывал листки, ожидая их возвращения. Виксен успела пять раз побывать со мной в горах; мы одинаково любили и холод, и туманы, и прелесть горящих поленьев.
– Гарм, – сказал я, – мы поедем к Стенли в Казаули. Казаули – Стенли; Стенли – Казаули.
Я повторил это раз двадцать. На самом деле, мы ехали не в Казаули, а в другое место. Но я помнил разговор Стенли в саду, в последнюю ночь, и решил не менять названия. Сначала Гарм вздрогнул; потом залаял; а потом принялся прыгать на меня, резвиться и крутить хвостом.
– Не сейчас, – сказал я, подняв руку. – Когда скажу: «Пошли, нам пора, Гарм».
Я достал шерстяную попонку и ошейник с шипами – горную одежду Виксен, защиту против порывов ледяного ветра и леопардов-разбойников
– и дал собакам понюхать и обсудить то и другое. Я, конечно же, не понял их разговора, но Гарм стал другим. Теперь глаза его горели, и он радостно лаял в ответ на мои слова. Следующие три недели он ел свой корм, и давил своих крыс, и всякое хныканье кончалось, стоило мне только произнести: «Стенли – Казаули; Казаули – Стенли». Надо было додуматься раньше.
Шеф вернулся загоревшим на вольном воздухе и очень сердитым на стоявшую на равнинах жару. В тот же день мы трое и Кадир Бакш начали собираться в месячный отпуск. Виксен запрыгивала в воловий сундук
и выпрыгивала обратно по двадцати раз за минуту, а Гарм широко ухмылялся и молотил по полу хвостом. Виксен знала рутину путешествий так же хорошо, как распорядок моей конторской работы. Она ехала на вокзал, распевая песни с переднего сидения коляски, а Гарм сидел рядом со мной. Она поспешила в вагон, наказала Кадир Бакшу застелить мне постель, дать ей воды, и свернулась калачиком, уставив глаза в тёмных пятнах-очках на грохочущий перрон. Гарм проследовал за подружкой (толпа расступалась перед ним) и сел на подушки, сверкая глазами и колотя хвостом.
Мы приехали в Амбалу жарким туманным утром; четверо-пятеро мужчин, вырвавшихся из тяжких одиннадцатимесячных трудов, выкликали возниц: пароконные дорожные коляски должны были отвезти нас в Калку
, к подножью гор. Гарму всё было в диковину. Он не знал повозок, где мог вытянуться во весь рост, но Виксен знала и немедленно нашла себе место; Гарм последовал за ней. Путь до Калки, пока не построили железную дорогу
, тянулся почти на сорок семь миль, с подставами через каждые восемь
. Норовистые лошадки лягались и буйствовали, но после принуждения ехали отменно – куда лучше знакомого Гарму спокойного гнедого, оставшегося теперь в тылу.
Перед бродом в повозку впрягли четвёрку волов, и Виксен едва не слетела в воду, высунувшись в сдвижную дверь для отдачи распоряжений. Гарм оставался удивлён, спокоен и едва ли нуждался в дальнейших уверениях о Стенли и Казаули. Под лай и визг мы докатили до ланча в Калке, и Гарм поел за двоих.
За Калкой дорога вилась по горам, и мы пересели в коляску, запряженную полуобъезженными лошадьми, которых меняли каждые шесть миль
. В те дни никто не мечтал о железной дороге до Симлы – города на высоте семь тысяч футов
. Нам предстояло проехать пятьдесят с лишком миль
; правила движения по этой дороге предписывали гнать лошадей во весь опор. Тут Виксен снова провела Гарма из одной повозки в другую, вспрыгнула на заднее сиденье и ликующе заголосила. Мы ощутили холодное дыхание снегов через пять миль
после Калки; Виксен захныкала и попросила тёплую накидку, справедливо опасаясь воспаления лёгких. Я запасся второй накидкой – для Гарма – и когда мы поднялись к свежим ветрам, одел буля; тот непонимающе пожевал новую одёжку, но, кажется, принял её с благодарностью.
«Уй-юй-юй-юй!» – пела Виксен на крутых поворотах; «Тут-тут-тут!» – ревел рожок возницы в опасных местах; «Оу! Оу!» – лаял Гарм. Кадир Бакш улыбался с переднего сиденья. Даже он был рад уехать с равнин, что варились теперь позади нас в знойном пару. То и дело во встречном мы опознавали отпускника, возвращавшегося вниз, на работу. «Как там, внизу?» – спрашивал он. «Жарче, чем на угольях. А как наверху?» – «Великолепно!» – кричал он, оборотясь, и мчался прочь, а мы продолжали путь.
Когда вдруг Кадир Бакш бросил через плечо: «Солон!», Гарм, пристроивший голову у меня на коленях, всхрапнул во сне. Солон – малопривлекательное военное поселение, но с достоинством прохладного и здорового климата. Это ветреное и голое место, где все, как правило, останавливаются перекусить на окрестном постоялом дворе. Пока Кадир Бакш готовил чай, я вышел прогуляться, прихватив обеих собак. Случившийся солдат ответил на вопрос о Стенли: «Не здесь» и кивнул в сторону лысого, одинокого холма.
Мы взобрались на вершину и обнаружили пресловутого Стенли, причину всех бед; он сидел на камне, охватив голову руками, и шинель болталась на нём, как на жерди. Сроду не видел более одинокой и тоскующей персоны, нежели этот тщедушный малый в скорбном своём раздумье на высоком сером склоне.
Тут Гарм покинул меня.
Он ушёл без слова и, насколько видел, без помощи лап. Он воспарил, полетел по воздуху, и я услышал удар, когда бросок собачьего тела напрочь снёс Стенли с камня. Они покатились по земле, крича, и воя, и обнимаясь. Я не мог различить, где человек, где пёс, пока Стенли не поднялся на ноги и не заплакал.
Он говорил мне, что страдает от перемежающейся лихорадки и сделался очень слаб. Да, так он поначалу и выглядел, но лишь за время нашей встречи и человек, и пёс словно бы налились соками и вернулись к естественным размерам, как опущенные в воду сухие яблоки. Гарм прыгал на плечо Стенли, припадал к его груди, вился у ног и всё это одновременно, так что наш разговор шёл через окутавшее солдата облако из Гарма – сопящего, рыдающего, ластящегося Гарма. Я мало что понял из этих изъявлений, кроме, пожалуй, слов о том, как Стенли считал, что он уж не жилец, но сейчас в полном порядке и теперь не отдаст пса никому рангом ниже Вельзевула
.
Затем он сказал, что хочет есть, пить и вообще счастлив.
Мы спустились к чаю на постоялый двор, и Стенли – когда Гарм не лазал по нему – поглощал сардины, и малиновое варенье, и пиво, и холодную баранину, и пикули; а потом мы с Виксен откланялись.
Гарм тотчас понял, что к чему. Он трижды попрощался со мной: дал для пожатия лапы, одну за другой; потом вспрыгнул мне на плечи. Он провожал нас целую милю, распевая осанну
во всю силу пёсьей глотки, а потом повернул назад, к своему хозяину.
Виксен пасти не раскрыла, но когда пали холодные сумерки, и мы увидели огни Симлы поперёк склонов, сунула нос за борт моего Ольстера
. Я расстегнул пуговицы и взял её за пазуху. Виксен, коротко и довольно вздохнув, быстро заснула на моей груди, и мы спешно двинулись в объезд Симлы – двое из четырёх счастливейших во всём мире созданий в эту ночь.
«Власть собаки»
Нам хватает, как будто, обычных невзгод:
Источник их – человеческий род;
Привычных невзгод не скудеет запас —
Что же за новыми гонит нас?
Братья и сёстры, на случай на всякий:
Душу свою не вверяйте собаке!
Вы купили щенка – и вот:
Любит накрепко (страсть не лжёт),
Не зависит почтение тут,
По головке погладят его иль пнут.
Пусть всё сказанное не враки,
Не стоит душу вверять собаке.
В четырнадцать (короток век у собак)
Объявятся приступы, астма иль рак,
И ветеринар даст понять вам без слов,
Что путь к усыплению, в общем, не нов,
Вы поймёте… как понимает всякий…
Но… ведь отдана ваша душа собаке!
И когда вы склонитесь над другом тем,
Что, вас визгом не встретив, затих (совсем!),
Когда чуткий к настрою, как человек,
Ушёл в собачий Эдем навек,
То, поняв, сколь преданы вы чертяке,
Отдадите душу свою собаке.
Нам хватает, как будто, обычных невзгод,
Когда близкий христианин умрёт.
И любовь – не навечно, а так, взаймы,
И проценты в срок погашаем мы.
Я верю (хоть есть исключенья, а жаль),
Что чем дольше их держим, тем больше печаль:
Раз платить придётся так ли, сяк,
То заём короткий не множит благ…
О Господь, зачем (ведь живём, однако)
Забирает душу у нас собака?
Квайкверн
Податлив, как талый снег, Восточного Льда народ:
За чашку сладкого кофе на всё для белых пойдёт.
Ворьё, драчуны живут у Западных Льдов давно.
Они к торгашам несут меха – и душу несут заодно.
С матросами торг вести привыкли у Южных льдов,
Где женщины в пёстрых лентах, где тесен и жалок кров.
Но неведомый белым род привержен Древним Льдам,
Там копья – крепкий нарвалий рог
, и Люди остались лишь там!
Перевод с инуитского
– У него уже и глаза открылись, смотри!
– Положи его опять в шкуру. Сильный пёс будет. На четвёртом месяце дадим ему имя.
– В честь кого? – спросила Аморак.
Кадлу обвёл взглядом стены снежного жилища, затянутые шкурами, и глаза его остановились на четырнадцатилетием Котуко: тот сидел на лежанке, служившей постелью, и вырезал из моржового клыка пуговицу.
– Назови в честь меня, – усмехнулся Котуко. – В один прекрасный день пёс мне пригодится.
Кадлу улыбнулся в ответ – глаза его почти спрятались за толстыми широкими щеками – и кивнул Аморак, своей жене; злющая мамаша щенка заскулила, безуспешно пытаясь дотянуться до детёныша, укрывшегося в мешке из тюленьей кожи: для тепла мешок подвесили прямо над зажженной плошкой. Котуко вернулся к прежнему занятию, а Кадлу швырнул клубок собачьей упряжи в чулан, пристроенный к жилищу, стащил с себя тяжёлую охотничью одежду из оленьих шкур, положил её на просушку в сеть из китового уса
над другой плошкой, опустился на лежанку и стал настругивать кусок мороженого тюленьего мяса, пока Аморак не принесла настоящий обед: варёное мясо и кровяную похлёбку. Рано утром он ушел к тюленьим отдушинам за восемь миль
от посёлка и сумел добыть трёх крупных тюленей. Из глубины низкого длинного туннеля, который вёл к внутренним дверям постройки, доносился визг и лязгали собачьи зубы: упряжка, закончив дневные труды, грызлась за местечко потеплее.
Когда псы чересчур расшумелись, Котуко лениво слез с лежанки и достал тяжёлый плетёный из ремня бич длиной футов в двадцать пять
. Он нырнул в коридор, и там поднялась такая возня, будто собаки решили порвать мальчугана в клочья, однако на самом деле для них это было чем-то вроде молитвы перед кормёжкой. Когда Котуко выбрался через дальний конец туннеля наружу, с полдюжины лохматых собачьих голов высунулись следом и с жадностью наблюдали за каждым шагом хозяина в сторону козлов из китовых челюстей, где подвешено было мясо для собак. Котуко разрубил мёрзлую тушу на куски с помощью копья с широким наконечником и встал, держа бич в одной руке, а мясо в другой. Каждого пса выкликал он отдельно, начав с самых слабых, и горе тому, кто сунется вне очереди: молниеносный удар бичом мог выдрать изрядный клок шерсти вместе со шкурой. Каждая псина отвечала на зов рыком, лязгала зубами и, получив свою долю, спешила назад, в коридор, а мальчуган всё вершил и вершил справедливость, стоя на снегу в мерцающем свете полярного сияния. Последним накормлен был крупный чёрный вожак всей упряжки; Котуко оделил его лишним куском мяса и лишний раз щёлкнул бичом придачу.
– А, – сказал Котуко, кольцом сворачивая бич, – у меня над плошкой греется тот, кто станет лаять громче всех. Сарпок\ (На место!).
Он пробрался назад по головам сбившейся в кучу упряжки, сбил сухой снежок с меховой одежды при помощи валька из китового уса, который Аморак держала над входом, постучал по шкурам над головой, чтобы попадали сосульки – они свешивались со снегового потолка хижины – и снова калачиком свернулся на лежанке. Собаки в туннеле храпели и поскуливали во сне, малыш, братишка Котуко, сучил ножками, ворочался и попискивал в широком меховом капюшоне Аморак, а мать щенка, получившего только что имя, пристроилась возле Котуко и всё косилась на мешок из тюленьей кожи, в тепле и покое висевший над низким жёлтым огоньком плошки.
И всё это происходило далеко-далеко на севере – за Лабрадором
, за Гудзоновым проливом
, где могучие течения несут дрейфующие льды, севернее полуострова Мелвилл
, даже севернее узкого пролива Фьюри-энд-Хекла
– на северном побережье Баффиновой Земли, где остров Байлот
, круглый, как опрокинутая форма для пудинга, высится над закованным в лёд проливом Ланкастер
. Севернее Ланкастера мало о чём известно; на ум приходят разве что названия Северного Девона
и Земли Элсмир
, но даже в этих краях
, откуда до полюса рукой подать, можно встретить немногочисленных людей.
Кадлу был инуитом
– обычно мы зовём этот народ эскимосами – и его племя, около трёх десятков душ, называло себя тунунирмиуты, что значит «страна, лежащая позади всего». Близ этих суровых мест вы найдёте на карте название Нейви-Борд-Ин-лет
(пролив Морского департамента), но название инуитов лучше, потому что их земли и вправду лежат на самых задворках мира. Девять месяцев в году там лишь лёд да снег, и буря догоняет бурю, и холод такой, какого нипочём не представить тому, кто не видел, как термометр падает хотя бы до нуля
. Шесть месяцев из девяти вокруг темно, и это всего страшней. В три летних месяца морозит через день, зато каждую ночь, и всё же снег немного оттаивает на южных склонах, карликовые ивы одеваются пушистыми почками, низенькая заячья капуста делает вид, что цветёт, берега, покрытые чудесным гравием и обкатанной галькой, выдаются в открытое море, а отшлифованные валуны вместе с изрезанными скалами выступают из-под зернистого снега. Но всё это длится лишь несколько недель, потом грозная зима вновь наваливается на сушу, а на море появляется лёд – ледяные глыбы теснятся, наползают одна на другую, бьются и трутся; вон те разлетелись, а эти сели на мель, тут рокот, там грохот – пока все не застынут, не смёрзнутся слоем в десять футов
от берега до глубокой воды.
Зимой Кадлу следовал за тюленями на край прибрежного льда и колол их копьём, когда звери высовывались из отдушин. Чтобы жить и ловить рыбу, тюленю нужна открытая вода, а сплошной лёд тянется иной раз на восемьдесят миль
от берега. По весне Кадлу и всё его племя откочёвывали с тающего льда на твёрдую землю, расставляли там свои жилища из шкур и ловили силками морскую птицу или кололи копьями несмышлёную тюленью молодь, вылезшую на берег
. Потом они сдвигались ещё южнее, на Баффинову Землю, где промышляли диких северных оленей и запасались на весь год лососиной – сотни ручьёв и озёр в глубине суши кишели рыбой – а в сентябре-октябре возвращались на север, чтобы поохотиться на мускусного быка и по-настоящему заняться тюленьим промыслом. Переходы совершались на собачьих санях
, по двадцать-тридцать миль
в день; иногда пробирались вдоль берега на больших «женских лодках»
из шкур: собаки и детишки помещались у гребцов в ногах, женщины заводили песни, и лодки скользили от мыса к мысу по гладким, как стекло, холодным водам. Все предметы роскоши тунинирмиуты получали с юга: высушенные рейки для полозьев нарт, железные прутки, чтобы делать наконечники к гарпунам, стальные ножи, котелки, в которых готовить пищу куда удобнее, чем в допотопных посудинах из мыльного камня
, кремни, огнива и даже спички, цветные ленты для женских волос, дешёвые зеркальца и красное сукно на оторочку одежды из оленьих шкур. Дорогой рог нарвала
(кремовый, витой), зубы мускусного быка (ценившиеся не дешевле жемчуга)
Кадлу продавал южным инуитам, а те, в свою очередь, торговали с моряками-китобоями или с миссионерскими постами в заливе Эксетер или у пролива Кэмбер-ленд
. Цепочка тянулась и дальше: котелок, доставшийся корабельному коку на индийском базаре в Бхенди
, мог окончить свои дни над инуитским очагом где-нибудь за Полярным кругом.
Кадлу, искусный охотник, не знал недостатка в железных гарпунах, снеговых скребках, дротиках для охоты на птиц и во всём прочем, что облегчает жизнь в краю великого холода; он был главой племени, или, как его называли, «человеком, обо всём знавшем из опыта». Никаких особенных прав это Кадлу не давало, разве что время от времени он мог посоветовать своим друзьям сменить охотничьи угодья, но Котуко пользовался положением отца, чтобы немного поважничать – с ленцой, на инуитский манер – перед другими мальчишками, когда они выходили погонять мяч в лунном свете или спеть Ребячью Песню Северной Авроре – полярному сиянию.
Но в четырнадцать лет любой инуит чувствует себя мужчиной, и Котуко наскучило ладить силки на куропаток и песцов, а ещё больше наскучило вместе с женщинами дни напролёт жевать тюленью и оленью шкуру (ничто другое не размягчит шкуру лучше), пока взрослые мужчины охотятся. Ему не терпелось побывать в квагги – Песенном Доме – куда охотники сходились, чтобы совершать таинственные обряды, где ангекок. местный шаман, задув плошки с маслом, наводил на всех священный ужас, где можно было услышать, как бьёт копытом по крыше Дух Северного Оленя
, где выставленное наружу, во мрак ночи, копьё возвращалось обагрённым свежей кровью. Ему хотелось сбрасывать тяжёлые сапоги – утомлённо, как подобает главе семейства – чтобы закинуть их в сетку над очагом, хотелось вечерами играть с другими охотниками, заглянувшими на огонёк, в доморощенную рулетку из жестянки и гвоздя. Сотнями других дел не терпелось заняться мальчугану, но взрослые лишь смеялись да приговаривали:
– Посиди сперва в перевязке
, Котуко. Охота не в одной лишь добыче.
Но теперь, когда отец назвал в его честь щенка, Котуко повеселел. Инуит ни за что не доверит сыну настоящего пса, пока мальчуган не научится как следует править ездовыми собаками, а Котуко был совершенно уверен, что знает о собаках больше всех на свете.
Не будь щенок крепким от природы, нипочём бы не выжил, так жутко его перекармливали и так безбожно гоняли. Котуко смастерил ему щенячью упряжь с постромками, гонял по всему дому и вопил: «Ауа! Я ауа!» (Направо!), «Чойягой! Я чойягой!» (Налево!) «Охаха!» (Стой!), щенку эта возня вовсе не нравилась, но она показалась сущей безделицей, когда его впервые припрягли к настоящим саням. Сперва он уселся на снег и стал теребить постромки – то, что связывает собачью упряжь с питу, главным толстым ремнём, привязанным к передку. Тут упряжка рванула, и тяжёлые сани десяти футов в длину проехались по щенячьей спинке и потащили малыша по снегу, а Котуко лишь смеялся – хохотал, пока слёзы по щекам не покатились. Потянулись долгие дни, когда бич свистел, как свистит надо льдом ветер, а собратья по упряжке наперебой кусали новичка, потому что тот всё делал не так. И упряжь натирала Котуко-псу плечи; спать рядом с хозяином ему больше не доводилось, а вместо этого досталось самое холодное место в туннеле. Для щенка наступила тяжёлая пора.
Мальчуган тоже учился, учился так же быстро, как щенок, хотя управиться с собачьей упряжкой дано не всякому. Каждого пса припрягают на отдельных постромках – тех, кто послабее, ближе к погонщику – и у каждого ремень идёт под левой передней лапой и крепится к главному ремню чем-то вроде петли и пуговицы
; постромки легко отстегнуть, мигом отцепив любую собаку. Без этого не обойтись, ведь у молодых собак ремень раз за разом попадает между задними лапами и врезается в тело до кости. И ещё собаки время от времени пробуют поболтать на бегу с приятелями, прыгают через главный ремень и путают всю упряжь. То и дело вспыхивают драки, и после них упряжь выглядит в точности как рыбачья сеть, брошенная не распутанной со вчерашнего вечера.
Многих бед избежит погонщик, если по-настоящему владеет бичом. Любой мальчишка-инуит гордится тем, как ловко он обращается с длинным ремнём, но куда легче сбить цель на твёрдой земле, чем на полном ходу перегнуться вперёд и хлестнуть по спине, точно промеж лопаток, провинившегося пса. Если прикрикнешь на одну собаку, а хлестнёшь другую, обе мигом сцепятся, и тут же вся упряжка встанет. И ещё: стоит заболтаться с попутчиком или просто затянуть песню, как сани остановятся, псы вывернут назад шеи и усядутся: им тоже охота послушать. Раза два от Котуко упряжка сбегала – он забывал закрепить сани на стоянке; он перепортил кучу постромок и несколько главных ремней, но в один прекрасный день ему всё же доверили целую упряжку из восьми собак и лёгкие сани. Тут он почувствовал себя важной персоной; носился по гладкому тёмному льду – отважное сердце, ловкие руки – так, что лёд дымился под полозьями, носился быстрее стаи гончих. Котуко уезжал за целых десять миль
к тюленьим полыньям, а там, на охотничьих угодьях, отстёгивал от питу постромки и отпускал большого чёрного вожака, самого умного пса во всей упряжке. Стоило вожаку почуять отдушину, и Котуко опрокидывал сани и поглубже вколачивал в снег пару отпиленных оленьих рогов, которые в обычном положении торчат вверх, как ручки детской колясочки: теперь упряжке было не удрать. Потом он осторожно, дюйм за дюймом, подползал к полынье и ждал, когда тюлень высунется подышать. И тут уж Котуко не мешкал: проворно метал привязанное на ремне копьё и вытаскивал тюленя на закраину льда, а чёрный вожак подскакивал и помогал перетащить тушу к саням. Собаки в упряжке выли и пускали слюни от нетерпения, и Котуко еле успевал хлестать бичом, словно раскалённым железным прутом обжигая собачьи морды, пока туша не застывала в камень. Возвращаться домой – задача не из лёгких. Нужно править гружёными санями на неровном льду, когда собаки то и дело присаживались и жадно глазели на тюленя, до которого не дотянуться. Наконец сани выбирались на гладкий, накатанный санный путь к посёлку; «туудл-ки-йи!». визжали собаки, разгоняясь по ровному льду – морды вниз, хвосты торчком – а Котуко затягивал «Ангутиваун таи-на тау-на-не та-ина». Песню Возвращающегося Охотника
, и приветственные крики провожали его от дома к дому под тёмным усеянным звёздами небом.
Когда Котуко-пёс вырос, ему тоже всё это понравилось. Он начал, драка за дракой, пробиваться на почётное место в упряжке, пока в один прекрасный вечер не сцепился на кормёжке с самим чёрным вожаком (Котуко-хозяин следил, чтобы драка была честной) и не сделал соперника, как говорится, второй мордой в упряжке. Теперь Котуко-пса припрягали на длинном ремне в пяти футах
впереди остальных собак; он обязан был пресекать любые свары – и в пути, и на отдыхе; теперь ему достался толстый тяжёлый ошейник из витой медной проволоки. В особых случаях его прикармливали варёным мясом внутри жилища, а иногда позволяли спать на лежанке рядом с Котуко. Он ловко выслеживал тюленей, а мускусного быка умудрялся удерживать на месте, бегая вокруг и покусывая зверя за ноги. Он решался даже – а для ездовой собаки это верх храбрости – решался идти на поджарого полярного волка, а волка северные псы боятся сильнее, чем любого из ходящих по снегу зверей. Пёс и хозяин – прочих собак из упряжки они за ровню себе не считали – охотились вместе день за днём и ночь за ночью: закутанный в меха мальчуган и его лютый, лохматый, узкоглазый, белозубый рыжий зверь. Вся забота инуита – прокормить себя и свою семью. Женщины шьют одежду из шкур и время от времени помогают ловить силками мелкую живность, но основную еду – а едят тут невероятно много – должны добывать мужчины. Иссякнут запасы, и ни купить, ни занять, ни выпросить пропитание не у кого. Останется только погибнуть.
Но инуиты о бедах не думают, пока те не ступят прямо на порог. Кадлу, Котуко, Аморак и малыш – тот барахтался в меховом капюшоне и день-деньской жевал катышки из тюленьего сала – были самой счастливой семьёй на свете. Они принадлежали к очень добродушному народу: инуит редко выхолит из себя и почти никогда не поднимет руку на ребёнка, ему неведома настоящая ложь, а ещё меньше знает он о воровстве. Инуиты жили, вырывая пищу из самого нутра свирепой, безжалостной стужи, улыбались масляными улыбками, рассказывали вечерами сказки о волшебных духах, наедались до отвала, после чего женщины затягивали «Амна айя, айя амна, ах! Ах!», бесконечную женскую песню, ту, что пели при свете плошек с маслом долгие дни напролёт, занимаясь починкой одежды и охотничьего снаряжения.
Но в одну страшную зиму всё обернулось против них. После ежегодной ловли лосося тунунирмиуты вернулись, и построили жилища на молодом льду к северу от острова Байлот, и приготовились начать тюлений промысел, как только море замёрзнет. Однако осень выдалась ранняя и непогожая. Весь сентябрь без продыху штормило; гладкий «тюлений» лёд взломало всюду, где он был не толще четырёх-пяти футов
, его выталкивало на сушу, и вскоре к северу от посёлка протянулся огромный барьер чуть не в двадцать миль
шириной из ледяных глыб, обломков и острых, как иглы, кусков – на санях по такому льду не проехать.
Край льда, у которого тюлени кормились рыбой, лежал ещё миль за двадцать от барьера и для тунунир-миутов стал недосягаем. Они, пожалуй, ещё смогли бы кое-как перезимовать, пользуясь запасами лососины, тюленьего жира и ставя силки на мелкую живность, но в декабре один из охотников наткнулся на тупик. жилище из шкур; там он нашёл трёх полуживых женщин и девочку-подростка; они приплыли с крайнего севера, и всех охотников-северян затёрло льдами
, когда их обтянутые шкурами охотничьи лодки ринулись в погоню за длиннорылым нарвалом. Кадлу, конечно, смог лишь разместить женщин по хижинам зимнего посёлка: ни один инуит не откажет чужаку в еде. Он помнит, что и его в любой миг может застигнуть беда. Аморак взяла себе в помощницы девочку; той было около четырнадцати. Покрой островерхого капюшона и узор из ромбов на белых сапожках оленьей кожи выдавали в гостье уроженку Земли Элсмир. Она не видывала дотоле ни жестяной посуды, ни саней на деревянных полозьях, но обоим Котуко, и мальчугану, и псу, девочка пришлась по душе.
Тем временем песцы ушли на юг, и даже росомаха – вечно недовольная тупомордая воровка полярных снегов – не считала нужным обходить вереницу пустых силков, повсюду расставленных Котуко. Племя лишилось двух лучших охотников: оба крепко покалечились в схватке с мускусным быком, потому остальным дел досталось ещё больше.
Котуко день за днём выходил на промысел, закладывая в лёгкие охотничьи сани по шесть-семь самых сильных собак; он до рези в глазах всматривался, пытаясь отыскать хоть пятнышко чистого льда, где тюлень мог, пожалуй, выскрести отдушину. Котуко-пёс рыскал окрест, и в мёртвой тишине над ледяными полями мальчик мили за три
слышал его сдавленное нетерпеливое повизгиванье, у тюленьей полыньи так же отчётливо, как если бы пёс был у него под боком. Стоило псу учуять отдушину, как Котуко сооружал возле неё невысокую снежную стенку, чтобы хоть как-то укрыться от пронизывающего ветра, и просиживал в засаде по десять, двенадцать, двадцать часов, дожидаясь, когда тюлень всплывёт подышать; он глаз не сводил с крошечной метки у края полыньи: её ставят, чтобы вернее метнуть гарпун; подстелив под ноги кусок тюленьей шкуры, Котуко стягивал их вместе тутареангом – той самой перевязкой, о которой толковали ему прежде охотники. Тутареанг не даёт ногам дрожать, когда охотник сидит и ждёт, ждёт, ждёт чтобы всплыл подышать тюлень, славящийся тонким слухом. Ничего захватывающего в таком ожидании нет, но вы, пожалуй, согласитесь с инуитами: сидеть со связанными ногами, когда на термометре чуть не сорок градусов мороза
– самая тяжкая из работ. Как только, наконец, удавалось добыть тюленя, Котуко-пёс со всех ног мчался к хозяину, волоча за собой постромки, и помогал дотащить тушу до саней, где измученные, голодные псы понуро прятались под защитой торосов.
Тюленя хватало ненадолго, ведь каждый рот в посёлке имел право на долю; от туши не оставалось ни костей, ни жил, ни шкуры. Люди ели корм, припасённый для собак, собакам же Аморак бросала обрезки шкур, которыми летом обтягивали жилища; теперь обрезки, завалявшиеся под нарами, шли в дело, и от такой кормёжки собаки всё выли и выли; псы заходились голодным воем, едва продрав глаза. О том, что голод подступает, говорил и огонь в очагах. В сытые времена, когда жира вдосталь, пламя над корытцами из камня поднималось фута на два – жаркое, весёлое, маслянистое. Теперь огонь едва достигал шести дюймов
; Аморак неусыпно следила за меховым фитилём и приминала его, когда огонь невзначай разгорался ярче, чем следовало, и вся семья с тревогой следила за её рукой. Темнота и так окружает любого инуита шесть месяцев кряду, вот почему так страшна ему темнота, вот почему от тусклого пламени дрожь и смятение пробираются в душу.
Но худшее ждало впереди.
Ночь за ночью ненакормленные собаки рычали и лязгали зубами в своём туннеле, подползали к выходу взглянуть на холодные звёзды и принюхаться к свежему ветру. Стоило смолкнуть собачьему вою, и воцарялась тишина, тяжёлая, плотная, как заваливший двери сугроб, и люди слышали стук крови у себя в ушах, слышали, как бьётся сердце: звуки были громкими, как удары в шаманский бубен над снежной гладью. Как-то ночью Котуко-пёс, весь день бывший в упряжке непривычно хмурым, вдруг подскочил и ткнулся носом в колени Котуко. Котуко потрепал пса, но тот продолжал слепо совать морду вперёд и вилял хвостом. Проснувшийся Кадлу ухватил пса за крупную, как у волка, голову и в упор посмотрел в остекленевшие глаза. Пёс поскуливал, словно боялся чего-то, и дрожал между коленями Кадлу. Потом шерсть на загривке у Котуко-пса вздыбилась, он зарычал, будто почуял у дверей чужака, и вдруг зашёлся в радостном лае, стал кататься у ног хозяина и по-щенячьи покусывать его за сапог.
– Что с ним? – спросил Котуко, которому сразу стало не по себе.
– Это хворь, – ответил Кадлу. – Собачья хворь. Котуко-пёс задрал морду и безудержно завыл.
– Раньше я такого не видел. А что теперь будет? – спросил Котуко.
Кадлу слегка пожал плечами и двинулся в угол, где лежал его короткий охотничий гарпун. Взглянув на охотника, здоровенный пёс снова взвыл и опрометью кинулся по коридору, а остальные собаки шарахнулись кто куда, давая ему дорогу. Оказавшись снаружи, пёс бешено залаял, словно взял след мускусного быка, и всё так же, с лаем, прыжками, ужимками скрылся с глаз. Это была не водобоязнь, пёс просто повредился рассудком
. Холод, голод и, главное, мрак подействовали на собачий разум, а захворай хоть один пёс в упряжке, и дальше болезнь переносится со скоростью лесного пожара. На другой день на охоте заболела ещё одна собака – стала кусаться, биться в постромках – и Котуко тут же прикончил её. Потом большой чёрный пёс, ходивший прежде в вожаках, вдруг залаял, словно учуял след северного оленя; когда его отцепили от питу, он тотчас вцепился в глотку ближайшему торосу и тут же, прямо в упряжи, удрал вослед молодому вожаку. После этого собак запрягать не решались. Они могли понадобиться для другого, и сами это чувствовали; хотя их держали на привязи и кормили с руки, в глазах псов застыли страх и отчаянье. Словно затем, чтобы стало совсем худо, старухи вспомнили сказки про духов и объявили, что им виделись призраки погибших в прошлую осень охотников, и призраки эти предрекали ужасные напасти.
Котуко грустил о потере своего пса сильнее, чем о чём-либо другом: инуит страшно прожорлив, но умеет и голодать. И всё же голод, мрак, стужа, жизнь среди льдов подорвали силы мальчугана: в ушах его зазвучали голоса, стали мерещиться люди, которых на самом деле и в помине не было. Однажды ночью Котуко, без толку сидевший десять часов кряду у тюленьей отдушины, снял с ног перевязку и побрёл к посёлку; он сильно ослабел, голова его кружилась, он решил передохнуть и опёрся спиной о камень, чудом державшийся на ледяном выступе. Своим весом Котуко нарушил баланс: он едва успел отпрянуть, и каменная глыба, тяжело качнувшись, с пронзительным скрежетом сползла по ледяному откосу.
Этого для Котуко было достаточно. Его давным-давно убедили, что в каждой скале, в любом камне живёт хозяин (инуа); обычно считалось, что он похож на одноглазую женщину, торнак, и если такая торнак захочет подсобить человеку, то покатит ему вослед свой каменный дом и спросит, согласен ли он на её покровительство (летом, в оттепель, ледяные опоры подтаивают, и каменные глыбы катятся то здесь, то там, так что нетрудно понять, откуда появилась мысль о живых камнях). В ушах Котуко теперь, как и весь тот день, стучала кровь, и он решил, что торнак из камня говорит с ним. Добравшись домой, он был уже совершенно уверен, будто имел с ней долгую беседу, а так как все соплеменники считали такую вещь вполне возможной, то перечить Котуко никто не стал.
– Она мне сказала: «Я выпрыгну, выпрыгну на снег из своего дома», – кричал Котуко, посунувшись вперёд и обводя чуть освещённое жилище запавшими глазами. – Она сказала: «Я поведу тебя», Она сказала: «Я поведу тебя к славным тюленьим отдушинам». Завтра я отправляюсь в путь, и торнак поведёт меня.
Тут вошёл ангекок, шаман, и Котуко всё рассказал ему ещё раз. От повторения история хуже не стала.
– Следуй за торнаит (духами камней)
, и они добудут нам хорошей еды, – сказал ангекок.
Девочка с севера последние дни лежала возле огня, ела совсем мало, а говорила и того меньше, но когда Аморак и Кадлу на следующее утро снарядили для Котуко небольшие санки, чтобы тянуть их самому, без собак, нагрузили на них охотничьи доспехи сына и столько тюленьего жира и мороженого мяса, сколько смогли выделить, девочка взялась за лямку и храбро зашагала рядом с Котуко.
– Твой дом – мой дом, – объявила она, когда санки на костяных полозьях загремели, запрыгали у них за спиной в непроглядной полярной тьме.
– Мой дом – твой дом, – согласился Котуко, – но я думаю, что мы с тобой на пути к Седне.
Седной зовётся Владычица Подземелий, а инуиты верят, что каждый умерший целый год проводит в её страшных владеньях, прежде чем отправиться в Квад-липармиут, Блаженный Край, где нет морозов и где по первому зову подбегают жирные северные олени.
В посёлке не смолкали крики:
– Торнаиты говорили с Котуко. Они покажут ему чистый лёд. Он снова привезёт нам тюленя.
Голоса скоро растаяли в пустой ледяной мгле, а Котуко с девочкой плечом к плечу налегали на лямки, тянули тяжеленные санки или на руках переносили их через льды, двигаясь в сторону Ледовитого океана. Котуко уверял, что торнак из камня велела ему идти на север; на север они и шли, глядя на Туктукджунг – Созвездие Оленя, которое мы зовём Большой Медведицей.
Ни одному европейцу не проделать и пяти миль
в день по этому скопищу глыб и островерхих торосов. Но наши путники умели точным поворотом руки обвести санки вокруг тороса, единым рывком перебросить их через трещину во льду, они знали, сколько силы надо вложить в один-два удара наконечником копья, чтобы проложить путь в ледяном заторе, когда казалось, что дело безнадёжно. Девочка молчала, шла, упрямо нагнув голову, и мех росомахи, окаймлявший её горностаевый капюшон, наполовину скрывал скуластое смуглое лицо. Небо висело над ними чёрным бархатом, лишь на горизонте виднелись полосы, будто нарисованные алой индийской краской, и крупные звёзды сияли там, словно уличные фонари. Время от времени зеленоватая волна полярного сияния прокатывалась в пустоте поднебесья, вздувалась, как флаг на ветру, и пропадала, а то с треском мчался из тьмы во тьму метеор, оставляя за собой пучок искр. В такие мгновенья им виделись вздыбленные, изборождённые ледяные поля, преображённые странными красками: багрянцем, медью, синевой; в привычном же свете звёзд всё казалось одинаково застывшим и серым. Сентябрьские шторма, как вы помните, разбили и искорёжили лёд у берегов, и теперь всё здесь напоминало застывшее землетрясение. Всюду зияли трещины, овраги, целые провалы не меньше доброй каменоломни; глыбы и осколки льда примёрзли к дотоле ровным ледяным полям, виднелись обломки старого тёмного льда, загнанные напором ветра под ледяной панцирь и снова прорезавшиеся наружу, рядом теснились обкатанные ледяные валуны, зубчатые гребни из нанесённого ветром снега, наконец, ложбины площадью тридцать-сорок акров
, опущенные на пять-шесть футов
ниже уровня льдов. Даже с небольшого расстояния торосы можно было принять за тюленей, моржей, перевёрнутые сани, группу охотников или огромного десятиногого Духа Белого Медведя; казалось, фантастические формы вот-вот оживут, а между тем не слышно было ни звука, ни намёка на эхо, ни малейшего шума. И в этой тишине, в этом безлюдье, где лишь всполохи внезапного света разрезали тьму, чтобы вновь в ней раствориться, – лишь санки и двое путников, навалившихся на лямки, двигались, как движутся предметы в ночном кошмаре – в кошмарном конце света на краю света…
Когда силы их покидали, Котуко строил то, что 119 охотники называют «полудомом»: совсем крошечную снежную хижину, куда путники забирались, прихватив походный светильник, и пытались разморозить тюленье мясо. Выспавшись, они снова трогались в путь и делали до тридцати миль в день, чтобы сместиться на пять миль
к северу. Девочка всё время молчала. А Котуко то бормотал что-то под нос, то затягивал одну из песен, которым научился в Песенном Доме – песен летних, какие звучат на оленьей охоте или на ловле лосося – ни месту, ни времени года они никак не соответствовали. Иногда он объявлял, что слышит, как торнак ворчит на него, тогда Котуко яростно карабкался на сугроб, размахивал руками и что-то угрожающе вопил. Сказать по правде, в ту пору Котуко был на грани помешательства, но северянка верила, что дух-охранитель укажет ему путь, и всё будет хорошо. Поэтому её ничуть не удивило, когда в конце четвёртого перехода Котуко, чьи глаза пылали угольями, сказал, что торнак следует за ними по снегам в облике двухголовой собаки. Девочка взглянула, куда указывал Котуко; что-то действительно мелькнуло в лощине. Это что-то вовсе не походило на человека, но всякий знает, что торнаит любят прикинуться медведем, тюленем и так далее.
Это мог быть сам десятиногий Дух Белого Медведя или что-нибудь другое – Котуко и девочка так изголодались, что на зрение полагаться уже не могли. Они никого не поймали в силки, не видели и следов дичи с тех пор, как покинули посёлок; пищи оставалось едва на неделю, а вдобавок надвигался шторм.
Полярный шторм может бушевать дней десять кряду, а оказаться в это время без крова равносильно смерти. Котуко построил снежный дом, достаточно просторный, чтобы туда влезли и санки (отрезать себя от припасов – не самое разумное), а когда он вставлял на место последний неровный кусок льда – замковый камень на крыше – то заметил, что в полумиле от постройки с небольшой глыбы льда на него уставилось Нечто. В туманной дымке казалось, что Нечто было сорока футов в длину и десяти в вышину, с двадцатифутовым
хвостом; все очертания расплывались и дрожали. Девочке тоже привиделось Нечто, и она не вскрикнула, не ахнула, а тихо сказала:
– Это Квайкверн
. Что теперь будет?
– Он будет со мной говорить, – ответил Котуко. И нож для резки снега дрогнул в его руке, ибо даже верящий, что страшные, уродливые духи к нему расположены, редко желает, чтобы его ловили на слове. Квайкверн, кстати, это призрак огромной собаки без зубов и без шерсти; считают, что он живёт на крайнем севере, а в прочих местах является перед тем, как случится что-то важное. Дух может объявиться и к добру, и не к добру, но даже шаманы избегают говорить о Квайкверне. Именно он насылает на собак безумие. Как и у Духа Медведя, у него несколько лишних ног – их то ли шесть, то ли восемь – а Нечто, маячившее в тумане, имело гораздо больше ног, чем нужно любой обычной собаке.
Котуко и девочка не мешкая юркнули в хижину. Пожелай Квайкверн до них добраться, он в пыль разнёс бы снежный свод над их головами, но всё же куда спокойнее было знать, что целый фут
снега отгораживает путников от зловещей тьмы. Свист штормового ветра походил на паровозный свисток; ветер дул три дня и три ночи, он ни на миг не сменил направления и ни на минуту не стих. Путники придерживали коленями каменную плошку, жевали полу-оттаявшее тюленье мясо и поглядывали на потолок, где за семьдесят два часа вырос изрядный слой сажи. Девочка ещё раз проверила остатки еды на санках – оставалось дня на два, не больше – а Котуко осмотрел железные наконечники к привязанному на тросик из оленьих жил гарпуну, нож, которым свежуют тюленя, и дротик для охоты на птиц. Больше заняться было нечем.
– Скоро мы уйдём к Седне, совсем скоро, – прошептала северянка. – Через три дня ляжем и отправимся к ней. Где же твоя торнак! Спой ей песню ан-гекока. пусть придёт.
Котуко затянул пронзительные, с завываньями, колдовские песни, и буря медленно улеглась. Он ещё пел, когда девочка вздрогнула, приложила к ледяному полу хижины руку в рукавице, а потом приникла к полу ухом. Котуко последовал её примеру, оба замерли, стоя на коленях и глаз не сводя друг с друга: они изо всех сил вслушивались. От обруча на птичьем силке, что лежал на санках, мальчуган отломил тонкую пластинку китового уса, разгладил её, опустил в лунку на ледяном полу и слегка утопил рукавицей. Китовый ус оказался почти таким же чутким, как стрелка компаса, ребята перестали вслушиваться и смотрели теперь только на кончик уса. Пластинка чуть дрогнула – самой незаметной на свете дрожью – поколебалась несколько секунд, потом замерла и задрожала вновь, на сей раз указывая в другую сторону.
– Слишком рано! – сказал Котуко. – Где-то далеко-далеко взломало лёд.
Девочка взглянула на пластинку и покачала головой.
– Это большой лёд, – сказала она. – Прислушайся, лёд под нами дрожит.
Когда они снова опустились на колени, то услышали странное глухое ворчанье, и толчки шли теперь прямо снизу. Казалось, будто слепой щенок повизгивает в мешке над очагом, а временами чудилось, словно на льду ворочают тяжёлый камень; то всё гудело, как барабан, то звук был слабый, глуховатый, как если бы где-то вдали затрубили в рог.
– Лёжа мы к Седне не уйдём, – сказал Котуко. – Это большой лёд. Торнак обманула. Мы погибли.
Сказанное может показаться нелепым, но наши друзья и вправду оказались лицом к лицу с опасностью. Трёхдневный шторм погнал глубинные воды Баффинова залива
к югу, и они залили край обширного ледяного поля, простиравшегося от острова Байлот к западу. Одновременно сильное течение, огибающее пролив Ланкастер с востока, принесло на себе мили и мили того, что в этих краях зовётся паковым льдом
: ледяные глыбы, не смёрзшиеся в единое целое. Эти глыбы бомбардировали сплошной лёд, затопленный и местами подмытый штормовым морем. То, что слышали Котуко и девочка, было причудливым эхом ледовой битвы, вершившейся миль за тридцать, а то и сорок
, и пластинка из китового уса дрожала от тех же сотрясений.
Инуиты говорят: никто не знает, чего ждать, когда лёд проснулся после долгой зимней спячки; ледяные глыбы меняют форму почти так же быстро, как облака в небе. Этот шторм был настоящим весенним штормом, только налетел он раньше срока, и ждать от него можно было всего.
И всё же у путников отлегло от сердца. Если взломался большой лёд, то ждать и мучиться уже недолго. Духи, гоблины, ведьмы в ледолом собираются вместе, значит, к Седые можно отправиться бок о бок с этими загадочными существами, а такая мысль воодушевляет. Кода после шторма они покинули хижину, гул на горизонте нарастал с каждым мгновением, а крепкий лёд стонал и трещал вокруг.
– Оно всё ещё ждёт, – сказал Котуко.
На вершине сугроба не то стояло, не то сидело восьминогое Нечто, впервые возникшее три дня назад, и жутко завывало.
– Пойдём за ним, – сказала девочка. – Может, оно знает путь, что ведёт не к Седне.
Она схватилась за лямку, но задрожала от слабости. Нечто медленно заковыляло. Неуклюже карабкаясь на ледяные гребни, Нечто держало путь к западу, к суше, и ребята двинулись следом. А глухой гром от краёв льдины становился всё ближе. Береговой лёд на три мили
в ширину трещал и разламывался во всех направлениях, огромные льдины в десять футов шириной и площадью от нескольких ярдов до двадцати акров
сталкивались, ныряли, громоздились одна на другую или на не взломанный ещё край ледяного поля – и всё под ударами могучих волн, что сотрясали льдины и с пеной прокатывались меж ними.
Льдины-тараны составляли, так сказать, передовой отряд, брошенный морем на битву с береговыми льдами. Неумолчный грохот и удары ледяных глыб почти заглушали жуткий скрежет, с каким море загоняло куски пакового льда под крепкий ещё пласт – так поспешно суют игральные карты по край скатерти. На мелководье пласты льда громоздились один на другой. Нижние взрыхляли ил на пятидесяти футах
глубины, и прозрачные волны отступали перед заиленными льдинами, пока новый напор не гнал их снова вперёд. Вдобавок к береговому и паковому льду шторм и течение принесли айсберги – настоящие плавучие горы; они плыли от берегов Гренландии или от северного побережья залива Мелвилл
. Айсберги двигались величаво, разбивали волны в белую пену; они надвигались на ледовые поля, словно флот былых времён под всеми парусами. Иной айсберг, готовый, казалось, сокрушить целый мир, беспомощно садился на мель, опрокидывался и валился в прихватившую ила пену, вздымая тучи мерзких брызг, в то время как другой, совсем не такой высокий и крупный, врезался в край ледового поля, раскидывал во все стороны тонны обломков и застревал, лишь пропахав борозду чуть не в милю
длиной. Одни горы обрушивались на лёд подобно мечу и прорубали каналы с рваными краями, другие рассыпались градом многотонных обломков, и те долго катались и крутились меж торосами. Иные льдины, сев на мель, дыбились, громоздились над морем, кривились, точно от боли, тяжко валились набок, и через них перехлёстывали волны. Льдины сдвигались, сцеплялись, кружились, носились, принимали самые причудливые формы – и так повсюду, сколько хватало глаз, до самого северного края ледового поля. С того места, где были Котуко и девочка, эти потрясения казались лишь лёгкой рябью на горизонте, но с каждой минутой рябь приближалась, а со стороны земли слышались тяжёлые удары, словно где-то вдалеке била в тумане артиллерия. Это значило, что ледовое поле прижато к железным утёсам острова Байлот, земли, лежавшей к югу.
– Такого раньше никогда не было, – отупело и недоумённо повторял Котуко. – ещё рано. Почему лёд взломало сейчас?
– Пойдём за ним! – воскликнула девочка, указав на Нечто, которое бежало, хромая и рыская, впереди. Они побрели следом, волоча за собой санки, а шествие льдов громыхало всё ближе и ближе. Наконец ледовое поле треснуло, и трещины звёздами потянулись во все стороны, а потом разверзлись и залязгали, как волчьи пасти. Но там, где остановилось Нечто, на пригорке из старого льда в каких-нибудь полусотне ярдов
, движения не было. Котуко яростно рванул вперёд, и потащил за собой северянку, и достиг подножья холма. Лёд грохотал вокруг всё громче и громче, но холм стоял недвижимо, и когда девочка взглянула на Котуко, тот выбросил вперёд и вверх правый локоть – так инуиты показывают твёрдую землю, остров. Хромое восьминогое Нечто и впрямь вывело их на твёрдую землю, на гранитный островок с песчаной отмелью, лежавший недалеко от побережья; остров был так скрыт, скован, замаскирован льдом, что самый зоркий глаз не отличил бы его среди береговых льдов, и всё же под ногами теперь была твёрдая земля, а не раскалывающийся лёд. Ледовое поле дробилось, куски льда отлетали, раскалывались, разламывались, отмечая границу острова; спасительная отмель вдоль северного берега отводила в сторону натиск тяжеленных льдин, как отваливает пласт плуг на пашне. Оставалась, конечно, опасность, что какая-нибудь сдавленная со всех сторон ледяная громада взметнётся и начисто снесёт вершину острова, но Котуко и северянку это не пугало; они построили снежную хижину и принялись за еду под грохот и шипение льдин на отмели. Нечто исчезло, и Котуко, пристроившись возле плошки на корточках, гордо вещал о своей власти над духами. Прямо посреди его несуразных рассуждений девочка рассмеялась и стала раскачиваться взад-вперёд.
Из-за её плеча потихоньку, очень-очень медленно в хижину просунулись две головы: чёрная и рыжая; головы принадлежали двум самым виноватым и пристыженным псам, каких только можно представить. Одним был Котуко-пёс, другим – чёрный вожак. Оба раздобрели и выглядели лучше некуда, они совершенно пришли в себя, но были связаны друг с другом невиданным образом. Когда чёрный вожак удрал, на нём, как помните, осталась вся упряжь. Вероятно, он где-то повстречал Котуко-пса, они затеяли игру или драку, и плечевая лямка вожака зацепилась за витую медь ошейника Котуко, да так крепко, что ни одному из псов не дотянуться было до ремня зубами, чтобы его перегрызть; собачьи шеи оказались связанными воедино. Именно это, а также возможность вволю поохотиться для собственного брюха, их и вылечили. Оба были в полном здравии.
Северянка подтолкнула смущённых псов к Котуко и воскликнула сквозь брызнувшие от смеха слёзы:
– Вот он, Квайкверн, который вывел нас на твёрдую землю. Смотри: вот восемь ног, а вот и две головы!
Котуко перерезал упряжь и освободил собак, и оба пса, рыжий и чёрный, бросились к нему на грудь, чтобы объяснить, как именно они исцелились. Котуко провёл рукой по округлым, подёрнутым жирком собачьим бокам.
– Они нашли еду, – улыбнулся он. – Не думаю, что теперь мы скоро попадём к Седне. Их прислала моя торнак. Хворь их покинула.
Закончив приветствовать Котуко, оба пса, последние несколько недель вынужденные спать, есть и охотиться бок о бок, немедленно вцепились друг другу в глотку, и в хижине разгорелась отменная драка.
– Голодные псы драться не станут, – заметил Котуко, – они нашли тюленей. Давай спать, Еда у нас будет.
Когда они проснулись, у северного берега островка море очистилось, а лёд унесло в сторону суши. Нет ничего слаще для инуитского уха, чем шум прибоя, потому что он возвещает близкую весну. Котуко и девочка взялись за руки и улыбнулись. Свободный, ровный рокот прибоя среди льдов напомнил им ловлю лосося, охоту на оленя, запах цветущих карликовых ив. Было ещё так морозно, что прямо на глазах море между плавучими льдинами стало затягиваться корочкой льда, зато над горизонтом пылала багровая полоса – отсвет утонувшего солнца. Это больше походило на то, как если бы солнце зевнуло во сне, чем на настоящий восход, и хотя свет лился всего несколько минут, он значил, что солнце повернуло на лето. И этого, чувствовали они, ничто изменить не сможет.
Обоих псов Котуко застал снаружи, они цапались над тюленьей тушей: шторм пригнал к берегу рыбу, а тюлени пришли следом. Этот тюлень стал первым из двух или трёх десятков тех, что приплыли к острову за день, и пока море не схватилось окончательно, сотни чёрных голов маячили на мелководье и среди плавучих льдин.
Было очень здорово снова отведать тюленьей печёнки, и до краёв наполнить плошку жиром, и смотреть, как на три фута
вверх взлетает пламя. Но как только молодой лёд окреп, Котуко и северянка нагрузили полные санки, запрягли собак и заставили их тянуть так, как псы ни разу в жизни не тянули: и подумать было страшно, что могло за это время случиться в посёлке. Погода была такой же ненастной, как обычно, но тянуть санки, гружёные едой, куда веселее, чем охотиться на пустой желудок. Они зарыли в лёд на берегу двадцать пять освежёванных тюленьих туш и теперь спешили к своим. Котуко объяснил собакам, что от них нужно, и псы сами отыскали дорогу; хоть и не было на пути приметных мест, но через два дня упряжка лаяла у посёлка Кадлу. Всего три собаки залаяли в ответ, остальных съели, и в жилищах было почти темно. Но когда Котуко завопил «Оджо\» (варёное мясо), послышались слабые голоса, а когда он перекликнул жителей поимённо, все, к счастью, оказались налицо.
Часом позже в жилище Кадлу ярко пылали плошки, согревался растопленный снег, котелки напевали песенки, а с потолка даже закапало; Аморак приготовила угощение для всего посёлка, её малыш грыз кусок зернистого тюленьего жира, а охотники медленно и методично до отвала наедались тюленьим мясом. Котуко и северянка рассказывали, что с ними приключилось. Два пса сидели промеж них; когда одного из псов называли по имени, тот настораживал ухо, но вид сохранял весьма смущённый. Инуиты считают, что раз собака повредилась умом и всё же поправилась, хворь ей больше не грозит.
– И торнак про нас не забыла, – говорил Котуко. – Налетел шторм, лёд взломало, и тюлени приплыли за рыбой – за рыбой, которую нагнало штормом. Теперь свежие тюленьи отдушины в двух днях пути. Пусть лучшие охотники пойдут туда завтра и привезут тюленей, которых я добыл: двадцать пять туш зарыто во льду. Когда мы их съедим, пойдём на большой лёд за другими.
– А чем займёшься ты! – спросил шаман таким голосом, каким обращался прежде к одному лишь Кадлу, самому богатому их тунунирмиутов.
Котуко посмотрел на северянку и невозмутимо ответил:
– Мы будем строить дом.
И указал рукой на северо-запад от жилища Кадлу, потому что именно там полагается строить жилище женатому сыну или замужней дочери.
Девушка повернула руки ладонями вверх и немного удручённо покачала головой. Она была не из местных, её подобрали голодной, и ей нечего было принести в дом.
Аморак мигом вскочила с лежанки, на которой сидела, и стала бросать на колени девушке разные разности: каменные плошки, железные скребки для шкур, жестяные котелки, оленьи шкуры, расшитые зубами мускусного быка, н настоящие стальные иголки, какие в ходу у моряков, – отличнейшее приданое, какого можно только пожелать на краю Полярного круга; северянка склонила голову чуть не к самому полу.
– Этих тоже возьми! – рассмеялся Котуко, и по его знаку оба пса ткнулись холодными носами в лицо невесте.
– Так, – важно откашлялся ангекок. давая понять, что теперь он всё обдумал. – Как только Котуко вышел из посёлка, я отправился в Песенный Дом и сотворил заклинание. Я колдовал все эти длинные ночи, призывая Дух Оленя. Это от моих песен разгулялся шторм, разломавший льды, это они привели к Котуко собак, когда лёд чуть не переломал ему кости. Моя песня пригнала вслед за разбитыми льдами тюленей. Телом я был в квагги. но дух мой витал надо льдами и направлял Котуко и псов на всё, что они совершили. Я сделал всё это.
Все объелись и впали в дрёму, поэтому никто не возразил, и ангекок взял ещё кусок варёного мяса и лёг спать рядом с остальными в тёплом, ярко освещённом, пропахшем жиром доме.
* * *
Потом Котуко, бывший, как многие инуиты, отличным рисовальщиком, нацарапал все свои приключения на длинном и плоском куске моржового клыка с дырочкой на конце. Когда они с молодой женой отправились на Землю Элсмир – в год Чудесной Тёплой Зимы – он оставил костяную пластинку Кадлу, а то потерял её летом, когда его сани разбились на берегу озера Неттилинг в Никосиринге
; озёрный инуит нашёл её следующей весной и продал на Имигене
человеку, бывшему толмачом на китобойном судне в заливе Кэмберленд, а тот сбыл её Хансу Олсену, нанявшемуся позднее старшиной-рулевым на большой пароход, возивший туристов на Нордкап, в Норвегии. Когда туристский сезон окончился, пароход стал ходить между Лондоном и Австралией с заходом на Цейлон, и там Олсен продал кость сингалезскому
ювелиру за два поддельных сапфира. Я же обнаружил её под мусором возле дома в Коломбо
– и перевёл с начала до конца.
Ангутиваун тайна
Это весьма вольный пересказ Песни Возвращающегося Охотника, которую мужчины имеют обыкновение спеть после охоты с копьём на тюленя. В инуитских песнях слова повторяют много-много раз подряд.
К рукавицам мёрзлая липнет кровь,
Шкура греет, пусть снег на ней!
Он попался нам – тюлень, тюлень
С края ледовых полей.
Ау джана! Ауа! Оха! Хак!
Псы визжат: торопись, живей!
Бич неукротим, мы домой летим
С края ледовых полей!
К тюленьей лунке подкрались мы —
Он здесь, внизу, ей-ей!
Мы сделали метку и стали ждать
У края ледовых полей.
Подышать он всплыл – сверху вниз копьё
Лети, разит – эгей!
Мы добыли его, мы добыли его
У края ледовых полей!
К рукавицам коркой пристыла кровь,
Сквозь пургу правим бег саней,
Возвращаемся вновь к своим жёнам мы
С края ледовых полей.
Ау джана! Ауа! Оха! Хак!
Псы визжат: торопись, живей!
Жёны слышат, как их мужья спешат
С края ледовых полей!
Пёс Херви
Мой друг Эттли, который отдал бы собственную голову, скажи вы ему, что потеряли свою, раздавал шестимесячный помёт щенков Беттины, и полдюжины женщин были в восторге от зрелища на лужайке Миттлхема.
Мы тянули жребий: миссис Годфри выпало первое место, ее замужней дочери – второе. Я был третьим, но отказался от своего права, потому что уже принадлежал Малахии
, родному брату Беттины, которого привёз на машине навестить его племянников и племянниц, и он убил бы их всех, если бы я взял домой хоть одного. Милли, младшая дочь миссис Годфри, приняла мой отказ с восторженным визгом, а Эттли повернулся к смуглой, с землистой кожей и безвольным ртом девушке, которая пришла поиграть в теннис, и пригласил ее выбрать. Она надела пенсне, которое сделало её похожей на верблюдицу, неуклюже опустилась на колени, потому что была длинной от бедра до колена, тяжело вздохнула и осмотрела последнюю пару.
– Думаю, мне бы понравился этот песочно-пёстрый
, – сказала она.
– О, только не он, мисс Сичлифф! – воскликнул Эттли. – Его придавили
, или у него был солнечный удар, или что-то в этом роде. В питомнике прозвали Дурнем. Вдобавок, он косит.
– Думаю, это довольно привлекательно, – ответила она.
Ни Малахия, ни я никогда раньше не видели косоглазого пса.
– Это хорея, пляска Святого Витта
, – вставила миссис ГодсЬои. – Его следовало утопить.
– Но мне нравится выражение его морды, – настаивала девушка.
– Он не выглядит здоровяком
, – сказал я, – но, допускаю, его можно подлатать.
Мисс Сичлифф покраснела; я увидел, как миссис Годфри обменялась взглядом с замужней дочерью, и понял, что сказал что-то неподходящее.
– Да, – продолжила мисс Сичлифф дрожащим голосом, – у него не очень хорошая жизнь, но, возможно, я смогу… подлатать его. Подойдите сюда, сэр.
Уродливое создание, пошатываясь, направлялось к ней, косясь на собственный нос, пока не упало на собственные передние лапы. Тут, к счастью, Беттина метнулась через лужайку и напомнила Малахии об их щенячьем детстве.
Вся их семейка странная, как лента на шляпе у Дика
, и цапаются они, как муж с женой. Мне пришлось их разнимать, и миссис Годфри помогала мне, пока родичи не уединились под рододендронами и не затихли.
– Вы знаете, кем был отец этой девушки? – спросила миссис Годфри.
– Нет, – ответил я. – Она противная сама по себе. Дышит ртом.
– Он был врачом на пенсии, – объяснила она. – Обычно подбирал буйных молодых людей на стадии раскаяния, отвозил их домой и латал до тех пор, пока они не становились достаточно здоровыми, чтобы их можно было застраховать. Затем выгодно страховал их и снова выпускал в мир – с прежними наклонностями
. Конечно, никто не водился с ним при жизни, но дочери он оставил кучу денег.
– Строго законно и в высшей степени респектабельно, – сказал я. – Но что за жизнь для дочери!
– Зря так вышло! Теперь вы понимаете, что только что сказали?
– Прекрасно; и теперь, когда вы сделал меня совершенно счастливым, может быть, мы вернёмся в дом?
Когда мы добрались до него, все были внутри, заседали в комитете по именам.
– А как вы назовёте своего? – я услышал, как Милли спросила мисс Сичлифф.
– Харви, – ответила та. – Соус Харви
, ты же знаешь. Он должен стать крепким, когда я… – она увидела миссис Годфри и меня, подойдя к застеклённой двери, – когда наберётся сил.
Эттли, человек добронамеренный, чтобы успокоить меня, спросил, что я думаю об этом имени.
– О, оно великолепно, – бросил я наугад. – Х-а-р…
– Но это же «Крошка Бинго»
! – сказал кто-то, и все засмеялись.
Мисс Сичлифф, сложив руки на длинных коленях, протянула:
– Вам всегда надо проверять цитаты.
Выпад не был любезным, но что-то в слове «цитата» заставило автоматическую часть мозга работать над некой тенью слова или фразы, которая оставалась вне досягаемости памяти, как кошка после прыжка собаки. Когда я собирался домой, мисс Сичлифф подошла ко мне в сумерках, со щенком на поводке, размахивая большими туфлями, висевшими на теннисной ракетке.
– Простите, – сказала она грубым голосом мальчишки-школьника. – Простите за то, что сказала о проверке цитат. Знаю вас не слишком близко, и… В общем, хочу познакомиться.
– Но вы были совершенно правы насчёт Крошки Бинго, – ответил я. – Перебор букв должен был мне его напомнить.
– Да, конечно. Перебор букв, – сказала она и нагнулась к ковылявшему следом щенку. Снова ум потревожило нечто, имевшее бы смысл, если правильно расставить буквы. По пути домой я поделился трудностями с Малахией, но Беттина покусала его в четырёх местах, и псу было не до того.
Несколько недель спустя Эттли заехал навестить меня, и, прежде чем его машина остановилась, Малахия дал знать, что Беттина сидит рядом с шофёром. Он поприветствовал её за шиворот, когда она спрыгнула вниз; а я поприветствовал миссис Годфри, Эттли и большую корзину.
– Вы должны мне помочь, – устало сказал Эттли.
Мы вынесли корзину в сад, и из неё, пошатываясь, появилась угловатая тень песочно-пёстрого терьера с растрепанной шерстью, с одним слабоумным и одним безумным ухом и парой премерзко косящих глаз. Беттина и Малахия, уже сцепившиеся на лужайке, увидели щенка, не тронули и разбежались в разные стороны.
– Зачем вы привезли сюда этого вонючего пса? – спросил я.
– Харви? Чтобы вы о нём позаботились, – сказал Эттли. – У него была чумка, а я уезжаю за границу.
– Возьмите его с собой. Я его не вынесу. У него психическое расстройство.
– Послушайте, – почти выкрикнул Эттли, – я что, выгляжу придурком?
– Постоянно, – подтвердил я.
– Ну, раз вы так говорите, и Элла так говорит, это доказывает, что мне следует уехать за границу.
– Уилл ошибается, совершенно ошибается, – перебила его миссис Годфри, – но вы должны забрать щенка.
– Милый мой, милый мой, никогда ничего не давайте женщине, – фыркнул Эттли.
Понемногу я вытянул из них эту историю в тихом саду (ни единого звука от Бегтины и Малахии), в то время как Харви глядел на меня исподлобья, сначала одним глазом каракатицы, а затем другим.
Оказалось, что через месяц после того, как мисс Сичлифф забрала Харви, у него развилась чумка. Мисс Сичлифф некоторое время сама ухаживала за ним; затем пронесла на руках две мили
до Миттлхема и плакала – на самом деле плакала – у ног Эттли, говоря, что Харви – это всё, что у неё было, или чего она ожидала в этом мире, и Эттли должен вылечить его. Эттли, будучи по богатству, положению и темпераменту опекуном всех хромых собак, отложил всё ради этой сомнительной работы, и, как он утверждал, мисс Сичлифф фактически жила у него с тех пор.
– Она, конечно, уходила домой ночевать, – взорвался он, – но в остальное время была здесь безвылазно. Видит бог, я не привередлив, но это был скандал. Даже слуги… Три и четыре раза в день, а в промежутках-записки, чтобы узнать, как там зверёныш. Чёрт возьми, не смейтесь! И хочет послать мне цветы и золотых рыбок. Неужели я выгляжу так, будто мне нужны золотые рыбки? Вы двое не могли бы остановиться на минутку? (Мы с миссис Годфри цеплялись друг за друга в поисках поддержки.) – И это ведь не значит, что я был… был такой привлекательной личностью, не так ли?
Эттли пользуется большим доверием, доброй волей и привязанностью, чем большинство мужчин, ибо он тот редкий ангел, абсолютно бескорыстный холостяк, который доволен, что им управляют соперничающие синдикаты ревнивых друзей. Его положение казалось отчаянным, и я сказал ему об этом.
– В немедленном бегстве ваше единственное спасение, – таков был мой вердикт. – Я позабочусь об обеих ваших машинах, пока вас не будет, а вы можете прислать мне все тепличные фрукты.
– Но почему эта верблюдица гонит меня из собственного дома? – причитал он.
– О, прекратите! Прекратите! – всхлипнула миссис Годфри. – Вы оба ошибаетесь. Я признаю, что вы правы, но знаю, что вы не правы.
– Три и четыре раза в день, – сказал Эттли с ужасным выражением лица. – Я не тщеславен, но… Послушайте, Элла, надеюсь, я не чувствителен, но если вы хотите обратить это в шутку…
– Ой, замолчите! – почти закричала она. – Вы хоть на мгновение представляете, что друзья когда-нибудь выпустят Миттлхем из рук? Вполне согласна, что взрослой девушке неприлично приезжать в Миттлхем в любое время дня и ночи…
– Сказал же вам, что она по вечерам уходит домой, – проворчал Эттли.
– Особенно если по вечерам она уходит домой. О, но подумайте о том, какую жизнь она, должно быть, вела, Уилл!
– Я в это не вмешиваюсь, только она должна оставить меня в покое.
– Возможно, она захочет подлатать вас и застраховать, – предположил я.
– Знаете, кто вы? – миссис Годфри повернулась ко мне с улыбкой, которой я боялся последнюю четверть века. – Вы славный, добрый, мудрый, собачий друг. Вы не знаете, каким мудрым и милым должны стать. Уилл послал Харви к вам, чтобы завершить выздоровление бедного ангела. Вы всё знаете о собаках, иначе Уилл не сделал бы этого. Он написал ей об этом. Вы слишком далеко, чтобы она могла ежедневно навещать вас. Возможно, она будет заходить два или три раза в неделю и писать в другие дни. Но не имеет значения, чем она займётся, потому что Миттлхем вам не принадлежит, разве не понимаете?
Я сказал ей, что вполне понимаю.
– О, вы справитесь с этим через несколько дней, – возразила миссис Годфри. – Вы великодушный, ответственный друг пса, который…
– Сначала он и на меня так смотрел, – сказал Эттли с заметной дрожью, – но через некоторое время бросил. Это только потому, что вы для него новичок.
– Но чёрт бы вас побрал! Этот упырь… – начал было я.
– А когда он совсем выздоровеет, вы отправите пса прямо к ней с любовью, и она подарит вам хорошенькую четырёххвостую золотую рыбку, – сказала миссис Годфри, вставая. – Всё улажено. Машину, пожалуйста. Мы вместе едем в Брайтон
отобедать.
Они умчались прежде, чем я успел сделать шаг, поэтому я сказал псу Харви, что думаю о них и его хозяйке. Он так и не сдвинулся с места, но уставился на меня пристальным косым взглядом, глаза в глаза. Малахия подошёл, проводив сестру, и издали посоветовал мне утопить эту тварь и снова общаться с джентльменами. Но пёс Харви даже не навострил своего свисшего уха.
И так продолжалось до тех пор, пока он был со мной. Там, где я сидел, он сидел и смотрел; там, где шёл. он шёл пялом, чопопно склонив голову на олно плечо в одноствольном созерцании меня. Он никогда не высовывал язык, никогда не приближался для ласки, редко позволял мне сделать шаг в одиночестве. И, к моему изумлению, Малахия, который не позволял чужаку жить у нас во вратах
, увидел, как этот измождённый, растущий зеленоглазый дьявол без единого стона выгнал его с моей службы и из компании. Действительно, можно было бы сказать, что ситуация его заинтересовала, потому что он встречал нас, возвращающихся вместе с мрачных прогулок, и попеременно смотрел на Харви и на меня с тем же трепетным интересом, который проявлял у входа в крысиную нору. Вне этих проверок Малахия замкнулся в себе, как это может сделать только собака или женщина.
Мисс Сичлифф пришла через несколько дней (к счастью, меня не было дома) с какой-то замысловатой историей об оплате звонков по соседству. На следующий день она прислала мне благодарственную записку. Я читал её, когда вошли Харви и Малахия и, как обычно, заняли позиции: Харви приблизился, чтобы посмотреть на меня, Малахия наполовину спрятался под диван, наблюдая за нами обоими. Из любопытства я ответил на пристальный взгляд Харви, затем положил его кривобокую голову на колено и несколько минут смотрел псу в глаза. Теперь в глазах Малахии я могу в любой час увидеть всё, что есть в нормальной славной собаке, испещрённой здесь и там той напряженной половинчатой душой, какую человеческая любовь и общение добавили к её природе. Но у Харви взгляд был прикован, как у измученного человека. Только заглянув в самые его глубины, можно было разглядеть дух настоящего животного, затуманенный и съежившийся под каким-то несправедливым бременем.
Легатт, мой шофёр, явился за приказаниями.
– Как, по-вашему, идут дела у Харви? – спросил я, поглаживая подёргивающуюся шею пса. Ветеринар предупредил меня о возможных спинальных нарушениях после чумки.
– Не пёс моей мечты, – был ответ. – Но мне нет дела до него, пока не сижу с ним в одной комнате.
– Почему? Он кроток, как Моисей
, – сказал я.
– У меня от него просто мурашки по коже. Возможно, у него будут припадки.
Но Харви, как я время от времени писал его госпоже, благоденствовал, а когда ему становилось лучше, играл сам с собой в жуткие шпионские игры: подходил, окликал и гонялся за другой собакой. От них он внезапно отрывался и возвращался к своей обычной негнущейся походке с видом человека, который забыл некую суть жизни и смерти, до которой можно было дознаться, только уставившись на меня. Однажды вечером я оставил его позировать с невидимкой на лужайке и зашёл внутрь, чтобы закончить несколько писем для почты. Должно быть, я пробыл за делом почти час, потому что собирался включить свет, когда почувствовал, что в комнате есть кто-то, с кем, как предупредили вставшие дыбом волосы на затылке, мне ни в малейшей степени не хотелось встречаться. На стене висело зеркало. Когда я поднял на него глаза, то увидел отражение пса Харви рядом с тенью у закрытой двери. Он стоял, вытянувшись на задних лапах, чуть склонив голову набок, чтобы освободить диван между нами, и смотрел на меня. Морда с нахмуренными бровями и сжатыми губами была собачьей, но взгляд, на ту долю времени, что я его ловил, был человеческим – полностью и ужасно человеческим. Когда кровь моя снова пошла по жилам, пёс плюхнулся на пол и уже просто изучал меня в обычной одноглазой манере. На следующий день я вернул его мисс Сичлифф. Не выдержал бы его ещё хоть день ни за сокровища Азии, ни даже за одобрение Эллы Годфри.
Дом мисс Сичлифф, как я обнаружил, был особняком середины викторианской эпохи, особо мерзким даже в свои дни
, окруженным садами несочетаемых цветов; все они сверкали стеклом и свежей краской на железных деталях. Полосатые жалюзи в это жаркое осеннее утро закрывали большую часть окон, и голос пел под пианино почти забытую песню Джин Инглоу
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70986127?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Сноски, обозначенные числами, см. в «Примечаниях» (примеч. перев.).
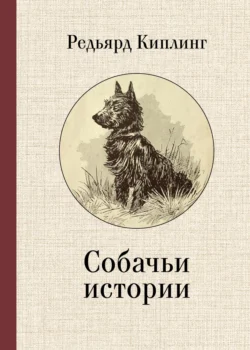
Редьярд Джозеф Киплинг
Тип: электронная книга
Жанр: Зарубежная поэзия
Язык: на русском языке
Издательство: Алетейя
Дата публикации: 22.08.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Книга представляет собой сборник рассказов и стихотворений Киплинга, объединённый общей темой: взаимоотношениями людей и собак. Здесь и служба, и дружба, и любовь, и, увы, предательство. Иногда о собаках рассказывает человек, иногда о себе и о людях рассказывают сами собаки. Многие обстоятельства и условия жизни за сто лет неузнаваемо переменились, разобраться в них читателю помогут обширные примечания переводчика. Но главное понятно и без примечаний: у всех живых существ общности больше, чем различий. Нам надо только вглядеться – и не задаваться. В переводе С. Сапожникова это желание чувствуется. Часть рассказов ранее на русский язык не переводилась. Впечатление дополняют иллюстрации Дж. Л. Стампы, выполненные к первым изданиям 1930-х годов.