Метафизика опыта. Книга III. Анализ сознательных действий
Метафизика опыта. Книга III. Анализ сознательных действий
Шедворт Ходжсон
В «Анализе сознательных действий» автор возвращается к изучению сознания, которое рассматривалось как непосредственный опыт в первой книге. Однако этот возврат происходит с новым пониманием реального агента и его роли в формировании сознания, полученным в ходе изучения позитивных наук во второй книге. Такой подход позволяет автору углубить анализ сознания, рассматривая его не изолированно, а как часть более широкого контекста человеческого действия и взаимодействия с миром.
Метафизика опыта
Книга III. Анализ сознательных действий
Шедворт Ходжсон
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Шедворт Ходжсон, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-2582-8 (т. 3)
ISBN 978-5-0064-2252-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава I. Реинтеграция[1 - Объединение того, что прежде распалось]
§1. Общий обзор книги III
Главный результат, полученный в результате анализа книги II, состоит в том, что теперь мы можем привести определенную идею реального агента и реальной обусловленности в психологии в связь с ранее полученным различием между сознанием как знанием и сознанием как существованием. Другими словами, теперь мы можем плодотворно сочетать психологические и метафизические понятия и метод. Нейронные процессы, как мы видели, непосредственно обусловливают поток витков сознания, сначала в его характере простого существования, а затем в его характере знания, то есть панорамы объективного мышления, в той мере, в какой это зависит от сопоставления, отстранения или объединения частей или моментов потока существования. Качества или свойства конечных частей или моментов, из которых состоит поток и, следовательно, панорама как экзистенция, являются (как мы уже видели) конечными данными в познании, которые не могут быть объяснены никакими реальными условиями. Их существование в отдельных сознательных существах объясняется нейронными процессами в этих существах; но именно в этих самых качествах или сущностях, которые не могут быть так объяснены, в конечном счете заключается природа нашего сознания в целом; и точно так же те из них, которые непосредственно и изначально обусловлены ре-интегративными процессами, я имею в виду, прежде всего, эмоции, являются конечными составляющими умственного и морального сознания отдельных существ, чьи нейронные процессы обусловливают их существование, и которым, следовательно, принадлежит это сознание.
На протяжении всей настоящей книги необходимо будет постоянно помнить об этой двойной связи реально обусловливающего агента и процесса, во-первых, с фактическим существованием компонентов сознания, а во-вторых, с их природой, насколько она зависит от соединения или расположения частей, а не от специфического и конечного качества их составляющих. Мы увидим, что это различие прольет свет на несколько фундаментальных вопросов философии, сложность которых скорее увеличивалась, чем уменьшалась методами их рассмотрения, существовавшими до сих пор. Например, процессы, составляющие реальное действие в воле, и, следовательно, проблема свободы воли, относятся к чисто психологической связи между нейронным процессом и существованием обусловленных им процессов-содержаний сознания. С другой стороны, те явления, которые составляют природу и ценность действий, как морально правильных или неправильных, принадлежат к связи между нейронным процессом и природой (а не существованием) процессов-содержаний сознания, существование которых в данных случаях нейронный процесс может либо обусловить, либо не обусловить. Анализ этих явлений, таким образом, в последней инстанции является не психологическим, а метафизическим, представляя собой анализ определенных конечных фактов или данных опыта.
Мы сразу же осознаем те черты в том, что называется сознательным действием, которые делают его правильным или неправильным; наше восприятие их является непосредственным восприятием его моральной природы. Но само действие, то есть действующий в нем агент, мы никогда не осознаем сразу; это известно нам только по умозаключению и относится, как уже было показано, к нейронному механизму (так его можно назвать), от которого зависит существование сопутствующего сознания. Обе эти вещи, действие, которое является объектом умозаключения, и моральная природа зависимого сознания, которое воспринимается сразу же, входят и фактически исчерпывают все явления сознательного действия. Но из них первое относится к психологии этих явлений, второе – к их метафизике. Держать эти два класса явлений, а следовательно, и две области умозрения, к которым они принадлежат, четко разграниченными в мысли, как необходимое условие демонстрации их взаимосвязи, – вместо того, чтобы сваливать оба вместе, как принадлежащие одному неделимому агенту, и, следовательно, подводить оба одинаково под власть психологии, – таков метод, ясно предписываемый анализом двух вышеупомянутых книг. Необходимо подчеркнуть это двойное различие, эту двойную связь между субъектом и его опытом, потому что в «Анализе сознательного действия», который сейчас перед нами, мы фактически возвращаемся к анализу сознания просто как опыта, который мы оставили в конце книги I., хотя возвращаемся к нему обогащенными концепцией реального агента и агентства, обусловливающего сознание, что было конечным результатом нашего экскурса в область позитивных наук, который занял книгу II. Мы оставили анализ сознания просто как опыта в той точке, где выяснилось, что он дает знание о материальном мире и об индивидуальном сознательном существе как постоянном центральном объекте в нем. Мы прекратили его, чтобы проследить за подсказкой, которую дала нам концепция реальных условий и процесс реального обусловливания; и мы последовали за этой подсказкой, проследив в Книге II. операции материальных объектов как таковых, а также как реальные условия панорамы сознания, с анализа которой началось все наше исследование, и в которой, как оказалось, содержатся все доказательства существования и природы материального мира. Теперь мы снова возвращаемся к анализу сознательного опыта, но начинаем с другой его фазы: оставляем позади анализ представленных ощущений и материального мира и переходим к анализу представленных ощущений и чувств, возникающих вместе с ними в процессе реинтеграции. Что означает реинтеграция, было достаточно ясно изложено в заключительном разделе Книги II, «Сознательное существо», чтобы мы могли сразу перейти к описанию и анализу ее феноменов, не задерживаясь на ее контрастах с представлениями чувств.
В то же время очевидно, что результаты, достигнутые в Книге II, дают нам преимущество в нашем предполагаемом анализе, которого мы не имели в Книге I; я имею в виду, что они дают нам ясное, хотя и общее представление о природе и реальности субъекта, а также о процессах, которые являются ближайшими реальными условиями его сознания, как в области реинтеграции, так и в области представленных ощущений. От этого преимущества мы ни в коем случае не должны отказываться, анализируя феномены сознания, которые сейчас перед нами. Каким бы несовершенным и общим ни было наше знание этих реальных условий, оно является незаменимым средством контроля нашего анализа состояний и процессов сознания, которые от них зависят, и, таким образом, в некоторой степени проверки его результатов с помощью побочных свидетельств. Как в двух предыдущих книгах мы могли ставить рядом и созерцать вместе материальные объекты, о которых думали, и наши собственные объективные мысли, которые их представляли, так и здесь, в настоящей книге, мы сможем созерцать, бок о бок с нашими поездами объективной мысли, состояния и процессы нейронного механизма, которые являются не их объектами, а их реальными условиями. В любом случае некоторые реальные объекты, о которых мы думаем, являются дополнением к сознательному опыту, который является нашим непосредственным объектом анализа. В прежних книгах (за исключением их психологических частей) это дополнение состояло из реальных объектов, о которых думали, которые были отдаленными реальными условиями анализируемого сознания; в настоящем оно состоит из тех, которые являются его ближайшими реальными условиями. Но в обоих случаях именно анализируемое сознание дает нам истинную природу, в смысле тенденции, ценности и значения, тех реальных условий, от которых оно зависит.
У них нет и не может быть ничего другого. Дерево познается по его плодам. Кроме того, необходимо отметить, что наш сегодняшний анализ, дополненный обращением к реальным условиям анализируемых явлений, будет иметь ретроспективное значение. Он поможет заполнить позитивным знанием ту лакуну, которую мы были вынуждены оставить открытой в первой книге, описывая формирование наших знаний о материальном мире. Реинтеграция, спонтанная и добровольная, к которой относится и рассуждение, является важнейшим фактором формирования этого знания. Но в книге I. мы должны были принять этот факт как известный, оставив обоснование и объяснение его для будущего случая. Теперь частично это обоснование и объяснение уже дано в книге II, то есть в той мере, в какой оно показывает реальность нейронных процессов, от которых зависит реинтеграция. Частично их еще предстоит дать в настоящей книге, показав анализ спонтанной и добровольной реинтеграции в той мере, в какой они являются процессами в пределах непосредственного сознания. Для целей настоящей работы достаточно обратить внимание на этот факт, не пытаясь определить психологию процессов, посредством которых наши знания о материальном мире либо приобретаются, либо расширяются, более подробно, чем это уже было сделано. Продвижение в этом направлении почти полностью зависит от развития знаний в области анатомии и физиологии нейро-церебральной системы, огромной области, в которой новые факты постоянно появляются благодаря исследованиям неврологов.
Настоящая работа, с благодарностью принимающая и стремящаяся использовать результаты, уже полученные физиологической психологией, тем не менее исключает из своих рамок изучение какой-либо специальной науки, за исключением тех случаев, когда она связана с философией; то есть, с одной стороны, за исключением тех случаев, когда она имеет дело с реальными условиями сознания, как только что упоминалось, и с другой стороны, когда ее собственные фундаментальные концепции или предположения требуют контроля субъективного или метафизического анализа сознательного опыта, чтобы привести их в систематическую гармонию. В той точке, которой мы сейчас достигли в этом анализе, мы стоим между двумя группами специальных наук. Мы оставили, так сказать, позади себя группу позитивных наук, рассмотренных в целом в Книге II, и перед нами группа практических наук, возникших как науки о практике, которые являются науками, имеющими дело с некоторой отраслью или отраслями сознательного человеческого действия, то есть действия, которое сразу же сопровождается эмоциями, знанием, выбором и целью, и поэтому является сложным, в том смысле, что те его элементы или участки, которые сразу же сопровождаются сознанием цели, оказывают влияние на изменение других участков или элементов в нем, и таким образом способствуют определению последовательности и направления целого.
Основное деление этой группы – на этику и логику, первая из которых рассматривает целенаправленное действие в самом широком смысле, то есть включая все специальные отрасли практики, насколько это касается цели, на которую они направлены и по которой они отличаются друг от друга; а также рассуждение, как действие, направленное на установление истины факта, входящее во все другие сознательные занятия или отрасли практики в качестве познавательного элемента в них, и способное в этом инструментальном характере быть правильно или неправильно направленным, и достигать большей или меньшей степени совершенства. Короче говоря, Этика включает в себя Логику в той мере, в какой Сезонность является целенаправленным действием, а Логика включает в себя Этику в той мере, в какой Практика является рациональным и познавательным действием. Не то чтобы оба вида действия не подчинялись законам природы, ибо они неизбежно должны подчиняться им, поскольку в основе своей состоят из физиологических процессов; но они выделяются в особый класс этих процессов благодаря тому обстоятельству, что сознание, с которым они связаны, включает в себя восприятие цели, более или менее отчетливо осознаваемой, благодаря чему они становятся тем, что правильнее всего называть как перспективными, так и самоизменяющимися действиями. Теперь характерное отличие практической науки от позитивной или спекулятивной заключается в этом перспективном и самоизменяющемся отношении к действию, которое является ее объектом. Как и другие науки, она основана на анализе, анализе своего объекта. Наука о практике – это наука, которая начинается с анализа практики. Но поскольку это перспективное и самоизменяющееся отношение действия является существенной характеристикой, которая делает его объектом специальной науки, то есть является его особенностью, которую эта наука выбирает для изучения, из этого следует, что каждая наука о практике должна рассматривать цели, задачи, которые ставит или может поставить перед собой практика, являющаяся ее объектом, а также законы природы, которым она подчиняется как физиологическое действие. Он должен учитывать не только то, чем практика является и должна быть de facto, как физиологическое действие, подчиняющееся законам природы, но и то, что лучше или желательнее всего, чтобы она была, то есть, на какие цели, задачи или задачи она должна быть направлена, в рамках этих законов природы; рассмотрение основывается на ранее приобретенном опыте и на практических предписаниях, вытекающих из него.
Таким образом и повинуясь этой необходимости, практические науки сами становятся практическими науками, то есть их доктрины являются руководством к правильным действиям. Идеалы являются частью их предмета, поскольку они причастны к практике, о которой они говорят, в ее характере перспективного действия. Позитивная наука направлена просто на открытие того, что есть на самом деле, будь то в природе в целом или в человеческих действиях, которые являются частью природы. Практическая наука или наука о практике (как бы мы ее ни называли) направлена, помимо этого и в сочетании с ним, на открытие того, что является наилучшим или наиболее желательным в человеческом действии, рассматриваемом как перспективное действие, направление или цель которого еще предстоит определить. Практическая наука может быть описана на обычном языке как направленная на предоставление знаний, которые могут помочь в определении ближайших будущих действий исследователя в случаях, когда он испытывает сомнения, вместо того чтобы быть направленной на установление фактов, будь то прошлое, настоящее или будущее, которые рассматриваются как имеющие существование, независимое от его действий. В позитивных науках результат мыслится как соответствие мысли факту, в практических науках и на практике – как соответствие факта факту, в практических науках и на практике – как соответствие факта мысли. Цель первых – познание реальности, то есть истины; цель вторых – реализация идеала или предписания, то есть добра или права. Из вышеизложенного противопоставления мы видим, что особенность практической науки состоит в том, что она имеет сверх того, что содержится в позитивной науке, а именно в массе опыта, почерпнутого из предыдущих случаев практики, который может быть приведен в сознание рединтегративной мыслью и тем самым подвергнут субъективному или метафизическому анализу. Именно из сравнений и дискриминаций, полученных в результате этого анализа, вытекают и должны вытекать принципы всех практических наук. Связь этой массы опыта или любой его части с физиологическими процессами, от которых зависит их существование, при таком анализе и установлении принципов вообще не ставится под сомнение. Здесь речь идет только об анализе его как массы опыта, когда он проходит через репрезентативные или рединтегративные процессы.
Отсюда следует, что все науки о практике, или практические науки, как таковые и в таком характере являются составной частью Метафизики или Философии, в отличие от Психологии, которая является позитивной наукой. Рассматривать любую практическую науку как отрасль психологии, или, в более общем смысле, антропологии, или (так называемой) социологии, – это заблуждение самого фатального и разрушительного рода, поскольку оно денатурализирует объект, с которым она имеет дело, а именно практику, и превращает ее в свою противоположность, просто фактический процесс, подчиняющийся только законам природы, но не законам поведения, законам, предписывающим хорошее и правильное, запрещающим плохое и неправильное, законам, которые, пока им не подчиняются или когда им не подчиняются, в любом конкретном случае практики, имеют для этого случая практики только силу де-юре. Вся разница между добром и злом стирается, если рассматривать практику как объект психологии или любой ее отрасли. Физиологическая психология действительно дает половину всей теории практики, имея дело с ее ближайшими реальными условиями, но основополагающие понятия и конституирующие идеи этой теории даются метафизическим анализом, поскольку он является анализом того, чем является сама практика, или того, чем она является в непосредственном опыте.
Две большие группы – позитивные науки, с одной стороны, и практические науки, с другой, – исчерпывающим образом делят между собой все поле науки. Различие между ними глубоко и фундаментально, поскольку оно заключается в различии оснований, на которых они стоят, и конституирующих принципов, на которых они движутся. Позитивные науки стоят на основе представлений здравого смысла и движутся путем анализа объектов здравого смысла. Практические науки стоят на основе субъективного аспекта сознания или опыта и движутся путем анализа этого аспекта в области чистой реинтеграции; анализ, который является продолжением и завершением субъективного анализа опыта в целом, менее специализированная часть которого дает, как мы видели, объяснение и обоснование здравого смысла.
Восприятие объективной Вселенной и материального мира. Таким образом, как уже говорилось, практические науки являются неотъемлемой частью Метафизики или Философии, в отличие от Позитивной Науки. Тем не менее, несмотря на это обстоятельство, в одном отношении я предлагаю рассматривать практические науки в настоящей книге примерно так же, как я рассматривал позитивные науки в книге II. Иными словами, я предлагаю зайти в них не дальше, чем это необходимо для того, чтобы подвести их фундаментальные концепции (или, возможно, предположения) под микроскоп философского, субъективного или метафизического анализа, не пытаясь ни применять их в деталях, ни даже перечислить более специализированные отрасли практики, в которых они могут служить примером. Если бы я сделал больше, чем это, то вышел бы за рамки общего трактата по всему спектру философии. Но сделать это необходимо, поскольку без этого не только весь анализ реинтеграции был бы просто предметом бессмысленного любопытства, бессмысленного, по крайней мере, для философии, но и сами практические науки были бы оторваны от своих корней в непосредственном опыте и стали бы легкой добычей предпосылок случайного эмпиризма.
Возможно, следовало бы ожидать, что необходимость такого подхода будет с большей готовностью признана в случае практических, чем позитивных наук, поскольку практическое определение всех действий основывается на оценке сравнительной ценности мотивов, целей, чувств или идей, и что всякая ценность, по общему признанию, является чем-то по существу субъективным, в том смысле, что она в конечном счете и сама по себе является феноменом только сознания, то есть объективной мысли в отличие от объектов, о которых думают, как это было очевидно в предыдущей главе. Тем не менее, преобладающая трактовка как этики, так и логики является эмпирической, в той же мере, что и физики или психологии. Я имею в виду, что редко, если вообще когда-либо, возникает мысль о том, чтобы привести явления, на которых построены эти науки, в связь и сравнение с их собственным контекстом и рассматривать их как части всей панорамы объективного мышления, как оно на самом деле переживается. Ведь этика и логика обычно рассматриваются их профессорами как науки, которые уже сформированы на традиционной основе; и это, естественно, приводит к тому, что явления, которые к ним относятся, отрываются от их собственного контекста и приводятся в связь с объектами, определенными и рассматриваемыми наукой в традиционном виде, в той же форме и тем же способом, которые предписывает эта традиция. На самом деле истина заключается в том, что сами науки могут быть правильно сформированы только на основе рассмотрения явлений в их собственном контексте, то есть как части всей панорамы опыта, подвергнутой субъективному анализу. По крайней мере, до тех пор, пока это не сделано, основа или группа понятий, которые являются фундаментальными для этих наук, как и для других, остается совершенно предварительной. Явления, относящиеся к этике и логике, а следовательно, и к практическим наукам в целом, принимают совершенно различный вид в зависимости от того, рассматриваются они в собственном свете или в свете квазинаучных предположений или гипотез. Под первым я имею в виду то, что я только что назвал рассмотрением их в их собственном контексте, как частей непосредственно пережитого и непосредственно анализируемого опыта, что, другими словами, означает восприятие их как части общего объекта-вещества Метафизики. Под вторым я имею в виду рассматривать их так, как они обязательно рассматриваются в психологии, то есть как зависимые сопутствующие действия сознательных существ, без предварительного анализа (и это важный момент) того, чем они являются как части панорамы познания, и без различения их природы как переживаний от их генезиса как экзистенций. Взять их таким образом – значит молчаливо подменить сознание сознательными существами как истинным и конечным объектом-вещью данных наук, анализ которых, а не анализ сознания, определяет затем их конституирующие концепции. Ведь тем самым мы вносим концепцию сознательного существа в каждый отдельный анализ, который мы проводим, и подчиняем все его результаты этой единственной концепции, которая не является конечным фактом или данностью опыта, вместо того чтобы подчинить саму эту концепцию результатам анализа без допущений. При таком методе мы неизбежно ограничиваемся лишь описанием феноменов сознания с точки зрения здравого смысла и преграждаем путь не только к метафизическому анализу, но и к аналитической психологии, поскольку в качестве основы всех наших объяснений берется здравая концепция сознательного существа, основа, к истинному анализу которой мы никогда не мечтаем обратиться.
Но если в логике я таким образом подчиняю конечные законы мышления реальному существованию сознательного существа, которое мыслит с их помощью, я лишаю их универсальной обоснованности и применимости, поскольку тогда я рассматриваю их просто как способы, с помощью которых это конкретное существо было определено мыслить, вследствие его конкретной конституции, истории и развития, которые могли быть иными, и таким образом могли породить вместо него другое конкретное существо. Конечные законы мышления имеют универсальную и необходимую силу, потому что они являются существенными элементами буквально всех систематизированных знаний (и, следовательно, нашего представления о конкретном существе), которые являются частью сознания как субъективного аспекта всех вещей; а не потому, что они принадлежат сознанию как экзистенту среди экзистентов. Эти два аспекта сознания были четко разграничены в обеих предыдущих книгах, и это разграничение было показано как фундаментальное и неизбежное в философии. Но эти законы мышления, сформулированные впоследствии Логикой, управляют всем мышлением, а значит, и всей философией и наукой, поскольку это способы мышления; и таким образом определяют наше знание, насколько оно получено посредством мышления, обо всех объектах и обо всем существовании, что бы то ни было. Полагать, что их природа зависит от конституции конкретных экзистенций, – это самопротиворечивое представление, поскольку таким образом они представляются одновременно и в одном и том же отношении условными и необходимыми. Тот, кто полагает их зависимыми, тем самым пытается представить себе возможность иных способов мышления, чем те, которые управляются тем, что мы называем высшими законами мышления, и существ, которые мыслят некоторыми из этих других способов.
Но обе эти предполагаемые возможности совершенно невозможны, то есть их вообще нельзя представить. Я могу представить себе возможность иных способов восприятия, чем те, которыми обладают время и пространство, и иных видов сознания, чем те, которыми наделены человеческие существа. Но точно так же, как я не могу представить себя или кого-либо другого сознательным и в то же время не сознательным в течение некоторого времени, я не могу представить себя или других мыслящими и в то же время не мыслящими так, как это сформулировано логиками в виде законов тождества, противоречия и исключенного среднего. Я также не могу представить себе мышление какого-либо существа, которое может либо мыслить каким-либо иным образом, либо избегать того, чтобы о нем думали таким образом, если о нем вообще думают. Связь сознания со временем и мышления с законами мышления – это примеры неразрывных связей, которым буквально нет альтернатив. В обоих случаях стоит убрать любой из элементов союза, и единица, в которую он входит как составная часть, исчезает. Поэтому идея о том, что природа конечных законов мышления зависит от конституции конкретных существ, которые могли бы быть устроены по-другому, является химерой.
Точно так же в этике, если я подчиняю оценку индивидом сравнительной ценности его состояний сознания тому факту, что он является одним сознательным существом среди других, или даже тому, что он вообще является сознательным существом, я ставлю идею сознательного существа, которое в физиологической психологии является организмом, на место конечной цели, ??????????? ?????, всех сознательных действий, и тем самым заранее виктимизирую результаты моего этического анализа сознания, неосторожно предположив предрешенный вывод. Закон самосохранения в организмах может быть конечным законом природы, как выражение тенденции, физически необходимой для каждой органической структуры. Но из этого отнюдь не следует, что заповедь самосохранения является высшим законом морали.
Таким образом, представляется, что при использовании любого метода, кроме метафизического анализа, результаты этической и логической теории диктуются заранее, и эти науки, следовательно, становятся бесполезными, поскольку они не могут избежать воспроизведения в своих выводах тех же концепций, которые были молчаливо заложены в их предпосылках. С другой стороны, если следовать методу метафизического анализа, то, как мне кажется, станет очевидным, что логические законы имеют более глубокие корни в опыте, чем концепция субстанции или даже мыслящего агентства, концепции, для достижения которых, напротив, необходимо их наличие, и что этическая оценка ценностей имеет более глубокие корни, чем концепция сознательных существ или организмов, для достижения которой наличие этих более глубоких корней также является предварительным условием. Мы мыслим логически, прежде чем сформировать концепцию вещей или агентов; мы мыслим этически, прежде чем сформировать концепцию личности.
Таким образом, очертания задачи, стоящей перед нами в Книге III, в определенной степени прорисованы. Мы должны проанализировать, сравнить и обобщить состояния и процессы сознания, относящиеся ко всей области Рединтеграции, пока они не раскроют нам природу и метод сознательного действия и тем самым позволят нам установить фундаментальные понятия и принципы Этики и Логики, которые вместе охватывают всю ее область. Как позитивные науки были в некотором роде целью анализа в первой книге, так и практические науки будут в некотором роде целью нашего настоящего анализа. И как там мы обнаружили, что нет необходимости разбирать все виды ощущений, а можно без ущерба для общей цели опустить рассмотрение некоторых, как, например, всего класса внутренних, системных или телесных ощущений, и рассматривать их как охваченные рассуждением, примененным к отдельным случаям ощущений, которые не были определенно представлены как протяженные, или, другими словами, воспринимались как имеющие только длительность, изменение и последовательность, и таким образом занимающие время, не занимая пространства, так и здесь будет допустима подобная свобода. Нет необходимости рассматривать весь каталог образов, представлений, эмоций и страстей, которые являются явлениями или, скорее, содержанием, свойственным рединтегративным процессам, как спонтанным, так и добровольным, или пытаться определить эмоции и страсти в деталях, ссылаясь на конкретные представления, образы или концепции, с которыми они обычно сочетаются. Нашим главным объектом здесь являются законы, а не полное содержание рединтеграций, и они с достаточной ясностью проявятся при анализе процессов, которые, хотя и переживаются всегда в каком-то определенном содержании или материале, все же не зависят от конкретного содержания или материала, который время от времени является их воплощением или проводником. Поэтому, выбирая для анализа те или иные эмоции или образы, мы должны руководствоваться тем светом, который они способны пролить на принципы и методы рединтегративного процесса.
С помощью этого метода мы, как мне кажется, сможем составить некоторое определенное представление о диапазоне и силе человеческих способностей, а также о природе и границах знания, которое находится в пределах их досягаемости; кроме того, мы заложим аналитический фундамент для ответа на вопросы, которые встретятся нам в четвертой и последней книге, посвященной тому, что можно назвать конструктивной отраслью философии. В то же время мы завершим на тех же линиях и принципах метода аналитическое исследование, к которому мы приступили в самом начале Книги I. Там было установлено, что сознательный опыт дан только в форме процесса, процесса рефлексивного восприятия. Но поначалу у нас не было никакой другой подсказки, которой мы могли бы руководствоваться при попытке проанализировать содержание или ткань, из которой состоит этот процесс, кроме как начать с самого простого и переходить к рассмотрению все более и более сложных его моментов. Опять же, поначалу у нас не было причин, почему сознание переживается только как процесс. Перед нами не было ничего, кроме простого факта, что это так. Но когда исследование привело нас к пониманию того, что некоторые явления образуют группы объективной мысли, соответствующие и представляющие объекты, более или менее постоянные, которые вместе составляют мир материальных вещей и взаимодействуют друг с другом в том, что мы назвали порядком реальной обусловленности, отличным от процесса объективной мысли или просто сознания, у нас появилась подсказка для простого объяснения факта процесса в сознании.
То есть у нас было повторение феномена в измененной форме, у нас был факт другого процесса, раскрытый самим анализом, с которым мы могли привести в связь первоначально наблюдаемый факт процесса в сознании и представить их вместе как постоянно демонстрируемую гармонию между различными частями и различными видами фактов, входящих в наш общий опыт. И реальная обусловленность процесса сознания была таким образом обнаружена, само сознание приняло второй характер. К его прежнему характеру процесса во времени, который постоянно объективирует себя в актах и моментах рефлексивного восприятия, добавился новый характер реального существования, обусловленного материальными процессами, происходящими частично вне и частично внутри организма сознательного существа.
Итак, из этих материальных процессов постоянно происходят те, которые находятся внутри нейронной системы, и именно от одного большого класса этих процессов зависит рединтеграция. Ибо рединтеграция, как мы видели, – это название для всех состояний и процессов сознания, которые поддерживаются теми из нейронных процессов, которые не устанавливаются непосредственно и исключительно действием стимулов, поступающих извне нейронной системы. Фактически, единственными феноменами сознания, исключенными из реинтеграции, являются чувственные восприятия в актуальном представлении. С того момента, когда любое из них перестает быть реально представленным, его воспроизведение становится фактом реинтеграции и зависит от процессов, которые ее поддерживают. Но эти процессы, как и органы, в которых они происходят, функционально непрерывны с органами и процессами, которые поддерживают представления чувств; так что последние не только являются первоначальным источником идей, которые представляют их в рединтеграции, но и воспроизведение этих идей может быть стимулировано заново новыми представлениями чувств той же или подобной природы. Таким образом, представления чувств управляют представлениями или идеями, и в этой степени nihil in intellectu quod non prius in sensu является истиной. То, что добавляется при рединтеграции, состоит (1) из эмоций (включая желания, чувства и страсти), возникающих в сочетании с представленными образами, и (2) из спонтанных и добровольных способов упорядочения рединтегративного содержания, причем добровольный способ сопровождается и подтверждается чувством, которое должно быть классифицировано как чувство усилия или напряжения; независимо от того, берется ли это содержание рединтеграции в данных случаях как состоящее из эмоций, или образов, или обоих в единстве. Из них эмоции, страсти, спонтанно возникающие желания и спонтанные ассоциации должны быть включены в sensus вышеприведенной сентенции, если мы проведем резко определенную границу между ее sensus и ее intellectus. Но правда заключается в том, что волевые способы упорядочивания рединтегративного содержания, а также возникающие при этом эмоции, страсти, спонтанные желания и ассоциации действительно обусловлены природой и работой нейро-церебрального механизма, точнее, тех его частей и процессов, которые непосредственно поддерживают рединтеграцию. И эти части и процессы не только открыты для модификации стимулами, подающими представления извне тела, но и находятся в связи с экстранейронными тканями организма, ко многим из которых они также могут передавать стимулы посредством эфферентного нейронного воздействия.
Определяя таким образом характер и круг задач, стоящих перед нами, я хочу оставить в стороне вопрос о том, не является ли рединте-гративный нейронный организм также восприимчивым к впечатлениям, приходящим непосредственно извне, но не через нервные каналы, которые обычно служат для системных или специальных ощущений. Его восприимчивость означала бы, что он подобен органу чувств в получении оригинальных представлений, но что, в отличие от органа чувств, представления, которые он получает, могут иметь либо качество того, что мы сейчас называем представлениями, в отличие от представлений чувств, либо качество представлений чувств, если затронуты центральные окончания органов чувств. Короче говоря, он будет сразу же воспринимать, или, как некоторые называют это, интуитивно, образы или идеи, переданные ему извне, а не созданные в результате собственного воспроизведения чувственных представлений. Такая восприимчивость послужила бы готовой гипотезой, на которой можно построить объяснение реальных или предполагаемых явлений мыслепередачи и ясновидения. Физическая среда для таких восприятий и коммуникаций уже находится под рукой во всепроникающем эфире, который принято считать проводником света, лучистого тепла, электричества и магнетизма.
Признаюсь, я не вижу никакой немыслимости или внутренней невозможности в гипотезе о существовании такой восприимчивости в рединтегративном нервном организме, или такого средства восприятия и связи между одним мозгом и другим. Если справедливо предполагается, что эфирные вибрации действуют на нервы, то на физических основаниях должно быть установлено, что нервная материя способна реагировать на эфир. И если такая реакция происходит в одном специально созданном нервном органе, например, в глазу, то аналогичная реакция может, по идее, происходить, при других особых условиях, и в других нервных органах. Более того, кажется общепризнанным, что физические воздействия передаются, без непосредственного контакта, от одного организма к другому, что оказывает сильное влияние на состояния и процессы организма-реципиента. Вопрос, таким образом, относится не к передаче физического влияния, а к возможности определенных состояний или процессов сознания, сопровождающих это влияние. Может ли красный нервный организм получать впечатления, сопровождаемые сознанием, либо от подобных организмов (что является случаем переноса мысли), либо от объектов и событий в целом (что является случаем ясновидения), независимо от обычных каналов представления ощущений? Если предположить, что реальность переноса мыслей установлена, а его основные законы и процессы выяснены, легко представить, что он мог бы предложить средство для объяснения многих случаев не только кажущегося ясновидения, но и кажущегося предвидения и предсказания будущих событий. В то же время следует отметить, что весь вопрос о восприимчивости перерождающегося организма к впечатлениям, приходящим непосредственно извне, от которого зависит так много второстепенных вопросов, – это вопрос, который ожидает решения на чисто научных основаниях и чисто научными методами. Ни один из них не является вопросом, который может быть решен субъективным анализом метафизической философии. Наука должна, прежде всего, экспериментально установить факты, а затем сформулировать гипотезы и теории, объясняющие все факты, которые могут быть установлены. Эту задачу уже взяли на себя многие представители медицинской профессии, которые имеют доступ к большому количеству случаев аномальной психической работы, особенно во Франции, и которые добавили новую область гипнотизма к ранее признанным отделам медицинской науки. Эти люди, конечно, имеют дело непосредственно с фундаментальным вопросом, восприимчивостью рединтегративного механизма. Но к предмету подходили и со стороны феноменов, очевидно принадлежащих к нему, которые более популярны, поразительны, а также открыты для всех исследователей, как отдельными людьми, так и обществами, созданными, как Общество психических исследований в этой стране, с явной целью изучения всех подобных явлений. Каковы бы ни были результаты, к которым в конце концов придут те или иные исследователи, некоторые определенные выводы, несомненно, будут сделаны; успех в том или ином направлении, несомненно, увенчает терпеливые и ревностные труды их научно преследуемой задачи. Возможно, что к господству психологии добавится новый и определенный раздел, который метафизик будущего должен будет детально учитывать при попытке обоснования опыта.
§2. Некоторые ведущие характеристики реинтеграции
Мы возвращаемся, таким образом, к анализу потока сознания, процесса объективной мысли в отличие от объектов, мыслимых как материальные или как реальные условия, принимая в то же время термин мысль в широком смысле, чтобы охватить спонтанные, а также волевые элементы. И этот поток объективной мысли мы должны снова предположить, что мы испытываем в последовательно присутствующих моментах рефлексивного восприятия, что, собственно, и происходит, как было достаточно показано анализом, приведенным в книге I., где весь процесс рефлексивного восприятия, включая представления ощущений и представления вместе, был неоднократно описан, а его примеры рассмотрены.
Для того чтобы отчетливо представить перед собой наш специальный анализируемый объект, необходимо сделать еще одно ограничение: мы должны абстрагироваться от его чувственных представлений. Мы должны анализировать поток объективной мысли за вычетом его чувственных представлений, хотя и не за вычетом идей или образов, которые их представляют, а также, как уже говорилось, за вычетом эмоций, желаний, чувств и страстей, которые сопровождают эти представления. Иными словами, наш анализанд – это вся панорама объективной мысли, ее смысл и значение, сопоставленные и связанные с двумя вещами, которые мы исключаем из нее для целей анализа, – смысловыми представлениями, с одной стороны, и материальными объектами, о которых думаем, с другой, – и теми, и другими, которые, в сущности, по-разному ее создают и контролируют.
A. Линия демаркации между представлением и репрезентацией.
Поле столь обширно, что мы неизбежно должны начать наш анализ с общих соображений. И в первую очередь, где мы проводим границу между смысловой репрезентацией и реинтеграцией или репрезентацией? Эта грань достаточно ясна в теории, хотя часто трудно применима на практике. Мы не говорим, что ощущение-представление стало представлением или принадлежит к рединтегративному процессу, пока оно хотя бы однажды фактически не исчезнет из сознания и не возродится в нем вновь. Его возрождение и есть репрезентация или рединтеграция. В теории все ясно. Но теперь возьмем простой случай. Предположим, мы слышим, как кто-то произносит двустишие:
«Ахиллесов гнев, Греции страшный источник несметных бед, небесная богиня, воспой! «К тому моменту, когда мы слышим слово sing в конце второй строки, слово spring в конце первой уже перестало представляться, и восприятие рифмы связано с его реинтеграцией? Весна, конечно, потускнела от своей первой яркости, но можно ли сказать, что она совсем опустилась за порог сознания, когда пение ударяет по уху? Разные люди, возможно, решат этот вопрос по-разному. Я привожу этот пример, чтобы показать (1) что в простейших случаях, когда они проверяются на минутном опыте, разница между представлением и репрезентацией – это разница степени, а не вида, и (2) что переход от одного к другому происходит непрерывно, один и тот же или части одного и того же нервного органа задействуются в обоих случаях и сохраняют впечатление от представления, которое можно восстановить с помощью аналогичного впечатления в несколько измененном контексте. Явление, которое предстает перед нами, то же самое, с которым мы столкнулись при анализе процесса рефлексивного восприятия в книге I. Представленное ощущение начинает отступать в прошлое памяти с того самого момента, когда оно поднимается в сознание, или появляется за порогом. Я говорю не просто с момента достижения им максимальной яркости как представлением, а с момента его появления в сознании вообще, до того, как оно достигло наибольшей яркости. Это означает, другими словами, что представление включено как неотъемлемый элемент, или ингредиент, во все представления. Нервный процесс, который обеспечивает представление, сохраняет отпечаток стимула, который его породил; а сознание, которое его сопровождает, будучи также процессом, сохраняет подобие своего первого представленного момента. В этом смысле все восприятие, какое бы оно ни было, является рединтеграцией, просто потому, что это процесс; и в этом смысле репрезентация – это одна неразделенная половина или аспект презентативного восприятия; и именно с этим значением терминов мы были главным образом заинтересованы в анализе Книги I.– Следует отметить, что рединтеграция или репрезентация, как здесь описано, – это не то же самое явление, которое хорошо известно под названием «послеобразы». Это особый случай рединтеграции, случай, когда представление ограничивается той частью органа, которая непосредственно подвергается действию внешнего стимула. Эти последующие образы и их последовательности также представлены в рединтеграции, как если бы они были первоначальными представлениями.
Но ясно, что это не тот смысл, в котором следует понимать различие между презентацией, с одной стороны, рединтеграцией и репрезентацией, с другой, если оно должно быть полезным для нас в данной книге. Нам нужно такое различие, которое служило бы также разделением между обсуждаемыми явлениями, чтобы мы могли выделить одно из них для анализа.
Мы хотим включить в наш анализ одно без другого, но в то же время не упускать из виду связь между ними. Поэтому я буду придерживаться четкого теоретического разграничения, о котором говорилось выше, и применять термины «реинтеграция» и «репрезентация» только в тех случаях, когда предсенсационное чувственное восприятие ранее исчезало за порогом сознания или предполагается, что оно исчезало, а затем вновь возрождалось или вспоминалось в сознании. Для обозначения промежуточного состояния, промежуточного между угасанием и возобновлением, можно использовать термины retention, retentireness и (если позволительно такое словосочетание) retent. Разумеется, подразумевается, что это промежуточное состояние не является состоянием сознания.[2 - Очень отличается от «памяти как простой ретентивности» и от «сохраненного представления», о которых идет речь в предыдущих главах Книги I. См. подробнее по этому вопросу Книгу I. Гл. III. §3, «Собственно память, включая отступление к реальной обусловленности».]
Принадлежащий ему нервный механизм функционирует, так сказать, ниже порога. К нему относятся ретенция, ретенция и ретенции; но ретенции не являются частью сознания, хотя названия, под которыми мы можем говорить о них, являются терминами сознания, терминами, которые описывают их либо как презентации, либо как репрезентации, то есть как сопутствующие нервные процессы выше порога. Благодаря этим различиям мы, во всяком случае, будем точно знать, о каких явлениях идет речь, и сможем отделить представления и ретенции от специального объекта нашего анализа, который должен включать только репрезентации и рединтеграции.
Возможно, во избежание недоразумений следует еще раз отметить тот факт, что ни представление, ни репрезентация, строго говоря, никогда не вспоминаются и не воспроизводятся; но когда используются эти или подобные термины, их смысл заключается в том, что в новом контексте вызывается содержание сознания, которое более или менее точно напоминает другое содержание в другом контексте, причем оба этих напоминающих содержания с их контекстами распознаются субъектом как прежние и последние части его собственной единой цепи или панорамы опыта.
B. Пробелы в чистой реинтеграции.
Далее давайте посмотрим, что мы делаем и почему, исключая смысловые репрезентации из нашего специального анализа. Многим это может показаться произвольным искажением феноменов в их реальном опыте. С одной стороны, мы никогда не имеем опыта бодрствования, и, возможно, даже опыта сновидений, без постоянного присутствия и примеси чувственных представлений. А с другой стороны, абстрагироваться от чувственных представлений в опыте – значит оставить остаток фрагментарным, необъяснимым и неспособным к связности. Это совершенно верно. Но ответ заключается в том, что мы сейчас занимаемся не структурой существующих знаний и идей в целом, включая их предполагаемые объекты, а процессами сознания, которые используются отчасти для ее построения, а отчасти для реализации собственных идеальных целей, основанных отчасти на чувственных восприятиях, а отчасти на потребностях и чувствах, зарождающихся в субъекте. Мы рассматриваем не анализ, не историю и не теорию структуры и прогресса уже существующего знания. Это анализ так называемых способностей субъекта к мышлению, желанию и чувству, к которым мы хотим прийти.
Знание – это одно, а мышление – другое. Путаница между этими двумя вещами погубила не одну амбициозную философскую систему. Мысль включает в себя и бытие, и небытие в силу своего собственного принципа движения, в то время как знание относится только к бытию, ибо всякое знание о небытии есть знание о нем только как об определении внутри мысли, объективированном для себя в рефлексии, а не как о существующем объекте, о котором думают, в отличие от мысли во всей ее полноте как способа сознания. Если бы нашей целью была теория знания в том виде, в каком она существует сейчас, или если бы мы занимались какой-либо из позитивных или практических наук в их нынешнем виде, или даже если бы мы занимались эпистемологией или теорией знания в ее самом широком смысле, предполагая, что она начинается, как это и происходит на самом деле, с допущения различия между субъектом и объектом как изначально известного факта, дело было бы иным. Но поскольку мы занимаемся философией, то есть знанием опыта или сознания во всем его объеме, и начинаем с его анализа без каких-либо допущений, – знанием, которое, несомненно, будет включать в себя эпистемологию или теорию познания на своем месте, то есть когда истинное различие между субъектом и объектом будет установлено путем анализа, – наш курс должен идти по другим линиям. Таким образом, поскольку знание сознания во всем его объеме, – а это, как показали первые шаги в анализе, есть знание его как субъективного аспекта Бытия во всей его полноте, – является целью и задачей всей настоящей работы; поскольку мы, следовательно, заинтересованы в возможностях, мыслимых и немыслимых возможностях существования в целом; и поскольку мы в Книге I. Мы проанализировали представления чувств настолько, чтобы увидеть, как они способствуют нашему познанию внешних реальностей, а среди них и самих субъектов как реальных условий; представляется разумным, что теперь мы должны абстрагироваться от представлений чувств и их реальных условий в анализе, который является основой оставшейся части исследования, то есть в анализе процессов мышления, чувства и желания, зависящих от реальных сил и способностей субъекта, которые наш анализ уже раскрыл перед нами. Ибо таким образом мы представляем себе оставшуюся часть опыта в той самой форме, в которой он действительно переживается, несмотря на то, что для этого мы вырываем его из контекста уже построенной системы знаний, признаваемой знанием реальности, независимо от того, принимает ли эта система форму науки или является обычным представлением здравого смысла о людях и вещах.
Абстрагируясь таким образом от чувственных представлений, материальных объектов и реальных условий, мы ни в коем случае не исключаем их из нашего поля зрения; напротив, мы всегда стремимся указать их место и связь во всей панораме объективного мышления, рединтегративные части которого являются нашим специальным объектом анализа. Вся панорама объективной мысли, как она переживается в серии последовательно присутствующих моментов рефлексивного восприятия, – это то, что мы имеем перед собой, с намерением проанализировать те ее части, которые состоят из рединтеграций, отмечая как пробелы, не подлежащие анализу, те части, которые заняты либо представлениями ощущений, либо предполагаемым присутствием реальных объектов, о которых думают, насколько они основаны на представлениях ощущений, либо нервными процессами, о которых мы здесь и сейчас имеем основания знать, но которые не включены в сознание, которое они фактически обусловливают. Нервные процессы, по сути, исключаются из нашего анализа просто как реальные условия, независимо от того, присутствуют они в сознании или нет, но включают в себя только то, что я сейчас назвал ретенциями.
В то же время следует внимательно следить за связью между заготовками и определенными таким образом анализандами. Как уже говорилось, именно реальное существование того, что мы сейчас называем пробелами, делает понятным существование анализанды и сохраняет их связность как частей общей панорамы субъекта. Объективное мышление, как мы видели, содержит все имеющиеся у нас доказательства природы и существования любой реальности. Те части в ней, которые я сейчас назвал пустыми, вместе взятые, составляют то, что принято называть реальным миром; те, которые я выделил как анализируемые, составляют ту движущуюся картину, которая иногда проходит под названием субъективной мысли и воображения. И из этих двух половин общего процесса-панорамы опыта, заготовок и анализанд, реального мира и субъективной картины, последняя, очевидно, как целое, является представителем первого как целого; это процесс сознания, в котором и посредством которого весь реальный мир, рассматриваемый как существующая реальность, что бы он ни содержал в деталях, приводится в непосредственную связь, не как прежде, с презентирующим, а с репрезентативным и интеллектуальным знанием. Заготовки не перестают быть нашим объектом, если мы выбираем для анализа процесс, в ходе которого они проходят и вновь проходят перед нами в обзоре. Только теперь нас интересует процесс как процесс, а его содержание – как принадлежащее процессу, а не объектам, которые этот процесс представляет.
C. Время и пространство – фундаментальные формы мира объективного мышления.
Переходя, таким образом, к процессу, который теперь определенно предстал перед нами как наш непосредственный объект, прежде всего следует отметить его отношение к содержанию. Поскольку это содержание представляет реальность, очевидно, что процесс является как панорамной картиной, так и процессом. Это панорамная картина, которая имеет продолжительность во времени, в то время как ее части подвержены вечному изменению; так что последовательные моменты ее продолжительности могут быть отмечены посредством последовательных конфигураций ее частей. Рассматриваемый из любого настоящего момента, oi’ момента актуального опыта, процесс, кажется, всегда остается позади, или отступает в прошлое памяти, неся с собой последовательные плоскости или поперечные секции своего содержания, различаемые посредством их соответствующих конфигураций. В то же время оно как бы продвигается в неизвестное будущее, содержание которого дано только в тех фантазиях, которые могут быть спроецированы из удаляющегося прошлого. Это содержание, рассматриваемое из любого из тех же последовательных моментов настоящего, кажется неограниченно простирающимся во всех направлениях пространства, причем направления измеряются от общего центра, который мы можем определить как ту точку пространства внутри самого содержания, из которой остальная его часть кажется рассматриваемой в любой данный момент времени. Обычно, конечно, эта центральная точка находится в теле субъекта, который обычно представляется как центральный объект панорамы. Содержание всегда имеет длительность, что означает его существование во времени; а процесс всегда имеет пространственную протяженность, по крайней мере для существ, наделенных зрением и осязанием, что означает его существование в пространстве. Таким образом, время и пространство – это две фундаментальные формы, в которые отливается весь наш сознательный опыт; и из них время – самая необходимая, поскольку ни одно восприятие не может быть представлено без длительности, и ни одно переживание не является процессом. Время – это конечная связь всех явлений, во-первых, тех, которые имеют длительность или только длительность и последовательность, и, во-вторых, между ними и теми, которые являются особым содержанием пространственной панорамы. Эти слова, по крайней мере в отношении существ, наделенных зрением и осязанием, могут служить для того, чтобы показать зависимость процесса-содержания рединтеграции от представления ощущений. С точки зрения Мысли мы можем представить себе существ без этих органов чувств, и тогда нам будет трудно вообразить, что они имеют опыт чего-либо пространственно протяженного. В то же время для существ, у которых они есть, становится очевидной причина, по которой их рединтеграции обычно имеют тенденцию принимать живописную форму, и, следовательно, почему все, что мы пытаемся точно представить, мы облекаем в формы, заимствованные из пространства; как, например, когда мы представляем время,
и явления, которые занимают только время, под образом линии или потока, имеющего направление в пространстве. Причина этого двояка: во-первых, потому, что форма пространства, данная в зрительном восприятии, позволяет нам в один момент сознания соотнести друг с другом неопределенно большое число различных явлений, и, во-вторых, потому, что благодаря тесному сочетанию зрения с осязанием, в восприятии тех реальных существ, которые являются также реальными условиями, все явления, каковы бы они ни были, которые мы соотносим друг с другом в форме пространства, тем самым также приводятся в мыслительное отношение к миру действительности.
Таким образом, мы строим для себя mundus intelligibilis, или мыслительный мир, из явлений объективной мысли, явлений, перешедших в объективную мысль из чувственных представлений, причем чувственные представления являются одним из двух видов пробелов, о которых говорилось выше в нашем непосредственном объекте анализа. И опять-таки, через этот мыслительный мир и из него прошли, после проверки посредством чувственного представления, все те реальные объекты, о которых мы думали, которые по умозаключению заняли для нас свое место в мире реальности, как одновременно реальные экзистенции и реальные условия, которые были нашими заготовками второго рода. Иными словами, мы впредь думаем об этих умозаключенных и проверенных объектах как о имеющих существование, независимое от процесса мышления, посредством которого было получено наше знание о них.
Более того, мы можем удерживать эти объекты, чтобы рассуждать о них как о реальности, связывая их либо с общими именами и определениями, либо с математическими символами, последние из которых позволяют нам иметь дело с ними как с отдельными существами, индивидуализированными их временными и пространственными отношениями как ad intra, так и ad extra, с бесконечно малой точностью, но без использования какого-либо образного воображения в процессе рассуждения; Поскольку мы имеем в именах или в символах, привязанных к ним по ассоциации, верное средство вновь вызвать их в образном мышлении и как бы перевести символы в то, что по ассоциации они символизировали. Непременным условием истинности любого вывода, сделанного любым из этих символических методов, логическим или математическим, является то, что фраза или символ, выражающие этот вывод, должны быть переводимы в образное представление, или, другими словами, интерпретируемы для мысли. В противном случае говорят, что она стала воображаемой, а ее значение – нереальным. Эта связь имен и символов с образностью или содержанием рединтеграции является связью между рассуждениями формальной логики, с одной стороны, и математическими рассуждениями, которые являются вычислениями во всем их объеме, с другой стороны, с образными рассуждениями обычной жизни, которые изначально являются неотъемлемым спутником рединтегративных процессов. Я, конечно, далек от мысли, что это использование имен и символов применимо только к проверенным реальностям. Напротив, поскольку именно их характер как объектов, о которых думают, делает его применимым к ним, очевидно, что он может быть применен к любому объекту, о котором думают, реальному или только воображаемому, который мы можем счесть нужным или быть вынужденными самим процессом выразить именем, определением или символом. Таким образом, вся основа реинтеграции, все ее содержание, как реальное, так и нереальное, охватывается как логическими, так и математическими процессами.
С другой стороны, мир разума, или мир мысли, который мы строим из явлений объективной мысли, отделяя его от этих систем символизма, логических и математических, и содержащий незаполненные пробелы, о которых мы говорили, является, таким образом, миром предварительных образов, концепций, и гипотез, построенных на основе чувственных представлений и их форм времени и пространства и ожидающих, в одних случаях, проверки, предоставляемой чувственными представлениями, в других – конкретного заполнения своих абстрактных скелетов представленными или репрезентированными деталями, в третьих – решительного волевого решения. Это мир внутри, или, возможно, я должен сказать, за пределами мира реальности; мир возможностей и концепций, которые актуальны как мысли, но еще не известны как вещи. И все же это тот самый мир, который является единственным миром, непосредственно присутствующим, непосредственно переживаемым человеком, рассматриваемым как рациональное, то есть активное, мыслящее и эмоциональное существо; единственный мир, который в сознании непосредственно связан с мыслью и волей; мир, через который только он имеет связное знание, в полном смысле слова, о любой реальности.
Доказательство того, что мир, к которому относится это связное знание, действительно является реальностью в полном смысле этого слова, состоит в том, что в субъекте могут возникать представления, которые, строго говоря, не являются воспоминаниями, то есть простым воспроизведением какой-либо части его собственного предыдущего опыта, но все же имеют характер, который можно проверить с помощью чувственных представлений, и относятся к объектам, несуществование которых было бы несовместимо с ранее проверенными и установленными фактами его собственного просто запоминаемого опыта. Такие представления, которые правильнее всего называть верифицируемыми воображениями, составляют область, дополнительную к области собственно памяти, область, которая завершает всю панораму реального существования, насколько она позитивно известна или познаваема. Эти воображения могут быть вызваны различными способами, например, путем свидетельства, как когда мы принимаем рассказы путешественников или свидетельства исторических документов, или путем рассуждения или расчета, как когда астроном воображает реальное существование планеты, до тех пор не наблюдавшейся, в результате наблюдаемых возмущений в других телах, которые не могут быть объяснены иначе. Имя покойного профессора Тиндалла должно быть всегда в почете за его четкое и неоднократное признание места, занимаемого воображением в науке, и той незаменимой функции, которую оно в ней выполняет. Один только факт верифицируемости достаточен для того, чтобы безоговорочно признать реальность мира, к которому принадлежат объекты таких представлений, и в философском, да и в обыденном мышлении обычно считалось, что это так. Я говорю «верифицируемость», а не «верификация», потому что верификация одного ясно представляемого объекта подразумевает верифицируемость всех аналогично представляемых объектов, верификация которых, как не было показано, невозможна, а значит, и мира, какими бы ни были его другие объекты, к которому принадлежит этот единственный верифицируемый объект. Но последнее звено, которое завершает, или, скорее, последнее обстоятельство, которое скрепляет, доказательство этой реальности, дается субъекту научным открытием физиологических органов и процессов, от которых эти воображения в конечном счете зависят, я имею в виду нейро-церебральный механизм, поддерживающий реинтеграцию или ассоциацию идей. Ибо, с одной стороны, это знание ближайших реальных условий его сознания ставит проверяемые воображения субъекта на одну ступень с собственно воспоминаниями, а воспоминания – на одну ступень с воспоминаниями в смысле просто сохраненных представлений, выставляя все одинаково как случаи реинтеграции, с ассоциацией или без ассоциации ощущений разного рода; И с другой стороны, это знание объекта, несуществование которого было бы несовместимо с его первоначально установленным знанием реального существования его собственного организма, который, со всем, что он может включать в себя, стал известен ему одновременно с реальным материальным миром, в котором он является (для него) постоянным центральным объектом, -знание обоих объектов в равной степени было первоначально приобретено опытом, лежащим в пределах памяти в смысле простого сохранения представлений, хотя и несходных по виду, как это было должным образом изложено при анализе нашего восприятия внешнего мира в книге I. Короче говоря, факт сосуществования непосредственных зрительных и осязательных восприятий, которые, когда на них обращают внимание, составляют переживание индивидом своего собственного тела в контакте с другими реальными телами, теперь объясняется дальнейшим знанием, полученным из этого опыта, об отношениях реальной обусловленности, в которых эти тела и их части стоят и стояли друг к другу, до возникновения непосредственных восприятий, которые они обусловливают, и в этих непосредственных восприятиях берет начало все его знание.
D. Эмоциональное содержание объективного мышления.
Приближаясь к содержанию ре-динтегративного процесса объективного мышления, мы замечаем еще одну общую характеристику, я имею в виду его эмоциональный характер. Как правило, ощущения-представления более яркие, чем их представления; боль или удовольствие от них более острые; контрасты более яркие; формы более отчетливые; очертания более ясные. С другой стороны, их репрезентации приобретают или развивают в процессе реинтеграции совершенно новые характеристики. Боль и удовольствие чувства заменяются в представлении соответственно горем и радостью, отвращением и пристрастием, страхом и надеждой, отвращением и желанием; при этом их характер как боли или удовольствия чувства становится частью образного, в отличие от эмоционального элемента, представления. Представления теряют свою сенсационную боль или удовольствие и приобретают боль или удовольствие эмоционального характера. Эмоциональное чувство пронизывает и окрашивает репрезентативный образ, частью которого теперь стала репрезентация сенсационной боли или удовольствия. Образ становится как бы каркасом эмоции, и целое, образованное двумя элементами, образом и эмоцией, может называться по-разному; точно так же, как в предыдущих главах мы обнаружили, что одно и то же состояние сознания может называться и ощущением, и восприятием, в зависимости от контекста, в котором мы его рассматривали.
Эмоции и страсти, включая свойственные им боль или удовольствие, фактически являются материальным элементом рединтеграции, причем элементом, неотделимым от репрезентаций или образов рединтеграции; точно так же, как качества ощущений, включая свойственные им боль и удовольствие чувства, являются неотделимым материальным элементом репрезентаций чувства, как это было изложено в анализе Книги I.
Боль и удовольствие от ощущений и боль и удовольствие от эмоций – это два совершенно разных вида боли и удовольствия, несмотря на то, что последнее уходит своими корнями в первое. Мы должны, однако, различать те случаи боли и удовольствия, в которых они занимают промежуточное положение и полностью принадлежат рединтеграции, хотя и не являются болью или удовольствием эмоции. Я имею в виду случаи простой рединтеграции боли или удовольствия чувства, о которых говорилось выше, в которых они составляют часть образности только представления, оставляя его на данный момент полностью свободным от какой-либо эмоциональной окраски, получаемой непосредственно из чувства, и в которых они переживаются просто как факты, безразличные для воспринимающего, в то время как представление, которое их изображает, получает свое эмоциональное содержание из связи, в которой оно находится с другими представлениями или образностью, содержащейся в рединтеграции. Условия наличия такого отстраненного или безразличного опыта, как голое представление боли или удовольствия чувства, нам сейчас не нужно рассматривать. Здесь достаточно показать место, которое оно занимает в рединтегративном содержании. Возвращаясь к контрасту между удовольствиями и болью чувства и эмоций, очевидно, что оба вида являются общими классами, каждый из которых включает в себя огромное количество видов. Виды ощущений по крайней мере столь же многочисленны, как и различные телесные органы, в которых они возникают; а разновидности каждого вида столь же многочисленны, как и несколько различных способов, которыми эти органы могут быть затронуты. Разновидности различимых болей гораздо более многочисленны, а интенсивность, на которую способны некоторые из них, гораздо выше, чем у различимых удовольствий. При попытке классификации ощущений удовольствия и боли не существует другого конечного стандарта, которому должна соответствовать наша классификация, кроме специфики самих ощущений.
Но дело обстоит иначе, когда мы переходим к эмоциям, которые в рединтеграции пронизывают и окрашивают представления о них. Здесь специфические черты представленных ощущений ослабевают, а их общие черты, в которых они похожи друг на друга, становятся, следовательно, более заметными. В представлении, сопровождаемом эмоциями, мы больше не различаем специфический сенсационный характер боли и удовольствия от ощущения. Например, у нас нет названия для эмоциональной боли, возникающей при представлении зубной боли, или для эмоционального удовольствия, возникающего при представлении утоления голода. В рединтеграции остаются только два конечных рода боли и удовольствия. Ими в рединтеграции являются две фундаментальные эмоции – горе и радость; а виды и разновидности ощущений, которые эти великие роды содержат в себе, отличаются совсем другими характеристиками, чем те, что принадлежат первичным специфическим ощущениям, из которых они возникли.
Причина в том, что они теперь управляются тем, что принадлежат к рединтегративному процессу, то есть зависят от нервных функций, которые лишь косвенно зависят от внешних стимулов и которые в своих реакциях на впечатления извне осуществляют отчасти коллективную и независимую власть. Более того, тот факт, что реинтеграция – это процесс, имеет первостепенное значение для группировки эмоционального содержания его представлений или образов. Если оставить в стороне эмоции, которые при определенных условиях могут развиться из того, что я назвал выше отстраненными или безразличными представлениями удовольствия и боли чувства, то все остальные эмоции, по-видимому, предполагают и являются более или менее отдаленными модификациями двух фундаментальных и первичных эмоций – радости и горя. Контрастные нервные процессы, которые мы должны рассматривать как соответственно поддерживающие и обусловливающие эти два фундаментальных вида эмоций, восходят к очень раннему периоду эволюции, как у отдельных людей, так и у расы; этот период совпадает с эволюцией самого рединтегративного процесса. Поэтому эволюция эмоций должна рассматриваться как происходящая pari passu с эволюцией репрезентативных образов, которые они пронизывают, и обе они вместе зависят от эволюции и развития, в массе и сложности, нервного механизма, функционирование которого поддерживает рединтеграцию как процесс сознания. Горе и радость в их наиболее общем и неразвитом состоянии отнюдь не являются абстракциями; это конкретные, но рудиментарные эмоции, из которых развились более специализированные эмоции, и которые имели фактическое существование в качестве рудиментарных эмоций в историческом начале жизни рединтеграции. В тот период они должны были сами развиться из самых ранних болей и удовольствий чувства, когда они переходили в состояние представления. Правда, теперь мы различаем их, только пройдя через процесс абстрагирования. Однако это не исключает, а оставляет открытой возможность того, что они могли иметь реальное историческое существование в качестве неразвитых чувств; и их происхождение из представлений чувств показывает, что так и должно было быть. Они не похожи на такие абстракции, как треугольник вообще, ни равносторонний, ни равнобедренный, ни скалистый, историческое происхождение которого невозможно показать, и который является абстракцией и ничем более. Они отмечают ступень в историческом развитии сознательных существ и являются материальным элементом, если снова использовать это слово в качестве термина сознания, из которого с модификациями складываются последующие эмоциональные состояния.
Первые и самые простые модификации, которые они претерпевают, связаны с тем, что реинтеграция – это процесс, то есть изменение во времени от настоящего к будущему в порядке действия и от настоящего к прошлому в порядке знания. Образ, пронизанный эмоцией горя и представленный как прошлое или настоящее, становится объектом отвращения, то есть образ в дальнейшем пронизывается эмоцией отвращения, модификацией горя. Образ, пронизанный эмоцией радости и отнесенный к прошлому или настоящему, аналогичным образом становится объектом симпатии. Точно так же образы, пронизанные горем и относящиеся к неопределенному будущему, то есть представляемые как возможно происходящие в будущем, становятся объектом страха и отвращения; пронизанные радостью – объектом надежды и желания.
Для определения этих модифицированных эмоций, отвращения, пристрастия, страха, отвращения, надежды, желания, нам не нужно ничего, кроме фундаментальных чувств горя и радости с их образами и временными соотношениями, в которых объект этих образов представляется как стоящий перед настоящим моментом сознания. У нас есть их сущность как эмоций, выраженных в определениях, сформулированных таким образом. При этом не обязательно, чтобы образность была образностью какого-то конкретного вида объекта, а не другого. Достаточно, чтобы это были образы скорби или радости. Образность любого или всех видов охватывается определением, пока выполняется это условие. Его более конкретный характер безразличен к сути эмоции. Все эти эмоции, короче говоря, таковы, что мы можем представить себе спонтанно возникающими в самых низших организмах, не предполагая никаких усилий сознательной мысли со стороны воспринимающего, а тем более никакого сознательного противопоставления себя окружающим агентам с его стороны.
§3. Спонтанные и волевые способы рединтеграции
Чтобы завершить этот предварительный обзор явлений рединтеграции, остается отметить две общие характеристики, а также некоторые результаты, которые вытекают из них при определении этапов ее исторической эволюции. Первая – это различие между двумя способами реинтеграции, спонтанной и волевой; вторая – различие между реинтеграцией первичных восприятий и реинтеграцией сложных и связных их групп, причем каждая такая группа является репрезентацией конкретного объекта, о котором думают, реального или воображаемого. Оба различия являются общими для всего диапазона рединтеграции, как мы знаем ее в настоящее время. Состояния спонтанной и волевой реинтеграции постоянно чередуются друг с другом в любом виде опыта; то же самое верно и для двух видов репрезентаций, которые подпадают под наше второе различие, а именно: репрезентации первичных и сложных объектов.
Тем не менее, при рассмотрении становится очевидным, что первый член каждого различия в каждом случае является условием второго, причем таким образом, что он, в свою очередь, не обусловлен им. Существует смысл, в котором спонтанная реинтеграция обусловливает волевую, а представление первичных объектов обусловливает представление сложных, и никогда наоборот. Если бы первичные восприятия не были сначала представлены, представления сложных объектов никогда не могли бы иметь места, поскольку нечего было бы объединять; и точно так же, без существования спонтанных рединтеграций, волевые были бы невозможны, поскольку нечего было бы изменять или выбирать из них.
Явления, проанализированные в Книге I., если рассматривать их в историческом порядке возникновения, дают доказательства того, что рединтеграция первичных представлений инициирует и, следовательно, предшествует их рединтегративному объединению в сложные объекты, то есть сложные представления, имеющие большую или меньшую постоянность или сходство в их повторениях; а также того, что спонтанная рединтеграция инициирует и, следовательно, предшествует волевому процессу таким же образом, хотя продолжительность времени, занятого предшествующим и отдельным существованием первичных и спонтанных процессов по отдельности, таким образом не определяется. Ибо если бы это не было первоначальным и постоянным порядком, или, более строго, порядком природы, в этих двух парах явлений (принимая природу в метафизическом смысле этого термина, уже знакомого нам по книге I.), то пришлось бы предположить, что обусловливающим агентством в рединтеграции был бы нематериальный агент, способный давать себе специфические первичные восприятия, для осуществления общих идей, которые он сознавал исключительно усилием своей воли. Это было бы необходимо, потому что физиологическая психология ясно показывает, что представления чувств, сохраняемые в репрезентации, предшествуют чистым представлениям, и что чистые представления предшествуют действиям целенаправленного внимания к ним и их сравнения; порядок, который нельзя изменить, не порывая полностью с физиологической психологией и не прибегая к априорной психологии, которая помещает инициацию всех последовательностей сознания в некую способность мышления и желания, представляемую полностью сформированной ab initio.
Вопрос о порядке возникновения компонентов процесса сознания во всех случаях, когда его члены воспринимаются как отделимые один от другого, что имеет место в данном случае, – это вопросы, которые касаются порядка реальной обусловленности; и именно через рассмотрение этого порядка мы должны пройти, если хотим установить порядок природы (в метафизическом смысле этого слова), который действует в процессах-содержаниях такого рода. Когда, соответственно, мы ставим вопрос о реальной обусловленности фактов рединтегративного восприятия с целью выяснения порядка, в котором происходят различные их классы; то есть, когда мы объединяем такие явления, которые были проанализированы в Книге I., и выводы относительно реальной обусловленности, которые были сделаны в Книге II.; мы обнаруживаем, что единственная гипотеза, которая может оправдать изменение порядка, поддерживаемого здесь, между спонтанной и волевой реинтеграцией и между первичными и сложными объектами, – это та, которая прямо отрицается научной или физиологической психологией, как полностью немыслимая и вымышленная.
Поэтому мы вправе считать доказанным, что в первоначальном порядке возникновения и, следовательно, на протяжении всей истории рединтеграции, чтобы составить характеристику ее природы в метафизическом смысле этого слова, спонтанная рединтеграция является предшествующим sine qua non условием волевой, а первичные восприятия – аналогичным условием сложных восприятий или сложных объектов, причем два последних члена каждого различия не являются предшествующими условиями двух первых, несмотря на то, что в потоке реального опыта мы находим их постоянно чередующимися друг с другом. Общий результат заключается в том, что самой ранней и обусловленной стадией в процессе и развитии рединтеграции, во все периоды истории расы, а также отдельного человека, является стадия спонтанной рединтеграции первичных восприятий: именно в процессах такого рода следует заложить основу для анализа рединтеграции в целом и в том виде, в котором мы ее переживаем сейчас.
Говоря выше о спонтанной рединтеграции как условии волевых, и первичной как условии сложных восприятий, я, конечно, имею в виду, что реальная обусловленность принадлежит нервному организму, поддерживающему эти процессы, которые могут быть описаны только терминами, подразумевающими сознание. Термины «спонтанный» и «волевой», если бы их можно было взять в отрыве от импликации сознания, были бы тогда строго применимы к нейронным процессам, взятым сами по себе, если предположить, что мы можем знать их сами по себе или не прибегая к их обусловленному сознанию. Однако мое использование этих терминов может показаться многим странным, хотя я не впервые употребляю их в этом смысле. Обычно, как мне кажется, спонтанность отождествляют с волей. Это вытекает из распространенности традиционного представления о нематериальном агентстве в сознании; ведь предполагается, что это агентство (будучи на самом деле фикцией) действует спонтанно, proprio motu, или по своей собственной воле. Спонтанность и воля, отождествляемые таким образом, противопоставляются как предполагаемой пассивной восприимчивости со стороны нематериального субъекта, так и тем его действиям, которые, как предполагается, определяются ab extra, то есть физическими и механически действующими силами. Напротив, в моем употреблении этих терминов, которое, как мне кажется, оправдано анализом материи, приведенным в книге II, они не отождествляются, а противопоставляются; и любой процесс нервного организма, обеспечивающий рединтеграцию, до его модификации волей (которая также является действием нервного организма), называется спонтанным, несмотря на то, что его характер определяется главным образом предшествующими впечатлениями, которые обеспечивали чувственные представления.
Следующий момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что, начиная с основы спонтанной реинтеграции первичных представлений, необходимо последующее волевое усилие в форме внимания, включающего желание новых впечатлений, проливающих свет на существующие, как условие модификации ряда чистых представлений, спонтанно возникающих, в ряд систематически связанных понятий, или представлений, прошедших через и вне концептуального процесса; То есть в поезд Мысли, в строгом и правильном смысле этого слова, поезд, в который входят, во-первых, те первичные представления, на которых в первую очередь фиксируется внимание, и, во-вторых, те сложные объекты или группы первичных представлений, какими бы они ни были, которые формируются в результате таких актов внимания к первичным представлениям. Наблюдение этого вида внимания, которое является волевым, за поездами спонтанной реинтеграции и представлениями, из которых они состоят, является местом рождения Мысли или Мышления в строгом смысле слова. Любое представление, простое или сложное, в таком поезде спонтанной реинтеграции, на котором так фиксируется волевое внимание, тем самым превращается из восприятия в понятие, то есть в восприятие, ожидающее присоединения к нему новых впечатлений; а поскольку они должны быть либо сходными с ним, либо несходными, оно становится, в отношении тех, которые могут быть сходными, общим или охватывающим восприятием, выражаемым общим именем, термином или символом.
Концепция и мышление одновременно имеют свою природу и свое происхождение в наведении волевого внимания на спонтанную реинтеграцию восприятий.
Мы уже видели этот волевой фактор в работе на конкретном уровне, то есть в опыте, состоящем из чувственных представлений и рединтегративных представлений вместе, в Книге I, где было показано, что без внимания к первичным восприятиям с целью (как там было выражено) узнать о них больше, что приводит к выяснению их места среди первичных представлений, являющихся их исходным контекстом, и их отношений к ним, мы не смогли бы прийти к той их группировке, которая известна как восприятие материальных объектов, – группировке, которая представляет собой тип, на котором строятся наши представления обо всех реальных сложных объектах. Кроме того, стало ясно, какого рода внимание здесь требуется. Мы увидели, что внимание, направленное на то, чтобы узнать о данном первичном восприятии нечто большее, чем просто его фиксация (которая, хотя и является повторным действием, все же может быть непроизвольной), – внимание, вызванное чем-то странным или неожиданным в нем, внимание, предполагающее желание лучше с ним познакомиться и поэтому направленное на него в связи с его настоящим или ожидаемым контекстом, – словом, внимание такого рода, которое в предыдущей главе (Книга I, гл. Ill, §5), было необходимо для того, чтобы разбить поток первичных восприятий, как он первоначально возникает, и сгруппировать его члены или некоторые из них в наборы, соответствующие, в объективном мышлении, реальным объектам, мыслимым как существующие в природе. Именно таким образом, как мы видели в первой книге, первоначально приобретается наше знание об обычных материальных объектах, таких как коробка или колокол, а также о нашем собственном теле. Ощущения-представления, а следовательно, и представления зрительных и осязательных восприятий, которые составляют наше знание о любом таком материальном объекте, рассматриваемом как общий объект обоих видов восприятий, не приходят к нам уже сгруппированными и отделенными от других одновременно данных ощущений. Мы должны сначала обратить на них внимание, сославшись на их контекст, прежде чем обнаружим, что их группировка вместе, отдельно от других, соответствует постоянной группировке вместе, в Природе, реальных условий, от которых как существующие восприятия они зависят. В то же время, заметим, мы не группируем одни восприятия вместе или отделяем их от других по какой-либо собственной априорной причине или с помощью какой-либо подсказки, предоставляемой способностью к группировке или синтезу. Мы просто обращаем внимание на одновременные и тесно связанные изменения, происходящие в двух сериях восприятий, зрительных и осязательных, и на тот факт, что эти восприятия занимают одну и ту же часть пространственной протяженности в одно и то же время, причем каждое новое зрительное восприятие по мере его возникновения распознается как аналогичное предыдущим зрительным восприятиям, а каждое новое осязательное восприятие – как такое же. Группировка, которая получается в результате, то есть результирующее представление удаленного [3 - Дистанция – это термин, который я использовал в предыдущих работах для характеристики таких конкретных материальных объектов, о которых здесь идет речь, – реальных объектов мышления здравого смысла.]материального объекта, есть не что иное, как восприятие более глубокого порядка в исходной серии первичных восприятий, повторенных в представлении, чем это было очевидно при первом осмотре, то есть когда она существовала как серия спонтанно реинтегрированных восприятий.
Это порядок, признаваемый как тот, который мы могли бы воспринять, хотя и не восприняли, в то самое время, когда мы переживали первоначальную серию первичных восприятий. Акт волевого внимания, следовательно, в подобных случаях сразу же приводит не к чему иному, как к открытию фактов, до тех пор не наблюдавшихся; но это акт, необходимый для открытия.
Примеры, взятые, как и выше, из процесса, посредством которого первоначально приобретается знание о внешнем мире, конечно, являются примерами, в которых спонтанное представление не демонстрируется изолированно, чтобы быть противопоставленным волевому. Это существенный компонент, но не весь процесс. В качестве другого компонента все время происходят представления чувств. Одно ощущение репрезентируется, в то время как другое, точно такое же, репрезентируется; и репрезентации ощущений являются как основой остальной части процесса, так и проверкой истинности получаемых репрезентаций. Но связь между спонтанной и волевой рединтеграцией остается такой же, независимо от того, вмешиваются ли новые смысловые представления или нет, показывая тем самым, что даже в случаях, когда смысловые представления задействованы, внимание, которое является волевым, берет свое начало в рединтегративной, а не в пресентативной части процесса в целом. Так происходит, например, когда я пытаюсь вспомнить в мыслях точную природу и порядок происшествий во вчерашнем событии; или когда я пытаюсь подвести конкретный объект или событие под общую концепцию, которая до сих пор к нему не применялась, что является процессом, включающим сравнение; или когда я пытаюсь выработать последовательную линию чистой мысли, вспомнить неблагоприятные случаи, сформулировать гипотезы для их объяснения или устранения, или сравнить претензии конкурирующих теорий. Спонтанные реинтеграции здесь дают весь материал, из которого с помощью избирательного внимания, то есть воления с целью узнать что-то большее об этом материале, возникает мой вывод, и из которого он является модификацией. И последующее внимание всегда отмечено, как в своем происхождении, так и в своем поддержании в качестве процесса волевой реинтеграции, определенным чувством усилия, напряжения, трудности или смущения, каким бы слабым или незаметным оно ни было, что особенно характерно для тех случаев, когда интерес к рассматриваемому занятию велик.
Далее следует заметить, что представления, сформированные таким образом с помощью воли, будь то представления отдельных объектов или событий, или общие понятия, охватывающие неопределенное множество объектов, не обязательно остаются волевыми, но имеют тенденцию возвращаться в механизм спонтанной реинтеграции и повторяться впоследствии как спонтанно воспроизводимые представления, хотя и более высокой степени сложности, чем первичные, из которых они были созданы. Таким образом, поток спонтанных представлений постоянно модифицирует некоторые из составляющих его восприятий в волевые представления и постоянно принимает обратно в себя волевые представления, родителем которых он изначально был. Когда общее представление или сложный волевой образ становится практически неразрывным и привычным, он уже не требует акта внимания, чтобы его обнаружить или вспомнить. Его структура, место и время возникновения в сознании отныне обеспечиваются механизмом простой спонтанной реинтеграции. То, что раньше было волевым, теперь стало спонтанным, и поток сознания обогащается за счет приобретения постоянного содержания в результате опыта.
Мы видим также, что различие между спонтанным и волевым способами реинтеграции является исчерпывающим. Каждый рединтеграт является либо одним, либо другим, либо, если его длина или сложность значительны, содержит оба, не содержа ни того, ни другого. И это относится к рединтеграции во всей ее истории, как в расе, так и в индивидуумах, включая даже начало целого, которое, как мы видели, состоит только из спонтанных рединтеграций. Другими словами, это различие применимо к каждой последовательной стадии эволюции, от самой простой и ранней до самой поздней и сложной. Весь поток реинтеграции состоит, так сказать, из двух течений, сливающихся и переплетающихся друг с другом, – спонтанного и волевого. Спонтанный – это продолжение и развитие чувственных стимулов в органах рединтеграции, а волевой – реакция этих органов на эти процессы продолжения и развития. Первые берут свое начало в чувственных впечатлениях, вторые – в определенных реакциях организма.
Следует заметить, что при анализе реинтеграции я использовал термин «волевой» вместо более привычного «добровольный». Я делаю это потому, что он лучше всего выражает отличительный характер, который я хочу выявить, – его происхождение из волевых актов. Это более ограниченный термин из двух. Термин добровольный применяется к поездам редеинтеграции или действия, которые как целое инициируются или управляются волей, но не состоят исключительно из волевых актов. Волевой применяется только к элементу воления, который они содержат. Переходя теперь к другому различию, которое зависит от этого, как мы только что видели, – я имею в виду различие между представлениями первичных восприятий и представлениями отдаленных объектов или любого сложного объекта, воспринимаемого как реальный, – мы видим, что здесь дело обстоит несколько иначе. Представления последнего рода, будучи однажды введены посредством волевого действия в объективную мысль, имеют тенденцию становиться постоянными чертами ее механизма; становясь таковыми, они отмечают определенные и последовательные стадии в ее историческом развитии. Таким образом, восприятие реального внешнего мира, того, что мы назвали реальными условиями, среди которых собственное тело воспринимающего субъекта является его центральной и постоянной реальностью, отмечено как эпоха первостепенной важности в эволюции опыта, на каком бы этапе опыта человечества или отдельных людей мы ни предполагали, что восприятие было приобретено. Восприятие, обретенное однажды, никогда впоследствии не теряется и не только окрашивает и доминирует над всем последующим периодом опыта, но и становится необходимым в такой степени, что многие люди, кажется, вообще не способны мыслить, не принимая его как неотъемлемую часть своего мыслительного процесса. В книге II мы видели, что это же восприятие материальных объектов как реальных в том полном смысле этого слова, который привел нас к пониманию и характеристике их как реальных условий, было основой всей позитивной науки, включая психологию; материальный объект – это особый материальный объект, на котором основана психология, носящий, как и он, характер постоянного приближенного реального условия сознания.
§4. Я и личность
Но как бы ни были важны эти концепции и особенно их конкретный пример, концепция Субъекта, в истории и эволюции научного знания человека, они не имеют, по крайней мере непосредственно, такого же значения для анализа реинтеграции как процесса сознания или объективного мышления, которое является, так сказать, панорамным разворачиванием этого процесса, анализ которого в первую очередь обязательно является философским. Как рединтеграция и объективное мышление, как мы определили их для рассмотрения в данной главе, начинаются не с чувственных представлений, включающих удовольствие и боль чувства, а с представлений, пронизанных эмоциями радости и горя, так и главная эпоха в их историческом развитии отмечена концепцией не чего-то, что, подобно Субъекту, но чего-то, что прежде всего воспринимается как неотъемлемая часть самого процесса представления, затем предполагается, что оно было необходимым ингредиентом и в чувственном представлении, и, наконец, обнаруживается, что оно воспринимается во всем сознании, когда мы аналитически обращаемся к нему, с уже предложенной нам идеей его присутствия. Восприятие, о котором я говорю, – это то Единство во всем сознании, которое мы объективируем в отличие от всего изменчивого содержания, время от времени объединяемого в сознании, и называем Эго или Я. Я имею в виду, что Эго или Я принадлежит от первого до последнего к порядку объективной мысли, даже когда оно является объектом, о котором думают таким образом (поскольку все мысли являются реальными объектами для рефлексивного восприятия), и не принадлежит к порядку реальной обусловленности, разве что как кон-диционат в этом порядке. Другими словами, Эго или Я не является объектом, мыслимым как реальное условие, если только оно не гипотетически гипостазировано.
Эго занимает в мире сознания или опыта в целом, который является анализом философии, положение, параллельное тому, которое занимает Субъект в мире психологии; оба они являются центральными объектами миров, к которым они соответственно принадлежат, то есть объектами, к которым все другие в их соответствующих мирах отсылают для систематической координации. Но смысл, в котором это верно, не тот, в котором это было бы понято или принято ни философами здравого смысла, ни большим числом психологов в настоящее время. Наиболее распространенный взгляд на Эго несовместим с концепцией Субъекта как единственного ближайшего реального состояния сознания. Ибо при таком взгляде Субъект низводится до уровня непосредственного реального условия или агента сознания и мыслится лишь как промежуточное или инструментальное условие, то есть как тело или материальная система средств, с помощью которых материальный мир вводится в связь с реальным агентом, реальным человеком и его сознанием, причем этот реальный человек называется Эго. Таким образом, Эго мыслится как внутренний или нематериальный человек, внутри тела, или нервного организма, который является предметом научной психологии, внутренний человек, который сначала получает представления чувств через телесные органы, а затем, в процессе реинтеграции, сравнивает, разлагает, вновь объединяет и иным образом имеет с ними дело, как с членами своего собственного внутреннего или субъективного царства мысли, эмоций, воображения и воли. Таким образом, Эго обычно считается единственным центральным проксимальным реальным условием, или агентом, сознания в целом, в то время как Субъект становится простым средством, через которое он общается с материальным миром за пределами организма, и простым инструментом или органоном, который он ограниченно использует, или, скорее, как правило, использует, в своих внутренних рединтегративных действиях или отношениях со своим субъективным царством; Не говоря уже о предположении, которое неизбежно сопровождает подобные концепции, что сам материальный мир, включая субъект, в действительности может быть не более чем нематериальным продуктом собственных сил чувств, воли, мышления и воображения «Я». В этом, как я полагаю, общепринятом взгляде на Эго содержится одна большая и фундаментальная ошибка – ошибка приписывания ему функции быть реальным условием или агентом вообще. В предыдущих главах настоящей работы было показано, что Субъект, в смысле нервного организма научной психологии, является единственным известным ближайшим реальным условием, или агентом, сознания как экзистента. А поскольку Эго – это часть или способ сознания как существующего (а также как знающего), из этого следует, что оно обусловлено Субъектом и само не является реальным условием сознания или какого-либо из его способов, или так называемого субъективного царства объективной мысли, в оба из которых оно само входит как часть. Тем не менее это не лишает то единство сознания, которое гипостазируется как Эго, того центрального положения в мыслительном мире, то есть в сознании, рассматриваемом как знание, или в общей панораме объективной мысли, которое делает восприятие его эпохальным в познании и которым в достаточной степени оправдывается его аналогия с Субъектом. Наш мир объективной мысли был бы совсем не таким, каков он есть, если бы никогда не было достигнуто восприятие его единства как объекта самой фундаментальной функции Субъекта, а именно рефлексивного восприятия, одинакового в каждый последующий момент сознания.
Смысл и истинность этих утверждений станут очевидны, когда мы рассмотрим, чем на самом деле является Эго, чем на самом деле воспринимается то, что мы называем именем Я или Эго. Здесь перед нами открывается только одна возможность, если предыдущий анализ рефлексивного восприятия принять за верный. Этот анализ определяет, что должно представлять собой Эго, которое является его завершающим членом. Я ссылаюсь, в частности, на книгу I, гл. II, §§5 и 6, и снова, для дальнейшего определения, на книгу I, гл. VII, §§1, 2 и 4. В двух первых из этих отрывков было установлено, что момент рефлективного восприятия, момент всякого действительного опыта, состоит из двух аспектов или субмоментов, один субъективный, другой объективный, субъективный – это весь момент переживания как восприятия, объективный – это весь момент переживания как восприятия. Именно один набор этих субмоментов, субъективных субмоментов, или субъективных аспектов, в каждом эмпирическом или конкретном восприятии или опыте, которые теперь собраны в единство и сами объективированы как Эго или Воспринимающий; хотя в действительности факты дают нам основания объективировать их как не что иное, как Восприятие со стороны реального агента, Субъекта. Одинаковость этих субмоментов, как восприятия или сознания, дает нам основание объединить их как факт единства сознания, несмотря на все их различия в других отношениях, а факт их существенности для всего опыта дает нам основание приписать им, в этом единственном характере, диапазон, со-расширяющийся со всем возможным опытом. Но нет никаких оснований приписывать реальное агентство ни этим субмоментам в отдельности, ни единству сознания в течение жизни, которое обобщается из них, в большей степени, чем для приписывания его нескольким целым, субъективными аспектами которых они являются, конкретным или эмпирическим моментам рефлексивного восприятия, которые последовательно являются моментами всего фактического опыта. Длительность времени, которая является элементом любого восприятия или сознания, простого или сложного, является объединяющим, поскольку непрерывным, элементом в нем. В нем нельзя обнаружить никакой реальной силы. Именно этот элемент временной длительности был бы субъектом, которому принадлежала бы реальная агентность (если бы таковая существовала) в восприятии; и то, что реально в Эго, принадлежит сознанию субъекта лишь постольку, поскольку оно связано с этим элементом в восприятии. Короче говоря, Эго – это сознаваемое (а не сознающее) существо, воспринимаемое как абстрактный факт, общий для всех настоящих моментов сознания и повторяющийся в них, составляющий то, что я назвал субъективными субмоментами во всех них.
Теперь мы можем увидеть, в каком смысле Эго является центральным фактом во всех сознаниях, реинтеграциях и объективном мышлении, в котором его положение аналогично положению субъекта в реальном материальном мире. С того момента и после того, как мы признаем тождество в своем роде всех субмоментов сознания или рефлексивного восприятия как единого потока, в какую бы форму мы ни облекали наше признание этого, рефлексивное восприятие признается существенным обстоятельством, придающим единство всей панораме нашей объективной мысли, включая все ее частичные представления, в той мере, в какой момент восприятия мыслится как существенный для восприятия каждого содержания, которое вносит или внесло вклад в его составление. Тогда мы говорим, что являемся самосознающими, или воспринимаем наше сознание как наше; наше означает, в первую очередь, что оно отличается от всех своих объектов, кроме того центрального объекта, субъекта, в котором оно воспринимается как находящееся.
Но помимо этого существует дополнительное восприятие этого объединяющего момента, восприятие его, которое ведет непосредственно к гипостазированию его как агента, восприятие, которое мы не распознаем до тех пор, пока не распознаем только что упомянутое. Это восприятие его экзистентного аспекта или характера, то есть признание субъективных субмоментов нашего актуального сознания в качестве экзистентов – моментов, в которых сознание постоянно возникает над порогом, в зависимости от нейронных процессов в Субъекте, которые являются его ближайшими реальными условиями, определяющими возникновение его различных режимов как процессов сознания. Реальное агентство этих режимов лежит в нейронных процессах Субъекта, которые их обусловливают, и хотя они описываются в терминах сознания, они обязательно мыслятся как множество отдельных функций Субъекта (или деятельности Эго, если Эго гипостазировано); таким образом, сознательное существо, правильно ли оно мыслится как Субъект или неправильно как Эго, становится объектом психологии в отношении его сознания, которое, будучи взято как экзистент, co ipso взято как состоящее из определенного числа реально существующих процессов или функций. Теперь Субъект должен и может быть без противоречия принят как реальное условие сознания во всех его модусах и процессах. Он не является самим сознанием, а потому может служить его реальным условием. Но с Эго дело обстоит иначе. Ибо Эго – это абстрактное сознание, факт сознания, абстрагированный и превращенный в единый абстрактный факт, источник единства сознания в целом, единства, существенного как для целого, так и для каждой его части; и от этого легко (хотя и совершенно неоправданно) перейти к гипостазированию его как Единицы, или сознания как единой существующей единицы. И когда она однажды так гипостазирована, она должна быть понята как потенциально имеющая в себе все последовательные моменты сознания, от которых она абстрагирована, и которые, при соответствующих условиях, внешних по отношению к ней самой, она разворачивает или развивает из себя, или, говоря более техническим языком, которыми она последовательно становится. В этом отношении ложно гипостазированное Эго является своим собственным реальным условием, causa sui, что влечет за собой противоречие. Отношение между условием и обусловленным – это отношение между делимыми; отношение между абстракцией и явлениями, от которых она абстрагирована, – это отношение между неразделимыми. Явления не могут быть реальным условием абстракции, равно как и абстракция не может быть реальным условием явлений. Корень этой роковой путаницы лежит не в том, что сознание принимается за абстрактный факт единства восприятия, а в гипостазировании этой абстракции как сущности, например, как источника единства сознания. Но очевидно, что эта критика оставляет уникальную позицию Эго, взятую открыто как абстракция и понимаемую как факт единства в сознании, совершенно незатронутой, а также допускает параллелизм этой позиции в мире сознания с позицией Субъекта в мире реальных условий, как ближайшего реального условия сознания. Каждый момент сознания, как он происходит, определяется и поддерживается реальным условием, но это реальное условие лежит не в Эго, а в Субъекте.
Психологи обычно распределяют функции Эго по трем основным разделам – Чувство, Мышление и Воля, что является отличной классификацией с точки зрения здравого смысла, хотя эти три функции пересекаются и не являются взаимоисключающими. Для научных и философских целей более полезной классификацией будет та, которая была предложена здесь, а именно: процессы или функции представления чувств, спонтанной и волевой реинтеграции, принимая каждое из этих трех подразделений как включающее свои собственные особые виды чувств. Но важно отметить, что обе классификации являются классификациями процессов, то есть основаны прежде всего на различиях не в содержании восприятий или переживаемых объектов, а в процессах восприятия или переживания, как функциях агента. Это, как мы видели, действительно функции или процессы в нервной системе или субъекте, и как таковые они подпадают под деления физиологически определенные, деления, вероятно, совершенно отличные от тех их сознательных обусловленностей, которые мы сейчас используем для их описания. Обнаружить эти физиологически различные функции и подогнать их под деления, выявляемые или подлежащие выявлению при простом анализе сознания, – вот задача, наиболее настоятельно требующая решения в физиологической психологии будущего. Отсюда следует, что мы не сможем полностью понять, что такое Эго, или сознание как таковое, пока не подойдем к нему со стороны Субъекта и не сделаем его объектом физиологической психологии в дополнение к метафизике. В нейро-церебральной системе, по-видимому, нет ни одного места, предназначенного исключительно для сознания, но различные функции системы в целом имеют различные способы сознания, зависящие от них, которые мы можем назвать различными способами единства этого сознания. И главные из них, которые только что были обозначены, могут быть снова разделены на более мелкие режимы сознательного процесса по тем же принципам. Поэтому, хотя мы должны избегать гипостазирования Эго как агента, мы все же можем продолжать объективировать единство сознания субъекта и, видя, что единый термин является практической необходимостью, продолжать выражать его одним и тем же знакомым именем. Хотя Я или Эго больше не гипостазировано, оно по-прежнему имеет совершенно уникальную природу и положение. Возьмем его сначала со стороны познания. Одно среди объектов оно является объективацией субъективного аспекта сознания как такового, или, скорее, в отличие от его объективного аспекта. Восприятие не является объектом, пока оно само не воспринимается как воспринимающее в некотором данном восприятии или восприятиях. Тогда оно является восприятием самого восприятия и может быть обобщено как субъективный аспект во всех восприятиях. Поздний субмомент восприятия является восприятием предшествующих субмоментов восприятия. Восприятие тогда становится объективным и субъективным аспектом восприятия одновременно, не меняя своего характера быть субъективным аспектом. Ибо именно этот субъективный аспект и есть тогда и в этом характере воспринимаемый объект. В этом нет никакого противоречия, потому что процесс восприятия всегда является процессом не только во времени, но и рефлексии или ретроспекции во времени, и этот процесс, происходящий в любой данный момент, воспринимается в последующие моменты того же самого процесса. Между предшествующим и последующим восприятием не возникает никакого отношения реальной обусловленности. Отношение между воспринимающим и воспринимаемым, взятыми как части познания, не есть отношение между делимыми, не есть отношение реальной обусловленности.
Это не только моменты восприятия, предшествующие данному настоящему моменту, но и моменты, последующие за ним, которые, если обобщить эту идею, должны быть восприняты как составляющие часть Эго; поскольку они также будут подчиняться тому же закону и иметь ту же природу восприятия, если только они вообще появятся. Это восприятие восприятия – то, что в строгом смысле слова подразумевается под самосознанием, самосознанием Эго. Не то чтобы Эго было воспринимающим; субъект, а не Эго, является воспринимающим агентом; но просто то, что восприятие, которое мы имеем в виду, говоря об Эго, является восприятием восприятия в объясненном смысле. Эго не имеет, а является Самосознанием. Факт сознания, а не само сознание, есть воспринимаемое в нем Я. И снова о существовании. Восприятие Эго – это не то же самое, что восприятие чувств и идей в отличие от материальных объектов, или объективной мысли в отличие от объектов, о которых думают. Содержание сознания как такового не есть Эго. Сознание Эго также не есть просто сознание, взятое как существующее, но отличное от своих объектов или от своего содержания, что свело бы его к совершенно пустой или бесцветной абстракции, фактически к нулю. Это процесс сознания, когда оно воспринимается как одно и то же (по виду) во всех случаях; факт изменения сознания, который делает его процессом; тот факт, что каждый момент – это оглядывание на одно содержание, наполненное другим, каждое содержание начинает отступать в память с того самого момента, когда оно возникает за порогом; восприятие, воспринимаемое как существующий процесс или как изменение, вместо того чтобы определяться содержанием в отличие от процесса; короче говоря (чтобы сказать это еще раз), рефлексивный характер всего восприятия; – именно это мы воспринимаем, когда говорим, что мы самосознательны, или воспринимаем наше Я или наше «Я». Воспринимать наше восприятие – значит воспринимать его как процесс, который имеет свою природу, или содержание, как процесс, а именно изменение в непрерывном времени; процесс, который всегда один и тот же и всегда отличим путем абстрагирования от особых содержаний, между которыми он меняется, то есть от особых изменений, которые он включает. Когда мы вспоминаем, кем мы были в то или иное время, мы вспоминаем факт нашего сознания того или иного, и этот факт мы приписываем себе, как составляющий то, чем мы были, исключая из себя то или иное, что мы сознавали, как несущественные случайности.
Главный аргумент, на который больше всего опираются те, кто хотел бы гипостазировать Эго, противоречит всему анализу опыта, изложенному в первой книге. Верно, что рефлексивное восприятие исторически предшествует восприятию субъекта. Возможно, верно и то, что наше отчетливое восприятие его как познающего исторически предшествует существованию в нас этого восприятия. Но из этого не следует, что оно воспринимается как реальное агентство или даже что его можно представить себе как реальное агентство без предшествующего восприятия Субъекта, из которого, как мы видели, только и вытекает идея реальных агентов и агентств. До этого восприятия никакое Я или Эго как агент не воспринимается и не может быть воображено. Таким образом, приоритет даже двойного рефлексивного восприятия по отношению к восприятию Субъекта является приоритетом исключительно в генезисе идеи или концепции Я или Эго как агента; и ошибочно превращать этот приоритет в приоритет объекта этой идеи или концепции как реального агента в порядке реальной обусловленности, если только не будет показано, что, когда рефлексивное восприятие изначально воспринимается, оно воспринимается как реальный агент. Теперь это опровергается вышеприведенным анализом, как в настоящей книге, так и в книге I. Но даже если предположить, что это не так, – что тогда? В результате гипостазируется рефлексивное восприятие как агентство, и Эго, как гипостазированный агент процесса, становится совершенно излишним. Вот почему Гегель, придерживавшийся ошибочности гипостазирования Мышления как агентства, смог отвергнуть трансцендентальное Эго Канта (а вместе с ним и абсолютное Эго Фихте) как фикцию. Он справедливо увидел, что это всего лишь схоластическая Душа или Ум, только заново провозгласившая свою непознаваемость. Теперь не только это заблуждение, но и первичное заблуждение, на котором оно основано, первичное заблуждение превращения приоритета в генезисе идеи или концепции в приоритет объекта, мыслимого этой идеей или концепцией как реального агента в порядке реальной обусловленности, без отчетливого доказательства его реальности в этом характере, – заблуждение, лежащее в основе всех так называемых идеалистических философий, – которое разоблачается и, можно надеяться, исключается анализом книги I, к которому я обращаюсь. Ни один способ сознания, даже Мысль или Воля, не является и не может быть немедленно воспринят как агентство; факт агентства, в отличие от факта процесса, является производным и выводимым фактом.
Неспособность или отказ отличить то, что воспринимается сразу, от того, что является производным и выводимым, в опыте, обычно известном как самосознание, достаточны сами по себе, чтобы заклеймить все идеалистические теории как эмпиризм.
Есть две причины рассматривать Эго так, как я это делаю сейчас, под заголовком «Рединтеграция» и в посвященной ему главе. Первая заключается в том, что его нельзя понять, если мы предварительно не увидели, что такое Субъект, или, во всяком случае, что подразумевается под реальным генезисом и обусловленностью сознания, и таким образом получили возможность объединить психологические концепции с метафизическим анализом. Второе – это то, что как особый объект он первоначально воспринимается в реинтеграции, посредством внимания к поездам восприятия, и более того, что восприятие его как особого объекта предполагает или, во всяком случае, включает в себя восприятие некоторого центрального материального объекта, как местопребывания сознания, отделенного от материи.
Восприятие Эго происходит в результате спонтанной реинтеграции под воздействием внимания, что в некотором роде аналогично тому, как восприятие удаленных материальных объектов происходит в результате того же процесса с помощью тех же средств. Подобно этим объектам, он также занимает свое место в последующих спонтанных рединтеграциях, как концепция, доминирующая над всем их ходом и содержанием. В дальнейшем воспринимающий акт или момент восприятия, в отличие от содержания или объектов, воспринимаемых этим актом, рассматривается как объект, и о нем говорят как о двух, то есть как о самосознании, которое либо является, либо делает агента, которому оно принадлежит, Я или Личностью. Термин Я – это термин, которым самосознающее существо обозначает и описывает себя как самосознающее. Таким образом, восприятие Эго, как и восприятие Субъекта, имеет за собой историю в объективном мышлении, и его объект, Эго, как часть сознания, имеет реальное существование в качестве объекта, о котором думают; оно является частью сознания как реально существующее. Но Эго не имеет также того, что имеет Субъект, – реального существования предполагаемого реального состояния. В свете этого различия Эго принадлежит только объективной мысли, а Субъект – миру реальных и материальных агентов. Эго – эмпирический центр мира мысли, Субъект – эмпирический центр материального мира, о котором думают. Эго сидит в Субъекте и обусловлено им, и обычно воспринимается, и всегда должно восприниматься как таковое.
Рассматривая историю восприятия Эго в рединтегративном сознании, очевидно, что шаги, которые ведут к его достижению, а также те, которые позволяют точно определить его и полностью развить, должны были быть и будут постепенными. Восприятие сознания, или ощущения, в отличие от материальных объектов, несомненно, было рудиментарной формой восприятия Эго, реального или воображаемого. И это первое восприятие, как мы видели в Книге I, было со-временным с восприятием Тела, которое можно назвать рудиментарной формой Субъекта, как центрального объекта материального мира. Сознание тогда воспринималось как находящееся в теле и в то же время как обладающее отдельным единством, характером и собственной историей. В соответствии с этим его стали рассматривать либо как зависящее от нематериального агентства, сидящего в теле, либо как само являющееся таким агентством. Истинное представление о нем, как я пытался показать, – это представление о единстве философски субъективного аспекта сознания, не воспринимаемого отчетливо иначе, как при внимательном и аналитическом рассмотрении конкретного сознания, к которому оно принадлежит.
Когда будет признано, что материальный субъект содержит в своей нервной системе и нервных процессах все ближайшие реальные условия процессов сознания во всех их деталях, мы избавимся не только от всех более древних гипотез относительно реальной обусловленности сознания, но и от, возможно, последней и самой современной из них – непродуманной концепции, согласно которой нервный процесс и сознание, или, как иногда выражаются, мозг и разум, являются двумя аспектами одной и той же вещи, или одной и той же вещью, рассматриваемой с противоположных точек зрения. В то же время в концепции нервного процесса как реального условия сознания мы получим единственное адекватное средство для учета и отслеживания тех побочных путей сознания, которые в последнее время стали наиболее заметным объектом физиологической психологии; в первую очередь к ним, пожалуй, можно отнести поразительные феномены множественной личности. Эго, или самосознание, опирается главным образом на рединтегративные, в отличие от презентивных процессов, то есть на процессы, связанные с памятью и воображением, которые обусловлены нервными процессами. Отсюда следует, что всякий раз, когда два или более нервных путей или наборов нервных процессов, деятельность которых
деятельность которых обычно порождает сознание вместе, настолько разобщены, что всякий раз, когда деятельность одного из них стимулируется к сознанию, деятельность другого остается работать, если вообще работает, ниже порога, то каждый из этих разобщенных трактов или наборов процессов, когда его сознание поднимается выше порога, также будет сопровождаться личностью, разобщенной с остальными. Чтобы восстановить в таких случаях диссоциации нормальное единство и полноту личности субъекта, необходимо восстановить единство между несколькими трактами или наборами процессов в отношении точки, в которой их деятельность сопровождается сознанием, или, выражаясь образно, привести их несколько порогов сознания к одному и тому же уровню.
Существование Эго, то есть некой реальной черты в сознании, которая выражается в использовании нами терминов Я и Мы, является неоспоримым фактом. Вопрос в том, какова природа этой реальности, что действительно и исключительно подразумевается, когда мы используем эти термины. Очевидно, что, хотя я говорю об Эго в этом смысле как о реальности, я не выдвигаю приведенную мной концепцию, которая является результатом метафизического анализа, как идентичную концепции, сформированной здравым смыслом, не более чем любой из концепций, существующих, насколько мне известно, среди психологов в настоящее время. Я выдвигаю ее как истинную концепцию Эго, основанную на анализе фактов, на которых, без анализа, основаны и здравый смысл, и современные психологические концепции; анализ объясняет генезис и ошибки этих концепций, а полученная концепция, следовательно, является тем, что я хотел бы заменить ими. Требуется некая истинная и философская концепция того, что же это такое, что мы действительно имеем в виду, когда говорим «я» и «мы». Объект, который действительно предстает перед нами, когда мы используем эти термины, – это то, что технически называется Эго. Именно для него требуется определение, основанное на анализе. Необходимо тщательно различать две вещи: восприятие, известное как самосознание в реальном опыте каждого человека, и истинную концепцию или интерпретацию этого восприятия, данную философски направленным вниманием и анализом. Именно нынешняя интерпретация Эго как агента, познаваемого или непознаваемого, которую я пытался показать, не имеет оснований в фактах, дающих восприятие самосознания в реальном опыте. Абстрактное единство, даже если оно является единством сознания, не может без грубых ошибок быть гипостазировано как реальный агент или агентство. Мышление здравого смысла по своему действию является конкретным, а не аналитическим. Точно так же, как в своем представлении о материальном объекте здравый смысл ставит его вторичные качества, как они называются, то есть, напр. его цвет, тепло, сладость, запах, звучность, на одну ступень с его так называемыми первичными качествами, которые представляют собой материю и реальное состояние, и считает материальный объект одновременно и в одном и том же смысле соединением всех этих качеств, так и в случае с Эго здравый смысл отождествляет сознание с агентом или деятельностью, реальной или предполагаемой, которая обладает или осуществляет его, считая Эго одновременно агентом и сознанием в одном и том же смысле. Эта концепция Эго, основанная на здравом смысле, является корнем, из которого проистекают различные современные психологические концепции, некоторые из которых были отмечены выше, и все они являются ее модификациями, содержащими одно и то же заблуждение. А это заблуждение состоит в том, что Эго представляется как Мысль, Эмоциональное чувство и Воление, а также как их агент или активный принцип, сразу и в одном и том же смысле. Истина, вытекающая из подлинного анализа, состоит в том, что Эго является существенным субъективным напряжением или элементом во всем сознании и, следовательно, во всех этих различных видах или режимах его, в той мере, в какой они являются видами или режимами сознания, но что в том, что касается агентности в них, оно зависит от деятельности материального Субъекта. Оно обусловлено этой деятельностью Субъекта, но не тождественно ей или ей. Эго – это способ или аспект сознания как экзистенции, обусловленный Субъектом как материальной экзистенцией. И все конкретное сознательное бытие является двойным, не в том смысле, что его материальность и его сознание являются противоположными аспектами друг друга или одной и той же вещи, а в том смысле, что они непосредственно связаны между собой как условие и обусловленность.
Пока концепция здравого смысла ограничивается здравым смыслом и целями повседневной жизни, она совершенно справедлива, безвредна и незаменима. Но когда она переносится в науку или в философию и поддерживается как научная или философская концепция, тогда и в этом характере она начинает действовать, подменяя ложный анализ и интерпретацию признанной двойной природы сознательного существа истинными; истина же состоит в том, что сознание и Эго связаны с нервными процессами субъекта как условия с их условиями, а не как их субъективный аспект или как их оживляющий интеллект.
Беда этой концепции не в том, что она объединяет сознание и субъект в единое сознательное существо, ибо это истинный и очевидный факт опыта, а в том, что она объединяет их под ложными красками, вследствие ложного анализа этого факта опыта, ложного различения между его составными частями. Отсюда и проистекает беда в науке и философии, а не в опыте здравого смысла, пока он остается в своей собственной области. Практически Эго можно рассматривать как новый характер, принимаемый Субъектом, как его представляет себе здравый смысл. И этот характер субъекта мы выражаем, когда называем его личностью. Агент, который может сказать «я» в результате размышления о своей собственной осознанности, является Личностью; и Личность – это общий термин для обозначения этой характеристики.
§5. Эмоции личности
Нам еще предстоит более подробно рассмотреть, как и в каком смысле восприятие личности является эпохальным, то есть представляет собой эпоху или поворотный пункт в истории и развитии реинтегративного сознания. Его действие, как мне кажется, должно быть представлено следующим образом. Восприятие субъектом своей собственной личности или личности тела, которое является рудиментарной и донаучной формой субъекта, обязательно сопровождается умозаключением о личности других субъектов, которыми он непосредственно окружен. Его восприятие себя и умозаключение об их личности начинаются и развиваются вместе, проходя через различные стадии все более отчетливого и ясного восприятия, начиная с тех, которые характерны для младенцев и низших животных, и заканчивая теми, которые характерны для взрослого человека цивилизованной культуры. Но на всех этих этапах и в какой бы точке эволюции мы ни остановили свой взгляд, мы обнаружим, что личность, которую субъект воспринимает в себе и (путем отражения от себя) в других, дифференцирует эмоции и страсти субъекта, привнося новый характер в представления или образы, в которых они возникают, и придает им совершенно новый тон и цвет. Эмоции (включая здесь и в других местах определенные желания, чувства и страсти), таким образом, разделяются на два класса, которые исчерпывают все их поле, – (1) эмоции, которые не имеют, (2) эмоции, которые имеют, реинтегративное сознание сознательных существ, будь то Я или другие, как их представленный объект. Эмоции последнего класса чаще всего называют моральными или социальными, [4 - В своей «Теории практики», том I, стр. 181, sqq, я дал им название рефлексивных эмоций. Но это название вводит в заблуждение, поскольку, поскольку все чувства являются строго рефлексивными, оно не дает никакого указания на особый способ рефлексии, который подразумевают данные эмоции. Однако этим я ни в коем случае не хочу отказаться от анализа и классификации эмоций, приведенных в той работе, или каким-либо образом намекнуть, что я считаю ее вытесненной настоящим кратким изложением того же предмета. Доктор Чарльз Мерсье в своей очень ценной и интересной работе «Нервная система и разум», стр. 279 и 286, упомянул этот мой анализ и классификацию в числе других, которые он счел неудовлетворительными. Главной причиной я считаю то, что метод, с помощью которого она получена, основан на концепции, сильно отличающейся от его собственной, о зависимости психологического от метафизического анализа.]но личностные – лучшее название для них, поскольку оно более четко указывает на способ их происхождения; хотя на ранних стадиях их развития они рудиментарны и плохо определены, как и соответствующие идеи личности, которые служат их репрезентативным объектом или рамкой.
Эти эмоции, которые мы испытываем по отношению к личности сознательных существ, естественно, меняются в зависимости от нашего представления об этой личности. Но они широко отличаются от тех, которые мы испытываем по отношению к существам, которые мы представляем как просто чувствующие, без реинтеграции, и тем более по отношению к существам, которые мы представляем как бессознательные. Их отличие состоит в том, что мысли, чувства и воления представляются как сознательно испытываемые субъектами, чья личность, следовательно, представляется как объект нашей собственной. Кроме того, испытывая эти эмоции, наша собственная личность стоит в качестве объекта точно на той же ступени, что и личности других, в том смысле, что все они являются непосредственными объектами эмоций, которые мы испытываем, представляя их. Однако есть разница в том, что личности других заняли это место в наших представлениях благодаря умозаключениям, сделанным на основе действий, речи, жестов, взгляда и так далее их соответствующих субъектов, в то время как наша собственная личность является объектом идеи, сформированной путем простой реинтеграции нашего собственного опыта. Но во всех случаях представленная личность является непосредственным объектом эмоции, которую она, как говорят, внушает, а представление о ней – это образ или рамка этой эмоции в человеке, который ее испытывает». Однако личные эмоции не возникают как совершенно новые чувства в представлении личности; за ними стоит история. Как представление личности основано на представлении некоторого субъекта, отличимого от нее и к которому она принадлежит, так и личные эмоции основаны на некоторой эмоции или эмоциях, испытываемых по отношению к существам, не представленным как личности. Эти эмоции – некий способ или способы печали, отвращения, страха, неприязни, или радости, приязни, надежды, желания. Это, так сказать, неразвитые состояния чувств, которые станут личными эмоциями, то есть модами личной неприязни или симпатии, антипатии или симпатии, ненависти или любви, гнева или страстной привязанности, как только личность другого станет объектом, представленным воспринимающим субъектом, и окажется лицом к лицу с его собственной представленной личностью, чтобы составить с ней дополнительную часть всего его представленного объекта. Особенность, которая придает новую и особую окраску личностной эмоции, заключается не просто в том, что ее объект представлен как личность, но в том, что мы представляем себе, что эта личность имеет восприятие, чувство или знание того, что мы думаем или чувствуем по отношению к ней, точно так же, как мы представляем ее мысли и чувства по отношению к себе. Именно взаимность этого чувства или знания, тот факт, что мы представляем его как общее знание для обоих людей, или, так сказать, его сознательное перенесение с одного на другого, придает личным эмоциям их особый тон и характер. С этого момента мы живем в совершенно ином мире, чем прежде, и воспринимаем себя как членов разумного общества.
Дальнейшее развитие нового вида эмоций не идет ни в какое сравнение с этим. Личные эмоции являются основой и фундаментом всех последующих модификаций и разветвлений моральной, социальной, образной и религиозной жизни. Великие группы (1) эстетических и поэтических эмоций; (2) чувство справедливости и несправедливости, добра и зла, морального одобрения и неодобрения выбора и поведения; (3) надежды и страхи, которые привязывают нас к невидимому миру и связывают с Божественным; все они в равной степени имеют не только свои конечные корни, но и свои окончательные разработки и развитие в сфере, которая описывается, так сказать, из личных эмоций как центра, и занята тем, что мы представляем себе как разумное общество. Вся жизнь и опыт рединтегративных сил ограничены горем и радостью в нижней части и образным развитием антипатии и симпатии в верхней части их истории и эволюции. Но именно чувства, принадлежащие ко второму основному подразделению, о котором говорилось выше, я имею в виду те, что относятся к личным эмоциям и их образному развитию, вместе с действиями, к которым они, кажется, побуждают или с которыми они, кажется, связаны, являются более конкретными или, по крайней мере, подразумеваются, когда говорят о человеческой природе. Именно они содержат в себе различия, которые характерны именно для человечества, поднимаясь над уровнем чувств и действий, общих для человека с высшими животными. Это всего лишь грубое представление, согласно которому различия человеческой природы находятся исключительно в распоряжении Разума, без учета того, что это разум, информированный высшими формами образных эмоций. Поэтому я не хочу и, очевидно, не могу подразумевать, что эти эмоции и их развитие когда-либо действуют в той изоляции, в которой мы сейчас рассматриваем их для целей анализа. Рединтеграция – это не процесс, который протекает в изоляции от других органических процессов телесной системы, но всегда находится в зависимости и взаимодействии с процессами, вытекающими из телесных потребностей и тенденций, которые проявляются в сознании в виде ощущаемых аппетитов и желаний, таких как потребность в пище, тепле, половом акте и активации органов в целом, а также с процессами специальных органов чувств, которые приносят нам представления от внешних объектов. Тем не менее именно в рединтеграции или жизни мозга берет начало специфически человеческий опыт; и именно особым видам некоторых чувств, которые имеют свое место в мозге, и внутримозговым реакциям, от которых зависит игра этих чувств, обязана специфическая природа этого опыта. Мы не в большей степени можем понять специфическую природу ни конечных чувств, ни возникающего опыта, взятых отдельно от мозговых процессов, от которых зависит их существование и их комбинации, чем мы можем понять специфическую природу чувственных представлений. И то, и другое – конечные факты, или основания, опыта. Мы не можем сказать, почему такие специфические эмоции, как любовь или гнев, являются такими, какими они являются, так же как мы можем сказать, почему существуют такие специфические ощущения, как свет или звук. Мы можем назвать реальные условия их возникновения, но не можем указать причину их специфической природы. И здесь мы снова видим огромную важность того глубокого различия между природой и генезисом, которое было впервые приведено в ясное сознание гением Платона и которое я принял в качестве одного из кардинальных принципов философского метода как в настоящих, так и во всех моих прежних работах.
Из приведенного краткого очерка эмоциональной жизни очевидно, что в обоих ее подразделениях, доличностном и личностном, существует великая антитеза, аналогичная той, что существует между удовольствиями и болью в ощущениях, на которой последние, собственно, и основаны. Через доличностные эмоции проходит антитеза между различными способами радости и горя, и эта антитеза продолжается в личностных эмоциях в антитезу между различными способами симпатии и антипатии. Как удовольствие и боль чувства лежат в основе радости и горя, а затем отпадают, как удовольствие и боль чувства, в их дальнейшем развитии, так и радость и горе, в свою очередь, лежат в основе симпатических и антипатических групп, а в их дальнейшем развитии также отпадают в их специфическом характере как радость и горе. Эмоции, каждая в своем специфическом характере, становятся так называемыми мотивами или источниками действия и ощущаются как желания, требующие удовлетворения. Независимо от того, возникает ли эмоция первоначально из радости или из горя, удовлетворение желания, которое она порождает, является удовлетворением, а отрицание или предотвращение его удовлетворения – обратной стороной удовлетворения, т. е. болью эмоции. Например, удовлетворение мести и причинение боли тем, кого мы ненавидим, приносит реальное и часто сильное удовлетворение, так же как и реальное и острое удовлетворение от того, что мы дарим блага тем, кого любим, или удовлетворяем нужды тех, к кому испытываем жалость. Однако ненависть коренится в печали, связанной с представлением личности, сознательно расходящейся с нашей собственной, в то время как любовь и жалость основаны на радости признания сознательного согласия с нашей собственной личностью другого человека, несмотря на то, что в случае жалости сознание, представленное как общее для двух личностей, является эмоционально болезненным.
Настоящий анализ личности и личностных эмоций, кажется, предлагает лучшее обоснование того, что сейчас является общепризнанным фактом естественной врожденности или оригинальности альтруистических эмоций, чем может быть дано на основе здравого смысла или эмпирической основы, на которой мы начинаем с предположения о восприятии раздельности между различными личностями. Так мы поступаем, если рассматриваем этот вопрос как вопрос психологии, в которой отдельные сознательные существа принимаются за конечные факты, чья индивидуальность есть нечто per se notum, на наше представление о котором не может повлиять метафизический анализ. Исходя из этого, требуется специальная теория, объясняющая, почему мы испытываем альтруистические эмоции с той же спонтанностью и оригинальностью, что и злобные; теория, которая была бы адекватна, чтобы преодолеть восприятие раздельности интересов между собой и другими, с которого мы, как предполагается, начинаем, и показать дружеское чувство к другим как естественно вытекающее из нашего чувства к себе, хотя оно может быть не таким сильным. Доктор Бейн, например, прибегает к гипотезе, согласно которой в актах искренней бескорыстной доброжелательности и сочувствия к другим можно увидеть «замечательный и венчающий пример Неподвижной Идеи», которая в данном случае была приобретена и развита стадной природой и привычками человеческого вида, среди прочих, в течение долгого периода его эволюции.[5 - The Emotions and the Will, p. 121. Third Edition, 1875.]
Но как только мы видим, что связано с восприятием чужой личности, а именно, что оно требует представления нашей и чужой личности вместе, как двух взаимодополняющих частей одного и того же опыта, становится очевидным, что расхождение или согласие между этими двумя частями нашей общей идеи становится тем, что называется непосредственным мотивом или пружиной действия, как в одном случае, так и в другом. Симпатические или доброжелательные и антипатические или злобные действия возникают одинаково спонтанно и одинаково изначально из нашего собственного рединтегративного опыта, и им не приходится преодолевать трудности, связанные с восприятием раздельности личностей, которое приходит в результате инференции на более поздней стадии развития нашего знания. Ибо недостаточно сказать, что это развитие имеет долгую историю, если не добавить, что его начало соотносится с самой рединтегративной деятельностью, которая, как мы видели в книге I., является предпосылкой восприятия мира материальных объектов, одним из которых является тело субъекта. В этой истории, соответственно, сравнительно поздно возникает представление о том, что сознание каждого субъекта есть нечто совершенно отдельное от сознания каждого другого, то есть психологическая концепция совершенно отдельных личностей. Изначально мы представляем чувства других Субъектов, так же как и материальные объекты, как часть нашего собственного опыта, и на основе этих представлений мы действуем задолго до того, как придем либо к восприятию того, что каждый реальный Субъект имеет совершенно уникальный и неразделенный опыт, непроницаемый для других, либо к истинному различению материальных объектов, которые являются реальными Субъектами, обладающими личностью в полном смысле, от тех, которые не наделены такой способностью.
Большая ошибка – переносить это полностью развитое восприятие отдельности личностей на начало эволюции личностных эмоций, чтобы сделать представление о нем основой или условием, объясняющим их природу или происхождение. Вред от этого заключается в том, что, таким образом ложно упреждая полное представление о личности, мы фальсифицируем отношение между эмоциями и идеями или образами, которым они соответствуют, – отношение, которое на самом деле является одновременным, – и представляем эмоции либо как чувства, испытываемые с какой-то скрытой целью, как, например, когда
«Собака, чтобы добиться своих личных целей,
взбесилась и укусила человека».
либо как логические следствия ранее возникших идей относительно их объектов. Правда, я могу оправдать или объяснить свой гнев или свою благодарность, например, сказав, что я знаю, что объект этого чувства желает мне зла или сделал мне доброе дело, но это не тот реальный порядок, в котором возникает мой гнев или моя благодарность. Они возникают спонтанно, вместе с первой мыслью об обиде или доброте, и являются элементом общего состояния сознания, которое можно обозначить либо как идею, либо как эмоцию, в зависимости от того, какую цель мы преследуем. Оправдание или объяснение, которое здесь предполагается, исходит из представления здравого смысла об отношениях между людьми, а оно опять-таки построено на восприятии раздельности между ними, что не может быть зачтено при анализе рассматриваемых эмоций в их происхождении или простоте.
Есть еще одна пара эмоций, оригинальность и спонтанность которых выставляется в ясном свете этим анализом, эмоций, которые тесно связаны с теми, которые мы только что привели в пример, и составляют с ними часть симпатической и антипатической антитезы. Я имею в виду чувства, возникающие при восприятии справедливости и несправедливости, или, говоря обычным языком, чувство справедливости и несправедливости. Это личные эмоции, когда термины «справедливость» и «несправедливость» употребляются в их собственном смысле, то есть когда отношение, являющееся особым объектом или рамкой эмоции, воспринимается как существующее либо между людьми, либо между собственными действиями человека и их последствиями, о которых он судит сам. Например, я испытываю чувство справедливости, когда в сделке между мной и другим человеком, в отношении которой обе стороны являются свободными агентами и обладают равной властью, я могу представить свое исполнение точно соответствующим моему обещанию, а также могу думать о другом человеке как о представляющем его в том же духе. Точное соответствие ожидания и исполнения, представленное в виде, воспринимаемом обоими лицами одинаково, в вопросах, где оба являются свободными и равными агентами, является сущностью отношения справедливости; несоответствие между ними, при тех же обстоятельствах, несправедливости.
Так же обстоит дело и в делах, имеющих самостоятельное значение; например, если я сознательно совершаю глупый поступок под давлением какого-то настоящего удовольствия, а за ним следует ожидаемое последствие, я чувствую соответствие между моим поступком и его последствием и признаю справедливость возмездия. Если же по какой-то случайности я избегаю последствий, я списываю это на удачу, которую я бы назвал несправедливой пристрастностью, если бы мог рассматривать агентство как личное. Но в подобных случаях я сам занимаю позицию другого человека в сделках между двумя; и моя справедливость или несправедливость состоит в том, чтобы осудить или оправдать себя за глупость в действиях, которые я совершил, когда я оглядываюсь на них в ретроспективе. Я несправедлив, если не признаю и не сожалею о совершенной мною глупости.
Но хотя чувство справедливости и несправедливости в собственном смысле слова применимо только к отношениям между людьми, само отношение, составляющее основу этого чувства, уходит корнями в образы, которые не являются строго личными, а предшествуют восприятию людей в полном смысле этого слова. Это отношение заключается в воспринимаемом равенстве, одинаковости или равновесии между любыми двумя объектами или событиями. Именно это обстоятельство и связанное с ним эмоциональное удовлетворение придают отношению, где бы оно ни обнаруживалось и, следовательно, когда оно переносится на личные отношения, характер окончательного стандарта, не подлежащего обжалованию, и, следовательно, обеспечивают ему положение одной из основных форм, принимаемых нашим восприятием морально правильных действий, тем самым гарантируя ему одобрение совести, о чем будет возможность подробнее рассказать в одной из последующих глав. Установление справедливости между человеком и человеком состоит в согласовании взглядов, которые каждый из них имеет относительно нее, в сделке, которая является предметом общего знания для обоих. Может оказаться, что это установление осуществляется с трудом или вообще не может быть осуществлено. Но это ни в коей мере не меняет ни природы справедливости, ни чувства радостного согласия, с которым мы ее воспринимаем, ни того, что мы искренне считаем ее реальным присутствием. Когда обе стороны сходятся в одном мнении, обе они одинаково удовлетворены, равенство, одинаковость, равновесие требований обеспечены, и нет места для дальнейших уклонений с обеих сторон. Эмоции, как уже говорилось, – это особые способы ощущения, принадлежащие рединтегративному сознанию, аналогичные различным способам ощущения; и из этих последних некоторые являются конечными, а другие – модификациями или производными от них. Так же обстоит дело и с эмоциями, отделенными от тех корней, которые они могут иметь в удовольствиях и боли чувства, и рассматриваемыми исключительно как ощущения рединтегративных органов. В этом смысле одни эмоции являются конечными и неразрешимыми, а другие – производными и разрешимыми, но только из эмоций и в них. Все они одинаково возникают в процессе репрезентации, пронизывая и окрашивая образы, из которых она состоит. В то же время, хотя некоторые образы или идеи необходимы как основа или объект, как это называется, для различных эмоций, эмоции в значительной степени безразличны к конкретным образам, которые время от времени служат им основой. Как чувства, они имеют один источник в удовольствиях и боли чувственных представлений; но источник образов, которые являются их каркасом, лежит просто в чувственных представлениях. Образность, таким образом, является неотъемлемой частью знания и подвержена его изменениям, росту, отказу от него и развитию. Эмоции – это часть и часть чувства, и их изменения, рост, отказ и развитие происходят по несколько иным законам. Они представляют собой нечто гораздо более фиксированное и стабильное, чем образное мышление, которое меняется с ростом знаний. Их изменения, насколько они присущи, – это изменения в интенсивности, в утонченности, в развитии тонких оттенков чувств, в сложности смешения, противопоставления и так далее. Развитие эстетического чувства к красоте и величию природных пейзажей – хорошо известный пример. При реинтеграции два элемента – образ и эмоция – располагаются несколько свободно друг от друга, меняясь с разной скоростью и скользя как бы по параллельным канавкам. По мере того как наши образы меняются вместе с нашими знаниями, мы переносим наши эмоции, с определенными изменениями, на новые образы и отстраняем их от старых, ставших устаревшими и неправдивыми.
Считается, что на начальном этапе своей эволюции человек олицетворял почти все природные объекты, которые имели или казались имеющими отдельное существование, – горы и реки, небо, небесные тела, землю, океан, ветры, бури, скалы и деревья. То есть он ложно представлял их субъектами, обладающими чувствами и идеями, аналогичными его собственным, которыми, как он полагал, руководствуются их действия, какими бы грубыми ни были его представления о личности. В этом не было никакой поэзии; это была самая ранняя гипотеза науки. И в самом деле, одним из первых отдельных материальных объектов, с которыми вступает в контакт младенец, и тем, с которым он наиболее тесно и постоянно связан, является человек, а именно его мать, из груди которой он черпает пищу. Помимо собственных ощущений, у него есть и другие примеры, которые приводят его к первой грубой концепции природы всех отдельных материальных объектов, а именно как существ, наделенных личностью. Когда поэты подхватили эту идею, это стало свидетельством того, что от ее истинности, по крайней мере, частично отказались; ведь только тогда к ней можно было относиться достаточно отстраненно и безразлично, чтобы позволить играть с ней как с источником чисто воображаемого удовлетворения. Поскольку частичное расхождение между эмоциями и образами является важным моментом, возможно, будет целесообразно сказать еще несколько слов в его разъяснение. В книге I. было обнаружено четкое различие между формальными и материальными элементами восприятий, то есть между длительностью и местом во времени, фигурой и расположением в пространстве (которые являются формальными элементами), занимаемыми любым ощущением, включая удовольствие или боль, и ощущением, которое занимает эту временную и пространственную область (ощущение является материальным элементом). Соответственно этому в рединтеграции мы имеем различие между образами, которые состоят из репрезентаций чувственных представлений во всей их полноте, что является аналогом формального элемента, и эмоциями, которые наполняют или пронизывают эти репрезентации и являются аналогом материального элемента в чувственных представлениях. В предыдущем разделе данной главы также отмечалось, что мы можем реинтегрировать ощущения, включая их удовольствия и боли, исключительно как часть образного представления, не испытывая удовольствия или боли от эмоций, связанных с удовольствиями или болями от ощущений, включенных в образное представление. В рединтеграции образность будет сопровождаться собственными эмоциями, вытекающими из нового контекста, в котором она будет появляться.
Соответственно, с этим переходом к рединтеграции и аналогичным различием между образностью и эмоциями, также появляется определенная степень независимости между материальными и формальными элементами в рединтеграции, по сравнению с отношением между соответствующими элементами, как они появляются в смысловом представлении. Элементы обоих видов, правда, одинаково необходимы, как и прежде, для того, чтобы составлять любой и каждый момент конкретного сознания. Но происходит, так сказать, смещение конкретных элементов, составляющих моменты сознания, когда мы переходим от процессов, включающих представления, к процессам чистой реинтеграции, в которых также продолжается то же самое явление. Причина этого, по-видимому, заключается в следующем. Эмоции обусловлены развитием, осуществляемым рединтегративными органами, удовольствия и боли, присущих материальному элементу ощущений-представлений. Особые качества эмоций порождаются непосредственно и сразу же деятельностью рединтегрирующих органов и лишь косвенно и отдаленно – образами, которые представляют чувственные репрезентации во всей их полноте. Эмоции, таким образом, являются непосредственными способами ощущения мозга, возникающими действительно на основе представлений образов, но не обязательно или исключительно привязанными только к одному образу или набору образов. Образ содержит в себе как формальный, так и материальный элемент, происходящий от представлений чувств, но эмоция – это только материальный элемент, и она не может существовать сама по себе. Это материальный элемент нового рода, добавленный в процессе реинтеграции, на образность которого она опирается как бы для поддержки. Таким образом, всегда существует некий образ, к которому привязана эмоция, но этот образ не всегда один и тот же.
Скорость изменения этих двух элементов, образа и эмоции, также не одинакова, если рассматривать их в масштабе исторического развития. Первый элемент меняется гораздо быстрее, чем второй, поскольку сразу же зависит от роста приобретенных нами знаний; второй меняется медленно, поскольку зависит от развития и модификации конечных способов ощущения, присущих самой мозговой субстанции. Постоянное изменение характера эмоций или развитие нового вида или разновидности эмоций потребует соответственно постоянных изменений в структуре или способе функционирования мозговых органов. Это полностью согласуется и может служить частичным объяснением того, что уже давно признано фактом: быстрый рост интеллектуальных знаний человека и его научного владения природой по сравнению с медленным прогрессом, который он делает, и частыми регрессиями, жертвой которых он становится, в отношении моральных склонностей и силы морального характера. Покойный Г. Т. Бакл, настаивавший на этом факте в своей памятной «Истории цивилизации в Англии», несомненно, покажет себя некоторым из моих читателей. В заключение этой, боюсь, несколько утомительной главы следует сказать несколько слов о том, что эмоциям обычно приписывают характер мотивов, целей или источников действия. Необходимо еще раз напомнить, что эмоции сами по себе не являются ни мотивами, ни целями, ни источниками действия, но свидетельствуют о том, что в действительности они являются движущей силой. Они являются зависимыми сопутствующими факторами нервных действий или процессов, которые приводят к действиям, о которых обычно говорят, что они сами дают начало. Эмоции кажутся носящими этот двигательный характер, потому что мы привыкли смотреть, думать и говорить с точки зрения Эго, принимаемого в качестве реального агента. И это опять же естественный и спонтанно принятый здравым смыслом взгляд, потому что при рединтеграции мы не сразу и не одновременно осознаем реально действующий нервный механизм, и в то же время действия, которые совершаются, кажутся немедленно вызванными чем-то внутри субъекта, а не объектами, на которые они направлены; то есть не вызваны предварительным восприятием этих объектов, а воображаются и выполняются в результате представления или воображения их. Таким образом, здравому смыслу кажется, что они исходят непосредственно от нас самих, то есть либо от наших чувств, либо от наших воль, как единственных мотивов, которые мы непосредственно осознаем. Как уже говорилось, в этом способе говорить нет ничего плохого, пока он тщательно ограничивается сферой здравого смысла и не принимается за истину философии или науки.
Глава II. Законы ассоциации
§1. Спонтанная реинтеграция, как ее анализировать
Задача, стоящая перед нами, обозначенная предварительным анализом, приведенным в предыдущей главе, заключается в анализе поездов чисто спонтанной рединтеграции с целью обнаружения общих законов, которым они следуют в своем составе, или, другими словами, общих единообразий, наблюдаемых в различных их случаях. Поскольку все эти поезда являются составными частями одного большого потока или движущейся панорамы сознания субъекта, когда оно отступает в прошлое памяти от любого данного настоящего момента, который, как уже говорилось, всегда является моментом, занимаемым самим сознающим субъектом, мы можем сказать, что вся эта движущаяся панорама сама по себе косвенно является нашим объектом. Но в настоящее время мы непосредственно занимаемся анализом только одного вида ее компонентов, а именно, ее поездов спонтанной реинтеграции. Связь их с двумя другими – представлениями чувств и волениями, которые являются, так сказать, их точками отправления и прибытия, а также связь их с нейроцеребральными процессами, которые являются их реальными условиями, всегда должна быть в поле зрения; но наш анализ будет направлен только на единообразие, проявляемое самими процессами спонтанной реинтеграции, причем это единообразие является тем, что правильно подразумевается под термином «законы ассоциации».[6 - Введение термина «рединтеграция» в английскую психологию и его формулировка в качестве общего закона, под который могут быть подведены все остальные законы ассоциации, принадлежит сэру Уильяму Гамильтону. Это я недвусмысленно и полностью признал при первом же обращении к этой теме, в своей работе «Время и пространство», глава V., стр. 256 sqq.]
Этот метод рассмотрения явлений рединтеграции отличается в трех важных пунктах от общепринятых, несмотря на то, что они могут отличаться друг от друга во многих сравнительно незначительных пунктах. Он отличается (1) тем, что сохраняет поезда сознания, которые являются анализом, отличным от их ближайших реальных условий, в то же время апеллируя к их зависимости от них, когда любая гипотеза относительно законов, которым следуют поезда сознания, должна быть либо поддержана, либо опровергнута; (2) в выделении для непосредственного анализа рединтегративных процессов из их оснований в смысловых представлениях и из их результатов в трансовых действиях, хотя и оставляя за собой право апеллировать к ним в поддержку или нападение на гипотезы; и (3) в начале отдельного рассмотрения спонтанной рединтеграции, как самого простого из ее подразделений, проще, то есть, чем добровольная рединтеграция, в отношении отсутствия избирательного и целенаправленного внимания к ее содержанию. Без спонтанной реинтеграции как основы волевая не могла бы возникнуть, поскольку для воли не было бы содержания, на котором она могла бы настаивать или которое могла бы отвергать. То, что законы ассоциации, как их правильно называть, являются законами только спонтанной, а не волевой реинтеграции, станет очевидным в настоящее время.
Эти моменты обычно, если не повсеместно, игнорируются в качестве правил и гарантий анализа при рассмотрении темы рединтеграции. Их принятие исключается отчасти эмпирической тенденцией рассматривать сознательное существо как целое в его отношениях к окружающим его вещам и людям, а отчасти практической тенденцией рассматривать рединтегративные процессы не сами по себе, а как средства объяснения построения ткани знания, с одной стороны, и опосредования и направления явных действий, речи и поведения, с другой. Есть и еще одна причина, которая, если и менее глубоко укоренилась, чем эти, то в то же время является той, о которой не так легко заявить. Она заключается в нежелании как трансценденталистов, так и психологов, придерживающихся традиционных методов, сталкиваться с вопросом, существует ли вообще такая вещь, как Исинда или Психическая Энергия; и, следовательно, они уклоняются от любой попытки отличить одну из них от сознания.
Это нежелание они обычно скрывают от наблюдения под предлогом, что, хотя реальность разума и психической энергии признается всеми, их конечная природа – это вопрос для метафизиков и никоим образом не касается их как психологов. Но в этом предлоге забываются две вещи: во-первых, что реальность разума и психической энергии не является общепризнанным фактом, а оспаривается физиологическими психологами строгой школы; и во-вторых, что от них как психологов требуется не определение конечной природы разума или психической энергии, а внятная концепция их, показывающая, по крайней мере, их возможность как реальных агентов, какая-то концепция их, которая должна стоять на такой же научной и феноменальной основе, как внятная концепция, которую физики создают о материи. До тех пор, пока такая внятная концепция разума и психической энергии остается желаемой, те, кто говорит о них как о реальности, могут считаться стоящими только на почве донаучного здравого смысла, а не в какой-либо степени на почве психологической науки, основной целью которой является открытие реальных условий сознания как существа и законов, по которым они действуют, обусловливая его. Последнее невозможно без первого. Таким образом, данный предлог является пустым. Но он также презрителен, как попытка переложить собственную работу на другие плечи. Он также злонамерен, поскольку служит для укрепления того ложного представления о природе и сфере применения Метафизики, на которое он опирается в своей правдоподобности. Тщетно, и даже хуже, чем тщетно, доискиваться до сущностной природы и законов сущностей, для возможности которых нет никаких доказательств. Совсем иначе обстоит дело с телом и вообще с материей. То, что объекты, соответствующие этим названиям, не только возможны, но и реальны, доказывается доказательствами самого ясного рода. Пусть психологи докажут то же самое, если смогут, в отношении психической энергии или разума.
§2. Ассоциация в воображении
Итак, первый вопрос, который мы задаем себе: «Что такое поезд спонтанной реинтеграции? Давайте рассмотрим простой пример, чтобы укрепить наши представления о предполагаемых явлениях.[7 - Анализ, содержащийся в этом и следующих разделах, был включен в речь, произнесенную перед Аристотелевским обществом в ноябре 1890 года, на тему «Законы ассоциации». См. «Труды Общества», том I. № IV. Часть I. Лондон. Williams and Norgate. 1891.]
Предположим, однажды днем, возвращаясь домой, я услышал крик мальчика из новостей: «Ужасное столкновение на железной дороге в Нортумберленде. Двадцать жизней погибли»; и предположим еще, что в старые каботажные времена я сам едва не лишился жизни, расстроившись ночью во время долгого путешествия на почтовой карете; более того, я не думал об этом в то время, когда услышал крик мальчишки-новостника, но это всплыло в моей памяти после того, как я услышал его. Перед нами пример реинтеграции, в которой, по-видимому, задействованы два основных закона, к которым обычно и в некотором роде правильно относят свои явления психологи, а именно: ассоциация по сходству и ассоциация по смежности. Давайте рассмотрим реальную природу этого случая.
Прежде всего, следует отметить, что простое слышание выкрикнутых слов является чувственным представлением, которое запускает всю последовательность в рединтеграции, но само по себе не является рединтеграцией вообще, как рединтеграция была определена для нашей цели в §1 предыдущей главы. С другой стороны, тот факт, что значение слов, идея рокового железнодорожного столкновения, связана со слышанием этих слов, является фактом рединтеграции, и этот факт, по-видимому, зависит от смежности, а именно от давно установленных связей между теми представлениями ощущений, принадлежащими различным чувствам, которые составляют сложную идею рокового железнодорожного столкновения, и звуками, которые их вызывают, каждый из которых связан с отдельным образом или представлением.
Во-вторых, воспоминание об аварии почтовой кареты, по-видимому, зависит от сходства этих двух происшествий: железнодорожное столкновение, представленное сначала на слух словами, и опрокидывание почтовой кареты, которое, как утверждается, вызывает в сознании и реинтегрирует в памяти. Но здесь можно возразить, что, если предположить, что сходство является законом, управляющим реинтеграцией вспоминаемой идеи, то в таком случае вспоминаемой идеей должна быть та, которая имеет наибольшую степень сходства с вызывающей ее идеей, и, следовательно, первым будет реинтегрирован не несчастный случай с почтовой каретой, а какое-нибудь другое смертельное железнодорожное столкновение. Давайте предположим, поскольку наш пример выбран лишь гипотетически, что так оно и есть, и что реинтегрированной идеей является идея какого-то другого ужасного железнодорожного столкновения, свидетелем которого я был или о котором читал, а не идея аварии почтовой кареты.
Таким образом, случай реинтеграции в соответствии с двумя великими законами смежности и сходства, как они обычно считаются, открывается для изучения. Вопрос в том, являются ли они действительно действующими законами рединтеграции? Мы ясно видим, что они позволяют хорошо описать явления, как они, очевидно, происходят, то есть являются хорошим здравым смыслом счета его как explican- dum, делая его понятным путем приведения его в соответствие с огромным количеством примеров, которые являются материей знакомого опыта. Но вопрос в том, являются ли смежность и сходство в содержании процесса сознания действительно действующими обстоятельствами; являются ли они реальными условиями, управляющими реинтеграцией, а также обстоятельствами, характеризующими ее как обусловленный феномен? Это первый вопрос, с которым мы должны столкнуться. Теперь, принимая во внимание, что природа движущейся панорамы объективной мысли или сознания такова, что она переживается только в череде настоящих моментов, очевидно, что ни одна ее часть никогда строго не повторяется, но безвозвратно уходит в прошлое памяти или забвения. Что мы подразумеваем под повторением или воспоминанием какого-либо фрагмента, так это возникновение другого момента, более или менее похожего на него, возможно, даже неразличимо похожего на него по содержанию; в этом случае мы называем его идентичным или тем же самым; эти два момента различаются только с помощью различных контекстов, в которых они происходят. Это может легко произойти, поскольку оба контекста частично приходят в сознание вместе в момент повторения, так же как и оба содержания.
Например, чтобы показать, что имеется в виду, возьмем простой случай воспоминания. Предположим, я посещаю незнакомый город и, выйдя на улицу в определенный час на второй день после приезда, вижу слепого нищего, сидящего на углу улицы. Предположим, что это зрелище сопровождается осознанием того, что я видел того же нищего, сидящего на том же углу, днем раньше, в тот же час. Это случай простой памяти. Вид нищего, увиденный накануне, остался в прошлом, о котором невозможно вспомнить. Что же тогда значит сказать, что я вспоминаю его в памяти или осознаю, что видел его? Очевидно, что в момент воспоминания, на второй день. Я имею в сознании сразу два образа: образ нищего в контексте сегодняшнего дня и образ нищего в контексте вчерашнего дня; эти два образа, каждый со своим контекстом, идентичны в отношении их главной черты – нищего, а первый, или вспоминающий, образ непрерывен или совпадает с реальным представлением нищего на второй день. Этот двойной образ – единственное свидетельство, которое у меня есть в тот момент, чтобы подтвердить тот факт, что я действительно видел нищего в первый раз.
Таким образом, сходство содержания, которое, если оно достигает неразличимости из-за отсутствия какого-либо воспринимаемого внутреннего различия, мы называем идентичностью, или, короче говоря, сходством содержания при различии контекста, является реальным фактом, обозначаемым термином повторение или вспоминание идеи в реинтеграции. Таким образом, вспоминаемая идея – это две идеи по количеству, хотя, если они неразличимы по внутреннему содержанию, они объединяются или сбиваются в одну, согласно нашему обычному способу говорить, и рассматриваются так, как если бы они были одной идеей, возникшей в разное время. Именно против такого объединения идей мы должны защищаться, когда слышим или используем обычный язык об их припоминании, реинтеграции или повторении. Применим это сначала к тем случаям кажущейся реинтеграции по сходству, в которых и вспоминающая идея, и вспоминаемая идея являются чистыми репрезентациями, как, например, в предполагаемом примере, идея железнодорожного столкновения в Нортумберленде, которая является вспоминающей идеей, сама подсказанная криком мальчика-газетчика, которую мы назовем А, и идея железнодорожного столкновения, свидетелем которого был или о котором читал ранее, которая является вспоминаемой идеей, и которую мы назовем Б. В таких случаях становится очевидным, что до тех пор, пока Б не будет вызвано в сознании, ни его сходство, ни его идентичность с А не вспоминаются. Когда оно вновь входит в сознание, тогда, но не раньше, его сходство или идентичность (в зависимости от обстоятельств) входит вместе с ним. То же самое верно и для любого другого отношения, которое может иметь место между ними, как, например, если А – это общий или предварительный образ железнодорожной аварии, а В – особый или конкретный случай такой аварии. Пока Б не вошел в сознание, факт того, что он является частным случаем А, не воспринимается.
Или, опять же, если отношение между ними – это контраст или антитеза любого рода, как, например, черное и белое, присутствие и отсутствие, причина и следствие, субстанция и атрибут, отец и сын и так далее, те же самые рассуждения остаются в силе; и они останутся в силе, если мы отнесем любой из этих примеров к категории смежности, а не сходства. Отношение не может быть связующим звеном в сознании, потому что оно не поднимается в сознание до тех пор, пока второй член отношения, вспоминаемая идея, не присутствует сама по себе. Единственный способ, которым оно могло бы быть связующим звеном между ними, – это вмешательство волевого акта мышления или рассуждения; например, если бы я фиксировал свое внимание на А с целью узнать о нем что-то большее, тем самым вызывая в сознании идею либо его внутреннего содержания, либо его отношения к другим идеям, и тем самым как бы проходя через эти идеи к некоторым конкретным идеям, подпадающим под одну или другую из них.
Но это сразу и само собой вывело бы данный случай из числа спонтанных или недобровольных рединтеграций, а следовательно, и из числа явлений, подчиняющихся просто законам ассоциации. Это будет не просто ассоциация между идеями, а случай, когда Мысль устанавливает ассоциацию между ними. Законы мысли, включая их происхождение из идей, стали бы тогда нашим первым объектом исследования, вопреки тому, что уже было показано как истинный порядок исследования. Если отбросить все подобные законы, то получается, что никакое отношение в сознании между вспоминающими и вспоминаемыми идеями, какими являются А и В, – будь то сходство, тождество, общность и особенность, контраст, причинность, антитеза или что-либо другое, – не является реальной связью или связующим звеном между ними. Ибо это не идеи, которые вмешиваются между двумя случаями, а идеи, которые накладываются на возникновение более позднего из них. А супервизорная связь является частью общего феномена рединтеграции, но не является оперативным условием того, чтобы она была той рединтеграцией, которой она является. Оно является частью explicanclum, но не explicatio. Феномен заключается в том, что, когда я однажды наблюдал или читал о каком-то железнодорожном столкновении, а затем забыл о нем, в моем сознании появляется его дубликат, В (дубликат, потому что представлен в ином контексте, чем сейчас), по случаю того, что аналогичный образ, А., возникает в моем сознании, когда я слышу крик мальчика-газетчика. Мы видели, что никакая непосредственно воспринимаемая связь между А и Б, или между А и оригиналом Б, не может быть приведена для объяснения того, почему Б возникает при появлении А. Каков же тогда вывод? Неоспоримо следующее: действительно действующее условие лежит за пределами явлений, непосредственно присутствующих в сознании, то есть в какой-то силе или процессе, действующем за порогом сознания. И мы вынуждены предполагать реальные условия, которые не являются состояниями или процессами сознания, потому что состояние или процесс сознания не может быть признано имеющим, как таковое, какое-либо действие, когда оно опустилось, и так долго – пока оно продолжается, ниже порога, то есть перестало быть состоянием или процессом сознания вообще. Оно не может продолжать действовать, когда оно перестало существовать. Non entis nulla operatio. Значит, за порогом действует некий агент. И те из моих читателей, кто разделяет мою неспособность сформировать какую-либо позитивную или определенную концепцию нематериального агента, не будут колебаться, отождествляя агентство, действительно действующее в этих случаях, с мозговым механизмом. Мы не можем не прибегнуть к какому-то реальному условию или условиям, действующим за порогом сознания. Единственный вопрос заключается в том, должны ли мы представлять их как принадлежащие нематериальному или материальному агенту.
Не так уж безразлично, какую форму дальнейшей ошибки мы примем, если предположим, что мы неправильно ответили на этот основополагающий вопрос и представим, что действительно действующие условия имеют нематериальную природу. Если, например, мы считаем, что сходство в сознании выражает закон условия, которое действительно действует ниже сознания, то мы просто представляем себе ум, душу, Эго или мыслительную агенцию, чем бы она ни была, действующую бессознательно таким же образом, как конкретное сознательное существо действует сознательно, как это представляется в описаниях здравого смысла. Если, с другой стороны, мы видим истинное выражение действительно действующей связи в тождестве, которое имеет место между универсальным и сингулярным, которые оно охватывает, тогда наша теория должна заключаться в том, что логические идеи или формы мышления действуют бессознательно как реальные условия в психологии, что означает сведение психологии к рангу ветви или производной логики. В нынешнем состоянии психологических и идеалистических споров это замечание, возможно, имеет немаловажное значение. Тем не менее, как уже говорилось, главный вопрос заключается в том, являются ли условия, действительно действующие в реинтеграции, материальными или нематериальными. Давайте посмотрим, применима ли гипотеза церебрального или нейро-церебрального агентства к рассматриваемому нами случаю. Мы можем представить себе ее действие следующим образом. Б, идея железнодорожного столкновения, свидетелем которого я когда-то был или о котором читал, может быть названа, в ее латентном состоянии до того, как она будет вызвана в сознание, ретентом; это ретент в то время, когда я слышу крик мальчика-новостника, который дает мне идею А, смертельного железнодорожного столкновения в Нортумберленде. Итак, первоначальный вход Б в сознание был обусловлен тем, что часть или части рединтегративного организма были приведены в движение путем распространения чувственных впечатлений в некоторые центральные части мозга. Эти части приобрели тем самым определенную готовность или возможность снова приходить в движение тем же или подобным образом, если им будет передан тот же или подобный стимул; то есть они сохраняют первоначальное В, ниже порога сознания. Необходимый новый стимул они получают, когда возникает А, поскольку появление А в сознании обусловлено возникновением движений в частях организма, в той или иной степени совпадающих с теми, которые обслуживали исходное В. Тот факт, что А сходно с В, показывает, что оно обслуживается сходными движениями в тех же частях организма. Следовательно, движения, обслуживающие А, создают движения, обслуживающие дубликат или второе издание (так сказать) Б, дубликат, будьте уверены, как оригинального Б, так и его представления в исходном контексте; таким образом, всего существует три Б, два одновременно присутствующих в момент воспоминания, и один оригинальный, который, в момент воспоминания, предположительно существовал в прошлом, из двух тогда присутствующих в дубликате. Реальная связь или узел между А и двумя одновременно присутствующими Б, между ними самими и между ними и оригиналом Б, о существовании которого в прошлом они свидетельствуют, лежит в постоянном нервном или мозговом организме, который сохраняет тенденцию вибрировать дважды, как вибрировал один раз, вибрировать трижды, как вибрировал два раза, и так далее с усиленной тенденцией к каждой дополнительной вибрации. Единство органа и сходство движений в нем являются, таким образом, реальными условиями реинтеграции сходных идей. Что именно представляют собой эти движения, следует ли их рассматривать как механические или химические, как вибрации или как частичные дезинтеграции и интеграции нейронной структуры, – это вопрос для нейронной физиологии, в который мы здесь не будем вдаваться.
Обратившись к оставшейся части нашего предполагаемого примера, в которой связь, очевидно, зависит от смежности, мы обнаружим, что она допускает аналогичное толкование. Здесь мы можем позволить себе быть более краткими. Связь между восприятием произносимых звуков и идеями или значениями, которые они нам передают, всеми признается как вопрос конвенции, обучения и привычки. Его конечная основа, которая является конечной основой самого языка, лежит в произнесении, а не в слушании звуков. Произнесение звука – это рефлекторное действие, обусловленное внешним или внутренним стимулом. Таким образом, звук и стимул связаны друг с другом, хотя изначально они были разрозненными; а принятие звука для выражения стимула или объекта, от которого этот стимул получен, или для передачи знания о нем другим – это волевое действие, возникающее в результате ассоциации между ними. Правда, в некоторых случаях воля могла принять подражательные звуки в качестве названий объектов, которым подражали, и, таким образом, язык мог быть основан на ассоциации по сходству, а не по смежности. Но какие бы мотивы ни определяли первоначальное волевое принятие определенных звуков для выражения и передачи определенных значений, именно в этом принятии, а не в его мотивах, следует искать причину того, что определенные звуки имеют определенные значения в случае всех полностью сформировавшихся и устоявшихся языков. Иными словами, акт волевого усвоения, который сам по себе превращает звуки в язык, также превращает ассоциацию между звуками и их значениями в ассоциацию по смежности. Установление связи между ними в опыте индивидов является частью их истории и образования.
Мы узнали значение, скажем, ужасного, железной дороги, столкновения, Нортумберленда, получив это значение по другим каналам и затем сопоставив его со звуком слова, обозначающего его, получив одновременно звук для каждого из них.
Таким образом, смежность в источниках рединтеграции заключается в одновременности или тесной последовательности либо между представлениями, либо между представлениями и репрезентациями. Но от чего зависит сама эта одновременность или тесная последовательность, поскольку ничто в содержании состояний, как состояний сознания, не может быть показано способным ее учесть? Ответ может быть только один. Он зависит от связи или функциональной непрерывности внутримозговых окончаний нервов, идущих от разрозненных органов, на которые в первую очередь производятся разрозненные ощущения-впечатления. И связь, скажем, между звуком и его значением, со временем становится легкой и привычной, потому что канал или другой способ коммуникации между органами, обслуживающими каждый из них, со временем становится легко и почти мгновенно проницаемым или проницаемым. Иными словами, смежность в рединтеграции зависит от особенностей в структуре и функционировании нейро-церебрального организма, близко напоминающих те, от которых зависит сходство в рединтеграции. Таким образом, сходство и смежность в рединтеграции являются зависимыми сопутствующими факторами структуры мозга и мозговых процессов, и в той мере, в какой они имеют место, свидетельствуют об их природе и способе функционирования. Эти последние являются реальными условиями, управляющими ходом рединтегративных поездов сознания, по крайней мере, до тех пор, пока они состоят из идей или образов, как в только что рассмотренном случае. Именно в них мы должны искать действительно действующий механизм, а в сходстве и смежности – лишь постольку, поскольку они являются свидетельством того, что они есть и что делают. Очевидная ассоциация по сходству свидетельствует о сходстве мозговых процессов в одной и той же части мозга; а очевидная ассоциация по смежности – об установленной непрерывности или проницаемости канала между различными его частями. Сходство и непрерывность в мозговых процессах – это реальные условия, являющиеся также тем, что называется рерте causie, сходства и смежности в состояниях и процессах сознания в поездах реинтеграции.
Глубина или сила впечатления, одним из признаков которого является яркость, в момент первоначального получения идеи или образа будет, таким образом, одним из обстоятельств, благоприятствующих его вызову другим стимулом, подобным первому. Ведь его глубина или сила сделает его более легким для стимулирования; и чем быстрее будет стимулировано первоначальное впечатление, тем меньшим будет стимул, необходимый для его повторного возникновения. Это также верно, если глубина или сила впечатления была приобретена не от одного мощного стимула, а по привычке, возникшей в результате частого повторения.
Опять же, важным обстоятельством является количество связей, которые определенный мозговой процесс имеет с процессами в других частях головного мозга; большое количество должно быть благоприятным для его запоминания, поскольку каждая дополнительная связь открывает новый канал, по которому к нему может быть передан стимул. И здесь снова можно увеличить пропускную способность или проницаемость соединительных каналов за счет частоты повторений.
Сила первоначального впечатления, количество связей с другими впечатлениями и увеличение по привычке либо конкретного впечатления, либо любой из его связей с другими, таким образом, представляются главными обстоятельствами, благоприятствующими реинтеграции любой данной идеи или образа, в соответствии с двумя основными законами сходства и непрерывности мозговых процессов. Очевидно, однако, что это лишь немногое дает нам для того, чтобы мы могли предсказать ход, который в реальности примет рединтеграция, начинающаяся с данной идеи, у любого конкретного человека; и еще больше для того, чтобы сформулировать закон, позволяющий предсказать ход рединтеграции у ряда людей, то есть общий закон хода, который данные идеи примут в спонтанных рединтеграциях, в случае человечества в целом. Чтобы это стало возможным, нам нужно гораздо больше, чем просто совершенное знание законов, управляющих спонтанной реинтеграцией; мы должны также знать конкретную историю и обстоятельства индивидов, в чьей конкретной жизни поезда спонтанной реинтеграции являются лишь одним напряжением или фактором, напряжением, не изолированным от остального в реальности, как это делается в мыслях для целей анализа.
§3. Ассоциация в эмоциях
Одно из направлений исследования, предложенное нашим предполагаемым случаем реинтеграции, все еще остается нерассмотренным. Следует помнить, что мы отвергли предположение о том, что идея, вызванная криком мальчишки, была связана с аварией почтовой кареты, которая едва не стала роковой для субъекта реинтеграции. Мы отвергли его, чтобы проследить за другим предполагаемым воспоминанием, в котором сходство между вспоминаемым и вспоминающим образами было больше. Но следует признать, что отвергнутое воспоминание вполне могло оказаться реальным в предполагаемом случае. Тогда давайте вернемся к этому нашему первоначальному предположению и посмотрим, не бросает ли оно дополнительный свет на вопрос об ассоциации.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70935007?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Объединение того, что прежде распалось
2
Очень отличается от «памяти как простой ретентивности» и от «сохраненного представления», о которых идет речь в предыдущих главах Книги I. См. подробнее по этому вопросу Книгу I. Гл. III. §3, «Собственно память, включая отступление к реальной обусловленности».
3
Дистанция – это термин, который я использовал в предыдущих работах для характеристики таких конкретных материальных объектов, о которых здесь идет речь, – реальных объектов мышления здравого смысла.
4
В своей «Теории практики», том I, стр. 181, sqq, я дал им название рефлексивных эмоций. Но это название вводит в заблуждение, поскольку, поскольку все чувства являются строго рефлексивными, оно не дает никакого указания на особый способ рефлексии, который подразумевают данные эмоции. Однако этим я ни в коем случае не хочу отказаться от анализа и классификации эмоций, приведенных в той работе, или каким-либо образом намекнуть, что я считаю ее вытесненной настоящим кратким изложением того же предмета. Доктор Чарльз Мерсье в своей очень ценной и интересной работе «Нервная система и разум», стр. 279 и 286, упомянул этот мой анализ и классификацию в числе других, которые он счел неудовлетворительными. Главной причиной я считаю то, что метод, с помощью которого она получена, основан на концепции, сильно отличающейся от его собственной, о зависимости психологического от метафизического анализа.
5
The Emotions and the Will, p. 121. Third Edition, 1875.
6
Введение термина «рединтеграция» в английскую психологию и его формулировка в качестве общего закона, под который могут быть подведены все остальные законы ассоциации, принадлежит сэру Уильяму Гамильтону. Это я недвусмысленно и полностью признал при первом же обращении к этой теме, в своей работе «Время и пространство», глава V., стр. 256 sqq.
7
Анализ, содержащийся в этом и следующих разделах, был включен в речь, произнесенную перед Аристотелевским обществом в ноябре 1890 года, на тему «Законы ассоциации». См. «Труды Общества», том I. № IV. Часть I. Лондон. Williams and Norgate. 1891.
Шедворт Ходжсон
В «Анализе сознательных действий» автор возвращается к изучению сознания, которое рассматривалось как непосредственный опыт в первой книге. Однако этот возврат происходит с новым пониманием реального агента и его роли в формировании сознания, полученным в ходе изучения позитивных наук во второй книге. Такой подход позволяет автору углубить анализ сознания, рассматривая его не изолированно, а как часть более широкого контекста человеческого действия и взаимодействия с миром.
Метафизика опыта
Книга III. Анализ сознательных действий
Шедворт Ходжсон
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Шедворт Ходжсон, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-2582-8 (т. 3)
ISBN 978-5-0064-2252-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава I. Реинтеграция[1 - Объединение того, что прежде распалось]
§1. Общий обзор книги III
Главный результат, полученный в результате анализа книги II, состоит в том, что теперь мы можем привести определенную идею реального агента и реальной обусловленности в психологии в связь с ранее полученным различием между сознанием как знанием и сознанием как существованием. Другими словами, теперь мы можем плодотворно сочетать психологические и метафизические понятия и метод. Нейронные процессы, как мы видели, непосредственно обусловливают поток витков сознания, сначала в его характере простого существования, а затем в его характере знания, то есть панорамы объективного мышления, в той мере, в какой это зависит от сопоставления, отстранения или объединения частей или моментов потока существования. Качества или свойства конечных частей или моментов, из которых состоит поток и, следовательно, панорама как экзистенция, являются (как мы уже видели) конечными данными в познании, которые не могут быть объяснены никакими реальными условиями. Их существование в отдельных сознательных существах объясняется нейронными процессами в этих существах; но именно в этих самых качествах или сущностях, которые не могут быть так объяснены, в конечном счете заключается природа нашего сознания в целом; и точно так же те из них, которые непосредственно и изначально обусловлены ре-интегративными процессами, я имею в виду, прежде всего, эмоции, являются конечными составляющими умственного и морального сознания отдельных существ, чьи нейронные процессы обусловливают их существование, и которым, следовательно, принадлежит это сознание.
На протяжении всей настоящей книги необходимо будет постоянно помнить об этой двойной связи реально обусловливающего агента и процесса, во-первых, с фактическим существованием компонентов сознания, а во-вторых, с их природой, насколько она зависит от соединения или расположения частей, а не от специфического и конечного качества их составляющих. Мы увидим, что это различие прольет свет на несколько фундаментальных вопросов философии, сложность которых скорее увеличивалась, чем уменьшалась методами их рассмотрения, существовавшими до сих пор. Например, процессы, составляющие реальное действие в воле, и, следовательно, проблема свободы воли, относятся к чисто психологической связи между нейронным процессом и существованием обусловленных им процессов-содержаний сознания. С другой стороны, те явления, которые составляют природу и ценность действий, как морально правильных или неправильных, принадлежат к связи между нейронным процессом и природой (а не существованием) процессов-содержаний сознания, существование которых в данных случаях нейронный процесс может либо обусловить, либо не обусловить. Анализ этих явлений, таким образом, в последней инстанции является не психологическим, а метафизическим, представляя собой анализ определенных конечных фактов или данных опыта.
Мы сразу же осознаем те черты в том, что называется сознательным действием, которые делают его правильным или неправильным; наше восприятие их является непосредственным восприятием его моральной природы. Но само действие, то есть действующий в нем агент, мы никогда не осознаем сразу; это известно нам только по умозаключению и относится, как уже было показано, к нейронному механизму (так его можно назвать), от которого зависит существование сопутствующего сознания. Обе эти вещи, действие, которое является объектом умозаключения, и моральная природа зависимого сознания, которое воспринимается сразу же, входят и фактически исчерпывают все явления сознательного действия. Но из них первое относится к психологии этих явлений, второе – к их метафизике. Держать эти два класса явлений, а следовательно, и две области умозрения, к которым они принадлежат, четко разграниченными в мысли, как необходимое условие демонстрации их взаимосвязи, – вместо того, чтобы сваливать оба вместе, как принадлежащие одному неделимому агенту, и, следовательно, подводить оба одинаково под власть психологии, – таков метод, ясно предписываемый анализом двух вышеупомянутых книг. Необходимо подчеркнуть это двойное различие, эту двойную связь между субъектом и его опытом, потому что в «Анализе сознательного действия», который сейчас перед нами, мы фактически возвращаемся к анализу сознания просто как опыта, который мы оставили в конце книги I., хотя возвращаемся к нему обогащенными концепцией реального агента и агентства, обусловливающего сознание, что было конечным результатом нашего экскурса в область позитивных наук, который занял книгу II. Мы оставили анализ сознания просто как опыта в той точке, где выяснилось, что он дает знание о материальном мире и об индивидуальном сознательном существе как постоянном центральном объекте в нем. Мы прекратили его, чтобы проследить за подсказкой, которую дала нам концепция реальных условий и процесс реального обусловливания; и мы последовали за этой подсказкой, проследив в Книге II. операции материальных объектов как таковых, а также как реальные условия панорамы сознания, с анализа которой началось все наше исследование, и в которой, как оказалось, содержатся все доказательства существования и природы материального мира. Теперь мы снова возвращаемся к анализу сознательного опыта, но начинаем с другой его фазы: оставляем позади анализ представленных ощущений и материального мира и переходим к анализу представленных ощущений и чувств, возникающих вместе с ними в процессе реинтеграции. Что означает реинтеграция, было достаточно ясно изложено в заключительном разделе Книги II, «Сознательное существо», чтобы мы могли сразу перейти к описанию и анализу ее феноменов, не задерживаясь на ее контрастах с представлениями чувств.
В то же время очевидно, что результаты, достигнутые в Книге II, дают нам преимущество в нашем предполагаемом анализе, которого мы не имели в Книге I; я имею в виду, что они дают нам ясное, хотя и общее представление о природе и реальности субъекта, а также о процессах, которые являются ближайшими реальными условиями его сознания, как в области реинтеграции, так и в области представленных ощущений. От этого преимущества мы ни в коем случае не должны отказываться, анализируя феномены сознания, которые сейчас перед нами. Каким бы несовершенным и общим ни было наше знание этих реальных условий, оно является незаменимым средством контроля нашего анализа состояний и процессов сознания, которые от них зависят, и, таким образом, в некоторой степени проверки его результатов с помощью побочных свидетельств. Как в двух предыдущих книгах мы могли ставить рядом и созерцать вместе материальные объекты, о которых думали, и наши собственные объективные мысли, которые их представляли, так и здесь, в настоящей книге, мы сможем созерцать, бок о бок с нашими поездами объективной мысли, состояния и процессы нейронного механизма, которые являются не их объектами, а их реальными условиями. В любом случае некоторые реальные объекты, о которых мы думаем, являются дополнением к сознательному опыту, который является нашим непосредственным объектом анализа. В прежних книгах (за исключением их психологических частей) это дополнение состояло из реальных объектов, о которых думали, которые были отдаленными реальными условиями анализируемого сознания; в настоящем оно состоит из тех, которые являются его ближайшими реальными условиями. Но в обоих случаях именно анализируемое сознание дает нам истинную природу, в смысле тенденции, ценности и значения, тех реальных условий, от которых оно зависит.
У них нет и не может быть ничего другого. Дерево познается по его плодам. Кроме того, необходимо отметить, что наш сегодняшний анализ, дополненный обращением к реальным условиям анализируемых явлений, будет иметь ретроспективное значение. Он поможет заполнить позитивным знанием ту лакуну, которую мы были вынуждены оставить открытой в первой книге, описывая формирование наших знаний о материальном мире. Реинтеграция, спонтанная и добровольная, к которой относится и рассуждение, является важнейшим фактором формирования этого знания. Но в книге I. мы должны были принять этот факт как известный, оставив обоснование и объяснение его для будущего случая. Теперь частично это обоснование и объяснение уже дано в книге II, то есть в той мере, в какой оно показывает реальность нейронных процессов, от которых зависит реинтеграция. Частично их еще предстоит дать в настоящей книге, показав анализ спонтанной и добровольной реинтеграции в той мере, в какой они являются процессами в пределах непосредственного сознания. Для целей настоящей работы достаточно обратить внимание на этот факт, не пытаясь определить психологию процессов, посредством которых наши знания о материальном мире либо приобретаются, либо расширяются, более подробно, чем это уже было сделано. Продвижение в этом направлении почти полностью зависит от развития знаний в области анатомии и физиологии нейро-церебральной системы, огромной области, в которой новые факты постоянно появляются благодаря исследованиям неврологов.
Настоящая работа, с благодарностью принимающая и стремящаяся использовать результаты, уже полученные физиологической психологией, тем не менее исключает из своих рамок изучение какой-либо специальной науки, за исключением тех случаев, когда она связана с философией; то есть, с одной стороны, за исключением тех случаев, когда она имеет дело с реальными условиями сознания, как только что упоминалось, и с другой стороны, когда ее собственные фундаментальные концепции или предположения требуют контроля субъективного или метафизического анализа сознательного опыта, чтобы привести их в систематическую гармонию. В той точке, которой мы сейчас достигли в этом анализе, мы стоим между двумя группами специальных наук. Мы оставили, так сказать, позади себя группу позитивных наук, рассмотренных в целом в Книге II, и перед нами группа практических наук, возникших как науки о практике, которые являются науками, имеющими дело с некоторой отраслью или отраслями сознательного человеческого действия, то есть действия, которое сразу же сопровождается эмоциями, знанием, выбором и целью, и поэтому является сложным, в том смысле, что те его элементы или участки, которые сразу же сопровождаются сознанием цели, оказывают влияние на изменение других участков или элементов в нем, и таким образом способствуют определению последовательности и направления целого.
Основное деление этой группы – на этику и логику, первая из которых рассматривает целенаправленное действие в самом широком смысле, то есть включая все специальные отрасли практики, насколько это касается цели, на которую они направлены и по которой они отличаются друг от друга; а также рассуждение, как действие, направленное на установление истины факта, входящее во все другие сознательные занятия или отрасли практики в качестве познавательного элемента в них, и способное в этом инструментальном характере быть правильно или неправильно направленным, и достигать большей или меньшей степени совершенства. Короче говоря, Этика включает в себя Логику в той мере, в какой Сезонность является целенаправленным действием, а Логика включает в себя Этику в той мере, в какой Практика является рациональным и познавательным действием. Не то чтобы оба вида действия не подчинялись законам природы, ибо они неизбежно должны подчиняться им, поскольку в основе своей состоят из физиологических процессов; но они выделяются в особый класс этих процессов благодаря тому обстоятельству, что сознание, с которым они связаны, включает в себя восприятие цели, более или менее отчетливо осознаваемой, благодаря чему они становятся тем, что правильнее всего называть как перспективными, так и самоизменяющимися действиями. Теперь характерное отличие практической науки от позитивной или спекулятивной заключается в этом перспективном и самоизменяющемся отношении к действию, которое является ее объектом. Как и другие науки, она основана на анализе, анализе своего объекта. Наука о практике – это наука, которая начинается с анализа практики. Но поскольку это перспективное и самоизменяющееся отношение действия является существенной характеристикой, которая делает его объектом специальной науки, то есть является его особенностью, которую эта наука выбирает для изучения, из этого следует, что каждая наука о практике должна рассматривать цели, задачи, которые ставит или может поставить перед собой практика, являющаяся ее объектом, а также законы природы, которым она подчиняется как физиологическое действие. Он должен учитывать не только то, чем практика является и должна быть de facto, как физиологическое действие, подчиняющееся законам природы, но и то, что лучше или желательнее всего, чтобы она была, то есть, на какие цели, задачи или задачи она должна быть направлена, в рамках этих законов природы; рассмотрение основывается на ранее приобретенном опыте и на практических предписаниях, вытекающих из него.
Таким образом и повинуясь этой необходимости, практические науки сами становятся практическими науками, то есть их доктрины являются руководством к правильным действиям. Идеалы являются частью их предмета, поскольку они причастны к практике, о которой они говорят, в ее характере перспективного действия. Позитивная наука направлена просто на открытие того, что есть на самом деле, будь то в природе в целом или в человеческих действиях, которые являются частью природы. Практическая наука или наука о практике (как бы мы ее ни называли) направлена, помимо этого и в сочетании с ним, на открытие того, что является наилучшим или наиболее желательным в человеческом действии, рассматриваемом как перспективное действие, направление или цель которого еще предстоит определить. Практическая наука может быть описана на обычном языке как направленная на предоставление знаний, которые могут помочь в определении ближайших будущих действий исследователя в случаях, когда он испытывает сомнения, вместо того чтобы быть направленной на установление фактов, будь то прошлое, настоящее или будущее, которые рассматриваются как имеющие существование, независимое от его действий. В позитивных науках результат мыслится как соответствие мысли факту, в практических науках и на практике – как соответствие факта факту, в практических науках и на практике – как соответствие факта мысли. Цель первых – познание реальности, то есть истины; цель вторых – реализация идеала или предписания, то есть добра или права. Из вышеизложенного противопоставления мы видим, что особенность практической науки состоит в том, что она имеет сверх того, что содержится в позитивной науке, а именно в массе опыта, почерпнутого из предыдущих случаев практики, который может быть приведен в сознание рединтегративной мыслью и тем самым подвергнут субъективному или метафизическому анализу. Именно из сравнений и дискриминаций, полученных в результате этого анализа, вытекают и должны вытекать принципы всех практических наук. Связь этой массы опыта или любой его части с физиологическими процессами, от которых зависит их существование, при таком анализе и установлении принципов вообще не ставится под сомнение. Здесь речь идет только об анализе его как массы опыта, когда он проходит через репрезентативные или рединтегративные процессы.
Отсюда следует, что все науки о практике, или практические науки, как таковые и в таком характере являются составной частью Метафизики или Философии, в отличие от Психологии, которая является позитивной наукой. Рассматривать любую практическую науку как отрасль психологии, или, в более общем смысле, антропологии, или (так называемой) социологии, – это заблуждение самого фатального и разрушительного рода, поскольку оно денатурализирует объект, с которым она имеет дело, а именно практику, и превращает ее в свою противоположность, просто фактический процесс, подчиняющийся только законам природы, но не законам поведения, законам, предписывающим хорошее и правильное, запрещающим плохое и неправильное, законам, которые, пока им не подчиняются или когда им не подчиняются, в любом конкретном случае практики, имеют для этого случая практики только силу де-юре. Вся разница между добром и злом стирается, если рассматривать практику как объект психологии или любой ее отрасли. Физиологическая психология действительно дает половину всей теории практики, имея дело с ее ближайшими реальными условиями, но основополагающие понятия и конституирующие идеи этой теории даются метафизическим анализом, поскольку он является анализом того, чем является сама практика, или того, чем она является в непосредственном опыте.
Две большие группы – позитивные науки, с одной стороны, и практические науки, с другой, – исчерпывающим образом делят между собой все поле науки. Различие между ними глубоко и фундаментально, поскольку оно заключается в различии оснований, на которых они стоят, и конституирующих принципов, на которых они движутся. Позитивные науки стоят на основе представлений здравого смысла и движутся путем анализа объектов здравого смысла. Практические науки стоят на основе субъективного аспекта сознания или опыта и движутся путем анализа этого аспекта в области чистой реинтеграции; анализ, который является продолжением и завершением субъективного анализа опыта в целом, менее специализированная часть которого дает, как мы видели, объяснение и обоснование здравого смысла.
Восприятие объективной Вселенной и материального мира. Таким образом, как уже говорилось, практические науки являются неотъемлемой частью Метафизики или Философии, в отличие от Позитивной Науки. Тем не менее, несмотря на это обстоятельство, в одном отношении я предлагаю рассматривать практические науки в настоящей книге примерно так же, как я рассматривал позитивные науки в книге II. Иными словами, я предлагаю зайти в них не дальше, чем это необходимо для того, чтобы подвести их фундаментальные концепции (или, возможно, предположения) под микроскоп философского, субъективного или метафизического анализа, не пытаясь ни применять их в деталях, ни даже перечислить более специализированные отрасли практики, в которых они могут служить примером. Если бы я сделал больше, чем это, то вышел бы за рамки общего трактата по всему спектру философии. Но сделать это необходимо, поскольку без этого не только весь анализ реинтеграции был бы просто предметом бессмысленного любопытства, бессмысленного, по крайней мере, для философии, но и сами практические науки были бы оторваны от своих корней в непосредственном опыте и стали бы легкой добычей предпосылок случайного эмпиризма.
Возможно, следовало бы ожидать, что необходимость такого подхода будет с большей готовностью признана в случае практических, чем позитивных наук, поскольку практическое определение всех действий основывается на оценке сравнительной ценности мотивов, целей, чувств или идей, и что всякая ценность, по общему признанию, является чем-то по существу субъективным, в том смысле, что она в конечном счете и сама по себе является феноменом только сознания, то есть объективной мысли в отличие от объектов, о которых думают, как это было очевидно в предыдущей главе. Тем не менее, преобладающая трактовка как этики, так и логики является эмпирической, в той же мере, что и физики или психологии. Я имею в виду, что редко, если вообще когда-либо, возникает мысль о том, чтобы привести явления, на которых построены эти науки, в связь и сравнение с их собственным контекстом и рассматривать их как части всей панорамы объективного мышления, как оно на самом деле переживается. Ведь этика и логика обычно рассматриваются их профессорами как науки, которые уже сформированы на традиционной основе; и это, естественно, приводит к тому, что явления, которые к ним относятся, отрываются от их собственного контекста и приводятся в связь с объектами, определенными и рассматриваемыми наукой в традиционном виде, в той же форме и тем же способом, которые предписывает эта традиция. На самом деле истина заключается в том, что сами науки могут быть правильно сформированы только на основе рассмотрения явлений в их собственном контексте, то есть как части всей панорамы опыта, подвергнутой субъективному анализу. По крайней мере, до тех пор, пока это не сделано, основа или группа понятий, которые являются фундаментальными для этих наук, как и для других, остается совершенно предварительной. Явления, относящиеся к этике и логике, а следовательно, и к практическим наукам в целом, принимают совершенно различный вид в зависимости от того, рассматриваются они в собственном свете или в свете квазинаучных предположений или гипотез. Под первым я имею в виду то, что я только что назвал рассмотрением их в их собственном контексте, как частей непосредственно пережитого и непосредственно анализируемого опыта, что, другими словами, означает восприятие их как части общего объекта-вещества Метафизики. Под вторым я имею в виду рассматривать их так, как они обязательно рассматриваются в психологии, то есть как зависимые сопутствующие действия сознательных существ, без предварительного анализа (и это важный момент) того, чем они являются как части панорамы познания, и без различения их природы как переживаний от их генезиса как экзистенций. Взять их таким образом – значит молчаливо подменить сознание сознательными существами как истинным и конечным объектом-вещью данных наук, анализ которых, а не анализ сознания, определяет затем их конституирующие концепции. Ведь тем самым мы вносим концепцию сознательного существа в каждый отдельный анализ, который мы проводим, и подчиняем все его результаты этой единственной концепции, которая не является конечным фактом или данностью опыта, вместо того чтобы подчинить саму эту концепцию результатам анализа без допущений. При таком методе мы неизбежно ограничиваемся лишь описанием феноменов сознания с точки зрения здравого смысла и преграждаем путь не только к метафизическому анализу, но и к аналитической психологии, поскольку в качестве основы всех наших объяснений берется здравая концепция сознательного существа, основа, к истинному анализу которой мы никогда не мечтаем обратиться.
Но если в логике я таким образом подчиняю конечные законы мышления реальному существованию сознательного существа, которое мыслит с их помощью, я лишаю их универсальной обоснованности и применимости, поскольку тогда я рассматриваю их просто как способы, с помощью которых это конкретное существо было определено мыслить, вследствие его конкретной конституции, истории и развития, которые могли быть иными, и таким образом могли породить вместо него другое конкретное существо. Конечные законы мышления имеют универсальную и необходимую силу, потому что они являются существенными элементами буквально всех систематизированных знаний (и, следовательно, нашего представления о конкретном существе), которые являются частью сознания как субъективного аспекта всех вещей; а не потому, что они принадлежат сознанию как экзистенту среди экзистентов. Эти два аспекта сознания были четко разграничены в обеих предыдущих книгах, и это разграничение было показано как фундаментальное и неизбежное в философии. Но эти законы мышления, сформулированные впоследствии Логикой, управляют всем мышлением, а значит, и всей философией и наукой, поскольку это способы мышления; и таким образом определяют наше знание, насколько оно получено посредством мышления, обо всех объектах и обо всем существовании, что бы то ни было. Полагать, что их природа зависит от конституции конкретных экзистенций, – это самопротиворечивое представление, поскольку таким образом они представляются одновременно и в одном и том же отношении условными и необходимыми. Тот, кто полагает их зависимыми, тем самым пытается представить себе возможность иных способов мышления, чем те, которые управляются тем, что мы называем высшими законами мышления, и существ, которые мыслят некоторыми из этих других способов.
Но обе эти предполагаемые возможности совершенно невозможны, то есть их вообще нельзя представить. Я могу представить себе возможность иных способов восприятия, чем те, которыми обладают время и пространство, и иных видов сознания, чем те, которыми наделены человеческие существа. Но точно так же, как я не могу представить себя или кого-либо другого сознательным и в то же время не сознательным в течение некоторого времени, я не могу представить себя или других мыслящими и в то же время не мыслящими так, как это сформулировано логиками в виде законов тождества, противоречия и исключенного среднего. Я также не могу представить себе мышление какого-либо существа, которое может либо мыслить каким-либо иным образом, либо избегать того, чтобы о нем думали таким образом, если о нем вообще думают. Связь сознания со временем и мышления с законами мышления – это примеры неразрывных связей, которым буквально нет альтернатив. В обоих случаях стоит убрать любой из элементов союза, и единица, в которую он входит как составная часть, исчезает. Поэтому идея о том, что природа конечных законов мышления зависит от конституции конкретных существ, которые могли бы быть устроены по-другому, является химерой.
Точно так же в этике, если я подчиняю оценку индивидом сравнительной ценности его состояний сознания тому факту, что он является одним сознательным существом среди других, или даже тому, что он вообще является сознательным существом, я ставлю идею сознательного существа, которое в физиологической психологии является организмом, на место конечной цели, ??????????? ?????, всех сознательных действий, и тем самым заранее виктимизирую результаты моего этического анализа сознания, неосторожно предположив предрешенный вывод. Закон самосохранения в организмах может быть конечным законом природы, как выражение тенденции, физически необходимой для каждой органической структуры. Но из этого отнюдь не следует, что заповедь самосохранения является высшим законом морали.
Таким образом, представляется, что при использовании любого метода, кроме метафизического анализа, результаты этической и логической теории диктуются заранее, и эти науки, следовательно, становятся бесполезными, поскольку они не могут избежать воспроизведения в своих выводах тех же концепций, которые были молчаливо заложены в их предпосылках. С другой стороны, если следовать методу метафизического анализа, то, как мне кажется, станет очевидным, что логические законы имеют более глубокие корни в опыте, чем концепция субстанции или даже мыслящего агентства, концепции, для достижения которых, напротив, необходимо их наличие, и что этическая оценка ценностей имеет более глубокие корни, чем концепция сознательных существ или организмов, для достижения которой наличие этих более глубоких корней также является предварительным условием. Мы мыслим логически, прежде чем сформировать концепцию вещей или агентов; мы мыслим этически, прежде чем сформировать концепцию личности.
Таким образом, очертания задачи, стоящей перед нами в Книге III, в определенной степени прорисованы. Мы должны проанализировать, сравнить и обобщить состояния и процессы сознания, относящиеся ко всей области Рединтеграции, пока они не раскроют нам природу и метод сознательного действия и тем самым позволят нам установить фундаментальные понятия и принципы Этики и Логики, которые вместе охватывают всю ее область. Как позитивные науки были в некотором роде целью анализа в первой книге, так и практические науки будут в некотором роде целью нашего настоящего анализа. И как там мы обнаружили, что нет необходимости разбирать все виды ощущений, а можно без ущерба для общей цели опустить рассмотрение некоторых, как, например, всего класса внутренних, системных или телесных ощущений, и рассматривать их как охваченные рассуждением, примененным к отдельным случаям ощущений, которые не были определенно представлены как протяженные, или, другими словами, воспринимались как имеющие только длительность, изменение и последовательность, и таким образом занимающие время, не занимая пространства, так и здесь будет допустима подобная свобода. Нет необходимости рассматривать весь каталог образов, представлений, эмоций и страстей, которые являются явлениями или, скорее, содержанием, свойственным рединтегративным процессам, как спонтанным, так и добровольным, или пытаться определить эмоции и страсти в деталях, ссылаясь на конкретные представления, образы или концепции, с которыми они обычно сочетаются. Нашим главным объектом здесь являются законы, а не полное содержание рединтеграций, и они с достаточной ясностью проявятся при анализе процессов, которые, хотя и переживаются всегда в каком-то определенном содержании или материале, все же не зависят от конкретного содержания или материала, который время от времени является их воплощением или проводником. Поэтому, выбирая для анализа те или иные эмоции или образы, мы должны руководствоваться тем светом, который они способны пролить на принципы и методы рединтегративного процесса.
С помощью этого метода мы, как мне кажется, сможем составить некоторое определенное представление о диапазоне и силе человеческих способностей, а также о природе и границах знания, которое находится в пределах их досягаемости; кроме того, мы заложим аналитический фундамент для ответа на вопросы, которые встретятся нам в четвертой и последней книге, посвященной тому, что можно назвать конструктивной отраслью философии. В то же время мы завершим на тех же линиях и принципах метода аналитическое исследование, к которому мы приступили в самом начале Книги I. Там было установлено, что сознательный опыт дан только в форме процесса, процесса рефлексивного восприятия. Но поначалу у нас не было никакой другой подсказки, которой мы могли бы руководствоваться при попытке проанализировать содержание или ткань, из которой состоит этот процесс, кроме как начать с самого простого и переходить к рассмотрению все более и более сложных его моментов. Опять же, поначалу у нас не было причин, почему сознание переживается только как процесс. Перед нами не было ничего, кроме простого факта, что это так. Но когда исследование привело нас к пониманию того, что некоторые явления образуют группы объективной мысли, соответствующие и представляющие объекты, более или менее постоянные, которые вместе составляют мир материальных вещей и взаимодействуют друг с другом в том, что мы назвали порядком реальной обусловленности, отличным от процесса объективной мысли или просто сознания, у нас появилась подсказка для простого объяснения факта процесса в сознании.
То есть у нас было повторение феномена в измененной форме, у нас был факт другого процесса, раскрытый самим анализом, с которым мы могли привести в связь первоначально наблюдаемый факт процесса в сознании и представить их вместе как постоянно демонстрируемую гармонию между различными частями и различными видами фактов, входящих в наш общий опыт. И реальная обусловленность процесса сознания была таким образом обнаружена, само сознание приняло второй характер. К его прежнему характеру процесса во времени, который постоянно объективирует себя в актах и моментах рефлексивного восприятия, добавился новый характер реального существования, обусловленного материальными процессами, происходящими частично вне и частично внутри организма сознательного существа.
Итак, из этих материальных процессов постоянно происходят те, которые находятся внутри нейронной системы, и именно от одного большого класса этих процессов зависит рединтеграция. Ибо рединтеграция, как мы видели, – это название для всех состояний и процессов сознания, которые поддерживаются теми из нейронных процессов, которые не устанавливаются непосредственно и исключительно действием стимулов, поступающих извне нейронной системы. Фактически, единственными феноменами сознания, исключенными из реинтеграции, являются чувственные восприятия в актуальном представлении. С того момента, когда любое из них перестает быть реально представленным, его воспроизведение становится фактом реинтеграции и зависит от процессов, которые ее поддерживают. Но эти процессы, как и органы, в которых они происходят, функционально непрерывны с органами и процессами, которые поддерживают представления чувств; так что последние не только являются первоначальным источником идей, которые представляют их в рединтеграции, но и воспроизведение этих идей может быть стимулировано заново новыми представлениями чувств той же или подобной природы. Таким образом, представления чувств управляют представлениями или идеями, и в этой степени nihil in intellectu quod non prius in sensu является истиной. То, что добавляется при рединтеграции, состоит (1) из эмоций (включая желания, чувства и страсти), возникающих в сочетании с представленными образами, и (2) из спонтанных и добровольных способов упорядочения рединтегративного содержания, причем добровольный способ сопровождается и подтверждается чувством, которое должно быть классифицировано как чувство усилия или напряжения; независимо от того, берется ли это содержание рединтеграции в данных случаях как состоящее из эмоций, или образов, или обоих в единстве. Из них эмоции, страсти, спонтанно возникающие желания и спонтанные ассоциации должны быть включены в sensus вышеприведенной сентенции, если мы проведем резко определенную границу между ее sensus и ее intellectus. Но правда заключается в том, что волевые способы упорядочивания рединтегративного содержания, а также возникающие при этом эмоции, страсти, спонтанные желания и ассоциации действительно обусловлены природой и работой нейро-церебрального механизма, точнее, тех его частей и процессов, которые непосредственно поддерживают рединтеграцию. И эти части и процессы не только открыты для модификации стимулами, подающими представления извне тела, но и находятся в связи с экстранейронными тканями организма, ко многим из которых они также могут передавать стимулы посредством эфферентного нейронного воздействия.
Определяя таким образом характер и круг задач, стоящих перед нами, я хочу оставить в стороне вопрос о том, не является ли рединте-гративный нейронный организм также восприимчивым к впечатлениям, приходящим непосредственно извне, но не через нервные каналы, которые обычно служат для системных или специальных ощущений. Его восприимчивость означала бы, что он подобен органу чувств в получении оригинальных представлений, но что, в отличие от органа чувств, представления, которые он получает, могут иметь либо качество того, что мы сейчас называем представлениями, в отличие от представлений чувств, либо качество представлений чувств, если затронуты центральные окончания органов чувств. Короче говоря, он будет сразу же воспринимать, или, как некоторые называют это, интуитивно, образы или идеи, переданные ему извне, а не созданные в результате собственного воспроизведения чувственных представлений. Такая восприимчивость послужила бы готовой гипотезой, на которой можно построить объяснение реальных или предполагаемых явлений мыслепередачи и ясновидения. Физическая среда для таких восприятий и коммуникаций уже находится под рукой во всепроникающем эфире, который принято считать проводником света, лучистого тепла, электричества и магнетизма.
Признаюсь, я не вижу никакой немыслимости или внутренней невозможности в гипотезе о существовании такой восприимчивости в рединтегративном нервном организме, или такого средства восприятия и связи между одним мозгом и другим. Если справедливо предполагается, что эфирные вибрации действуют на нервы, то на физических основаниях должно быть установлено, что нервная материя способна реагировать на эфир. И если такая реакция происходит в одном специально созданном нервном органе, например, в глазу, то аналогичная реакция может, по идее, происходить, при других особых условиях, и в других нервных органах. Более того, кажется общепризнанным, что физические воздействия передаются, без непосредственного контакта, от одного организма к другому, что оказывает сильное влияние на состояния и процессы организма-реципиента. Вопрос, таким образом, относится не к передаче физического влияния, а к возможности определенных состояний или процессов сознания, сопровождающих это влияние. Может ли красный нервный организм получать впечатления, сопровождаемые сознанием, либо от подобных организмов (что является случаем переноса мысли), либо от объектов и событий в целом (что является случаем ясновидения), независимо от обычных каналов представления ощущений? Если предположить, что реальность переноса мыслей установлена, а его основные законы и процессы выяснены, легко представить, что он мог бы предложить средство для объяснения многих случаев не только кажущегося ясновидения, но и кажущегося предвидения и предсказания будущих событий. В то же время следует отметить, что весь вопрос о восприимчивости перерождающегося организма к впечатлениям, приходящим непосредственно извне, от которого зависит так много второстепенных вопросов, – это вопрос, который ожидает решения на чисто научных основаниях и чисто научными методами. Ни один из них не является вопросом, который может быть решен субъективным анализом метафизической философии. Наука должна, прежде всего, экспериментально установить факты, а затем сформулировать гипотезы и теории, объясняющие все факты, которые могут быть установлены. Эту задачу уже взяли на себя многие представители медицинской профессии, которые имеют доступ к большому количеству случаев аномальной психической работы, особенно во Франции, и которые добавили новую область гипнотизма к ранее признанным отделам медицинской науки. Эти люди, конечно, имеют дело непосредственно с фундаментальным вопросом, восприимчивостью рединтегративного механизма. Но к предмету подходили и со стороны феноменов, очевидно принадлежащих к нему, которые более популярны, поразительны, а также открыты для всех исследователей, как отдельными людьми, так и обществами, созданными, как Общество психических исследований в этой стране, с явной целью изучения всех подобных явлений. Каковы бы ни были результаты, к которым в конце концов придут те или иные исследователи, некоторые определенные выводы, несомненно, будут сделаны; успех в том или ином направлении, несомненно, увенчает терпеливые и ревностные труды их научно преследуемой задачи. Возможно, что к господству психологии добавится новый и определенный раздел, который метафизик будущего должен будет детально учитывать при попытке обоснования опыта.
§2. Некоторые ведущие характеристики реинтеграции
Мы возвращаемся, таким образом, к анализу потока сознания, процесса объективной мысли в отличие от объектов, мыслимых как материальные или как реальные условия, принимая в то же время термин мысль в широком смысле, чтобы охватить спонтанные, а также волевые элементы. И этот поток объективной мысли мы должны снова предположить, что мы испытываем в последовательно присутствующих моментах рефлексивного восприятия, что, собственно, и происходит, как было достаточно показано анализом, приведенным в книге I., где весь процесс рефлексивного восприятия, включая представления ощущений и представления вместе, был неоднократно описан, а его примеры рассмотрены.
Для того чтобы отчетливо представить перед собой наш специальный анализируемый объект, необходимо сделать еще одно ограничение: мы должны абстрагироваться от его чувственных представлений. Мы должны анализировать поток объективной мысли за вычетом его чувственных представлений, хотя и не за вычетом идей или образов, которые их представляют, а также, как уже говорилось, за вычетом эмоций, желаний, чувств и страстей, которые сопровождают эти представления. Иными словами, наш анализанд – это вся панорама объективной мысли, ее смысл и значение, сопоставленные и связанные с двумя вещами, которые мы исключаем из нее для целей анализа, – смысловыми представлениями, с одной стороны, и материальными объектами, о которых думаем, с другой, – и теми, и другими, которые, в сущности, по-разному ее создают и контролируют.
A. Линия демаркации между представлением и репрезентацией.
Поле столь обширно, что мы неизбежно должны начать наш анализ с общих соображений. И в первую очередь, где мы проводим границу между смысловой репрезентацией и реинтеграцией или репрезентацией? Эта грань достаточно ясна в теории, хотя часто трудно применима на практике. Мы не говорим, что ощущение-представление стало представлением или принадлежит к рединтегративному процессу, пока оно хотя бы однажды фактически не исчезнет из сознания и не возродится в нем вновь. Его возрождение и есть репрезентация или рединтеграция. В теории все ясно. Но теперь возьмем простой случай. Предположим, мы слышим, как кто-то произносит двустишие:
«Ахиллесов гнев, Греции страшный источник несметных бед, небесная богиня, воспой! «К тому моменту, когда мы слышим слово sing в конце второй строки, слово spring в конце первой уже перестало представляться, и восприятие рифмы связано с его реинтеграцией? Весна, конечно, потускнела от своей первой яркости, но можно ли сказать, что она совсем опустилась за порог сознания, когда пение ударяет по уху? Разные люди, возможно, решат этот вопрос по-разному. Я привожу этот пример, чтобы показать (1) что в простейших случаях, когда они проверяются на минутном опыте, разница между представлением и репрезентацией – это разница степени, а не вида, и (2) что переход от одного к другому происходит непрерывно, один и тот же или части одного и того же нервного органа задействуются в обоих случаях и сохраняют впечатление от представления, которое можно восстановить с помощью аналогичного впечатления в несколько измененном контексте. Явление, которое предстает перед нами, то же самое, с которым мы столкнулись при анализе процесса рефлексивного восприятия в книге I. Представленное ощущение начинает отступать в прошлое памяти с того самого момента, когда оно поднимается в сознание, или появляется за порогом. Я говорю не просто с момента достижения им максимальной яркости как представлением, а с момента его появления в сознании вообще, до того, как оно достигло наибольшей яркости. Это означает, другими словами, что представление включено как неотъемлемый элемент, или ингредиент, во все представления. Нервный процесс, который обеспечивает представление, сохраняет отпечаток стимула, который его породил; а сознание, которое его сопровождает, будучи также процессом, сохраняет подобие своего первого представленного момента. В этом смысле все восприятие, какое бы оно ни было, является рединтеграцией, просто потому, что это процесс; и в этом смысле репрезентация – это одна неразделенная половина или аспект презентативного восприятия; и именно с этим значением терминов мы были главным образом заинтересованы в анализе Книги I.– Следует отметить, что рединтеграция или репрезентация, как здесь описано, – это не то же самое явление, которое хорошо известно под названием «послеобразы». Это особый случай рединтеграции, случай, когда представление ограничивается той частью органа, которая непосредственно подвергается действию внешнего стимула. Эти последующие образы и их последовательности также представлены в рединтеграции, как если бы они были первоначальными представлениями.
Но ясно, что это не тот смысл, в котором следует понимать различие между презентацией, с одной стороны, рединтеграцией и репрезентацией, с другой, если оно должно быть полезным для нас в данной книге. Нам нужно такое различие, которое служило бы также разделением между обсуждаемыми явлениями, чтобы мы могли выделить одно из них для анализа.
Мы хотим включить в наш анализ одно без другого, но в то же время не упускать из виду связь между ними. Поэтому я буду придерживаться четкого теоретического разграничения, о котором говорилось выше, и применять термины «реинтеграция» и «репрезентация» только в тех случаях, когда предсенсационное чувственное восприятие ранее исчезало за порогом сознания или предполагается, что оно исчезало, а затем вновь возрождалось или вспоминалось в сознании. Для обозначения промежуточного состояния, промежуточного между угасанием и возобновлением, можно использовать термины retention, retentireness и (если позволительно такое словосочетание) retent. Разумеется, подразумевается, что это промежуточное состояние не является состоянием сознания.[2 - Очень отличается от «памяти как простой ретентивности» и от «сохраненного представления», о которых идет речь в предыдущих главах Книги I. См. подробнее по этому вопросу Книгу I. Гл. III. §3, «Собственно память, включая отступление к реальной обусловленности».]
Принадлежащий ему нервный механизм функционирует, так сказать, ниже порога. К нему относятся ретенция, ретенция и ретенции; но ретенции не являются частью сознания, хотя названия, под которыми мы можем говорить о них, являются терминами сознания, терминами, которые описывают их либо как презентации, либо как репрезентации, то есть как сопутствующие нервные процессы выше порога. Благодаря этим различиям мы, во всяком случае, будем точно знать, о каких явлениях идет речь, и сможем отделить представления и ретенции от специального объекта нашего анализа, который должен включать только репрезентации и рединтеграции.
Возможно, во избежание недоразумений следует еще раз отметить тот факт, что ни представление, ни репрезентация, строго говоря, никогда не вспоминаются и не воспроизводятся; но когда используются эти или подобные термины, их смысл заключается в том, что в новом контексте вызывается содержание сознания, которое более или менее точно напоминает другое содержание в другом контексте, причем оба этих напоминающих содержания с их контекстами распознаются субъектом как прежние и последние части его собственной единой цепи или панорамы опыта.
B. Пробелы в чистой реинтеграции.
Далее давайте посмотрим, что мы делаем и почему, исключая смысловые репрезентации из нашего специального анализа. Многим это может показаться произвольным искажением феноменов в их реальном опыте. С одной стороны, мы никогда не имеем опыта бодрствования, и, возможно, даже опыта сновидений, без постоянного присутствия и примеси чувственных представлений. А с другой стороны, абстрагироваться от чувственных представлений в опыте – значит оставить остаток фрагментарным, необъяснимым и неспособным к связности. Это совершенно верно. Но ответ заключается в том, что мы сейчас занимаемся не структурой существующих знаний и идей в целом, включая их предполагаемые объекты, а процессами сознания, которые используются отчасти для ее построения, а отчасти для реализации собственных идеальных целей, основанных отчасти на чувственных восприятиях, а отчасти на потребностях и чувствах, зарождающихся в субъекте. Мы рассматриваем не анализ, не историю и не теорию структуры и прогресса уже существующего знания. Это анализ так называемых способностей субъекта к мышлению, желанию и чувству, к которым мы хотим прийти.
Знание – это одно, а мышление – другое. Путаница между этими двумя вещами погубила не одну амбициозную философскую систему. Мысль включает в себя и бытие, и небытие в силу своего собственного принципа движения, в то время как знание относится только к бытию, ибо всякое знание о небытии есть знание о нем только как об определении внутри мысли, объективированном для себя в рефлексии, а не как о существующем объекте, о котором думают, в отличие от мысли во всей ее полноте как способа сознания. Если бы нашей целью была теория знания в том виде, в каком она существует сейчас, или если бы мы занимались какой-либо из позитивных или практических наук в их нынешнем виде, или даже если бы мы занимались эпистемологией или теорией знания в ее самом широком смысле, предполагая, что она начинается, как это и происходит на самом деле, с допущения различия между субъектом и объектом как изначально известного факта, дело было бы иным. Но поскольку мы занимаемся философией, то есть знанием опыта или сознания во всем его объеме, и начинаем с его анализа без каких-либо допущений, – знанием, которое, несомненно, будет включать в себя эпистемологию или теорию познания на своем месте, то есть когда истинное различие между субъектом и объектом будет установлено путем анализа, – наш курс должен идти по другим линиям. Таким образом, поскольку знание сознания во всем его объеме, – а это, как показали первые шаги в анализе, есть знание его как субъективного аспекта Бытия во всей его полноте, – является целью и задачей всей настоящей работы; поскольку мы, следовательно, заинтересованы в возможностях, мыслимых и немыслимых возможностях существования в целом; и поскольку мы в Книге I. Мы проанализировали представления чувств настолько, чтобы увидеть, как они способствуют нашему познанию внешних реальностей, а среди них и самих субъектов как реальных условий; представляется разумным, что теперь мы должны абстрагироваться от представлений чувств и их реальных условий в анализе, который является основой оставшейся части исследования, то есть в анализе процессов мышления, чувства и желания, зависящих от реальных сил и способностей субъекта, которые наш анализ уже раскрыл перед нами. Ибо таким образом мы представляем себе оставшуюся часть опыта в той самой форме, в которой он действительно переживается, несмотря на то, что для этого мы вырываем его из контекста уже построенной системы знаний, признаваемой знанием реальности, независимо от того, принимает ли эта система форму науки или является обычным представлением здравого смысла о людях и вещах.
Абстрагируясь таким образом от чувственных представлений, материальных объектов и реальных условий, мы ни в коем случае не исключаем их из нашего поля зрения; напротив, мы всегда стремимся указать их место и связь во всей панораме объективного мышления, рединтегративные части которого являются нашим специальным объектом анализа. Вся панорама объективной мысли, как она переживается в серии последовательно присутствующих моментов рефлексивного восприятия, – это то, что мы имеем перед собой, с намерением проанализировать те ее части, которые состоят из рединтеграций, отмечая как пробелы, не подлежащие анализу, те части, которые заняты либо представлениями ощущений, либо предполагаемым присутствием реальных объектов, о которых думают, насколько они основаны на представлениях ощущений, либо нервными процессами, о которых мы здесь и сейчас имеем основания знать, но которые не включены в сознание, которое они фактически обусловливают. Нервные процессы, по сути, исключаются из нашего анализа просто как реальные условия, независимо от того, присутствуют они в сознании или нет, но включают в себя только то, что я сейчас назвал ретенциями.
В то же время следует внимательно следить за связью между заготовками и определенными таким образом анализандами. Как уже говорилось, именно реальное существование того, что мы сейчас называем пробелами, делает понятным существование анализанды и сохраняет их связность как частей общей панорамы субъекта. Объективное мышление, как мы видели, содержит все имеющиеся у нас доказательства природы и существования любой реальности. Те части в ней, которые я сейчас назвал пустыми, вместе взятые, составляют то, что принято называть реальным миром; те, которые я выделил как анализируемые, составляют ту движущуюся картину, которая иногда проходит под названием субъективной мысли и воображения. И из этих двух половин общего процесса-панорамы опыта, заготовок и анализанд, реального мира и субъективной картины, последняя, очевидно, как целое, является представителем первого как целого; это процесс сознания, в котором и посредством которого весь реальный мир, рассматриваемый как существующая реальность, что бы он ни содержал в деталях, приводится в непосредственную связь, не как прежде, с презентирующим, а с репрезентативным и интеллектуальным знанием. Заготовки не перестают быть нашим объектом, если мы выбираем для анализа процесс, в ходе которого они проходят и вновь проходят перед нами в обзоре. Только теперь нас интересует процесс как процесс, а его содержание – как принадлежащее процессу, а не объектам, которые этот процесс представляет.
C. Время и пространство – фундаментальные формы мира объективного мышления.
Переходя, таким образом, к процессу, который теперь определенно предстал перед нами как наш непосредственный объект, прежде всего следует отметить его отношение к содержанию. Поскольку это содержание представляет реальность, очевидно, что процесс является как панорамной картиной, так и процессом. Это панорамная картина, которая имеет продолжительность во времени, в то время как ее части подвержены вечному изменению; так что последовательные моменты ее продолжительности могут быть отмечены посредством последовательных конфигураций ее частей. Рассматриваемый из любого настоящего момента, oi’ момента актуального опыта, процесс, кажется, всегда остается позади, или отступает в прошлое памяти, неся с собой последовательные плоскости или поперечные секции своего содержания, различаемые посредством их соответствующих конфигураций. В то же время оно как бы продвигается в неизвестное будущее, содержание которого дано только в тех фантазиях, которые могут быть спроецированы из удаляющегося прошлого. Это содержание, рассматриваемое из любого из тех же последовательных моментов настоящего, кажется неограниченно простирающимся во всех направлениях пространства, причем направления измеряются от общего центра, который мы можем определить как ту точку пространства внутри самого содержания, из которой остальная его часть кажется рассматриваемой в любой данный момент времени. Обычно, конечно, эта центральная точка находится в теле субъекта, который обычно представляется как центральный объект панорамы. Содержание всегда имеет длительность, что означает его существование во времени; а процесс всегда имеет пространственную протяженность, по крайней мере для существ, наделенных зрением и осязанием, что означает его существование в пространстве. Таким образом, время и пространство – это две фундаментальные формы, в которые отливается весь наш сознательный опыт; и из них время – самая необходимая, поскольку ни одно восприятие не может быть представлено без длительности, и ни одно переживание не является процессом. Время – это конечная связь всех явлений, во-первых, тех, которые имеют длительность или только длительность и последовательность, и, во-вторых, между ними и теми, которые являются особым содержанием пространственной панорамы. Эти слова, по крайней мере в отношении существ, наделенных зрением и осязанием, могут служить для того, чтобы показать зависимость процесса-содержания рединтеграции от представления ощущений. С точки зрения Мысли мы можем представить себе существ без этих органов чувств, и тогда нам будет трудно вообразить, что они имеют опыт чего-либо пространственно протяженного. В то же время для существ, у которых они есть, становится очевидной причина, по которой их рединтеграции обычно имеют тенденцию принимать живописную форму, и, следовательно, почему все, что мы пытаемся точно представить, мы облекаем в формы, заимствованные из пространства; как, например, когда мы представляем время,
и явления, которые занимают только время, под образом линии или потока, имеющего направление в пространстве. Причина этого двояка: во-первых, потому, что форма пространства, данная в зрительном восприятии, позволяет нам в один момент сознания соотнести друг с другом неопределенно большое число различных явлений, и, во-вторых, потому, что благодаря тесному сочетанию зрения с осязанием, в восприятии тех реальных существ, которые являются также реальными условиями, все явления, каковы бы они ни были, которые мы соотносим друг с другом в форме пространства, тем самым также приводятся в мыслительное отношение к миру действительности.
Таким образом, мы строим для себя mundus intelligibilis, или мыслительный мир, из явлений объективной мысли, явлений, перешедших в объективную мысль из чувственных представлений, причем чувственные представления являются одним из двух видов пробелов, о которых говорилось выше в нашем непосредственном объекте анализа. И опять-таки, через этот мыслительный мир и из него прошли, после проверки посредством чувственного представления, все те реальные объекты, о которых мы думали, которые по умозаключению заняли для нас свое место в мире реальности, как одновременно реальные экзистенции и реальные условия, которые были нашими заготовками второго рода. Иными словами, мы впредь думаем об этих умозаключенных и проверенных объектах как о имеющих существование, независимое от процесса мышления, посредством которого было получено наше знание о них.
Более того, мы можем удерживать эти объекты, чтобы рассуждать о них как о реальности, связывая их либо с общими именами и определениями, либо с математическими символами, последние из которых позволяют нам иметь дело с ними как с отдельными существами, индивидуализированными их временными и пространственными отношениями как ad intra, так и ad extra, с бесконечно малой точностью, но без использования какого-либо образного воображения в процессе рассуждения; Поскольку мы имеем в именах или в символах, привязанных к ним по ассоциации, верное средство вновь вызвать их в образном мышлении и как бы перевести символы в то, что по ассоциации они символизировали. Непременным условием истинности любого вывода, сделанного любым из этих символических методов, логическим или математическим, является то, что фраза или символ, выражающие этот вывод, должны быть переводимы в образное представление, или, другими словами, интерпретируемы для мысли. В противном случае говорят, что она стала воображаемой, а ее значение – нереальным. Эта связь имен и символов с образностью или содержанием рединтеграции является связью между рассуждениями формальной логики, с одной стороны, и математическими рассуждениями, которые являются вычислениями во всем их объеме, с другой стороны, с образными рассуждениями обычной жизни, которые изначально являются неотъемлемым спутником рединтегративных процессов. Я, конечно, далек от мысли, что это использование имен и символов применимо только к проверенным реальностям. Напротив, поскольку именно их характер как объектов, о которых думают, делает его применимым к ним, очевидно, что он может быть применен к любому объекту, о котором думают, реальному или только воображаемому, который мы можем счесть нужным или быть вынужденными самим процессом выразить именем, определением или символом. Таким образом, вся основа реинтеграции, все ее содержание, как реальное, так и нереальное, охватывается как логическими, так и математическими процессами.
С другой стороны, мир разума, или мир мысли, который мы строим из явлений объективной мысли, отделяя его от этих систем символизма, логических и математических, и содержащий незаполненные пробелы, о которых мы говорили, является, таким образом, миром предварительных образов, концепций, и гипотез, построенных на основе чувственных представлений и их форм времени и пространства и ожидающих, в одних случаях, проверки, предоставляемой чувственными представлениями, в других – конкретного заполнения своих абстрактных скелетов представленными или репрезентированными деталями, в третьих – решительного волевого решения. Это мир внутри, или, возможно, я должен сказать, за пределами мира реальности; мир возможностей и концепций, которые актуальны как мысли, но еще не известны как вещи. И все же это тот самый мир, который является единственным миром, непосредственно присутствующим, непосредственно переживаемым человеком, рассматриваемым как рациональное, то есть активное, мыслящее и эмоциональное существо; единственный мир, который в сознании непосредственно связан с мыслью и волей; мир, через который только он имеет связное знание, в полном смысле слова, о любой реальности.
Доказательство того, что мир, к которому относится это связное знание, действительно является реальностью в полном смысле этого слова, состоит в том, что в субъекте могут возникать представления, которые, строго говоря, не являются воспоминаниями, то есть простым воспроизведением какой-либо части его собственного предыдущего опыта, но все же имеют характер, который можно проверить с помощью чувственных представлений, и относятся к объектам, несуществование которых было бы несовместимо с ранее проверенными и установленными фактами его собственного просто запоминаемого опыта. Такие представления, которые правильнее всего называть верифицируемыми воображениями, составляют область, дополнительную к области собственно памяти, область, которая завершает всю панораму реального существования, насколько она позитивно известна или познаваема. Эти воображения могут быть вызваны различными способами, например, путем свидетельства, как когда мы принимаем рассказы путешественников или свидетельства исторических документов, или путем рассуждения или расчета, как когда астроном воображает реальное существование планеты, до тех пор не наблюдавшейся, в результате наблюдаемых возмущений в других телах, которые не могут быть объяснены иначе. Имя покойного профессора Тиндалла должно быть всегда в почете за его четкое и неоднократное признание места, занимаемого воображением в науке, и той незаменимой функции, которую оно в ней выполняет. Один только факт верифицируемости достаточен для того, чтобы безоговорочно признать реальность мира, к которому принадлежат объекты таких представлений, и в философском, да и в обыденном мышлении обычно считалось, что это так. Я говорю «верифицируемость», а не «верификация», потому что верификация одного ясно представляемого объекта подразумевает верифицируемость всех аналогично представляемых объектов, верификация которых, как не было показано, невозможна, а значит, и мира, какими бы ни были его другие объекты, к которому принадлежит этот единственный верифицируемый объект. Но последнее звено, которое завершает, или, скорее, последнее обстоятельство, которое скрепляет, доказательство этой реальности, дается субъекту научным открытием физиологических органов и процессов, от которых эти воображения в конечном счете зависят, я имею в виду нейро-церебральный механизм, поддерживающий реинтеграцию или ассоциацию идей. Ибо, с одной стороны, это знание ближайших реальных условий его сознания ставит проверяемые воображения субъекта на одну ступень с собственно воспоминаниями, а воспоминания – на одну ступень с воспоминаниями в смысле просто сохраненных представлений, выставляя все одинаково как случаи реинтеграции, с ассоциацией или без ассоциации ощущений разного рода; И с другой стороны, это знание объекта, несуществование которого было бы несовместимо с его первоначально установленным знанием реального существования его собственного организма, который, со всем, что он может включать в себя, стал известен ему одновременно с реальным материальным миром, в котором он является (для него) постоянным центральным объектом, -знание обоих объектов в равной степени было первоначально приобретено опытом, лежащим в пределах памяти в смысле простого сохранения представлений, хотя и несходных по виду, как это было должным образом изложено при анализе нашего восприятия внешнего мира в книге I. Короче говоря, факт сосуществования непосредственных зрительных и осязательных восприятий, которые, когда на них обращают внимание, составляют переживание индивидом своего собственного тела в контакте с другими реальными телами, теперь объясняется дальнейшим знанием, полученным из этого опыта, об отношениях реальной обусловленности, в которых эти тела и их части стоят и стояли друг к другу, до возникновения непосредственных восприятий, которые они обусловливают, и в этих непосредственных восприятиях берет начало все его знание.
D. Эмоциональное содержание объективного мышления.
Приближаясь к содержанию ре-динтегративного процесса объективного мышления, мы замечаем еще одну общую характеристику, я имею в виду его эмоциональный характер. Как правило, ощущения-представления более яркие, чем их представления; боль или удовольствие от них более острые; контрасты более яркие; формы более отчетливые; очертания более ясные. С другой стороны, их репрезентации приобретают или развивают в процессе реинтеграции совершенно новые характеристики. Боль и удовольствие чувства заменяются в представлении соответственно горем и радостью, отвращением и пристрастием, страхом и надеждой, отвращением и желанием; при этом их характер как боли или удовольствия чувства становится частью образного, в отличие от эмоционального элемента, представления. Представления теряют свою сенсационную боль или удовольствие и приобретают боль или удовольствие эмоционального характера. Эмоциональное чувство пронизывает и окрашивает репрезентативный образ, частью которого теперь стала репрезентация сенсационной боли или удовольствия. Образ становится как бы каркасом эмоции, и целое, образованное двумя элементами, образом и эмоцией, может называться по-разному; точно так же, как в предыдущих главах мы обнаружили, что одно и то же состояние сознания может называться и ощущением, и восприятием, в зависимости от контекста, в котором мы его рассматривали.
Эмоции и страсти, включая свойственные им боль или удовольствие, фактически являются материальным элементом рединтеграции, причем элементом, неотделимым от репрезентаций или образов рединтеграции; точно так же, как качества ощущений, включая свойственные им боль и удовольствие чувства, являются неотделимым материальным элементом репрезентаций чувства, как это было изложено в анализе Книги I.
Боль и удовольствие от ощущений и боль и удовольствие от эмоций – это два совершенно разных вида боли и удовольствия, несмотря на то, что последнее уходит своими корнями в первое. Мы должны, однако, различать те случаи боли и удовольствия, в которых они занимают промежуточное положение и полностью принадлежат рединтеграции, хотя и не являются болью или удовольствием эмоции. Я имею в виду случаи простой рединтеграции боли или удовольствия чувства, о которых говорилось выше, в которых они составляют часть образности только представления, оставляя его на данный момент полностью свободным от какой-либо эмоциональной окраски, получаемой непосредственно из чувства, и в которых они переживаются просто как факты, безразличные для воспринимающего, в то время как представление, которое их изображает, получает свое эмоциональное содержание из связи, в которой оно находится с другими представлениями или образностью, содержащейся в рединтеграции. Условия наличия такого отстраненного или безразличного опыта, как голое представление боли или удовольствия чувства, нам сейчас не нужно рассматривать. Здесь достаточно показать место, которое оно занимает в рединтегративном содержании. Возвращаясь к контрасту между удовольствиями и болью чувства и эмоций, очевидно, что оба вида являются общими классами, каждый из которых включает в себя огромное количество видов. Виды ощущений по крайней мере столь же многочисленны, как и различные телесные органы, в которых они возникают; а разновидности каждого вида столь же многочисленны, как и несколько различных способов, которыми эти органы могут быть затронуты. Разновидности различимых болей гораздо более многочисленны, а интенсивность, на которую способны некоторые из них, гораздо выше, чем у различимых удовольствий. При попытке классификации ощущений удовольствия и боли не существует другого конечного стандарта, которому должна соответствовать наша классификация, кроме специфики самих ощущений.
Но дело обстоит иначе, когда мы переходим к эмоциям, которые в рединтеграции пронизывают и окрашивают представления о них. Здесь специфические черты представленных ощущений ослабевают, а их общие черты, в которых они похожи друг на друга, становятся, следовательно, более заметными. В представлении, сопровождаемом эмоциями, мы больше не различаем специфический сенсационный характер боли и удовольствия от ощущения. Например, у нас нет названия для эмоциональной боли, возникающей при представлении зубной боли, или для эмоционального удовольствия, возникающего при представлении утоления голода. В рединтеграции остаются только два конечных рода боли и удовольствия. Ими в рединтеграции являются две фундаментальные эмоции – горе и радость; а виды и разновидности ощущений, которые эти великие роды содержат в себе, отличаются совсем другими характеристиками, чем те, что принадлежат первичным специфическим ощущениям, из которых они возникли.
Причина в том, что они теперь управляются тем, что принадлежат к рединтегративному процессу, то есть зависят от нервных функций, которые лишь косвенно зависят от внешних стимулов и которые в своих реакциях на впечатления извне осуществляют отчасти коллективную и независимую власть. Более того, тот факт, что реинтеграция – это процесс, имеет первостепенное значение для группировки эмоционального содержания его представлений или образов. Если оставить в стороне эмоции, которые при определенных условиях могут развиться из того, что я назвал выше отстраненными или безразличными представлениями удовольствия и боли чувства, то все остальные эмоции, по-видимому, предполагают и являются более или менее отдаленными модификациями двух фундаментальных и первичных эмоций – радости и горя. Контрастные нервные процессы, которые мы должны рассматривать как соответственно поддерживающие и обусловливающие эти два фундаментальных вида эмоций, восходят к очень раннему периоду эволюции, как у отдельных людей, так и у расы; этот период совпадает с эволюцией самого рединтегративного процесса. Поэтому эволюция эмоций должна рассматриваться как происходящая pari passu с эволюцией репрезентативных образов, которые они пронизывают, и обе они вместе зависят от эволюции и развития, в массе и сложности, нервного механизма, функционирование которого поддерживает рединтеграцию как процесс сознания. Горе и радость в их наиболее общем и неразвитом состоянии отнюдь не являются абстракциями; это конкретные, но рудиментарные эмоции, из которых развились более специализированные эмоции, и которые имели фактическое существование в качестве рудиментарных эмоций в историческом начале жизни рединтеграции. В тот период они должны были сами развиться из самых ранних болей и удовольствий чувства, когда они переходили в состояние представления. Правда, теперь мы различаем их, только пройдя через процесс абстрагирования. Однако это не исключает, а оставляет открытой возможность того, что они могли иметь реальное историческое существование в качестве неразвитых чувств; и их происхождение из представлений чувств показывает, что так и должно было быть. Они не похожи на такие абстракции, как треугольник вообще, ни равносторонний, ни равнобедренный, ни скалистый, историческое происхождение которого невозможно показать, и который является абстракцией и ничем более. Они отмечают ступень в историческом развитии сознательных существ и являются материальным элементом, если снова использовать это слово в качестве термина сознания, из которого с модификациями складываются последующие эмоциональные состояния.
Первые и самые простые модификации, которые они претерпевают, связаны с тем, что реинтеграция – это процесс, то есть изменение во времени от настоящего к будущему в порядке действия и от настоящего к прошлому в порядке знания. Образ, пронизанный эмоцией горя и представленный как прошлое или настоящее, становится объектом отвращения, то есть образ в дальнейшем пронизывается эмоцией отвращения, модификацией горя. Образ, пронизанный эмоцией радости и отнесенный к прошлому или настоящему, аналогичным образом становится объектом симпатии. Точно так же образы, пронизанные горем и относящиеся к неопределенному будущему, то есть представляемые как возможно происходящие в будущем, становятся объектом страха и отвращения; пронизанные радостью – объектом надежды и желания.
Для определения этих модифицированных эмоций, отвращения, пристрастия, страха, отвращения, надежды, желания, нам не нужно ничего, кроме фундаментальных чувств горя и радости с их образами и временными соотношениями, в которых объект этих образов представляется как стоящий перед настоящим моментом сознания. У нас есть их сущность как эмоций, выраженных в определениях, сформулированных таким образом. При этом не обязательно, чтобы образность была образностью какого-то конкретного вида объекта, а не другого. Достаточно, чтобы это были образы скорби или радости. Образность любого или всех видов охватывается определением, пока выполняется это условие. Его более конкретный характер безразличен к сути эмоции. Все эти эмоции, короче говоря, таковы, что мы можем представить себе спонтанно возникающими в самых низших организмах, не предполагая никаких усилий сознательной мысли со стороны воспринимающего, а тем более никакого сознательного противопоставления себя окружающим агентам с его стороны.
§3. Спонтанные и волевые способы рединтеграции
Чтобы завершить этот предварительный обзор явлений рединтеграции, остается отметить две общие характеристики, а также некоторые результаты, которые вытекают из них при определении этапов ее исторической эволюции. Первая – это различие между двумя способами реинтеграции, спонтанной и волевой; вторая – различие между реинтеграцией первичных восприятий и реинтеграцией сложных и связных их групп, причем каждая такая группа является репрезентацией конкретного объекта, о котором думают, реального или воображаемого. Оба различия являются общими для всего диапазона рединтеграции, как мы знаем ее в настоящее время. Состояния спонтанной и волевой реинтеграции постоянно чередуются друг с другом в любом виде опыта; то же самое верно и для двух видов репрезентаций, которые подпадают под наше второе различие, а именно: репрезентации первичных и сложных объектов.
Тем не менее, при рассмотрении становится очевидным, что первый член каждого различия в каждом случае является условием второго, причем таким образом, что он, в свою очередь, не обусловлен им. Существует смысл, в котором спонтанная реинтеграция обусловливает волевую, а представление первичных объектов обусловливает представление сложных, и никогда наоборот. Если бы первичные восприятия не были сначала представлены, представления сложных объектов никогда не могли бы иметь места, поскольку нечего было бы объединять; и точно так же, без существования спонтанных рединтеграций, волевые были бы невозможны, поскольку нечего было бы изменять или выбирать из них.
Явления, проанализированные в Книге I., если рассматривать их в историческом порядке возникновения, дают доказательства того, что рединтеграция первичных представлений инициирует и, следовательно, предшествует их рединтегративному объединению в сложные объекты, то есть сложные представления, имеющие большую или меньшую постоянность или сходство в их повторениях; а также того, что спонтанная рединтеграция инициирует и, следовательно, предшествует волевому процессу таким же образом, хотя продолжительность времени, занятого предшествующим и отдельным существованием первичных и спонтанных процессов по отдельности, таким образом не определяется. Ибо если бы это не было первоначальным и постоянным порядком, или, более строго, порядком природы, в этих двух парах явлений (принимая природу в метафизическом смысле этого термина, уже знакомого нам по книге I.), то пришлось бы предположить, что обусловливающим агентством в рединтеграции был бы нематериальный агент, способный давать себе специфические первичные восприятия, для осуществления общих идей, которые он сознавал исключительно усилием своей воли. Это было бы необходимо, потому что физиологическая психология ясно показывает, что представления чувств, сохраняемые в репрезентации, предшествуют чистым представлениям, и что чистые представления предшествуют действиям целенаправленного внимания к ним и их сравнения; порядок, который нельзя изменить, не порывая полностью с физиологической психологией и не прибегая к априорной психологии, которая помещает инициацию всех последовательностей сознания в некую способность мышления и желания, представляемую полностью сформированной ab initio.
Вопрос о порядке возникновения компонентов процесса сознания во всех случаях, когда его члены воспринимаются как отделимые один от другого, что имеет место в данном случае, – это вопросы, которые касаются порядка реальной обусловленности; и именно через рассмотрение этого порядка мы должны пройти, если хотим установить порядок природы (в метафизическом смысле этого слова), который действует в процессах-содержаниях такого рода. Когда, соответственно, мы ставим вопрос о реальной обусловленности фактов рединтегративного восприятия с целью выяснения порядка, в котором происходят различные их классы; то есть, когда мы объединяем такие явления, которые были проанализированы в Книге I., и выводы относительно реальной обусловленности, которые были сделаны в Книге II.; мы обнаруживаем, что единственная гипотеза, которая может оправдать изменение порядка, поддерживаемого здесь, между спонтанной и волевой реинтеграцией и между первичными и сложными объектами, – это та, которая прямо отрицается научной или физиологической психологией, как полностью немыслимая и вымышленная.
Поэтому мы вправе считать доказанным, что в первоначальном порядке возникновения и, следовательно, на протяжении всей истории рединтеграции, чтобы составить характеристику ее природы в метафизическом смысле этого слова, спонтанная рединтеграция является предшествующим sine qua non условием волевой, а первичные восприятия – аналогичным условием сложных восприятий или сложных объектов, причем два последних члена каждого различия не являются предшествующими условиями двух первых, несмотря на то, что в потоке реального опыта мы находим их постоянно чередующимися друг с другом. Общий результат заключается в том, что самой ранней и обусловленной стадией в процессе и развитии рединтеграции, во все периоды истории расы, а также отдельного человека, является стадия спонтанной рединтеграции первичных восприятий: именно в процессах такого рода следует заложить основу для анализа рединтеграции в целом и в том виде, в котором мы ее переживаем сейчас.
Говоря выше о спонтанной рединтеграции как условии волевых, и первичной как условии сложных восприятий, я, конечно, имею в виду, что реальная обусловленность принадлежит нервному организму, поддерживающему эти процессы, которые могут быть описаны только терминами, подразумевающими сознание. Термины «спонтанный» и «волевой», если бы их можно было взять в отрыве от импликации сознания, были бы тогда строго применимы к нейронным процессам, взятым сами по себе, если предположить, что мы можем знать их сами по себе или не прибегая к их обусловленному сознанию. Однако мое использование этих терминов может показаться многим странным, хотя я не впервые употребляю их в этом смысле. Обычно, как мне кажется, спонтанность отождествляют с волей. Это вытекает из распространенности традиционного представления о нематериальном агентстве в сознании; ведь предполагается, что это агентство (будучи на самом деле фикцией) действует спонтанно, proprio motu, или по своей собственной воле. Спонтанность и воля, отождествляемые таким образом, противопоставляются как предполагаемой пассивной восприимчивости со стороны нематериального субъекта, так и тем его действиям, которые, как предполагается, определяются ab extra, то есть физическими и механически действующими силами. Напротив, в моем употреблении этих терминов, которое, как мне кажется, оправдано анализом материи, приведенным в книге II, они не отождествляются, а противопоставляются; и любой процесс нервного организма, обеспечивающий рединтеграцию, до его модификации волей (которая также является действием нервного организма), называется спонтанным, несмотря на то, что его характер определяется главным образом предшествующими впечатлениями, которые обеспечивали чувственные представления.
Следующий момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что, начиная с основы спонтанной реинтеграции первичных представлений, необходимо последующее волевое усилие в форме внимания, включающего желание новых впечатлений, проливающих свет на существующие, как условие модификации ряда чистых представлений, спонтанно возникающих, в ряд систематически связанных понятий, или представлений, прошедших через и вне концептуального процесса; То есть в поезд Мысли, в строгом и правильном смысле этого слова, поезд, в который входят, во-первых, те первичные представления, на которых в первую очередь фиксируется внимание, и, во-вторых, те сложные объекты или группы первичных представлений, какими бы они ни были, которые формируются в результате таких актов внимания к первичным представлениям. Наблюдение этого вида внимания, которое является волевым, за поездами спонтанной реинтеграции и представлениями, из которых они состоят, является местом рождения Мысли или Мышления в строгом смысле слова. Любое представление, простое или сложное, в таком поезде спонтанной реинтеграции, на котором так фиксируется волевое внимание, тем самым превращается из восприятия в понятие, то есть в восприятие, ожидающее присоединения к нему новых впечатлений; а поскольку они должны быть либо сходными с ним, либо несходными, оно становится, в отношении тех, которые могут быть сходными, общим или охватывающим восприятием, выражаемым общим именем, термином или символом.
Концепция и мышление одновременно имеют свою природу и свое происхождение в наведении волевого внимания на спонтанную реинтеграцию восприятий.
Мы уже видели этот волевой фактор в работе на конкретном уровне, то есть в опыте, состоящем из чувственных представлений и рединтегративных представлений вместе, в Книге I, где было показано, что без внимания к первичным восприятиям с целью (как там было выражено) узнать о них больше, что приводит к выяснению их места среди первичных представлений, являющихся их исходным контекстом, и их отношений к ним, мы не смогли бы прийти к той их группировке, которая известна как восприятие материальных объектов, – группировке, которая представляет собой тип, на котором строятся наши представления обо всех реальных сложных объектах. Кроме того, стало ясно, какого рода внимание здесь требуется. Мы увидели, что внимание, направленное на то, чтобы узнать о данном первичном восприятии нечто большее, чем просто его фиксация (которая, хотя и является повторным действием, все же может быть непроизвольной), – внимание, вызванное чем-то странным или неожиданным в нем, внимание, предполагающее желание лучше с ним познакомиться и поэтому направленное на него в связи с его настоящим или ожидаемым контекстом, – словом, внимание такого рода, которое в предыдущей главе (Книга I, гл. Ill, §5), было необходимо для того, чтобы разбить поток первичных восприятий, как он первоначально возникает, и сгруппировать его члены или некоторые из них в наборы, соответствующие, в объективном мышлении, реальным объектам, мыслимым как существующие в природе. Именно таким образом, как мы видели в первой книге, первоначально приобретается наше знание об обычных материальных объектах, таких как коробка или колокол, а также о нашем собственном теле. Ощущения-представления, а следовательно, и представления зрительных и осязательных восприятий, которые составляют наше знание о любом таком материальном объекте, рассматриваемом как общий объект обоих видов восприятий, не приходят к нам уже сгруппированными и отделенными от других одновременно данных ощущений. Мы должны сначала обратить на них внимание, сославшись на их контекст, прежде чем обнаружим, что их группировка вместе, отдельно от других, соответствует постоянной группировке вместе, в Природе, реальных условий, от которых как существующие восприятия они зависят. В то же время, заметим, мы не группируем одни восприятия вместе или отделяем их от других по какой-либо собственной априорной причине или с помощью какой-либо подсказки, предоставляемой способностью к группировке или синтезу. Мы просто обращаем внимание на одновременные и тесно связанные изменения, происходящие в двух сериях восприятий, зрительных и осязательных, и на тот факт, что эти восприятия занимают одну и ту же часть пространственной протяженности в одно и то же время, причем каждое новое зрительное восприятие по мере его возникновения распознается как аналогичное предыдущим зрительным восприятиям, а каждое новое осязательное восприятие – как такое же. Группировка, которая получается в результате, то есть результирующее представление удаленного [3 - Дистанция – это термин, который я использовал в предыдущих работах для характеристики таких конкретных материальных объектов, о которых здесь идет речь, – реальных объектов мышления здравого смысла.]материального объекта, есть не что иное, как восприятие более глубокого порядка в исходной серии первичных восприятий, повторенных в представлении, чем это было очевидно при первом осмотре, то есть когда она существовала как серия спонтанно реинтегрированных восприятий.
Это порядок, признаваемый как тот, который мы могли бы воспринять, хотя и не восприняли, в то самое время, когда мы переживали первоначальную серию первичных восприятий. Акт волевого внимания, следовательно, в подобных случаях сразу же приводит не к чему иному, как к открытию фактов, до тех пор не наблюдавшихся; но это акт, необходимый для открытия.
Примеры, взятые, как и выше, из процесса, посредством которого первоначально приобретается знание о внешнем мире, конечно, являются примерами, в которых спонтанное представление не демонстрируется изолированно, чтобы быть противопоставленным волевому. Это существенный компонент, но не весь процесс. В качестве другого компонента все время происходят представления чувств. Одно ощущение репрезентируется, в то время как другое, точно такое же, репрезентируется; и репрезентации ощущений являются как основой остальной части процесса, так и проверкой истинности получаемых репрезентаций. Но связь между спонтанной и волевой рединтеграцией остается такой же, независимо от того, вмешиваются ли новые смысловые представления или нет, показывая тем самым, что даже в случаях, когда смысловые представления задействованы, внимание, которое является волевым, берет свое начало в рединтегративной, а не в пресентативной части процесса в целом. Так происходит, например, когда я пытаюсь вспомнить в мыслях точную природу и порядок происшествий во вчерашнем событии; или когда я пытаюсь подвести конкретный объект или событие под общую концепцию, которая до сих пор к нему не применялась, что является процессом, включающим сравнение; или когда я пытаюсь выработать последовательную линию чистой мысли, вспомнить неблагоприятные случаи, сформулировать гипотезы для их объяснения или устранения, или сравнить претензии конкурирующих теорий. Спонтанные реинтеграции здесь дают весь материал, из которого с помощью избирательного внимания, то есть воления с целью узнать что-то большее об этом материале, возникает мой вывод, и из которого он является модификацией. И последующее внимание всегда отмечено, как в своем происхождении, так и в своем поддержании в качестве процесса волевой реинтеграции, определенным чувством усилия, напряжения, трудности или смущения, каким бы слабым или незаметным оно ни было, что особенно характерно для тех случаев, когда интерес к рассматриваемому занятию велик.
Далее следует заметить, что представления, сформированные таким образом с помощью воли, будь то представления отдельных объектов или событий, или общие понятия, охватывающие неопределенное множество объектов, не обязательно остаются волевыми, но имеют тенденцию возвращаться в механизм спонтанной реинтеграции и повторяться впоследствии как спонтанно воспроизводимые представления, хотя и более высокой степени сложности, чем первичные, из которых они были созданы. Таким образом, поток спонтанных представлений постоянно модифицирует некоторые из составляющих его восприятий в волевые представления и постоянно принимает обратно в себя волевые представления, родителем которых он изначально был. Когда общее представление или сложный волевой образ становится практически неразрывным и привычным, он уже не требует акта внимания, чтобы его обнаружить или вспомнить. Его структура, место и время возникновения в сознании отныне обеспечиваются механизмом простой спонтанной реинтеграции. То, что раньше было волевым, теперь стало спонтанным, и поток сознания обогащается за счет приобретения постоянного содержания в результате опыта.
Мы видим также, что различие между спонтанным и волевым способами реинтеграции является исчерпывающим. Каждый рединтеграт является либо одним, либо другим, либо, если его длина или сложность значительны, содержит оба, не содержа ни того, ни другого. И это относится к рединтеграции во всей ее истории, как в расе, так и в индивидуумах, включая даже начало целого, которое, как мы видели, состоит только из спонтанных рединтеграций. Другими словами, это различие применимо к каждой последовательной стадии эволюции, от самой простой и ранней до самой поздней и сложной. Весь поток реинтеграции состоит, так сказать, из двух течений, сливающихся и переплетающихся друг с другом, – спонтанного и волевого. Спонтанный – это продолжение и развитие чувственных стимулов в органах рединтеграции, а волевой – реакция этих органов на эти процессы продолжения и развития. Первые берут свое начало в чувственных впечатлениях, вторые – в определенных реакциях организма.
Следует заметить, что при анализе реинтеграции я использовал термин «волевой» вместо более привычного «добровольный». Я делаю это потому, что он лучше всего выражает отличительный характер, который я хочу выявить, – его происхождение из волевых актов. Это более ограниченный термин из двух. Термин добровольный применяется к поездам редеинтеграции или действия, которые как целое инициируются или управляются волей, но не состоят исключительно из волевых актов. Волевой применяется только к элементу воления, который они содержат. Переходя теперь к другому различию, которое зависит от этого, как мы только что видели, – я имею в виду различие между представлениями первичных восприятий и представлениями отдаленных объектов или любого сложного объекта, воспринимаемого как реальный, – мы видим, что здесь дело обстоит несколько иначе. Представления последнего рода, будучи однажды введены посредством волевого действия в объективную мысль, имеют тенденцию становиться постоянными чертами ее механизма; становясь таковыми, они отмечают определенные и последовательные стадии в ее историческом развитии. Таким образом, восприятие реального внешнего мира, того, что мы назвали реальными условиями, среди которых собственное тело воспринимающего субъекта является его центральной и постоянной реальностью, отмечено как эпоха первостепенной важности в эволюции опыта, на каком бы этапе опыта человечества или отдельных людей мы ни предполагали, что восприятие было приобретено. Восприятие, обретенное однажды, никогда впоследствии не теряется и не только окрашивает и доминирует над всем последующим периодом опыта, но и становится необходимым в такой степени, что многие люди, кажется, вообще не способны мыслить, не принимая его как неотъемлемую часть своего мыслительного процесса. В книге II мы видели, что это же восприятие материальных объектов как реальных в том полном смысле этого слова, который привел нас к пониманию и характеристике их как реальных условий, было основой всей позитивной науки, включая психологию; материальный объект – это особый материальный объект, на котором основана психология, носящий, как и он, характер постоянного приближенного реального условия сознания.
§4. Я и личность
Но как бы ни были важны эти концепции и особенно их конкретный пример, концепция Субъекта, в истории и эволюции научного знания человека, они не имеют, по крайней мере непосредственно, такого же значения для анализа реинтеграции как процесса сознания или объективного мышления, которое является, так сказать, панорамным разворачиванием этого процесса, анализ которого в первую очередь обязательно является философским. Как рединтеграция и объективное мышление, как мы определили их для рассмотрения в данной главе, начинаются не с чувственных представлений, включающих удовольствие и боль чувства, а с представлений, пронизанных эмоциями радости и горя, так и главная эпоха в их историческом развитии отмечена концепцией не чего-то, что, подобно Субъекту, но чего-то, что прежде всего воспринимается как неотъемлемая часть самого процесса представления, затем предполагается, что оно было необходимым ингредиентом и в чувственном представлении, и, наконец, обнаруживается, что оно воспринимается во всем сознании, когда мы аналитически обращаемся к нему, с уже предложенной нам идеей его присутствия. Восприятие, о котором я говорю, – это то Единство во всем сознании, которое мы объективируем в отличие от всего изменчивого содержания, время от времени объединяемого в сознании, и называем Эго или Я. Я имею в виду, что Эго или Я принадлежит от первого до последнего к порядку объективной мысли, даже когда оно является объектом, о котором думают таким образом (поскольку все мысли являются реальными объектами для рефлексивного восприятия), и не принадлежит к порядку реальной обусловленности, разве что как кон-диционат в этом порядке. Другими словами, Эго или Я не является объектом, мыслимым как реальное условие, если только оно не гипотетически гипостазировано.
Эго занимает в мире сознания или опыта в целом, который является анализом философии, положение, параллельное тому, которое занимает Субъект в мире психологии; оба они являются центральными объектами миров, к которым они соответственно принадлежат, то есть объектами, к которым все другие в их соответствующих мирах отсылают для систематической координации. Но смысл, в котором это верно, не тот, в котором это было бы понято или принято ни философами здравого смысла, ни большим числом психологов в настоящее время. Наиболее распространенный взгляд на Эго несовместим с концепцией Субъекта как единственного ближайшего реального состояния сознания. Ибо при таком взгляде Субъект низводится до уровня непосредственного реального условия или агента сознания и мыслится лишь как промежуточное или инструментальное условие, то есть как тело или материальная система средств, с помощью которых материальный мир вводится в связь с реальным агентом, реальным человеком и его сознанием, причем этот реальный человек называется Эго. Таким образом, Эго мыслится как внутренний или нематериальный человек, внутри тела, или нервного организма, который является предметом научной психологии, внутренний человек, который сначала получает представления чувств через телесные органы, а затем, в процессе реинтеграции, сравнивает, разлагает, вновь объединяет и иным образом имеет с ними дело, как с членами своего собственного внутреннего или субъективного царства мысли, эмоций, воображения и воли. Таким образом, Эго обычно считается единственным центральным проксимальным реальным условием, или агентом, сознания в целом, в то время как Субъект становится простым средством, через которое он общается с материальным миром за пределами организма, и простым инструментом или органоном, который он ограниченно использует, или, скорее, как правило, использует, в своих внутренних рединтегративных действиях или отношениях со своим субъективным царством; Не говоря уже о предположении, которое неизбежно сопровождает подобные концепции, что сам материальный мир, включая субъект, в действительности может быть не более чем нематериальным продуктом собственных сил чувств, воли, мышления и воображения «Я». В этом, как я полагаю, общепринятом взгляде на Эго содержится одна большая и фундаментальная ошибка – ошибка приписывания ему функции быть реальным условием или агентом вообще. В предыдущих главах настоящей работы было показано, что Субъект, в смысле нервного организма научной психологии, является единственным известным ближайшим реальным условием, или агентом, сознания как экзистента. А поскольку Эго – это часть или способ сознания как существующего (а также как знающего), из этого следует, что оно обусловлено Субъектом и само не является реальным условием сознания или какого-либо из его способов, или так называемого субъективного царства объективной мысли, в оба из которых оно само входит как часть. Тем не менее это не лишает то единство сознания, которое гипостазируется как Эго, того центрального положения в мыслительном мире, то есть в сознании, рассматриваемом как знание, или в общей панораме объективной мысли, которое делает восприятие его эпохальным в познании и которым в достаточной степени оправдывается его аналогия с Субъектом. Наш мир объективной мысли был бы совсем не таким, каков он есть, если бы никогда не было достигнуто восприятие его единства как объекта самой фундаментальной функции Субъекта, а именно рефлексивного восприятия, одинакового в каждый последующий момент сознания.
Смысл и истинность этих утверждений станут очевидны, когда мы рассмотрим, чем на самом деле является Эго, чем на самом деле воспринимается то, что мы называем именем Я или Эго. Здесь перед нами открывается только одна возможность, если предыдущий анализ рефлексивного восприятия принять за верный. Этот анализ определяет, что должно представлять собой Эго, которое является его завершающим членом. Я ссылаюсь, в частности, на книгу I, гл. II, §§5 и 6, и снова, для дальнейшего определения, на книгу I, гл. VII, §§1, 2 и 4. В двух первых из этих отрывков было установлено, что момент рефлективного восприятия, момент всякого действительного опыта, состоит из двух аспектов или субмоментов, один субъективный, другой объективный, субъективный – это весь момент переживания как восприятия, объективный – это весь момент переживания как восприятия. Именно один набор этих субмоментов, субъективных субмоментов, или субъективных аспектов, в каждом эмпирическом или конкретном восприятии или опыте, которые теперь собраны в единство и сами объективированы как Эго или Воспринимающий; хотя в действительности факты дают нам основания объективировать их как не что иное, как Восприятие со стороны реального агента, Субъекта. Одинаковость этих субмоментов, как восприятия или сознания, дает нам основание объединить их как факт единства сознания, несмотря на все их различия в других отношениях, а факт их существенности для всего опыта дает нам основание приписать им, в этом единственном характере, диапазон, со-расширяющийся со всем возможным опытом. Но нет никаких оснований приписывать реальное агентство ни этим субмоментам в отдельности, ни единству сознания в течение жизни, которое обобщается из них, в большей степени, чем для приписывания его нескольким целым, субъективными аспектами которых они являются, конкретным или эмпирическим моментам рефлексивного восприятия, которые последовательно являются моментами всего фактического опыта. Длительность времени, которая является элементом любого восприятия или сознания, простого или сложного, является объединяющим, поскольку непрерывным, элементом в нем. В нем нельзя обнаружить никакой реальной силы. Именно этот элемент временной длительности был бы субъектом, которому принадлежала бы реальная агентность (если бы таковая существовала) в восприятии; и то, что реально в Эго, принадлежит сознанию субъекта лишь постольку, поскольку оно связано с этим элементом в восприятии. Короче говоря, Эго – это сознаваемое (а не сознающее) существо, воспринимаемое как абстрактный факт, общий для всех настоящих моментов сознания и повторяющийся в них, составляющий то, что я назвал субъективными субмоментами во всех них.
Теперь мы можем увидеть, в каком смысле Эго является центральным фактом во всех сознаниях, реинтеграциях и объективном мышлении, в котором его положение аналогично положению субъекта в реальном материальном мире. С того момента и после того, как мы признаем тождество в своем роде всех субмоментов сознания или рефлексивного восприятия как единого потока, в какую бы форму мы ни облекали наше признание этого, рефлексивное восприятие признается существенным обстоятельством, придающим единство всей панораме нашей объективной мысли, включая все ее частичные представления, в той мере, в какой момент восприятия мыслится как существенный для восприятия каждого содержания, которое вносит или внесло вклад в его составление. Тогда мы говорим, что являемся самосознающими, или воспринимаем наше сознание как наше; наше означает, в первую очередь, что оно отличается от всех своих объектов, кроме того центрального объекта, субъекта, в котором оно воспринимается как находящееся.
Но помимо этого существует дополнительное восприятие этого объединяющего момента, восприятие его, которое ведет непосредственно к гипостазированию его как агента, восприятие, которое мы не распознаем до тех пор, пока не распознаем только что упомянутое. Это восприятие его экзистентного аспекта или характера, то есть признание субъективных субмоментов нашего актуального сознания в качестве экзистентов – моментов, в которых сознание постоянно возникает над порогом, в зависимости от нейронных процессов в Субъекте, которые являются его ближайшими реальными условиями, определяющими возникновение его различных режимов как процессов сознания. Реальное агентство этих режимов лежит в нейронных процессах Субъекта, которые их обусловливают, и хотя они описываются в терминах сознания, они обязательно мыслятся как множество отдельных функций Субъекта (или деятельности Эго, если Эго гипостазировано); таким образом, сознательное существо, правильно ли оно мыслится как Субъект или неправильно как Эго, становится объектом психологии в отношении его сознания, которое, будучи взято как экзистент, co ipso взято как состоящее из определенного числа реально существующих процессов или функций. Теперь Субъект должен и может быть без противоречия принят как реальное условие сознания во всех его модусах и процессах. Он не является самим сознанием, а потому может служить его реальным условием. Но с Эго дело обстоит иначе. Ибо Эго – это абстрактное сознание, факт сознания, абстрагированный и превращенный в единый абстрактный факт, источник единства сознания в целом, единства, существенного как для целого, так и для каждой его части; и от этого легко (хотя и совершенно неоправданно) перейти к гипостазированию его как Единицы, или сознания как единой существующей единицы. И когда она однажды так гипостазирована, она должна быть понята как потенциально имеющая в себе все последовательные моменты сознания, от которых она абстрагирована, и которые, при соответствующих условиях, внешних по отношению к ней самой, она разворачивает или развивает из себя, или, говоря более техническим языком, которыми она последовательно становится. В этом отношении ложно гипостазированное Эго является своим собственным реальным условием, causa sui, что влечет за собой противоречие. Отношение между условием и обусловленным – это отношение между делимыми; отношение между абстракцией и явлениями, от которых она абстрагирована, – это отношение между неразделимыми. Явления не могут быть реальным условием абстракции, равно как и абстракция не может быть реальным условием явлений. Корень этой роковой путаницы лежит не в том, что сознание принимается за абстрактный факт единства восприятия, а в гипостазировании этой абстракции как сущности, например, как источника единства сознания. Но очевидно, что эта критика оставляет уникальную позицию Эго, взятую открыто как абстракция и понимаемую как факт единства в сознании, совершенно незатронутой, а также допускает параллелизм этой позиции в мире сознания с позицией Субъекта в мире реальных условий, как ближайшего реального условия сознания. Каждый момент сознания, как он происходит, определяется и поддерживается реальным условием, но это реальное условие лежит не в Эго, а в Субъекте.
Психологи обычно распределяют функции Эго по трем основным разделам – Чувство, Мышление и Воля, что является отличной классификацией с точки зрения здравого смысла, хотя эти три функции пересекаются и не являются взаимоисключающими. Для научных и философских целей более полезной классификацией будет та, которая была предложена здесь, а именно: процессы или функции представления чувств, спонтанной и волевой реинтеграции, принимая каждое из этих трех подразделений как включающее свои собственные особые виды чувств. Но важно отметить, что обе классификации являются классификациями процессов, то есть основаны прежде всего на различиях не в содержании восприятий или переживаемых объектов, а в процессах восприятия или переживания, как функциях агента. Это, как мы видели, действительно функции или процессы в нервной системе или субъекте, и как таковые они подпадают под деления физиологически определенные, деления, вероятно, совершенно отличные от тех их сознательных обусловленностей, которые мы сейчас используем для их описания. Обнаружить эти физиологически различные функции и подогнать их под деления, выявляемые или подлежащие выявлению при простом анализе сознания, – вот задача, наиболее настоятельно требующая решения в физиологической психологии будущего. Отсюда следует, что мы не сможем полностью понять, что такое Эго, или сознание как таковое, пока не подойдем к нему со стороны Субъекта и не сделаем его объектом физиологической психологии в дополнение к метафизике. В нейро-церебральной системе, по-видимому, нет ни одного места, предназначенного исключительно для сознания, но различные функции системы в целом имеют различные способы сознания, зависящие от них, которые мы можем назвать различными способами единства этого сознания. И главные из них, которые только что были обозначены, могут быть снова разделены на более мелкие режимы сознательного процесса по тем же принципам. Поэтому, хотя мы должны избегать гипостазирования Эго как агента, мы все же можем продолжать объективировать единство сознания субъекта и, видя, что единый термин является практической необходимостью, продолжать выражать его одним и тем же знакомым именем. Хотя Я или Эго больше не гипостазировано, оно по-прежнему имеет совершенно уникальную природу и положение. Возьмем его сначала со стороны познания. Одно среди объектов оно является объективацией субъективного аспекта сознания как такового, или, скорее, в отличие от его объективного аспекта. Восприятие не является объектом, пока оно само не воспринимается как воспринимающее в некотором данном восприятии или восприятиях. Тогда оно является восприятием самого восприятия и может быть обобщено как субъективный аспект во всех восприятиях. Поздний субмомент восприятия является восприятием предшествующих субмоментов восприятия. Восприятие тогда становится объективным и субъективным аспектом восприятия одновременно, не меняя своего характера быть субъективным аспектом. Ибо именно этот субъективный аспект и есть тогда и в этом характере воспринимаемый объект. В этом нет никакого противоречия, потому что процесс восприятия всегда является процессом не только во времени, но и рефлексии или ретроспекции во времени, и этот процесс, происходящий в любой данный момент, воспринимается в последующие моменты того же самого процесса. Между предшествующим и последующим восприятием не возникает никакого отношения реальной обусловленности. Отношение между воспринимающим и воспринимаемым, взятыми как части познания, не есть отношение между делимыми, не есть отношение реальной обусловленности.
Это не только моменты восприятия, предшествующие данному настоящему моменту, но и моменты, последующие за ним, которые, если обобщить эту идею, должны быть восприняты как составляющие часть Эго; поскольку они также будут подчиняться тому же закону и иметь ту же природу восприятия, если только они вообще появятся. Это восприятие восприятия – то, что в строгом смысле слова подразумевается под самосознанием, самосознанием Эго. Не то чтобы Эго было воспринимающим; субъект, а не Эго, является воспринимающим агентом; но просто то, что восприятие, которое мы имеем в виду, говоря об Эго, является восприятием восприятия в объясненном смысле. Эго не имеет, а является Самосознанием. Факт сознания, а не само сознание, есть воспринимаемое в нем Я. И снова о существовании. Восприятие Эго – это не то же самое, что восприятие чувств и идей в отличие от материальных объектов, или объективной мысли в отличие от объектов, о которых думают. Содержание сознания как такового не есть Эго. Сознание Эго также не есть просто сознание, взятое как существующее, но отличное от своих объектов или от своего содержания, что свело бы его к совершенно пустой или бесцветной абстракции, фактически к нулю. Это процесс сознания, когда оно воспринимается как одно и то же (по виду) во всех случаях; факт изменения сознания, который делает его процессом; тот факт, что каждый момент – это оглядывание на одно содержание, наполненное другим, каждое содержание начинает отступать в память с того самого момента, когда оно возникает за порогом; восприятие, воспринимаемое как существующий процесс или как изменение, вместо того чтобы определяться содержанием в отличие от процесса; короче говоря (чтобы сказать это еще раз), рефлексивный характер всего восприятия; – именно это мы воспринимаем, когда говорим, что мы самосознательны, или воспринимаем наше Я или наше «Я». Воспринимать наше восприятие – значит воспринимать его как процесс, который имеет свою природу, или содержание, как процесс, а именно изменение в непрерывном времени; процесс, который всегда один и тот же и всегда отличим путем абстрагирования от особых содержаний, между которыми он меняется, то есть от особых изменений, которые он включает. Когда мы вспоминаем, кем мы были в то или иное время, мы вспоминаем факт нашего сознания того или иного, и этот факт мы приписываем себе, как составляющий то, чем мы были, исключая из себя то или иное, что мы сознавали, как несущественные случайности.
Главный аргумент, на который больше всего опираются те, кто хотел бы гипостазировать Эго, противоречит всему анализу опыта, изложенному в первой книге. Верно, что рефлексивное восприятие исторически предшествует восприятию субъекта. Возможно, верно и то, что наше отчетливое восприятие его как познающего исторически предшествует существованию в нас этого восприятия. Но из этого не следует, что оно воспринимается как реальное агентство или даже что его можно представить себе как реальное агентство без предшествующего восприятия Субъекта, из которого, как мы видели, только и вытекает идея реальных агентов и агентств. До этого восприятия никакое Я или Эго как агент не воспринимается и не может быть воображено. Таким образом, приоритет даже двойного рефлексивного восприятия по отношению к восприятию Субъекта является приоритетом исключительно в генезисе идеи или концепции Я или Эго как агента; и ошибочно превращать этот приоритет в приоритет объекта этой идеи или концепции как реального агента в порядке реальной обусловленности, если только не будет показано, что, когда рефлексивное восприятие изначально воспринимается, оно воспринимается как реальный агент. Теперь это опровергается вышеприведенным анализом, как в настоящей книге, так и в книге I. Но даже если предположить, что это не так, – что тогда? В результате гипостазируется рефлексивное восприятие как агентство, и Эго, как гипостазированный агент процесса, становится совершенно излишним. Вот почему Гегель, придерживавшийся ошибочности гипостазирования Мышления как агентства, смог отвергнуть трансцендентальное Эго Канта (а вместе с ним и абсолютное Эго Фихте) как фикцию. Он справедливо увидел, что это всего лишь схоластическая Душа или Ум, только заново провозгласившая свою непознаваемость. Теперь не только это заблуждение, но и первичное заблуждение, на котором оно основано, первичное заблуждение превращения приоритета в генезисе идеи или концепции в приоритет объекта, мыслимого этой идеей или концепцией как реального агента в порядке реальной обусловленности, без отчетливого доказательства его реальности в этом характере, – заблуждение, лежащее в основе всех так называемых идеалистических философий, – которое разоблачается и, можно надеяться, исключается анализом книги I, к которому я обращаюсь. Ни один способ сознания, даже Мысль или Воля, не является и не может быть немедленно воспринят как агентство; факт агентства, в отличие от факта процесса, является производным и выводимым фактом.
Неспособность или отказ отличить то, что воспринимается сразу, от того, что является производным и выводимым, в опыте, обычно известном как самосознание, достаточны сами по себе, чтобы заклеймить все идеалистические теории как эмпиризм.
Есть две причины рассматривать Эго так, как я это делаю сейчас, под заголовком «Рединтеграция» и в посвященной ему главе. Первая заключается в том, что его нельзя понять, если мы предварительно не увидели, что такое Субъект, или, во всяком случае, что подразумевается под реальным генезисом и обусловленностью сознания, и таким образом получили возможность объединить психологические концепции с метафизическим анализом. Второе – это то, что как особый объект он первоначально воспринимается в реинтеграции, посредством внимания к поездам восприятия, и более того, что восприятие его как особого объекта предполагает или, во всяком случае, включает в себя восприятие некоторого центрального материального объекта, как местопребывания сознания, отделенного от материи.
Восприятие Эго происходит в результате спонтанной реинтеграции под воздействием внимания, что в некотором роде аналогично тому, как восприятие удаленных материальных объектов происходит в результате того же процесса с помощью тех же средств. Подобно этим объектам, он также занимает свое место в последующих спонтанных рединтеграциях, как концепция, доминирующая над всем их ходом и содержанием. В дальнейшем воспринимающий акт или момент восприятия, в отличие от содержания или объектов, воспринимаемых этим актом, рассматривается как объект, и о нем говорят как о двух, то есть как о самосознании, которое либо является, либо делает агента, которому оно принадлежит, Я или Личностью. Термин Я – это термин, которым самосознающее существо обозначает и описывает себя как самосознающее. Таким образом, восприятие Эго, как и восприятие Субъекта, имеет за собой историю в объективном мышлении, и его объект, Эго, как часть сознания, имеет реальное существование в качестве объекта, о котором думают; оно является частью сознания как реально существующее. Но Эго не имеет также того, что имеет Субъект, – реального существования предполагаемого реального состояния. В свете этого различия Эго принадлежит только объективной мысли, а Субъект – миру реальных и материальных агентов. Эго – эмпирический центр мира мысли, Субъект – эмпирический центр материального мира, о котором думают. Эго сидит в Субъекте и обусловлено им, и обычно воспринимается, и всегда должно восприниматься как таковое.
Рассматривая историю восприятия Эго в рединтегративном сознании, очевидно, что шаги, которые ведут к его достижению, а также те, которые позволяют точно определить его и полностью развить, должны были быть и будут постепенными. Восприятие сознания, или ощущения, в отличие от материальных объектов, несомненно, было рудиментарной формой восприятия Эго, реального или воображаемого. И это первое восприятие, как мы видели в Книге I, было со-временным с восприятием Тела, которое можно назвать рудиментарной формой Субъекта, как центрального объекта материального мира. Сознание тогда воспринималось как находящееся в теле и в то же время как обладающее отдельным единством, характером и собственной историей. В соответствии с этим его стали рассматривать либо как зависящее от нематериального агентства, сидящего в теле, либо как само являющееся таким агентством. Истинное представление о нем, как я пытался показать, – это представление о единстве философски субъективного аспекта сознания, не воспринимаемого отчетливо иначе, как при внимательном и аналитическом рассмотрении конкретного сознания, к которому оно принадлежит.
Когда будет признано, что материальный субъект содержит в своей нервной системе и нервных процессах все ближайшие реальные условия процессов сознания во всех их деталях, мы избавимся не только от всех более древних гипотез относительно реальной обусловленности сознания, но и от, возможно, последней и самой современной из них – непродуманной концепции, согласно которой нервный процесс и сознание, или, как иногда выражаются, мозг и разум, являются двумя аспектами одной и той же вещи, или одной и той же вещью, рассматриваемой с противоположных точек зрения. В то же время в концепции нервного процесса как реального условия сознания мы получим единственное адекватное средство для учета и отслеживания тех побочных путей сознания, которые в последнее время стали наиболее заметным объектом физиологической психологии; в первую очередь к ним, пожалуй, можно отнести поразительные феномены множественной личности. Эго, или самосознание, опирается главным образом на рединтегративные, в отличие от презентивных процессов, то есть на процессы, связанные с памятью и воображением, которые обусловлены нервными процессами. Отсюда следует, что всякий раз, когда два или более нервных путей или наборов нервных процессов, деятельность которых
деятельность которых обычно порождает сознание вместе, настолько разобщены, что всякий раз, когда деятельность одного из них стимулируется к сознанию, деятельность другого остается работать, если вообще работает, ниже порога, то каждый из этих разобщенных трактов или наборов процессов, когда его сознание поднимается выше порога, также будет сопровождаться личностью, разобщенной с остальными. Чтобы восстановить в таких случаях диссоциации нормальное единство и полноту личности субъекта, необходимо восстановить единство между несколькими трактами или наборами процессов в отношении точки, в которой их деятельность сопровождается сознанием, или, выражаясь образно, привести их несколько порогов сознания к одному и тому же уровню.
Существование Эго, то есть некой реальной черты в сознании, которая выражается в использовании нами терминов Я и Мы, является неоспоримым фактом. Вопрос в том, какова природа этой реальности, что действительно и исключительно подразумевается, когда мы используем эти термины. Очевидно, что, хотя я говорю об Эго в этом смысле как о реальности, я не выдвигаю приведенную мной концепцию, которая является результатом метафизического анализа, как идентичную концепции, сформированной здравым смыслом, не более чем любой из концепций, существующих, насколько мне известно, среди психологов в настоящее время. Я выдвигаю ее как истинную концепцию Эго, основанную на анализе фактов, на которых, без анализа, основаны и здравый смысл, и современные психологические концепции; анализ объясняет генезис и ошибки этих концепций, а полученная концепция, следовательно, является тем, что я хотел бы заменить ими. Требуется некая истинная и философская концепция того, что же это такое, что мы действительно имеем в виду, когда говорим «я» и «мы». Объект, который действительно предстает перед нами, когда мы используем эти термины, – это то, что технически называется Эго. Именно для него требуется определение, основанное на анализе. Необходимо тщательно различать две вещи: восприятие, известное как самосознание в реальном опыте каждого человека, и истинную концепцию или интерпретацию этого восприятия, данную философски направленным вниманием и анализом. Именно нынешняя интерпретация Эго как агента, познаваемого или непознаваемого, которую я пытался показать, не имеет оснований в фактах, дающих восприятие самосознания в реальном опыте. Абстрактное единство, даже если оно является единством сознания, не может без грубых ошибок быть гипостазировано как реальный агент или агентство. Мышление здравого смысла по своему действию является конкретным, а не аналитическим. Точно так же, как в своем представлении о материальном объекте здравый смысл ставит его вторичные качества, как они называются, то есть, напр. его цвет, тепло, сладость, запах, звучность, на одну ступень с его так называемыми первичными качествами, которые представляют собой материю и реальное состояние, и считает материальный объект одновременно и в одном и том же смысле соединением всех этих качеств, так и в случае с Эго здравый смысл отождествляет сознание с агентом или деятельностью, реальной или предполагаемой, которая обладает или осуществляет его, считая Эго одновременно агентом и сознанием в одном и том же смысле. Эта концепция Эго, основанная на здравом смысле, является корнем, из которого проистекают различные современные психологические концепции, некоторые из которых были отмечены выше, и все они являются ее модификациями, содержащими одно и то же заблуждение. А это заблуждение состоит в том, что Эго представляется как Мысль, Эмоциональное чувство и Воление, а также как их агент или активный принцип, сразу и в одном и том же смысле. Истина, вытекающая из подлинного анализа, состоит в том, что Эго является существенным субъективным напряжением или элементом во всем сознании и, следовательно, во всех этих различных видах или режимах его, в той мере, в какой они являются видами или режимами сознания, но что в том, что касается агентности в них, оно зависит от деятельности материального Субъекта. Оно обусловлено этой деятельностью Субъекта, но не тождественно ей или ей. Эго – это способ или аспект сознания как экзистенции, обусловленный Субъектом как материальной экзистенцией. И все конкретное сознательное бытие является двойным, не в том смысле, что его материальность и его сознание являются противоположными аспектами друг друга или одной и той же вещи, а в том смысле, что они непосредственно связаны между собой как условие и обусловленность.
Пока концепция здравого смысла ограничивается здравым смыслом и целями повседневной жизни, она совершенно справедлива, безвредна и незаменима. Но когда она переносится в науку или в философию и поддерживается как научная или философская концепция, тогда и в этом характере она начинает действовать, подменяя ложный анализ и интерпретацию признанной двойной природы сознательного существа истинными; истина же состоит в том, что сознание и Эго связаны с нервными процессами субъекта как условия с их условиями, а не как их субъективный аспект или как их оживляющий интеллект.
Беда этой концепции не в том, что она объединяет сознание и субъект в единое сознательное существо, ибо это истинный и очевидный факт опыта, а в том, что она объединяет их под ложными красками, вследствие ложного анализа этого факта опыта, ложного различения между его составными частями. Отсюда и проистекает беда в науке и философии, а не в опыте здравого смысла, пока он остается в своей собственной области. Практически Эго можно рассматривать как новый характер, принимаемый Субъектом, как его представляет себе здравый смысл. И этот характер субъекта мы выражаем, когда называем его личностью. Агент, который может сказать «я» в результате размышления о своей собственной осознанности, является Личностью; и Личность – это общий термин для обозначения этой характеристики.
§5. Эмоции личности
Нам еще предстоит более подробно рассмотреть, как и в каком смысле восприятие личности является эпохальным, то есть представляет собой эпоху или поворотный пункт в истории и развитии реинтегративного сознания. Его действие, как мне кажется, должно быть представлено следующим образом. Восприятие субъектом своей собственной личности или личности тела, которое является рудиментарной и донаучной формой субъекта, обязательно сопровождается умозаключением о личности других субъектов, которыми он непосредственно окружен. Его восприятие себя и умозаключение об их личности начинаются и развиваются вместе, проходя через различные стадии все более отчетливого и ясного восприятия, начиная с тех, которые характерны для младенцев и низших животных, и заканчивая теми, которые характерны для взрослого человека цивилизованной культуры. Но на всех этих этапах и в какой бы точке эволюции мы ни остановили свой взгляд, мы обнаружим, что личность, которую субъект воспринимает в себе и (путем отражения от себя) в других, дифференцирует эмоции и страсти субъекта, привнося новый характер в представления или образы, в которых они возникают, и придает им совершенно новый тон и цвет. Эмоции (включая здесь и в других местах определенные желания, чувства и страсти), таким образом, разделяются на два класса, которые исчерпывают все их поле, – (1) эмоции, которые не имеют, (2) эмоции, которые имеют, реинтегративное сознание сознательных существ, будь то Я или другие, как их представленный объект. Эмоции последнего класса чаще всего называют моральными или социальными, [4 - В своей «Теории практики», том I, стр. 181, sqq, я дал им название рефлексивных эмоций. Но это название вводит в заблуждение, поскольку, поскольку все чувства являются строго рефлексивными, оно не дает никакого указания на особый способ рефлексии, который подразумевают данные эмоции. Однако этим я ни в коем случае не хочу отказаться от анализа и классификации эмоций, приведенных в той работе, или каким-либо образом намекнуть, что я считаю ее вытесненной настоящим кратким изложением того же предмета. Доктор Чарльз Мерсье в своей очень ценной и интересной работе «Нервная система и разум», стр. 279 и 286, упомянул этот мой анализ и классификацию в числе других, которые он счел неудовлетворительными. Главной причиной я считаю то, что метод, с помощью которого она получена, основан на концепции, сильно отличающейся от его собственной, о зависимости психологического от метафизического анализа.]но личностные – лучшее название для них, поскольку оно более четко указывает на способ их происхождения; хотя на ранних стадиях их развития они рудиментарны и плохо определены, как и соответствующие идеи личности, которые служат их репрезентативным объектом или рамкой.
Эти эмоции, которые мы испытываем по отношению к личности сознательных существ, естественно, меняются в зависимости от нашего представления об этой личности. Но они широко отличаются от тех, которые мы испытываем по отношению к существам, которые мы представляем как просто чувствующие, без реинтеграции, и тем более по отношению к существам, которые мы представляем как бессознательные. Их отличие состоит в том, что мысли, чувства и воления представляются как сознательно испытываемые субъектами, чья личность, следовательно, представляется как объект нашей собственной. Кроме того, испытывая эти эмоции, наша собственная личность стоит в качестве объекта точно на той же ступени, что и личности других, в том смысле, что все они являются непосредственными объектами эмоций, которые мы испытываем, представляя их. Однако есть разница в том, что личности других заняли это место в наших представлениях благодаря умозаключениям, сделанным на основе действий, речи, жестов, взгляда и так далее их соответствующих субъектов, в то время как наша собственная личность является объектом идеи, сформированной путем простой реинтеграции нашего собственного опыта. Но во всех случаях представленная личность является непосредственным объектом эмоции, которую она, как говорят, внушает, а представление о ней – это образ или рамка этой эмоции в человеке, который ее испытывает». Однако личные эмоции не возникают как совершенно новые чувства в представлении личности; за ними стоит история. Как представление личности основано на представлении некоторого субъекта, отличимого от нее и к которому она принадлежит, так и личные эмоции основаны на некоторой эмоции или эмоциях, испытываемых по отношению к существам, не представленным как личности. Эти эмоции – некий способ или способы печали, отвращения, страха, неприязни, или радости, приязни, надежды, желания. Это, так сказать, неразвитые состояния чувств, которые станут личными эмоциями, то есть модами личной неприязни или симпатии, антипатии или симпатии, ненависти или любви, гнева или страстной привязанности, как только личность другого станет объектом, представленным воспринимающим субъектом, и окажется лицом к лицу с его собственной представленной личностью, чтобы составить с ней дополнительную часть всего его представленного объекта. Особенность, которая придает новую и особую окраску личностной эмоции, заключается не просто в том, что ее объект представлен как личность, но в том, что мы представляем себе, что эта личность имеет восприятие, чувство или знание того, что мы думаем или чувствуем по отношению к ней, точно так же, как мы представляем ее мысли и чувства по отношению к себе. Именно взаимность этого чувства или знания, тот факт, что мы представляем его как общее знание для обоих людей, или, так сказать, его сознательное перенесение с одного на другого, придает личным эмоциям их особый тон и характер. С этого момента мы живем в совершенно ином мире, чем прежде, и воспринимаем себя как членов разумного общества.
Дальнейшее развитие нового вида эмоций не идет ни в какое сравнение с этим. Личные эмоции являются основой и фундаментом всех последующих модификаций и разветвлений моральной, социальной, образной и религиозной жизни. Великие группы (1) эстетических и поэтических эмоций; (2) чувство справедливости и несправедливости, добра и зла, морального одобрения и неодобрения выбора и поведения; (3) надежды и страхи, которые привязывают нас к невидимому миру и связывают с Божественным; все они в равной степени имеют не только свои конечные корни, но и свои окончательные разработки и развитие в сфере, которая описывается, так сказать, из личных эмоций как центра, и занята тем, что мы представляем себе как разумное общество. Вся жизнь и опыт рединтегративных сил ограничены горем и радостью в нижней части и образным развитием антипатии и симпатии в верхней части их истории и эволюции. Но именно чувства, принадлежащие ко второму основному подразделению, о котором говорилось выше, я имею в виду те, что относятся к личным эмоциям и их образному развитию, вместе с действиями, к которым они, кажется, побуждают или с которыми они, кажется, связаны, являются более конкретными или, по крайней мере, подразумеваются, когда говорят о человеческой природе. Именно они содержат в себе различия, которые характерны именно для человечества, поднимаясь над уровнем чувств и действий, общих для человека с высшими животными. Это всего лишь грубое представление, согласно которому различия человеческой природы находятся исключительно в распоряжении Разума, без учета того, что это разум, информированный высшими формами образных эмоций. Поэтому я не хочу и, очевидно, не могу подразумевать, что эти эмоции и их развитие когда-либо действуют в той изоляции, в которой мы сейчас рассматриваем их для целей анализа. Рединтеграция – это не процесс, который протекает в изоляции от других органических процессов телесной системы, но всегда находится в зависимости и взаимодействии с процессами, вытекающими из телесных потребностей и тенденций, которые проявляются в сознании в виде ощущаемых аппетитов и желаний, таких как потребность в пище, тепле, половом акте и активации органов в целом, а также с процессами специальных органов чувств, которые приносят нам представления от внешних объектов. Тем не менее именно в рединтеграции или жизни мозга берет начало специфически человеческий опыт; и именно особым видам некоторых чувств, которые имеют свое место в мозге, и внутримозговым реакциям, от которых зависит игра этих чувств, обязана специфическая природа этого опыта. Мы не в большей степени можем понять специфическую природу ни конечных чувств, ни возникающего опыта, взятых отдельно от мозговых процессов, от которых зависит их существование и их комбинации, чем мы можем понять специфическую природу чувственных представлений. И то, и другое – конечные факты, или основания, опыта. Мы не можем сказать, почему такие специфические эмоции, как любовь или гнев, являются такими, какими они являются, так же как мы можем сказать, почему существуют такие специфические ощущения, как свет или звук. Мы можем назвать реальные условия их возникновения, но не можем указать причину их специфической природы. И здесь мы снова видим огромную важность того глубокого различия между природой и генезисом, которое было впервые приведено в ясное сознание гением Платона и которое я принял в качестве одного из кардинальных принципов философского метода как в настоящих, так и во всех моих прежних работах.
Из приведенного краткого очерка эмоциональной жизни очевидно, что в обоих ее подразделениях, доличностном и личностном, существует великая антитеза, аналогичная той, что существует между удовольствиями и болью в ощущениях, на которой последние, собственно, и основаны. Через доличностные эмоции проходит антитеза между различными способами радости и горя, и эта антитеза продолжается в личностных эмоциях в антитезу между различными способами симпатии и антипатии. Как удовольствие и боль чувства лежат в основе радости и горя, а затем отпадают, как удовольствие и боль чувства, в их дальнейшем развитии, так и радость и горе, в свою очередь, лежат в основе симпатических и антипатических групп, а в их дальнейшем развитии также отпадают в их специфическом характере как радость и горе. Эмоции, каждая в своем специфическом характере, становятся так называемыми мотивами или источниками действия и ощущаются как желания, требующие удовлетворения. Независимо от того, возникает ли эмоция первоначально из радости или из горя, удовлетворение желания, которое она порождает, является удовлетворением, а отрицание или предотвращение его удовлетворения – обратной стороной удовлетворения, т. е. болью эмоции. Например, удовлетворение мести и причинение боли тем, кого мы ненавидим, приносит реальное и часто сильное удовлетворение, так же как и реальное и острое удовлетворение от того, что мы дарим блага тем, кого любим, или удовлетворяем нужды тех, к кому испытываем жалость. Однако ненависть коренится в печали, связанной с представлением личности, сознательно расходящейся с нашей собственной, в то время как любовь и жалость основаны на радости признания сознательного согласия с нашей собственной личностью другого человека, несмотря на то, что в случае жалости сознание, представленное как общее для двух личностей, является эмоционально болезненным.
Настоящий анализ личности и личностных эмоций, кажется, предлагает лучшее обоснование того, что сейчас является общепризнанным фактом естественной врожденности или оригинальности альтруистических эмоций, чем может быть дано на основе здравого смысла или эмпирической основы, на которой мы начинаем с предположения о восприятии раздельности между различными личностями. Так мы поступаем, если рассматриваем этот вопрос как вопрос психологии, в которой отдельные сознательные существа принимаются за конечные факты, чья индивидуальность есть нечто per se notum, на наше представление о котором не может повлиять метафизический анализ. Исходя из этого, требуется специальная теория, объясняющая, почему мы испытываем альтруистические эмоции с той же спонтанностью и оригинальностью, что и злобные; теория, которая была бы адекватна, чтобы преодолеть восприятие раздельности интересов между собой и другими, с которого мы, как предполагается, начинаем, и показать дружеское чувство к другим как естественно вытекающее из нашего чувства к себе, хотя оно может быть не таким сильным. Доктор Бейн, например, прибегает к гипотезе, согласно которой в актах искренней бескорыстной доброжелательности и сочувствия к другим можно увидеть «замечательный и венчающий пример Неподвижной Идеи», которая в данном случае была приобретена и развита стадной природой и привычками человеческого вида, среди прочих, в течение долгого периода его эволюции.[5 - The Emotions and the Will, p. 121. Third Edition, 1875.]
Но как только мы видим, что связано с восприятием чужой личности, а именно, что оно требует представления нашей и чужой личности вместе, как двух взаимодополняющих частей одного и того же опыта, становится очевидным, что расхождение или согласие между этими двумя частями нашей общей идеи становится тем, что называется непосредственным мотивом или пружиной действия, как в одном случае, так и в другом. Симпатические или доброжелательные и антипатические или злобные действия возникают одинаково спонтанно и одинаково изначально из нашего собственного рединтегративного опыта, и им не приходится преодолевать трудности, связанные с восприятием раздельности личностей, которое приходит в результате инференции на более поздней стадии развития нашего знания. Ибо недостаточно сказать, что это развитие имеет долгую историю, если не добавить, что его начало соотносится с самой рединтегративной деятельностью, которая, как мы видели в книге I., является предпосылкой восприятия мира материальных объектов, одним из которых является тело субъекта. В этой истории, соответственно, сравнительно поздно возникает представление о том, что сознание каждого субъекта есть нечто совершенно отдельное от сознания каждого другого, то есть психологическая концепция совершенно отдельных личностей. Изначально мы представляем чувства других Субъектов, так же как и материальные объекты, как часть нашего собственного опыта, и на основе этих представлений мы действуем задолго до того, как придем либо к восприятию того, что каждый реальный Субъект имеет совершенно уникальный и неразделенный опыт, непроницаемый для других, либо к истинному различению материальных объектов, которые являются реальными Субъектами, обладающими личностью в полном смысле, от тех, которые не наделены такой способностью.
Большая ошибка – переносить это полностью развитое восприятие отдельности личностей на начало эволюции личностных эмоций, чтобы сделать представление о нем основой или условием, объясняющим их природу или происхождение. Вред от этого заключается в том, что, таким образом ложно упреждая полное представление о личности, мы фальсифицируем отношение между эмоциями и идеями или образами, которым они соответствуют, – отношение, которое на самом деле является одновременным, – и представляем эмоции либо как чувства, испытываемые с какой-то скрытой целью, как, например, когда
«Собака, чтобы добиться своих личных целей,
взбесилась и укусила человека».
либо как логические следствия ранее возникших идей относительно их объектов. Правда, я могу оправдать или объяснить свой гнев или свою благодарность, например, сказав, что я знаю, что объект этого чувства желает мне зла или сделал мне доброе дело, но это не тот реальный порядок, в котором возникает мой гнев или моя благодарность. Они возникают спонтанно, вместе с первой мыслью об обиде или доброте, и являются элементом общего состояния сознания, которое можно обозначить либо как идею, либо как эмоцию, в зависимости от того, какую цель мы преследуем. Оправдание или объяснение, которое здесь предполагается, исходит из представления здравого смысла об отношениях между людьми, а оно опять-таки построено на восприятии раздельности между ними, что не может быть зачтено при анализе рассматриваемых эмоций в их происхождении или простоте.
Есть еще одна пара эмоций, оригинальность и спонтанность которых выставляется в ясном свете этим анализом, эмоций, которые тесно связаны с теми, которые мы только что привели в пример, и составляют с ними часть симпатической и антипатической антитезы. Я имею в виду чувства, возникающие при восприятии справедливости и несправедливости, или, говоря обычным языком, чувство справедливости и несправедливости. Это личные эмоции, когда термины «справедливость» и «несправедливость» употребляются в их собственном смысле, то есть когда отношение, являющееся особым объектом или рамкой эмоции, воспринимается как существующее либо между людьми, либо между собственными действиями человека и их последствиями, о которых он судит сам. Например, я испытываю чувство справедливости, когда в сделке между мной и другим человеком, в отношении которой обе стороны являются свободными агентами и обладают равной властью, я могу представить свое исполнение точно соответствующим моему обещанию, а также могу думать о другом человеке как о представляющем его в том же духе. Точное соответствие ожидания и исполнения, представленное в виде, воспринимаемом обоими лицами одинаково, в вопросах, где оба являются свободными и равными агентами, является сущностью отношения справедливости; несоответствие между ними, при тех же обстоятельствах, несправедливости.
Так же обстоит дело и в делах, имеющих самостоятельное значение; например, если я сознательно совершаю глупый поступок под давлением какого-то настоящего удовольствия, а за ним следует ожидаемое последствие, я чувствую соответствие между моим поступком и его последствием и признаю справедливость возмездия. Если же по какой-то случайности я избегаю последствий, я списываю это на удачу, которую я бы назвал несправедливой пристрастностью, если бы мог рассматривать агентство как личное. Но в подобных случаях я сам занимаю позицию другого человека в сделках между двумя; и моя справедливость или несправедливость состоит в том, чтобы осудить или оправдать себя за глупость в действиях, которые я совершил, когда я оглядываюсь на них в ретроспективе. Я несправедлив, если не признаю и не сожалею о совершенной мною глупости.
Но хотя чувство справедливости и несправедливости в собственном смысле слова применимо только к отношениям между людьми, само отношение, составляющее основу этого чувства, уходит корнями в образы, которые не являются строго личными, а предшествуют восприятию людей в полном смысле этого слова. Это отношение заключается в воспринимаемом равенстве, одинаковости или равновесии между любыми двумя объектами или событиями. Именно это обстоятельство и связанное с ним эмоциональное удовлетворение придают отношению, где бы оно ни обнаруживалось и, следовательно, когда оно переносится на личные отношения, характер окончательного стандарта, не подлежащего обжалованию, и, следовательно, обеспечивают ему положение одной из основных форм, принимаемых нашим восприятием морально правильных действий, тем самым гарантируя ему одобрение совести, о чем будет возможность подробнее рассказать в одной из последующих глав. Установление справедливости между человеком и человеком состоит в согласовании взглядов, которые каждый из них имеет относительно нее, в сделке, которая является предметом общего знания для обоих. Может оказаться, что это установление осуществляется с трудом или вообще не может быть осуществлено. Но это ни в коей мере не меняет ни природы справедливости, ни чувства радостного согласия, с которым мы ее воспринимаем, ни того, что мы искренне считаем ее реальным присутствием. Когда обе стороны сходятся в одном мнении, обе они одинаково удовлетворены, равенство, одинаковость, равновесие требований обеспечены, и нет места для дальнейших уклонений с обеих сторон. Эмоции, как уже говорилось, – это особые способы ощущения, принадлежащие рединтегративному сознанию, аналогичные различным способам ощущения; и из этих последних некоторые являются конечными, а другие – модификациями или производными от них. Так же обстоит дело и с эмоциями, отделенными от тех корней, которые они могут иметь в удовольствиях и боли чувства, и рассматриваемыми исключительно как ощущения рединтегративных органов. В этом смысле одни эмоции являются конечными и неразрешимыми, а другие – производными и разрешимыми, но только из эмоций и в них. Все они одинаково возникают в процессе репрезентации, пронизывая и окрашивая образы, из которых она состоит. В то же время, хотя некоторые образы или идеи необходимы как основа или объект, как это называется, для различных эмоций, эмоции в значительной степени безразличны к конкретным образам, которые время от времени служат им основой. Как чувства, они имеют один источник в удовольствиях и боли чувственных представлений; но источник образов, которые являются их каркасом, лежит просто в чувственных представлениях. Образность, таким образом, является неотъемлемой частью знания и подвержена его изменениям, росту, отказу от него и развитию. Эмоции – это часть и часть чувства, и их изменения, рост, отказ и развитие происходят по несколько иным законам. Они представляют собой нечто гораздо более фиксированное и стабильное, чем образное мышление, которое меняется с ростом знаний. Их изменения, насколько они присущи, – это изменения в интенсивности, в утонченности, в развитии тонких оттенков чувств, в сложности смешения, противопоставления и так далее. Развитие эстетического чувства к красоте и величию природных пейзажей – хорошо известный пример. При реинтеграции два элемента – образ и эмоция – располагаются несколько свободно друг от друга, меняясь с разной скоростью и скользя как бы по параллельным канавкам. По мере того как наши образы меняются вместе с нашими знаниями, мы переносим наши эмоции, с определенными изменениями, на новые образы и отстраняем их от старых, ставших устаревшими и неправдивыми.
Считается, что на начальном этапе своей эволюции человек олицетворял почти все природные объекты, которые имели или казались имеющими отдельное существование, – горы и реки, небо, небесные тела, землю, океан, ветры, бури, скалы и деревья. То есть он ложно представлял их субъектами, обладающими чувствами и идеями, аналогичными его собственным, которыми, как он полагал, руководствуются их действия, какими бы грубыми ни были его представления о личности. В этом не было никакой поэзии; это была самая ранняя гипотеза науки. И в самом деле, одним из первых отдельных материальных объектов, с которыми вступает в контакт младенец, и тем, с которым он наиболее тесно и постоянно связан, является человек, а именно его мать, из груди которой он черпает пищу. Помимо собственных ощущений, у него есть и другие примеры, которые приводят его к первой грубой концепции природы всех отдельных материальных объектов, а именно как существ, наделенных личностью. Когда поэты подхватили эту идею, это стало свидетельством того, что от ее истинности, по крайней мере, частично отказались; ведь только тогда к ней можно было относиться достаточно отстраненно и безразлично, чтобы позволить играть с ней как с источником чисто воображаемого удовлетворения. Поскольку частичное расхождение между эмоциями и образами является важным моментом, возможно, будет целесообразно сказать еще несколько слов в его разъяснение. В книге I. было обнаружено четкое различие между формальными и материальными элементами восприятий, то есть между длительностью и местом во времени, фигурой и расположением в пространстве (которые являются формальными элементами), занимаемыми любым ощущением, включая удовольствие или боль, и ощущением, которое занимает эту временную и пространственную область (ощущение является материальным элементом). Соответственно этому в рединтеграции мы имеем различие между образами, которые состоят из репрезентаций чувственных представлений во всей их полноте, что является аналогом формального элемента, и эмоциями, которые наполняют или пронизывают эти репрезентации и являются аналогом материального элемента в чувственных представлениях. В предыдущем разделе данной главы также отмечалось, что мы можем реинтегрировать ощущения, включая их удовольствия и боли, исключительно как часть образного представления, не испытывая удовольствия или боли от эмоций, связанных с удовольствиями или болями от ощущений, включенных в образное представление. В рединтеграции образность будет сопровождаться собственными эмоциями, вытекающими из нового контекста, в котором она будет появляться.
Соответственно, с этим переходом к рединтеграции и аналогичным различием между образностью и эмоциями, также появляется определенная степень независимости между материальными и формальными элементами в рединтеграции, по сравнению с отношением между соответствующими элементами, как они появляются в смысловом представлении. Элементы обоих видов, правда, одинаково необходимы, как и прежде, для того, чтобы составлять любой и каждый момент конкретного сознания. Но происходит, так сказать, смещение конкретных элементов, составляющих моменты сознания, когда мы переходим от процессов, включающих представления, к процессам чистой реинтеграции, в которых также продолжается то же самое явление. Причина этого, по-видимому, заключается в следующем. Эмоции обусловлены развитием, осуществляемым рединтегративными органами, удовольствия и боли, присущих материальному элементу ощущений-представлений. Особые качества эмоций порождаются непосредственно и сразу же деятельностью рединтегрирующих органов и лишь косвенно и отдаленно – образами, которые представляют чувственные репрезентации во всей их полноте. Эмоции, таким образом, являются непосредственными способами ощущения мозга, возникающими действительно на основе представлений образов, но не обязательно или исключительно привязанными только к одному образу или набору образов. Образ содержит в себе как формальный, так и материальный элемент, происходящий от представлений чувств, но эмоция – это только материальный элемент, и она не может существовать сама по себе. Это материальный элемент нового рода, добавленный в процессе реинтеграции, на образность которого она опирается как бы для поддержки. Таким образом, всегда существует некий образ, к которому привязана эмоция, но этот образ не всегда один и тот же.
Скорость изменения этих двух элементов, образа и эмоции, также не одинакова, если рассматривать их в масштабе исторического развития. Первый элемент меняется гораздо быстрее, чем второй, поскольку сразу же зависит от роста приобретенных нами знаний; второй меняется медленно, поскольку зависит от развития и модификации конечных способов ощущения, присущих самой мозговой субстанции. Постоянное изменение характера эмоций или развитие нового вида или разновидности эмоций потребует соответственно постоянных изменений в структуре или способе функционирования мозговых органов. Это полностью согласуется и может служить частичным объяснением того, что уже давно признано фактом: быстрый рост интеллектуальных знаний человека и его научного владения природой по сравнению с медленным прогрессом, который он делает, и частыми регрессиями, жертвой которых он становится, в отношении моральных склонностей и силы морального характера. Покойный Г. Т. Бакл, настаивавший на этом факте в своей памятной «Истории цивилизации в Англии», несомненно, покажет себя некоторым из моих читателей. В заключение этой, боюсь, несколько утомительной главы следует сказать несколько слов о том, что эмоциям обычно приписывают характер мотивов, целей или источников действия. Необходимо еще раз напомнить, что эмоции сами по себе не являются ни мотивами, ни целями, ни источниками действия, но свидетельствуют о том, что в действительности они являются движущей силой. Они являются зависимыми сопутствующими факторами нервных действий или процессов, которые приводят к действиям, о которых обычно говорят, что они сами дают начало. Эмоции кажутся носящими этот двигательный характер, потому что мы привыкли смотреть, думать и говорить с точки зрения Эго, принимаемого в качестве реального агента. И это опять же естественный и спонтанно принятый здравым смыслом взгляд, потому что при рединтеграции мы не сразу и не одновременно осознаем реально действующий нервный механизм, и в то же время действия, которые совершаются, кажутся немедленно вызванными чем-то внутри субъекта, а не объектами, на которые они направлены; то есть не вызваны предварительным восприятием этих объектов, а воображаются и выполняются в результате представления или воображения их. Таким образом, здравому смыслу кажется, что они исходят непосредственно от нас самих, то есть либо от наших чувств, либо от наших воль, как единственных мотивов, которые мы непосредственно осознаем. Как уже говорилось, в этом способе говорить нет ничего плохого, пока он тщательно ограничивается сферой здравого смысла и не принимается за истину философии или науки.
Глава II. Законы ассоциации
§1. Спонтанная реинтеграция, как ее анализировать
Задача, стоящая перед нами, обозначенная предварительным анализом, приведенным в предыдущей главе, заключается в анализе поездов чисто спонтанной рединтеграции с целью обнаружения общих законов, которым они следуют в своем составе, или, другими словами, общих единообразий, наблюдаемых в различных их случаях. Поскольку все эти поезда являются составными частями одного большого потока или движущейся панорамы сознания субъекта, когда оно отступает в прошлое памяти от любого данного настоящего момента, который, как уже говорилось, всегда является моментом, занимаемым самим сознающим субъектом, мы можем сказать, что вся эта движущаяся панорама сама по себе косвенно является нашим объектом. Но в настоящее время мы непосредственно занимаемся анализом только одного вида ее компонентов, а именно, ее поездов спонтанной реинтеграции. Связь их с двумя другими – представлениями чувств и волениями, которые являются, так сказать, их точками отправления и прибытия, а также связь их с нейроцеребральными процессами, которые являются их реальными условиями, всегда должна быть в поле зрения; но наш анализ будет направлен только на единообразие, проявляемое самими процессами спонтанной реинтеграции, причем это единообразие является тем, что правильно подразумевается под термином «законы ассоциации».[6 - Введение термина «рединтеграция» в английскую психологию и его формулировка в качестве общего закона, под который могут быть подведены все остальные законы ассоциации, принадлежит сэру Уильяму Гамильтону. Это я недвусмысленно и полностью признал при первом же обращении к этой теме, в своей работе «Время и пространство», глава V., стр. 256 sqq.]
Этот метод рассмотрения явлений рединтеграции отличается в трех важных пунктах от общепринятых, несмотря на то, что они могут отличаться друг от друга во многих сравнительно незначительных пунктах. Он отличается (1) тем, что сохраняет поезда сознания, которые являются анализом, отличным от их ближайших реальных условий, в то же время апеллируя к их зависимости от них, когда любая гипотеза относительно законов, которым следуют поезда сознания, должна быть либо поддержана, либо опровергнута; (2) в выделении для непосредственного анализа рединтегративных процессов из их оснований в смысловых представлениях и из их результатов в трансовых действиях, хотя и оставляя за собой право апеллировать к ним в поддержку или нападение на гипотезы; и (3) в начале отдельного рассмотрения спонтанной рединтеграции, как самого простого из ее подразделений, проще, то есть, чем добровольная рединтеграция, в отношении отсутствия избирательного и целенаправленного внимания к ее содержанию. Без спонтанной реинтеграции как основы волевая не могла бы возникнуть, поскольку для воли не было бы содержания, на котором она могла бы настаивать или которое могла бы отвергать. То, что законы ассоциации, как их правильно называть, являются законами только спонтанной, а не волевой реинтеграции, станет очевидным в настоящее время.
Эти моменты обычно, если не повсеместно, игнорируются в качестве правил и гарантий анализа при рассмотрении темы рединтеграции. Их принятие исключается отчасти эмпирической тенденцией рассматривать сознательное существо как целое в его отношениях к окружающим его вещам и людям, а отчасти практической тенденцией рассматривать рединтегративные процессы не сами по себе, а как средства объяснения построения ткани знания, с одной стороны, и опосредования и направления явных действий, речи и поведения, с другой. Есть и еще одна причина, которая, если и менее глубоко укоренилась, чем эти, то в то же время является той, о которой не так легко заявить. Она заключается в нежелании как трансценденталистов, так и психологов, придерживающихся традиционных методов, сталкиваться с вопросом, существует ли вообще такая вещь, как Исинда или Психическая Энергия; и, следовательно, они уклоняются от любой попытки отличить одну из них от сознания.
Это нежелание они обычно скрывают от наблюдения под предлогом, что, хотя реальность разума и психической энергии признается всеми, их конечная природа – это вопрос для метафизиков и никоим образом не касается их как психологов. Но в этом предлоге забываются две вещи: во-первых, что реальность разума и психической энергии не является общепризнанным фактом, а оспаривается физиологическими психологами строгой школы; и во-вторых, что от них как психологов требуется не определение конечной природы разума или психической энергии, а внятная концепция их, показывающая, по крайней мере, их возможность как реальных агентов, какая-то концепция их, которая должна стоять на такой же научной и феноменальной основе, как внятная концепция, которую физики создают о материи. До тех пор, пока такая внятная концепция разума и психической энергии остается желаемой, те, кто говорит о них как о реальности, могут считаться стоящими только на почве донаучного здравого смысла, а не в какой-либо степени на почве психологической науки, основной целью которой является открытие реальных условий сознания как существа и законов, по которым они действуют, обусловливая его. Последнее невозможно без первого. Таким образом, данный предлог является пустым. Но он также презрителен, как попытка переложить собственную работу на другие плечи. Он также злонамерен, поскольку служит для укрепления того ложного представления о природе и сфере применения Метафизики, на которое он опирается в своей правдоподобности. Тщетно, и даже хуже, чем тщетно, доискиваться до сущностной природы и законов сущностей, для возможности которых нет никаких доказательств. Совсем иначе обстоит дело с телом и вообще с материей. То, что объекты, соответствующие этим названиям, не только возможны, но и реальны, доказывается доказательствами самого ясного рода. Пусть психологи докажут то же самое, если смогут, в отношении психической энергии или разума.
§2. Ассоциация в воображении
Итак, первый вопрос, который мы задаем себе: «Что такое поезд спонтанной реинтеграции? Давайте рассмотрим простой пример, чтобы укрепить наши представления о предполагаемых явлениях.[7 - Анализ, содержащийся в этом и следующих разделах, был включен в речь, произнесенную перед Аристотелевским обществом в ноябре 1890 года, на тему «Законы ассоциации». См. «Труды Общества», том I. № IV. Часть I. Лондон. Williams and Norgate. 1891.]
Предположим, однажды днем, возвращаясь домой, я услышал крик мальчика из новостей: «Ужасное столкновение на железной дороге в Нортумберленде. Двадцать жизней погибли»; и предположим еще, что в старые каботажные времена я сам едва не лишился жизни, расстроившись ночью во время долгого путешествия на почтовой карете; более того, я не думал об этом в то время, когда услышал крик мальчишки-новостника, но это всплыло в моей памяти после того, как я услышал его. Перед нами пример реинтеграции, в которой, по-видимому, задействованы два основных закона, к которым обычно и в некотором роде правильно относят свои явления психологи, а именно: ассоциация по сходству и ассоциация по смежности. Давайте рассмотрим реальную природу этого случая.
Прежде всего, следует отметить, что простое слышание выкрикнутых слов является чувственным представлением, которое запускает всю последовательность в рединтеграции, но само по себе не является рединтеграцией вообще, как рединтеграция была определена для нашей цели в §1 предыдущей главы. С другой стороны, тот факт, что значение слов, идея рокового железнодорожного столкновения, связана со слышанием этих слов, является фактом рединтеграции, и этот факт, по-видимому, зависит от смежности, а именно от давно установленных связей между теми представлениями ощущений, принадлежащими различным чувствам, которые составляют сложную идею рокового железнодорожного столкновения, и звуками, которые их вызывают, каждый из которых связан с отдельным образом или представлением.
Во-вторых, воспоминание об аварии почтовой кареты, по-видимому, зависит от сходства этих двух происшествий: железнодорожное столкновение, представленное сначала на слух словами, и опрокидывание почтовой кареты, которое, как утверждается, вызывает в сознании и реинтегрирует в памяти. Но здесь можно возразить, что, если предположить, что сходство является законом, управляющим реинтеграцией вспоминаемой идеи, то в таком случае вспоминаемой идеей должна быть та, которая имеет наибольшую степень сходства с вызывающей ее идеей, и, следовательно, первым будет реинтегрирован не несчастный случай с почтовой каретой, а какое-нибудь другое смертельное железнодорожное столкновение. Давайте предположим, поскольку наш пример выбран лишь гипотетически, что так оно и есть, и что реинтегрированной идеей является идея какого-то другого ужасного железнодорожного столкновения, свидетелем которого я был или о котором читал, а не идея аварии почтовой кареты.
Таким образом, случай реинтеграции в соответствии с двумя великими законами смежности и сходства, как они обычно считаются, открывается для изучения. Вопрос в том, являются ли они действительно действующими законами рединтеграции? Мы ясно видим, что они позволяют хорошо описать явления, как они, очевидно, происходят, то есть являются хорошим здравым смыслом счета его как explican- dum, делая его понятным путем приведения его в соответствие с огромным количеством примеров, которые являются материей знакомого опыта. Но вопрос в том, являются ли смежность и сходство в содержании процесса сознания действительно действующими обстоятельствами; являются ли они реальными условиями, управляющими реинтеграцией, а также обстоятельствами, характеризующими ее как обусловленный феномен? Это первый вопрос, с которым мы должны столкнуться. Теперь, принимая во внимание, что природа движущейся панорамы объективной мысли или сознания такова, что она переживается только в череде настоящих моментов, очевидно, что ни одна ее часть никогда строго не повторяется, но безвозвратно уходит в прошлое памяти или забвения. Что мы подразумеваем под повторением или воспоминанием какого-либо фрагмента, так это возникновение другого момента, более или менее похожего на него, возможно, даже неразличимо похожего на него по содержанию; в этом случае мы называем его идентичным или тем же самым; эти два момента различаются только с помощью различных контекстов, в которых они происходят. Это может легко произойти, поскольку оба контекста частично приходят в сознание вместе в момент повторения, так же как и оба содержания.
Например, чтобы показать, что имеется в виду, возьмем простой случай воспоминания. Предположим, я посещаю незнакомый город и, выйдя на улицу в определенный час на второй день после приезда, вижу слепого нищего, сидящего на углу улицы. Предположим, что это зрелище сопровождается осознанием того, что я видел того же нищего, сидящего на том же углу, днем раньше, в тот же час. Это случай простой памяти. Вид нищего, увиденный накануне, остался в прошлом, о котором невозможно вспомнить. Что же тогда значит сказать, что я вспоминаю его в памяти или осознаю, что видел его? Очевидно, что в момент воспоминания, на второй день. Я имею в сознании сразу два образа: образ нищего в контексте сегодняшнего дня и образ нищего в контексте вчерашнего дня; эти два образа, каждый со своим контекстом, идентичны в отношении их главной черты – нищего, а первый, или вспоминающий, образ непрерывен или совпадает с реальным представлением нищего на второй день. Этот двойной образ – единственное свидетельство, которое у меня есть в тот момент, чтобы подтвердить тот факт, что я действительно видел нищего в первый раз.
Таким образом, сходство содержания, которое, если оно достигает неразличимости из-за отсутствия какого-либо воспринимаемого внутреннего различия, мы называем идентичностью, или, короче говоря, сходством содержания при различии контекста, является реальным фактом, обозначаемым термином повторение или вспоминание идеи в реинтеграции. Таким образом, вспоминаемая идея – это две идеи по количеству, хотя, если они неразличимы по внутреннему содержанию, они объединяются или сбиваются в одну, согласно нашему обычному способу говорить, и рассматриваются так, как если бы они были одной идеей, возникшей в разное время. Именно против такого объединения идей мы должны защищаться, когда слышим или используем обычный язык об их припоминании, реинтеграции или повторении. Применим это сначала к тем случаям кажущейся реинтеграции по сходству, в которых и вспоминающая идея, и вспоминаемая идея являются чистыми репрезентациями, как, например, в предполагаемом примере, идея железнодорожного столкновения в Нортумберленде, которая является вспоминающей идеей, сама подсказанная криком мальчика-газетчика, которую мы назовем А, и идея железнодорожного столкновения, свидетелем которого был или о котором читал ранее, которая является вспоминаемой идеей, и которую мы назовем Б. В таких случаях становится очевидным, что до тех пор, пока Б не будет вызвано в сознании, ни его сходство, ни его идентичность с А не вспоминаются. Когда оно вновь входит в сознание, тогда, но не раньше, его сходство или идентичность (в зависимости от обстоятельств) входит вместе с ним. То же самое верно и для любого другого отношения, которое может иметь место между ними, как, например, если А – это общий или предварительный образ железнодорожной аварии, а В – особый или конкретный случай такой аварии. Пока Б не вошел в сознание, факт того, что он является частным случаем А, не воспринимается.
Или, опять же, если отношение между ними – это контраст или антитеза любого рода, как, например, черное и белое, присутствие и отсутствие, причина и следствие, субстанция и атрибут, отец и сын и так далее, те же самые рассуждения остаются в силе; и они останутся в силе, если мы отнесем любой из этих примеров к категории смежности, а не сходства. Отношение не может быть связующим звеном в сознании, потому что оно не поднимается в сознание до тех пор, пока второй член отношения, вспоминаемая идея, не присутствует сама по себе. Единственный способ, которым оно могло бы быть связующим звеном между ними, – это вмешательство волевого акта мышления или рассуждения; например, если бы я фиксировал свое внимание на А с целью узнать о нем что-то большее, тем самым вызывая в сознании идею либо его внутреннего содержания, либо его отношения к другим идеям, и тем самым как бы проходя через эти идеи к некоторым конкретным идеям, подпадающим под одну или другую из них.
Но это сразу и само собой вывело бы данный случай из числа спонтанных или недобровольных рединтеграций, а следовательно, и из числа явлений, подчиняющихся просто законам ассоциации. Это будет не просто ассоциация между идеями, а случай, когда Мысль устанавливает ассоциацию между ними. Законы мысли, включая их происхождение из идей, стали бы тогда нашим первым объектом исследования, вопреки тому, что уже было показано как истинный порядок исследования. Если отбросить все подобные законы, то получается, что никакое отношение в сознании между вспоминающими и вспоминаемыми идеями, какими являются А и В, – будь то сходство, тождество, общность и особенность, контраст, причинность, антитеза или что-либо другое, – не является реальной связью или связующим звеном между ними. Ибо это не идеи, которые вмешиваются между двумя случаями, а идеи, которые накладываются на возникновение более позднего из них. А супервизорная связь является частью общего феномена рединтеграции, но не является оперативным условием того, чтобы она была той рединтеграцией, которой она является. Оно является частью explicanclum, но не explicatio. Феномен заключается в том, что, когда я однажды наблюдал или читал о каком-то железнодорожном столкновении, а затем забыл о нем, в моем сознании появляется его дубликат, В (дубликат, потому что представлен в ином контексте, чем сейчас), по случаю того, что аналогичный образ, А., возникает в моем сознании, когда я слышу крик мальчика-газетчика. Мы видели, что никакая непосредственно воспринимаемая связь между А и Б, или между А и оригиналом Б, не может быть приведена для объяснения того, почему Б возникает при появлении А. Каков же тогда вывод? Неоспоримо следующее: действительно действующее условие лежит за пределами явлений, непосредственно присутствующих в сознании, то есть в какой-то силе или процессе, действующем за порогом сознания. И мы вынуждены предполагать реальные условия, которые не являются состояниями или процессами сознания, потому что состояние или процесс сознания не может быть признано имеющим, как таковое, какое-либо действие, когда оно опустилось, и так долго – пока оно продолжается, ниже порога, то есть перестало быть состоянием или процессом сознания вообще. Оно не может продолжать действовать, когда оно перестало существовать. Non entis nulla operatio. Значит, за порогом действует некий агент. И те из моих читателей, кто разделяет мою неспособность сформировать какую-либо позитивную или определенную концепцию нематериального агента, не будут колебаться, отождествляя агентство, действительно действующее в этих случаях, с мозговым механизмом. Мы не можем не прибегнуть к какому-то реальному условию или условиям, действующим за порогом сознания. Единственный вопрос заключается в том, должны ли мы представлять их как принадлежащие нематериальному или материальному агенту.
Не так уж безразлично, какую форму дальнейшей ошибки мы примем, если предположим, что мы неправильно ответили на этот основополагающий вопрос и представим, что действительно действующие условия имеют нематериальную природу. Если, например, мы считаем, что сходство в сознании выражает закон условия, которое действительно действует ниже сознания, то мы просто представляем себе ум, душу, Эго или мыслительную агенцию, чем бы она ни была, действующую бессознательно таким же образом, как конкретное сознательное существо действует сознательно, как это представляется в описаниях здравого смысла. Если, с другой стороны, мы видим истинное выражение действительно действующей связи в тождестве, которое имеет место между универсальным и сингулярным, которые оно охватывает, тогда наша теория должна заключаться в том, что логические идеи или формы мышления действуют бессознательно как реальные условия в психологии, что означает сведение психологии к рангу ветви или производной логики. В нынешнем состоянии психологических и идеалистических споров это замечание, возможно, имеет немаловажное значение. Тем не менее, как уже говорилось, главный вопрос заключается в том, являются ли условия, действительно действующие в реинтеграции, материальными или нематериальными. Давайте посмотрим, применима ли гипотеза церебрального или нейро-церебрального агентства к рассматриваемому нами случаю. Мы можем представить себе ее действие следующим образом. Б, идея железнодорожного столкновения, свидетелем которого я когда-то был или о котором читал, может быть названа, в ее латентном состоянии до того, как она будет вызвана в сознание, ретентом; это ретент в то время, когда я слышу крик мальчика-новостника, который дает мне идею А, смертельного железнодорожного столкновения в Нортумберленде. Итак, первоначальный вход Б в сознание был обусловлен тем, что часть или части рединтегративного организма были приведены в движение путем распространения чувственных впечатлений в некоторые центральные части мозга. Эти части приобрели тем самым определенную готовность или возможность снова приходить в движение тем же или подобным образом, если им будет передан тот же или подобный стимул; то есть они сохраняют первоначальное В, ниже порога сознания. Необходимый новый стимул они получают, когда возникает А, поскольку появление А в сознании обусловлено возникновением движений в частях организма, в той или иной степени совпадающих с теми, которые обслуживали исходное В. Тот факт, что А сходно с В, показывает, что оно обслуживается сходными движениями в тех же частях организма. Следовательно, движения, обслуживающие А, создают движения, обслуживающие дубликат или второе издание (так сказать) Б, дубликат, будьте уверены, как оригинального Б, так и его представления в исходном контексте; таким образом, всего существует три Б, два одновременно присутствующих в момент воспоминания, и один оригинальный, который, в момент воспоминания, предположительно существовал в прошлом, из двух тогда присутствующих в дубликате. Реальная связь или узел между А и двумя одновременно присутствующими Б, между ними самими и между ними и оригиналом Б, о существовании которого в прошлом они свидетельствуют, лежит в постоянном нервном или мозговом организме, который сохраняет тенденцию вибрировать дважды, как вибрировал один раз, вибрировать трижды, как вибрировал два раза, и так далее с усиленной тенденцией к каждой дополнительной вибрации. Единство органа и сходство движений в нем являются, таким образом, реальными условиями реинтеграции сходных идей. Что именно представляют собой эти движения, следует ли их рассматривать как механические или химические, как вибрации или как частичные дезинтеграции и интеграции нейронной структуры, – это вопрос для нейронной физиологии, в который мы здесь не будем вдаваться.
Обратившись к оставшейся части нашего предполагаемого примера, в которой связь, очевидно, зависит от смежности, мы обнаружим, что она допускает аналогичное толкование. Здесь мы можем позволить себе быть более краткими. Связь между восприятием произносимых звуков и идеями или значениями, которые они нам передают, всеми признается как вопрос конвенции, обучения и привычки. Его конечная основа, которая является конечной основой самого языка, лежит в произнесении, а не в слушании звуков. Произнесение звука – это рефлекторное действие, обусловленное внешним или внутренним стимулом. Таким образом, звук и стимул связаны друг с другом, хотя изначально они были разрозненными; а принятие звука для выражения стимула или объекта, от которого этот стимул получен, или для передачи знания о нем другим – это волевое действие, возникающее в результате ассоциации между ними. Правда, в некоторых случаях воля могла принять подражательные звуки в качестве названий объектов, которым подражали, и, таким образом, язык мог быть основан на ассоциации по сходству, а не по смежности. Но какие бы мотивы ни определяли первоначальное волевое принятие определенных звуков для выражения и передачи определенных значений, именно в этом принятии, а не в его мотивах, следует искать причину того, что определенные звуки имеют определенные значения в случае всех полностью сформировавшихся и устоявшихся языков. Иными словами, акт волевого усвоения, который сам по себе превращает звуки в язык, также превращает ассоциацию между звуками и их значениями в ассоциацию по смежности. Установление связи между ними в опыте индивидов является частью их истории и образования.
Мы узнали значение, скажем, ужасного, железной дороги, столкновения, Нортумберленда, получив это значение по другим каналам и затем сопоставив его со звуком слова, обозначающего его, получив одновременно звук для каждого из них.
Таким образом, смежность в источниках рединтеграции заключается в одновременности или тесной последовательности либо между представлениями, либо между представлениями и репрезентациями. Но от чего зависит сама эта одновременность или тесная последовательность, поскольку ничто в содержании состояний, как состояний сознания, не может быть показано способным ее учесть? Ответ может быть только один. Он зависит от связи или функциональной непрерывности внутримозговых окончаний нервов, идущих от разрозненных органов, на которые в первую очередь производятся разрозненные ощущения-впечатления. И связь, скажем, между звуком и его значением, со временем становится легкой и привычной, потому что канал или другой способ коммуникации между органами, обслуживающими каждый из них, со временем становится легко и почти мгновенно проницаемым или проницаемым. Иными словами, смежность в рединтеграции зависит от особенностей в структуре и функционировании нейро-церебрального организма, близко напоминающих те, от которых зависит сходство в рединтеграции. Таким образом, сходство и смежность в рединтеграции являются зависимыми сопутствующими факторами структуры мозга и мозговых процессов, и в той мере, в какой они имеют место, свидетельствуют об их природе и способе функционирования. Эти последние являются реальными условиями, управляющими ходом рединтегративных поездов сознания, по крайней мере, до тех пор, пока они состоят из идей или образов, как в только что рассмотренном случае. Именно в них мы должны искать действительно действующий механизм, а в сходстве и смежности – лишь постольку, поскольку они являются свидетельством того, что они есть и что делают. Очевидная ассоциация по сходству свидетельствует о сходстве мозговых процессов в одной и той же части мозга; а очевидная ассоциация по смежности – об установленной непрерывности или проницаемости канала между различными его частями. Сходство и непрерывность в мозговых процессах – это реальные условия, являющиеся также тем, что называется рерте causie, сходства и смежности в состояниях и процессах сознания в поездах реинтеграции.
Глубина или сила впечатления, одним из признаков которого является яркость, в момент первоначального получения идеи или образа будет, таким образом, одним из обстоятельств, благоприятствующих его вызову другим стимулом, подобным первому. Ведь его глубина или сила сделает его более легким для стимулирования; и чем быстрее будет стимулировано первоначальное впечатление, тем меньшим будет стимул, необходимый для его повторного возникновения. Это также верно, если глубина или сила впечатления была приобретена не от одного мощного стимула, а по привычке, возникшей в результате частого повторения.
Опять же, важным обстоятельством является количество связей, которые определенный мозговой процесс имеет с процессами в других частях головного мозга; большое количество должно быть благоприятным для его запоминания, поскольку каждая дополнительная связь открывает новый канал, по которому к нему может быть передан стимул. И здесь снова можно увеличить пропускную способность или проницаемость соединительных каналов за счет частоты повторений.
Сила первоначального впечатления, количество связей с другими впечатлениями и увеличение по привычке либо конкретного впечатления, либо любой из его связей с другими, таким образом, представляются главными обстоятельствами, благоприятствующими реинтеграции любой данной идеи или образа, в соответствии с двумя основными законами сходства и непрерывности мозговых процессов. Очевидно, однако, что это лишь немногое дает нам для того, чтобы мы могли предсказать ход, который в реальности примет рединтеграция, начинающаяся с данной идеи, у любого конкретного человека; и еще больше для того, чтобы сформулировать закон, позволяющий предсказать ход рединтеграции у ряда людей, то есть общий закон хода, который данные идеи примут в спонтанных рединтеграциях, в случае человечества в целом. Чтобы это стало возможным, нам нужно гораздо больше, чем просто совершенное знание законов, управляющих спонтанной реинтеграцией; мы должны также знать конкретную историю и обстоятельства индивидов, в чьей конкретной жизни поезда спонтанной реинтеграции являются лишь одним напряжением или фактором, напряжением, не изолированным от остального в реальности, как это делается в мыслях для целей анализа.
§3. Ассоциация в эмоциях
Одно из направлений исследования, предложенное нашим предполагаемым случаем реинтеграции, все еще остается нерассмотренным. Следует помнить, что мы отвергли предположение о том, что идея, вызванная криком мальчишки, была связана с аварией почтовой кареты, которая едва не стала роковой для субъекта реинтеграции. Мы отвергли его, чтобы проследить за другим предполагаемым воспоминанием, в котором сходство между вспоминаемым и вспоминающим образами было больше. Но следует признать, что отвергнутое воспоминание вполне могло оказаться реальным в предполагаемом случае. Тогда давайте вернемся к этому нашему первоначальному предположению и посмотрим, не бросает ли оно дополнительный свет на вопрос об ассоциации.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70935007?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Объединение того, что прежде распалось
2
Очень отличается от «памяти как простой ретентивности» и от «сохраненного представления», о которых идет речь в предыдущих главах Книги I. См. подробнее по этому вопросу Книгу I. Гл. III. §3, «Собственно память, включая отступление к реальной обусловленности».
3
Дистанция – это термин, который я использовал в предыдущих работах для характеристики таких конкретных материальных объектов, о которых здесь идет речь, – реальных объектов мышления здравого смысла.
4
В своей «Теории практики», том I, стр. 181, sqq, я дал им название рефлексивных эмоций. Но это название вводит в заблуждение, поскольку, поскольку все чувства являются строго рефлексивными, оно не дает никакого указания на особый способ рефлексии, который подразумевают данные эмоции. Однако этим я ни в коем случае не хочу отказаться от анализа и классификации эмоций, приведенных в той работе, или каким-либо образом намекнуть, что я считаю ее вытесненной настоящим кратким изложением того же предмета. Доктор Чарльз Мерсье в своей очень ценной и интересной работе «Нервная система и разум», стр. 279 и 286, упомянул этот мой анализ и классификацию в числе других, которые он счел неудовлетворительными. Главной причиной я считаю то, что метод, с помощью которого она получена, основан на концепции, сильно отличающейся от его собственной, о зависимости психологического от метафизического анализа.
5
The Emotions and the Will, p. 121. Third Edition, 1875.
6
Введение термина «рединтеграция» в английскую психологию и его формулировка в качестве общего закона, под который могут быть подведены все остальные законы ассоциации, принадлежит сэру Уильяму Гамильтону. Это я недвусмысленно и полностью признал при первом же обращении к этой теме, в своей работе «Время и пространство», глава V., стр. 256 sqq.
7
Анализ, содержащийся в этом и следующих разделах, был включен в речь, произнесенную перед Аристотелевским обществом в ноябре 1890 года, на тему «Законы ассоциации». См. «Труды Общества», том I. № IV. Часть I. Лондон. Williams and Norgate. 1891.
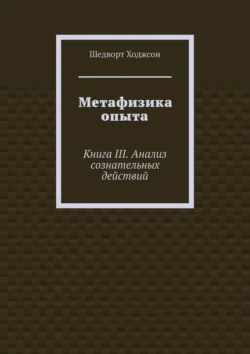
Шедворт Ходжсон
Тип: электронная книга
Жанр: Философия и логика
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 31.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В «Анализе сознательных действий» автор возвращается к изучению сознания, которое рассматривалось как непосредственный опыт в первой книге. Однако этот возврат происходит с новым пониманием реального агента и его роли в формировании сознания, полученным в ходе изучения позитивных наук во второй книге. Такой подход позволяет автору углубить анализ сознания, рассматривая его не изолированно, а как часть более широкого контекста человеческого действия и взаимодействия с миром.