Тихий гул небес
Тихий гул небес
Ольга Толмачева
Не в силах разорвать тугое кольцо жизненных обстоятельств, главный герой повести влачит безрадостное существование. В однообразно тоскливом течении дней есть у него редкие моменты истинного счастья – воспоминания о времени, когда были живы его бабка и мать, лесник Петр Иванович. Простая притягательная жизнь, чистые отношения, которые он хранит в памяти, как бесценный дар, заложили в нем незыблемые нравственные основы. Встреча при странных обстоятельствах с человеком другого, уходящего, поколения – неуживчивым, резким, не терпящим сантиментов, помогает принять важное решение.
Ольга Толмачева
Тихий гул небес
Вступление
Вступление
Сырое утро
Хребет земли, залитый солнцем, стремительно летел прочь, – и Дрон понял, что взмыл в небо. Внизу – широко, далеко – раскинулось поле в снегу. Ветер колол лицо. Ликующий взор скользил в бесконечность.
Удивляясь легкости тела, Дрон извивался, как лента, нырял в глубину. Разогнавшись, неожиданно замирал и, хранимый движением воздушных потоков, высоко парил над землей – сверкающей и нежно-желтой в лучах восходящего солнца.
Торжественный вихрь, пронзавший насквозь, наполнял сердце радостью. Ладони играючи размыкали свод неба.
Дрон мчался в необозримую даль – навстречу яркому дню.
СЫРОЕ УТРО
Было сырое утро. Боясь зачерпнуть жижу сапогами, Дрон нетвердо брел по рваной, разбухшей от талого снега дороге на дальний пустырь кладбища, куда редко кто-либо заглядывал.
Под воротник задувало. Стоял ранний гнилой март – ветер, слякоть, распутица. Тепло было призрачным, ехидно-лживым. От земли, едва поддавшейся ласке солнца, веяло холодом.
Дрон шел и сердился на бригадира Керима, который по злобе ли, бессердечности или за что-то ему в отместку, быть может, желая над бессловесным мужиком проявить власть, отправил горемыку по нехоженым тропам месить грязь. Ничем другим, как дурным характером начальника объяснить этот поступок Дрон не мог, как ни старался.
Трезвых здоровенных мужиков в коллективе днем с огнем не сыскать. Работы невпроворот, и разбрасываться лишней парой надежных рук, умело орудующих и отбойным молотком, и сложной техникой, спроваживая на целый день в сомнительную экспедицию, неумно и непрактично. Много людей умирало весной – гораздо больше, чем в иное время года.
Бригадир знал наверняка, что засветло обернуться Дрон вряд ли успеет – это в морозную пору лед намертво душит почву. Шагать по твердой дороге, пить сухой сладкий холодный дух – большое удовольствие. В талое же время пробираться пешком по бездорожью и врагу не пожелаешь. Но любая техника в подобном путешествии становилась непомерной обузой: и мощный трактор, и грузовик вязли в глине. Как ни старайся, ни спеши, вздыхал Дрон, полдня уйдет на путь в одном направлении.
И какая больно нужда торопиться, сокрушался: неделю-другую, а то и месяц повременили бы с геологическими изысканиями. Все равно, прикидывал, осваивать новые места получится не раньше середины весны – посуху, а может, и вовсе ближе к лету, когда теплая погода прочно завоюет позиции.
За пеленой плотных туч вставало солнце. Горизонт светлел на глазах, и в воздухе, все еще подернутом сизым туманом, стали отчетливо проявляться кусты и деревья. Зачернели проталины, извилистой лентой вдаль скользнула дорога.
От ходьбы стало жарко. Дрон замедлил шаг, ослабил на шее шарф. Переводя дух, осмотрелся. Полной грудью вдохнул. На мгновение ему сделалось нехорошо, словно он проглотил что-то теплое, приторно-сладкое.
Сапоги рыкали, чавкали и нехотя отдирались от почвы. Не замечая опасности, Дрон все глубже погружался в клейкий кисель и вдруг почувствовал под ногами пропасть. Земля поплыла, и он рухнул в бездну.
Это ужасающее состояние невесомости Дрону было знакомо с детства – однажды ребенком он угодил в болото. Неведомая сила больно зажала мальчика в тиски, когда он оступился на скользкой кочке, и хохоча, причмокивая, стремительно повлекла в трясину.
Теряя сознание, Дроня беспомощно барахтался в ее липких объятиях, чувствуя приближение к лицу зловония, душного дыхания воронки.
Цепляясь за острые кусты можжевельника в попытке остаться на плаву, Дроня изодрал в кровь руки, но от страха боли не чувствовал. Даже крик его был вялым и безжизненным, а слезы – беззвучными, похожими на плеск тихой волны о берег в траве. Силы в миг оставили мальчика, и он сразу, не успев сильно испугаться, перестал бороться за жизнь.
Лесник Петр Иванович чудом услышал в кустах безысходный детский плач. Думал, хлюпает зверушка в воде или киснет трясина. Перебродившее, перегретое за лето болото осенью квасилось и бурлило, словно зрело на опаре тесто.
Дроне сильно повезло, что в то утро поблизости оказался добрый человек. Говорили, в рубашке родился мальчонка. Не будь лесника рядом, в болоте бы сгинул. Может, Дроня потому и кричать не старался: невелик гриб, но понимал, что некого в дремучем лесу звать на подмогу. Место глухое и гиблое – за сотни верст ни души.
Мальчик намеренно ушел в чащу, подальше от дома. Надеялся в пустынном краю, на нехоженых тропах, куда грибников да любителей ягод калачом не заманишь, побольше морошки набрать. Прикидывал засветло отвезти урожай в город, успеть выручить денег. Если отправится в путь на рассвете, рассуждал паренек, нападет на ягодное место, то уже к полудню доверху наполнит лукошко. В обед в город со станции отправлялся автобус – на него и рассчитывал Дроня поспеть.
В тайге мальчик чувствовал себя без страха. Каждый год наравне со взрослыми приходилось ему ягоды и грибы собирать – бабке и матери помогал в заготовках на зиму. И скотину в лесу в одиночестве пас, и к мужикам на охоту привязывался, и рыбачил. По особым приметам, известным только ему, мог безошибочно определить, в какой год среди каких деревьев крупная да сладкая уродится малина, на каких почвах чернике раздолье, а куда поздней осенью направляться за клюквой.
Собирать морошку – одно мучение! Мало того, что растет она среди мха и бурелома, так еще замаешься за каждой ягодкой наклоняться: кустики низко по почве стелются.
Осенью за морошку щедро платили, потому как сохранилась ягода в эту пору лишь в сырых недоступных местах, где солнце – редкий залетный гость.
Но Дроня решил, что ему непременно повезет. Напади он в зарослях на вкусный ярко-желтый ковер из ягод, и тогда собирай урожай, сколько рук хватит, думал мальчик. На Дальнем болоте, скрытом от глаз, в низине, в мраке, морошки видимо-невидимо.
Ростиком Дроня был мал, телом – хиловат. Но это обстоятельство в сборе ягод ему шло в плюс. Чтобы до кустов добираться, не приходилось сильно спину гнуть, а значит, и усталость настигала не так быстро, как, к примеру, человека взрослого или долговязого. И руки у Дрони были проворными. Ладони небольшие, а пальцы тонкие – удобно сласть с веток рвать.
Путешествие на болото мальчик хорошо спланировал.
Встал затемно. Неслышно, чтобы не разбудить бабку и мать, вышел в сенцы, где с вечера в старых газетах припрятал луковицу и хлеб, под лавкой – одёжку. С полки в чулане достал корзинку. Надел шапку и дождевик, натянул на ноги резиновые сапоги и отправился в путь – в серой предрассветной дымке.
И Петру Ивановичу в сторожке в ту ночь не спалось. Было душно. Он ворочался на лежанке, смотрел, как через маленькое оконце под самым потолком в избу проникал тихий рассвет, прислушивался к дыханию леса и к сладкому посапыванию на печке Аннушки – дочка приехала к отцу на каникулы.
На душе у лесника было тревожно. Волновали покой во дворе и запоздалое пение синичек. Ветер стих. Лениво затевая привычный галдеж, птицы пробуждались неохотно. Березки у дома стояли недвижимо, покорно склонив к земле ветки – редкий листок трепетал.
Любопытные сороки – обычно бесцеремонные да базарные – и те куда-то запропастились и не спешили разносить сплетни по округе. И эти тишина и безмолвие за окном неприятно печалили лесника. Он маялся, страдал и никак не мог понять причину своего беспокойства.
Всю неделю он ждал Аннушку. Дни считал, когда детей в школе отпустят на вольницу. Загодя направился к пристани встречать дочку и, сильно волнуясь в душе, издалека наблюдал с нетерпением, как маленькой точкой кораблик с девочкой приближается к берегу.
Когда по лесной тропинке шагали домой, Аннушка веселой стрекозой летела впереди отца, срывая с кустиков поздние ягоды. А Петр Иванович ласково улыбался в усы, слушая щебет ее звонкого голоса, радуясь рассказам и смеху.
Темным вечером в сторожке они пили чай с медом и орехами, хрустели баранками, и Петр Иванович с умилением смотрел на подросшую дочку-тростинку. Разглядывал лукавое личико Аннушки с острым носиком в веснушках, которое напоминало мордашку лисички, любовался ярко-синими глазами, в которых плясали озорные огоньки. Восхищался тугой косой, которую девочка подняла на затылок, по-царски обнажив шею и плечики.
Свет лампы падал на середину стола. Отхлебывая из чашки, Аннушка тихонько причмокивала и тоже как-то особенно бережно посматривала на отца, а у него от нежности к дочке жаром пекло грудь, а глаза застилало туманом. Стесняясь потока редких трепетных чувств, Петр Иванович отворачивал голову от яркого света. Беспомощно жмурился. Стараясь украдкой смахнуть влагу со щек, тер до боли глаза железными кулачищами.
Пахло дымком от печки, смородиной и душицей. Тикали часики. Тихо, уютно и благостно было в сторожке.
Теперь же, в предрассветный час, лесник не находил себе покоя; мутило.
Много лет в заботах лесничего Петр Иванович пропадал в тайге, время от времени навещая семью в городе. Суеты наш герой не любил, его привлекали больше тишина и безмолвие. Среди многоэтажных домов и гула сверкающих улиц чувствовал себя неуютно.
Хоть и был лесник не из робкого десятка, но в пиджаке, специально приобретенном для выхода в свет, себя не признавал, оттого сильно стеснялся: и высокого роста, и косой сажени плеч, и загрубевших от трудной работы жилистых рук, и заросшего густой бородой лица. Казалось, что в подобном обличии он по-смешному нелеп и выставлен напоказ всему свету. По переулкам и площадям ходил дикарем, втянув голову в плечи.
В неволе городского жилья он и вел себя, как лесной зверь в клетке. Натыкался на стены, углы, задыхался от тесноты лифтов и лестниц, узких пролетов.
Всякий раз, отправляясь к родным на свидание, имел твердое намерение подольше пожить с семьей, но, страдая от собственной бесполезности в мегаполисе, начинал быстро скучать и даже впадал в депрессию. Не успев распаковать чемодан с лесными гостинцами, вскорости принимался планировать обратный путь.
Жил в тайге, за лесом присматривал. Дни считал – ждал Аннушку на каникулы.
Ворочаясь этой ночью на лавке и мучаясь от бессонницы, лесничему неожиданно пришло на ум, что следовало бы заглянуть на Дальнее болото – посмотреть, не случилось ли там какого происшествия. Свербело в душе, – а к себе Петр Иванович прислушивался. В тайге не было для него лучшего компаса, чем собственный, – свои переживания.
Надумав наведаться в далекие края, он тут же успокоился.
На Дальнее болото Петр Иванович выбирался не часто. За всю бытность лесничим пару раз побывать там пришлось – не более. Однажды геологов сопровождал, которые в здешних краях обнаружили месторождение никеля. А еще по просьбе одного хозяина, который посулил знатоку леса щедрую награду, разыскивал в тайге чужую собаку. Петр Иванович на деньги позарился – мечтал путевкой в пионерский лагерь порадовать дочку. Только зря обивал ноги – так и сгинул блудливый пес в глухой чаще, и косточки не обнаружились.
Посещать подобные гнилые места без особой надобности даже ему, опытному охотнику, ни к чему было: и далеко, и опасно.
…В библиотеке опустело. Повсюду погасили свет. Тусклая лампочка у входа в помещение освещала хрупкую фигуру Марии Николаевны. Стоя на пороге в пальто и платке, заведующая заунывно, запевно, но совсем беззлобно ворчала на Дроню, поторапливая мальчугана побыстрее отнести обратно на полку журналы по авиамоделированию. Убеждала прийти в библиотеку в любой иной день и сидеть в читальне хоть до темноты, а она ему выдаст и свежие журналы по теме, и прежних лет принесет из хранилища. Все равно, говорила, никто кроме Дрони в деревне их не читает. А нынешний вечер у заведующей занят – в школе у ее детей родительское собрание. Библиотеку нужно закрыть.
Дроню всегда интересовало то, что летает: бабочка, шмель, комар. Удивляло, что за сила толкает вверх живое воздушное судно, долго без устали держа на весу.
Думал, что легче всего взлететь тощему комару – проще, чем, к примеру, толстяку-шмелю. Крылышки у пузатого невелики, в отличие от комариных крыльев, и машет шмель ими реже. Выходит, что и совсем бы вспорхнуть не мог. Так летает же, парит!
Часами напролет наблюдая за насекомыми, Дроня подметил, как меняя угол наклона, шмель-тяжеловес с ловкостью заправского гимнаста изгибает крылья. Расслышал низкий, дрожащий звук, словно в брюшко мохнатого вживлен моторчик. Задумался: что за звук? Кого расспросить бы о том, размечтался.
Взрослые над вопросами мальчугана посмеивались, а мать ругала, на чем свет стоит, потому что считала Дронины интересы бездельем и глупостью. От лени блажь, говорила, если нечем заняться. И учительница – недавняя выпускница школы – от вопросов любознательного ученика уклонялась, потому что устройство шмеля с комаром не входило в программу по биологии.
Как-то у Дрониных соседей гостила семья с ребятишками. Однажды ребята направились запускать в поле воздушного змея. Восхищаясь невиданной красоте диковинной штуки, парящей на веревочках в небе, припустился следом за ними.
Ребята дали и ему подержать воздушное судно за стропы. Неожиданно змей высоко взмыл в небо, поддавшись порыву ветра. Дроня ослабил тугие жгуты и, ликуя, помчался за птицей. Натягиваясь, ленты звенели, звали ввысь – и большего счастья в своей жизни Дроня не ведал.
В какое-то мгновение ему вдруг показалось, что он и сам полетел – так высоко подпрыгнул. Однако, приземляясь, он неудачно споткнулся о камень. Упал, увлекая за собой красивую, но хрупкую игрушку, которая от нагрузки сломалась.
Спасая суденышко, мальчик не щадил себя и жестко упал, не сгруппировавшись, сильно ударился головой о землю. С локтями и коленками в ссадинах, босыми ногами, разбитыми в кровь, Дроня сидел на траве и плакал.
Он не слышал возмущенных голосов приятелей, которые подбежали к нему с тумаками. Но увидев Дронины горькие слезы и раны от камней и колючек, перестали браниться. Не чувствуя собственной боли, мальчик плакал от обиды,: красавец-змей превратился в груду обломков.
Опечаленные ребята ушли, оставив Дроню в одиночестве. Он вытер слезы и принялся собирать поломанные детали воздушного судна: нашел каркас, обшивку, крепления, куски разорвавшихся строп. Дома принялся чинить гордую птицу, пытаясь понять ее внутреннее устройство. Увидел, как воздух, проникая через отверстие в плотной ткани, создает натяжение – так возникает подъемная сила.
С этого момента в мальчике проснулась страсть к авиамоделированию.
В деревенской библиотеке нашлась специальная литература. Дроня увлекся и задумал смастерить собственный самолет. Но для этой затеи нужны были чертежи и расчеты, которые Дроня решил заказать в редакции журнала. К посылке прилагались точная копия маленького, но почти настоящего воздушного судна, а также подробная инструкция по сборке модели.
Не обращая внимания на сердитый голос библиотекаря, Дроня торопливо листал страницы. Задержавшись на последней, еще раз внимательно прочитал адрес редакции, запомнил.
Днями напролет мальчик ждал бандероль и копил деньги на покупку из тех немногих, что оставались от школьных обедов, но их не хватало.
К матери за помощью он обращаться не стал. Семья Дрони жила без излишеств, без мужской защиты. Мальчик видел, как мать берегла каждую копейку и радовалась любой работе, за которую ей хоть немного платили. Увлечение сына было для женщины, как кость поперек горла.
Дроня позарез нуждался в деньгах, и тогда он решил отправиться на Дальнее болото за морошкой.
Ранний гость
Ворота загромыхали.
Стук был настойчивым, требовательным. Дрон с трудом открыл глаза, но не увидел перед собой часов на стене: зияла темнота. Внутренним чутьем он понимал, что на дворе совсем рано.
За ночь дом выстудился. Через щель у порога и в отверстия рассохшейся крыши в жилище проникал мартовский ветер. Дрова в печурке почти догорели. Слабое мерцание едва тлеющей головешки лениво лизало пол. Спокойное дыхание горячей, полнотелой Люськи, ее живое тепло удерживали в постели. Подниматься на стук не хотелось.
Он понадеялся, что грохот с улицы ему почудился, и снова закрыл глаза, медленно погружаясь в сладкую негу, но скрежет металла ворот в очередной раз взорвал воздух. Прогоняя сон, Дрон нехотя поднялся с кровати и подошел к окну, выглянул на улицу из-за шторки. Мелкий дождик поливал серый от грязи двор, покрывая снег ледяной коркой. Небо плотно затянули тучи.
В мутном свете фонаря Дрон увидел фигуру пожилого мужчины и чертыхнулся.
В постели шевельнулась Люська.
– Кто там? – не проснувшись, спросила.
Дрон не ответил. Скрылся за шкафом. Кружкой зачерпнул из ведра воду. Рот обожгло холодом.
Люська резко села в кровати. Всматриваясь в темноту помещения и ежась от холода, она испуганно таращила на Дрона черные глаза:
– Кого нелегкая принесла? – тревожно спросила.
Темные волосы женщины беспорядочно разметались по голым плечам, едва прикрывая руки, шею и пухлую грудь. Люська была в белой ночной рубашке.
Дрон молчал. Взмахнув руками, потянулся, энергично заработал мускулами, чтобы хоть немного согреться. Стал одеваться.
– Да можешь ты словечко-то молвить, молчун! – Громким шепотом взмолилась женщина. – Неужто Петька?
Она опустила ноги на ледяной пол. Скрипнув пружинами, проворно вскочила с кровати и метнулась к окну. Рубашка со спины на ней задралась, оголив круглые бедра. Пригибаясь к полу, таясь, гостья осторожно заглянула за край занавески.
Внезапно Дрон почувствовал раздражение.
Набычась, он стоял у порога и смотрел, стараясь быть безучастным, как с гримасой ужаса на лице Люська крадется к окну, стараясь не скрипеть половицами, как, сидя на полу, надломившись спиной, тянет шею за шторку. С неприятностью ощутил, как его медленно наполняет брезгливое отвращение к женщине.
Дрон представил на миг, как он решительным шагом подойдет к блуднице и, схватив за голову, намотает на свой тяжелый кулак ее шелковые волосы, а потом без жалости потянет Люльку прочь от окна. Вскрикнув, она беспомощно упадет перед ним на мягкие колени и, точно на привязи, безвольно поползет за крепкой мужской рукой к порогу, и ее белое, роскошное тело, призывно зовя, возбуждая звериное, безоговорочно ему подчинится.
Сил владеть собой Дрону не доставало.
Он крепко сжал челюсти и, скрипнув зубами, замотал головой, отгоняя страшные видения.
Усилием воли отвел взгляд от босых Люськиных ног под бесстыдно задранной рубашкой. Пугаясь себя в своей ярости, задохнулся. Поспешил прочь из дома на волю, спасенный вновь прозвучавшим громким стуком в ворота.
Всю неделю Люська не приходила, и Дрон соскучился.
Вставал ни свет, ни заря – спал ли? Глотая дым, растапливал печурку. Долго сидел в темноте, наблюдая за языками пламени, которые нехотя лизали дрова. Сырые поленья шипели и выстреливали, а по полу, стенам и потолку прыгали черные тени.
Выпив жидкий чай, чтобы наскоро согреть нутро, отправлялся на работу. Весь день лопатой чистил снег и отбойным молотком долбил мерзлую землю. Копал – с перекурами на отдых и небольшим перерывом на обед – до тех пор, пока вокруг были различимы предметы, при любой непогоде. Это была тяжелая и изнуряющая работа.
В полдень он плелся домой, доставал из холодильника кастрюльку кислых щей, которыми его снабжала Люська, и пока суп закипал, а комната наполнялась острым ароматом чеснока и капусты, ложился как был в одежде на кровать поверх одеяла. Теплая утроба убогого жилища убаюкивала, и Дрон проваливался в липкий сон, как в пропасть.
Во сне он летал, как птица, – не чувствуя скованных рук, тяжести ног, лица, опаленного ветром. Под ним расстилалась земля, омываемая вихрем. Дрон ликовал.
Дневной сон-полузабытье быстро восстанавливал силы. Короткие минуты отдыха помогали продержаться до вечера. Сознание прояснялось. После тарелки горячих щей в животе становилось веселее. Дрон снова отправлялся на работу кромсать и грызть землю.
Изредка в странной череде однообразно серых тягучих дней случались исключения, когда чужой перелетной птицей Люська прибивалась к нему на ночлежку.
В свете дня Дрон не желал ни знать эту женщину, ни слышать о ней, но с наступлением сумерек вновь начинал исступленно ждать свидания, ненавидя и стук собственного сердца, и чуткое внимание к малейшим шорохам у дома, и свою лихорадку. Жгучей, жаркой волной из темноты на него надвигались боль, страх и отчаяние. Он тосковал по ее живому теплу, жару слабых женских рук, горячему дыханию.
Дрон нуждался в Люське, как маленький ребенок, который, сидя дома в одиночестве, ждет возвращения взрослых, томясь и пугаясь, напряженно всматривается в темноту, вздрагивая от едва уловимого звука.
Услышав гул железных ворот, осторожный скрежет щеколды, Люськино нетерпение на крыльце за дверью, он мгновенно приходил в равновесие, успокаивался.
С приходом женщины пустые углы жилища заполнялись чем-то влажным и живым, глупым, но осязаемым, и до рассвета в нем царил зыбкий, но все же домашний уют. Жизнь озарялась сомнительным смыслом.
Душная тайна их отношений изводила. Любовь, возросшая в грехе, сводила с ума. В душе зрел протест.
И сейчас, глядя на испуганное лицо своей гостьи, Дрона переполняла злоба. Презирая ее за нерешительность оставить постылого мужа и честно строить судьбу с ним, он ненавидел и себя, и женщину, с которой тайно похотливо грешил. По слабости ли, собственной нечистоплотности или потому, что как преступник, позарился на чужое, тискал в удушливом сладострастии ее пышное тело. Как в липкое болото, погружался в Люськину сочную плоть. Женщина задыхалась и стонала под ним, наполняя кровь горячей истомой, все глубже ввергая обоих в темную бездну. Он погибал, а спасение не приходило.
К горлу подкатил тошнотворный ком.
Сглотнув слюну, Дрон отворил дверь и вышел на воздух. В лицо пахнуло влагой. В воздухе повисла прелая взвесь. У крыльца скопилась большая лужа – дождь с крыши стекал под ноги, не попадая в водозаборную трубу. Дрон пожалел, что выскочил на улицу без сапог, но возвращаться домой не хотелось.
Взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, перепрыгнул через запруду. По снегу, покрытому тонкой глазурью, подкатил к чугунным воротам, едва не поскользнувшись.
За оградой, сутулясь, стоял худощавый мужчина без зонта, в мокрой меховой шапке. Длинные полы пиджака выглядывали из-под кожаной куртки. Отутюженные брюки темнели пятнами влаги. В руках он держал цветы, завернутые в газету.
Дрон узнал посетителя и хмуро кивнул ему, а тот, протягивая руку для приветствия, бодро шагнул навстречу.
В скудном свете фонаря вытянутое лицо мужчины с глубокими складками по щекам, матовый лоб, прямой нос с едва заметной горбинкой, тонкие бескровные губы выглядели неестественно бледными, точно восковыми. Вблизи мужчина оказался гораздо старше – почти стариком. Его ладонь была сухая и теплая – Дрон ощутил крепкое рукопожатие.
Шатуны
Своего раннего гостя Дрон приметил давно. Встречал его ранним утром по дороге на работу или видел сутулую, некогда высокую фигуру мужчины среди памятников и ограждений издалека, когда возвращался домой на обед.
Чеканя шаг, ритмично взмахивая руками, старик шел сквозь стройные ряды захоронений уверенной походкой профессионального военного. На кладбище, словно в родном городе, ему был известен каждый уголок. Казалось, он без труда мог бы найти нужную улицу, не особенно следя за маршрутом следования. Твердо знал, как, нырнув в арку или обогнув неприметный двор в цветах, можно значительно сократить путь к намеченной цели.
Худая спина мужчины с острыми лопатками и нервная неровная походка слегка портили впечатление от его бывалой, но по-прежнему отличной выправки. Он всегда нес букет. Летом это были луговые ромашки или колокольчики, зимой – цветы пластиковые, которыми торговали у входа на кладбище. Этим утром в руках незнакомца алели гвоздики.
Мужчина часто к кому-то наведывался – забавы ради, в их бригаде таких посетителей называли «шатунами». Эти люди, потеряв кого-то из близких, маялись, бродили по кладбищу, как призраки, потеряв счет времени, утратив чувство реального, ни в чем не находя утешения. Горе мертвой хваткой цепляло за горло, тянуло к земле плечи и головы. Свернув спины, не давало свободно дышать. Осознание пережитой необратимой потери было оглушительным и глубоким.
Казалось, «шатуны» впервые узнали о том, что люди умирают.
С этого часа думать о том, что впереди, для них становилось бессмысленным. Сердцем прочно овладевала тоска – сводящая с ума, не оставляющая в покое.
Беспомощный облик, робкий и растерянный взгляд, по-детски испуганное выражение лица, тугое, упорное несогласие с данностью, выдавали их душевные муки.
«Шатунов» лихорадило, их души знобило, а чтобы заглушить печаль, они в любую погоду, без особенной надобности, отправлялись на кладбище. Этот ежедневный ритуал становился опорой бытия, смыслом существования – таким же обыденным делом, как стирка белья или уборка квартиры. Общение с покойным – в мыслях, воспоминаниях, в ритуальном посещении могилы – поддерживало слабую искру жизни. Дорогой умерший всегда был досягаем, будучи не в состоянии отклонить навязчивое общение или совсем отказать во встрече, сославшись, к примеру, на усталость или плохое самочувствие. Связь продолжалась.
И этот печальный старик брел по городу-кладбищу, надломившись худыми плечами. Поднимал голову от земли лишь в надежде поймать кровоточащий взгляд случайных прохожих, подобный своему. В лицах незнакомцев старик безутешно искал ответ, как научится жить в новой реальности.
Люди-столбы у памятников – застыли в одиночестве… Склонив головы, замерли в оцепенении у оград.., съежились на скамье у могилы… Молчаливые, сосредоточенные, шепчущие слова. Говорящие с ветром, с небом, сами с собой. Повсюду по пути на работу Дрону встречались подобные полуживые окаменевшие фигуры.
– Не спится? – хмуро спросил Дрон и посмотрел старику под ноги, машинально отметив, что незнакомец, видимо, не испытывает серьезных материальных проблем, если не бережет в скверную погоду ни зимней обуви, ни меховой шапки.
Одет старик был исправно. Ни обликом, ни выражением лица он не походил на заброшенных пенсионеров, которые слонялись среди могил в поисках чего-нибудь съестного, чьими неизменными спутниками были бедность, болезнь и одиночество.
– Успею, высплюсь. Все здесь будем, – ответил мужчина и, подняв руку к груди, схватился за пуговицу.
– Плохо? – встревожился Дрон.
– Муторно что-то… Мотор барахлит. Или магнитные бури – обещали нынче.., по радио, – Старик сделал неуверенный шаг по скользкой дороге.
– Подожди-ка, я песок просыплю. Не ровен час, упадешь, – предупредил Дрон, показывая рукой под ноги.
Он решил проводить старика – тянул время. Хотел, чтобы к своему возвращению Люська успела покинуть жилище. Когда придет обратно, подумал, ее и след простынет.
В сарайчике он переобулся в резиновые сапоги, накинул пальтишко и с тяжелым ведром песка вышел наружу.
– Добреду как-нибудь. Мне здесь, неподалеку, – Мужчина слабо махнул рукой, в направлении цели маршрута.
Дрон молча пошел впереди, щедро рассыпая песок под ноги. Рыжие ленты талой воды поплыли по дороге. Старик двинулся следом.
Небо прояснилось. Дождик захирел. В утренней дымке стали четче проявляться кусты и ограды. Над памятниками, укрытыми просевшим снегом, как накидкой, кружило воронье – было чем поживиться. Накануне поминали родителей, и весь день нескончаемым потоком на кладбище тянулись посетители. У могил истово молились, вспоминали, грустили и плакали, выпивали и закусывали. Крошили хлеб птицам, сыпали пшено. На столиках лежали остатки еды, конфеты и печенье. Цветные разводы от фантиков раскрасили серый от грязи снег.
Дрон слышал за спиной тяжелое дыхание старика и неуверенное шарканье по льду его толстых ботинок. Боясь поскользнуться, старик едва поспевал за ним, и тогда он замедлил шаг, чтобы не утомить пенсионера. Огляделся.
Большой город
В «городе мертвых» царил строительный бум. Рыли котлованы. Размечали дороги. И в любую погоду ко вновь возведенным домам подвозили «новоселов».
В районе с уже развитой инфраструктурой на центральной площади красовалась церквушка, от которой к периферии протянулись длинные улицы. На просевшей, крепко утрамбованной земле стройными рядами чернели ограды. На маленьких пятачках земли подросли кусты и деревья.
Иметь могилу в центре кладбища, на пригорке, считалось престижным. Здесь рано сходил снег, вешние воды убегали в низины, не создавая затхлых запруд. Сверху открывался красивый вид на город.
Особенно ценились участки с угла, на которых забор с соседями гнаничил лишь с одной стороны – выгодное преимущество перед могилами, зажатыми в ряд. Завидные участки земли сметливый бригадир Керим попридерживал для особо ценных клиентов.
Каждую неделю в церквушку приезжал местный поп отец Владимир, и пустынная площадь внезапно оживала. Богомольные старушки, скорбящие родственники умерших, нищие, бомжи и алкоголики стайкой тянулись на службу.
Новым микрорайонам города только предстояло стать образцово-показательными. Свежие могильные делянки еще чернели трауром лент. Ультрамарин красок погребальных венков бил в глаза. Почва повсюду проседала, подъездные пути плыли от грязи и строительного мусора, а дороги существовали лишь на чертежах строительных планов.
Привычка
Привычка ходить на кладбище стала для Василия Ивановича такой же необходимостью, как и поддержание порядка в собственном доме, о котором человеку постоянно приходится хлопотать: выбрасывать прочь ненужное барахло, мыть посуду, окна и пол, что-то чинить, подбивать и подкручивать.
По давней привычке, старик просыпался за минуту до звучания гимна страны. Лежал в темноте, прислушиваясь к дыханию сонного города, стону лифта и редким шагам в подъезде, к глухим ударам собственного сердца.
Порой грудь зажимало. Часовой механизм двигался натужно, пыхтя, скрипя и запаздывая. Удивляясь переменам в себе, ощущал вековую тяжесть своего будто бы чужого, незнакомого тела. Двигал руками, коленями, пальцами стоп, принудительно включая организм в работу.
Когда ночь отступала, и комната приобретала знакомые очертания, Василий Иванович понимал, что пришло время пить лекарства.
Измерять давление и быть внимательным к тому, что происходит внутри, стало добрым правилом. Системы жизнеобеспечения гудели, точно высоковольтные провода, и капризничали, требуя к себе почтения.
Спустя время, старик медленно поднимался с постели. Сидя в кровати, глотал таблетки. Стакан воды и аптечка находились рядом, на тумбочке. Брел на кухню. Грел кашу – гречневую или пшенную, которую приготовил загодя, с вечера.
Редкое утро выдавалось удачным: тяжесть в спине отравляла существование. Каждое движение давалось с трудом, острой болью разливаясь повсюду.
Часто вместо ног Василий Иванович ощущал под собой пустоту. И тогда он долго сидел в кровати, не решаясь подняться. Знал, что при попытке изменить положение возможно падение.
В эти минуты на ум приходила горькая мысль о том, что не за горами тот день, когда организм предаст его окончательно, и он заляжет в кровать, как в берлогу. Вспоминал с печалью на сердце, как его больная жена однажды утром не вышла к завтраку, так и оставшись до конца дней жить в постели. Внутренне содрогаясь, старик хладнокровно готовился к неприятному событию, когда счастье владеть собственным телом навеки покинет и его.
Пытался не думать о том, как он станет варить кашу, чистить зубы, включать радио, смотреть из окна на вечерний город в огнях. Стараясь не паниковать, отгонял от себя дурные предчувствия. Экономил эмоции впрок – так же, как продукты и воду.
Но бывали дни, когда организм служил безотказно, и старик бодро, уверенно шагал по квартире, испытывая величайшую радость, гордился собой. Мышцы, которые не подводили его, и трезвая память были тем небольшим, но огромным, что он в данное время ценил превыше всего.
Электричество в квартире старик включал лишь по необходимости. Он верно, умело двигался в темноте, как кошка. Узкие коридоры и тесные комнаты, в которых когда-то ютилась семья, задыхаясь от нехватки жилплощади, на исходе лет оказались большим подспорьем.
Следуя на кухню, старик делал частые остановки, подпирая спиной стену. Отдыхал, утихомиривая пульс и дыхание. Когда кружилась голова, хватался за тумбочку, стул или шкаф – в досягаемости согнутых рук.
Свет люстры не только слепил его, но и без жалости к пенсионеру выхватывал из мрака до боли знакомые дорогие сердцу предметы, картины и фотографии по стенам – немые свидетели безвозвратно ушедших дней. То было время, в котором он был молодым и счастливым, хотя и не вполне осознавал данного факта.
Он часто бывал один. Друзья и знакомые, что остались в живых, чувствовали себя по привычке неважно. Общаться со старой гвардией старик не любил – о чем можно говорить с больным депрессивным человеком? Родственники, которым он изредка позванивал, так же пребывали в почтенном возрасте и ни о чем другом, кроме недомогания, цен в магазинах и тарифов на коммунальные услуги, знать не желали.
Порой предательски молчал телефон. Иногда за целые сутки старику не с кем было обмолвиться словом.
Ничто не держало его в настоящем. Он жил, далеко не заглядывая вперед. Планы не простирались дальше разумного предела. Дорожил лишь крохами здоровья и воспоминаниями, в которых былое представало в ослепительном блеске – вроде и не было в нем ни нужды, ни лишений. Бессонницей старик не страдал и ночью спал крепко – роскошь, доступная в его возрасте не каждому. И это обстоятельство в данный момент жизни также добавляло толику счастья.
Утром на кухне он перекладывал в сковородку сваренную накануне кашу, чтобы разогреть и съесть без остатка. Свою норму еды Василий Иванович вычислил многолетней практикой – черпал из кастрюльки ровно столько, чтобы не допустить излишества. В кашу бросал ложку сливочного масла, и пока она томилась на плите, выпуская аромат, умывался.
День был расписан по минутам. В начале недели старик затевал уборку квартиры, в среду – стирал белье. По выходным ходил на рынок за творогом, овощами и фруктами. Были и другие нехитрые заботы: навестить врачей, оплатить счета за квартиру, запастись лекарствами.
После смерти жены к его повседневным делам прибавилось ежедневное посещение кладбища. Хлопоты по обустройству могилы стали так же необходимы ему, как и обустройство быта в собственном доме.
Реальное причудливо переплелось с надуманным, прошлое – с настоящим, умершее – с живым. Все находилось неразрывно, в одной плоскости бытия.
Журчит ручеек
Рассвет тихо и бережно проникал с улицы в дом, щадя чувства, окутывая туманом. Василий Иванович нехотя открывал глаза, и прошлое бесцеремонно наваливалось на стариковские плечи. Впереди его ждал новый день одиночества.
И тогда из глубин памяти к нему прилетал голос жены.
Тамарушка была шумная, говорливая. Ее голосок звенел отовсюду. Чем занималась, кто в гости заходил, кого повстречала во дворе на прогулке, что нового у друзей и знакомых – непременно мужу докладывала.
Рассказывать Тамара была мастерицей. И словечком редким, золотым, побалует – где только отыщет? И лишнее в истории присочинит, на забаву. А иной раз любимый сериал бралась излагать. Обижалась, если старый не желал вникать в содержание. Вроде, и слушает ее, упрекала, и даже поддакивает, но спроси, о чем речь ведет – ни за что не припомнит.
Василий Иванович посмеивался над женой, но сам, и в правду, не углублялся в стремительный поток речи, который лился и лился без остановки, словно горный ручей. Где рождался источник и куда плыл, неся звонкие воды, не следил, не заморачивался. Привыкал к журчанию голоса, как привыкают к приятной музыке.
– Шагай, шагай, тихоход! – смеялась Тамара, желая опередить мужа в узком коридоре по дороге на кухню. Толкала, хлопала богатыря по плечу – шутила. Он понимал, конечно, что лишний разок хотела прильнуть к нему, приобнять сердитого, в тепле мужниных рук понежиться.
Шумно, но несерьезно старик ворчал на ласки жены, молодые заигрывания. Недовольничал пиханию острых локотков жены себе в бок. Говорил, призывая к порядку, что, видно, забыла старая, сколько им исполнилось лет. Бывало, вспыхивал от возмущения, как костер в жаркий полдень – аж трещали дрова! Ему лишь повод подай сотрясти воздух.
А Тамарушка хваталась за искру и ну, давай со всей силы дуть на пожар. Гневно пеняла ему, сверкая очами, что и в прежние годы не было у Василия Ивановича к ней интереса. Мол, в чужих койках смысл жизни искал.
На пустом месте начиналась в семье перепалка. Бывало, зашипит, зашкворчит Тамарушка, как масло в разогретой сковороде – не унять, не остудить накал. Лились на мужа потоки обиды, накрывая несчастного с головой, и не было в эти часы в доме места, где бы он мог переждать ураган.
Намеки на неверность возмущали старика до глубины души. Скрепя сердце, он согласился бы с любым упреком – все лишь для того, чтобы любимой жене угодить, ее страсть охладить. Но то, что он неверным ей мужем был, и слышать не желал. В подобной лирике Василий Иванович не находил здравого смысла. Романтика любовных приключений вне дома не вдохновляла его практичное устройство. А на то, что не имело разумных основ, сердце не откликалось. Смятение души и любовную тоску Василий Иванович считал уделом поэтов и бездельников.
Бывало, пошумят с женой, повздорят, покусаются – иной раз и вспомнить смешно, из-за какой ерунды по дому буря прошлась. На часок-другой расходились по комнатам спорщики, остудить пыл. Сидели, пыхтя, по углам в одиночестве.
Вечер длинный, томный.
Спустя время, являлись ворчуны на кухню из заточения Тянулись к чайнику, к огоньку. Гремели посудой.
Возвращались в дом прежние мир и покой.
Слово за слово, вновь улыбки, смех.
И звонкий голосок жены снова медом разливался по комнатам. Журчал ручеек.
После плотного завтрака старик шел на кладбище навестить Тамарушку.
Дрон видел, как на небольшом пятачке земли, отведенной под могилу, мужчина по-хозяйски налаживал быт. Посадил березку, приспособил к ограде столик, втиснул в угол скамью, на которой сидел, отдыхая от хлопот. Грустил.
Летом кусты кизильника пышно разрастались и вставали стеной, скрывая могилу от посторонних глаз, а осенью принаряжались плодами-белыми горошинами. Казалось, кто-то, проходя мимо, бросил на ветки горсть леденцов.
Повернувшись лицом в сторону города, старику казалось, что он на отдыхе в санатории.
Зимой у Василия Ивановича появлялись заботы иного порядка: приходилось чистить от снега узкий проход к могиле от насыпи, отбивать лед с калитки, а весной, когда сходили грунтовые воды, он принимался укреплять фундамент ограды, поднимал завалившийся крест. Красил лавочку и стол, заботился о цветах. И эта суета занимала все его бесполезное свободное время.
Старик знал, что придет время, когда и его душа найдет рай в этом месте. Поэтому, хлопоча о растениях, загодя позаботился о том, чтобы могильщикам не составило большого труда внедриться в земное чрево – на пустом лоскуте посадил лишь траву. Определившись с местом погребения для себя, старик немого повеселел. Жизнь стала намного понятней.
Приятное путешествие
Днем Василий Иванович находил себе занятия. Мысль о старухе с косой посещала его лишь глухой ночью, когда не щадил сон или от тоски стенала грудь. Пугала не смерть, а приближение к роковой черте, за которой – темнота и неизвестность.
Он пытался увидеть себя в ином измерении – по ту сторону бытия, в котором, как утверждают люди сведущие, в эфир повсеместно разлиты любовь и блаженство. Старался вообразить себя вне себя – отдельно от одряхлевшего, предательски ненадежного тела. Силился представить, но не мог.
Слепо, безотчетно отдаться потоку веры без оглядки на разум, не выходило. То, что жизнь вдруг в одночасье покинет его, принималось с трудом. Был, страдал, плакал, чувствовал, возмущался – и вдруг все исчезнет?! Ничего этого нет?
Что-то должно быть взамен, рассуждал Василий Иванович. Иное – но что? Голова шла кругом, мозг кипел, но долгожданный ответ, изводящий его, так и не приходил. Лишь повышалось кровяное давление.
Тогда он придумал, что смерть – это сон или путешествие, а может быть, перемена времени года. Путь вперед, к неуловимому горизонту, стал похожим на ожидание холодов.
Осознание близкого рубежа перестало мучить его. Появились иные заботы, ведь человек практичный готовится к морозам с лета: утепляет на зиму подпол, забивает рамы ватой и тряпками от сквозняков, загружает на хранение в погреб картошку.
Исход стал легок и понятен, словно кто-то шепнул старику, что смерть – и не смерть вовсе, не пустота, не бездействие, не безвоздушный эфир. Он совсем-то не исчезнет, не пропадет, он двинется в увлекательный путь.
В том месте, куда ему предстояло отбыть, жили знакомые люди – будто бы уехали утренним рейсом. В то далекое старика манила любимая – что лучше долгожданного свидания?
Поездка сулила переживания, подобные тем, что он испытывал, будучи молодым. К примеру, вспоминалось о путешествии в Крым.
И вот в мечтах, как наяву, старик снова пил дурман разнотравья. Вдыхая прохладный бриз моря, ловил лицом терпкую соленую пыль.
Поводил плечами, вспоминая дряблыми мышцами былую силу крепких натруженных рук, о которые разбивались тяжелые волны. Из глубины прохладного сада призывной мелодией звучал нежный смех. Жена, увлекая старика за собой, звала танцевать под белые звезды. И они, оглушенные треском цикад, изнывая от любви и зноя, без устали предавались ласкам, а их остро, бессовестно жгла луна.
Собственная смерть, похожая на поездку к морю, открывала для старика приятные перспективы.
Человеку организованному, привыкшему каждый шаг продумывать до мелочей, Василию Ивановичу оставалось лишь навести порядок в делах и в назначенное время отправиться к полустанку – с билетом в одном направлении.
Тамарушка
– Ну, здравствуй, Тамарушка! – Хриплым голосом произнес мужчина. – Царствие небесное!
Дрон обернулся. Спутник, стоя на высокой насыпи, смотрел на крест, в ближайшем ряду от дороги. Его нижняя челюсть подрагивала.
Дрон вернулся к старику, поставил на землю пустое ведро.
Отдышавшись, Василий Иванович с трудом спустился вниз и, протискиваясь по узкому проходу между оградами, вставшими улицей в ряд, бочком стал пробираться к могиле. Дрон машинально шагнул за ним.
– Намедни чистил снег, опять намело, – отряхивая полы пиджака и брюки, сказал мужчина. – И не снег это, кажись. Крупа ли?.. Или дождик?
Он обнажил руку, собирая в ладонь влагу, и ярко-синими не выпитыми глазами удивленно выглянул на Дрона из-под густых черных бровей.
Дрон закурил.
Старик дернул калитку на ограде, но дверь не поддалась. Лед намертво вцепился в железо.
– Чудно – там, у площади на пригорке, ручьи журчат. Скоро цветками вспыхнут проталины. А в здешнем королевстве зима лютует. Вроде и не собирается убираться восвояси. Царство холода, – отметил Дрон.
– Скоро и в наши края весна прилетит, и о нас, горемычных, вспомнит, – сказал Василий Иванович. – Теплом побалует, еще приласкает.
Ежась от ветра, втягивая шею в плечи, Дрон одну за другой застегнул все пуговицы на пальто. Его бил озноб.
– Жена тебе? – спросил, кивая на фотографию женщины, полную жизни.
– Она, матушка… – С трудом выдавил старик и слегка покачнулся. Чтобы устоять на льду, схватил Дрона за плечо.
– Молодой умерла что ли? – Дрон недоверчиво посмотрел.
– Семидесяти лет. Месяц не дожила до именин… – Старик говорил, хватая ртом воздух. – В прошлом году убралась… Бог прибрал. – А портрет я выбирал – фото из прошлых лет, как поженились. Сорок лет прожили душа в душу. Но будто бы по всей длине для меня только один день жизни вышел. До сих пор голубу мою такой – молодой – вижу… День и ночь стоит перед глазами … будто живая.
Голос мужчины сипел и дрожал.
Дрон не решался смотреть старику в лицо – лишь почувствовал, как клещами сдавило горло. Он подивился себе, своей неожиданной чувствительности.
Казалось, его давно перестало волновать, что люди умирают. По служебным обстоятельствам он ежедневно встречал тех, кто терял своих близких. Смерть сделалась для него горькой привычкой и спутницей жизни и походила на тугой тусклый рассвет, на вой ветра в печной трубе в лютую пору, на безысходную ночную тоску, когда не приходила Люська.
Так получилось , что смерть стала его работой. Горе не имело ни лица, ни названия. Начальник бригады с раннего утра предъявлял работникам ритуальных услуг дневную норму – они копали могилы.
– На сносях была, первенцем… отекала… – помолчав, заговорил старик, оставив попытку совладать с калиткой.
Дрон услышал в голосе спутника теплые нотки.
– Зимой дело было. Снежило в тот день. На дом мастера вызывал, боялся в пургу жену вести в ателье, чтобы не застудить матушку…
Дрон всматривался в круглое лицо миловидной женщины на фото. Она улыбалась.
– Сашок уж в брюхе толкался. Живот большой несла на себе, тяжелый… Еле ходила.
Мужчина говорил с остановками. Задыхался от слов, словно от ходьбы или бега.
– А по весне матушка разродилась… Крепкий мальчуган был, белолобый…
– Почему был? Умер?
– Что ты! В своем ли уме? – замахал руками старик, сильно испугавшись. – Жив-здоров, слава Богу. Бизнесмен, «Альфа-билдинг», слыхал?
Дрон пожал плечами, покачал головой.
– Известная компания. Дома строят.
Они замолчали.
– Пойду я, – постояв рядом, сказал Дрон.
Он почувствовал, как сильно продрог. Холод проник в рукава пальто и под воротник, вытеснив из него остатки жизни. Казалось, Дрон превращался в ледяную глыбу. Пожалел, что накинул одежонку на голое тело.
– На работу пора. И мне… дома возводить. Я тоже строитель, – усмехнулся.
– Большой город, смотрю, возвели…
– Всем места хватит… – Дрон шагнул к насыпи.
– Мухлююте вы, – Вдруг сердито сказал старик, резанув Дрона колючим недоверчивым взглядом. – Сколько гробов вставляете в промежутки? Муравейник! Вона, смотри, – мужчина показал на тропу между оградами, – и боком не втиснешься.
– В тесноте да не в обиде, – пошутил Дрон и неожиданно улыбнулся. Слова и возмущенный тон мужчины его не задели. – Все веселее…
Смех Дрона еще пуще рассердил старика. Он гневно крикнул вдогонку:
– Веселее? А ты приди сюда, когда грязь по колено! В праздник ни поздороваться с матушкой, ни поговорить. Соседи донимают! Бок о бок трутся. Над душой стоят, словно на кухню заглядывают. Стой! – Неожиданно громко приказал старик. – Назад! Ну, иди сюда! Вернись! Отвечай: сколько метров земли положено нарезать для могилы? Где инструкция? Предъяви расчеты!
– К бригадиру сходи, к Кериму, – миролюбиво ответил Дрон, по-прежнему улыбаясь. – Он тебе все нормы перескажет.
– И пойду! – запальчиво воскликнул старик. – Думаешь, если человек помер… – Голос мужчины внезапно осип. – У него и заступников не найдется? Покойников грабить? Я сыну скажу – пусть разберется. У меня сын знаешь какой!? Ого-го! Он органы натравит! Ваши грязные делишки разоблачит. Как можно… Бога не боитесь…
Слова пенсионера окончательно развеселили Дрона. Махнув рукой на прощание, он бодрым шагом отправился восвояси. Обернулся лишь у поворота на центральную площадь, чтобы еще раз посмотреть на старика-правдолюба. Крепко схватившись за ограду, его спутник недвижимо стоял у креста, низко склонив к рукам голову.
У Дрона снова кольнуло в груди, – и он в который раз удивился своей мягкотелости.
Первые клиенты
В восемь часов утра на кладбище появлялись первые клиенты.
Строгий немногословный начальник похоронного бюро, в деловом костюме, который подчеркивал торжество события, с раннего утра ждал посетителей у входа в неказистый сарайчик, обустроенный под офис. В жарко натопленном помещении с низкими потолками повсюду висели иконы. Тихо тлели лампады. Ненавязчиво звучала скорбная музыка.
Профессионализм команды сферы погребальных услуг горожане высоко ценили. О Кериме, как о лучшем менеджере, многократно сообщали газеты. Усердие руководителя отмечалось наградами. Грамоты и дипломы, кубки и другие знаки отличия были выставлены на обозрение среди офисной мебели, оргтехники и рекламной продукции.
Общаясь с трудягами-землекопами, Керим нередко позволял себе крепкое словечко, но в общении с клиентами был предупредителен и учтив, по-деловому краток.
В работе он предпочитал иметь дело не с самими клиентами, а с похоронными агентами, которые в заключении договора оставались нейтральны, сохраняя ясность мышления. Скорбели достаточно и в меру, а в сотрудничестве опирались на букву закона и условия контракта, не поддаваясь эмоциям. Однако многие клиенты желали сэкономить и, минуя посредников, обращались в офис Керима напрямую.
Принимая во внимание состояние посетителей, переживающих душевную травму, руководитель смотрел тепло, говорил с придыханием. Терпеливо повторяя сказанное, без раздражения демонстрировал и эмпатию, и терпимость, всем своим видом сигналя о сочувствии.
Голос у Керима был вкрадчив, но не противен, бархатен, но не слащав. Он тонко чувствовал момент, когда стоило бы разбавить разговор паузой и без усилий находил верные слова поддержки. Диалог выглядел естественно и по-человечески трогательно.
Тяжело давался тонкий момент назначения цены за услуги. Чтобы не заронить в клиенте и мысли о том, что на нем зарабатывают, проявлял осторожность. Пытаясь сохранить баланс теплых чувств и практической смекалки, старался не прогадать.
Допустить ущемления собственных интересов начальник не желал. На балансе фирмы находились дорогая техника и оборудование, нуждающиеся в плановом ремонте и замене по истечению срока эксплуатации, а в коллективе работали хоть и опустившиеся, никчемные, мало на что претендующие, но все же живые люди, которые нуждались в регулярной оплате за труд.
В соседнем помещении притулился магазин погребальных товаров. Жена Керима – сухонькая смешливая женщина неопределенного возраста в пестром платке – стояла у прилавка, бойко торгуя цветами и церковной утварью, принимая заказы на изготовление оград, памятников и надгробий, оформление могил. Ассортимент заведения был рассчитан на любой вкус, кошелек и степень любви к покойному.
С раннего утра начальник сообщал, сколько в их «город» прибудет «новоселов». За горькой статистикой убыли населения скрывался успех похоронного дела.
В холодную пору люди умирали охотней, чем летом, и ям-котлованов в эти дни требовалось больше обычного. Некоторое количество могил обязательно готовили впрок – порой приходилось хоронить и вне графика, в срочном порядке. Иногда коллектив подводил человеческий фактор: кто-то из работяг выбывал из строя по болезни, или же по причине лютой депрессии или затяжного запоя, и тогда предусмотрительно возведенное «жилье» для покойников было как нельзя кстати; бывали в их практике непредвиденные ситуации.
Праздники и выходные дни в коллективе, как правило, удавались «урожайными» – эту закономерность сметливый бригадир хорошо усвоил. Накануне напряженных дней ям рыли с избытком, на случай аврала. Порой к работе привлекалась дополнительная, но неквалифицированная рабочая сила из числа местных забулдыг, которые без дела ошивались на кладбище.
К сложной технике алкоголиков не допускали, но за выпивку, ласковое словечко или другое внимание они рады были и инструменты потаскать, и лопатами помахать от души. Пользы от этой братвы было не много, лишь суета и слюни.
Совсем рассвело. На могучем дубе громко, во все горло, чирикал, радуясь весне, скворец. В природе намечалось оживление.
Если бы не влажный ветер, от которого колотило, не скользкий панцирь глазури на дороге, перемены в природе ощущались бы сильнее. Истончаясь, лед не давал воздуху прогреться, и насладиться близкой весной пока не удавалось.
Дрон вспомнил, как в эту пору в деревне они с матерью заполняли снегом погреб на лето, для хранения продуктов.
В жаркие дни он спускался в морозное подземелье по скользкой от влаги лестнице, чтобы остудить пыл. Поверх снега на чистой соломе стояли глиняные горшки с молоком и сметаной. Дроня пил молоко большими глотками, торопливо, захлебываясь от жадности. Белые холодные струи бежали изо рта по шее и, попадая в ворот рубахи, приятно охлаждали грудь.
К осени, перед тем, как загрузить на хранение свеклу, морковь и картошку нового урожая, погреб чистили от старого, отслужившего снега.
Дрон запахнул пальтишко и прибавил шагу.
Встреча
На перекрестке улиц красовалась церквушка.
Прорвав блокаду туч, солнце неожиданно выпустило лучи, и ярко вспыхнула маковка на часовне. И сразу на пригорке заблестел рыхлый снег, истонченный кружевной вязью.
Навстречу Дрону шел Петька, и он пожалел, что слишком поздно заметил невысокую приземистую фигуру своего сослуживца. Разойтись, не повстречавшись, теперь было поздно, слишком явно.
Петька облачился в старый заячий полушубок женского кроя с короткими рукавами и в тренировочные штаны с лампасами неопределенного цвета. Вязаная шапка, которую он низко натянул на лоб, прикрывала разбитую бровь и глаз в кровоподтеках.
Петька зло смотрел и ухмылялся.
Дрон хмуро, едва заметно кивнул забулдыге, намереваясь и дальше продолжить путь, но Петька вдруг схватил за рукав, останавливая Дрона. Вымученная гримаса оживления исказила несвежее одутловатое лицо, заросшее щетиной. Заплывшие глазки жалили ядом презрения, но Дрон мужественно выдержал неприятный до омерзения взгляд.
Это был законный Люськин муж – хронический алкоголик. Злым, умным и трезвым он пребывал до начала работы. В утренние часы рассудок ненадолго возвращался к забулдыге – до первой возможности отравиться.
И хотя в течение дня начальник не спускал с алкоголика глаз, тот ухитрялся принять на грудь во время небольших перекуров.
Петька прятал водку в голенища сапог, рукава и карманы. Улучив момент, воровато доставал чекушку трясущимися от нетерпения руками. Пил жадно, не морщась, большими глотками, присасываясь к бутылке как к живительному источнику. Опьянев, становился, как кисель – разбитным, веселым и добродушным.
Это была страшная болезнь. В прошлом умный и талантливый инженер, а нынче – жалкий, трезвый, все понимающий Петька, ослепленный животной ненавистью к Дрону, смотрел на с вызовом, подстрекая к ответу. Ни воевать, ни бузить с алкоголиком Дрон не желал, а потому принялся что было силы глушить в себе ярость, которая с каждой минутой вскипала в нем все сильнее.
– Ой, кто еть идёть? – закривлялся Петька. – Какие люди в Голливуде! Проминад делаем? Воздухом, напоенным росссой-сс, дышим?
Стараясь сохранять хладнокровие, Дрон выдернул руку из его хищных лап, не сворачивая с дороги.
– Что, молчун, оглох? Или не чуешь? – С перекошенным опухшим лицом Петька вновь схватился за Дрона. – Или моя сладкая тебе чуйку замяла?
Ростом алкоголик был невысок, едва доходил Дрону по плечи. Стоя вплотную, свирепо дыша, он обдавал сивушным перегаром. Глазки кололи Дрона в подбородок, снизу.
Чувствуя, как в ответ на яд по телу жаркой волной потекло негодование, Дрон крепко сжал кулаки, едва сдерживаясь.
Дрон выдернул руку из хищных лап Петьки и оттолкнул его, коснувшись плеча. Молча двинулся своей дорогой, как танк.
– Думаешь, больно нужен ты ей? – Визгливым, срывающимся от обиды голосом крикнул Петька вдогонку. – Люська – сука! Бьется лбом в пол, в ногах моих валяется, просит прощения за ваше паскудство. А я ее плетью – хрясь! Хрясь! По хребту!
Петька резко взмахнул рукой, показывая, как он больно хлещет жену. Громко, вымученно захохотал, силясь мощью грудной клетки скрыть в голосе скулящие звуки.
– А к тебе шастает, сыч, потому что жалеет тебя, кобеля безродного! Не нужен ты ей! Слышь ты, хрыщ! Жа-лее-ет… Не больно-то о себе зазнавайся!
Петька врал.
С тех пор, как Люська стала ночевать у Дрона, муж перестал обижать ее. От стыда ли, что кто-то посторонний увидит на женском теле кровоподтеки или же по другой причине, но Петька затих. Для Дрона это обстоятельство являлось еще одной веской причиной продолжать постыдную связь.
Гостья
Дрон долго гнал от себя Люську, не позволяя ей у него ночевать. Но чем отчаяннее пил и хулиганил Петька, тем острее хотелось ему согреть и утешить полную жизни, но зашуганную бабенку с яркими глазами-вишнями, в которых навеки поселился страх расправы. И однажды жалость к женщине пересилила в нем здравый смысл.
Их встреча была случайной, нелепой и роковой.
В один из морозных дней Дрон возвращался домой из библиотеки. В женщине, которая в легком халате и в шлепанцах на босу ногу бежала навстречу, ничего не видя перед собой, он узнал жену своего сослуживца. Он видел ее в дни, когда в бригаде выдавали зарплату, неподалеку от офиса. С маленьким сынишкой она караулили мужа, чтобы забрать у алкоголика деньги, пока он их не потерял или пропил.
Еле стоя на ногах, отец умильно тянулся шеей к мальчугану, желая прикоснуться небритой щекой к несмышленышу, поласкаться. Намертво прильнув к матери, отворачивая голову от сивушных паров и липкой отцовской нежности, сын терпеливо ждал, пока тот передаст матери помятые купюры.
Пересчитав деньги, Люська просила мужа предъявить внутренности карманов. «Петруша, а в брюках? Покажи-ка! Славику сапожки купить бы… Горе ты мое…», – говорила едва слышно, не обращая внимания на ухмыляющихся забулдыг, которые в сторонке поджидали своего дружка. В дни зарплаты бригада устраивала коллективные застолья.
Дрон кинулся наперерез и на бегу схватил в охапку замерзшую, зареванную, побитую женщину, надел на нее свои шапку и пальто и привел к себе в дом переждать бурю.
Пока он хлопотал, собирая на стол нехитрое угощение, гостья рассказывала, хлюпая носом, про свою горькую жизнь с алкоголиком, которого прежде сильно любила. Верная ему, ждала из армии, а потом вышла замуж за него и от большой любви у них родился сынишка.
Дрон затопил печурку. Вскипятил чайник.
В отблеске горящих поленьев глаза гостьи казались большими черными озерами. От холода ее руки задеревенели. Люська в возбуждении проливал кипяток на коленки, но, похоже, эта боль ее не жгла. Зубы стучали о край чашки, и речь лилась нервно, неровно. Казалось, Люська едет в телеге, высоко подпрыгивая на ухабах.
Согревшись, заговорила тише, спокойнее.
Рассказывая о своей беде, гостья тихонько плакала. Дрон не мог отвести взгляда от ее белого лица в слезах, пухлых губ, глаз без дна.
Эту женщину нельзя было назвать красавицей.
Люська была миловидной и неприметной, как цветок луговой: красоты приятной, но неброской, которую сразу не признать.
Обдуваемый ветрами, растет цветочек привольно, подставив солнцу макушку. Радует и сердце, и глаз, но ты его словно бы не замечаешь: мало ли подобных в чистом поле, среди травы, в чертополохе, к свету тянется. А как вглядишься, признаешь, и разведешь руками от удивления. Словно не колокольчик незатейливый перед тобой или ромашка, опаленная солнцем: ливнями хлестана, непогодой обижена, низко к земле склонилась. Не цветок простецкий, а неизведанный космос, без начала и конца. Тайна, гармония…
Тихие, незлобивые слова удивляли Дрона. Не драчун Петька и не кровопивец, считала гостья, а несчастный человек, загубленный жизнью, больше других достоен жалости и сострадания.
Заклеймить мужа, обозвать его лесным зверем или душегубом ума большого не надо, рассуждала. Лишь тому честь и хвала, кто примет и полюбит его таким, каков он есть, – негодного, кто не рубит с плеча, отвешивая оплеухи проклятому, давая резкие определения гадким поступкам.
На самом-то деле, Петька – дитя малое, непутевый романтик, говорила. Как никто другой, способен дуралей неприметные слова в нежные строчки слагать – прежде о любви шептал ей стихами. Душа у него светлая, откровенничала, немного стесняясь своих неожиданных признаний. И первому снегу он, как малый телок, радуется, и трель синички среди городского шума услышит.
Иной смотрит на луг, залитый солнцем, и ничего, кроме зеленой травы на нем не увидит. А Петька и росинку серебряную – крупную, точно алмаз, и чистую, как слеза, приметит, не пройдет мимо, зевая. Осторожно и бережно живую, хрустальную воду соберет языком. Благодарно проглотит. И с могучим дубом на поляне поздоровается – голову склонит с почтением. И пчелу-хлопотунью, что над цветком ворожит, потревожить не осмелится.
Вспоминая, как красиво Петька ухаживал, женщина оживала. Глаза сияли, с лица исчезала печаль. Казалось, прилетел ветерок и в миг разогнал тучи.
А творит мужик в пьяном угаре то, о чем сам не ведает, не понимает то есть, горевала гостья. Протрезвеет, опомнится и самому себе – дикарю – ужаснется. Станет виниться, что было силы, перед ней и сынишкой, заискивать, смотрит стыдливо.
Увидит на Люське кровь от своих побоев звериных, затрясет его, точно столб электрический. Захлестнут с новой силой и страх, и трепет, и нежность. До глубины нутра проймет мужика, что он навыделывал-то, набедокурил, всхлипывала.
Дрону от Люськиных слов становилось не по себе.
Оторопь брала от беспросветной печали тихого голоса, который поднимал в нем мощную волну негодования, от выстраданной мудрости, привитой ударом крепкого кулака по бабьему хребту.
Очухается, рухнет перед ней на колени, секретничала гостья, размазывая по щекам слезы, примется обнимать, целовать и ноги, и платье, – ищет пощады, прощения. По пятам ходит за ней, точно телок привязанный, в лицо заглядывает, а в глазах у мужика – ясных, трезвых, все понимающих – муть и тоска, страх животный, что прогонит, не простит.
Туман сумерек поглотил комнату. Горела, шипела печка. Отсвет пламени лизал половицы. В доме сделалось жарко, но от горьких признаний, что Дрон внимал, его колотило морозом.
Люська была невысокого роста, чуть полновата, с тонкой талией и пухлой грудью. Мягкость плеч, рук и бедер, тихий голос убаюкивали. Смех – редкий, залетный, нежданно-негаданный и, вроде бы, даже неуместный в ее грустном повествовании – наполнял дом чистотой и сиянием, а сердце – тихой боязливой радостью.
В том, что сделалось с любимым Петькой, гостья пуще других корила себя. Однажды завод, на котором муж работал главным инженером, разорился, цеха закрыли, и свалилось на мужика в одночасье бесполезное свободное время.
Глаз да глаз нужен был в это время за Петькой, а она упустила коварный момент, печалилась. Стал безработный пить. Не нашел себе применения и захирел. Отовсюду алкоголика прогоняли, смеялись над ним, не верили в исцеление.
От невнимания к мужу случилась беда, считала. Мыкался горемыка, пьянствовал, пока, наконец, не прибился к кладбищу, на котором обитал народ простецкий и жалостливый.
Любой желающий мог помельтешить на глазах у Керима и, не имея ни трудовых навыков, ни особенных притязаний, за обед и стопку водки войти в коллектив могильщиков. Так и сколотилась их бригада: из людей пришлых, никчемных, потерянных, увязших по горло в сложных жизненных обстоятельствах.
Петьке на работе сочувствовали, подбадривали. Жалея, наливали.
Серебристые ленточки горячих слез протянулись по Люськиным щекам от глаз к подбородку. Притягивая всполохи огня, глаза в темноте блестели. Печь прогорела, и слезы растаяли. Бледное лицо покрыла скорбная тень.
Не злодей Петька и не демон, рассуждала Люська, а божий страдалец, который в больные окаянные дни страсть как боится самого себя – буйного, очумелого. Страшится, что, не ровен час, предстанет диким чудищем перед сынишкой – до смерти испугает малого. Нехорошо это – он и сам понимает. Сына любит. А в трезвом обличии на дух не выносит себя, потому как стыдится. Значит, что-то человеческое в нем все же осталось. Есть надежда, что все поправится, с печалью вздыхала.
Яркими глазами гостья смотрела на Дрона, ожидая, что он поймет и согласится с ней.
Дрон чувствовал на расстоянии ее волнение. Сладкий шепот, невидимое живое тепло доверчиво плыли навстречу, поднимая в нем поток трепета и нежности к чужой, непонятной, но неожиданно дорогой ему, жизни.
Дрон не знал, что ответить гостье. Лишь машинально подмечал, как легким движением руки Люська убирала прядь со лба, поводила плечом. Словно крошки со стола, стряхивала со щеки слезинки, едва слышно всхлипывала, вздыхала, задерживала дыхание. Он молчал, оглушенный признанием.
Безропотная покорность судьбе, которая ей – молодой и красивой – уже ничего хорошего не сулила, ввергала в ступор. Дрон удрученно слушал, не решаясь ни словом, ни жестом проявить протест. Он вырос в деревне и видел баб, страдающих от пьянства мужей, – знал об этой российской беде не понаслышке.
Но так не походила Люська на тех полинялых женщин с затравленным взглядом и с одинаково безжизненным выражением лица, которые пугали его мальчишкой: жилистых, без времени высохших, с черными запекшимися ртами, будто могилами. Баб словно бы надруганных и осмеянных судьбой, которые своим обликом чем-то напоминали ему обглоданные деревья.
Так ли уж не походила? – думал Дрон, не сводя глаз с гостьи, которая своим нечаянным присутствием озарила его убогое жилище.
Просто сейчас Люська полна сил и в ней еще есть твердая решимость спасти своего мужика, которому обещала в церкви перед алтарем, перед всеми честным народом, и в горе и в радости, быть верной – в любых обстоятельствах. Значит, до гробовой доски она станет жалеть несчастного алкоголика, деля с ним долгую, несчастливую жизнь.
Отчаявшись, она проклянет и судьбу, и себя, свою горькую участь, но ни за что не оставит постылого. Ненавидя, страдая, до гробовой доски будет терпеть. Нести груз, надрываясь. Дрон знал цену слова, произнесенного в Храме.
Чужая жена
Спать с чужой женой у Дрона не было и в мыслях. Когда Петька уходил в запой и распускал руки, он делился с женщиной кровом и нерастраченным сердечным теплом.
Но однажды он увидел у нее на шее, под толстым слоем пудры, лиловые синяки, удивился, возмутился. Заставил снять одежду, чтобы внимательней рассмотреть кровоподтеки. Торопливо скинув кофтенку, Люська осталась перед ним в юбке и лифчике.
Осторожно касаясь, как доктор, Дрон исследовал ее мягкие плечи, грудь и живот в пестрых разводах от ударов. На тонкой, прозрачной истерзанной коже поверх желтых, застарелых, уже подживающих синяков лежали свежие багровые и ярко-красные пятна.
Потрясенный, Дрон с силой притянул Люську к себе, желая лишь выразить сострадание, и уткнулся лицом в ее пухлую грудь. А она не сопротивлялась. Руками, как ветвями, обвила Дронину голову. Затрепетала в ладонях. Он дрогнул и со всей страстью откликнулся на ласку, проявил слабину.
Их разделяла пропасть. Отношения складывались болезненно, неопределенно. Дрон не знал, что он испытывал к женщине – жалость ли, муку, сочувствие, ненависть к ее мужу-кровопийце или это было нечто другое, так и не ставшее ему до конца понятным. Только случайный, но живой человек растопил в нем лед и коросту. Дрон жадно схватился за Люську, как за спасительную соломинку оправдания собственного бытия. Обволакивая ненадежным теплом, она внесла в его жизнь смутный, давно утерянный, смысл.
Люди сторонились общения с Дроном.
Домик, в котором он обитал много лет, не предполагал уюта и покоя, стоял у входа на кладбище. В ночные часы по совместительству он сторожил территорию от шатающихся забулдыг и диких животных. Место жительства и род занятий Дрона казались горожанам странными. Но спроси, каким ветром занесло его сюда из тайги, где прежде счастливо жил с семьей, как произошло, что он поселился среди могил, Дрон вряд ли смог бы ответить.
Он жил чужаком, близко ни с кем не сходясь. Тяжелая работа занимала все его свободное время, и этим обстоятельством он был чрезвычайно доволен. Кроме походов в библиотеку и страсть к технике Дрон не имел других увлечений, и лишняя свобода была ни к чему. Жил монахом.
Бывало, городской люд обращался к нему за помощью починить автомобиль или иную технику, что попроще: слух о нелюдимом технаре – мастере на все руки – быстро перелетела через кладбищенский забор. Дружбы из подобных контактов у сторожа не складывалось. Технику ремонтировал – не отказывал, но особенной ласки просителю не выказывал. Чинил и баста! Никаких сантиментов! Выпить, поддержать компанию в пустопорожнем трепе, обменяться мнением на тему женщин, политики или футбола, общественной несправедливости, начальнику после работы кости помыть – от него не дождешься.
С раннего утра мимо дома неутомимым потоком шли посетители. Направлялись к могилам и часто – на выставку памятников и оград. Когда офис был закрыт, клиенты прямиком двигались к Дрону в сторожку, чтобы получить информацию, обсудить условия сделки и оформить заказ.
Любой желающий мог без стеснения потревожить его даже ночью: и бригадир, и сослуживец, похоронный агент или поставщик товаров, а порой – и вовсе человек случайный.
Люська приходила к нему глубокой ночью, когда у ворот наступало короткое затишье – мнимое и легковесное. И не было цены их скоротечным свиданиям.
Особенных иллюзий на отношения они не питали. Остро нуждаясь друг в друге в моменте, знали, что неминуемо в будущем придет час расставания. Каждый думал о разлуке, как о неизбежности.
Зыбкость, призрачность и недосказанность чувств придавали встречам болезненно-страстный накал, острую безысходно-щемящую сласть. Каждая минута, проведенная вместе, походила на волшебство, – словно в стылую зиму, вопреки законам природы, расцветала сирень за окном.
Их жизнь была на виду всего коллектива, в котором, по недоразумению, вместе, рука об руку, работали и Дрон, и муж Люськи, и злобно осмеяна.
Громыхание ворот, стук в дверь и шаги на пороге могли в любой момент потревожить свидание, и несчастные, не тратя времени на разговоры, в неудержной лихорадке, прямо с порога кидались друг другу в объятия, торопливо срывая с себя одежды. В горячке спешили ласкать и жалеть. Упивались любовью, как воздухом, бессильные ею насытиться.
Воздух сверкал. Тела искрились и плавились, двигались в такт, в едином устремлении вверх, к высшей тайне и неутолимому блаженству.
Каждое движение, вздох, стон походили на ураган, возносящий над землей. Дрон летел…
Аннушка
Почти бездыханного, озябшего и испачканного тиной мальчонку лесник туго завернул в свою куртку, как куклу, и понес на плече.
Он шел не спеша, с остановками на сухих кочках, чтобы отдышаться и немного передохнуть. Долго на одном месте стоять опасался: знал, что глазом не моргнешь, как потянет в трясину.
Болотистые почвы клейки и коварны. Порой местность выглядит, как обычная поляна, покрытая травой. Только опыт и особенное чутье лесного жителя подсказывали Петру Ивановичу, где заканчивалась крепкая дорога и начиналась топь, а куда ни под каким предлогом ступать не стоит, как бы ни соблазняли спелая ягода или крепкий гриб-боровик. Знал, что можно оступиться или неверно шагнуть, и тогда поползет земля из-под ног, будто ветхий лоскут, обкусанный молью.
Ноша леснику была по силам. Мальчонку, телом похожего на старичка, Петр Иванович без труда вытянул из трясины. Нес Дроню бережно, словно хрупкий драгоценный сосуд. Молил бога лишь о скором возвращении домой, чтобы не застудить горе-путешественника – в осеннюю-то пору.
Дроня сильно замерз. В бреду он до слез жалел перевернутую корзинку с ягодами, рассыпанными в мутной жиже. Желтой, спелой морошки мальчик набрал с избытком. Рвал торопливо, пригоршнями, боясь опоздать к автобусу. И вся-то ягода была, как на подбор – крупная да налитая.
Когда Дроня тонул, то цепляясь за ветки кустов, старался не отпустить и лукошко. Из последних сил тщедушных держал его при себе, а оно все же выскользнуло из рук, и ягоды яркой россыпью поплыли в зловонную тину.
Дроня плакал беззвучно и не зло, как плачет удрученный человек, смирившийся с горькой участью. Что было в его безысходной печали: страх за жизнь или досада на собственную оплошность, за безвозвратно потерянное время, которые закрывали путь к мечте, – о том мальчик не ведал.
И вдруг он почувствовал, что неким чудесным способом ему все же удалось преодолеть силу болотного тяготения. Дроня, как птица, вознесся над чащей. Сверху, в темной коварной воде, он узнал, свои сапоги и палку, с которой брел по тайге, перевернутое лукошко и ярко-желтые ягоды, просыпанные в черную топь.
Дроня летел и чувствовал в груди необычайное блаженство. Слезы просохли, и страх исчез. Лицо приятно ласкал ветерок. И тогда мальчик понял, что он стал утопленником и в данный миг возносится к небу. Рядом с ним, держась за руки, плыли златокудрые ангелы, и за ними, переливаясь, сверкая, слепя, тянулись нити света. Все вокруг было торжественно и красиво.
Дроня приготовился к встрече с Создателем. Захотелось рассказать Боженьке обо всем, что нечестивого он сотворил в своей жизни и искренне покаяться.
Бывало, мальчик не слушался взрослых, ленился с уроками и лоботрясничал.
Вспомнился случай, как однажды телилась корова в хлеву, а Дроня, увлекшись своими забавами, напрочь забыл про любимую телку на сносях. К счастью, сосед услышал тяжелые коровьи стоны – теленок поперек брюха встал – и вызвал ветеринара на дом. Чуть не потеряла семья в тот злосчастный день бедную животину.
Дроня чуть было не оглох от истошного крика бабки и мамки, едва успевая уворачиваться от их подзатыльников. Лодырь он неугомонный и дармоед, голосили бабы во весь двор, – весь в отца уродился.
Дроня до слез жалел корову, и пуще родных корил в произошедшем себя. Стыдился мамки, хотя она, негодуя, в сердцах, спалила в печке его игрушечный самолет. Живет мать в трудах и заботах, плакал Дроня, продыху от работы не знает, а он, злодей, чуть не загубил корову-кормилицу.
Боженька был крепкий, с белой бородой и обликом очень походил на старца с иконы, что висела у них в избе, у которой тихо тлела лампадка. Мать и бабка, исступленно молясь, день и ночь отбивали Николаю Чудотворцу поклоны.
Чтобы мальчик не боялся свидания, маленький ангел держал Дроню за руку – холодок тонких пальчиков приятно колол ладошку.
Святой человек ласково посмотрел на пришельца, и из глаз Дрони безутешным горячим потоком хлынули слезы. Не было мочи, как захотелось ему освободиться от тяжелой душевной ноши и поведать Боженьке о своих гнусных выходках и о страданиях родных от его озорства.
Бабка часто ругала мальчишку, на чем свет стоит, стращая гиеной огненной и страшным днем праведного суда. Пеняла ему, шамкая беззубым ртом, что если бы не Дроня, то нашла бы мамка себе подходящего мужика. Вон, и председатель колхоза ее среди деревенских подруг приметил, привечает пуще других. Арина молодая, здоровая, в работе спорая, не руки у мамки – огонь.
Взял бы председатель мамку в жены, и жалел бы, и нежил. Глядишь, и другие ребятишки у них народились бы: смирные и покладистые, не ровня Дроне – безотцовщине.
Из-за него, окаянного, твердила бабка, не сложилась у Арины счастливая жизнь. Какой мужик чужой, дармовой рот в дом возьмет?
Направляясь на исповедь, Дроня решил попросить у Боженьки доброго жениха для мамки – председателя колхоза или другого, из непьющих и работящих, от которого у них бы получились хорошие дети. Разве жалко Дроне-утопленнику? Теперь все равно ему…
Захотел Дроня и в других проступках Богу признаться, которые он бездумно совершил, не по злой воле, а по чистому неразумению. А еще хотел поинтересоваться, верно ли, что только подлинное раскаяние снимет вину с грешного человека?
Библиотекарь учила его – можно, мол, многократно обличать себя и виниться, но Боженька посмотрит на кающегося и сразу отделит искренность от лицемерия. Поймет фальшь и притворство, на чистую воду выведет.
Если лжет человек, то не ждать ему Божьей милости. Участь его будет во сто крат горше той, которой бабка грозилась. Столетиями станет душа неприкаянной по белу свету мыкаться, не находя утешения, муки терпеть и живой гореть синим пламенем в страшном аду.
Мальчик приготовился было рассказать и про свою мечту смастерить самолет, как вдруг белобородый старик исчез. Дроня почувствовал на себе чей-то заинтересованный взгляд.
Приоткрыв глаза, он сквозь ресницы увидел знакомого ангела, который, сидя у окна, держал в руке гребешок и расчесывал им свои длинные волосы. Яркий луч солнца пронзал фигуру маленького божества и, струясь, переливаясь, играл его золотыми кудрями.
Дроня повернулся на лежанке и застонал.
И сразу же рядом с ним возник прежний старец, только борода у него из белой сделалась темной. Он внимательно, с тревогой смотрел на мальчика, а его глаза ласково смеялись и в них прыгали веселые огоньки. Тихим голосом мужчина подозвал ангела. Отложив в сторону гребешок, к изголовью подошла девочка.
Дроня разомкнул веки и увидел у ангела чистый блестящий лоб и задорный носик, в веснушках. Взгляд девочки лучился. Он проснулся.
– Вот и славно, – сказал Петр Иванович. – Очнулся малой.
И Дроня удивился, услышав у Боженьки крепкий раскатистый бас.
Укрытый в лоскутное одеяло, мальчик лежал на кровати в незнакомом деревянном доме, а рядом, радуясь его пробуждению, стояли бородатый человек и ангел, который обернулся обычной девочкой.
– Ожил, – засмеялась Аннушка и взяла Дронину ладонь в свои ручонки, и он от неожиданности тут же забрал у девочки руку. Но сразу пожалел: прикосновение оказалось приятным.
Он огляделся. Окна небольшой, но светлой комнаты выходили на опушку, на которой красовалась береза. Листья с нее почти облетели, и голые ветки сиротливо тянулись в избу, в тепло, будто просясь в гости.
Вечернее солнце медью окрасило пол и стены. Дроня взглянул на потолок и вверху, у самых балок, увидел гирлянды березовых веников и вязанки подсыхающих трав. Пахло зверобоем и душицей – лесным лекарством. Нитки сушеных грибов, похожие на бусы, протянулись вдоль печки. У порога висели охотничьи ружья.
– Гость пожаловал, – вдруг сказал Петр Иванович, приглушив голос, и кивнул на подоконник.
У раскрытого окна сидел бельчонок.
Радостно вскрикнув, девочка устремилась было к зверьку.
– Не вспугни, Аннушка! – остановил дочку лесник.
Девочка замерла на месте.
– Смотри-ка, – сказал Петр Иванович, – полакомиться пришел.
Не обращая внимания на людей, бельчонок запрыгнул на стол и, накрыв рыжим пушистым хвостом посуду, расположился между чашками, сахарницей и вазочкой с вареньем. Лапками вытащил из кулька конфетку и ловко вынул ее из блестящей обертки.
Сладость бельчонку пришлась не по вкусу, и он потянулся за баранкой. Схватил сушку и аппетитно захрустел, заставив детей громко рассмеяться.
Чтобы ребята не вспугнули зверька, который смело хозяйничал в доме, Петр Иванович сделал Дроне и Аннушке страшенные глаза, призывая не очень шумно веселиться. И хотя взгляд лесника был грозен, глаза его сияли добротой и задором и сам он еле сдерживался от смеха, и от его вымученных, шутливых страданий детям стало совсем невмоготу.
Аннушка зажала рот рукой, а Дроня с головой спрятался под одеяло, оставив неприкрытым глаз. Продолжая наблюдать за бесцеремонным гостем, безмолвно сотрясался от хохота.
Сушка оказалась вкуснее. Бельчонок быстро расправился с едой и аккуратно подобрал просыпанные на стол крошки. Прихватив с тарелки сухарь – про запас, отправился восвояси. Прыгнул на подоконник и махнул на березу.
Проводив бельчонка, все громко не таясь рассмеялись.
– Это Тимка. Он ручной, – сказала Дроне девочка. – Он на елке, в дупле живет. Каждый день к нам заглядывает. Вот поправишься, я покажу тебе его домик. Тебя как зовут?
– Дроня, – ответил мальчик, и кровь прихлынула к щекам.
При виде добрых, заинтересованных глаз девочки, обращенных на него, он почувствовал необычайное смущение. Сморщил лоб и нахмурился.
– Я Аннушка. А это мой папа, – показала девочка на лесника. – Он тебя из болота принес, полуживого.
– Дроня? – переспросил Петр Иванович. – Что за имя такое? Не припомню я, чтобы в наших краях кого-нибудь так называли.
Вопрос мужчины поставил Дроню в тупик. Он растерялся.
При рождении мамка дала ему имя Степан, а по фамилии они были Ларионовы, но все деревенские звали мальчика Дроней, Дроном.
Отца своего он не знал. Мать с бабкой хранили молчание, а сам расспрашивать Дроня о нем не решался. Чувствовал, что таили обиду женщины на его отца, а значит, ничего хорошего не рассказали бы. Решил, что ему лучше пребывать в неведении. Осознавать, что папка жив и не желает знать своего сына, было мучительно горько.
Неизвестность открывала большой простор для фантазии: можно, к примеру, похвастаться отцом перед ребятишками. Мол, его папка – герой, и каждый день рискует жизнью. Военным, летчиком-испытателем или, на худой конец, бесстрашным пожарным мог считаться его отец. Или даже геройски погибнуть, людей спасая.
Злые языки шептались, что отца у Дрони отродясь не водилось, а мать нагуляла ребенка от заезжего молодца – однажды в их деревне целый месяц жили геологи. И бабка как-то случайно обмолвилась, что серьезный и неразговорчивый постоялец по фамилии Дронов как-то квартировал у них в доме, а она и обстирывала его, и кормила. Вот и все, что мальчик знал об отце. Да только отцом ли был ему этот Дронов? Может, брехали люди, лишнего наговаривали. Домыслы, сплетни.
При рождении мать записала малыша на свою фамилию, а отчество он получил от деда. Только все упорно в деревне называли мальчонку Дроном – когда обращались по-взрослому. Сверстники кликали Дронькой. Дронюшка, Дроня, говорила ему мать, когда хотела приласкать сына.
– Не Усти ли Ларионовой ты сынок? – вдруг спросил Петр Иванович.
– Ейный. И бабка у меня Василиса.
– Дом ваш у речки нарядный, в синий цвет выкрашен. Ставни резные. Много окон в доме. И палисадник с сиренью.
– И крылечко высокое, – подтвердил Дроня и вспомнил, что волнуются, небось, его мамка и бабка, что он так надолго запропастился, домой не идет.
Ушел в тайгу засветло, ничего не сказав им, а теперь уж, по ощущениям, дело к вечеру близится, солнце клонится к горизонту. Точно топленым молоком, дом наполнился светом.
Дроня бросил взгляд на стены и потолок, по которым, точно живые, двигались блики солнца, обнажая в дереве сучки и неровности.
– Волнуются небось твои мамка с бабкой, – отгадал его мысли лесник. – Но это мы скоро поправим. Ты, Аннушка, угощай гостя. Небось оголодал он, пока пребывал в беспамятстве. А я схожу к пристани и доложу деревенским о том, что нашелся путешественник. Пусть родным сообщат. И что погостюешь ты у нас маленько – пока не поправишься.
Петр Иванович стал собираться.
– А давно я здесь? – спросил Дроня.
– Уж третьи сутки прошли. Ослаб ты сильно и озяб в холодной воде болота плескаться. Пока нес тебя в дом, ты зубами, как волк, лязгал. Думал, спину мне обкусаешь, – засмеялся лесник. – В бане купал тебя, хлестал веником. Неужто не помнишь?
Петр Иванович удивленно посмотрел на Дроню синими и лучистыми, как у Аннушки, глазами.
Мальчик не ответил. Он увидел на себе чужую рубашку с длинными рукавами не по размеру – наверное, лесника одежда. А ведь был в куртке, сапогах и весь перемазан тиной. Жаркую баню и березовый веник он тоже не помнил. Память сохранила лишь боль скованного ледяной водой тела и гнилую топь, желтую от морошки.
Братство землекопов
У сторожки, где жил Дрон, суетился начальник. Завидев сторожа, он побагровел от злости и, побежал навстречу, не думая о риске упасть на льду. Накинулся на Дрона с упреками:
– Где носит тебя? Почему ключи не оставил? – рыкнул.
Перед въездом на кладбище выстроилась похоронная процессия. Катафалк, утопающий в траурных венках, с приглушенным мотором стоял за воротами. За ним вырос длинный хвост из автобусов и автомобилей. Из открытых дверей раздавались приглушенные рыдания. Неподалеку, покуривая, нетерпеливо посматривая на часы, в утомительном ожидании прогуливались похоронные агенты.
Керим вырвал у Дрона связку ключей и побежал к посетителям.
– Песком потруси! – катясь по льду, гневно крикнул сторожу.
Гулко громыхнуло железо, и ворота открылись. Бодро загудели моторы, заиграл похоронный марш.
Керим нервничал.
Лебезя и прогибаясь в талии, он заглядывал в недовольные лица агентов, что-то объясняя в свое оправдание, то и дело показывая рукой на Дрона, по вине которого произошел неоправданный сбой в работе.
Наконец, вспугнув ворон, колонна медленно двинулась в глубь территории. Кладбищенский город огласилось плачем и причитаниями.
Дрон вошел в дом. Люськи и след простыл. Он быстро облачился в спецовку и отправился на стройку.
…Утро выдалось сырым, но теплым. Слепя, солнце с аппетитом лизало почву. Дышалось легко. Под натиском все возрастающего тепла снег истончался, превращаясь в тонкую ажурную вязь. Казалось, кто-то заботливый укрыл могилы дорогим, сверкающим, искусно связанным покрывалом.
Бригада была в сборе.
От электрического столба на дороге к строительной площадке протянули провода. Согревая мерзлую почву, гудели радиаторы. Намечались линии могил.
Покойники, которых скоро доставят в здешние края, возможно, еще полны жизни, подумал Дрон, прицеливаясь острой лопатой к оттаявшему кому земли. Кто-то завтракает, а кто-то, быть может, еще нежится в постели. Многих заботит мысль о том, как удачнее сэкономить или куда выгоднее вложить финансы. Иной ловчит. Кто-то считает барыши. Жизнь кипит. А они – ударники-могильщики – вышли в поле, встали в ряд. Скоро сюда подвезут тех, кто сейчас по горло занят.
Подошел Керим и указал на землекопов, которым нынче выпал жребий обслуживать похоронную процессию.
Мужикам повезло. Им надлежало прибыть к подъехавшему катафалку, снять гроб и отнести его к могиле. После торжественных речей и прощания с усопшим они забьют крышку гроба. В яму, выстланную свежим ельником, на веревках опустят ящик с усопшим. Под немой ступор стоящих в оцепенении зрителей, наблюдающих за их ловкими, слаженными движениями, засыплют могилу землей. Поставят крест.
Обслуживать похороны считалось приятным бонусом к основной работе: счастливчикам перепадали выпивка и чаевые. Хоть и трудились землекопы среди покойников, но сами-то были живыми. Значит, каждый имел острую нужду заработать, словить удачу.
В коллективе работали и одинокие, и семейные люди, у которых имелись дети или престарелые родители. И всех без исключения угнетала проблема жилплощади. Поэтому каждый старался из кожи лезть вон, выслуживаясь перед Керимом. Подмазавшись к руководителю, надеялся заполучить лишнюю копейку.
Радость от удачи быть призванным на шабашку отравляли издержки профессии. Одно дело, отстраненно копать могилы, напрямую не соприкасаясь с горем, слезами и причитаниями по покойному. Совсем иное, если вовлечен в происходящее событие напрямую. Бывало, и загрубевших душой землекопов пронимало до костей, когда, к примеру, хоронили молодых или вовсе детей – на взлете жизни. Но всех без разбора жалеть не всегда получалось – сердца не хватит. Работяги старались, по возможности, честно трудиться, отрабатывая хлеб, и не подводить начальника.
Вызывая презрение, Дрон и здесь стоял особняком. Попасть на раздачу не рвался, казалось, деньги его совсем не интересуют. Однако ломового, жилистого мужика начальник и сам не отпускал с участка. Отправлял за «конфетками» кого похилее, чье отсутствие в бригаде оставалось незаметным, не отражаясь на результатах труда.
Петька был навеселе. Он балагурил, приставал к хмурым, подмерзшим спросонок дружкам, беззлобно задирался. Увидев Дрона, расплылся в широкой улыбке, обнажив щербатый рот. Двинулся навстречу обниматься, раскинув руки. Кривлялся и паясничал.
Дрон легонько отпихнул алкоголика и молча направился на задворки – к дальнему квадрату земли, помеченному флажками. Спустя время, к нему, пошатываясь, приковылял Петька. Они встали трудиться в пару.
Дрон пытался представить себе «новосела», для которого сейчас готовилась яма. Что за человек? Чем он сейчас занят? Полон жизни или пребывает в агонии? Молит Господа избавить от мук?
Молодым кажется, что возраст – страховка от смерти и впереди – бесконечная жизнь, думал он. Старики желают покомфортнее протянуть время и полюбовно договориться со своим дряхлеющим телом, которое с возрастом создает одни страдания и неудобства.
Возможно, и будущий новосел в свое последнее утро пьет чай или читает газету, нервничает. Торопится. И конечно, не думает о том, что его планам не сбыться. Тонка, невесома грань. Маленький вздох, выдох… Шаг – и земляной холмик.
Вскинув голову, Дрон посмотрел на просторный нетронутый участок пашни, который им только предстояло освоить, окинул взглядом коллег, разбредшихся по делянкам. Сосредоточенно глядя под ноги, работяги вгрызались в почву.
Лопата чиркала и звенела. Дрон с остервенением крушил мерзлую землю, которая от сильных ударов рук кололась на мелкие части. Верхний слой почвы хорошо нагрели пушки, и ее, теплую, дышащую, соскребали в сторону в кучу, не мешкая, пока она вновь намертво не сроднилась со льдом. Но глубже была твердь, металл не справлялся.
Дрон работал мощно, ритмично, получая удовольствие от игры мускул. Стало жарко. Густые клубы пара горячего дыхания окутали с головой, воротник заиндевел.
Экономные, слаженные движения рук отвлекали от посторонних мыслей. В голове зияли мрак и пустота, словно в подземелье.
В бригаде к Дрону относились настороженно. Он на дух не переносил пустых разговоров, полутрезвых братаний, липких шуток и избегал общества коллег. Оттого казался всем и высокомерным, и диким.
Нежелание идти на контакт вызывало к нему тихую злобу, которая Дрона не особенно донимала, если не считать неудобств от мелкой пакости сослуживцев. То, бывало, его добротные рукавицы кто-то себе присвоит, а взамен подсунет рваные, негодные. Иной злопыхатель мог подпилить черенок у лопаты.
Чаевые, которые перепадали им за халтуру, направлялись в общий котел и согласно сложной схеме расчетов распределялись между «своими». На остаток сэкономленных средств устраивались посиделки, которых Дрон сторонился. А его на них и не звали.
Появление Дрона в бригаде сопровождалось напряженным молчанием, гримасами и перешептыванием. Недобрые взгляды, обращенные в свою сторону, он чувствовал и спиной, и затылком.
Платили за труд по-нищенски мало и оттого работать вместе с Дроном сулило выгоду напарнику. Выносливый, мощный, как трактор, он с лихвой перевыполнял дневную норму труда. Но даже возможность пополнить карманы не прельщала землекопов в компанию к Дрону. Мало того, что любого в пот вгонит, так еще за весь день не обмолвится словом – скука смертельная.
Чада Божьи
Работяги, все без исключения, сострадали Петьке, который, по их понятиям, был и местным – считай, своим, – и старожилом в бригаде. Он вошел в коллектив в те времена, когда за городом, на большом пустыре, только задумывали строить кладбище. Ветераны помнили Петьку умным, добрым и трезвым: большим профессионалом системообразующего завода, известного в крае.
Дрон же был пришлым, чужим. Человек без корней – перекати-поле, которого занесло в их общество по непонятному случаю. К тому же, он был суров и не пьющ.
По неписаным законам мужицкого братства, тайно встречаясь с чужой женой, Дрон поступает подло. Пользуясь тем, что алкоголик не просыхал от пьянки, заманил глупую бабу в койку. А она при подобном раскладе, по причине хронического безденежья, грубости и обиды от мужика, рада лечь под всякого кабеля, который пожалеет матрешку и потискает. Вот и снюхалась с молчуном.
Как бы ни соблазняла красотой зазноба, рассуждали умники, не всякий герой с чужой телкой станет шариться – кодекс чести не позволит. Достойный уважения человек алкоголику непременно сочувствует.
Пьяниц на Руси испокон веков жалели, считая их не извергами, которые измываются над семьей, а божьими чадами. Бедокурят алкаши, проказничают, точно неразумные дети, творят неведомое в пьяном угаре – не по воле своей, а по безволию, стечению злых обстоятельств.
Причуды Петьки пересказывались с хохотом и гиканьем. То удивлялись, как в недоразвитом состоянии он однажды на пасеку влез и переворотил улья с медом, а пчелы пьяного чудака не обидели. Или смеялись, вспоминая, как он через высокий забор в чужой двор сиганул, в будку к свирепому псу наведался. И опять уцелел – хоть бы что смельчаку, восхищались. Видно, в рубашке алкаш народился: унес ноги целыми.
Петька хоть и алкаш и лупит со всей дури Люську, считали дружки, но законный мужик бабе. Еще неизвестно, каким образом горемыка прикипел к зелью. Не жена ли повинна в том? И сынок малолетний вырастал в их семье. Петька – не пряник заморский, не хрыщ посторонний, а отец родной сыну – от данного факта не спрячешься.
И какой с алкаша спрос? Только дурь и слюни.
В коллективе пили все – и молодежь, и ветераны. Считалось, что в профессии могильщика без водки не обойтись. Не зарплата – слезы, а условия труда незавидные, да и эмоциональный фон беспробудно депрессивный. Куда ни обратишься взором – повсюду горе. Порой чудилось, что участвуют в массовом переселении народа из одного края в другой – только успевали землю боронить и наделы вспахивать. Водочка после тяжелого дня, что маманя родная: и успокоит, и душу согреет.
Зверски, по-черному пил только Петька.
Дрон понимал, что их связь с Люськой постыдная, его поступок неоднозначный и копил в себе силы прекратить отношения. Но всякий раз, увидев зардевшиеся щеки гостьи, ее порыв навстречу, широко распахнутые глаза, полные счастья, или новую кофтенку, специально для него надетую, возбужденную суету, с которой она вынимала из сумки и выставляла на стол квашеную капусту, завернутый в тряпку пирог, теплую картошку с укропом, стараясь угодить, мужество указать ей на дверь вновь покидало Дрона. Он снова – в который раз! – принимался уговаривать Люську стать законной ему женой, но она напрочь отказывалась даже слушать. Прижимаясь крепче, шептала:
– Венчаны мы с Петрушей… Муж он мне перед Богом.
Нечаянная радость взросшей в потемках любви, озарившая каждому их жизненный путь, в которую с трудом верилось, и удивляла Дрона, и печалила.
Он старался не думать о том, что будет впереди: после ночи – утром, через неделю, месяц, в грядущую весну. Знал, что однажды наступит предел. Прямая ли, кривобокая – у каждого своя дорога. А какой у него путь, Дрон и не ведал, и не загадывал.
Шли день за днем. Дрон жил, согласившись быть для всех презираемым. Крепкий таежный парень, кремень, молчун – все выдюжит.
Лесная принцесса
…Происшествие на болоте накрепко сдружило Дроню и лесника. С той поры мальчик часто гостил у Петра Ивановича – благо, что деревня, в которой жила Дронина семья, находилась в паре таежных верст от сторожки, на другом берегу реки. И лесник привязался к мальчугану, как к родному сыну, а если им долго не удавалось свидеться, сильно скучал. Ждал и Дроню, и Аннушку к себе на каникулы.
Узнав о мечте мальчика смастерить самолет, помог с деньгами. Разглядев в нем непраздный интерес к летательным аппаратам, посоветовал после окончания школы поступить в авиационный техникум.
Петр Иванович рассказал ему и о геологах, которых однажды сопровождал на Дальнее болото. Показал фотографии и вырезки из старых газет. На одной из них мальчик увидел бородатого человека по фамилии Дронов. Выходит, это отец его?
Серьезный и не особенно жадный до разговоров геолог руководил экспедицией и хорошо запомнился леснику.
Озорная смешливая Аннушка была мастерицей придумывать развлечения.
То принималась затейница с птицами разговаривать, и Дроню приглашала в компанию. Чирикала, точно синичка, смущая залетных птиц. Притворившись дятлом, наказывала ему палкой стучать, в такт своей щебетне резкий, ритмичный звукиздавать. А Дроня рад радехонек играм.
Заливались трелью, сидя на крыльце, вторя лесной песне, а так ли на самом деле пернатые поют, даже Петру Ивановичу – бывалому охотнику, невдомек было. Плел корзину лесник в сторонке, помалкивал. Слушая детский птичий концерт, в бороду посмеивался.
Однажды захотела Аннушка построить для Тимки новое жилище. Думая о том, что настанут времена, когда холостяк бельчонок обзаведется семьей, дети дружно собирали мох и веточки. Появится у зверьков потомство, рассуждали, и им найдется интересное занятие: дрессировать малышей. Увлекшись затеей, Дроня пилил и строгал дощечки для домика – старался угодить Тимке.
Часто ребята ходили на пристань посмотреть на большой пароход с мачтами, мечтая о времени, что как только повзрослеют, отправятся в далекое путешествие.
На обратном пути Аннушка непременно тянула Дроню на кладбище. Не по душе мальчику был этот маршрут, но он плелся за подружкой, не желая подавать виду, что не по душе ему эта прогулка, неприятно. И что за страсть к могилам ходить, молча возмущался. Боялся, дрожал как осиновый лист, но терпел, тренировал волю.
Бывало, лесник вместе с Дроней встречал дочку у пристани. Когда кораблик показывался из-за поворота реки, мальчик чувствовал, как мощные удары сердца сотрясают грудь. С каждой минутой волнение становилось все ощутимей, а когда Аннушка сходила на берег, Дроня внезапно робел перед ней.
Приветливая, веселая и не по годам рассудительная девочка озорно смеялась и из ее глаз на мальчика проливался теплый лучезарный поток – тихий и успокаивающий. Дроня от смущения краснел и заикался и еще глубже втягивал шею в плечи, становясь ниже ростиком. Он казался себе нескладным, недостойным внимания лесной принцессы. Неуклюжие руки – ненужные плети – все время ему мешали. Стараясь не выказывать себя, мальчик все больше хмурился, а оттого выглядел совершенным дикарем.
Справившись с чувствами, Дроня принимался рассказывать подружке обо всем, что его занимало – о реактивном самолете, о шмеле с комаром и о геологе Дронове – отце своем, которого он непременно отыщет, как только повзрослеет.
Сам того не ведая, Дроня влюбился.
Дуб
– Эй, молчун! Оглох?
Дрон не слышал, что его окликали.
На строительную площадку подвезли буфет. Наступил перекур в работе.
Толстая Манька в валенках и в белом халате поверх шубы разливала из термоса чай. Она торопилась – ждали клиенты другого объекта, и громко созывая землекопов к прилавку на раздачу, сердилась за их медлительность. По воздуху плыл аромат кипятка.
После многочасовой напряженной работы лопатами и отбойными молотками руки землекопов плохо им служили. Железные кружки, нагретые горячей водой, больно обжигали пальцы.
– Печенье в лотке! – буркнула буфетчица, протягивая Дрону чай.
Он молча кивнул и отошел с кружкой в сторону. Запрокинув голову к небу, прикрыв глаза, подставил солнцу щеку. Ловил лицом свет.
На соседнем дереве громко трещал скворец.
Привольно растущий дуб с мощными корнями, который Дрон далеко обходил стороной, внедряясь в землю, оживлял унылый пейзаж. Вдруг представил, как приятно в жару было бы укрыться в тени раскидистой кроны. Два взрослых человека едва ли могли бы обхватить ствол, взявшись за руки, прикинул.
Дуб отбирал от стройки много полезного места. Корни мешали рыть ямы. Чтобы экономно распорядиться землей, которая здесь имела хорошую цену, с каждым годом все дорожая, начальнику пришлось поломать голову.
Сначала думалось дерево спилить. Если копать ямы впритык, экономя на проходах, размышлял Керим, то на освободившуюся площадь удалось бы втиснуть десяток могил. Выгода очевидна.
По правилам, семье усопшего полагался бесплатный надел на два погребения, но люди охотно приобретали землю «впрок», для будущих поколений. Опасаясь обесценивания денег, вкладывали средства в кладбищенскую недвижимость. На сухих, обустроенных, приближенных к дороге участках, цена земли равнялась стоимости квадрата жилплощади в городе. Кризис, инфляция, скачки на биржах подогревали азарт покупателей.
В городе шептались, мол Керим втихую землей приторговывал. Сплетничали, возмущались, но серьезных доказательств предъявить не могли, и потому ни у кого не возникало желания вывести успешного менеджера на чистую воду.
Поразмыслив, Керим принял решение не мелочиться и дерево не губить. Распорядился нарезать у дуба большие добротные участки. Чувствовал в ладонях зуд – верный признак того, что не прогадает. Желающих обрести покой под сенью векового дуба найдется немало, рассуждал он. Глупо отказываться от возможности подзаработать. Проект был малозатратен и экономически выгоден.
Звездочка, зоренька
ЗВЕЗДОЧКА, ЗОРЕНЬКА
Несмотря на добротные зимние сапоги, меховую шапку и толстый шерстяной шарф, Василий Иванович продрог. Прикрыв глаза, он уже больше часа неподвижно стоял у могилы. Бледное солнце ласкало лицо, не согревая. Ледяные потоки воздуха с оттаивающей земли незаметно подбирались к его сухопарому телу, сквозь одежду.
На пригорке гомон птиц и журчание ручьев становились все явней, но здесь, в царстве холода, тепло было призрачным. Настоящую весну еще ждать и ждать, подумал старик, пытаясь двинуть задеревеневшими ногами, в попытке немного согреться. Пошатнувшись, крепче схватился за ограждение.
На небольшом столике у березы лежала его матерчатая сумка с пожитками. Он принес с собой в термосе чай, завернутый в газету пирог и толстую потрепанную тетрадь, с которой не расставался.
Старик прожил долгую терпеливую жизнь, типичную для людей своего поколения: с лишениями, заботами о хлебе насущном и неутолимыми надеждами на лучшую долю. Ничем примечательным или геройским в ней он похвастать не мог. Жизнь как жизнь, как и у многих.
Поскулить, пожалиться на судьбу он, конечно же, мог, но стыдился. Порой, в особо благостном расположении духа, считал, что Господь был к нему милосерден. Втихую самому себе осторожно признавался, что, по сравнению с иными, судьбой был обласкан. Вслух говорить о том опасался, боясь накликать беду.
В эту тетрадь старик всегда что-то записывал: свои рассуждения или умные мысли посторонних людей, которые он где-нибудь прочитал или услышал. Иногда ему удавались стихи. Когда настрой был на лирику, рождались строчки любви. Если что-то печалило, писал о родине, нечто высоко-патриотическое.
В последнее время многое в обществе старика неприятно удивляло. Душа кричала и плакала. Перо бранилось.
Отца своего Васятка не помнил. В лихие годы талантливого агронома, выпускника академии, по навету недоброго человека объявили предателем. Скоропалительно осудив, отправили в лагерь, и он сгинул.
Кроме него, старшего сына, у матери детей было, что гороха в поле – мал мала меньше. «Беда! Пропадут ребятишки!», – скулили соседи.
Василий не пропал, а выстоял. Долго профессию себе не выбирал – не модничал. О трудовом призвании в умных книжках читал, но лишь ухмылялся, не завидуя. Рассуждал о призвании с легкой иронией и оглядкой на обстоятельства. Смекнув, что офицеров советской армии государство жильем и приличным пайком наделяло, выбрал надежную профессию кадрового военного. Превратил практичную профессию в призвание.
Когда пришло время жениться, ему приглянулась смирная и покладистая портниха Тамара – девушка с кротким нравом и золотым сердцем, чуть старше него. Прикинул, что разумнее жизнь строить с серьезной, не избалованной жизнью спутницей. Трепет души и любовная страсть в расчет не брались. Если что-то порой шевелилось в груди… Так это сердце, считал. Мышца, которая толкает кровь.
За долгую жизнь он был свидетелем многих семейных драм, когда влюбившись без памяти, мужчины теряли рассудок. Часто за скороспелой свадьбой наступали трезвые будни, и семейная жизнь трещала по швам. Беда, считал офицер, когда прикипишь к пустому бесполезному человеку. Любовь окаянная, болезнь и сочувствие.
С Тамарой создали крепкую семью, с годами прижились-слюбились. Жизнь наладилась. Родились дети. Офицер стал писать стихи.
Василий Иванович раскрыл тетрадь.
«Я назову тебя звездочкой, только ты раньше вставай… Я назову тебя зоренькой, – только везде успевай…», – записал он однажды слова полюбившейся песни. Зачем влюбляться в кого попало, соглашался он с авторами красивой композиции, если, не теряя голову, можно с молодости сойтись с трудолюбивой не привередливой женщиной без прикрас. Как без крепкого тыла?
В этой пухлой тетради – целая жизнь.
Василий Иванович положил озябшую ладонь на страницу, испещренную буквами, и внезапно налетевший ветерок зашелестел страницами. Зашептал…
Вдруг старика охватила дрожь. Он глубоко вздохнул. Беззвучно заплакал, сотрясаясь худыми лопатками.
Грех жалиться, вслух сказал он кому-то и всхлипнул.
Семья – надежная крепость. У детей и образование, и добротная профессия.
С Тамарой, считай, только год не дожили до золотой свадьбы – не дотянула бедняжка до красной даты. Уходила тяжело, мучилась.
– Без смеха твоего… и голоса… Без ласки твоей… – надрывно выдавил он, обращая взор к небу. – Звездочка моя… Нету мочи…
Нельзя раскисать и роптать на судьбу, тут же боязливо подумал, – большой грех. И ноги ходят, и сердце стучит. В дни, когда чувствует себя сносно, в нем по-прежнему просыпается страсть покомандовать. Значит, еще жив, курилка.
Только к чему жизнь без любимой, вздохнул..
– Жизнь не мила, – Старик взглянул на фотографию на кресте. Тамара улыбалась ему.
Внезапно Василий Иванович услышал вдалеке натужный звук машины. Повернул голову и увидел, как в стороне от дороги, буксуя в глине, к свежим делянкам продирался катафалк, а за ним ползла лента автобусов и автомобилей. Крепкая, скованная льдом дорога, по которой они со сторожем ранним утром направлялись к могиле, превратилась в хлипкий студень.
Отвлекшись на громкий крик птиц, он обернулся к насыпи. У перевернутого бака с мусором, в котором лежали сухие ветки, истлевшие венки, камни и прочий хлам, вороны ссорились из-за еды. Черные траурные ленты, обтерханные и полинялые, валялись на снегу среди пустых бутылок, пластика, бумаги и остатков пищи.
Офицер брезгливо поморщился – терпеть не мог бесхозяйственности. Еще осенью его цепкий глаз подметил, что емкостей для хранения мусора на кладбище не хватает, а те, что имелись в наличии, быстро переполнялись отходами и освобождались нерегулярно. Птицы, бомжи, бродячие собаки и грызуны растаскивали грязь по территории.
Василий Иванович давно собирался наведаться к руководству и указать на антисанитарию и вопиющее бездействие. Рвался в бой навести порядок в подведомственном им учреждении.
Но пришла зима, и снег припудрил землю, запорошил ряды-улицы, заполнил рытвины на дорогах. Выбелил, выровнял, освежил и приукрасил пейзаж. Отвлек взор.
С приходом тепла снег просел и истончился, и перед глазами встала прошлогодняя, еще более удручающая, картина убогого ритуального быта.
Вдали громыхала техника. Сновали люди. Василий Иванович решил, что настало время встретиться с ответственными лицами. Когда речь шла о принципиальных вещах, офицер был непреклонен.
Закрыв поспешно тетрадь, сложив в сумку пожитки, старик решительным шагом направился к землекопам-строителям.
Перекур
Под курткой пекло.
Дрон чувствовал, как озорное, расточительное, по-ребячески задорное солнце растопило в груди лед. Губы дрогнули и помимо воли стали складываться в тихую, благостную, безмятежную улыбку. И сам он весь, как подсолнух, вдруг двинулся в рост. Щурясь, глотая запах талого снега, потянулся плечами и шеей, каждым своим позвонком, к высокому, ослепительно-синему небу. Стараясь не обращать внимания на косые взгляды ухмыляющихся сослуживцев, которые, находясь неподалеку, исподтишка наблюдали за ним, поплыл в тихом потоке блаженства и радости, без причины. Забавляя и одновременно раздражая мужиков, Дрон таял, но не мог сладить с собой: так хорош был весенний денек. Чтобы остудить жар, он рукой отыскал пуговицу, впустил под одёжку прохладу.
– Ты, Марфута, перестала нас пирогами баловать, – сказал Петька буфетчице, протягивая кружку для добавки чая. – Плесни-ка чуток. Вкуснее твоих не едал.
– Некогда с тестом возиться, – нехотя отозвалась Манька, не удосуживая алкоголика взглядом.
– И правда, Маня! Потеряла сыд!, – вступил в разговор долговязый Шурик, подойдя следом за шутником к лотку.
Играя косматыми бровями, он с интересом смотрел на суровую и неприступную, как скала, женщину и ухмылялся.
– Санэпидемстанция козни строит. С печеньем сподручней на выезде. Гигиенично, – буркнула буфетчица и повернулась к мужикам спиной.
– Приручила нас, черствая душа, к разносолам, а теперь что же? Врачи? Гигиена?
От горячего чая лицо Шурика разгладилось. Душа пела. Яркий солнечный денек призывал и его острить и балагурить. Работяги пытались растопить сердце женщины пылкими взглядами и неуклюжими заигрываниями, и он категорически не желал наблюдать неудовольствия буфетчицы.
– Мадам, вы ответственны за тех, кого приручили, – поддакнул Савелий – нескладный верзила в брезентовом костюме, заляпанном землей, без возраста и особых примет лица. – Антуан де сент Экзюпери. Маленький принц.
Савелия в бригаде считали академиком. В далеком, давно забытом прошлом, он корпел над диссертацией, а потом удачно защитился в Академии наук. Теперь при всяком удобном случае старался напомнить о важном моменте биографии, подчеркивая свое отличие от необразованных коллег. К месту и не к месту сыпал цитатами, важничал.
– «Белое небо крутится надо мною. Земля серая тарахтит у меня под ногами…» К нам, рудокопам, работникам приисков, нельзя относиться без должного почтения, сеньора Маня. «Я вытаскиваю, выдергиваю ноги из болота, и солнышко освещает меня маленькими лучами». Могли бы, драгоценная, проявить эмпатию, то есть душевную чуткость, – Савелий громко, театрально вздохнул.– Ты нам со своими плюшками, Марфута, заместо матери будешь… – Озираясь по сторонам, Петька откупорил бутылку и щедро налил в кружку водки. Резкий запах спиртного потянулся по воздуху. Залпом выпил.
Широко распахнув руки, под смешки и одобрительный гул дружков, пошатываясь, он шагнул к женщине-горе в намерении обняться:
– А ну дай, я тебя поцалую.
Манька энергично запротестовала и стала беззлобно отбиваться от Петькиных тисканий. От большой порции мужского внимания она зарделась и, сама того не желая, вдруг тоже широко разулыбалась.
– Душа моя, не желаете ли после работы составить компанию одинокому, недооцененному мужчине? – к Мане подошел и Василий – мрачноватый тип с прыгающим, колючим взглядом, – Как никто другой, надеюсь на взаимность. Конкуренции не потерплю, – Он показал Петьке кулак.
Сладкий весенний воздух и чай с печеньем обнаружили и в нем не раскрытый творческий потенциал.
– Опоздал, дружище! Я первый на раздаче! – возмутился академик. – Смирись, брат. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты…» Ты к лирике как относишься? В поэзии силен? – поглядывая на дружка с высоты роста, высокомерно спросил он Василия.
– Ты велик, Академик! Но моя сила – в корневом крене, – хохотнул тот в ответ и подмигнул Маньке. – Лирика – в корне! – Он живописно поскреб пятерней щеку, заросшую щетиной.
– Хватит лыбиться! Жрите скорее, кобели неугомонные! Некогда мне с вами лясы точить! – грозно прикрикнула Манька, в миг испортив всем настроение. – Это вам, бездельники, весну стеречь, а мне еще в Заречье с товаром. Таких, как вы, оголодавших, кормить. Во-он Керим-то идет, – Она показала рукой вдаль на приближающиеся фигуры бригадира со свитой. – Покажет вам начальник и лирику, и корневую силу.
– «Я ищу. Я делаю из себя человека»* (И.Бродский), – торжественно заключил Савелий, настраивая коллег на серьезный лад.
Оглашая воздух пронзительной трелью, в кустах веселился скворец.
Дрон макал печенье в стакан с кипятком и мокрым отправлял в рот – по воздуху плыл аромат жареных орехов и сливочного масла. Именно так, – опуская печенье в кружку, – они с Аннушкой пили чай в сторожке у лесника, с наслаждением глотая благоуханную сласть.
…Печенье крошилось. Дроне казалось, что, втягивая в рот горячую жидкость, он чересчур громко хлюпает. Торопливо отхлебнув, ставил чашку обратно на блюдце. Пока Аннушка не заметила его руку, изодранную в кровь болотными колючками, прятал ее под скатерть, хоронил рядом с другой.
Чай проливался на стол. Аннушка звонко смеялась над Дрониной суетой. Вставала за чайником, чтобы снова налить ему кипятка. А неловкий Дроня все больше хмурился. Держался стойко, как мог, только чтобы не расплакаться навзрыд, как девчонка, перед лесной красавицей, от смущения.
Деловой костюм Керим поменял на робу, обулся в резиновые сапоги выше колена. По скользкой дороге шел размашисто, казалось, не думая о том, что по неосторожности возможно падение в грязь. Его спутники – невысокая женщина в темном пальто, с сумкой через плечо, и кто-то еще, работягам неизвестный – еле поспевали за бригадиром.
– Людка, кажись, похоронный агент, – узнал незнакомку Шурик.
– Могилу идут выбирать.
– Наверное, кто важный умер.
Людмилу в городе знали как успешного руководителя похоронного агентства. От клиентов отбоя не было. Погребальная церемония в исполнении ее команды превращалась из заурядного события в душераздирающее зрелище. Коллектив процветал.
Шагая по рядам свежевыкопанных ям, Керим что-то оживленно говорил популярному менеджеру, указывая руками по сторонам. Они направлялись к дубу.
– Начальник-то наш юлит, – подметил Василий. – Того гляди, переломится.
– Выгоду чует, вот и старается, – лениво отозвался Шурик.
– Смотрите, к дереву прутся! – присвистнул Василий.
– На пригорке сухо и красиво. Клиенту дорогое место втюхать хочет. А что? Достойно, живописно. Лежать у дуба просителю придется по душе, – включился в разговор Савелий, оттаявший и подобревший на весеннем ветру. – «У Лукоморья дуб зеленый…», – запел.
– А по мне, все же у часовни лучше. Там асфальт, и снег регулярно трактор чистит, – возразил Петька.
– Суета в центре, как на базаре, – не согласился с ним Василий.
– Зато нескучно. Мило. Колокольный звон и прочие радости в праздник, – стоял на своем Петька.
– Это на любителя. Урбаниста, к примеру, и после смерти тишина и покой удручают. И на том свете душа просит огня, – хихикнул Савелий.
– Почем знаешь об том? В умных книжках читал? – съехидничал Шурик.
С важным выражением лица академик кивнул.
– А меня, мужики, если честно, скопление людей ввергает в депрессию, – пожаловался Семен, невысокий мужчина средних лет с тревожным взглядом.
Он стоял чуть в стороне от других, втянув голову в плечи, и все время пугливо озирался по сторонам, готовый в случае непредвиденной опасности первым дать деру.
– Превосходна уличная толпа в Генуе, – щурясь, произнес Савелий, растягивая и пружиня слова. – «Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа».
Медленно расплываясь в улыбке, академик с превосходством смотрел на недоумевающих работяг:
– Антон Павлович Чехов, коллеги, школьная программа. Каждый уважающий себя человек должен с сим чтивом ознакомиться, братцы, – прервав молчание, наконец, пояснил академик внимательной публике.
– Хороший был мужик Чехов. Нашего брата жалел, – тяжело вздохнул Шурик, косясь на прилавок, прикидывая, как бы незаметно от буфетчицы половчее стянуть из лотка печенье.
– Чего прячешься-то, пыжишься? – возмущенно воскликнула Манька. – На, жри! Бери, сколь хочешь! Али твой интерес не наблюдаю? Что ли не велю? – Она сердито толкнула по прилавку коробку. – Не в помои же нести! И ты карманы набей, – обернулась к Петьке, – сынка сладостью угостишь.
Петька подошел к буфету и запустил пятерню в ящик. Взял пару пачек и стал рассовывать печенье по карманам.
– И то правда, Марфута, благодарствую. Сынок у меня, я вам скажу, – произнес Петька, смущаясь, зажмурившись от внезапного приступа чувств. Восторженно замотал головой, не в силах совладать с порывом.
– Вот и славненько. Жрите, жрите, мужички, али мне жалко? – растрогалась от Петькиных слов буфетчица.
Пустые разговоры
В полдень солнце жарило, точно в летнюю пору. Интенсивно стал таять снег. От земли к небу протянулись нежно-молочные потоки испарины. Остро запахло прелой почвой.
– Не слыхали, кто умер-то? Поди, кто из русских? – спросил Василий.
– Как знать… Смотрите, уж обратно идут. Видать, не приглянулось мертвяку место у дуба. Дальше путь держат.
– Не по зубам местечко будет. Под дубом дорого спать, – откликнулся Савелий.
– Людке – да не по зубам? Не скажи, у нее клиентура богатая.
– Кажись, к армянам двинулись, – предположил Шурик.
– Видать, не русский клиент: южане чужих к себе не допустят, – сказал Василий.
– Ты почем знаешь? – спросил Шурик.
– Как не знать: не прижились на кладбище в ихнем краю ни Ивановы, ни Сидоровы. Сходи на экскурсию, коли не веришь, фамилии на крестах почитай. Наведайся после работы, фома неверующий! – ответил Василий.
– Че смотреть-то? Был, видел.
– И что?
– Будто в Ереван съездил!
– Красивый город, к слову сказать.
– Я тоже как-то в Ереване гостил, – поддержал разговор Семен. – Друг у меня там, в институте учились.
– При Союзе?
Семен кивнул.
– При Союзе все путешествовали. Ереван, Баку, Ташкент, Душанбе…
– Давно это было… Чудно!
– И не с нами сия история приключилась, кажись…
– Нынче в поезд не сядешь. С голодухи не сдохнуть бы!
– Красивый город Ереван сам прибыл к нам. И на билеты не надо тратиться, – засмеялся Василий. В блеске солнца его зубы сияли.
– Красивый-то красивый, но я лично и после смерти не согласен с чужаками рядом в земле лежать, – проворчал Шурик и полез в карман за сигаретами.
– Армяне не чужие нам. Православные, наши, – не согласился Семен.
– Наши, да не совсем. Живут кланом, по национальному признаку, на каждом шагу восклицая «мы – армяне!» Не дают всем о том забыть.
– Малая нация. Не напомнишь – затопчут.
– Не соглашусь здесь с тобой: семейственность – что плохого? Если армяне тебя принимают в семью, даже в качестве друга, соседа, знакомого, ты чувствуешь невероятную теплоту… очень теплый народ.
– Жить общиной – прекрасно! И защита, и воспитание, что плохого?
– А мы о себе не помним, скромнее все ж будем.
– А по мне, лучше все же лежать с армянами, чем, к примеру, с татарами, – сказал Шурик.
– Ты не русак, коли так говоришь! – возмущенно воскликнул Савелий. – Русский человек интернационалист по природе, – сказал Василий,
– Я не русский? – возмутился Шурик. – А кто же я, по-твоему? Татарин?
– Татарский аул – это туда, на восток, – махнул рукой Семен в противоположную сторону. – Мусульмане чужих к себе на дух не допустят. Отвоевали втихую кусок на кладбище и свои порядки во дворе насаждают.
– Благородно наступают, не агрессивно. Смирением и массой берут.
– Чудно! А нас, русских, будто в низину смещают, – громко вздохнув, сказал Шурик, с горечью плюнув под ноги.
– Потому что никудышные хозяева мы у себя на земле. И в миру, и на кладбище.
– А соседний, пустой, загон чьим будет? – Василий красноречиво посмотрел на собеседников, зло ухмыльнулся. – Что думаешь, брат? – обратился он к Шурику.
– Ту землицу бригадир покамест не трогает, временит. Брехали, торг умный ведет. Вроде, как посулил некто Кериму большую награду. Вот и глохнет пустырь, – отозвался Семен.
– Потянет маленько, и татары мечеть там построят, подсуетятся, – буркнул Шурик.
– А что же? Не исключено.
– Все же чудно, мужики! Мы и на кладбище вроде чужаков будем. И в жизни, и после смерти итог один. Чудно! – Шурик громко выругался.
– Ага, а нашего брата туда, – Василий показал рукой в сторонку от дуба. – И пониже, и погаже.
– Русскому Ване и после смерти не привыкать грязь месить. При жизни нет света, и на том свете темно, – неожиданно рассмеялся Петька.
Смех у него получился неестественно оживленным, вымученным.
– Интересно, сколько Кириша выклянчит за место у дуба? – прикинул Савелий.
– Уж не прогадает, не переживай. Отец родной он тебе, чтобы о том беспокоиться? – Василий злобно сверкнул глазом.
– Твое дело – грызть землю, дурная башка. Копай, крот! Без нашего изволения начальнички гладенько порешают вопрос. Пыхти и сопи, не озадачивайся! – злобно отозвался Шурик. – Лишних вопросов не задавай.
– Депутат на прошлой неделе умер, единоросс. Слыхали? – перейдя на шепот, вдруг сказал Василий. Его осенила догадка.
– Богданов.
– Точно, он! Так вот, сынок партийца нашему Кирише за усердия Ауди отписал, новую! Вот и старается начальник, из кожи лезет. Для него ищет место, уверен!
– Скажешь тоже – новую! Сто тысяч пробега! – презрительно присвистнул Шурик.
– Для Ауди это не срок. Фрицы мастаки авто клепать, – возразил Василий. – Прикинь, как плотненько ихние танки расползлись по миру. Авто-оккупация.
– Это смотря где ездить. Если по нашим колдобинам да выебинам… – сказал Савелий и сделал паузу. Подождал, пока утих мощный, оглушительный грохот здоровенных глоток в ответ на его слова. – Пардон, выбоинам… – поправился Савелий, тоже хихикая. – Тогда машине хана. Иное дело по автобану километры мотать.
– БМВ все ж получше будет. Солидно. Я бы БМВ себе взял, – сказал Семен.
– Взял бы, да не дают, – рассмеялся Шурик. – Даже китаец не по зубам будет нам.
– Выходит, чтобы жопу в приличной машине греть, всю жизнь надо без продыху вкалывать?
– И жизни не хватит, не сумлевайся. Один ремонт встанет в копеечку.
– Люди зарабатывают все ж, крутятся.
– Нашему брату о подобных приобретениях и грезить не стоит – для здоровья вредно даже думать о том, – удрученно вздохнул Василий.
– Если уж и помечтать о хорошем нельзя, то один путь, мужики, – напиться.
– Или повеситься, – зло сверкнул глазом Шурик.
– Я вот что скажу, друзья: главное в жизни – позитивно мыслить, – сказал Савелий. – Наукой доказанный факт! Потому как любая мысль следом настроение тянет. Балагурь, не грусти, думай о хорошем, – будь в шоколаде!
Стараясь примирить коллег, Савелий изобразил улыбку, похожую на оскал.
– Забыл, где находишься? Не в кулинарии работаешь. И не в магазине клубничном. Какой позитив, если холод собачий, и покойники день и ночь, – вдруг не на шутку рассердился и Василий.
– Наш начальник тоже с мертвяками работает, а смотри ж, как взлетел. Орел! У него, думаю, на душе гаже нашего будет. Ты сеятель, работник полей – считай, белый воротничок. Благородным трудом занят, боронишь землю. «Сеешь плевелы с пшеницей, хлеб людской и божий цвет», а он целый день на виду, с депрессивными людьми.
– Ты Керише в душу с лампадкой заглядывал? Почем знаешь? Может, у него райские птицы поют.
– Не с людьми бригадир работает, а с трупами.
– Состояние на прахе сколотил – умен! Учись, дурная башка!
– Трупы – те же люди, хоть и бывшие. Все мы клиенты сего заведения и лишь временно живы. "На земле умирают и плачут, и ручьи бегут нараспев" (Р.Рождественский)
– К людям завсегда подход нужен, не каждый сможет найти, – сказал Семен.
– В выигрыше окажется тот, кто сумеет обуздать эмоции. Наука! – Савелий широко улыбался, призывая землекопов подключиться к его радости. – Нельзя дать чувствам пленить себя. Начнешь гундеть – тоска зеленая… Смотри-ка, каков нынче денек: «ширь пустынная открыта зеленеющей весне…» – Он распахнул руки, желая обняться с небом.
– Коли хочешь легких заработков – шлепай на биржу акциями торговать. Деньгой разживешься, – не унимался Василий.
– Весна не за горами, мужики. Солнце шалит! Прекращайте нудеть!– Шурик подвел черту под разговор, тоже поднял руки и с удовольствием, до хруста позвонков, потянулся.
– «Сияет дух сиреневый, волнуемый листвой! Свирелевый, игреневый, день пахнет синевой», – запел Савелий. (Эльдар Охазов)
– Эка ты загнул! Свирелевый, игреневый – поди выговори! Язык сломаешь! – восторженно присвистнул Шурик.
– Красиво, образно, – похвалил Петька.
– На бирже воздухом торгуют, – не желал сходить с волнующей темы Семен. Распахнул куртку, подставил солнцу щеку и зажмурился.
– Весна греет до седьмого пота. Жарко, как в бане.
– Воздухом торговать? Не скажи! Вредная профессия – нервы, стресс, – упорствовал Василий, но без прежнего азарта к разговору. – Мрут брокеры, как мухи.
– Вредная, но денежная, – вяло откликнулся Семен.
– Америкосы биржи создали. Ротшильды, Клинтоны. Устроили мировой заговор против человечества, – набрел Шурик на новую тему.
– Вот и выбирай, дурная башка: нет денег, но живи спокойно. Рой яму, сажай и притаптывай. Или крутись, нервничай, елозь, но долго не протянешь, – подытожил Василий.
– Свобода волеизъявления, – поддакнул Савелий. – «Я ищу. Я делаю из себя человека».
– По мне, лучше быть философом и сохранять верность надгробиям. Сколько ни заработай, итог один – крест и яма. Повезет – у дуба схоронят, не повезет – на пустыре гнить будешь.
– Выходит, все в назначенный час сюда придут. Все здесь окажемся.
– А Людка-то как старается, в грязь лезет. Того гляди, в яму прыгнет, – заметил Шурик, разомлевший от солнца.
– Видно, и в правду, важный клиент подвернулся, кому-то больно угодить хочет, – откликнулся Семен.
– Людка молодец, – одобрительно сказал Василий. – Спорая, скорая. Бьюсь об заклад, в работе ей нет равных.
– Точно!
– Вроде бы скучное, тоскливое событие – похороны. Могила, гроб, венок, транспорт, поминки.
– А оформление бумаг? Изведешься! – подхватил Шурик. – Знаю лично, тестя недавно хоронил.
– Но Людка так извернется, так рассыплется.
– Молодец баба.
– Проникновенные речи, свидетели, милые сердцу детали.
– Одним словом, душевно и зрелищно. Знаю, сам присутствовал не раз.
– Я тоже на ее представлениях бывал – удовольствие…
– Ей не на кладбище работать, а в телевизоре ток-шоу вести.
– Любой рейтинг затмит. Говорит просто, а душу рвет. Слезами умываешься, будто младенец.
– Настоящий талант в землю зарыт.
– Креативно, – поддакнул Савелий.
– Я одно не пойму, – немного замявшись, робко сказал Семен, не решаясь вклиниться в восторженный поток славословий коллег с внезапно посетившим его сомнением, – Вот я думаю, мужики… Как Людка… после контакта с покойником в своем личном хозяйстве управляется? Чудно как-то…
– А что чудесного-то? – не понял Василий.
– Как она свойского, то есть персонального мужика – теплого, живого, охочего – чует? После похоронных забот? Возьмет его, к примеру, за орудие, а оно что же…
– Выстрелит?
Землекопы загрохотали, вспугнув стаю грачей. Громкий хохот здоровенных мужских глоток огласил упокоенный пустырь.
– Чудно!
– Что есть жизнь? Что есть смерть? Две ипостаси сознания, – утирая глаза от проступившей от смеха влаги, изрек Савелий. – Человека ждет воскресение, значит, он не умирает. Так в Библии сказано.
– Лишь для святых и праведных мучеников слова твои верными будут, а не для нас, дуралеев, охульников. Не по нашу душу премудрости эти.
– Выходит, мы и на том свете изгоями будем…
Внезапно радость безвинного трепа потухла. Каждый задумался, о чем-то своем.
Солнце слепило глаза. Обезумев, на дубе чирикал скворец. Спорая весна, резвый ветер без жалости топили снег, прогоняли прочь зиму, торопили время.
– Людка сама к гробу не подходит и покойников не разглядывает. Это Алку пожалеть надобно – трупы бальзамирует. Мейкап мертвякам наводит, – нашел новую тропинку в разговоре Шурик.
– Алка – врач.
– В любом деле, мужики, привычка нужна. Ко всему человек привыкает, – сказал Савелий, тяжело вздохнув, и на этот раз все с ним удрученно согласились. Надолго замолчали.
Устя
…Дронина мамка председателю колхоза не досталась. Повздыхал герой, петухом походил вокруг неприступной женщины, шпорами погремел – все напрасно. Не позарилась Устиньяна завидное положение ухажера иобещание жениться. Дала решительный отпор натиску.
Уж лучше в непосильных трудах жизнь вести, решила она, чем идти с малолетним сынишкойв чужой дом – не ровней мужу, а приживалкой. Не желала слышатьза спиной завистливый шепот соседей: мол, сбежала горемыка в богатый дом от нищеты, на хлеб дармовой позарилась. Чужое семейное гнездо разворошила и малых детей, при живом-то отце, сиротами сделала: несвободным был председатель.Тайком, воровато – в поле или на сеновале – встречатьсяс воздыхателем, как иные подруги с любовниками, не по нутру было Усте. Гордая, себя уважала.
Хотя – в ее-то незавидном положении!Бабысудачили: мол, могла бы и не блюсти себя, допустила бы безвинную вольность. Кто посмеет порченую девицу в том упрекнуть? Снисходилилюди к Устинье, жалели. В юную порунагуляла девка сынишку. Грех ли, если по большой любви? Родила сына Степку от пришлого человека – поступок для деревенского жителябезбожный и проклятый. Упустили родители дочь, порицали по дворам, недосмотрели. Выходит,плохо воспитали,– без страха в душе.Что уж теперь оборону держать?
И разве могла мать Устипредвидеть, какую беду приведут вдомпроклятыегеологи, которых она от бескормицы обслуживала да обихаживала.И мысли не былоо том, что еенабожная и рассудительная дочкапотеряет головуотлюбви.
Белокурый широкоплечий геологпо фамилии Дронов с черной бородой и темными глазами-углями словно околдовалдевку,вовлек семьюв грех.
В деревне каждый шаг на виду, не утаить шила в мешке. Строгая мать Усти долгоне верила расспросам соседей, их намекам двусмысленным. Думала, сплетничаютбабы, языки чешут. От скукимаются.
А как съехали со двора геологии, то и сама заметила неладное в поведении дочери. Затосковала Устя. Белый свет ей не мил. Местасебе от отчаяния не находила.Ничтоне радовало: ни рассвет тихий, летний, ни небо, полное звезд, ни смех подружек и забавы девичьи. Так страдала по геологу Дронову, что мать испугалась, как быхудого не случилось и не наложила бы дочь на себя руки.
Устя в поле – мать за ней следом.Огород дочь поливать надумает, и старая тут как тут: воду несет бычку, что неподалеку траву щиплет, вроде как лишний раз животинку напоить хочет.Глаз с Усти не спускала, по пятам ходила.Да, видно,раньше надо было девку блюсти, честь ее караулить.
По осени увидала, чтодочь раздобрела в боках, словно на дрожжах тесто. Приперла к стенке негодную, иУстя призналась в своей горькой тайне: мол, испорчена, и обрюхатил ее геолог Дронов. Завыла старая,точно дикий зверь, схватила вожжи ипринялась что было силы хлестать негодную изменницу.
Упала Устяна колени, согнулась в три погибели, глубоко схоронив под собой живот, рукамизащищая драгоценный плод. Ни стона, ни всхлипа, ни жалобы не услышала в тот вечер мать от дочери. Закусила девкагубу и терпела, что было мочи. Ни единой слезинки не выронила. Лишь безумно горели зрачки,а лицоисказило судорогой. И жестокие побои материей словно бы радость несли, утешение.
Под зиму родился в избе мальчонка – крепкий, белолобый, на бычка похожий.Степка Ларионов, безотцовщина.
На Устю – невысокую, ладную, скопной пшеничных волос, скрытых под белым платком, – все до одного мужики в деревне заглядывались. Не былоравных ей ни в красоте и в стати, ни в работе. В трудовом усердии – на сенокосе или в коровнике – могла здоровенного бугаязагнать в пот, до полусмерти.
Ее чуткиеруки, спокойные в рукоделии и в ласке животных,таили недюжиннуюсилу, становясь камнем, когда, прогнувшись в талии, она тягала в скирду вилами клок сена, размером с гору.
Другого мужчину, кроме геолога Дронова,Устя больше не встретила. Женское счастье мимодевки прошло.
Услышав ночьюнеровное дыхание мамки, Дроня просыпался. Устя вздыхала, что-то шептала во сне, порой всхлипывала. Было страшно.
Их ветхий домик с высоким крыльцом, резными ставнями и палисадником, сплошь скрытым сиренью, по ночам ворчал, кряхтел и постанывал. Неясный, пугающий Дроню шорох раздавался из-за печки и подпола. Скрипело в чулане. Ветер привольно гулял в сводах крыши, раскачивал и гнул ее, словно играя пересохшими позвонками, проникал на чердак. Из каждого уголкажилища доносились жалобы, щелчки и постукивания.
За печкой хрипело – это умаявшись за день,отдыхала, набиралась сил старенькая бабка.
С той поры, как волки повадились в их деревню дратьовец и телят, в рокоте пугающих звуков Дроне чудилсяхищный зверь,который поджидалснаружиза завалинкой добычу-дуреху.
Стараясь нескрипеть половицами, мальчик вставал и на цыпочках пробирался ккровати, где спалаУстя. Влезал к ней на высокую перину. И только прижавшись к материнскому боку,утопаяв тепле, покое и неге, затихал.
Мамка тонкими, девичьими руками обвивала тщедушное тело сыночка,губами касалась стриженого затылка, и ночной страх, истязавший мальчика,уходил прочь.Сон окутывал с головы до ног, и онбезмятежно засыпал.
В эти часы тишины и усталости мамкаказалась ему болезненно беззащитной. Таясь при свете дня своей горячей любви к сыну: бабки ли мать стеснялась, перед которой чувствовала вину за семейный позор или колючих взглядов посторонних людей,невольно осуждающих ее за поступк,лишь ночью могла она без стеснения проявить так недостающие сыну любовь и ласку.
Греховный по факту появления на свет, Дроня с малых лет ощущал себя отличным от других детей в деревне – изгоем.
С восходом солнцамальчику доставались от родных лишь назидания, упрекии подзатыльники. В их семье не желали излишней мягкостью воспитать в нем слюнтяя и белоручку.
Знакомство
Манька сворачивала лоток. Ветер сносил со стола бумажные салфетки и хлестал клеенкой с пролитым на нее чаем. В бледно-коричневых лужицах, растекающихся во все стороны, поднималась буря. Негодную посуду буфетчица отправляла в мешок с мусором, а чистую убирала в коробку. Сверху уложила непочатые пачки с вафлями и печеньем, сахар.
Женщина торопилась. Время перекура давно истекло, и краем глаза Маня видела, что издалека к ним направляется бригадир с делегацией. Спешила управиться с делами до их появления.
Василий Иванович подошел к собранию и среди землекопов, облаченных в строительную робу, узнал обитателя сторожки, в чье окно он рано утром стучал, с которым еще в темноте, шагал к могиле. Кивнул ему. Неожиданно для себя, Дрон вдруг обрадовался хмурому человеку.
Подобревшие от сладкого кипятка работяги с любопытством посматривали на сердитого зрителя, который внезапно появился на стройке внезапно, словно привидение. Стоя в отдалении, он молча наблюдал за бригадой, буравил каждого землекопа колючим взглядом. Прислушивался к разговорам, улавливал настроение.
Солнце, горячий чай и невинный треп сделали выражения лиц рабочих простодушно-беззлобными, похожими одно на другое. Уронит ли Манька упаковку с провизией, скажет ли что невнятное Шурик, набежит ли ветерок и станет, что было задора, гнать волны по клеенке, – по любому поводу их распирало смеяться. Хихикая и перемигиваясь, они поглядывали то на старика, то на Дрона.
– Погоди! Не складывай! – не выдержав, Василий Иванович и шагнул к буфетчице. – Ты что же, и дома так прибираешься, матрена неразумная? Руки бы тебе пообтесать!
Старик нетерпеливо выхватил из Маниных рук клеенку.
– Скатерть насухо вытирай, не плоди бактерии. Чему тебя только мать-то учила, дуреху! Бумагой суши! – повторил он и показал на стопку салфеток. – А ты чего скалишься? – вдруг прикрикнул он на академика, который с любопытством смотрел на их препирания. – Куда прикажешь бабе мусор нести? Контейнер хламом забит по горло! Горы мусора по земле! Кто убирать будет?
– А я почем знаю? – фыркнул Савелий. – Ты, дед, не по адресу обратился. Я не по этой части, – Он лениво отвернулся.
– Языком болтать твое дело – вот твоя часть!
– Савелий – поэт, – вступился за коллегу Шурик, приобняв друга.
– Поэт, как же! Пушкин! Знаю я вас, поэтов! Слыхал! – проворчал старик.
– А чем вас Пушкин не устраивает, гражданин? – оскорбился Савелий.
– Не болтайся! Чай выпил? Шагай в строй! – приказал ему Василий Иванович и вдруг увидел Петьку, который едва стоял на ногах. – Работнички! Золотая молодежь. И этот… Когда только наклюкаться успел? Чем поила его? Водки в кипяток подливала? – прикрикнул на Маньку.
– Начальник наш идет. У него и спроси, дед, про хлам и контейнеры, – миролюбиво сказал Савелий. – Я щас, мужики. В кустики отлучусь, мне по малой нужде.
Слова Савелия до глубины души возмутили пенсионера.
– Это что же, испражняться на могилах? – воскликнул он грозно и рукой схватился за грудь.
– Дед, шел бы ты своей дорогой! По-хорошему прошу, – подойдя вплотную, принялся увещевать старика Шурик. – Здесь кладбище, могилы… Лед, скользко. Ненароком споткнешься…
– Ах, ты! – повернулся Василий Иванович к ухмыляющемуся лицу, заросшему щетиной. – Грозить мне?
– Что ты, папаша! И в планах не было. Я тихий, мирный человек.
– Шурик – пацифист, – поддакнул Савелий.
– Не мешай нам, дедушка. Мы работаем, для людей стараемся. Сам-то ведь тоже не юноша. Сколько годков-то тебе? – Шурик с насмешкой смотрел на пенсионера.
– Обо мне не беспокойся, – сказал Василий Иванович, вдруг выдав голосом плаксивые ноты, – Это тебя, мил человек, не касается.
Силы внезапно оставили старика.
– Неизвестно, кого раньше из нас уложат в могилу, которую ты выкопал. Думаешь, если молодой кабель, то и бессмертный? Все Богом посчитаны.
– Не серчай, дед, – стараясь сгладить вину, добродушно ответил Савелий. – Я о том же толкую. О Боге надо думать, а не о том, где испражняться. Это мертвяку без разницы, а я все же пока живой. Отдохнул, чаю попил, самое время наведаться в кустики. Имею право отлучиться, батяня, – законный перекур! Думаешь, самому больно охота на ветру доспехи скидывать? Причиндалы студить? Весна хоть и блестит, но так за яйца схватит, зараза!
– Производственная необходимость. Биотуалетами не разжились, – захихикал Шурик. – И куда только профсоюз смотрит?
– Керим идет, – вдруг воскликнула Манька. – И еще кто-то рядом торопится, едва поспешает.
– Баба – это Людка, и с ними, кажись, отец Владимир.
– Он, точно! Вот священник нам и про Бога, и про судьбу растолкует. Речист поп, громогласен. Складно узоры плетет – не сразу выпутаешься, – сказал Василий, зевая.
– Не слова, а мед янтарный, – согласился с ним Шурик.
– Может, и говорит отец Владимир сладко, только чую я, не от сердца речи его. Все слова, как есть перевернуты, а потому до последнего лживы, – возразила Манька, приглушив голос.
– И мне не внушает наш поп доверия, – согласился с буфетчицей Шурик. – Суетлив, шустрит не по чину.
– В глаза смотрит, жалость льет, цитатами библейскими, как горохом по мостовой, сыплет, именами святых великомучеников, словно броней, прикрывается. Для нас, рабов божьих, вроде бы старается, а вроде бы ему проповеди не относятся, для себя у него другой устав имеется.
– Другой подсчет, – поддакнул Шурик.
– Соглашусь на все сто! Робкого, тщедушного человечка, для которого мудрость источать пыжится, в толпе и не заметит, если не обратишься, перед взором не засветишься.
– Высокомерием отличен.
– В заоблачных далях парит.
– А он с Господом консультируется, – прыснул Шурик в кулак. – В интернете онлайн.
– Ага, в твиттере, – засмеялся следом Семен.
– Мед льет, а свое дело знает. Бумажками под рясой хрустит.
– Эх, на священника надо было выучиться. Попам хорошо платят.
– Это точно! У нас народ жалостлив. Любая бабка последний грошик за свечку отдаст.
– Бабки попов не интересуют. Им посолидней клиентов подавай.
– Как же, дурная башка! Бабки их чрезвычайно мотивируют, – захохотал Василий, заставив и дружков рассмеяться.
– Попы нынче с бизнесменами и депутатами дружат. Кооперация.
– Ихние грехи замаливают, коих не счесть.
– Эх, на попа надо было выучиться! – повторил Семен.
– Не по зубам тебе! Велика наука поповское ремесло изучить, дурная башка! Не каждому по силе.
– Думаешь, в физтехе легче? Поди поступи на физика.
– Все же, думаю, жизнь у попов не сласть, мужики. Поди помотайся по городам и весям, по захудалым деревням, себя порастрачивай! – подключился к разговору Савелий, возвратившись из кустов. – Али не видите, как отец Владимир старается?
– Гастролирует наш поп по приходам. Чем не рок-музыкант? – зло ухмыльнулся Семен. – Любезничает, юлит.
После перебранки с землекопами Василий Иванович немного успокоился. Но нахальные речи, в которые, сам того не желая, он невольно стал посвященным, снова сильно возмутили пенсионера.
– Слова сладкие, но все, как одно, книжные, не от сердца идут. Не верю ни единому, мужики. Каюсь, – продолжал жаловаться Василий, возмущая пенсионера.
– Как одно, выученное, вымученное, – согласился Шурик.
Василий Иванович привык, что в городе сплетничали, перемывали кости Кериму – известному коммерсанту, изворотливому и практичному – и старик ничего не имел против: заслужил. Но когда все без опаски принялись зло судачить о лице духовном, молча слушать негодные речи он не желал.
– Что ты мелешь? Окстись! – грозно рыкнул на Шурика.
Единодушное осуждение, с которым набросилась на местного священника нетвердо стоящая на ногах компания людей странных, даже внешним видом вызывающих оторопь, не на шутку встревожили старика.
И хотя речь шла о конкретном человеке, к которому Василий Иванович и сам не особенно благоволил, втайне считая его хитроватым, дельцом себе на уме, он интуитивно чувствовал, что подобное дело сродни хуле Господа, и это к добру не приведет.
Замолчи! Хотел он крикнуть Шурику. Молчи, дурная башка! Не неси околесицу!
По одному слабому нельзя судить о других достойных в церквах, о многих праведниках, о тысячелетней истории. Остановись, дурная башка! Не болтай, о чем не ведаешь, мысленно взывал старик к Савелию-умнику.
Не бери грех на душу, дурень, грозил верзиле Василию. Пропадет, канет в вечность тот, кто, растлевая и себя, и других, сии злые слова извергает. Сгинет и всякий, кто молча внемлет поганым речам, бездумно впуская в душу их яд и ржавчину.
С покушением на древний, устоявшийся и никем не отмененный порядок вещей, который являл церковный институт, противостоя хаосу в мире, в головах обозленных людей, старик не мог согласиться, яростно запротестовал:
– Не тебе судить! Господь, Отец наш, вложил свои слова в уста священнику! Потому и вымучены они и выстраданы! – Голосом, не терпящим возражения, громко воскликнул он, призывая работяг утихомириться. – Мученик Господь наш, великий страдалец.
Грозный окрик пенсионера заставил землекопов замолчать на полуслове, перестать ехидничать.
– Священны слова его, а значит, в них Истина, – произнес Василий Иванович громко и грозно, торжественно чеканя слова.
Вера
К монахам, попам и прочим церковным деятелям особенного расположения пенсионер не испытывал. К религии он относился со смешанным чувством страха, недопонимания и тайной надежды на скорое прозрение.
Вера едва теплилась в нем и была по-бытовому простой и необременительной, не затрагивающей духовных глубин, удобной для восприятия.
Мальчишкой он видел, как насупившись, неотрывно смотря в угол комнаты, сосредоточенно молился его отец, немного стесняясь себя в несвойственной ему откровенности.
Томясь, сын терпеливо ждал окончания общения с Богом.
Отдавая поклоны, родитель время от времени обращался суровым взором на скучающего Васька. Лишь на мгновение отрываясь от иконы, чтобы одним лишь взглядом приструнить сына за недостающее в подобном деле усердие, снова погружался в свою молитву. Зорко следя за баловником: участвует ли, не филонит ли, отец просил у Всевышнего для семьи лучшей доли.
Веры в подобных делах для Васька было мало – лишь скука и повинность, от которых хотелось поскорее избавиться. Помаяться час-другой со свечкой, переминаясь с ноги на ногу, изображая покорное смирение, и выдержав испытание, стремглав с радостью убежать на волю: к ребятишкам, в лес, на речку.
В зрелые годы, будучи членом компартии, Василий Иванович храм и вовсе обходил стороной.
Карьера кадрового военного шла в гору, и офицер опасался, как бы кто из «доброжелателей» не настучал в партком о его мировоззрении, не совместимом с пребыванием в организации. «Доброжелателей» особенных у него не водилось, и мировоззрение, к слову сказать, на обе ноги хромало. Но, как любой человек своего поколения, он осторожничал, думал наперед и побаивался на всякий случай, даже мыслей.
Своих сына и дочь он крестил тайно – не по вере своей, а по отчаянной просьбе супружницы – темной бабы, не желающей воспитать детей «нехристями». Кремень, вояка, но дал слабину: пошел у женщины на поводу, потому как ее отчаянная просьба была для офицера страшнее угрозы потери партбилет.
Детей обращали в веру в далекой деревне, на дому у знакомого священника, соблюдая конспирацию.
Строя судьбу, Василий Иванович в потусторонние силы не верил – всегда рассчитывал лишь на себя. Но после того, как священное таинство совершилось, запомнил тихую радость в душе. От неясной, восторгом обжигающей мысли о том, что его дети, хоть и тайно, примкнули к стаду Христову, то есть ступили в жизни на праведный путь, по груди разливалось блаженство.
Компромисс с коммунистической доктриной не смущал офицера. Он отличал явление и суть. Глубинное, выстраданное, привитое насильно, впитанное с молоком матери православное чувство веками защищало его род, хранило порядок в доме, семейный уклад. Василий Иванович смутно понимал, что пока «не то время» открыто в храмы ходить. К слову сказать, его туда и не тянуло.
Выйдя на заслуженный отдых, в церковь он по-прежнему почти не заглядывал. Шептал лишь в тяжелые минуты жизни, обращаясь к кому-то присутствующему, бесплотному, им явно осязаемому, разлитому по сторонам, незримо присутствующему во всем, что его окружало: «Господи Исусе Христи, сыне Божий, помилуй нас! Прости меня, грешного!» – трепетные слова, навеянные тихой поэзией и страхом немого отчаяния, которые в детстве силком заставила его выучить бабка, отвешивая подзатыльники лодырю. Знала темная, мудрая, старая, что настанет момент, когда они ему очень пригодятся.
– Молитву поп бубнит и на прихожан из-под бровей зыркает, – не обращая внимания на грозный окрик старика, продолжал подрывную работу верзила. – Шарит глазами по сторонам, все подмечает, ничего не упустит.
– Всевидящее око, – рассмеялся Шурик.
– А как иначе? – загромыхал дед, – Священник – поручитель Господа на земле. Приставлен нас, неразумных, стеречь и за нами присматривать. Слушать нас и в тяжелый час поддерживать.
– Не слушать, а подслушивать, – буркнул Василий, – иначе говоря, подглядывать. Чуешь, дед, разницу?
– Чтобы вердикт в судный день по нашу душу вынести, – захихикал Василий.
– Потому как секретарь Господа на земле, стенографирует.
– Досье ведет на каждого раба и в небесную канцелярию кляузничает, – включился в разговор протрезвевший на весеннем ветру Петька. – Ка Гэ Бэ…
– Попов в ихней академии обучают к прихожанину иметь расположение, подход ласковый. Рассуждать с благолепием, лить мед исправно, грамотно, – сказал Семен.
– Это так. Но не у всех получается. Не каждому удается науку усвоить, мудрено.
– А все для того, чтобы хомутом привязать к себе и чтобы ты, дурная башка, до скончания века за лаской поповской в церковь шастал, – глядя в сторону, зло изрек Шурик.
– Я так думаю, мужики: любовь, благодать, блаженство, – вещи посерьезнее наркотиков будут. Пристрастишься к душевному елею, так просто не отвяжешься.
Василий Иванович увидел, как после тихих слов Шурика мужики все до одного, как по команде, повернули головы к хмурому сторожу, его знакомому, который весь перекур стоял в стороне, сохраняя невозмутимый вид, не участвуя разговоре, и многозначительно переглянулись.
– Поди откажись от ласки. Слаб человек, тщедушен.
– Прикипишь душой к елею и точно пропадешь. Попы только этого и ждут, потому как их бизнес растет. и процветает. Свое лицедейское дело знают. Шустрят, звенят копейками.
– Кабы копейками! Скажешь тоже, дурная башка! Попы, как и банкиры, нынче не мелочатся.
"Уйду лицом в ладони"
Ни окриком, ни угрозами не мог старик совладать с потоком дерзких речей, как ни старался, и внезапно силы протестовать его оставили. Хаос, царивший в головах этих темных людей, их неприкрытый цинизм до смерти испугали пенсионера. Дикари высмеивали его и многих таких же, не отдавая и ломаного гроша за их жизни, полные страданий, забирали последнюю надежду.
Что за люди? Что за дым у них в головах? Враги, враги, холодея внутри, зашептал старик, прыгая взглядом по лицам.
Со страхом смотрел он на Шурика, который при каждом повороте беседы неизменно прыскал в кулак. С тревогой взглянул на важного, иронизирующего Савелия, довольного произведенным впечатлением от ловкого словца, которое ему удавалось вставить в беседу. Академик скучал по овациям и публике. Ставя слушателей в тупик, оратор тренировал увядающий ум, не думая о том, в какие сферы вынесут его потоки богохульства.
К чему приведут потуги?
Потом старик принялся наблюдать за сторожем, который одиноко стоял в сторонке. Прикрыв глаза, Дрон молчал и, казалось, растворился в неге. Слышит ли он дружков? Думает ли? О чем? Темная лошадка, себе на уме, заключил старик про смирного человека.
Враги, враги, пронеслось в голове. Засада… Глумятся, ёрничают. Все, как один, предатели.
Внезапно Василий Иванович ощутил, как землекопов отхватила злость, которая потекла по направлению к сторожу. Слова о яде елея и любви-наркотике не на шутку возбудили коллектив. Неприятными взглядами работяги принялись недобро колоть безучастного Дрона. Старик догадался, что между ним и остальным коллективом присутствует явный конфликт. И даже сладкий аромат близкой весны и не мог примирить сослуживцев.
– Ты это… – слабо прикрикнул старик на Савелия. – Помалкивай!
Его голос утонул в крепком гоготе развеселого Шурика.
Шквал насмешек, кривые улыбки, кривляния били наотмашь. Перед натиском злых пустобрехов бывший офицер оказался беззащитен. «Господе Иисусе Христи, сыне Божий, помилуй мя! Прости меня, грешного!» – только и мог прошептать старик, – «Пожалей каждого из нас, и сирого, и убогого…».
– Эх, жизнь! Наша жизнь… Разве это жизнь! – вдруг жалобно заскулил Петька. – Нет утешения нашему брату ни на кладбище, ни в храме! Где скрыться, мужики? Куда убежать?
– «Куда уйти? Уйду лицом в ладони», – процитировал Савелий. Академик был в ударе. Солнце пьянило.
– А какой больно с батюшки спрос, – продолжал развивать черное дело Шурик. – Душу рвать за ближнего, а тем паче за врага своего, немного умельцев найдется. Лишь светлому человеку подобные чудеса по плечу. Любовь к ближнему – это и есть истинное чудо, так считаю. Но каждый ли, кто алтарь сторожит, свечу храма хранит, сам светлолик и праведен будет?
– Я так скажу, мужики… Кое-какую литературу читал, – приглушив голос, сказал верзила со знанием дела, невольно заставляя и остальных прислушаться. – Церковь – это структура, то есть организация. Прошу не путать корпоратив и мистерию.
– Среди попов много агентов в погонах, я слыхал. Служат, контролируют. Словом Божьим власть государства укрепляют.
– Я и говорю, Ка Гэ Бэ! – обрадовался Петька.
– С трудом верится, что отец Владимир из органов, – засомневался Шурик.
И тут старик не выдержал. Распрямив сухонькие плечи, он грозно двинулся на толпу. Встал близко к Шурику, касаясь грудью его замызганной спецовки. Стоял, набычась, сурово глядя в лицо, словно на противника. Ждал, когда и тот повернет голову, чтобы схватить глаз землекопа цепким взглядом.
– Ты че эт, дед? – занервничал Шурик, прячась от старика, отодвигаясь на удобное расстояние.
– Кто таков? Откуда ты есть такой, дурная башка? Какой-такой литературой балуешься? Выкладывай, как на духу! Слушать желаю!
– Источники не выдаю, отец – надежные. Не беспокойся, – Шурик отвернулся.
– Я проверю твоих осведомителей! Вытрясу! Всю подноготную узнаю! – Не дожидаясь ответа, пулеметной очередью палил Василий Иванович. – Откуда родом? Говори!
– С Кубани, – поддавшись напору, вдруг признался Шурик.
– Кто отец, мать? Кто воспитывал? Образование?
– Средняя школа, деревенская, – сказал Шурик, растерянно, озираясь на дружков, ища поддержки.
– В армии служил? Называй войска!
– Артиллерия. На Урале.
– Сестры, братья?
– Сестренка, младшая…
– А какое тебе дело, старик? Что за допрос с пристрастием?
Василий подошел к приятелю и приобнял его, ободряя присутствием.
– Как в здешних краях оказался? – Не обращая внимания на верзилу, продолжил пытать пенсионер Шурика.
– К приятелю погостить приехал.
– Сколько лет уж гостишь? Когда домой последний раз заглядывал?
– Как в армию ушел, с тех пор и не был.
– С родителями контакт держишь?
– Мать жива… Отец помер.
– Пил батя?
– Почему пил? – Вдруг обиделся Шурик. – Если молодым помер, значит, обязательно алкоголик?
– Почему же твой родитель раньше срока на тот свет убрался?
– На заводе, где он работал, случилась авария.
– Что за авария?
– Груз тяжелый с крана слетел, и придавило отца металлической дурой. Его и еще несколько человек покалечило.
– Нашли виновных? Наказали?
– Как же! Шиш! Закрыли сразу завод, аккуратненько обанкротили. Ни страховки, ни сочувствия. Лет пять отец калекой на койке валялся. Лучше бы пил – все легче. Но не мог он горькую принять, как ни старался, потому что с детства к зелью не приучен. Трудягой дед был, и сына своего, то есть отца моего, воспитывал и склонял к работе. Дома лежал отец – трезвый, с переломанным позвоночником, а в глазах ясных, не замутненных – тоска смертная… – Шурик нервно шмыгнул носом. – Жуть, мужики!
Он с силой зажмурил глаза и замотал головой, до хруста сжимая челюсти.
Наступила гробовая тишина. Через минуту издали ветер принес скорбный плач духового оркестра. Похоронная процессия доставила в город нового жителя, новопреставленного раба божьего. Чирикали скворцы.
– Почему к матери не поедешь? Трудно ей без тебя, – прервав молчание, спросил Василий Иванович.
– А жрать дома чё? Работы нет. В былые годы завод кормил город.
– Что же, и кладбищем у вас не разжились?
– Кладбище имеется, только хоронить уж некого. Разъехались люди по большим городам. А покойников теперь своими силами хоронят – не мудрена наука. Соседей привлекают к хлопотам. Деньгу на том не заработаешь.
– Зато у нас цивилизация. Ритуальные услуги, похоронные менеджеры, – сказал, вздохнув, Савелий.
– А ты чьих будешь? – повернулся к Академику пенсионер. – Больно умный, гляжу. Женат? Дети есть?
– Сынишка у меня, – ответил Савелий и неожиданно широко улыбнулся, обнажив рот с отсутствующими передними зубами.
Вопрос старика застал Академика врасплох, и внезапно он изменил привычной манере общения: проявил уязвимость, ранимость. И тут же засмущался, словно его прилюдно уличили в чем-то постыдном. Стал серьезным.
Жалящий взгляд Василия Ивановича немного потеплел.
– Крещен? Сына крестил? – спросил старик дружелюбнее.
– Я крещен, конечно же – как без веры? И сынка батюшка недавно водичкой побрызгал. Все чин чинарём, без нововведений.
– А слова гадкие про церковь мелешь – почему? Коли сына крестишь, значит, храмом живешь?
– Потому что не верю я священнику нашему. Не ве-рю! Нутром чую, что с душком товарищ, насквозь фальшивый! И не к нему я в храм хожу, дед, а к Господу. Прошу, мил человек, не путать. И не заблуждаться.
– А ты почему пьянствуешь? – повернулся дед к Петьке.
– Тебя это, батя, не касается, – Алкоголик полоснул старика хищным взглядом.
– Холодно в наших краях, вот и пристрастился, – ответил за друга Шурик.
– Климат поганый. Без водки жить нельзя, скучно, – поддакнул Петька и подмигнул дружку, усмехаясь. Они рассмеялись.
– Сынок тебя каждый день полуживого, нескучного видит. Не боишься сына в пьянство втянуть?
– Нашему Петруше ничего не страшно! Он на флоте служил, папаша. В океане под парусами ходил.
– И сына алкоголиком воспитаешь, – Не обращая внимания на приятеля, продолжил увещевать пенсионер забулдыгу.
– Не лезь, отец, в душу, не донимай. Петька мой лучший друг, я в обиду не дам достойного человека, – наливаясь кровью, ответил за дружка Шурик.
– Какой ты ему друг! Собутыльник!
– Сочувствие надо иметь к алкоголикам, папаша, – принялся выгораживать Петьку Академик. – Так Господь завещал. Окапываться, держаться друг дружку пришла пора. Потому как дрянные, поганые люди осаждают, батя, со всех сторон. Али не чуешь? Окружают, берут в кольцо. Пьет население.
– И бабы подличают, – оскалился Шурик, вскинув голову. Мужики вновь, как по команде, бросили злобные взгляды на Дрона. – Любой хрыч от беды запьет.
– А чем тебе бабы не угодили? Жена-то у тебя есть? – спросил дед Петьку.
– Есть, да не про нашу честь, – снова ответил за дружка Шурик и смачно выругался.
Слова Шурика вновь накалили атмосферу. Казалось, будто стог сена в жаркий полдень, вдруг вспыхнул воздух. Чиркнул спичкой Шурик. Запал подхватили и Семен, и Савелий. Верзила Василий тоже окинул Дрона долгим презрительным взглядом – подбросил охапку в костер.
И вот уже горит, полыхает повсюду ненависть, смыкаясь вокруг сторожа тугим душным кольцом.
Кто таков? Который раз удивился старик, оглядываясь на угрюмого человека.
Дрон ловил лицом свет, оставаясь к разговорам коллектива по-прежнему безучастным. Казалось, оглох.
Василий Иванович снова вспомнил, как в утренней предрассветной дымке сторож с ведром шел впереди него, старательно рассыпая песок под ноги, а потом они долго молча стояли у могилы жены. И Василию Ивановичу вдруг страсть как захотелось рассказать чужаку о своей неутолимой тоске, изводящей его, терзающей день и ночь, не дающей покоя.
По возрасту одних лет с Сашком будет, прикинул тогда старик, в сыновья годится. Но только не возникало прежде у пенсионера желания вместе с сыном навестить дорогую могилу, стоять в оцепенении на студеном ветру у креста, рассказать родному человеку о своей неутолимой боли. Стыдился обнажить перед сыном чувствительность, вроде бы душевный изъян, предьявить дурноту характера.
Дар Божий
– Диву даюсь: как тебя жена-то терпит? Любая, в чем мать родила, сбежит от такого красавца, хоть на край света. Не оглянется, – сказал старик Петьке, строго глядя в лицо.
– Не твое дело, дед. Не лезь, не мути душу. Не задевай мужские честь и достоинство.
– Слаб человек, тщедушен, – повторил Шурик.
– «Вот так, столетия подряд, все влюблены мы невпопад, – произнес Савелий, напевая, пытаясь изо всех сил балагурить, чтобы снизить накал разговора. – И странствуют, не совпадая, два сердца, сирых две ладьи, ямб ненасытный услаждая великой горечью любви».*
– Вижу, ты, и в правду, поэт, – повернулся старик к Савелию. – Стишками балуешься?
– Без лирики в нашем мрачном деле нельзя, батя. Любовь – это болезнь.
– Страшная зараза… – вздохнул Шурик.
– Схватит без остатка, спалит, мать ети, – согласился и Семен.
– На всякую болезнь нужная пилюля найдется у доктора, – строго ответил Василий Иванович, сверкая острыми глазами из-под косматых бровей. – Коли болен – лечись! Вкалывай, не ленись, и держи башку на сквозняке, чтобы дурь в ней не плодилась. А коли болячка заразная, как ты говоришь, то шагай прямиком в изолятор, отдохни маленько. Поправишься и страдания уйдут.
– В клетку, в тюрьму, в камеру… – Вдруг злобно прошипел Шурик, свирипея. – Что ты о любви знаешь, папаша? Не по зубам тебе тонкие материи! «Мир, труд, май!» – только и можешь горланить. Не велика наука.
– От безделья страдания, от либерализма, – упорствовал пенсионер.
– Не я, а ты бедный и сирый! Не нас, убогих мотыльков, пьяниц и алкоголиков жалеть надобно, а умных и рассудительных, дисциплинированных. Чистеньких – таких, как ты есть сам.
– Со мной порядок, мил человек, и ты пример бери. У меня голова всегда на месте.
– А зачем тебе твоя трезвая голова? Годна только мораль читать. Сдается мне, папаша, не ведал ты в жизни чувства лихого, большого. Не иначе, разум мешал. Других тебе не понять. Не посочувствовать…
– Тебе – здоровому бугаю?! Сострадать? Сочувствовать? Пахать тебе день и ночь надобно, а не на судьбу жалиться. В церковь ходи душу облегчить, коли нет мочи. Смотри-ка! Раскис, либерал! Живи в тонусе, помня про судный день.
– К священнику?! Ну уж дудки!
– К Господу нашему Иисусу Христу, а не к священнику! – загромыхал дед, багровея.
– Что за люди! – вдруг застонал Савелий, обхватив голову руками в жгут. – И любят, кажись, и Бога боятся, слова праведные Христовы с чужих уст копируют, в душевных помыслах следуя за Всевышним. А сердца ледяные, каменные. Злыдни – ни слова целебного молвить, ни взглядом приласкать. Что ты орешь, дед? На храм киваешь, а сам через слово стращаешь судом, грозишь божьей карой. Все едино тебе, без разницы: что человека в лагерь на воспитание отдать, что в лазарет, что к попу на проповедь. Душонка мелкая, черствая у тебя, дед, и холодом, как от могилы, веет. При жизни – покойник!
Савелий смачно матюгнулся.
Повисла тягучая пауза. В кустах веселился скворец.
– Я так скажу, мужики… Мир и любовью, и ненавистью дышит, – робко произнес Семен. – Только любовь пострашнее зла будет.
– Почему же? Нелогично, – откликнулся Петька, нехотя возвращаясь в реальность.
– Зло явно и в глаза бьет, а любовь глаза зАстит. Привяжешься к человеку, корнями в него прорастешь, – свою душу загубишь.
– Любовью человек расцветает, – слабо возразил ему Шурик.
– Расцветет-то он точно, не сомневайся.
– Только всякий расцвет ведет к упадку – диалектика. Все пройдет, как с белых яблок дым. Писец, одним словом, – подытожил Савелий.
– Влюбишься, словно бы простуду подхватишь. В крови опасный вирус, бродит, мечет искры, высекает огонь. Разносит лихорадку по телу.
– Градус поднимает, – хихикнул Петька и подмигнул Шурику.
– Любовь – сука. Сгубит на корню, срубит. Человеческий облик отнимет.
– Душа влюбленного желает и летать, и галлюцинировать. Одним словом, попадет дурная башка в зависимость, захиреет. Все известно. Обо всем написано. Читайте классику, малыши, – С превосходством, доставляющим ему явное удовольствие, Савелий широко улыбался, свысока посматривая на благодарно внимающих слушателей.
– А нам и в библиотеку ходить не надо. У нас свой пример имеется, – сказал Шурик и кивнул на Дрона. – Живой классик-наркоман. Стоит, стучит лопатой.
Пыхтя, стреляя острые молнии в сторону Дрона, мужики примолкли.
От злых слов Савелия старик ослаб, схватился за сердце. Краем глаза увидел, как по равнодушному и невозмутимому лицу сторожа внезапно пробежала нервная судорога. Сжав челюсти, сглотнув слюну, Дрон усилием воли подавил волнение.
Ситуация неопределенности тяготила Василия Ивановича. Все сильнее распирало его желание узнать, кто таков этот хмурый человек с замкнутым лицом, который возбуждал возле себя потоки ненависти, которая не отпускала землекопов, испепеляя. Старик был прямолинеен и не мог долго пребывать в неведении.
Он решительно шагнул к Дрону, намереваясь и его вывести на чистую воду, но тот, дернув шеей, вдруг отвернулся от коллектива. Взял лопату и отправился на загон. Включил тепловую пушку.
– Не соглашусь, мужики… Любовь не зло, а дар божий, – Увидев, что Дрон ушел далеко и не может их слышать, еле шевеля губами, вдруг произнес Петька. – Святая любовь оправдает и подлость, и даже грех.
Совсем не то, в чем признался алкоголик, желали услышать от своего дружка сослуживцы, а потому смотрели на него со смешанным чувством удивления, непонимания, и даже восторга.
Семен застыл в неестественной позе – был в замешательстве.
Взгляд Шурика лихорадочно прыгал по лицам коллег, недоумевая.
Савелий скривился в полуулыбке – полуусмешке, но и он выглядел растерянным.
Верзила Василий стоял, широко расправив плечи, высоко вздымая грудь. Раздувая ноздри, – то ли чуя хищника на опасной тропе, то ли желая возразить Петьке. Размышлял над словами дружка, жадно глотая дух погожего денька.
– Чистой любовью каждый из нас с головой охотно умоется. Перед теми, кто любит, шляпу сорвет с головы, – принялся растолковывать Петька мужикам свою мудрость, которую постиг, страдая в муках пьянства и ревности. – Скажу по секрету, мужики… В тайне я Дрона сильно уважаю.
Петька приглушил голос.
– Вот те на! – обиженно присвистнул Шурик. – Ты в своем ли уме? За что уважать-то злодея? Что он твою бабу мнет?
– Петухом скачет? – воскликнул Василий, с возмущением глядя на забулдыгу.
– На чужое рот открыл? – завопил Семен.
– По своей воле Люська с ним шарится, мужики! Любит она его, проклятого. Гонит Дрон ее от себя.
– Как же, гонит! Держи карман шире! – захохотал Шурик.
– Ты почем знаешь? – возмутился и Савелий.
– Знаю, коли говорю. Чую. А оттого и злюсь. Лучше блудили бы. Бес бы лучше им кровь разжигал. А коли любовь, мужики, – тут дело гиблое, ничего не поделаешь. Руки от бессилия развожу. Перед чувством святым и я, дурак, и любой другой человек бессилен… – Петька горько вздохнул, издавая в пространство скулящие звуки.
Летели облака. Издалека, из-за города, ветер нес робкий аромат нежной весны, надежду на скорые перемены. Свежесть хотелось жадно пить, как чистую воду, весной дышать, подставляя ветру шею и щеки. Далекой, манящей синью летело над головой небо.
– Ты святой, Петька, – прервав молчание, заключил Шурик. – Истинно говорю – не выдумываю…
Яростно гремели ручьи. Громыхала тепловая пушка. Чуть в стороне ритмично стучала о мерзлую почву лопата: Дрон остервенело вгрызался в мертвую землю.
*Б.Ахмадуллина «Дачный роман»
Достойный человек
Бригадир нервничал.
Внешне стараясь сохранять спокойствие, слабо и немного устало возражал своим спутникам, которые представляли в данный момент интересы важного клиента.
Заказчик, видимо, попался и серьезный, и несговорчивый, решил Керим. Уже битый час он водил свиту – похоронного агента и святого отца – по лучшим местам на кладбище, показывая им могилы, уже готовые к захоронению, и участки, где только намечали копать.
Подступ к новым микрорайонам затрудняла весенняя распутица. Шагать по скользкой дороге было сомнительным удовольствием. В лужах блестело солнце, но глубоко под водой таился лед. Чтобы сохранить равновесие и не упасть в грязь, все время приходилось быть в напряжении. Наклоняя корпус, взмахивая руками, балансировать на весу. На редких пятачках земли, свободных от снега, ноги тонули в липкой тягучей глине.
Месить грязь по бездорожью вместе с агентом увязалось и духовное лицо – это начальнику было в диковинку. Не помнил Керим, чтобы когда прежде святой отец с подобным азартом по кладбищу путешествовал, ноги бил и пачкался.
Похоронное мероприятие с привлечением духовных сил обычно совершалось в храме. Покойника отпевали, и к работе приступали землекопы. Нынче батюшка сам изволил осмотреть территорию и выбрать для клиента могилу. Видимо, хотел уважить достойного человека, смекнул Керим, иначе не стал бы так убиваться, наматывая километры.
Место у высокого дуба спутникам пришлось по вкусу.
Людмила принялась настырничать, упорно уговаривая бригадира побыстрее оформить приглянувшийся им надел. Начальник не соглашался, но не из вредности, а исходя из производственного цикла, просил агента объяснить дорогому клиенту, что не по правилам вести стройку, отходя от основного направления, выбиваться из ряда. Выхватывая куски пожирнее, копать, где придется. Но ждать важный человек, видимо, не желал – скоропостижно скончался.
– Разве же я против? – Снова и снова бубнил бригадир, внимательно глядя под ноги. – Я же ко всем одинаково уважительный. Для меня нет разницы: пролетарий ли помер – голь перекатная, или депутат – олигарх то есть. Я ко всякому без претензий. Из земли, так сказать, вышел, в землю родную ушел… – увещевал Керим спутников. О смерти желательно думать загодя, не дожидаясь несчастного случая или, к примеру, вполне себе прогнозируемого события. И вечно-то русский Ванька несобран, неорганизован, ныл он. К серьезной дате серьезные люди готовятся загодя – так же, как, к примеру, к свадьбе с фанфарами или к долгожданной поездке к морю, в отпуск. Разве придет на ум, к примеру, европейцу: немцу ли или французу – клянчить достойное место для погребения покойника, в пик события?
– А если все же отвлечь пару рабочих рук от строительства основной трассы? – прервал словоизлияния начальника священник.
– Да разве я против? Только где же их взять? – взмолился Керим. – У меня только эти руки и имеются. Мрут люди и ночью, и днем, не согласуя очередности. С графика сдвинешься, и утонешь в работе. Разве мне жалко земли? Вона сколько ее! – Начальник широко обвел горизонт. – Навалом землицы на Руси-матушке. Бери – не ленись. Осваивай территорию.
– Много-то много, но хорошо бы все же поиметь место у дуба, – стояло на своем духовное лицо. – Неужто не понятно, мил человек?
– Рад бы стараться, батюшка. Но в короткое время с задачей не справлюсь – в коллективе текучка. Трудятся одни немощные, хотя и башковитые, и даже поэты имеются.
– Алкоголики?
– Пьет население, – вздохнул начальник.
– Что же, ни одного трезвого?
– Только один и есть. Им и план выполняю. Однако трезвый человек иной раз хуже пьяницы будет, потому как мой трезвенник нелюдим оказался. Лично по мне, пьяница – пока на ногах держится – все же милее хмурого.
– Эк ты, философ! В корень зришь, – рассмеялся священник.
– И философствующих имею в бригаде в наличии, батюшка, – улыбнулся Керим. – Кого только нет! Бесполезный народ… Так и работаю, мать ети, ими план выполняю.
– Поосторожнее в выражениях, – оскорбился святой отец.
– Извиняюсь. Не обессудьте, батюшка: ни техники новой, ни лишнего отбойного молотка. Лопата сломается, со всех ног бегу новую клянчить.
– В администрацию?
– Тама. На всякую мелочь требуют акт составить, для отчетности негодный черенок предъявить. Все сомневаются, не жульничает ли Керим? Нет ли скрытой коррупции?
– Это дело поправимо. С Божьей помощью! Могу пособить, мил человек. Поговорю в администрации. В Управу на неделе наведаюсь, имею в плане вопрос по ремонту крыльца храма решить.
– Уж сходите, батюшка! Наведайтесь. Словечко замолвите! Туго мне, совсем невмоготу. Задушили придирками и подозрениями.
– Может, кто из твоих орлов мне крыльцо в храме починит?
– Рад бы! Только нет в бригаде ни плотников, ни каменщиков. Народ пестрый, пришлый: из бывших авиаторов, из академиков. Один математике студентов учил – хороший был человек, но спился. Несчастье… Пьют в коллективе, сквернословят. Ни навыков трудовых, ни квалификации. Только землю и годятся рыть. Инструменты таскать. Испортят крыльцо. Батюшка, не обессудьте!
– С утра отслужу литургию и отправлюсь к важным людям вопрос твой решать. Посодействую.
– Уж посодействуйте! Нету житья!
– Но и ты, Керим, больно-то не упирайся! Могилку на пригорке, у дуба, справь.
– Помилуйте, отец Владимир! Разве же я против? Только, считай, не раньше лета в те края доберемся – далековато нынче дуб будет.
– Вчера человек помер! Не может до лета ждать. У православных на третий день погребение – али не знаешь? Сам в какую веру крещен?
– Православный я, батюшка, – не сомневайтесь!
– Все ж меня сомнения гложут, что ты наш будешь, то есть православный. Несговорчивый ты больно, Керим, не по-свойски поступаешь, сдается. И нерусским именем наречен.
– Мать у меня хоть и татарка, но семья у нас православная. Отец – русский мужик, из пьющих. Матвеич по бате я.
Святой отец на секунду задумался:
– И новопреставленный, что упокоения просит, тоже православной веры был. Своих нельзя обижать, али не знаешь? Друг друга поддерживать следует, – обрадовался святой отец возможности надавить на начальника по-другому. – Промедлишь чуток, и надел приберут мусульмане. Сам знаешь, как такие вопросы в миру решаются. В подобных делах медлить нельзя.
– Как не знать, батюшка? Разве же мне жалко земли? – Снова захныкал начальник. – Только последние, хилые, силы брошу на стройку, а доберусь к дубу не раньше середины весны.
Керим с новой силой принялся разъяснять своим спутникам, что и эти его расчеты приблизить стройку к приглянувшемуся месту слишком оптимистичны. Разве можно сегодня предугадать, говорил, какими темпами народ на тот свет отправляться станет. Больших праздников в ближайшее время не значится, прикидывал вслух, а значит, серьезную партию новоселов ждать не приходится. Правда, статистику мог бы улучшить сезонный спрос на пенсионеров, алкоголиков и тяжело болящих. Ослаблен в раннюю пору организм, вздыхал, слабых и нездоровых весна, как косой, губит. На то и надежда, выходит.
– Трудимся день и ночь в поте лица, рабочих рук не хватает, – жаловался начальник.
– А что же других работников не возьмешь? Али желающих нет?
– Не больно охочи к нам люди идти – боятся в миру покойников. Только узнают миряне, где человек служит, шарахаются от него, как от прокаженного.
– Язычество все это, домыслы. Грех.
– Согласен всецело. И я осуждаю.
– Бояться покойников стыдно.
– Стыдно-то стыдно, но те, что живы, все же опасаются мертвых людей. Против подобного заблуждения не попрешь.
– Смерти нет. Есть неуклонный путь к воскресению. Али не знаешь?
– Я-то? Знаю. Мне одинаково, с кем дружить: что с живыми, что с мертвяками. С умершими даже бывает сподручнее: не пьянствуют и не скандалят. Нетребовательны и покладисты.
– Это точно, – захихикал святой отец.
– А если покойник иного вспугнет ради шутки, обратясь привидением, так это от скуки, – повеселел и начальник. – Себе в удовольствие. Покойник тоже развлечься не дурень. Но все же миролюбивее мертвяка я никого на свете не видывал.
– В наше время живых боятся, – подала голос Людмила.
– Очерствел народ., – согласился с агентом священник. – В храм не загонишь.
– Так-то так, но все ж таки неприятно, батюшка, день деньской находиться на кладбище. Уныние охватит, задушит тоска. Любой человек, полный жизни, через годик-другой на труп походить станет: мрачный, как туча, сизый мертвяк. Крепких, ясных людей не могу задержать в коллективе. Текучесть кадров, одним словом.
– Постарайся все же, Кериша. Отрежь землицу у дуба. Хороший человек умер. За сутки справишься?
– Уважьте, святой отец! Кину клич, всех алкоголиков соберу по округе, но и то не управлюсь к сроку. Снег тает, земля чмокает, к сапогам липнет. Не обессудьте, батюшка.
– Не сговорчивый ты, Кериша, и упрямый. Неправедно мыслишь.
– Смилуйтесь, отец Владимир, рад стараться! Чем же я неправеден? Разве же я против! Бога ради, поймите, святой отец! Как могу я выпрыгнуть из общего ряда? Не имею права. В администрации поступок истолкуют неправильно. А я человек подневольный. Пенсия через год. Накажут, батюшка, все же опасаюсь…
– Об администрации не беспокойся. Сказал же тебе, – морщась и все более раздражаясь, сказал священник, – чиновников города беру на себя.
– А помер-то кто? Местный? Или кто из района?
– Усопший – человек достойный и смирный, – произнес святой отец нехотя, едва шелестя губами. – На службы регулярно ходил. С благоговением в храме небесном присутствовал, глубоко в таинство вникал. Осмысленно то есть, искренне. Не как иные… захожане.
– Царствие небесное достойному человеку!
– Не гони лошадей!– рассердился священник и строго посмотрел. – Сперва новопреставленного, чин чинарем, отпеть следует, а уж потом о царствии небесном речь вести. Не плоди ересь, Керим Матвеич. Не блуди, коли не знаешь.
– Прошу прощения, святой отец! Не учен я ремеслу тонкому, в высокие материи не посвящен. Сознаю, батюшка, свою оплошность.
– А коли не понимаешь, так какого… упираешься? Следуй тому, что велит духовник. Отправь к дубу кого порукастее, пошустрее.
Керим громко запыхтел, взмахивая руками, едва сдерживая обиду и возмущение.
– Славный был прихожанин, истинно веровал, – продолжил внушать священник. – Храмом жил. Добрый был, не скупился. Много жертвовал…
– Так нельзя ли в достойное место определить хорошего человека? К благородным людям? – взмолился бригадир. – Хоть бы в аллею славы? Там круглый год нарядно и сухо. По праздникам войска караул несут. Весь город мимо ихних могил проходит. Уважение и почет.
Отец Владимир скривился.
– Сходите в администрацию, батюшка, похлопочите. Ордера лежать к героям там же, в высоких кабинетах, выдают. На пригорке, в аллее славы, аж с осени много ям пустует. Дорогих людей ждут.
– Нужно место у дуба, – резко подытожила Людмила – как отрезала. – Не модничай, Керим Матвеич, не противничай. Новопреставленный и тебя в обиду не даст, щедро отблагодарит за услугу.
– А вот и работнички, – сказал начальник, как только делегация подошла к теплой проталине, на которой грелись, как коты весной, землекопы. – Все в сборе. Знакомьтесь. Орлы.
– Храни вас, Господь! – Отец Владимир окинул взглядом кучку размякших строителей диковатого вида и осенил всех крестом.
– Судите сами, святой отец, разве справимся к сроку? И техники нет, и земля пухнет, здоровье и мотивация, так сказать, оставляют желать лучшего.
Керим Матвеевич красноречиво смотрел на своих спутников, давая понять, что особенно рассчитывать на трудовые достижения коллектива не приходится.
Тоска
Тишина и порядок царили в квартире Василия Ивановича. Миролюбиво тикали часики. Гудел и хлопал створками в подъезде лифт. Несколько раз настойчиво звонил домашний телефон, но старик не отзывался.
Потом кто-то настырный бил кулаком в дверь, но и этот стук он словно бы не слышал.
Раннее тугое утро незаметно перетекло в полдень.
Давно было пропущено время глотать таблетки, мерить давление, завтракать. Оживать нынче старик не желал.
Ранней весной днем вроде бы и яркое солнце слепит, и небо – высокое, полное лазури, манит. Рука ищет пуговицу, чтобы расстегнуть воротник, ослабить на шее шарф, вдохнуть полным горлом прохладный воздух с ароматом талого снега. Не удержишься, распахнешь куртку, чтобы выпустить жар на волю, – и вот уже к вечеру горит лоб, ознобом колет кожу, и миллионами мучительных толчков организм сотрясает лихорадка.
Так же неприметно, как человека одолевает простуда, в сердце старика с прошлого вечера проникла тоска. Густо смешавшись с сумерками, схватила за горло, не давая свободно дышать.
Никогда прежде вкуса тоски Василий Иванович не чувствовал. О душевной муке, настигающей человека в тишине и одиночестве, он конечно же, знал, но занятию, которое увлекает чудаков и мечтателей, серьезного значения не придавал. Мало ли о каких страданиях души сочиняют бездельники, поддавшись скуке, считал.
Видел, как в последние земные дни тосковала его жена. Отказавшись от воды и пищи, не желала, как прежде, ни видеть мужа, ни говорить с ним. А бывало, до того жаловалась на нестерпимые боли, тревожила ночью. Хотела поскулить на судьбу. Изводила просьбами вместе встретить рассвет, держась за руки, ожидая новый мучительный день.
А потом словно бы перестала замечать мужа. Внимательный взгляд старика, обращенный к себе, будто и не видела.
Оставляли равнодушной мужнины скромные знаки внимания: ромашки, которые он приносил с луга, или чистая рубашка, которую силком надел на нее во время утреннего туалета вместо старой, несвежей. Превозмогая боль, закрыв глаза, Тамара лежала, безучастная ко всему, все больше лицом к стене. Терпеливо ждала своего часа.
Заметив перемены в настроении, Василий Иванович не на шутку встревожился. Сам потерял сон. В непонятном возбуждении поднимался ночью с кровати, брел к окну. Невидящим взором всматривался во мрак двора. Бледное марево фонаря с улицы, сизые тени, которые, дрожа и пугая, ползли по стенам комнаты, прыгали по потолку, – все зарождало в нем мысль о грядущих переменах, о близком расставании с дорогим человеком.
Не желая выносить дурные предчувствия, брел к больной. Повод увидеть жену был ничтожным – хотел побыть рядом. Сделать ей приятное: открыть форточку, чтобы освежить в комнате воздух, накрыть одеялом. Задержаться у изголовья, помолчать, прислушиваясь к беспокойному дыханию.
Тоска рвала грудь, и чтобы унять дрожь – не прогнать, так хотя бы вспугнуть, он включал в коридоре свет, брел на кухню, нарочито громко шлепая тапками о пол, хлопал дверью. Наливая в чайник воду, стучал металлом о кран.
Он ждал, что больная услышит его. Надеялся, что откроет глаза, проснувшись от шума, и, как бывало прежде, рассердится на неуклюжего мужа. Возмущенно скажет словечко или проявит себя иным живым способом – скрипом пружин ли, шелестом ли одеяла, тихим вздохом, – подаст знак: она еще здесь. Дышит. Живет. Недовольство жены в этот мучительный час было для него сладкой отрадой: она здесь, с ним. Неопределенность судьбы старика изводила.
Наконец, в один из тяжелых дней, не выдержав испытания, он решил внести в ситуацию ясность.
– Я священника позвал, – Однажды утром сказал он жене. – Причастить тебя следует перед смертью.
Взгляд больной, взлетев с потолка, метнулся к нему, скуля и кровоточа.
Пристально глядя в потемневшие зрачки жены, старик, тоже волнуясь, принялся ее успокаивать:
– Не сегодня твой срок, не тревожься… Не сегодня умрешь. Завтра, – выдохнул он. – Готовься к завтрему, – сказал по-уверенней.
Лишь на секунду он почувствовал спазм в горле и то, как предательски дрогнул голос. Вдохнул глубоко, медленно, высоко вздымая грудь, чтобы обрести равновесие.
Спустя мгновение Василий Иванович удивился самому себе и тем страшным словам, которые соскользнули у него с языка так, будто сказал их своей голубе не он, а чужой человек, посторонний дому. Словно бы речь шла не о вечном расставании, а о чем-то до обидного бытовом, нудном, неприятном, но легко поправимом: то ли о сорванной резьбе крана на кухне, то ли о лифте, который застрял между этажами, создавая жильцам неудобства, о сбитых каблуках у старых башмаков или же о запоздалом потеплении в природе. Подобным образом нытик жалится, что лето выдается знойным, а зимой лютует стужа.
И только на мгновение у старика вспыхнул жар в глазах – запекло с горя.
Он захрипел, затряс головой – хотел, чтобы жена облегчила его душевные муки, избавила бы от страданий. Утешила бы, проявила сочувствие, подумал, пожалела бы, сказав что-то приятное уху. Ей на конечный полустанок брести, лететь за огненный горизонт, скользить в мерцающих далях, а ему каково? Как жить без нее, вынося одиночество?
Лицо Тамары от мужниных слов в миг стало бескровным, похожим на серую золу или на застиранную простыню, которую не жалко бросить в утиль или порвать на тряпки.
Не в силах переждать торжественный звон зловещей тишины, Василий Иванович беспомощно принялся озираться, прыгая взглядом по предметам, и вдруг увидел часы. Нервно, в такт его сердцу, пульсировали стрелки, наматывая круги, приближали роковую черту.
Не дождавшись от голубы своей ни слез, ни сочувствия, холодея внутри, старик принялся объясняться: подругу жизни он приободрял напутственным словом или себя отчаянно жалел в сей горький час, не известно. Сбивчиво говорил. Мол, разве беда смерть – в почтенном-то возрасте! И есть ли вообще смерть в природе, вопрошал, не требуя от жены ответа. Может, и вовсе нет старухи с косой, один только неуклонный путь к воскрешению.
Вот проводит её завтрева в дальний путь, прикидывал неторопливо, сидя подле больной на кровати. Низко склонив в тесном жгуте рук голову к полу, разглядывал на паркете блеск вечернего солнца. Примется хлопотать о могиле. Третий – день похорон, как принято у православных. На девятый справит поминки по усопшей – это, стало быть, считал, ближе к пятнице, на новой неделе…
Э-ка, жизнь! – громко удивлялся старик своим мыслям, вдруг отвлекшись от арифметики. Вскочил на ноги, вскинул голову, вскинул к потолку руки.
Что есть она – жизнь наша? Сегодня вот он человек: смотрит, дышит… Счастлив, зол ли, любит ли, мыслит? Или изнеможен болью? А уже завтра – где искать следы его? Где исход, где он весь сам будет? Лишь неспешный, робкий, тишайший шажок к роковой черте, за которой… неизвестность! Небытие, пыль, тлен, пропасть… Вот какова она есть – жизнь человека! Хрупкая, неприметная… Потому драгоценная!
Вечерело. Тикали часики. В квартире верхнего этажа кто-то настырный мучительно выводил гаммы.
Старик подошел к окну. Поправил шторку. Через мутное стекло выглянул во двор. Робкое солнце заливало медью город, отправляясь на покой. Жители возвращались домой с работы. В подъезде натужно гудел лифт.
Весна хоть и запоздалая в нынешний год, но аромат тепла уже уловим, продолжал течение мыслей старик, разглядывая на топольке у окна нежную, клейкую дымку. Еще недолго, и солнце окончательно одолеет стужу. Яростно зазвенит капель, зажурчат ручьи, как заведено в природе. Сороковой день после смерти, прикидывал Василий Иванович, вернувшись к постели больной, выпадет после Пасхи. А там и лето красное не за горами – долгожданное, мечтал вслух. Всяк живой человек тоскует по теплу, живет надеждой. И он с той поры, как душу сковала зима, ждет радостных перемен в природе, признавался жене, – терпеть нету мочи…
Не задержится и он долго без голубы своей на белом свете, горевал, потому как не мила ему жизнь без нее. Вот только управится с делами. Приберется на могиле, куда и сам вскорости отправится. Поставит памятник… Посадит березку. Квартиру отпишет дочери. С сыном вечер-другой посидит. Накажет детям, как им без родителей управляться. Вот и все заботы.
Василий Иванович задумался. Сашок взрослый, успешный мужчина, и отцовская мораль ему ни к чему. И прежде не слушал его, а нынче тем более не станет вникать в наказы отца-чудака. Посмеется и все сделает наперекор, по своему разумению. Плохо ли? Что плохого в том? Каждый сам кует свое счастье.
И что он, старый вояка, может посоветовать детям?
Бога чтить и родителей поминать – вот и вся премудрость, выходит.
После ее похорон о своих хлопотать станет. Встречай меня там…, за сияющим горизонтом, говорил жене, не глядя в лицо, – жди, как в молодые годы ждала… Помнишь, на перроне, у моря.
В комнате стояла зловещая тишина. Стрекотали часики.
Святой момент
Неожиданно дверь с шумом отворилась. В комнату, голося, впрыгнула дочь.
– Рехнулся совсем! Спятил! Что ты мелешь? – Дочь набросилась на отца с упреками.
– Что… Ты что? – растерялся старик.
– В уме ли? Мамке такое говоришь? Сердце есть у тебя?
– Не лезь! – рявкнул Василий Иванович, придя в себя. – Не мешай речь держать! Смерть стоит у порога, не до дипломатии. Дай сказать все, что на душе наболело. Завтра не успею. Конец пришел.
– Рот! Рот закрой, душегубец. Где душа твоя? – Еще громче взревела дочь и грозно двинулась на отца, распрямив квадратные плечи. Потянула руку к лицу старика в намерении зажать его рот ладонью.
– Не мельтеши, вооон! Момент святой – уважай смиренно! Дай по-людски проститься, – громыхал старик, отворачивая от дочери голову, наливаясь кровью и свирепея.
– Спятил совсем!
– Не смей! Али отца не жалко?
– Господи, что за человек! Отец ли ты мне?! – взмолилась дочь.
От этих слов Василий Иванович дернулся, как от удара током. Замотал шеей. Выпрямив спину, шагнул на рыдающую дочь, как на неприятеля:
– Что..? Такое говоришь? Отцу родному…– Старик задыхался.
Дочь, плача, принялась в отчаянии заламывать руки.
– Я служил! Ишачил! В горячих песках жарился, – вопил Василий Иванович что было мочи, сотрясая стены.
– Герой! С бабами воевать! – всхлипывала дочь, отворачивая от отца голову.
– Молчать!
– Мать лежит, а ты… Помолчал бы в углу, вояка, поскромничал бы. Поди-ка, еще военный китель надень, погреми орденами!
– Как смеешь? Кто ты такая?
– Кто я?! – еще громче запричитала дочь. – Приживалка в генеральском доме!
– Точно! – Старик энергично закивал, соглашаясь. – Кому нужна?! Злая, колючая… Ни один мужик не позарился!
Ярость окончательно поборола Василия Ивановича. Липкий, жгучий поток злобы затмил стариковский разум. Переборов скорбь, забыв о торжестве царящего момента, он во всю мощь здоровенного горла завопил, не желая слушать никого другого. Лишь безумная потребность сотрясать воздух всевластно овладела им:
– Корка сухая, жердь, жила! Рожу свою видала?
– Чего глядеть-то? На себя смотри – твоя, лошадиная. Себя-то видал? К зеркалу двинься! Рожей своей только и наградил – чем бы хорошим!
– Бога побойся!
– И Господом не стращай, не смей! Он каждого из нас видит, не указывай! Ни меня, ни тебя не забудет. За собой следи. Думаешь, больно праведный, благородный? А с тобой мать мед пила? Жила, как на фронте, на передовой, пряталась в окопе. Как пугливый зверек в комендантский час, хоронилась.
До старика стал медленно доходить смысл услышанного.
– Врешь! – снова взревел он, опомнившись.
– Великомученица! Горемыка! – Дочь упала на колени у кровати болящей. Всхлипывая и завывая, принялась целовать матери руки, дрожа, обнимать ее иссохшее тело.
– Я птица вольная, из казармы твоей улететь могу, – На секунду отвлекшись, гневно сказала дочь, смотря на старика снизу вверх, сверкая глазами.
Худое вытянутое лицо залили слезы.
– Можешь, а что-то не больно лететь спешишь, – вялым безжизненным голосом заплакал отец, вторя дочери, растерянно мигая глазами. – Пригрелась… Хлеб дармовой сладок, – безвольно брюзжал-приговаривал, внезапно потеряв силы браниться.
Без прежнего запала покусывая дочь, отбивался от несправедливых нападок, как от назойливых ос. Перебирал губами вовсе не от обиды, а скорее по привычке упорствовать, до конца стоять на своем.
– Сладок? – вскрикнула дочь. – Думаешь, так уж сладок? Лучше горькую полынь жевать и в чистом поле ночевать с волками, чем дармовым хлебом с твоего стола давиться! День и ночь терпеть твой гнев, герой-вояка. Как несчастная мать, всю жизнь тебя бояться.
Было что-то нехорошее, дикое в сцене, которая подводила итог семейной истории. Родные, небезразличные друг другу люди в приступе злобы выплескивали старые обиды. В полузабытьи признавались в том, что наболело, что каждый под большим замком держал в глубине сердца.
Беспомощно крича о том, что в горькую минуту лавиной вырвалось из темноты бессознания, захлебывались от отчаяния. Неся околесицу, каждый заранее знал, что их негодование и неправедно, и несправедливо, и родилось по причине надломленной психики, которая не справлялась с тяжелым событием. Изрыгая очередную порцию желчи, каждый ужасался диким словам и сразу же – страстно, отчаянно – еще до того, как они были сказаны вслух, принимался корить себя за гневливость, винясь сам перед собой за несдержанность.
– Убежала бы мать от тебя на край света, сгинула бы – в тайгу, в болото! Скрылась бы, будь ее воля!
– Молчи! Не болтай лишнего! Что ты знаешь! Злая… злая, негодная…
– Маялась с тобой и терпела.
– Врешь! Любила она меня… – горячо зашептал Василий Иванович внезапно осипшим голосом.
Согнув хребет, он беззвучно заплакал, сотрясаясь спиной с острыми лопатками и худыми позвонками.
– Любила – как же, выдумал! – вяло нападала дочь, не желая сдаваться.
– Еще как! И ревновала!
– Не решалась без мужика дом тянуть, вот и терпела. О нас с братом думала.
– Да! Ревновала! – рыкнул отец. – Ничего ты не знаешь! В войска голуба приезжала ко мне, в армию. Ноги песком жгла. А лишь для того, чтобы хоть глазком посмотреть, обнять офицера. Скажи ей! Ну же! Расскажи! Не знает ничего, противная! – Суровым голосом приказал Василий Иванович жене, которая, закрыв глаза, в предсмертной агонии лежала подле них на кровати, не шелохнувшись.
– Не тебя любила мать, а другого! – безжалостно палила дочь, медленно теряя азарт сражения.
– Воон! – загромыхал старик, распрямляя плечи. Грозно двинулся на дочь, добела сжимая кулаки. – Не смей болтать! Не наговаривай!
– С тобой жила, а любила другого, – стояла дочь на своем.
– Верная мне мать была! – рявкнул Василий Иванович, чувствуя, как от обидных слов нервной дрожью в живот пополз холодок.
Внезапно память явила старику образ светловолосого мужчины, который однажды в далеком прошлом перешагнул порог их дома с оказией от родственников. И хотя к ним на огонек заглядывало много гостей (разве всех упомнишь?) – их семья славилась хлебосолом, но этого симпатичного веселого человека он и сейчас, спустя годы, видел, как наяву.
После обидных слов дочери Василий Иванович вспомнил о нем сразу же – по ознобу кожи и глухим, тяжелым ударам сердца, толкающим кровь.
Вспомнил, как незнакомая, непонятная ему прежде тревога в тот вечер молнией пронзила грудь – он увидел в глазах жены вспышку.
Как росток к солнцу, Тамара потянулась навстречу крепкому белозубому красавцу. Румянец залил ей лицо, и эти ее волнение и трепет неприятно кольнули мужа.
И теперь, спустя много лет, ревность отозвалась в старике с прежней силой.
С этим мужчиной пришлось ему повстречаться еще пару раз. Да, теперь Василий Иванович это окончательно вспомнил. Однажды столкнулся с ним на перроне черноморского города, когда ехал в отпуск к семье. Они бегло кивнули друг другу, приветствуя.
И тут старика пронзила внезапная догадка. Уж не к его ли жене на свидание приезжал голубоглазый красавец, в его-то отсутствие?
Точно электрические провода, загудели нервы. Не о том ли дочь трещит, намекая об измене?
Ни о чем другом старик уже думать не мог.
А ведь и в самом деле, лихорадочно соображал он, жена у него была и хозяйственна, и миловидна… Завистники облизывались, глядя на их счастливую семейную жизнь, а его распирало от гордости.
Что же, выдохнул старик, в теории его голуба могла и неверной женой быть. Что с такого салдафона, как он, возьмешь, сокрушенно подумал: ни ласки от сухаря не дождешься, ни деликатного обхождения. Взгляд ровный, спокойный – лишь по праздникам, по жесткому расписанию. Выходит, права дочь: похоронила Тамарушка с ним свое женское счастье.
– Столб бесчувственный! Изваяние! – Тихо плакала дочь.
И теперь, как ни тяжело было отцу слышать подобные слова, в тайне он с ней соглашался. Считал себя недостойным.
Бессильные соединиться в чувстве любви в канун священного часа, который требовал смирения и благодарности, забыв о муках умирающей души, отец и дочь отчаянно бранились, и каждый в этот момент жалел только себя. Выплескивая боль, говорили о болящей так, словно ее уже не было рядом с ними, а между тем она все ещё дышала и слышала каждое слово, внимала им. Не издав звука, лежала подле ревущих и беснующихся, отчаявшихся родных, и яркий румянец полз по ее синюшным щекам, захватывая подбородок и шею.
– Кабы не характер твой, не была бы я одиночкой. И злой бы такой не стала, – скулила дочь. – Боялись мы тебя, точно волка хищного. Мать меня от страха к аборту склонила. Упиралась я, не желая невинное дитя губить, но все же боязнь прогневить тебя оказалась сильнее. Взяла грех на душу.
– Как? – задохнулся Василий Иванович. – Когда? – Он беспомощно таращился на жену и дочь, желая отчитать их за негодный поступок, который они бессовестно утаили. – Как посмели? Не доложили? Кто есть негодник? От кого ты, засранка, понесла? – заревел.
– Кабы не ты, стала бы матерью… – плакала дочь.
– Как посмели? Не спросили? – одно и то же повторял старик, сверкая глазами, полными слез, похожими на линзы увеличительного стекла.
– «Отче наш сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое», – заголосила дочь.
– «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», – подхватил отец слова молитвы, и глотая слезы, прильнув друг к другу, они принялись нараспев читать священные слова, стараясь в отчаянии перекричать друг друга.
– «Да будет воля Твоя на земле, как на небе»
– «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»… – горевала дочь.
– «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»… – вторил ей отец, стараясь выступать стройным хором.
– «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
– Не так читаешь! Не так говоришь! – внезапно оборвал пение отец, услышав расхождение в тексте. – Не твори отсебятину! Ересь плодишь!
– «Яко твое есть царство и сила и слава во веки» , – еще громче заголосила дочь.
– Аминь! Молитву выучи! – настаивал отец.
– Аминь! – выдохнула дочь.
– Как посмели? Не спросили? – снова заплакал отец.
– За…за… за…крой… – силясь, вдруг натужно прохрипела больная, шевельнувшись в постели.
С гримасой страха на лицах, отец с дочерью повернулись на сиплый звук с кровати.
– Закрыть? Что закрыть? – засуетился старик. – Холодно ей! – крикнул дочери.
– Маманя! Ноги укрыть? – Дочь проворно вскочила с пола и схватила одеяло.
– Заа-аа… Фооор..точку… – хрипела женщина.
– Форточку? – удивился Василий Иванович и посмотрел на плотно закрытое окно.
– Рот закройте! – собрав последние силы, со свистом выдохнула больная и в тот же миг вознеслась, с облегчением.
Улетела раньше времени, назначенного ей мужем, не дождавшись священника.
И в то же мгновение не чужие покойнице люди громко, не таясь, зарыдали у сухонького тела новопреставленной рабы божьей, сцепив добела руки, переплетясь телами, повиснув друг на друге в неутолимом горе, и не было в этот час на всей земле несчастнее их человека.
Внучок
После похорон и поминок по матери дочь собрала вещи и съехала от отца, оставив его в растерянности в полном одиночестве, наедине с тоской.
И теперь привычная старческая печаль, которая приплывала к Василию Ивановичу в сумерках, соединилась с болью о ней. Две неразлучницы – боль и печаль – щедро сдобрили горечь его пустого, бесполезного бытия. С нежностью, несвойственной старику, он думал о своей непутевой дочке и о внучке, которому не суждено было появиться на свет.
Пытался представить себе малыша – теплого, румяного, хватающегося за щечки, пускающего пузыри. Желанного, дорогого…
Сотрясая воздух тяжелыми вздохами, он беззвучно корил себя. Бабы, глупые бабы, плакал без слез. Выдумали врага, злодея! Разве же он против? Разве же против дитя?
Эх, кабы пустить время вспять, стонал. Высоко носил бы малыша на загривке… Уму-разуму бы учил… Приучил бы к физзарядке. Надел бы на праздник военный китель, в парк бы отправились, на парад, мечтал. Прошлись бы по нарядным улицам ранней весной.
А дал бы Бог малышку…
При мысли о девочке мечты Василия Ивановича натыкались на препятствие. С трудом представлял себе, как ни силился, чем бы он мог заинтересовать внучку. Напрочь ушло из памяти время, в котором росла его дочь, что и неудивительно: все время офицер посвящал Родине, часто отсутствовал.
Внезапно, словно от нестерпимой боли, старик принимался морщить лицо, крутил головой, отгоняя от себя прилипчивые видения: образ белокурого, веселого человека, который в том же далеком прошлом, что и росла дочка, вызвал в его голубе любовную вспышку, преследовал по сей день.
Воспоминания о девочке складывались у старика в нехитрую картинку: видел егозу с косичками, склонившуюся над тетрадкой. Пыхтела лапушка, выводя каракули. А потом, не успел он глазом моргнуть, малышка выросла, стала своенравной, злой и колючей – на отца похожей.
Отмотать бы время вспять, горевал старик, разве он позволил бы негоднице над собой надругаться?
Отчитал бы для острастки, чтобы выразить законное недовольство. Пошумел бы, для порядка, выпустил пар. К стенке язву припер бы, чтобы призналась, как на духу, от какого заезжего молодца ребеночка нагуляла. Познакомился бы с обидчиком, прояснил отношения. Если сильно любила дочь кобеля, рассуждал, то не грех дитю и без отца родиться. Любовь – чувство святое, многое оправдает. Не родится человек по похоти случая, считал старик на склоне жизни, создан по замыслу Бога.
Стерпели бы дамы гнев офицера – не сахарные. Повоевал бы чуток с бабами, да и остыл. От природы он все же не злой и детей страсть как любит. Да, согласен, деликатностью обделен и снаружи дуб дубом, а внутри, в глубине, в потемках… не зверь лютый и не камень. О многом сердце болит. И тоска окаянная душит…
О чем только не думал Василий Иванович длинными, тоскливыми вечерами, устремляясь за потоком сознания, который подобно воздушным порывам, подвластным лишь ветру, летит куда вздумается, без точного направления, остановок и преград. Гнал от себя лишь мысли о белобрысом мужчине – нестерпимо жалили сердце.
Весна жизни
С тяжелым чувством Дрон возвращался после работы домой. Он устал, от долгого напряжения рук ныли спина и плечи. Глаза, воспаленные ветром, горели.
Солнце уплыло за горизонт, и зима вновь дохнула на город ледяной пастью. Вытесняя тепло, стужа незаметно поползла под куртку.
Далеко за спиной Дрон слышал высокий, вспугивающий ворон, голос Савелия. Громко смеялся и балагурил Шурик. Петька что-то отвечал невпопад, и в ответ на его мычание кладбище оглашалось здоровьем и хохотом. Предвкушая томные часы вечерних посиделок, крепкие, жизнерадостные мужики хмелели от аромата весны, сулящей надежду. Дрон же чувствовал себя в этот час болезненно утомленным, не по годам старым.
Наступала еще одна весна жизни.
Как и любой человек, который измаялся от непогоды и тянется к солнцу, как цветок на проталине, Дрон давно, еще с первых заморозков, ожидал потепления в природе. Он дал себе слово этой весной покинуть неродной, неласковый город, в который попутным ветром его занесло жить после армии.
Служить Дрону пришлось далеко: от родной деревни на поезде несколько суток. Но была ему в том путешествии тайная радость: и необъятную страну посмотреть и, Бог даст, с родным отцом свидеться.
Отслужив честно, как полагается, солдат в поиске работы подался на местный аэродром, но предприятие, где приняли специалиста, вскорости обанкротилось. Летное поле пришло в негодность, и профессия техника-авиатора оказалась невостребованной.
В надежде скопить денег на обратный путь, Дрон решил перезимовать в здешних краях. Долго работу не выбирал: на местном кладбище остро нуждались в трезвых сотрудниках. Так и застрял он в чужом городе на долгие годы.
Слушая темными вечерами стон ветра в печной трубе, заунывное пение вьюги, прижимаясь к теплому плечу полнотелой Люськи, Дрон копил силы. Зрело решение.
Вернуться домой Дрон собирался не единожды. Всякий раз от осуществления задуманного его что-либо отвлекало.
Однажды в сторожку забрался недобрый человек и, переворошив вещи, украл все его сбережения. Или бригаде предстояло работы невпроворот: смерть внезапно, без разбора, принималась косить город. Порой, чтобы управиться с потоком клиентов, сам начальник вставал с землекопами в ряд рыть могилы. В иной год возникала нужда осваивать новый пустырь для строительства, работа сулила двойной заработок – кто откажется?
Но чаще всего планам Дрона мешало настроение. Бывало, схватит за горло смертельная тоска, скует волю. Мучила неопределенность. Не понимал, в какие края ему стоит податься, где с дипломом специалиста по летательной технике он пригодится.
В тайге у Дрона родных не осталось. В год призыва в армию умерла его бабка. Скоро следом за ней убралась и мать: на лесозаготовках бревном придавило. А через год Аннушка – дочь лесника – написала Дроне-солдату, что жарким летом яростно горела тайга, и Петр Иванович геройски погиб на пожаре.
Выходит, только Аннушка и оставалась ему в родных. Она да бельчонок Тимка, усмехался, строя смутные планы. Только жив ли Тимка-проказник? Цел ли домик, который они для зверька мастерили? И разве родня он девчонке, вздыхал. Так, Дроня – приятель…
Мамка
Пуще неутолимой тоски тягучего дня, воя ветра в печной трубе в непогоду и нескончаемой череды черных осенних ночей, Дрона изводило одно и то же, повторяющееся видение.
Во сне он стоял на высоком берегу. Отстраненно, издалека, с восторгом человека, готового взлететь, наблюдал, как в реку с бурным течением люди-щепки сбрасывали с берега бревна. Шла лесозаготовка. Он не слышал шума воды, не различал людских лиц – все его внимание приковывала женщина в красной косынке, которая легко и бесстрашно, будто паря над землей, ловко орудовала длинным багром в руке, проталкивая в направлении течения неуклюжие, неповоротливые деревья, которые создавали затор. Бревна нехотя плыли, и у зaпани их поднимали из воды, чтобы отправить на лесопилку.
Дрон неистово желал задержать последний кадр мирной жизни, в котором ничто не предвещало беды.
Вскипая кровью, медленно холодея внутри, хотел противостоять дальнейшему ходу событий, но время, безучастное к его страху, с неизменным равнодушием меняло картинку.
Лавина убийственно тяжелых бревен, похожих сверху, с точки обзора, на гору спичек, неизменно срывалась в реку с обрыва, накрывая сокрушительной мощью хрупкую, невесомую фигуру воздушной гимнастки, Дрониной матери. Казалось, вдруг рассыпался коробок.
Дрон протестовал, плакал, мычал – не мог примириться с тем, что произойдет в следующий миг и неизменно просыпался до последней секунды – до того, как расколется мир, не желая быть свидетелем страшных событий.
Очнувшись, лежал в темноте. Ждал, когда сердце, разрывающее грудь, начинало стучать глуше, ритмичнее. Медленно приходил в себя.
Постепенно на смену отчаянию приплывала щемящая грусть. Он любил свою мать кроткой нежностью родного существа. Эта любовь была истинной, безусловной, само собой разумеющейся, не поддающейся объяснению, она не требовала ни слов признания, ни доказательств. Кровь, бурлящая в его жилах, и была этой любовью, несла память о ней. С каждым годом он нуждался в ней все так же неистово, как и прежде. Как чудище, тосковал о ней, будучи взрослым. Она была закатом, печалью, дождем, тихой улыбкой ребенка, звенящей радостью сытного летнего дня, звездными небом, тишиной полей, смирением. Не имея возможности ни обратиться к матери, ни проявить заботу о ней, ни пожалеть, сильно страдал.
Чередой бежали деньки. Разношерстные мысли, которые вносили в беспокойную душу смуту и разброд, всевозможные отговорки препятствовали Дрону в сборах на родину. Сон, тепло и убогий уют таили опасность.. Не успевал он оглянуться, а на дворе листопад. До перемен ли жизни в упадок? Это в весеннюю пору витает в воздухе нечто приятное. Течет сок от земли ввысь, от корней к кроне. Зовет к горизонту.
Сладкие робкие признаки близкой весны подгоняли Дрона осуществить давно задуманное.
В этот вечер он ждал Люську, чтобы рассказать о созревшем решении. Признаться, женщина и была для него самой важной причиной оставлять свою жизнь без изменений, жить одним днем, подле. Орудуя лопатой, ждать наступления сумерек и долгожданную встречу.
Дрон шел на свидание, мучительно размышляя о том, что он скажет подруге, которую странным образом любил, не давая себе в том отчета.
В эту чудесную весеннюю пору, которая в каждом пробуждает светлые надежды, он чувствовал себя несчастнейшим из людей.
Тихий гул небес
Чтобы отвлечься от тяжелых дум, Василий Иванович днем придумывал для себя занятия, чтобы, умаявшись, крепко уснуть. По поводу и без повода часто наведывался в сарай навести порядок. Сортировал в погребе картошку, свеклу, морковь. Крепкие корнеплоды, очищенные от ростков, складывал в ящик, а гнилье – в мусорное ведро, на выброс.
А то затевал уборку на балконе. Снимал с верхних полок шкафа пыльные коробки с газетами и журналами, пожелтевшие от времени, книги по военному делу, иной драгоценный хлам. Увлекшись, принимался листать страницы альбомов и книг. рассматривал старые фотографии, вспоминал о былом. Читал, вздыхал и, скрепя сердце, отправлял макулатуру в мусорный бак.
С недавних пор старик принялся пристраивать по знакомым свою ненужную одежонку. Чувствовал, что вряд ли ему придется её носить. Знал, что после его смерти все нажитое непосильным трудом дети выбросят на помойку.
Суета по хозяйству отвлекала и дисциплинировала.
Но в последнее время старик часто, вопреки задуманному, с отрешенным видом стоял у окна. Часами глядел в забытьи в неподвижную точку едва уловимого горизонта. Впускал в себя тихий гул небес, покой и безмолвие.
Умываясь светом непостижимых глубин разверзшейся дали, тер корявым пальцем стекло, замутневшее от уличной пыли. До боли в старческих глазах вглядывался в сияющую пустоту за окном, горько сожалея о том, что не чувствует в мышцах прежних силы и ловкости, чтобы самому, без помощи посторонних, отмыть грязь на стекле и без помех созерцать внешний мир. Точка, в которой сходились воздух и твердь, манила. Именно там, в понимании старика, находилось царствие вечного, в котором не существует ни боли, ни тоски.
Звонок на входной двери охрип, и Василий Иванович очнулся. Кто-то неизвестный стоял на лестничной клетке у квартиры, но пенсионер не сразу двинулся к порогу.
Он привык: к ним в подъезд часто проникали посторонние люди. Доставляли продукты на дом, разносили рекламу и разное барахло, для него бесполезное. Иные дельцы сулили болящим скорое оздоровление: хитрым прибором обещали прогнать бессонницу, поправить зрение, вылечить и сердце, и радикулит. Порой наведывались квартирные аферистки – миловидные особы с приятными манерами и вкрадчивыми голосами.
Прежде старик открывал дверь каждому без разбора и сам без опаски выходил к посетителям на площадку. Особо словоохотливым, внушающим доверие, иногда удавалось усыпить его офицерскую бдительность и проникнуть в квартиру. Выслушав мутные предложения заключить договор на уборку, доставку лекарств или лечение в обмен на жилплощадь, бесцеремонно выпроваживал визитеров.
Но когда к его приятелю, герою Сталинградской битвы, в дом ворвались бандиты и, пока ветеран находился в беспамятстве, украли пенсию и похоронные деньги, дорогие сердцу боевые награды, к непрошеным посетителям стал испытывать недоверие.
Теперь настойчивые звонки в дверь беспокоили старика особенно неприятно. Страх был бытовым, примитивным, очень неприятным нутру человека, который согласился бы рисковать жизнью лишь ради возвышенной цели. Теперь на каждого, кто стоял за дверью, старик смотрел сквозь замочную скважину зверем. Готовясь к худшему, был начеку. С каким умыслом пришел посетитель и чего ждать от него, он не знал, а оттого тревожился. Неизвестность пугала.
Этим утром непрошеный гость настырничал.
Скрипя позвонками, Василий Иванович неохотно поднялся и, превозмогая боль, бесшумно подкрался к порогу. Заглянул в дверной глазок. На площадке он увидел Машеньку. Обрадовался и растерялся от неожиданности.
Он не сразу подал голос из-за двери. Стоял в раздумчивости, боясь движением обнаружить себя. В последний раз Маша заходила к старику после смерти жены. Сидели с ней на кухне, не зажигая света, и он, сглупу, рассказывал ей о своих чувствах к покойнице, вспоминал: о знойном лете на юге, гомоне чаек и ласковом море.
Перед Машей старик испытывал острое чувство вины. В юности у девушки с сыном расцветала романтика. Но сын, не сдержав обещание, скороспело женился: сильно влюбился в другую. Через пару лет очухался, но родился сын. По сей день тянет Сашок семейную лямку, изо всех сил стараясь выглядеть счастливым.
И Машенька в девках не засиделась. В тот же год пошла под венец. Тоже неплохо живет, рассказывала старику. Как и Сашок, счастливая…
Храм, Вера
Кладбищенский переулок вывел Дрона на пригорок. Ночь затопила упокоенный город, но у храма на площади все еще было многолюдно. В окнах приглушенно горел свет. Прихожане покидали церковный двор, растекаясь по улицам неторопливыми потоками, унося в мир печаль и умиротворение.
Осенив себя крестом, Дрон вошел в церковь по высоким, слегка расшатанным ступеням.
– Господе Иисусе Христи сыне божий, помилуй мя! Прости меня, грешного! – отозвалось в нем из глубин памяти, и обращаясь к дорогому лику, строго взирающему с иконы, он перекрестился, низко склонив голову.
Молча постоял у порога, вбирая в себя трепетный звон тишины, летящей высоко к куполу, вслушиваясь в скорбный треск лепестков мерцающих свечек.
В полумраке у алтаря стояли священник отец Владимир и женщина в темном платке, в платье до пят. Прихожанка, похожая на птицу, волнуясь, сбиваясь на плач, шептала о наболевшем. Торопливые горячие фразы летели от них к Дрону.
Ларек с церковной утварью был закрыт. Он потоптался у прилавка, не решаясь протянуть руку к открытой коробке со свечками.
В таежных краях, где родился Дрон, своего храма в деревне не было. На службу по большим праздникам жители ездили в небольшой городок по соседству. До бетонки, на расстоянии пары километров от села, где удавалось поймать попутку, в сухую пору добирались пешком Шли краем леса, полями, полянам, вдоль ручейка, сквозь посевы подсолнухов и кукурузы. Зимой лошади с вихрем несли на санях по белоснежной сверкающей глади.
Мирный ручеек, что протекал неподалёку, в распутицу становился полноводной неуправляемой рекой. Бурное течение сносило хлипкий мостик, и единственная улица, по обеим сторонам которой рядком возвышались дома, превращалась в широкую гавань. По дороге, утонувшей в воде, плыли на лодках, как по морю.
Бывало, что рейсовый автобус, на который рассчитывали поспеть прихожане, был заполнен пассажирами близлежащих деревень и проезжал мимо, без остановки. И тогда надежда попасть в город была на случайных попутчиков или же на изредка громыхающие грузовики.
Неподалеку от Дрониной избы жил поп Макар – человек немолодой и глубоко верующий. Духовного образования он не имел, но книг, доставшихся ему от деда – потомственного священника, в его сундуках хранилось немало. Мальчишкой Макарка пел в церковном хоре, а по праздникам прислуживал деду, постигая священное ремесло.
В воскресенье селяне приходили молиться к Макару, в иные другие дни общались с Господом узким семейным кругом. Иконы – святой дар – передавались от деда к отцу, от отца – к сыну, из поколения в поколение.
Славить Господа утром и днем, перед едой, на ночь, осенять себя крестом, выходя на порог, было так же привычно, как и умываться ключевой водой, топить печку, присматривать за скотиной. Священные тексты дети запоминали от старших назубок, без принуждения. Любой несмышленыш мог без запинки пересказать «Отче наш», «Богородица дево, радуйся», а каждый житель деревни при необходимости мог и покойника отпеть, и покрестить младенца, и совершить иное духовное таинство.
Советская власть дело Макара уничтожила. Дом разграбили, духовные книги сожгли, а деда, как рассадника чуждой морали, сослали в таежную топь, где он и сгинул.
Годы спустя гонения на церковь прекратились, и в деревне стали робко вестись разговоры о восстановлении духовного центра. Но планам не суждено было сбыться.
С тех пор и стоял под сенью вековых лип и дубов полуразрушенный дом-храм – в крапиве и чертополохе.
В православную веру Дроню крестила бабка, у себя на дому. Как в лучах солнца, мальчик купался в ласковых взорах старцев с древних икон, находящихся поблизости, которые в немом одобрении сопровождали великое таинство.
Читая молитву, бабка ковшом поливала воду, освященную серебряным крестом, на голову Дрони, а потом незаметно для него вытянула из-за оклада иконы ленточку с крестиком. И от прикосновения металла к груди Дроня почувствовал в душе волнение и трепет.
Верует ли он, и как глубоко, Дроня не осознавал. И можно ли считать Верой восторг, разрывающий сердце, или невольный страх перед Ликом с иконы, который строго взирал на мальчика из угла комнаты, которым, сердясь на внука, порой грозилась бабка?
Религиозное чувство мальчика было легким и привычным, вовсе не обременительным, подобным робости несмышленыша перед человеком старше себя, каким бы дурным или зловредным он в деревне ни слыл, что с детских лет испытывал в их окружении каждый ребенок.
Нравоучения, окрики, подзатыльники старших – порой незаслуженно суровые – не вызывали в младших мести, протеста или отчаянной злобы. Беззубое, безропотное, ничуть не обидное отношение к наказанию – очень нужное молодому поколению в воспитательных целях, приучало детей к смирению, так необходимому в суровом мире.
Дети с измальства понимали, что наказание – это проявление любви, обратная сторона заботы взрослых о молодых, суровая школа жизни, и не гневались. Родителей следует слушать, родители дурного не посоветуют, и это считалось незыблемым.
Первым поприветствовать взрослого по дороге в поле, на огороде, на пасеке, уступить тропинку в лесу. Пробегая мимо, замедлить шаг. Здороваясь, сорвать с головы шапку и уважительно склонить голову. Приосаниться, выказывая почтение прожитым годам и мудрости старших, считалось естественным, дарило радость.
Перед седовласыми старичками с длинными бородами и старушками в белых платках треугольником, с лицами, сплошь испещренными морщинами, Дроня испытывал немое благоговение. Он часто видел их, не теряющих красоту, несмотря на морщины и суровые признаки возраста, отдыхающими летними вечерами на лавках у палисадников. Часто на коленях у них сидели младенцы – неразрывная связь поколений. Греясь в лучах заходящего солнца, старцы тихо провожали день. Положив на колени иссохшие ладони, смотрели на мир ясными глазами. Источали мудрость, покорность, любовь. Эти старики и были Дроне Иконами, Совестью, истинной Верой.
Можно ли назвать Верой томительное ожидание Пасхи, которая радостью приближения озаряла скудное течение деревенской жизни?
Пасха сулила щедрый стол, веселье, долгожданный приход весны. Загодя в подготовку к светлому торжеству включались и мал, и велик. Каждый день ожидания – из сорока длинных дней поста, медленно подводил к важному событию.
Шаг за шагом маленький Дроня ощущал в душе усиление музыки, наступление важных перемен в жизни.
В Страстную седмицу перед Воскресением пекли пироги, красили яйца, мыли и скоблили добела дом. Отвлекаясь от хлопот лишь для того, чтобы подоить корову, накормить животных, без устали молились и готовились к празднику.
В эти дни пища была особенно скудной. Дроню жалели, и ребенку кроме картошки и луковицы перепадала и кружка молока. Себя же мать и бабка держали в черном теле. Пили чай с сухарями, исступленно молясь. В ночь перед Пасхой свет в доме не гасили – с надеждой ожидали вознесения Христа.
В долгожданный пасхальный день бабка будила внука спозаранку.
Дроня надевал свою лучшую одежонку и с нарядным мешком, сшитым по случаю праздника, вместе с другими ребятами отправлялся по дворам «славить Христа», еще в темноте. Девочки в это утро были похожи на цветки – в ярких платках, да и мальчишки смотрелись франтами.
– Христос воскресе! – Едва переступив порог, звучно пел Дроня, стараясь раньше других ребят, ни в чем не уступающих ему, прокричать заветные слова.
– Христос воскресе! – Дружно вторил детский хор.
– Воистину воскресе! – Радостно откликались хозяйки, протягивая просителям угощение.
К полудню ребятам удавалось обойти улицы. Наступало время хвастаться трофеями. И тогда в укромном месте, опорожнив мешки, все принимались изучать богатую россыпь подарков. Обнаружив в разноцветной горе угощений конфетку в сверкающей обертке, какой не было ни у кого другого, или особенно ярко раскрашенное яйцо, принимались менять сокровища. Порой за редкую конфетку удавалось выручить пару яиц или даже кусок пирога.
Некоторым счастливчикам, бывало, перепадала от подателей и мелочь – невиданная щедрость. Деньги ценились превыше всего. Их тратили на увеселения в городе: за деньги можно было отправиться в кино или купить мороженое.
В полдень в Пасху жизнь в деревне вымирала. Мал и велик отправлялись на кладбище. В домах оставались лишь немощные и младенцы.
Навестив родные могилы, деревня собиралась на большой поляне в центре кладбища. На скатерти, которые стелили прямо на траве, выгружали яйца, пироги, мясо – скоромную еду, вкус которой за время поста забывался напрочь. Начинался пир. Умершие были в этот важный день рядом с живыми, младшие – вместе со взрослыми.
В праздник позволялось громко смеяться, шуметь и проказничать. Старшие были снисходительны к детским забавам.
Вера жила в Дроне наивно, не требуя слов признания, не ища доказательств, и походила на восторг, разрывающий грудь, в минуты единения с Природой.
Порой, выйдя из непроходимой чащи на просторную поляну в траве и цветах, он бывал сражен совершенством увиденного. Безмолвный мир представал стройным, живым, логичным, источающим наивысшую Мудрость и неистощимую Любовь.
Строгие взгляды соседей – всевидящее око, коллективный труд, связанный с насущными заботами о земле – тяжелый и изнуряющий, жизненно необходимый каждому деревенскому жителю, скупость взрослых в проявлении теплых чувств не только к себе, но и к посторонним, отчего редкие одобрение или похвала были сродни бесценному дару, прогоняли мальчика в лес, на речку, в поле. Природа дарила ласку и тепло, кормила и защищала, несла красоту и отдохновение, возносила к свету.
Часами, без устали, в полном одиночестве, Дроня смотрел вслед уплывающей речке, которая струясь, переливаясь, играя, неутомимо несла мимо него покорные воды. Солнечным днем в них сверкало небо без дна, а вечером, остывая, медленно таяло солнце.
Прислушиваясь к дыханию леса, всматриваясь в далекий, манящий, призрачный горизонт, едва приоткрывающий глубину мироздания, Дроня чувствовал рядом с собой Того, Кто создал и его, и все прекрасное в мире, – и любовь, и страдание, и саму Жизнь.
Раскинув руки по сторонам, Дроня лежал на траве лицом к небу. Мечтая, высоко парил над землей вместе с облаками. Ликуя, был готов умереть от красоты и от любви ко всему сущему.
Природа и была для Дрони истинным Храмом. Она зародила в нем смутное и доверчивое, не требующее объяснений, чувство трепета и преклонения перед Существом, растворенном в Природе, стоящим за ней и в нее воплощенном.
Он осенял себя крестом, когда бушевала гроза. Издалека увидев блеск купола храма, рука тянулась ко лбу. Человек у алтаря – служитель веры, вызывал в нем безусловное, непоколебимое, глубинное доверие.
Жертва
ЖЕРТВА
Простившись с женщиной, священник подошел к Дрону, который в нерешительности стоял у порога.
Отец Владимир был невысок, худощав. Лицо с впалыми щеками, густо заросшее темной бородой, выглядело усталым. Лучились глаза – Дрон ощутил внимательный взгляд, обращенный на себя.
– Благословите, батюшка, – сказал Дрон, в покорности склонив голову.
Святой отец осенил его крестом и спросил, пристально глядя в лицо:
– Вижу, большие сомнения гложут тебя, раб божий, не дают покоя. Не можешь найти ответа? Спроси в меня.
– Кабы знать… – Дрон глубоко вздохнул, приглушая волнение. – Одолевают мучения, отец Владимир, а высказать тяжесть непросто.
– Господь посылает духовные муки, чтобы воспитать нас, гордецов. Говори без утайки, в чем сомневаешься.
– Решаю судьбу изменить. Хочу домой вернуться, где прежде жил, где мои корни.
– А далеко ли твой дом?
– Жил в Сибири. Тянет назад, мочи нет.
– И что ж держит тебя так далеко от родины? Не велит шаг решительный сделать?
– Женщина. Пропадет без меня горемыка.
– А что же с тобой не поедет любимая?
– Несвободна она, с мужем живет.
– Так ты любишь в грехе? – Сверкнув глазом, рыкнул священник, и его грозный окрик черной птицей улетел в купол храма.
Дрон вздрогнул.
– Прелюбодействуешь?
– Пьет мужик ее, руки распускает. Не ровен час, зашибет беззащитную, – принялся объясняться Дрон, оправдываясь.
Он почувствовал жар негодования – возмущались не только батюшка, но и Христос, Богородица, святой Николай и другие светлые праведные, с немым испепеляющим укором глядящие с древних икон, рядом, повсюду.
– Пропадет без меня, – повторил.
– Не решай задачу за Господа. Это с тобой баба сгинет! Ты ее в чертовской омут тянешь. Не бери чужое, не зазнавайся! Своей дорогой шагай.
– Зверь мужик-то ее, батюшка, лютый зверь! Видит Бог, не хочу судьбу ей ломать. И в мыслях не допускаю плохого, всем сердцем не желаю грешить. Не нахожу покоя… Мечтаю по-людски, по-хорошему жить. Замуж зову, только она о том и слышать не хочет. Уеду я, своей дорогой пойду, а что с ней станется?
– Не думай за Господа, – повторил священник спокойнее. – Неси ношу по силе. Бог разумнее нас с тобой, без нашего участия жизнь устроит.
– Разве же честно? Справедливо?! – воскликнул Дрон. – Не могу я оставить любу свою, бросить на растерзание пьяному зверю. Не живет она с ним, только мается! Молодая, мало доброго в жизни видела. Белый свет ей не мил. Живет, как зверушка пугливая, на шорох озирается. И сынишка малолетний страдает.
– О себе печешься, мил человек, не о ней, – помолчав, молвил священник. – Оставь, коли любишь. Пожертвуй чувством благим, нежным ради своей Любви, – хвала и почет тебе будут.
– Любовью жертвовать? Ради любви? – отчаянно воскликнул Дрон, не желая понимать и соглашаться с услышанным.
Больше всего на свете он хотел бы довериться опыту священника, отдаться безотчетному течению веры, присутствие которой ощущал в себе сызмальства, так необходимыми ему сейчас, в час выбора жизненного пути. Он с готовностью подчинился бы совету наставника, принимая единственно верное решение, но совет духовного лица вступал в противоречие с тем, что он знал и чувствовал.
– Не жалей себя! Кайся! Благодари за боль и за наказание, как за науку. Бог рассудит всех нас, коли время придет. Разумный человек лютых мук у Создателя просит, чтобы истязаниями очистить нечестивую душу от скверны. При жизни страдая, предстать перед Ним в светлом образе.
Мук ли просит человек, подумал Дрон, внутренне содрогаясь, сопротивляясь услышанному.
Разве, придя в храм, человек просит страданий?
Кто-то умоляет избавить от немощи, кто-то – наделить умом, богатством, радостью. Наставить на путь верный, истинный. Отвести беду.
И хотя он не был согласен с наставлением, внутренне протестовал, но ни мимолетным движением бровей, ни взглядом, ни вопросом не выразил сомнения. Язык не служил ему. Слишком высок был авторитет человека, стоящего у алтаря, наделенного властью Всевышнего.
Каждое слово, изрекаемое им, гулко звучащее в тишине храма, было непререкаемым, весомым, благословленным и стократно умноженным немым одобрением ликов святых отцов – скорбящих, тоскующих, с укором взирающих на Дрона с икон.
Святые праведники, духовно стоящие неизмеримо выше него, обладали безраздельной властью учить, вести за собой. По-младенчески простодушно Дрону хотелось довериться их священному опыту. Следуя неистощимой мудрости, не задумываться ни о чем. Жить, объясняя каждый свой шаг желанием и любовью Всевышнего.
– Ни в тайге, ни в пустыне от себя не спрячешься. Дальше храма не убежишь. Уезжай с миром, мил человек, не тяни время. К Богу придет люба твоя, за себя и за твою бессмертную душу помолится. Возвратятся к ней в сердце мир, в дом – любовь. Жена она мужику своему перед Господом, перед всем честным народом. А ты кто в ее жизни? Случайный попутчик, перекати-поле…
«Следуй за Мной!», – говорил Господь, проливая на Дрона теплый лучезарный поток. «Откинь сомнения! Следуй за Мной!», – слышалось отовсюду.
Мудрецы, Праведники, Божьи люди снимали с сердца камень, отводили сомнения. Взваливая его тяжелую ношу на себя, требовали принять единственно верное решение: жертвовать, просить прощения и каяться.
Другое небо
Окно в спальне плотно скрывали шторы. Утром, впуская в комнату свет, взгляд Василия Ивановича летел сквозь стекло к серой стене соседнего дома, к детской площадке со сломанными качелями, возле которой сиротливо притулилась березка, и дальше: к киоску с журналами и газетами, на автостоянку.
Подолгу он стоял у окна в оцепенении, опершись о край подоконника, пытаясь схватить глазом точку невидимого горизонта, скрытого нагромождением труб и зданий.
По обыкновению, старик рано вставал. Еще до рассвета был одет. Но сегодня Василий Иванович долго лежал в постели, не желая подавать признаков жизни.
Солнце било в стекло и, не таясь скользило по потолку и стенам, лизало паркет.
Кровать находилась у окна, и чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, которые завладели стариком с вечера, он принялся разглядывать парящие над головой облака.
Небо сияло, летело, дышало над ним, и этим утром оно его изумило. Казалось, протяни руку, и схватишь пух снежных гор, зачерпнешь лазури.
– Да-а, – Без устали повторял он, удивляясь увиденному, – тому, чего не замечал прежде.
Нынче он чувствовал себя совершенно дряхлым человеком, ни на что не годным, смотрящим смерти в лицо, а оттого его думы были печальными. Все, о чем бы ни принимался он размышлять, возвращало его во вчерашний день, к озлобленным и неприятным людям с кладбища, с которыми, сам того не желая, он вступил в мучительный диалог.
Неприбранные, золотые охапки воздушных масс ветер гнал из-за города, с тех далеких мест, где небо навеки разлучилось с землей и где старику чудилась жизнь покойная, полная величия, равнодушно скользящая над суетным миром. Оттуда, из торжества беспредельной дали, надвигалась тоска, хватала за горло.
Неприятные картины пережитого дня преследовали старика помимо воли. Что за прихоть думать о кривом Шурике, сердился он на себя, мотая головой, отгоняя видения, о ненужном ему странном Савелии с мутной ухмылкой на лице, о нелюдимом стороже? Между ним и персонажами с кладбища был не просто конфликт поколений, – стояла глухая стена, сквозь которую ни человека заметить, ни голоса подать. По природе своей эти люди были ему чужими, похожими на неприятелей. А долг его, как любого офицера – Родину защищать.
От необходимости спорить, наставлять и даже воевать с людьми слабыми, безвольными, надломленными старика мутило.
Место, из которого плыли облака, хранило непостижимую тайну, и этим утром она обрушилась на старика со всей беспощадностью.
Он шел по жизни, чеканя шаг. Внимательно глядел под ноги лишь для того, чтобы не оступиться. Поднимал голову вверх лишь в практических целях. Посмотреть, не затянут ли город тучами, ждать ли дождя.
Другой небосвод, увиденный им этим утром, случайно обнаруженный на исходе жизни, безмолвно струился над ним, покорно неся живительные потоки, которыми хотелось умыться, и быть может, прозреть.
– Да-а, да… – говорил он растерянно, теребя одеяло, протягивая скрюченную руку к окну. Как слепец, ощупывая перед собой пустоту. – Д-ааа…
Хотелось плакать. Душила обида. Старик смотрел на свои ладони – прежде крепкие, спорые, а нынче живущие с ним в разладе, пытался потянуть на себя одеяло, чтобы укрыть холодные ноги, не чувствуя их.
Он понимал, что нечто важное безвозвратно ускользнуло прочь. Да-аа-а.., всхлипывал он.
В пустой болтовне работников кладбища, так опечалившей старика, скрывалась горькая правда, и признание в том изводило его.
Он слышал голоса пустобрехов, которые насмехались над всей его жизнью, видел их злобные лица, и то малое, чем он по-настоящему дорожил, предстало в свете нового дня жалкой подделкой, обманом.
Мир огромен и пуст, кровоточило сердце. Связи порваны, молитвы забыты, души потеряны. Есть ли люди вокруг, нет ли… Друзья ли они ему? Враги?
– Да-а, да-аа… – Только и мог промычать он.
Говорили эти философы с кладбища не бог весть какие мудреные вещи – что особенно могло удивить? Разве не знал Василий Иванович, что идеалы юности преданы, люди унижены и разобщены. Рыскают по полям злые волки, рвут добычу, топчут поля, нагоняют страх.
Горше всего было осознавать, что его неприятель – не заморский гость, на которого можно с лихвой списать беды, а человек до боли родной, похожий на тебя – земляк или однополчанин, к примеру, с которым прежде приходилось мерзнуть в окопах, из одного котелка есть кашу, стоять в дозоре.
Бороться с забулдыгами, людьми жалкими, странными, опустившимися, потерявшими человеческое достоинство, которые всем своим видом являли безоговорочную капитуляцию, – одним словом, с несчастными, было нелепо, а оттого еще горше.
Сталкиваясь, противореча одна другой, мысли разбегались. В голове у офицера царили хаос и неразбериха.
И вдруг он принялся жалеть работяг, хотя обошлись они с ним не особо приветливо. Живут мужики сиротами на земле-мачехе, всхлипнул он, скитаются по белу свету, ни в одно место корнями глубоко не прорастая. Укрываются от непогоды, уворачиваются от пинков. Каждый, кто поувереннее держится на земле, понукает ими, отвешивая затрещины и оплеухи. Немудрено, что и корни отсохли, и родовая память спит…
– Ни памяти, ни веры, – хрипел старик, утирая со лба испарину.
Вспомнилось, как много лет назад он солдатом служил на границе, и до самого горизонта, куда только хватало глаз, перед ним простиралась необъятная даль пустой, выжженной земли, на которой и взгляду не за что зацепиться.
Иногда откуда-то из-за гор прилетал ветер, поднимая песок, опаляя лица солдат невыносимым жаром, и на военный гарнизон надвигалась степная трава перекати поле. Рассыпая семена по дороге, наступали на город шары с отсохшими корнями, – до тех пор, пока какое-нибудь препятствие не вставало поперек пути. Гонял ветер траву по белу свету, по полям, по дорогам, относил на сотни километров от места рождения, и нигде она не находила пристанища.
– Чума, чума, – стонал старик, лежа на боку, держа руку под сердцем, которое заходилось от воспоминаний. – Чума, зараза…
Время упущено, сокрушался он. Выросло не одно поколение людей заболевших, перекореженных, не приросших корнями к родной земле, похожих на степную траву перекати-поле, с горечью думал.
Стало трудно дышать. Точно от кровопотери, силы покидали старика, заполняя жилы страхом отчаяния. И землю отнять можно, и богатство, и даже саму жизнь, плакал он, но если лишить человека веры, памяти, то вместо любви кровь наполнят смрад и яд. И всему живому на свете наступит конец.
Спустя минуту думы старика двинулись в ином направлении. С тем же неиссякаемым жаром он принялся жалеть своего успешного, крепко стоящего на ногах сына, хотя сравнивать Сашкa с вчерашними мужиками диковатого вида можно было лишь в том состоянии душевного отчаяния, в котором Василий Иванович пребывал этим утром. И опять что-то не складывалось у пенсионера в голове, не находил он покоя.
Живет сын в собственном доме, рассуждал отец, и безгранично далека черта, которая отделяла его от работников кладбища. Но разве эта удача делает сына счастливее? Трудится Сашок день и ночь, приумножая капиталы, не имея возможности ни остановиться в забеге, ни с дистанции сойти.
Достаток ли создает в душе благодать, думал старик, не находя ответа.
– Чайку попьешь? – спросил отец Сашка, когда однажды поздно вечером тот зашел в гости навестить родителя.
Сын нервно дернул головой, вжимая голову в плечи. Что означал странный жест: отказ? Согласие?
Василий Иванович вздохнул и направился на кухню вскипятить чайник. Разлил кипяток по чашкам. По воздуху поплыл аромат земляники.
– Мать ягоды сушила? – Сашокпридвинул чашку поближе и, склонив голову, втянул в себя горячий пар.
– Она, горемычная… – Судорога исказилаВасилию Ивановичу лицо. – Больше некому.
– Видно, жарким летом урожай собирала. Щедро ягоды солнцем пекло,– отхлебнув, сын зажмурился от удовольствия. – Вкусно. Как в детстве.
– Хмурый ты что-то сегодня. Много дел?
–Работы мало не бывает.
– Отдохнуть бы тебе… – Отец с затаенной нежностьюсмотрел на сына, робко лаская теплым взглядом из-под нависающих бровей. Не решался при сыне обнаружить в себе сентиментальность: как бы, изъян.
– Подрядчики торопят, не до отдыха.
– На рыбалку съездилбы, отвлекся…
Сын промолчал.
– Машенька приходила, – сказал отец.
Сашок резковскинул голову. Но тут же поспешил спрятать глаза.
– И как Маша поживает? – спросил деланно равнодушно, зевая, отворачиваясь от отца.
– Улыбалась, – Василий Иванович украдкой наблюдал за сыном.
– А приходила зачем?
– Навестить старика.Окна помыла, чистые шторы мне повесила. Сам не могу. Рук не чую, будто чужие … А в окно мне, старику, поглазеть все ж таки охота. На нарядную улицу, вечером – в огнях. Чем не спектакль?
– Чистота –это хорошо. Гигиена… – Сын вздохнул.
–Вечерами у окна, как в партере, сижу, приход весны наблюдаю. Апрежде мрак стоял.Люди домой торопятся к ужину, дети на качелях, машины сверкают, гудят… Скорочеремуха во дворе зацветет – тоже увижу.
– Тепла еще ждать и ждать – весна не больно спешит.А для меня что Маша припасла? Приветом отделалась?
– На кой ты ей нужен?! – повысил голос отец.
– Как это? – шутливо возмутился Сашок. – К тебе приходила, амне -ни словечка?
– Ты пей чай, пей. Ишь, возбудился… К чемузнать-то? Со мной, стариком, побыла, о том – о сем толковали… Душевная женщина, светлая.
– Любит меня?
– Любила! – прикрикнул Василий Иванович. – А ты, дурная башка, проворонил девку, – сказалсердито и вдруг усмехнулся словам, которыеневольно усвоил от работяг с кладбища.– Одним словом, дурная ты башка, сын!
– Что было, то прошло, батя.Я ни о чем не жалею.
– А чего печалиться? Радуйся! Кто не велит? Смотрю на тебя во все глаза и не выходит же… радоваться! Не больно ты светишься!
– Не береди душу, батя! Сын растет у меня. Нет большей радости на свете.
Старик удрученно кивнул, соглашаясь.
– Что не так? У Маши все в порядке?
– Живет счастливо, говорила. Да чую, скрывает что-то. Смотрела странно…
– Как смотрела? – взволновался Сашок. – Что не так?
– Точнозаплакать хотела…
– Это, батя от воспоминаний, – Вздохнул сын.
– А твоя-то, твоя… – Со злостью вдруг сказал отец, – Не переломится в сострадании. Ни супа старику сварить, ни в квартире прибраться. Одни пустые разговоры. Себя любит.
– Ты это брось, батя. Зови уборщицу, я заплачу.
– Ни к чему эта суета, – Василий Иванович сердито запыхтел, уткнувшись в чашку. Кабы в супе дело…
– Как живешь-то? Денег надо? – спросил Сашок, оглядываясь по сторонам, разглядывая тесную кухню холостяка, не наделенного крепким здоровьем.– Чистенько у тебя…
– К матери бы наведался, – ответил Василий Иванович, не желая вызывать в сыне жалость. – Скучает матушка о тебе.
– С тобой не соскучишься, – Сашок засмеялся. – Ты ей покоя не дашь. День и ночь визитами донимаешь.
– А как же без общения? – воскликнул старик. – Весна надвигается,фундамент у памятника, гляди,поплывет. И ограду надобно освежить, подкрасить.
– Не ходи к матери, женихов не спугивай.
Василий Иванович вздрогнул. Сын с улыбкой смотрел на отца.
– Все шуткуешь, – проворчал Василий Иванович.
– Не мешай. Замуж мать на том свете выйдет,а ты ей помехи чинишь. – Сын зевнул. – Устал я что-то, батя. Домой пойду. Завтра дел не переделать.
– Тяжело тебе, вижу, – С грустью сказал отец и поднялся вслед за сыном. – Спешишь, всенекогда…
– Нормально мне, батя. Кто иначе живет?
– Все крутятся, – согласилсяВасилий Иванович.
– Машенька красивая, говоришь? – Сашок задержался на пороге.
– Светлая. Улыбалась…
У окна замедляя движение, облака разбегались в стороны и, уже невидимые старику, плыли дальше. Им на смену, вовлекаемые в плавное течение, приближались новые снежные шапки.
Василий Иванович жалел в данный час о том, что нет этим утром рядом с ним сына – как хотелось бы разделить с Сашком изумление от увиденного. Дурак, дурак, горячо зашептал он, сколько лет живу, по улицам хожу, голову вверх задираю. А небо-то, небо… Точно не видел такого, столь многозначительного, прежде.
И сын так же, подумал с грустью, могуч, плечист. Крепко на земле стоит, и все больше себе под ноги смотрит. Голову вверх не вскинет, не полюбуется тем, что вверху сияет. Редкий человек имеет возможность о том размышлять.
Внезапно старик вспомнил, как в редкие, свободные от офицерской службы деньки он провожал сынишку на занятия в музыкальную школу.
Затаив дыхание, слушал мелодию, поджидая Сашка в коридоре, которая рождалась от робких движений маленьких пальчиков по клавишам и летела к нему, ласкала ухо. Он помнил свою тихую, блаженную улыбку на губах, и не было в тот час счастливее человека.
Учителя сына хвалили: хорошо интонировал, ритм чувствовал, способен на экспромт. Будет стараться, говорили, в музыканты сгодится. Музыка влекла сынишку. Родителям приходилось даже следить, как бы мальчонка и остальные уроки не забыл выучить, и футбольный мяч во дворе погонял.
Сашок музыкантом не стал – подался в строители. Отец выбор сына одобрил: и крепкая профессия, и творческая. С фантазией, прикинул, и в архитектуре городских улиц без труда обнаружишь симфонию.
Внезапно старика захлестнула неудержимая жалость к сыну, на которого он порой сердился, упрекая в бесчувствии, не упуская подходящего случая покритиковать всласть, но которого всем сердцем, тайно и нежно любил.
Прорываясь из глаз горячими слезами, жгучий поток вселенской любви разрывал больное стариковское сердце.
Давно стала мокрой подушка, а влага все текла и текла по глубоким морщинам, точно по рекам, со щек на грудь. И страдал он теперь, не жалея больного сердца, не о чужих и неприятных мужиках с кладбища – сирых, злых и убогих, а о своем Сашке. Хотя и землекопам он тоже, как мог, глубоко сочувствовал.
Печалился Василий Иванович о своем белолобом сыне – не только потому, что человеку не обремененному, с пустыми карманами, легче жить, и нет на свете людей свободнее землекопов. Оттого жалел он больше других Сашка, что сын он ему, родная кровинушка.
Что есть проще? Что понятней?
Причудливо соединяясь, мысли старика являли странный хоровод, сопровождающий скольжение облаков в небе.
– Да-а, да-а… – всхлипывал и скулил он, – да-а…
И деловитый бригадир кладбища, и сын его – раб-строитель, не знающий покоя, и даже священник, который в угоду золотому тельцу лицемерил, оскверняя душу, кооперируясь с бизнесменами, – все встали этим утром перед стариком строем. Шли в затылок вместе с нищими, убогими, спотыкающимися, хилыми духом.
Солнце струилось сквозь облака, лизало пух, и от восхитительной красоты, которая разрывала грудь, старику хотелось умирать и возрождаться.
– Да-а, да-аа… – только и повторял он, не в силах оторвать взгляд от картины за окном.
От раздумий о самом себе и о конкретных людях мысли, подхваченные воздушным потоком, понесли его совсем в другом направлении, совсем далеко – к переменчивому, стремительно ускользающему горизонту. И спустя мгновение старик с упоением принялся рассуждать о счастье, добре и справедливости, так недостающих каждому.
Неотрывно всматриваясь в небесную синь, он ждал чуда прозрения. Бессильный соединить воедино чудовищно противоречащие картины, стонал и задыхался. Боль любви ко всему живому переполняла стариковское сердце, но утешение не приходило.
Плыли облака – стремительные и легковесные, манила глубина – ликующе-звенящая. Безбрежный океан небес хранил безответную тайну – невыносимую, непостижимую…
Дыхание ночи
– Ау!!! Ау, Аннушка! Выходи! – кричал Дроня, озираясь по сторонам.
Его отчаянный зов устремился к верхушкамсосен,которые высоко стояли за спиной, вспугнул присевшую на ветке сороку. Недовольно вскрикнув, птица с шумом взлетела.
Мальчик злился на Аннушку, которая, махнув ему рукой, убежала в заросли можжевельника, и уже битый час он тщетно кружилмежду деревьев в надежде отыскать подружку.
День догорал.
По тропинке, сплошь усеянной черникой, ребята шли домой с озера. Выйдя из темной чащи на пригорок, залитый солнцем, девочка позвала Дроню поиграть в прятки.
– Дежурь! Не подсматривай! – крикнула она ему, указав на толстую ель, и пока Дроня закрыв глаза стоял удерева, честно отсчитывая до десяти, стремглав скрылась из виду.
– Где ты, Аннушка?!
Мальчикне заметил, как вголос прорвались слезы. Он терпел. Как мог долго,давил в себе страх, который охватывал его с каждой минутой все сильнее.
Пробираясь сквозь ветвидубов-великанов, солнце бросаломедный отблеск на лес.Длинные тени затопили поляну.
Стараясь не поддаваться отчаянию, Дроня принялся корить себя.Всегда-тоон,как телок привязанный,идет у подружки на поводу, думал.
Озорнаясмешливая Аннушка была мастерицей придумывать развлечения.
То принималась затейница с птицами разговаривать, и Дроню приглашалапоиграть. Чирикала, точно синичка, смущая залетных птиц.Или, притворившись дятлом, наказывала ему стучать палкой, в такт своей щебетне издавать резкий, ритмичный звук. А Дроня рад радехонек, не возражал девочке.
Заливались трелью, сидя на крыльце, вторя лесной песне, а так ли на самом делептицы поют, дажеПетру Ивановичу – бывалому охотнику,невдомек было. Плел корзину лесник в сторонке, помалкивал. Слушая детскийптичий концерт,в бороду посмеивался.
Однажды захотела Аннушкапостроить для Тимки новое жилище. Думая о том,чтонастанут времена, когда холостяк бельчонок обзаведетсясемьей, дети дружно собирали по округе мох и веточки. Появится у зверьков потомство, рассуждали, и им найдется интересное занятие: дрессировать малышей. Увлекшись затеей, Дроняпилил и строгалдощечки – старался угодитьТимке.
Часто ребята ходилинапристань посмотреть набольшой пароход с мачтами, мечтая о времени, когда повзрослеют и отправятся в путешествие.
На обратном пути Аннушка непременно тянула Дроню на кладбище. Не по душе мальчику был этот маршрут, но онбезропотно плелся за подружкой, не желая подавать виду, чтоне по душе ему эта прогулка. И что застрасть к могилам ходить, молча возмущался. Боялся, дрожалкак осиновый лист, нотерпел, тренировал волю.
Вот и сейчас, подумал мальчик, притаилась стрекоза где-нибудь за кочкой и смотрит, как он точно раненый зверьмечется по поляне, не понимая, в какую сторону бежать на поиски. Рот зажала рукой, чтобы смехом себя не выдать, наблюдает за приятелем из-за дерева.
ЩекиДрони залил румянец. Он кинулся было к осинкам, закоторыми скрылась девочка, но внезапно остановился. Принялся вспоминать,в ту ли сторонуубежала подружка? Прикинул, чтои у поваленного дуба на пригорке в цветных сарафанах осинки сошлись, словно на прогулку. Приобнялись, листочками еле слышно шепчутся.Замерли, прислушиваясь к шорохам чащи…
И тут Дроня увидел, чтомежду деревьями мелькнулаяркая косынка девочки. Облегченно вздохнув, он бросился следом за видением, смеясь над собой и своим недавними страхом.
Мальчик не помнил, как долго он бежал за подружкой. Казалось, что ее звонкий голосок он слышит где-то поблизости. Увлекая Дроню за собой, девочка смеялась – то тихо, то в полный голос. И ее чистыйсмех-перелив Дроня не мог перепутать с другим колокольчиком.
Следуя за Аннушкой,мальчиквсе дальше углублялся в чащу.
Когда тропинка, по которой он мчался, вдруг исчезла, авместо теплых, солнечных и миролюбивых сосен, осин и березок перед ним вырос непроходимый частоколелок – мрачных,колючих,отродясь не видавших света, Дроняпонял, что следовал не в том направлении, заблудился.В лицопахнуло прелым запахом топи.
Страх пополз по груди.
Гоня мысль о том, что впередижгучая ночь,непроходимая тайга и неизвестность, Дроня возбужденно принялся продираться сквозьколючие, острые, спутанные веткипапоротника и можжевельника, не понимая верной дороги.
– И как ты из леса-то выбрался, бедолага? – все сильнее пугаясь и крепче прижимаясь к Дрону, тихо спросила Люська.
Они повстречались на перепутье улиц-дорог, неподалеку от храма. Слившись с сумерками, с темно-серым, будто полинявшим после захода солнца небосводом, который всего пару часов назад был ярким полным жизни, Люська шла навстречу ему из города. Дрон с трудом разглядел в темноте женскую фигуру.
Пройдя через ворота, она на секунду замедлила шаг и внезапно как бы подросла, приосанилась. Казалось, тяжелый груз, который она несла на плечах из мирской жизни, остался за спиной. Походка приобрела плавность и сдержанность.
Перемена в людях при входе на кладбище всегда удивляла Дрона. Так же неприметно, как сходит краска с венков, с лиц пришедших в миг исчезали тревога и суета. Молодой ли человек, старый ли, – все вдруг становились одинаково беззащитными перед Тишиной обнаженной Тайны. Бесстрастная реальность без прикрас, вставшая перед взором, оглушала каждого, кто переходил границу, черту. Не заметить перемен было невозможно.
– Страшно было в лесу? – спросила Люська, тревожно вглядываясь в лицо Дрону. Он чувствовал у своей груди дрожь ее горячего тела.
– Страх подкрался незаметно, окутал туманом, – ответил. – Он и таил главную опасность. Не ночь, не бурелом, поваленные деревья, гниль или топь под ногами.
– Испугавшись, человек может лишиться сил, а бессильный – сгинуть, – переводя дыхание, согласилась Люська.
– Я этого боялся! Отчаяние, словно удар в голову, затмевало рассудок. Мне хотелось сесть на землю и расплакаться. Я был беспомощен перед лицом зловещей природы, не имея возможности ей противостоять. Чтобы выжить в лесу, нужно было собрать волю в кулак.
– Ты продолжал идти?
– Я знал, что страх поглотит, если я только подумаю остановиться. И потому шел, превозмогая усталость, уже не думая ни о правильном направлении, ни о приметах, которыми пользуется охотник, который сбился с пути.
– Главное – пробираться вперед…
Дрон кивнул:
– Да! Мой мозг как-то определял верное направление. Я ждал, когда усталость мышц победит растерянность. Вот он лес, думал я, но не тот, дружелюбный, дающий покой и умиротворение, знакомый мне с детства, а дикий, беспощадный. Он надвигался на меня мраком и холодом. Кем я, – маленький перепуганный мальчишка был для Великана?
– Щепкой, тростинкой… – протянула Люська.
– Все вокруг напоминало первые дни сотворения мира. Природа обернулась ко мне суровым взором. Ступая с величайшей осторожностью, я все время смотрел себе под ноги, не видя тверди. Шел вперед, испытывая холодный, липкий, животный страх. Запутавшись в колючих ветках, споткнувшись о кочку, падал ниц. Природа была равнодушна к моим страданиям.
– Бедный мой, Дронюшка…
– Мне хотелось хоть как-то себя успокоить. «Эй, лес! – кричал я верхушкам елей, которые едва различал в темноте, – Ты велик и в твоей власти загубить мою маленькую, ничтожную жизнь, пустую и бесполезную для тебя. Но зачем тебе эта жертва? Разве кто-то посмеет усомниться в твоем величии?
– Ты разговаривал с лесом? Он услышал? – Глаза Люськи восхищенно вспыхнули в темноте.
– Это были самые простые слова, которые вырвались из моей груди вместе со слезами. Сказаны они были с горечью и надрывно, и вовсе не так красиво, как звучат сейчас, – улыбнулся Дрон и прикоснулся горячими губами к прохладной щеке любимой.
– Но это были самые искренние слова, – прошептала она.
– Да, – ответил Дрон, – и я знал цену каждому из них. Милая, милая моя, – вдруг простонал он.
– Это была молитва! – не дав продолжить ему говорить, догадалась Люська, пугаясь еще сильнее : тому ли, что пережил маленький Дроня в чаще много лет назад, или тому, в чем он хотел ей сейчас признаться.
– Наступило прозрение, – сказад Дрон. – Я отчетливо осознал несоразмерность жизни каждого существа перед лицом первозданной природы. Наверное, так и приходит к человеку вера – в минуты смертельной опасности.
– Каждый верит, что кто-то более сильный обязательно защитит.
– Я плакал и что-то в лихорадке говорил в свое оправдание, обращаясь к ветру, лесу, небесам, и вдруг почувствовал, что в тайге не один.
– Тебя услышали?
– Было Нечто, стоящее за спиной, и Оно не страшило. Растаял туман в голове, и разум ко мне вернулся. Я прозрел.
– Бог? Это был Бог? – воскликнула Люська. – Ты встретился с Богом?
– В ту страшную ночь я впервые ощутил Его Живое Присутствие. Он откликнулся на мой отчаянный вопль о помощи, на призыв отвести беду. В тот миг я поверил – безоговорочно и навсегда.
Широко раскрыв глаза, едва сдерживая восторг, женщина потянулась к Дрону, как росток к солнцу.
– НЕКТО с лаской обнимал меня за плечи. Это было легкое, осязаемое, живое тепло, в котором я желал раствориться. Я не видел Его, не знал Его обличия, но это было так же реально, как и то, что я сейчас стою рядом с тобой и держу в своей руке твою ладошку, – Дрон тихонько сжал Люськины теплые пальцы. Некто Большой незримо касался меня, защищая. Я это чувствовал.
– И ты нашел дорогу домой?
– Я успокоился. Прошел в бреду заросли и вдруг увидел перед собой пни и поваленные деревья. Это была вырубка, а значит, где-то рядом, решил, есть люди. Радость, что я не один в лесу, придала мне силы. По неприметной тропе, которую прежде не замечал, вышел на широкую дорогу.
– Ты не видел тропинку? Из-за лихорадки?
– Именно так спустя время я и пытался объяснить себе все, что со мной случилось. Думал о том, что животный страх ослепил, и он был причиной моих злоключений. И любой, окажись на моем месте, искал бы оправданий. Но память говорила мне, что дело в другом.
– В вере?
– Вера вспыхнула во мне, как спичка, – без условий, без договора, не в ответ на нравоучения, и не в обмен на привилегия. Не из-за принуждения. Это был мой опыт.
– Ты потянулся к Великому?
– Изо всех тщедушных сил маленького человечка! – воскликнул Дрон. – «Господи, где же ты есть? Помоги мне!», – озираясь по сторонам, спрашивал я небо и лес, тишину.
Я поверил, что Создатель не допустит моей погибели и откинул от себя всякую мысль о том, что умру в лесу от жажды и голода или оступлюсь в темноте о камни, а хищные звери растерзают меня.
– А как же Аннушка? – вдруг спросила Люська. – Она-то поняла, что ты заблудился?
– Аннушка перепугалась насмерть и подняла страшный шум. На мои поиски вышли охотники с ружьями. В общем, было дело… – засмеялся Дрон.
Он вспомнил свое возвращение в сторожку. У озера, в котором ребята рыбачили в свете дня, Дроне повстречались деревенские жители. Девочка, увидев мальчика, с криком бросилась навстречу и повисла у Дрони на шее, тычась в щеку зареванным лицом. И до самого дома не отпускала от себя, боясь потерять снова.
Несмотря на холод и усталость, Дроня улыбался радости подружки и ее горячим слезам, напрочь забыв о прежних обидах.
И теперь, спустя столько лет, Дрон все еще помнил жаркое дыхание девочки на своей прохладной щеке.
– Вот проказница! Ей забавы, а ведь ты и погибнуть мог, – глухо проворчала Люська. – О чем только думала твоя Аннушка?
– Смешливая она, веселая. Не из вредности спряталась от меня, без дурного умысла.
– Покричала бы тебе…
– Когда поняла, что я заблудился, места себе не находила.
Вспоминая детскую историю, Дрон улыбался, не замечая ревности в голосе Люськи.
– Любил ты Аннушку? – спросила она, нервно дернув плечом.
Дрон замялся. Люська ждала признания.
– Как определить? – неуверенно сказал он. – Любил-не любил. Тепло на душе, радостно, когда вместе. Подружка, вроде сестренки мне…
– Что же, и не целовались? Ни разу? – вскинув голову, спросила Люська, и Дрон смущенно отвел взгляд.
Захотелось рассказать, как однажды в зарослях малинника он увидел девчушку, перемазанную ягодами, и ему вдруг нестерпимо захотелось расцеловать ее нежно-сладкую мордашку. Чтобы избежать искушения, он зажмурился. Смеясь, Аннушка проскользнула мимо него и сама чмокнула мальчика, оставив на щеке аромат вкусных ягод и легкий, безобидный малиновый след.
Дрон промолчал, боясь потревожить чувства женщины.
– Вспоминаешь свою подружку? – не дождавшись ответа, осторожно спросила Люська. – Скучаешь по ней?
А Дрон снова не знал, что сказать на это. Он не видел Аннушку много лет, но когда думал о семье, о таежной деревне, леснике Петре Ивановиче, то обязательно вспоминал и девочку. Память являла теплые летние дни и ветерок, настигающий сытным запахом поспевающих трав. И так не похоже было его чувство к Аннушке с тем, что он испытывал к Люське. Поди разберись, что есть любовь.
Аннушка волновала его, но как-то иначе. Воспоминания о ней были светлыми, легкими, греющими душу. Подобно солнцу, которое ласкает лицо, Аннушка была бесплотной, сотканной из ягод, воздуха и облаков.
А Люська была земной и осязаемой. Тоска по ее живому теплу отзывалась в Дроне жаром тела, острой болью, ознобом и лихорадкой. Он страдал по ее судороге, яростным стонам и дыханию, мягким безвольным рукам, которые обнимали его за плечи. Он исступленно ждал женщину ночью, желая владеть ею без остатка.
Чувствуя трепет и затаенную нежность, с которыми Дрон говорил о девочке, в Люське зарождалась ревность. Она страдала, но не давала глупой обиде в себе прорасти. Не смела проявить боль. Кто она ему? Ни сестра, ни подруга детства, думала с горечью. Чужая жена. Грешница.
– Вот и весна, – Судорожно вздохнув, сказала. Посмотрела вдаль, в слепящую темноту. – Пришла, Дронюшка, еще одна весна нашей жизни…
И Дрон понял, что сейчас, именно сейчас, ему и следует сказать Люське о том, что его так мучает. Настал тот самый подходящий момент. И давно уже стоило завести этот важный разговор, а он, бог знает почему, вдруг принялся вспоминать, как однажды заблудился в лесу, и что испытал при этом.
– Ждет тебя Аннушка в родимых краях. Наверное, все глаза проглядела, – Неожиданно сказала Люська.
– Вряд ли, – слабо возразил Дрон. – Столько лет прошло с той поры, как я в армию отбыл. Много воды утекло.
– А рассказываешь так, будто только вчера это с тобой приключилось.
– Детство… Кто не помнит о нем? В детстве и небо выше, и солнце ярче, и трава зеленей.
– Тянет домой? – Не решаясь взглянуть на Дрона, спросила Люська. – Нисколечко?
– Бывает, зовет кто-то.
– Кто знакомый?
– Не человек и даже не могила, а будто земля шепчет. Накатит волной печаль, жилы рвет. Проснусь ночью, руками вокруг себя шарю. До боли в глазах гляжу в окно, взгляд по углам прыгает. Не сразу вспомню, кто я таков и откуда прибыл. Лежу в беспамятстве. Силюсь понять, как я в чужих краях за тысячу верст очутился? Что со мной приключилось? Хотя, если прикинуть, нынче в тайге и дома родителей нет: ни крыльца, ни завалинки – может, лишь печка. На беду, вся деревня сгорела. И березку во дворе, что когда-то с мамкой сажал, поди, съел пожар. Смотрю в потолок, в темноту, и молчу. Мычу – нету мочи…
– Надо ехать домой, Дронюшка…
Люська сказала главные слова, на которые он не решался, избавив Дрона от мучительных объяснений.
«Надо ехать домой»!
Они дались ей легко, без принуждения, и Дрон был очень благодарен за них, но радости не почувствовал.
Надо ехать домой, повторила Люська еще раз, и в порыве судороги они потянулись друг к другу. До хруста, добела сцепились руками, решаясь на разлуку и страшась грядущего расставания. На опаленных губах Дрон чувствовал жар Люськиной пульсирующей вены.
Оглушила тишина. Невыносимо жгучее, зияло небо.
Он страстно желал, чтобы Люська сказала – мол, и она поедет в тайгу. И заживут они вместе верно, тихо и преданно вдали от странного города, который когда-то приютил Дрона, так и не став родным, не страшась огласки и чужих беспощадных глаз.
Дрон горько вздохнул.
Много раз он звал Люську и хотел жить с ней привольно, не таясь, и любить открыто. Сердился, что всякий раз на его речи она неизменно качала головой, отметая от себя и мысль оставить постылого мужа.
– Не о себе пекусь, а о сыне, – говорила она, сильно возмущая Дрона.
– Не чужой мне сынок твой, коли не знаешь? – повторял Дрон, – Разве я мальчонку обижу? Меня самого лесник – посторонний человек – заместо отца воспитывал.
– Спасибо, что зовешь нас с собой. Нежишь и балуешь. И сыночек мой льнет к тебе. Только отец ему Петька. Любит он злодея и жалеет по-своему. Что же ему сиротой быть? При живом-то отце?
Дрон не спрашивал о том и сейчас. Знал Люськин привычный ответ: с мужем, алкоголиком Петькой, останется век вековать.
Сцепив руки, стояли они под черным сводом холодного неба, равнодушного к их счастью-беде. Слушали дыхание ночи, гул ветра, со стоном проносившимся над пустырем, до боли в глазах всматривались в родные лица, стараясь запомнить каждую черточку. И не было в этот час силы, способной растащить их по сторонам.
Плыла ночь, вдали сиял город. Жгла луна. Двое живых и любящих, так нужных друг другу, еще способных обрести счастье, стояли на перепутье дорог, в окружении могильных крестов. Придавленные, точно тяжелой плитой, жизненными обстоятельствами, запутанные странным лабиринтом условностей, из всех возможных исходов они выбрали путь жертвы – царственной, холодной, безжалостной.
Чем яростнее сияли звезды, тем крепче зрело решение: мучаясь и страдая, нести свой крест в одиночестве. Жить безрадостно, но честно, и предаваясь отчаянию, любить жертву в себе больше калеки-любви – вопреки желанию жить.
Они не сказали друг другу о том ни слова, не издали ни звука, но каждый понимал, что эта ночь – последняя, когда они вместе.
Покой безмятежности
Дрон издалека услышал чирканье тяжелых ботинок по льду. Некто невидимый надвигался из темноты. И внезапно как привидение, перед ними возник человек.
– Людей пугаешь? – чертыхнулся Дрон, узнав в незнакомце скандального старика, который от усталости едва стоял на ногах. – Почему домой не спешишь?
– Иду! А то не видишь? – буркнул Василий Иванович неприветливо.
– Ворота закрыты.
– Так открой! – приказал старик, останавливаяь. – Что за порядки ввели: чуть стемнеет, кладбище на засов?!
– Покойникам отдых нужен. И себя не бережешь, и жену визитами донимаешь.
– Не тебе судить! Открывай ворота!
– Подумал бы, дед, лучше о себе или о тех, кто жив. Успеешь к жене на свидание – все здесь будем, время придет.
Дрон полез в карман за ключами.
– Да разве живу я? – махнув рукой, еще сильнее склоняясь корпусом к земле, сказал Василий Иванович, внезапно потеряв силу голоса. – Хожу-брожу неприкаянный. Как есть, привидение…
От вновь внезапно нахлынувшей жалости к неугомонному старику Дрона пронзило острой болью.
– И ты, смотрю, за целый день не умаялся? Воздухом дышишь? А это кто же с тобой? – увидел Василий Иванович спутницу и шагнул к ним поближе.
Дрон почувствовал, как Люська съежилась под его плечом. Замерла, готовясь держать оборону.
– Подруга? Жена тебе? – спросил у Дрона, осматривая ее долгим, оценивающим взглядом.
Люська вскинула голову, ища в Дроне поддержку. Глубоко в глазах мелькнул страх.
– Пойдем, дед. Провожу тебя, – сказал Дрон.
– Нет, постой! – остановил его старик. – Уж не женой ли ты приходишься алкоголику, милая? – спросил он. – Это не о тебе ли мужики в перекур судачили? Мол, блудишь ты, со сторожем снюхалась?
Люська застыла в неестественной позе: то ли хотела спрятаться от колючего взгляда, то ли убежать прочь, в ночь, с глаз долой.
– Зло трендели о вас мужики. Склоняли да скалились. Вона какое дело, – задумался пенсионер, соображая.
Над кладбищем поднялась луна. Скорбь и тишину упокоенного города нарушал далекий, потусторонний звук электрички из города.
– Я так считаю, – сказал Василий Иванович, поразмыслив. – Нельзя вам по углам жаться – непорядок. Пора на белый свет выходить на подмостки. Любить нужно вольно, а жить открыто. Разом все насмешники умолкнут.
Слова пенсионера не удивили Дрона. Но в них он услышал лишь привычные нравоучения и совет следовать правилам. Он горько вздохнул.
К людям с одной мерой весов Дрон всегда относился с завистью.
И он хотел бы мир большой, не поддающийся охвату, втиснуть в заданную систему расчетов, чтобы легко отыскать верное решение. Но достанет ли на каждого всех заповедей, чтобы описать формулу жизни?
– Не думай, что я старик и из ума выжил, – будто прочитав мысли Дрона, сказал пенсионер. – Послушай меня! Поди далеко, на все четыре стороны, куда глазу глядеть хватит, – Старик вскинул руку. – Посмотри вокруг, на живых и на мертвых. Сколько людей было до нас! Каждый любил, страдал. Думал о своем. Прозревал… А сколько еще ребятишек народится после того, как уйдем? Где найти человека, кому ты один-единственный в этом мире важен? Любовь слаба и слепа, в темноте плохо видит. А потому беречь ее нужно.
Точно мягким пледом, их окутало тишиной.
– Любовь слаба, – С усилием повторил старик, блеснув в темноте глазами. – Только в ее нежности схоронилась великая сила. Жить и любить вам, молодым, коли время пришло! Взгляните на меня, старика – вот он я! Весь как есть, стою перед вами. Смотрите же! Хожу, брожу среди живого люда покойником. Мучаюсь, маюсь. Пугало ночное. Нет жизни без любви.
Старик беззвучно заплакал.
– Хлеб ем, дышу, пыхчу, ёрничаю, не в свои дела лезу, а мысль у меня лишь о том, как бы поскорее отправиться к жене на свидание. Уеду к любимой – навсегда, а не в гости, – сказал он, вытирая кулаком щеки, – и буду на своем месте.
– Дедунюшка, – прошептала Люська, – не плачь…
Острота обнаженных чувств обожгла Дрона. Проглотив ком в горле, он пребывал в растерянности, не зная, как ответить на признание. Хотелось утешить старика, но он не решался, боясь неловким словом или неумелый жестом обидеть сурового человека.
– Смерть и любовь всех примиряют… – сказал старик. – А любовь оправдает каждого.
– И грех? – Волнуясь, едва слышно спросила Люська. – Дедушка, а простит Господь грех любовный?
От слов женщины Василий Иванович рассердился не на шутку:
– Чего только не надумают глупые люди! Какие только слова Богу в уста не вложат, чтобы мудрость Всевышнего переиначить! С ног на голову истину переставить, – гневно воскликнул старик, сверкая глазами. – Не любовь, а блуд порицал Господь. Для того и страдал он, страшные муки терпел, чтобы с наших плеч снять жертвенный крест. Жить человек должен, радуясь. Любя, жить бесстрашно.
– Я спрошу у батюшки, – раздумывая над услышанным, тихо сказала Люська.
– Не всякий священник о том знает. И наш поп в городе вырос, ремеслу по книжкам обучен. А мне отец, умирая, заветные слова в ухо шепнул. Да я и сам теперь знаю. Смерть – она вона чего… Страшная, голую правду предъявит… Не хочешь, а умным станешь.
Василий Иванович махнул рукой и отправился прочь, оставив собеседников в странном оцепенении. Недолго был слышен за воротами глухой скрежет стариковских подошв по льду. И вскоре, слившись с ночью, тишина затопила кладбище.
Безмолвным зияющим одиночеством полыхало небо, полное звезд.
Василий Иванович смертельно устал, но шел в темноту, как в пропасть. Тоска, которая донимала его последние дни, препятствуя в сборах в дальнее путешествие, наконец, отпустила. Сочувствуя молодым, малознакомым людям, он до дна опустошил себя, и теперь испытывал облегчение.
Эх, ты! Дурная башка, хрипя, вздыхал старик, обращаясь к самому себе. Лед, кремень! Всю свою жизнь, боясь выглядеть постыдным слабаком, избегал в общении нежности. Сам отродясь не видывал, чтобы кто из его праотцов прилюдно ласкали жен, ребятишек – видно, как и он, не желали прослыть мягкотелыми. Словом неуклюжим, робким страшился обнаружить в себе изъян – человечину.
Возмужал, стал суров, могуч – дуб дубом – не хуже предков.
Слово… Что слово? Воздух, миг! Стон, вспышка. Звук терпкий, простой. Ласковый выдох, а человеку столько света, радости. Столько надежды!
Каждый час уходящей жизни был у Василия Ивановича на счету. В эту ночь старик как никогда страшился, что не успеет до отправления в небытие признаться дочери в главном – о том, что любит ее, колючую, всей израненной душой и дряхлым сердцем.
Непорядок, рассуждал он, с трудом передвигая ноги. Что за обиды могли их развести в стороны? Грош цена всем соплям и придиркам. Дурь и гонор.
На рассвете старик решил наведаться к дочери.
Пронзительно сиял небосвод. Нестерпимо ярко жгли звезды. Как безумные, в траве стрекотали кузнечики. С полей и садов, изможденных зноем, ветер разносил горечь полыни и аромат созревающих персиков.
Тугие ветви хлестали лицо. Не замечая боли, Василий Иванович продирался сквозь заросли виноградника навстречу призывному смеху любимой.
Тамарушка звала из глубины сада, и ее голос клокотал от нетерпения.
Старик все глубже уходил в ночь.
Под навесом из тугих лоз, охваченные восторгом полета, они скользили в мерцающей дали небесного океана, вдали от чужих глаз.
И это был их час любви.
Плыла луна. Сияли звезды. Вдали рокотало море, и ритмичный, глухой шум волн, сотрясающий землю, подгонял их древнее, как сама жизнь, желание.
Бездыханные, упоенные страстью, они стремились к долгожданной встрече, начертанной им судьбой.
Наконец, они были вместе, и, по-прежнему, молоды.
Счастье, восторг утопили желания.
Любовь, свобода и нежность, и стремительный бег к неуловимому горизонту, где перекатываясь по волнам, струясь, взлетая и падая, старик обрел покой безмятежности.
Отъезд
Сборы были недолгими, отъезд – стремительным.
Дрон так и не нашел в себе мужества встретиться со своим отцом, ради которого много лет назад, отслужив в армии, прибыл в здешние края.
Улицу и дом, где жил старший Дронов, он без труда отыскал сразу по приезду в город. В свободные дни часто подъезжал туда. Отец жил с другой семьей, он иногда даже видел родителя в ближайшем скверике: тот гулял один или за руку с маленькой девочкой. Но познакомиться родным не пришлось.
Тревожить жизнь отца ненужными воспоминаниями Дрон не решился. Ничего хорошего от свидания он не ждал. Понимал, что встреча для каждого будет мучительной, а разговор – пустым.
Лишь однажды они встретились взглядами: проходя мимо сына, Дронов-старший попросил огонька… запалить сигарету.
В день отъезда Дрон зашел в офис попрощаться с коллективом. Пожал руку Кериму, сдержанно кивнул работягам. Сбившись в кучку, зевая и хмурясь, землекопы изнывали от безделья, ожидая разнорядки начальника, молча пялясь на Дрона недобрыми взглядами.
Трезвый Петька как всегда ёрничал, скалился, но его взгляд скулил. И всем своим обликом алкоголик смахивал в этот час на зашуганную дворнягу, которую злобный хозяин пнул сапогом. Но вдруг бочком, угловато, бедолага приковылял к Дрону. Собрав остатки мужества, протянул на прощание шершавую пятерню. Под прицелом острых жалящих глаз внимающей публики они крепко обнялись.
Веселились скворцы. Не по-весеннему жаркое солнце пекло.
Дрон с хрустом двинул плечами, вскинул голову к небу, – казалось, взмахни он руками, взлетит. Медленно, вкусно, полной грудью вздохнул, наслаждаясь нечаянно обретенной свободой.
Проходя через ворота кладбища в город живых, он лишь на мгновение замедлил шаг.
Ольга Толмачева
Не в силах разорвать тугое кольцо жизненных обстоятельств, главный герой повести влачит безрадостное существование. В однообразно тоскливом течении дней есть у него редкие моменты истинного счастья – воспоминания о времени, когда были живы его бабка и мать, лесник Петр Иванович. Простая притягательная жизнь, чистые отношения, которые он хранит в памяти, как бесценный дар, заложили в нем незыблемые нравственные основы. Встреча при странных обстоятельствах с человеком другого, уходящего, поколения – неуживчивым, резким, не терпящим сантиментов, помогает принять важное решение.
Ольга Толмачева
Тихий гул небес
Вступление
Вступление
Сырое утро
Хребет земли, залитый солнцем, стремительно летел прочь, – и Дрон понял, что взмыл в небо. Внизу – широко, далеко – раскинулось поле в снегу. Ветер колол лицо. Ликующий взор скользил в бесконечность.
Удивляясь легкости тела, Дрон извивался, как лента, нырял в глубину. Разогнавшись, неожиданно замирал и, хранимый движением воздушных потоков, высоко парил над землей – сверкающей и нежно-желтой в лучах восходящего солнца.
Торжественный вихрь, пронзавший насквозь, наполнял сердце радостью. Ладони играючи размыкали свод неба.
Дрон мчался в необозримую даль – навстречу яркому дню.
СЫРОЕ УТРО
Было сырое утро. Боясь зачерпнуть жижу сапогами, Дрон нетвердо брел по рваной, разбухшей от талого снега дороге на дальний пустырь кладбища, куда редко кто-либо заглядывал.
Под воротник задувало. Стоял ранний гнилой март – ветер, слякоть, распутица. Тепло было призрачным, ехидно-лживым. От земли, едва поддавшейся ласке солнца, веяло холодом.
Дрон шел и сердился на бригадира Керима, который по злобе ли, бессердечности или за что-то ему в отместку, быть может, желая над бессловесным мужиком проявить власть, отправил горемыку по нехоженым тропам месить грязь. Ничем другим, как дурным характером начальника объяснить этот поступок Дрон не мог, как ни старался.
Трезвых здоровенных мужиков в коллективе днем с огнем не сыскать. Работы невпроворот, и разбрасываться лишней парой надежных рук, умело орудующих и отбойным молотком, и сложной техникой, спроваживая на целый день в сомнительную экспедицию, неумно и непрактично. Много людей умирало весной – гораздо больше, чем в иное время года.
Бригадир знал наверняка, что засветло обернуться Дрон вряд ли успеет – это в морозную пору лед намертво душит почву. Шагать по твердой дороге, пить сухой сладкий холодный дух – большое удовольствие. В талое же время пробираться пешком по бездорожью и врагу не пожелаешь. Но любая техника в подобном путешествии становилась непомерной обузой: и мощный трактор, и грузовик вязли в глине. Как ни старайся, ни спеши, вздыхал Дрон, полдня уйдет на путь в одном направлении.
И какая больно нужда торопиться, сокрушался: неделю-другую, а то и месяц повременили бы с геологическими изысканиями. Все равно, прикидывал, осваивать новые места получится не раньше середины весны – посуху, а может, и вовсе ближе к лету, когда теплая погода прочно завоюет позиции.
За пеленой плотных туч вставало солнце. Горизонт светлел на глазах, и в воздухе, все еще подернутом сизым туманом, стали отчетливо проявляться кусты и деревья. Зачернели проталины, извилистой лентой вдаль скользнула дорога.
От ходьбы стало жарко. Дрон замедлил шаг, ослабил на шее шарф. Переводя дух, осмотрелся. Полной грудью вдохнул. На мгновение ему сделалось нехорошо, словно он проглотил что-то теплое, приторно-сладкое.
Сапоги рыкали, чавкали и нехотя отдирались от почвы. Не замечая опасности, Дрон все глубже погружался в клейкий кисель и вдруг почувствовал под ногами пропасть. Земля поплыла, и он рухнул в бездну.
Это ужасающее состояние невесомости Дрону было знакомо с детства – однажды ребенком он угодил в болото. Неведомая сила больно зажала мальчика в тиски, когда он оступился на скользкой кочке, и хохоча, причмокивая, стремительно повлекла в трясину.
Теряя сознание, Дроня беспомощно барахтался в ее липких объятиях, чувствуя приближение к лицу зловония, душного дыхания воронки.
Цепляясь за острые кусты можжевельника в попытке остаться на плаву, Дроня изодрал в кровь руки, но от страха боли не чувствовал. Даже крик его был вялым и безжизненным, а слезы – беззвучными, похожими на плеск тихой волны о берег в траве. Силы в миг оставили мальчика, и он сразу, не успев сильно испугаться, перестал бороться за жизнь.
Лесник Петр Иванович чудом услышал в кустах безысходный детский плач. Думал, хлюпает зверушка в воде или киснет трясина. Перебродившее, перегретое за лето болото осенью квасилось и бурлило, словно зрело на опаре тесто.
Дроне сильно повезло, что в то утро поблизости оказался добрый человек. Говорили, в рубашке родился мальчонка. Не будь лесника рядом, в болоте бы сгинул. Может, Дроня потому и кричать не старался: невелик гриб, но понимал, что некого в дремучем лесу звать на подмогу. Место глухое и гиблое – за сотни верст ни души.
Мальчик намеренно ушел в чащу, подальше от дома. Надеялся в пустынном краю, на нехоженых тропах, куда грибников да любителей ягод калачом не заманишь, побольше морошки набрать. Прикидывал засветло отвезти урожай в город, успеть выручить денег. Если отправится в путь на рассвете, рассуждал паренек, нападет на ягодное место, то уже к полудню доверху наполнит лукошко. В обед в город со станции отправлялся автобус – на него и рассчитывал Дроня поспеть.
В тайге мальчик чувствовал себя без страха. Каждый год наравне со взрослыми приходилось ему ягоды и грибы собирать – бабке и матери помогал в заготовках на зиму. И скотину в лесу в одиночестве пас, и к мужикам на охоту привязывался, и рыбачил. По особым приметам, известным только ему, мог безошибочно определить, в какой год среди каких деревьев крупная да сладкая уродится малина, на каких почвах чернике раздолье, а куда поздней осенью направляться за клюквой.
Собирать морошку – одно мучение! Мало того, что растет она среди мха и бурелома, так еще замаешься за каждой ягодкой наклоняться: кустики низко по почве стелются.
Осенью за морошку щедро платили, потому как сохранилась ягода в эту пору лишь в сырых недоступных местах, где солнце – редкий залетный гость.
Но Дроня решил, что ему непременно повезет. Напади он в зарослях на вкусный ярко-желтый ковер из ягод, и тогда собирай урожай, сколько рук хватит, думал мальчик. На Дальнем болоте, скрытом от глаз, в низине, в мраке, морошки видимо-невидимо.
Ростиком Дроня был мал, телом – хиловат. Но это обстоятельство в сборе ягод ему шло в плюс. Чтобы до кустов добираться, не приходилось сильно спину гнуть, а значит, и усталость настигала не так быстро, как, к примеру, человека взрослого или долговязого. И руки у Дрони были проворными. Ладони небольшие, а пальцы тонкие – удобно сласть с веток рвать.
Путешествие на болото мальчик хорошо спланировал.
Встал затемно. Неслышно, чтобы не разбудить бабку и мать, вышел в сенцы, где с вечера в старых газетах припрятал луковицу и хлеб, под лавкой – одёжку. С полки в чулане достал корзинку. Надел шапку и дождевик, натянул на ноги резиновые сапоги и отправился в путь – в серой предрассветной дымке.
И Петру Ивановичу в сторожке в ту ночь не спалось. Было душно. Он ворочался на лежанке, смотрел, как через маленькое оконце под самым потолком в избу проникал тихий рассвет, прислушивался к дыханию леса и к сладкому посапыванию на печке Аннушки – дочка приехала к отцу на каникулы.
На душе у лесника было тревожно. Волновали покой во дворе и запоздалое пение синичек. Ветер стих. Лениво затевая привычный галдеж, птицы пробуждались неохотно. Березки у дома стояли недвижимо, покорно склонив к земле ветки – редкий листок трепетал.
Любопытные сороки – обычно бесцеремонные да базарные – и те куда-то запропастились и не спешили разносить сплетни по округе. И эти тишина и безмолвие за окном неприятно печалили лесника. Он маялся, страдал и никак не мог понять причину своего беспокойства.
Всю неделю он ждал Аннушку. Дни считал, когда детей в школе отпустят на вольницу. Загодя направился к пристани встречать дочку и, сильно волнуясь в душе, издалека наблюдал с нетерпением, как маленькой точкой кораблик с девочкой приближается к берегу.
Когда по лесной тропинке шагали домой, Аннушка веселой стрекозой летела впереди отца, срывая с кустиков поздние ягоды. А Петр Иванович ласково улыбался в усы, слушая щебет ее звонкого голоса, радуясь рассказам и смеху.
Темным вечером в сторожке они пили чай с медом и орехами, хрустели баранками, и Петр Иванович с умилением смотрел на подросшую дочку-тростинку. Разглядывал лукавое личико Аннушки с острым носиком в веснушках, которое напоминало мордашку лисички, любовался ярко-синими глазами, в которых плясали озорные огоньки. Восхищался тугой косой, которую девочка подняла на затылок, по-царски обнажив шею и плечики.
Свет лампы падал на середину стола. Отхлебывая из чашки, Аннушка тихонько причмокивала и тоже как-то особенно бережно посматривала на отца, а у него от нежности к дочке жаром пекло грудь, а глаза застилало туманом. Стесняясь потока редких трепетных чувств, Петр Иванович отворачивал голову от яркого света. Беспомощно жмурился. Стараясь украдкой смахнуть влагу со щек, тер до боли глаза железными кулачищами.
Пахло дымком от печки, смородиной и душицей. Тикали часики. Тихо, уютно и благостно было в сторожке.
Теперь же, в предрассветный час, лесник не находил себе покоя; мутило.
Много лет в заботах лесничего Петр Иванович пропадал в тайге, время от времени навещая семью в городе. Суеты наш герой не любил, его привлекали больше тишина и безмолвие. Среди многоэтажных домов и гула сверкающих улиц чувствовал себя неуютно.
Хоть и был лесник не из робкого десятка, но в пиджаке, специально приобретенном для выхода в свет, себя не признавал, оттого сильно стеснялся: и высокого роста, и косой сажени плеч, и загрубевших от трудной работы жилистых рук, и заросшего густой бородой лица. Казалось, что в подобном обличии он по-смешному нелеп и выставлен напоказ всему свету. По переулкам и площадям ходил дикарем, втянув голову в плечи.
В неволе городского жилья он и вел себя, как лесной зверь в клетке. Натыкался на стены, углы, задыхался от тесноты лифтов и лестниц, узких пролетов.
Всякий раз, отправляясь к родным на свидание, имел твердое намерение подольше пожить с семьей, но, страдая от собственной бесполезности в мегаполисе, начинал быстро скучать и даже впадал в депрессию. Не успев распаковать чемодан с лесными гостинцами, вскорости принимался планировать обратный путь.
Жил в тайге, за лесом присматривал. Дни считал – ждал Аннушку на каникулы.
Ворочаясь этой ночью на лавке и мучаясь от бессонницы, лесничему неожиданно пришло на ум, что следовало бы заглянуть на Дальнее болото – посмотреть, не случилось ли там какого происшествия. Свербело в душе, – а к себе Петр Иванович прислушивался. В тайге не было для него лучшего компаса, чем собственный, – свои переживания.
Надумав наведаться в далекие края, он тут же успокоился.
На Дальнее болото Петр Иванович выбирался не часто. За всю бытность лесничим пару раз побывать там пришлось – не более. Однажды геологов сопровождал, которые в здешних краях обнаружили месторождение никеля. А еще по просьбе одного хозяина, который посулил знатоку леса щедрую награду, разыскивал в тайге чужую собаку. Петр Иванович на деньги позарился – мечтал путевкой в пионерский лагерь порадовать дочку. Только зря обивал ноги – так и сгинул блудливый пес в глухой чаще, и косточки не обнаружились.
Посещать подобные гнилые места без особой надобности даже ему, опытному охотнику, ни к чему было: и далеко, и опасно.
…В библиотеке опустело. Повсюду погасили свет. Тусклая лампочка у входа в помещение освещала хрупкую фигуру Марии Николаевны. Стоя на пороге в пальто и платке, заведующая заунывно, запевно, но совсем беззлобно ворчала на Дроню, поторапливая мальчугана побыстрее отнести обратно на полку журналы по авиамоделированию. Убеждала прийти в библиотеку в любой иной день и сидеть в читальне хоть до темноты, а она ему выдаст и свежие журналы по теме, и прежних лет принесет из хранилища. Все равно, говорила, никто кроме Дрони в деревне их не читает. А нынешний вечер у заведующей занят – в школе у ее детей родительское собрание. Библиотеку нужно закрыть.
Дроню всегда интересовало то, что летает: бабочка, шмель, комар. Удивляло, что за сила толкает вверх живое воздушное судно, долго без устали держа на весу.
Думал, что легче всего взлететь тощему комару – проще, чем, к примеру, толстяку-шмелю. Крылышки у пузатого невелики, в отличие от комариных крыльев, и машет шмель ими реже. Выходит, что и совсем бы вспорхнуть не мог. Так летает же, парит!
Часами напролет наблюдая за насекомыми, Дроня подметил, как меняя угол наклона, шмель-тяжеловес с ловкостью заправского гимнаста изгибает крылья. Расслышал низкий, дрожащий звук, словно в брюшко мохнатого вживлен моторчик. Задумался: что за звук? Кого расспросить бы о том, размечтался.
Взрослые над вопросами мальчугана посмеивались, а мать ругала, на чем свет стоит, потому что считала Дронины интересы бездельем и глупостью. От лени блажь, говорила, если нечем заняться. И учительница – недавняя выпускница школы – от вопросов любознательного ученика уклонялась, потому что устройство шмеля с комаром не входило в программу по биологии.
Как-то у Дрониных соседей гостила семья с ребятишками. Однажды ребята направились запускать в поле воздушного змея. Восхищаясь невиданной красоте диковинной штуки, парящей на веревочках в небе, припустился следом за ними.
Ребята дали и ему подержать воздушное судно за стропы. Неожиданно змей высоко взмыл в небо, поддавшись порыву ветра. Дроня ослабил тугие жгуты и, ликуя, помчался за птицей. Натягиваясь, ленты звенели, звали ввысь – и большего счастья в своей жизни Дроня не ведал.
В какое-то мгновение ему вдруг показалось, что он и сам полетел – так высоко подпрыгнул. Однако, приземляясь, он неудачно споткнулся о камень. Упал, увлекая за собой красивую, но хрупкую игрушку, которая от нагрузки сломалась.
Спасая суденышко, мальчик не щадил себя и жестко упал, не сгруппировавшись, сильно ударился головой о землю. С локтями и коленками в ссадинах, босыми ногами, разбитыми в кровь, Дроня сидел на траве и плакал.
Он не слышал возмущенных голосов приятелей, которые подбежали к нему с тумаками. Но увидев Дронины горькие слезы и раны от камней и колючек, перестали браниться. Не чувствуя собственной боли, мальчик плакал от обиды,: красавец-змей превратился в груду обломков.
Опечаленные ребята ушли, оставив Дроню в одиночестве. Он вытер слезы и принялся собирать поломанные детали воздушного судна: нашел каркас, обшивку, крепления, куски разорвавшихся строп. Дома принялся чинить гордую птицу, пытаясь понять ее внутреннее устройство. Увидел, как воздух, проникая через отверстие в плотной ткани, создает натяжение – так возникает подъемная сила.
С этого момента в мальчике проснулась страсть к авиамоделированию.
В деревенской библиотеке нашлась специальная литература. Дроня увлекся и задумал смастерить собственный самолет. Но для этой затеи нужны были чертежи и расчеты, которые Дроня решил заказать в редакции журнала. К посылке прилагались точная копия маленького, но почти настоящего воздушного судна, а также подробная инструкция по сборке модели.
Не обращая внимания на сердитый голос библиотекаря, Дроня торопливо листал страницы. Задержавшись на последней, еще раз внимательно прочитал адрес редакции, запомнил.
Днями напролет мальчик ждал бандероль и копил деньги на покупку из тех немногих, что оставались от школьных обедов, но их не хватало.
К матери за помощью он обращаться не стал. Семья Дрони жила без излишеств, без мужской защиты. Мальчик видел, как мать берегла каждую копейку и радовалась любой работе, за которую ей хоть немного платили. Увлечение сына было для женщины, как кость поперек горла.
Дроня позарез нуждался в деньгах, и тогда он решил отправиться на Дальнее болото за морошкой.
Ранний гость
Ворота загромыхали.
Стук был настойчивым, требовательным. Дрон с трудом открыл глаза, но не увидел перед собой часов на стене: зияла темнота. Внутренним чутьем он понимал, что на дворе совсем рано.
За ночь дом выстудился. Через щель у порога и в отверстия рассохшейся крыши в жилище проникал мартовский ветер. Дрова в печурке почти догорели. Слабое мерцание едва тлеющей головешки лениво лизало пол. Спокойное дыхание горячей, полнотелой Люськи, ее живое тепло удерживали в постели. Подниматься на стук не хотелось.
Он понадеялся, что грохот с улицы ему почудился, и снова закрыл глаза, медленно погружаясь в сладкую негу, но скрежет металла ворот в очередной раз взорвал воздух. Прогоняя сон, Дрон нехотя поднялся с кровати и подошел к окну, выглянул на улицу из-за шторки. Мелкий дождик поливал серый от грязи двор, покрывая снег ледяной коркой. Небо плотно затянули тучи.
В мутном свете фонаря Дрон увидел фигуру пожилого мужчины и чертыхнулся.
В постели шевельнулась Люська.
– Кто там? – не проснувшись, спросила.
Дрон не ответил. Скрылся за шкафом. Кружкой зачерпнул из ведра воду. Рот обожгло холодом.
Люська резко села в кровати. Всматриваясь в темноту помещения и ежась от холода, она испуганно таращила на Дрона черные глаза:
– Кого нелегкая принесла? – тревожно спросила.
Темные волосы женщины беспорядочно разметались по голым плечам, едва прикрывая руки, шею и пухлую грудь. Люська была в белой ночной рубашке.
Дрон молчал. Взмахнув руками, потянулся, энергично заработал мускулами, чтобы хоть немного согреться. Стал одеваться.
– Да можешь ты словечко-то молвить, молчун! – Громким шепотом взмолилась женщина. – Неужто Петька?
Она опустила ноги на ледяной пол. Скрипнув пружинами, проворно вскочила с кровати и метнулась к окну. Рубашка со спины на ней задралась, оголив круглые бедра. Пригибаясь к полу, таясь, гостья осторожно заглянула за край занавески.
Внезапно Дрон почувствовал раздражение.
Набычась, он стоял у порога и смотрел, стараясь быть безучастным, как с гримасой ужаса на лице Люська крадется к окну, стараясь не скрипеть половицами, как, сидя на полу, надломившись спиной, тянет шею за шторку. С неприятностью ощутил, как его медленно наполняет брезгливое отвращение к женщине.
Дрон представил на миг, как он решительным шагом подойдет к блуднице и, схватив за голову, намотает на свой тяжелый кулак ее шелковые волосы, а потом без жалости потянет Люльку прочь от окна. Вскрикнув, она беспомощно упадет перед ним на мягкие колени и, точно на привязи, безвольно поползет за крепкой мужской рукой к порогу, и ее белое, роскошное тело, призывно зовя, возбуждая звериное, безоговорочно ему подчинится.
Сил владеть собой Дрону не доставало.
Он крепко сжал челюсти и, скрипнув зубами, замотал головой, отгоняя страшные видения.
Усилием воли отвел взгляд от босых Люськиных ног под бесстыдно задранной рубашкой. Пугаясь себя в своей ярости, задохнулся. Поспешил прочь из дома на волю, спасенный вновь прозвучавшим громким стуком в ворота.
Всю неделю Люська не приходила, и Дрон соскучился.
Вставал ни свет, ни заря – спал ли? Глотая дым, растапливал печурку. Долго сидел в темноте, наблюдая за языками пламени, которые нехотя лизали дрова. Сырые поленья шипели и выстреливали, а по полу, стенам и потолку прыгали черные тени.
Выпив жидкий чай, чтобы наскоро согреть нутро, отправлялся на работу. Весь день лопатой чистил снег и отбойным молотком долбил мерзлую землю. Копал – с перекурами на отдых и небольшим перерывом на обед – до тех пор, пока вокруг были различимы предметы, при любой непогоде. Это была тяжелая и изнуряющая работа.
В полдень он плелся домой, доставал из холодильника кастрюльку кислых щей, которыми его снабжала Люська, и пока суп закипал, а комната наполнялась острым ароматом чеснока и капусты, ложился как был в одежде на кровать поверх одеяла. Теплая утроба убогого жилища убаюкивала, и Дрон проваливался в липкий сон, как в пропасть.
Во сне он летал, как птица, – не чувствуя скованных рук, тяжести ног, лица, опаленного ветром. Под ним расстилалась земля, омываемая вихрем. Дрон ликовал.
Дневной сон-полузабытье быстро восстанавливал силы. Короткие минуты отдыха помогали продержаться до вечера. Сознание прояснялось. После тарелки горячих щей в животе становилось веселее. Дрон снова отправлялся на работу кромсать и грызть землю.
Изредка в странной череде однообразно серых тягучих дней случались исключения, когда чужой перелетной птицей Люська прибивалась к нему на ночлежку.
В свете дня Дрон не желал ни знать эту женщину, ни слышать о ней, но с наступлением сумерек вновь начинал исступленно ждать свидания, ненавидя и стук собственного сердца, и чуткое внимание к малейшим шорохам у дома, и свою лихорадку. Жгучей, жаркой волной из темноты на него надвигались боль, страх и отчаяние. Он тосковал по ее живому теплу, жару слабых женских рук, горячему дыханию.
Дрон нуждался в Люське, как маленький ребенок, который, сидя дома в одиночестве, ждет возвращения взрослых, томясь и пугаясь, напряженно всматривается в темноту, вздрагивая от едва уловимого звука.
Услышав гул железных ворот, осторожный скрежет щеколды, Люськино нетерпение на крыльце за дверью, он мгновенно приходил в равновесие, успокаивался.
С приходом женщины пустые углы жилища заполнялись чем-то влажным и живым, глупым, но осязаемым, и до рассвета в нем царил зыбкий, но все же домашний уют. Жизнь озарялась сомнительным смыслом.
Душная тайна их отношений изводила. Любовь, возросшая в грехе, сводила с ума. В душе зрел протест.
И сейчас, глядя на испуганное лицо своей гостьи, Дрона переполняла злоба. Презирая ее за нерешительность оставить постылого мужа и честно строить судьбу с ним, он ненавидел и себя, и женщину, с которой тайно похотливо грешил. По слабости ли, собственной нечистоплотности или потому, что как преступник, позарился на чужое, тискал в удушливом сладострастии ее пышное тело. Как в липкое болото, погружался в Люськину сочную плоть. Женщина задыхалась и стонала под ним, наполняя кровь горячей истомой, все глубже ввергая обоих в темную бездну. Он погибал, а спасение не приходило.
К горлу подкатил тошнотворный ком.
Сглотнув слюну, Дрон отворил дверь и вышел на воздух. В лицо пахнуло влагой. В воздухе повисла прелая взвесь. У крыльца скопилась большая лужа – дождь с крыши стекал под ноги, не попадая в водозаборную трубу. Дрон пожалел, что выскочил на улицу без сапог, но возвращаться домой не хотелось.
Взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, перепрыгнул через запруду. По снегу, покрытому тонкой глазурью, подкатил к чугунным воротам, едва не поскользнувшись.
За оградой, сутулясь, стоял худощавый мужчина без зонта, в мокрой меховой шапке. Длинные полы пиджака выглядывали из-под кожаной куртки. Отутюженные брюки темнели пятнами влаги. В руках он держал цветы, завернутые в газету.
Дрон узнал посетителя и хмуро кивнул ему, а тот, протягивая руку для приветствия, бодро шагнул навстречу.
В скудном свете фонаря вытянутое лицо мужчины с глубокими складками по щекам, матовый лоб, прямой нос с едва заметной горбинкой, тонкие бескровные губы выглядели неестественно бледными, точно восковыми. Вблизи мужчина оказался гораздо старше – почти стариком. Его ладонь была сухая и теплая – Дрон ощутил крепкое рукопожатие.
Шатуны
Своего раннего гостя Дрон приметил давно. Встречал его ранним утром по дороге на работу или видел сутулую, некогда высокую фигуру мужчины среди памятников и ограждений издалека, когда возвращался домой на обед.
Чеканя шаг, ритмично взмахивая руками, старик шел сквозь стройные ряды захоронений уверенной походкой профессионального военного. На кладбище, словно в родном городе, ему был известен каждый уголок. Казалось, он без труда мог бы найти нужную улицу, не особенно следя за маршрутом следования. Твердо знал, как, нырнув в арку или обогнув неприметный двор в цветах, можно значительно сократить путь к намеченной цели.
Худая спина мужчины с острыми лопатками и нервная неровная походка слегка портили впечатление от его бывалой, но по-прежнему отличной выправки. Он всегда нес букет. Летом это были луговые ромашки или колокольчики, зимой – цветы пластиковые, которыми торговали у входа на кладбище. Этим утром в руках незнакомца алели гвоздики.
Мужчина часто к кому-то наведывался – забавы ради, в их бригаде таких посетителей называли «шатунами». Эти люди, потеряв кого-то из близких, маялись, бродили по кладбищу, как призраки, потеряв счет времени, утратив чувство реального, ни в чем не находя утешения. Горе мертвой хваткой цепляло за горло, тянуло к земле плечи и головы. Свернув спины, не давало свободно дышать. Осознание пережитой необратимой потери было оглушительным и глубоким.
Казалось, «шатуны» впервые узнали о том, что люди умирают.
С этого часа думать о том, что впереди, для них становилось бессмысленным. Сердцем прочно овладевала тоска – сводящая с ума, не оставляющая в покое.
Беспомощный облик, робкий и растерянный взгляд, по-детски испуганное выражение лица, тугое, упорное несогласие с данностью, выдавали их душевные муки.
«Шатунов» лихорадило, их души знобило, а чтобы заглушить печаль, они в любую погоду, без особенной надобности, отправлялись на кладбище. Этот ежедневный ритуал становился опорой бытия, смыслом существования – таким же обыденным делом, как стирка белья или уборка квартиры. Общение с покойным – в мыслях, воспоминаниях, в ритуальном посещении могилы – поддерживало слабую искру жизни. Дорогой умерший всегда был досягаем, будучи не в состоянии отклонить навязчивое общение или совсем отказать во встрече, сославшись, к примеру, на усталость или плохое самочувствие. Связь продолжалась.
И этот печальный старик брел по городу-кладбищу, надломившись худыми плечами. Поднимал голову от земли лишь в надежде поймать кровоточащий взгляд случайных прохожих, подобный своему. В лицах незнакомцев старик безутешно искал ответ, как научится жить в новой реальности.
Люди-столбы у памятников – застыли в одиночестве… Склонив головы, замерли в оцепенении у оград.., съежились на скамье у могилы… Молчаливые, сосредоточенные, шепчущие слова. Говорящие с ветром, с небом, сами с собой. Повсюду по пути на работу Дрону встречались подобные полуживые окаменевшие фигуры.
– Не спится? – хмуро спросил Дрон и посмотрел старику под ноги, машинально отметив, что незнакомец, видимо, не испытывает серьезных материальных проблем, если не бережет в скверную погоду ни зимней обуви, ни меховой шапки.
Одет старик был исправно. Ни обликом, ни выражением лица он не походил на заброшенных пенсионеров, которые слонялись среди могил в поисках чего-нибудь съестного, чьими неизменными спутниками были бедность, болезнь и одиночество.
– Успею, высплюсь. Все здесь будем, – ответил мужчина и, подняв руку к груди, схватился за пуговицу.
– Плохо? – встревожился Дрон.
– Муторно что-то… Мотор барахлит. Или магнитные бури – обещали нынче.., по радио, – Старик сделал неуверенный шаг по скользкой дороге.
– Подожди-ка, я песок просыплю. Не ровен час, упадешь, – предупредил Дрон, показывая рукой под ноги.
Он решил проводить старика – тянул время. Хотел, чтобы к своему возвращению Люська успела покинуть жилище. Когда придет обратно, подумал, ее и след простынет.
В сарайчике он переобулся в резиновые сапоги, накинул пальтишко и с тяжелым ведром песка вышел наружу.
– Добреду как-нибудь. Мне здесь, неподалеку, – Мужчина слабо махнул рукой, в направлении цели маршрута.
Дрон молча пошел впереди, щедро рассыпая песок под ноги. Рыжие ленты талой воды поплыли по дороге. Старик двинулся следом.
Небо прояснилось. Дождик захирел. В утренней дымке стали четче проявляться кусты и ограды. Над памятниками, укрытыми просевшим снегом, как накидкой, кружило воронье – было чем поживиться. Накануне поминали родителей, и весь день нескончаемым потоком на кладбище тянулись посетители. У могил истово молились, вспоминали, грустили и плакали, выпивали и закусывали. Крошили хлеб птицам, сыпали пшено. На столиках лежали остатки еды, конфеты и печенье. Цветные разводы от фантиков раскрасили серый от грязи снег.
Дрон слышал за спиной тяжелое дыхание старика и неуверенное шарканье по льду его толстых ботинок. Боясь поскользнуться, старик едва поспевал за ним, и тогда он замедлил шаг, чтобы не утомить пенсионера. Огляделся.
Большой город
В «городе мертвых» царил строительный бум. Рыли котлованы. Размечали дороги. И в любую погоду ко вновь возведенным домам подвозили «новоселов».
В районе с уже развитой инфраструктурой на центральной площади красовалась церквушка, от которой к периферии протянулись длинные улицы. На просевшей, крепко утрамбованной земле стройными рядами чернели ограды. На маленьких пятачках земли подросли кусты и деревья.
Иметь могилу в центре кладбища, на пригорке, считалось престижным. Здесь рано сходил снег, вешние воды убегали в низины, не создавая затхлых запруд. Сверху открывался красивый вид на город.
Особенно ценились участки с угла, на которых забор с соседями гнаничил лишь с одной стороны – выгодное преимущество перед могилами, зажатыми в ряд. Завидные участки земли сметливый бригадир Керим попридерживал для особо ценных клиентов.
Каждую неделю в церквушку приезжал местный поп отец Владимир, и пустынная площадь внезапно оживала. Богомольные старушки, скорбящие родственники умерших, нищие, бомжи и алкоголики стайкой тянулись на службу.
Новым микрорайонам города только предстояло стать образцово-показательными. Свежие могильные делянки еще чернели трауром лент. Ультрамарин красок погребальных венков бил в глаза. Почва повсюду проседала, подъездные пути плыли от грязи и строительного мусора, а дороги существовали лишь на чертежах строительных планов.
Привычка
Привычка ходить на кладбище стала для Василия Ивановича такой же необходимостью, как и поддержание порядка в собственном доме, о котором человеку постоянно приходится хлопотать: выбрасывать прочь ненужное барахло, мыть посуду, окна и пол, что-то чинить, подбивать и подкручивать.
По давней привычке, старик просыпался за минуту до звучания гимна страны. Лежал в темноте, прислушиваясь к дыханию сонного города, стону лифта и редким шагам в подъезде, к глухим ударам собственного сердца.
Порой грудь зажимало. Часовой механизм двигался натужно, пыхтя, скрипя и запаздывая. Удивляясь переменам в себе, ощущал вековую тяжесть своего будто бы чужого, незнакомого тела. Двигал руками, коленями, пальцами стоп, принудительно включая организм в работу.
Когда ночь отступала, и комната приобретала знакомые очертания, Василий Иванович понимал, что пришло время пить лекарства.
Измерять давление и быть внимательным к тому, что происходит внутри, стало добрым правилом. Системы жизнеобеспечения гудели, точно высоковольтные провода, и капризничали, требуя к себе почтения.
Спустя время, старик медленно поднимался с постели. Сидя в кровати, глотал таблетки. Стакан воды и аптечка находились рядом, на тумбочке. Брел на кухню. Грел кашу – гречневую или пшенную, которую приготовил загодя, с вечера.
Редкое утро выдавалось удачным: тяжесть в спине отравляла существование. Каждое движение давалось с трудом, острой болью разливаясь повсюду.
Часто вместо ног Василий Иванович ощущал под собой пустоту. И тогда он долго сидел в кровати, не решаясь подняться. Знал, что при попытке изменить положение возможно падение.
В эти минуты на ум приходила горькая мысль о том, что не за горами тот день, когда организм предаст его окончательно, и он заляжет в кровать, как в берлогу. Вспоминал с печалью на сердце, как его больная жена однажды утром не вышла к завтраку, так и оставшись до конца дней жить в постели. Внутренне содрогаясь, старик хладнокровно готовился к неприятному событию, когда счастье владеть собственным телом навеки покинет и его.
Пытался не думать о том, как он станет варить кашу, чистить зубы, включать радио, смотреть из окна на вечерний город в огнях. Стараясь не паниковать, отгонял от себя дурные предчувствия. Экономил эмоции впрок – так же, как продукты и воду.
Но бывали дни, когда организм служил безотказно, и старик бодро, уверенно шагал по квартире, испытывая величайшую радость, гордился собой. Мышцы, которые не подводили его, и трезвая память были тем небольшим, но огромным, что он в данное время ценил превыше всего.
Электричество в квартире старик включал лишь по необходимости. Он верно, умело двигался в темноте, как кошка. Узкие коридоры и тесные комнаты, в которых когда-то ютилась семья, задыхаясь от нехватки жилплощади, на исходе лет оказались большим подспорьем.
Следуя на кухню, старик делал частые остановки, подпирая спиной стену. Отдыхал, утихомиривая пульс и дыхание. Когда кружилась голова, хватался за тумбочку, стул или шкаф – в досягаемости согнутых рук.
Свет люстры не только слепил его, но и без жалости к пенсионеру выхватывал из мрака до боли знакомые дорогие сердцу предметы, картины и фотографии по стенам – немые свидетели безвозвратно ушедших дней. То было время, в котором он был молодым и счастливым, хотя и не вполне осознавал данного факта.
Он часто бывал один. Друзья и знакомые, что остались в живых, чувствовали себя по привычке неважно. Общаться со старой гвардией старик не любил – о чем можно говорить с больным депрессивным человеком? Родственники, которым он изредка позванивал, так же пребывали в почтенном возрасте и ни о чем другом, кроме недомогания, цен в магазинах и тарифов на коммунальные услуги, знать не желали.
Порой предательски молчал телефон. Иногда за целые сутки старику не с кем было обмолвиться словом.
Ничто не держало его в настоящем. Он жил, далеко не заглядывая вперед. Планы не простирались дальше разумного предела. Дорожил лишь крохами здоровья и воспоминаниями, в которых былое представало в ослепительном блеске – вроде и не было в нем ни нужды, ни лишений. Бессонницей старик не страдал и ночью спал крепко – роскошь, доступная в его возрасте не каждому. И это обстоятельство в данный момент жизни также добавляло толику счастья.
Утром на кухне он перекладывал в сковородку сваренную накануне кашу, чтобы разогреть и съесть без остатка. Свою норму еды Василий Иванович вычислил многолетней практикой – черпал из кастрюльки ровно столько, чтобы не допустить излишества. В кашу бросал ложку сливочного масла, и пока она томилась на плите, выпуская аромат, умывался.
День был расписан по минутам. В начале недели старик затевал уборку квартиры, в среду – стирал белье. По выходным ходил на рынок за творогом, овощами и фруктами. Были и другие нехитрые заботы: навестить врачей, оплатить счета за квартиру, запастись лекарствами.
После смерти жены к его повседневным делам прибавилось ежедневное посещение кладбища. Хлопоты по обустройству могилы стали так же необходимы ему, как и обустройство быта в собственном доме.
Реальное причудливо переплелось с надуманным, прошлое – с настоящим, умершее – с живым. Все находилось неразрывно, в одной плоскости бытия.
Журчит ручеек
Рассвет тихо и бережно проникал с улицы в дом, щадя чувства, окутывая туманом. Василий Иванович нехотя открывал глаза, и прошлое бесцеремонно наваливалось на стариковские плечи. Впереди его ждал новый день одиночества.
И тогда из глубин памяти к нему прилетал голос жены.
Тамарушка была шумная, говорливая. Ее голосок звенел отовсюду. Чем занималась, кто в гости заходил, кого повстречала во дворе на прогулке, что нового у друзей и знакомых – непременно мужу докладывала.
Рассказывать Тамара была мастерицей. И словечком редким, золотым, побалует – где только отыщет? И лишнее в истории присочинит, на забаву. А иной раз любимый сериал бралась излагать. Обижалась, если старый не желал вникать в содержание. Вроде, и слушает ее, упрекала, и даже поддакивает, но спроси, о чем речь ведет – ни за что не припомнит.
Василий Иванович посмеивался над женой, но сам, и в правду, не углублялся в стремительный поток речи, который лился и лился без остановки, словно горный ручей. Где рождался источник и куда плыл, неся звонкие воды, не следил, не заморачивался. Привыкал к журчанию голоса, как привыкают к приятной музыке.
– Шагай, шагай, тихоход! – смеялась Тамара, желая опередить мужа в узком коридоре по дороге на кухню. Толкала, хлопала богатыря по плечу – шутила. Он понимал, конечно, что лишний разок хотела прильнуть к нему, приобнять сердитого, в тепле мужниных рук понежиться.
Шумно, но несерьезно старик ворчал на ласки жены, молодые заигрывания. Недовольничал пиханию острых локотков жены себе в бок. Говорил, призывая к порядку, что, видно, забыла старая, сколько им исполнилось лет. Бывало, вспыхивал от возмущения, как костер в жаркий полдень – аж трещали дрова! Ему лишь повод подай сотрясти воздух.
А Тамарушка хваталась за искру и ну, давай со всей силы дуть на пожар. Гневно пеняла ему, сверкая очами, что и в прежние годы не было у Василия Ивановича к ней интереса. Мол, в чужих койках смысл жизни искал.
На пустом месте начиналась в семье перепалка. Бывало, зашипит, зашкворчит Тамарушка, как масло в разогретой сковороде – не унять, не остудить накал. Лились на мужа потоки обиды, накрывая несчастного с головой, и не было в эти часы в доме места, где бы он мог переждать ураган.
Намеки на неверность возмущали старика до глубины души. Скрепя сердце, он согласился бы с любым упреком – все лишь для того, чтобы любимой жене угодить, ее страсть охладить. Но то, что он неверным ей мужем был, и слышать не желал. В подобной лирике Василий Иванович не находил здравого смысла. Романтика любовных приключений вне дома не вдохновляла его практичное устройство. А на то, что не имело разумных основ, сердце не откликалось. Смятение души и любовную тоску Василий Иванович считал уделом поэтов и бездельников.
Бывало, пошумят с женой, повздорят, покусаются – иной раз и вспомнить смешно, из-за какой ерунды по дому буря прошлась. На часок-другой расходились по комнатам спорщики, остудить пыл. Сидели, пыхтя, по углам в одиночестве.
Вечер длинный, томный.
Спустя время, являлись ворчуны на кухню из заточения Тянулись к чайнику, к огоньку. Гремели посудой.
Возвращались в дом прежние мир и покой.
Слово за слово, вновь улыбки, смех.
И звонкий голосок жены снова медом разливался по комнатам. Журчал ручеек.
После плотного завтрака старик шел на кладбище навестить Тамарушку.
Дрон видел, как на небольшом пятачке земли, отведенной под могилу, мужчина по-хозяйски налаживал быт. Посадил березку, приспособил к ограде столик, втиснул в угол скамью, на которой сидел, отдыхая от хлопот. Грустил.
Летом кусты кизильника пышно разрастались и вставали стеной, скрывая могилу от посторонних глаз, а осенью принаряжались плодами-белыми горошинами. Казалось, кто-то, проходя мимо, бросил на ветки горсть леденцов.
Повернувшись лицом в сторону города, старику казалось, что он на отдыхе в санатории.
Зимой у Василия Ивановича появлялись заботы иного порядка: приходилось чистить от снега узкий проход к могиле от насыпи, отбивать лед с калитки, а весной, когда сходили грунтовые воды, он принимался укреплять фундамент ограды, поднимал завалившийся крест. Красил лавочку и стол, заботился о цветах. И эта суета занимала все его бесполезное свободное время.
Старик знал, что придет время, когда и его душа найдет рай в этом месте. Поэтому, хлопоча о растениях, загодя позаботился о том, чтобы могильщикам не составило большого труда внедриться в земное чрево – на пустом лоскуте посадил лишь траву. Определившись с местом погребения для себя, старик немого повеселел. Жизнь стала намного понятней.
Приятное путешествие
Днем Василий Иванович находил себе занятия. Мысль о старухе с косой посещала его лишь глухой ночью, когда не щадил сон или от тоски стенала грудь. Пугала не смерть, а приближение к роковой черте, за которой – темнота и неизвестность.
Он пытался увидеть себя в ином измерении – по ту сторону бытия, в котором, как утверждают люди сведущие, в эфир повсеместно разлиты любовь и блаженство. Старался вообразить себя вне себя – отдельно от одряхлевшего, предательски ненадежного тела. Силился представить, но не мог.
Слепо, безотчетно отдаться потоку веры без оглядки на разум, не выходило. То, что жизнь вдруг в одночасье покинет его, принималось с трудом. Был, страдал, плакал, чувствовал, возмущался – и вдруг все исчезнет?! Ничего этого нет?
Что-то должно быть взамен, рассуждал Василий Иванович. Иное – но что? Голова шла кругом, мозг кипел, но долгожданный ответ, изводящий его, так и не приходил. Лишь повышалось кровяное давление.
Тогда он придумал, что смерть – это сон или путешествие, а может быть, перемена времени года. Путь вперед, к неуловимому горизонту, стал похожим на ожидание холодов.
Осознание близкого рубежа перестало мучить его. Появились иные заботы, ведь человек практичный готовится к морозам с лета: утепляет на зиму подпол, забивает рамы ватой и тряпками от сквозняков, загружает на хранение в погреб картошку.
Исход стал легок и понятен, словно кто-то шепнул старику, что смерть – и не смерть вовсе, не пустота, не бездействие, не безвоздушный эфир. Он совсем-то не исчезнет, не пропадет, он двинется в увлекательный путь.
В том месте, куда ему предстояло отбыть, жили знакомые люди – будто бы уехали утренним рейсом. В то далекое старика манила любимая – что лучше долгожданного свидания?
Поездка сулила переживания, подобные тем, что он испытывал, будучи молодым. К примеру, вспоминалось о путешествии в Крым.
И вот в мечтах, как наяву, старик снова пил дурман разнотравья. Вдыхая прохладный бриз моря, ловил лицом терпкую соленую пыль.
Поводил плечами, вспоминая дряблыми мышцами былую силу крепких натруженных рук, о которые разбивались тяжелые волны. Из глубины прохладного сада призывной мелодией звучал нежный смех. Жена, увлекая старика за собой, звала танцевать под белые звезды. И они, оглушенные треском цикад, изнывая от любви и зноя, без устали предавались ласкам, а их остро, бессовестно жгла луна.
Собственная смерть, похожая на поездку к морю, открывала для старика приятные перспективы.
Человеку организованному, привыкшему каждый шаг продумывать до мелочей, Василию Ивановичу оставалось лишь навести порядок в делах и в назначенное время отправиться к полустанку – с билетом в одном направлении.
Тамарушка
– Ну, здравствуй, Тамарушка! – Хриплым голосом произнес мужчина. – Царствие небесное!
Дрон обернулся. Спутник, стоя на высокой насыпи, смотрел на крест, в ближайшем ряду от дороги. Его нижняя челюсть подрагивала.
Дрон вернулся к старику, поставил на землю пустое ведро.
Отдышавшись, Василий Иванович с трудом спустился вниз и, протискиваясь по узкому проходу между оградами, вставшими улицей в ряд, бочком стал пробираться к могиле. Дрон машинально шагнул за ним.
– Намедни чистил снег, опять намело, – отряхивая полы пиджака и брюки, сказал мужчина. – И не снег это, кажись. Крупа ли?.. Или дождик?
Он обнажил руку, собирая в ладонь влагу, и ярко-синими не выпитыми глазами удивленно выглянул на Дрона из-под густых черных бровей.
Дрон закурил.
Старик дернул калитку на ограде, но дверь не поддалась. Лед намертво вцепился в железо.
– Чудно – там, у площади на пригорке, ручьи журчат. Скоро цветками вспыхнут проталины. А в здешнем королевстве зима лютует. Вроде и не собирается убираться восвояси. Царство холода, – отметил Дрон.
– Скоро и в наши края весна прилетит, и о нас, горемычных, вспомнит, – сказал Василий Иванович. – Теплом побалует, еще приласкает.
Ежась от ветра, втягивая шею в плечи, Дрон одну за другой застегнул все пуговицы на пальто. Его бил озноб.
– Жена тебе? – спросил, кивая на фотографию женщины, полную жизни.
– Она, матушка… – С трудом выдавил старик и слегка покачнулся. Чтобы устоять на льду, схватил Дрона за плечо.
– Молодой умерла что ли? – Дрон недоверчиво посмотрел.
– Семидесяти лет. Месяц не дожила до именин… – Старик говорил, хватая ртом воздух. – В прошлом году убралась… Бог прибрал. – А портрет я выбирал – фото из прошлых лет, как поженились. Сорок лет прожили душа в душу. Но будто бы по всей длине для меня только один день жизни вышел. До сих пор голубу мою такой – молодой – вижу… День и ночь стоит перед глазами … будто живая.
Голос мужчины сипел и дрожал.
Дрон не решался смотреть старику в лицо – лишь почувствовал, как клещами сдавило горло. Он подивился себе, своей неожиданной чувствительности.
Казалось, его давно перестало волновать, что люди умирают. По служебным обстоятельствам он ежедневно встречал тех, кто терял своих близких. Смерть сделалась для него горькой привычкой и спутницей жизни и походила на тугой тусклый рассвет, на вой ветра в печной трубе в лютую пору, на безысходную ночную тоску, когда не приходила Люська.
Так получилось , что смерть стала его работой. Горе не имело ни лица, ни названия. Начальник бригады с раннего утра предъявлял работникам ритуальных услуг дневную норму – они копали могилы.
– На сносях была, первенцем… отекала… – помолчав, заговорил старик, оставив попытку совладать с калиткой.
Дрон услышал в голосе спутника теплые нотки.
– Зимой дело было. Снежило в тот день. На дом мастера вызывал, боялся в пургу жену вести в ателье, чтобы не застудить матушку…
Дрон всматривался в круглое лицо миловидной женщины на фото. Она улыбалась.
– Сашок уж в брюхе толкался. Живот большой несла на себе, тяжелый… Еле ходила.
Мужчина говорил с остановками. Задыхался от слов, словно от ходьбы или бега.
– А по весне матушка разродилась… Крепкий мальчуган был, белолобый…
– Почему был? Умер?
– Что ты! В своем ли уме? – замахал руками старик, сильно испугавшись. – Жив-здоров, слава Богу. Бизнесмен, «Альфа-билдинг», слыхал?
Дрон пожал плечами, покачал головой.
– Известная компания. Дома строят.
Они замолчали.
– Пойду я, – постояв рядом, сказал Дрон.
Он почувствовал, как сильно продрог. Холод проник в рукава пальто и под воротник, вытеснив из него остатки жизни. Казалось, Дрон превращался в ледяную глыбу. Пожалел, что накинул одежонку на голое тело.
– На работу пора. И мне… дома возводить. Я тоже строитель, – усмехнулся.
– Большой город, смотрю, возвели…
– Всем места хватит… – Дрон шагнул к насыпи.
– Мухлююте вы, – Вдруг сердито сказал старик, резанув Дрона колючим недоверчивым взглядом. – Сколько гробов вставляете в промежутки? Муравейник! Вона, смотри, – мужчина показал на тропу между оградами, – и боком не втиснешься.
– В тесноте да не в обиде, – пошутил Дрон и неожиданно улыбнулся. Слова и возмущенный тон мужчины его не задели. – Все веселее…
Смех Дрона еще пуще рассердил старика. Он гневно крикнул вдогонку:
– Веселее? А ты приди сюда, когда грязь по колено! В праздник ни поздороваться с матушкой, ни поговорить. Соседи донимают! Бок о бок трутся. Над душой стоят, словно на кухню заглядывают. Стой! – Неожиданно громко приказал старик. – Назад! Ну, иди сюда! Вернись! Отвечай: сколько метров земли положено нарезать для могилы? Где инструкция? Предъяви расчеты!
– К бригадиру сходи, к Кериму, – миролюбиво ответил Дрон, по-прежнему улыбаясь. – Он тебе все нормы перескажет.
– И пойду! – запальчиво воскликнул старик. – Думаешь, если человек помер… – Голос мужчины внезапно осип. – У него и заступников не найдется? Покойников грабить? Я сыну скажу – пусть разберется. У меня сын знаешь какой!? Ого-го! Он органы натравит! Ваши грязные делишки разоблачит. Как можно… Бога не боитесь…
Слова пенсионера окончательно развеселили Дрона. Махнув рукой на прощание, он бодрым шагом отправился восвояси. Обернулся лишь у поворота на центральную площадь, чтобы еще раз посмотреть на старика-правдолюба. Крепко схватившись за ограду, его спутник недвижимо стоял у креста, низко склонив к рукам голову.
У Дрона снова кольнуло в груди, – и он в который раз удивился своей мягкотелости.
Первые клиенты
В восемь часов утра на кладбище появлялись первые клиенты.
Строгий немногословный начальник похоронного бюро, в деловом костюме, который подчеркивал торжество события, с раннего утра ждал посетителей у входа в неказистый сарайчик, обустроенный под офис. В жарко натопленном помещении с низкими потолками повсюду висели иконы. Тихо тлели лампады. Ненавязчиво звучала скорбная музыка.
Профессионализм команды сферы погребальных услуг горожане высоко ценили. О Кериме, как о лучшем менеджере, многократно сообщали газеты. Усердие руководителя отмечалось наградами. Грамоты и дипломы, кубки и другие знаки отличия были выставлены на обозрение среди офисной мебели, оргтехники и рекламной продукции.
Общаясь с трудягами-землекопами, Керим нередко позволял себе крепкое словечко, но в общении с клиентами был предупредителен и учтив, по-деловому краток.
В работе он предпочитал иметь дело не с самими клиентами, а с похоронными агентами, которые в заключении договора оставались нейтральны, сохраняя ясность мышления. Скорбели достаточно и в меру, а в сотрудничестве опирались на букву закона и условия контракта, не поддаваясь эмоциям. Однако многие клиенты желали сэкономить и, минуя посредников, обращались в офис Керима напрямую.
Принимая во внимание состояние посетителей, переживающих душевную травму, руководитель смотрел тепло, говорил с придыханием. Терпеливо повторяя сказанное, без раздражения демонстрировал и эмпатию, и терпимость, всем своим видом сигналя о сочувствии.
Голос у Керима был вкрадчив, но не противен, бархатен, но не слащав. Он тонко чувствовал момент, когда стоило бы разбавить разговор паузой и без усилий находил верные слова поддержки. Диалог выглядел естественно и по-человечески трогательно.
Тяжело давался тонкий момент назначения цены за услуги. Чтобы не заронить в клиенте и мысли о том, что на нем зарабатывают, проявлял осторожность. Пытаясь сохранить баланс теплых чувств и практической смекалки, старался не прогадать.
Допустить ущемления собственных интересов начальник не желал. На балансе фирмы находились дорогая техника и оборудование, нуждающиеся в плановом ремонте и замене по истечению срока эксплуатации, а в коллективе работали хоть и опустившиеся, никчемные, мало на что претендующие, но все же живые люди, которые нуждались в регулярной оплате за труд.
В соседнем помещении притулился магазин погребальных товаров. Жена Керима – сухонькая смешливая женщина неопределенного возраста в пестром платке – стояла у прилавка, бойко торгуя цветами и церковной утварью, принимая заказы на изготовление оград, памятников и надгробий, оформление могил. Ассортимент заведения был рассчитан на любой вкус, кошелек и степень любви к покойному.
С раннего утра начальник сообщал, сколько в их «город» прибудет «новоселов». За горькой статистикой убыли населения скрывался успех похоронного дела.
В холодную пору люди умирали охотней, чем летом, и ям-котлованов в эти дни требовалось больше обычного. Некоторое количество могил обязательно готовили впрок – порой приходилось хоронить и вне графика, в срочном порядке. Иногда коллектив подводил человеческий фактор: кто-то из работяг выбывал из строя по болезни, или же по причине лютой депрессии или затяжного запоя, и тогда предусмотрительно возведенное «жилье» для покойников было как нельзя кстати; бывали в их практике непредвиденные ситуации.
Праздники и выходные дни в коллективе, как правило, удавались «урожайными» – эту закономерность сметливый бригадир хорошо усвоил. Накануне напряженных дней ям рыли с избытком, на случай аврала. Порой к работе привлекалась дополнительная, но неквалифицированная рабочая сила из числа местных забулдыг, которые без дела ошивались на кладбище.
К сложной технике алкоголиков не допускали, но за выпивку, ласковое словечко или другое внимание они рады были и инструменты потаскать, и лопатами помахать от души. Пользы от этой братвы было не много, лишь суета и слюни.
Совсем рассвело. На могучем дубе громко, во все горло, чирикал, радуясь весне, скворец. В природе намечалось оживление.
Если бы не влажный ветер, от которого колотило, не скользкий панцирь глазури на дороге, перемены в природе ощущались бы сильнее. Истончаясь, лед не давал воздуху прогреться, и насладиться близкой весной пока не удавалось.
Дрон вспомнил, как в эту пору в деревне они с матерью заполняли снегом погреб на лето, для хранения продуктов.
В жаркие дни он спускался в морозное подземелье по скользкой от влаги лестнице, чтобы остудить пыл. Поверх снега на чистой соломе стояли глиняные горшки с молоком и сметаной. Дроня пил молоко большими глотками, торопливо, захлебываясь от жадности. Белые холодные струи бежали изо рта по шее и, попадая в ворот рубахи, приятно охлаждали грудь.
К осени, перед тем, как загрузить на хранение свеклу, морковь и картошку нового урожая, погреб чистили от старого, отслужившего снега.
Дрон запахнул пальтишко и прибавил шагу.
Встреча
На перекрестке улиц красовалась церквушка.
Прорвав блокаду туч, солнце неожиданно выпустило лучи, и ярко вспыхнула маковка на часовне. И сразу на пригорке заблестел рыхлый снег, истонченный кружевной вязью.
Навстречу Дрону шел Петька, и он пожалел, что слишком поздно заметил невысокую приземистую фигуру своего сослуживца. Разойтись, не повстречавшись, теперь было поздно, слишком явно.
Петька облачился в старый заячий полушубок женского кроя с короткими рукавами и в тренировочные штаны с лампасами неопределенного цвета. Вязаная шапка, которую он низко натянул на лоб, прикрывала разбитую бровь и глаз в кровоподтеках.
Петька зло смотрел и ухмылялся.
Дрон хмуро, едва заметно кивнул забулдыге, намереваясь и дальше продолжить путь, но Петька вдруг схватил за рукав, останавливая Дрона. Вымученная гримаса оживления исказила несвежее одутловатое лицо, заросшее щетиной. Заплывшие глазки жалили ядом презрения, но Дрон мужественно выдержал неприятный до омерзения взгляд.
Это был законный Люськин муж – хронический алкоголик. Злым, умным и трезвым он пребывал до начала работы. В утренние часы рассудок ненадолго возвращался к забулдыге – до первой возможности отравиться.
И хотя в течение дня начальник не спускал с алкоголика глаз, тот ухитрялся принять на грудь во время небольших перекуров.
Петька прятал водку в голенища сапог, рукава и карманы. Улучив момент, воровато доставал чекушку трясущимися от нетерпения руками. Пил жадно, не морщась, большими глотками, присасываясь к бутылке как к живительному источнику. Опьянев, становился, как кисель – разбитным, веселым и добродушным.
Это была страшная болезнь. В прошлом умный и талантливый инженер, а нынче – жалкий, трезвый, все понимающий Петька, ослепленный животной ненавистью к Дрону, смотрел на с вызовом, подстрекая к ответу. Ни воевать, ни бузить с алкоголиком Дрон не желал, а потому принялся что было силы глушить в себе ярость, которая с каждой минутой вскипала в нем все сильнее.
– Ой, кто еть идёть? – закривлялся Петька. – Какие люди в Голливуде! Проминад делаем? Воздухом, напоенным росссой-сс, дышим?
Стараясь сохранять хладнокровие, Дрон выдернул руку из его хищных лап, не сворачивая с дороги.
– Что, молчун, оглох? Или не чуешь? – С перекошенным опухшим лицом Петька вновь схватился за Дрона. – Или моя сладкая тебе чуйку замяла?
Ростом алкоголик был невысок, едва доходил Дрону по плечи. Стоя вплотную, свирепо дыша, он обдавал сивушным перегаром. Глазки кололи Дрона в подбородок, снизу.
Чувствуя, как в ответ на яд по телу жаркой волной потекло негодование, Дрон крепко сжал кулаки, едва сдерживаясь.
Дрон выдернул руку из хищных лап Петьки и оттолкнул его, коснувшись плеча. Молча двинулся своей дорогой, как танк.
– Думаешь, больно нужен ты ей? – Визгливым, срывающимся от обиды голосом крикнул Петька вдогонку. – Люська – сука! Бьется лбом в пол, в ногах моих валяется, просит прощения за ваше паскудство. А я ее плетью – хрясь! Хрясь! По хребту!
Петька резко взмахнул рукой, показывая, как он больно хлещет жену. Громко, вымученно захохотал, силясь мощью грудной клетки скрыть в голосе скулящие звуки.
– А к тебе шастает, сыч, потому что жалеет тебя, кобеля безродного! Не нужен ты ей! Слышь ты, хрыщ! Жа-лее-ет… Не больно-то о себе зазнавайся!
Петька врал.
С тех пор, как Люська стала ночевать у Дрона, муж перестал обижать ее. От стыда ли, что кто-то посторонний увидит на женском теле кровоподтеки или же по другой причине, но Петька затих. Для Дрона это обстоятельство являлось еще одной веской причиной продолжать постыдную связь.
Гостья
Дрон долго гнал от себя Люську, не позволяя ей у него ночевать. Но чем отчаяннее пил и хулиганил Петька, тем острее хотелось ему согреть и утешить полную жизни, но зашуганную бабенку с яркими глазами-вишнями, в которых навеки поселился страх расправы. И однажды жалость к женщине пересилила в нем здравый смысл.
Их встреча была случайной, нелепой и роковой.
В один из морозных дней Дрон возвращался домой из библиотеки. В женщине, которая в легком халате и в шлепанцах на босу ногу бежала навстречу, ничего не видя перед собой, он узнал жену своего сослуживца. Он видел ее в дни, когда в бригаде выдавали зарплату, неподалеку от офиса. С маленьким сынишкой она караулили мужа, чтобы забрать у алкоголика деньги, пока он их не потерял или пропил.
Еле стоя на ногах, отец умильно тянулся шеей к мальчугану, желая прикоснуться небритой щекой к несмышленышу, поласкаться. Намертво прильнув к матери, отворачивая голову от сивушных паров и липкой отцовской нежности, сын терпеливо ждал, пока тот передаст матери помятые купюры.
Пересчитав деньги, Люська просила мужа предъявить внутренности карманов. «Петруша, а в брюках? Покажи-ка! Славику сапожки купить бы… Горе ты мое…», – говорила едва слышно, не обращая внимания на ухмыляющихся забулдыг, которые в сторонке поджидали своего дружка. В дни зарплаты бригада устраивала коллективные застолья.
Дрон кинулся наперерез и на бегу схватил в охапку замерзшую, зареванную, побитую женщину, надел на нее свои шапку и пальто и привел к себе в дом переждать бурю.
Пока он хлопотал, собирая на стол нехитрое угощение, гостья рассказывала, хлюпая носом, про свою горькую жизнь с алкоголиком, которого прежде сильно любила. Верная ему, ждала из армии, а потом вышла замуж за него и от большой любви у них родился сынишка.
Дрон затопил печурку. Вскипятил чайник.
В отблеске горящих поленьев глаза гостьи казались большими черными озерами. От холода ее руки задеревенели. Люська в возбуждении проливал кипяток на коленки, но, похоже, эта боль ее не жгла. Зубы стучали о край чашки, и речь лилась нервно, неровно. Казалось, Люська едет в телеге, высоко подпрыгивая на ухабах.
Согревшись, заговорила тише, спокойнее.
Рассказывая о своей беде, гостья тихонько плакала. Дрон не мог отвести взгляда от ее белого лица в слезах, пухлых губ, глаз без дна.
Эту женщину нельзя было назвать красавицей.
Люська была миловидной и неприметной, как цветок луговой: красоты приятной, но неброской, которую сразу не признать.
Обдуваемый ветрами, растет цветочек привольно, подставив солнцу макушку. Радует и сердце, и глаз, но ты его словно бы не замечаешь: мало ли подобных в чистом поле, среди травы, в чертополохе, к свету тянется. А как вглядишься, признаешь, и разведешь руками от удивления. Словно не колокольчик незатейливый перед тобой или ромашка, опаленная солнцем: ливнями хлестана, непогодой обижена, низко к земле склонилась. Не цветок простецкий, а неизведанный космос, без начала и конца. Тайна, гармония…
Тихие, незлобивые слова удивляли Дрона. Не драчун Петька и не кровопивец, считала гостья, а несчастный человек, загубленный жизнью, больше других достоен жалости и сострадания.
Заклеймить мужа, обозвать его лесным зверем или душегубом ума большого не надо, рассуждала. Лишь тому честь и хвала, кто примет и полюбит его таким, каков он есть, – негодного, кто не рубит с плеча, отвешивая оплеухи проклятому, давая резкие определения гадким поступкам.
На самом-то деле, Петька – дитя малое, непутевый романтик, говорила. Как никто другой, способен дуралей неприметные слова в нежные строчки слагать – прежде о любви шептал ей стихами. Душа у него светлая, откровенничала, немного стесняясь своих неожиданных признаний. И первому снегу он, как малый телок, радуется, и трель синички среди городского шума услышит.
Иной смотрит на луг, залитый солнцем, и ничего, кроме зеленой травы на нем не увидит. А Петька и росинку серебряную – крупную, точно алмаз, и чистую, как слеза, приметит, не пройдет мимо, зевая. Осторожно и бережно живую, хрустальную воду соберет языком. Благодарно проглотит. И с могучим дубом на поляне поздоровается – голову склонит с почтением. И пчелу-хлопотунью, что над цветком ворожит, потревожить не осмелится.
Вспоминая, как красиво Петька ухаживал, женщина оживала. Глаза сияли, с лица исчезала печаль. Казалось, прилетел ветерок и в миг разогнал тучи.
А творит мужик в пьяном угаре то, о чем сам не ведает, не понимает то есть, горевала гостья. Протрезвеет, опомнится и самому себе – дикарю – ужаснется. Станет виниться, что было силы, перед ней и сынишкой, заискивать, смотрит стыдливо.
Увидит на Люське кровь от своих побоев звериных, затрясет его, точно столб электрический. Захлестнут с новой силой и страх, и трепет, и нежность. До глубины нутра проймет мужика, что он навыделывал-то, набедокурил, всхлипывала.
Дрону от Люськиных слов становилось не по себе.
Оторопь брала от беспросветной печали тихого голоса, который поднимал в нем мощную волну негодования, от выстраданной мудрости, привитой ударом крепкого кулака по бабьему хребту.
Очухается, рухнет перед ней на колени, секретничала гостья, размазывая по щекам слезы, примется обнимать, целовать и ноги, и платье, – ищет пощады, прощения. По пятам ходит за ней, точно телок привязанный, в лицо заглядывает, а в глазах у мужика – ясных, трезвых, все понимающих – муть и тоска, страх животный, что прогонит, не простит.
Туман сумерек поглотил комнату. Горела, шипела печка. Отсвет пламени лизал половицы. В доме сделалось жарко, но от горьких признаний, что Дрон внимал, его колотило морозом.
Люська была невысокого роста, чуть полновата, с тонкой талией и пухлой грудью. Мягкость плеч, рук и бедер, тихий голос убаюкивали. Смех – редкий, залетный, нежданно-негаданный и, вроде бы, даже неуместный в ее грустном повествовании – наполнял дом чистотой и сиянием, а сердце – тихой боязливой радостью.
В том, что сделалось с любимым Петькой, гостья пуще других корила себя. Однажды завод, на котором муж работал главным инженером, разорился, цеха закрыли, и свалилось на мужика в одночасье бесполезное свободное время.
Глаз да глаз нужен был в это время за Петькой, а она упустила коварный момент, печалилась. Стал безработный пить. Не нашел себе применения и захирел. Отовсюду алкоголика прогоняли, смеялись над ним, не верили в исцеление.
От невнимания к мужу случилась беда, считала. Мыкался горемыка, пьянствовал, пока, наконец, не прибился к кладбищу, на котором обитал народ простецкий и жалостливый.
Любой желающий мог помельтешить на глазах у Керима и, не имея ни трудовых навыков, ни особенных притязаний, за обед и стопку водки войти в коллектив могильщиков. Так и сколотилась их бригада: из людей пришлых, никчемных, потерянных, увязших по горло в сложных жизненных обстоятельствах.
Петьке на работе сочувствовали, подбадривали. Жалея, наливали.
Серебристые ленточки горячих слез протянулись по Люськиным щекам от глаз к подбородку. Притягивая всполохи огня, глаза в темноте блестели. Печь прогорела, и слезы растаяли. Бледное лицо покрыла скорбная тень.
Не злодей Петька и не демон, рассуждала Люська, а божий страдалец, который в больные окаянные дни страсть как боится самого себя – буйного, очумелого. Страшится, что, не ровен час, предстанет диким чудищем перед сынишкой – до смерти испугает малого. Нехорошо это – он и сам понимает. Сына любит. А в трезвом обличии на дух не выносит себя, потому как стыдится. Значит, что-то человеческое в нем все же осталось. Есть надежда, что все поправится, с печалью вздыхала.
Яркими глазами гостья смотрела на Дрона, ожидая, что он поймет и согласится с ней.
Дрон чувствовал на расстоянии ее волнение. Сладкий шепот, невидимое живое тепло доверчиво плыли навстречу, поднимая в нем поток трепета и нежности к чужой, непонятной, но неожиданно дорогой ему, жизни.
Дрон не знал, что ответить гостье. Лишь машинально подмечал, как легким движением руки Люська убирала прядь со лба, поводила плечом. Словно крошки со стола, стряхивала со щеки слезинки, едва слышно всхлипывала, вздыхала, задерживала дыхание. Он молчал, оглушенный признанием.
Безропотная покорность судьбе, которая ей – молодой и красивой – уже ничего хорошего не сулила, ввергала в ступор. Дрон удрученно слушал, не решаясь ни словом, ни жестом проявить протест. Он вырос в деревне и видел баб, страдающих от пьянства мужей, – знал об этой российской беде не понаслышке.
Но так не походила Люська на тех полинялых женщин с затравленным взглядом и с одинаково безжизненным выражением лица, которые пугали его мальчишкой: жилистых, без времени высохших, с черными запекшимися ртами, будто могилами. Баб словно бы надруганных и осмеянных судьбой, которые своим обликом чем-то напоминали ему обглоданные деревья.
Так ли уж не походила? – думал Дрон, не сводя глаз с гостьи, которая своим нечаянным присутствием озарила его убогое жилище.
Просто сейчас Люська полна сил и в ней еще есть твердая решимость спасти своего мужика, которому обещала в церкви перед алтарем, перед всеми честным народом, и в горе и в радости, быть верной – в любых обстоятельствах. Значит, до гробовой доски она станет жалеть несчастного алкоголика, деля с ним долгую, несчастливую жизнь.
Отчаявшись, она проклянет и судьбу, и себя, свою горькую участь, но ни за что не оставит постылого. Ненавидя, страдая, до гробовой доски будет терпеть. Нести груз, надрываясь. Дрон знал цену слова, произнесенного в Храме.
Чужая жена
Спать с чужой женой у Дрона не было и в мыслях. Когда Петька уходил в запой и распускал руки, он делился с женщиной кровом и нерастраченным сердечным теплом.
Но однажды он увидел у нее на шее, под толстым слоем пудры, лиловые синяки, удивился, возмутился. Заставил снять одежду, чтобы внимательней рассмотреть кровоподтеки. Торопливо скинув кофтенку, Люська осталась перед ним в юбке и лифчике.
Осторожно касаясь, как доктор, Дрон исследовал ее мягкие плечи, грудь и живот в пестрых разводах от ударов. На тонкой, прозрачной истерзанной коже поверх желтых, застарелых, уже подживающих синяков лежали свежие багровые и ярко-красные пятна.
Потрясенный, Дрон с силой притянул Люську к себе, желая лишь выразить сострадание, и уткнулся лицом в ее пухлую грудь. А она не сопротивлялась. Руками, как ветвями, обвила Дронину голову. Затрепетала в ладонях. Он дрогнул и со всей страстью откликнулся на ласку, проявил слабину.
Их разделяла пропасть. Отношения складывались болезненно, неопределенно. Дрон не знал, что он испытывал к женщине – жалость ли, муку, сочувствие, ненависть к ее мужу-кровопийце или это было нечто другое, так и не ставшее ему до конца понятным. Только случайный, но живой человек растопил в нем лед и коросту. Дрон жадно схватился за Люську, как за спасительную соломинку оправдания собственного бытия. Обволакивая ненадежным теплом, она внесла в его жизнь смутный, давно утерянный, смысл.
Люди сторонились общения с Дроном.
Домик, в котором он обитал много лет, не предполагал уюта и покоя, стоял у входа на кладбище. В ночные часы по совместительству он сторожил территорию от шатающихся забулдыг и диких животных. Место жительства и род занятий Дрона казались горожанам странными. Но спроси, каким ветром занесло его сюда из тайги, где прежде счастливо жил с семьей, как произошло, что он поселился среди могил, Дрон вряд ли смог бы ответить.
Он жил чужаком, близко ни с кем не сходясь. Тяжелая работа занимала все его свободное время, и этим обстоятельством он был чрезвычайно доволен. Кроме походов в библиотеку и страсть к технике Дрон не имел других увлечений, и лишняя свобода была ни к чему. Жил монахом.
Бывало, городской люд обращался к нему за помощью починить автомобиль или иную технику, что попроще: слух о нелюдимом технаре – мастере на все руки – быстро перелетела через кладбищенский забор. Дружбы из подобных контактов у сторожа не складывалось. Технику ремонтировал – не отказывал, но особенной ласки просителю не выказывал. Чинил и баста! Никаких сантиментов! Выпить, поддержать компанию в пустопорожнем трепе, обменяться мнением на тему женщин, политики или футбола, общественной несправедливости, начальнику после работы кости помыть – от него не дождешься.
С раннего утра мимо дома неутомимым потоком шли посетители. Направлялись к могилам и часто – на выставку памятников и оград. Когда офис был закрыт, клиенты прямиком двигались к Дрону в сторожку, чтобы получить информацию, обсудить условия сделки и оформить заказ.
Любой желающий мог без стеснения потревожить его даже ночью: и бригадир, и сослуживец, похоронный агент или поставщик товаров, а порой – и вовсе человек случайный.
Люська приходила к нему глубокой ночью, когда у ворот наступало короткое затишье – мнимое и легковесное. И не было цены их скоротечным свиданиям.
Особенных иллюзий на отношения они не питали. Остро нуждаясь друг в друге в моменте, знали, что неминуемо в будущем придет час расставания. Каждый думал о разлуке, как о неизбежности.
Зыбкость, призрачность и недосказанность чувств придавали встречам болезненно-страстный накал, острую безысходно-щемящую сласть. Каждая минута, проведенная вместе, походила на волшебство, – словно в стылую зиму, вопреки законам природы, расцветала сирень за окном.
Их жизнь была на виду всего коллектива, в котором, по недоразумению, вместе, рука об руку, работали и Дрон, и муж Люськи, и злобно осмеяна.
Громыхание ворот, стук в дверь и шаги на пороге могли в любой момент потревожить свидание, и несчастные, не тратя времени на разговоры, в неудержной лихорадке, прямо с порога кидались друг другу в объятия, торопливо срывая с себя одежды. В горячке спешили ласкать и жалеть. Упивались любовью, как воздухом, бессильные ею насытиться.
Воздух сверкал. Тела искрились и плавились, двигались в такт, в едином устремлении вверх, к высшей тайне и неутолимому блаженству.
Каждое движение, вздох, стон походили на ураган, возносящий над землей. Дрон летел…
Аннушка
Почти бездыханного, озябшего и испачканного тиной мальчонку лесник туго завернул в свою куртку, как куклу, и понес на плече.
Он шел не спеша, с остановками на сухих кочках, чтобы отдышаться и немного передохнуть. Долго на одном месте стоять опасался: знал, что глазом не моргнешь, как потянет в трясину.
Болотистые почвы клейки и коварны. Порой местность выглядит, как обычная поляна, покрытая травой. Только опыт и особенное чутье лесного жителя подсказывали Петру Ивановичу, где заканчивалась крепкая дорога и начиналась топь, а куда ни под каким предлогом ступать не стоит, как бы ни соблазняли спелая ягода или крепкий гриб-боровик. Знал, что можно оступиться или неверно шагнуть, и тогда поползет земля из-под ног, будто ветхий лоскут, обкусанный молью.
Ноша леснику была по силам. Мальчонку, телом похожего на старичка, Петр Иванович без труда вытянул из трясины. Нес Дроню бережно, словно хрупкий драгоценный сосуд. Молил бога лишь о скором возвращении домой, чтобы не застудить горе-путешественника – в осеннюю-то пору.
Дроня сильно замерз. В бреду он до слез жалел перевернутую корзинку с ягодами, рассыпанными в мутной жиже. Желтой, спелой морошки мальчик набрал с избытком. Рвал торопливо, пригоршнями, боясь опоздать к автобусу. И вся-то ягода была, как на подбор – крупная да налитая.
Когда Дроня тонул, то цепляясь за ветки кустов, старался не отпустить и лукошко. Из последних сил тщедушных держал его при себе, а оно все же выскользнуло из рук, и ягоды яркой россыпью поплыли в зловонную тину.
Дроня плакал беззвучно и не зло, как плачет удрученный человек, смирившийся с горькой участью. Что было в его безысходной печали: страх за жизнь или досада на собственную оплошность, за безвозвратно потерянное время, которые закрывали путь к мечте, – о том мальчик не ведал.
И вдруг он почувствовал, что неким чудесным способом ему все же удалось преодолеть силу болотного тяготения. Дроня, как птица, вознесся над чащей. Сверху, в темной коварной воде, он узнал, свои сапоги и палку, с которой брел по тайге, перевернутое лукошко и ярко-желтые ягоды, просыпанные в черную топь.
Дроня летел и чувствовал в груди необычайное блаженство. Слезы просохли, и страх исчез. Лицо приятно ласкал ветерок. И тогда мальчик понял, что он стал утопленником и в данный миг возносится к небу. Рядом с ним, держась за руки, плыли златокудрые ангелы, и за ними, переливаясь, сверкая, слепя, тянулись нити света. Все вокруг было торжественно и красиво.
Дроня приготовился к встрече с Создателем. Захотелось рассказать Боженьке обо всем, что нечестивого он сотворил в своей жизни и искренне покаяться.
Бывало, мальчик не слушался взрослых, ленился с уроками и лоботрясничал.
Вспомнился случай, как однажды телилась корова в хлеву, а Дроня, увлекшись своими забавами, напрочь забыл про любимую телку на сносях. К счастью, сосед услышал тяжелые коровьи стоны – теленок поперек брюха встал – и вызвал ветеринара на дом. Чуть не потеряла семья в тот злосчастный день бедную животину.
Дроня чуть было не оглох от истошного крика бабки и мамки, едва успевая уворачиваться от их подзатыльников. Лодырь он неугомонный и дармоед, голосили бабы во весь двор, – весь в отца уродился.
Дроня до слез жалел корову, и пуще родных корил в произошедшем себя. Стыдился мамки, хотя она, негодуя, в сердцах, спалила в печке его игрушечный самолет. Живет мать в трудах и заботах, плакал Дроня, продыху от работы не знает, а он, злодей, чуть не загубил корову-кормилицу.
Боженька был крепкий, с белой бородой и обликом очень походил на старца с иконы, что висела у них в избе, у которой тихо тлела лампадка. Мать и бабка, исступленно молясь, день и ночь отбивали Николаю Чудотворцу поклоны.
Чтобы мальчик не боялся свидания, маленький ангел держал Дроню за руку – холодок тонких пальчиков приятно колол ладошку.
Святой человек ласково посмотрел на пришельца, и из глаз Дрони безутешным горячим потоком хлынули слезы. Не было мочи, как захотелось ему освободиться от тяжелой душевной ноши и поведать Боженьке о своих гнусных выходках и о страданиях родных от его озорства.
Бабка часто ругала мальчишку, на чем свет стоит, стращая гиеной огненной и страшным днем праведного суда. Пеняла ему, шамкая беззубым ртом, что если бы не Дроня, то нашла бы мамка себе подходящего мужика. Вон, и председатель колхоза ее среди деревенских подруг приметил, привечает пуще других. Арина молодая, здоровая, в работе спорая, не руки у мамки – огонь.
Взял бы председатель мамку в жены, и жалел бы, и нежил. Глядишь, и другие ребятишки у них народились бы: смирные и покладистые, не ровня Дроне – безотцовщине.
Из-за него, окаянного, твердила бабка, не сложилась у Арины счастливая жизнь. Какой мужик чужой, дармовой рот в дом возьмет?
Направляясь на исповедь, Дроня решил попросить у Боженьки доброго жениха для мамки – председателя колхоза или другого, из непьющих и работящих, от которого у них бы получились хорошие дети. Разве жалко Дроне-утопленнику? Теперь все равно ему…
Захотел Дроня и в других проступках Богу признаться, которые он бездумно совершил, не по злой воле, а по чистому неразумению. А еще хотел поинтересоваться, верно ли, что только подлинное раскаяние снимет вину с грешного человека?
Библиотекарь учила его – можно, мол, многократно обличать себя и виниться, но Боженька посмотрит на кающегося и сразу отделит искренность от лицемерия. Поймет фальшь и притворство, на чистую воду выведет.
Если лжет человек, то не ждать ему Божьей милости. Участь его будет во сто крат горше той, которой бабка грозилась. Столетиями станет душа неприкаянной по белу свету мыкаться, не находя утешения, муки терпеть и живой гореть синим пламенем в страшном аду.
Мальчик приготовился было рассказать и про свою мечту смастерить самолет, как вдруг белобородый старик исчез. Дроня почувствовал на себе чей-то заинтересованный взгляд.
Приоткрыв глаза, он сквозь ресницы увидел знакомого ангела, который, сидя у окна, держал в руке гребешок и расчесывал им свои длинные волосы. Яркий луч солнца пронзал фигуру маленького божества и, струясь, переливаясь, играл его золотыми кудрями.
Дроня повернулся на лежанке и застонал.
И сразу же рядом с ним возник прежний старец, только борода у него из белой сделалась темной. Он внимательно, с тревогой смотрел на мальчика, а его глаза ласково смеялись и в них прыгали веселые огоньки. Тихим голосом мужчина подозвал ангела. Отложив в сторону гребешок, к изголовью подошла девочка.
Дроня разомкнул веки и увидел у ангела чистый блестящий лоб и задорный носик, в веснушках. Взгляд девочки лучился. Он проснулся.
– Вот и славно, – сказал Петр Иванович. – Очнулся малой.
И Дроня удивился, услышав у Боженьки крепкий раскатистый бас.
Укрытый в лоскутное одеяло, мальчик лежал на кровати в незнакомом деревянном доме, а рядом, радуясь его пробуждению, стояли бородатый человек и ангел, который обернулся обычной девочкой.
– Ожил, – засмеялась Аннушка и взяла Дронину ладонь в свои ручонки, и он от неожиданности тут же забрал у девочки руку. Но сразу пожалел: прикосновение оказалось приятным.
Он огляделся. Окна небольшой, но светлой комнаты выходили на опушку, на которой красовалась береза. Листья с нее почти облетели, и голые ветки сиротливо тянулись в избу, в тепло, будто просясь в гости.
Вечернее солнце медью окрасило пол и стены. Дроня взглянул на потолок и вверху, у самых балок, увидел гирлянды березовых веников и вязанки подсыхающих трав. Пахло зверобоем и душицей – лесным лекарством. Нитки сушеных грибов, похожие на бусы, протянулись вдоль печки. У порога висели охотничьи ружья.
– Гость пожаловал, – вдруг сказал Петр Иванович, приглушив голос, и кивнул на подоконник.
У раскрытого окна сидел бельчонок.
Радостно вскрикнув, девочка устремилась было к зверьку.
– Не вспугни, Аннушка! – остановил дочку лесник.
Девочка замерла на месте.
– Смотри-ка, – сказал Петр Иванович, – полакомиться пришел.
Не обращая внимания на людей, бельчонок запрыгнул на стол и, накрыв рыжим пушистым хвостом посуду, расположился между чашками, сахарницей и вазочкой с вареньем. Лапками вытащил из кулька конфетку и ловко вынул ее из блестящей обертки.
Сладость бельчонку пришлась не по вкусу, и он потянулся за баранкой. Схватил сушку и аппетитно захрустел, заставив детей громко рассмеяться.
Чтобы ребята не вспугнули зверька, который смело хозяйничал в доме, Петр Иванович сделал Дроне и Аннушке страшенные глаза, призывая не очень шумно веселиться. И хотя взгляд лесника был грозен, глаза его сияли добротой и задором и сам он еле сдерживался от смеха, и от его вымученных, шутливых страданий детям стало совсем невмоготу.
Аннушка зажала рот рукой, а Дроня с головой спрятался под одеяло, оставив неприкрытым глаз. Продолжая наблюдать за бесцеремонным гостем, безмолвно сотрясался от хохота.
Сушка оказалась вкуснее. Бельчонок быстро расправился с едой и аккуратно подобрал просыпанные на стол крошки. Прихватив с тарелки сухарь – про запас, отправился восвояси. Прыгнул на подоконник и махнул на березу.
Проводив бельчонка, все громко не таясь рассмеялись.
– Это Тимка. Он ручной, – сказала Дроне девочка. – Он на елке, в дупле живет. Каждый день к нам заглядывает. Вот поправишься, я покажу тебе его домик. Тебя как зовут?
– Дроня, – ответил мальчик, и кровь прихлынула к щекам.
При виде добрых, заинтересованных глаз девочки, обращенных на него, он почувствовал необычайное смущение. Сморщил лоб и нахмурился.
– Я Аннушка. А это мой папа, – показала девочка на лесника. – Он тебя из болота принес, полуживого.
– Дроня? – переспросил Петр Иванович. – Что за имя такое? Не припомню я, чтобы в наших краях кого-нибудь так называли.
Вопрос мужчины поставил Дроню в тупик. Он растерялся.
При рождении мамка дала ему имя Степан, а по фамилии они были Ларионовы, но все деревенские звали мальчика Дроней, Дроном.
Отца своего он не знал. Мать с бабкой хранили молчание, а сам расспрашивать Дроня о нем не решался. Чувствовал, что таили обиду женщины на его отца, а значит, ничего хорошего не рассказали бы. Решил, что ему лучше пребывать в неведении. Осознавать, что папка жив и не желает знать своего сына, было мучительно горько.
Неизвестность открывала большой простор для фантазии: можно, к примеру, похвастаться отцом перед ребятишками. Мол, его папка – герой, и каждый день рискует жизнью. Военным, летчиком-испытателем или, на худой конец, бесстрашным пожарным мог считаться его отец. Или даже геройски погибнуть, людей спасая.
Злые языки шептались, что отца у Дрони отродясь не водилось, а мать нагуляла ребенка от заезжего молодца – однажды в их деревне целый месяц жили геологи. И бабка как-то случайно обмолвилась, что серьезный и неразговорчивый постоялец по фамилии Дронов как-то квартировал у них в доме, а она и обстирывала его, и кормила. Вот и все, что мальчик знал об отце. Да только отцом ли был ему этот Дронов? Может, брехали люди, лишнего наговаривали. Домыслы, сплетни.
При рождении мать записала малыша на свою фамилию, а отчество он получил от деда. Только все упорно в деревне называли мальчонку Дроном – когда обращались по-взрослому. Сверстники кликали Дронькой. Дронюшка, Дроня, говорила ему мать, когда хотела приласкать сына.
– Не Усти ли Ларионовой ты сынок? – вдруг спросил Петр Иванович.
– Ейный. И бабка у меня Василиса.
– Дом ваш у речки нарядный, в синий цвет выкрашен. Ставни резные. Много окон в доме. И палисадник с сиренью.
– И крылечко высокое, – подтвердил Дроня и вспомнил, что волнуются, небось, его мамка и бабка, что он так надолго запропастился, домой не идет.
Ушел в тайгу засветло, ничего не сказав им, а теперь уж, по ощущениям, дело к вечеру близится, солнце клонится к горизонту. Точно топленым молоком, дом наполнился светом.
Дроня бросил взгляд на стены и потолок, по которым, точно живые, двигались блики солнца, обнажая в дереве сучки и неровности.
– Волнуются небось твои мамка с бабкой, – отгадал его мысли лесник. – Но это мы скоро поправим. Ты, Аннушка, угощай гостя. Небось оголодал он, пока пребывал в беспамятстве. А я схожу к пристани и доложу деревенским о том, что нашелся путешественник. Пусть родным сообщат. И что погостюешь ты у нас маленько – пока не поправишься.
Петр Иванович стал собираться.
– А давно я здесь? – спросил Дроня.
– Уж третьи сутки прошли. Ослаб ты сильно и озяб в холодной воде болота плескаться. Пока нес тебя в дом, ты зубами, как волк, лязгал. Думал, спину мне обкусаешь, – засмеялся лесник. – В бане купал тебя, хлестал веником. Неужто не помнишь?
Петр Иванович удивленно посмотрел на Дроню синими и лучистыми, как у Аннушки, глазами.
Мальчик не ответил. Он увидел на себе чужую рубашку с длинными рукавами не по размеру – наверное, лесника одежда. А ведь был в куртке, сапогах и весь перемазан тиной. Жаркую баню и березовый веник он тоже не помнил. Память сохранила лишь боль скованного ледяной водой тела и гнилую топь, желтую от морошки.
Братство землекопов
У сторожки, где жил Дрон, суетился начальник. Завидев сторожа, он побагровел от злости и, побежал навстречу, не думая о риске упасть на льду. Накинулся на Дрона с упреками:
– Где носит тебя? Почему ключи не оставил? – рыкнул.
Перед въездом на кладбище выстроилась похоронная процессия. Катафалк, утопающий в траурных венках, с приглушенным мотором стоял за воротами. За ним вырос длинный хвост из автобусов и автомобилей. Из открытых дверей раздавались приглушенные рыдания. Неподалеку, покуривая, нетерпеливо посматривая на часы, в утомительном ожидании прогуливались похоронные агенты.
Керим вырвал у Дрона связку ключей и побежал к посетителям.
– Песком потруси! – катясь по льду, гневно крикнул сторожу.
Гулко громыхнуло железо, и ворота открылись. Бодро загудели моторы, заиграл похоронный марш.
Керим нервничал.
Лебезя и прогибаясь в талии, он заглядывал в недовольные лица агентов, что-то объясняя в свое оправдание, то и дело показывая рукой на Дрона, по вине которого произошел неоправданный сбой в работе.
Наконец, вспугнув ворон, колонна медленно двинулась в глубь территории. Кладбищенский город огласилось плачем и причитаниями.
Дрон вошел в дом. Люськи и след простыл. Он быстро облачился в спецовку и отправился на стройку.
…Утро выдалось сырым, но теплым. Слепя, солнце с аппетитом лизало почву. Дышалось легко. Под натиском все возрастающего тепла снег истончался, превращаясь в тонкую ажурную вязь. Казалось, кто-то заботливый укрыл могилы дорогим, сверкающим, искусно связанным покрывалом.
Бригада была в сборе.
От электрического столба на дороге к строительной площадке протянули провода. Согревая мерзлую почву, гудели радиаторы. Намечались линии могил.
Покойники, которых скоро доставят в здешние края, возможно, еще полны жизни, подумал Дрон, прицеливаясь острой лопатой к оттаявшему кому земли. Кто-то завтракает, а кто-то, быть может, еще нежится в постели. Многих заботит мысль о том, как удачнее сэкономить или куда выгоднее вложить финансы. Иной ловчит. Кто-то считает барыши. Жизнь кипит. А они – ударники-могильщики – вышли в поле, встали в ряд. Скоро сюда подвезут тех, кто сейчас по горло занят.
Подошел Керим и указал на землекопов, которым нынче выпал жребий обслуживать похоронную процессию.
Мужикам повезло. Им надлежало прибыть к подъехавшему катафалку, снять гроб и отнести его к могиле. После торжественных речей и прощания с усопшим они забьют крышку гроба. В яму, выстланную свежим ельником, на веревках опустят ящик с усопшим. Под немой ступор стоящих в оцепенении зрителей, наблюдающих за их ловкими, слаженными движениями, засыплют могилу землей. Поставят крест.
Обслуживать похороны считалось приятным бонусом к основной работе: счастливчикам перепадали выпивка и чаевые. Хоть и трудились землекопы среди покойников, но сами-то были живыми. Значит, каждый имел острую нужду заработать, словить удачу.
В коллективе работали и одинокие, и семейные люди, у которых имелись дети или престарелые родители. И всех без исключения угнетала проблема жилплощади. Поэтому каждый старался из кожи лезть вон, выслуживаясь перед Керимом. Подмазавшись к руководителю, надеялся заполучить лишнюю копейку.
Радость от удачи быть призванным на шабашку отравляли издержки профессии. Одно дело, отстраненно копать могилы, напрямую не соприкасаясь с горем, слезами и причитаниями по покойному. Совсем иное, если вовлечен в происходящее событие напрямую. Бывало, и загрубевших душой землекопов пронимало до костей, когда, к примеру, хоронили молодых или вовсе детей – на взлете жизни. Но всех без разбора жалеть не всегда получалось – сердца не хватит. Работяги старались, по возможности, честно трудиться, отрабатывая хлеб, и не подводить начальника.
Вызывая презрение, Дрон и здесь стоял особняком. Попасть на раздачу не рвался, казалось, деньги его совсем не интересуют. Однако ломового, жилистого мужика начальник и сам не отпускал с участка. Отправлял за «конфетками» кого похилее, чье отсутствие в бригаде оставалось незаметным, не отражаясь на результатах труда.
Петька был навеселе. Он балагурил, приставал к хмурым, подмерзшим спросонок дружкам, беззлобно задирался. Увидев Дрона, расплылся в широкой улыбке, обнажив щербатый рот. Двинулся навстречу обниматься, раскинув руки. Кривлялся и паясничал.
Дрон легонько отпихнул алкоголика и молча направился на задворки – к дальнему квадрату земли, помеченному флажками. Спустя время, к нему, пошатываясь, приковылял Петька. Они встали трудиться в пару.
Дрон пытался представить себе «новосела», для которого сейчас готовилась яма. Что за человек? Чем он сейчас занят? Полон жизни или пребывает в агонии? Молит Господа избавить от мук?
Молодым кажется, что возраст – страховка от смерти и впереди – бесконечная жизнь, думал он. Старики желают покомфортнее протянуть время и полюбовно договориться со своим дряхлеющим телом, которое с возрастом создает одни страдания и неудобства.
Возможно, и будущий новосел в свое последнее утро пьет чай или читает газету, нервничает. Торопится. И конечно, не думает о том, что его планам не сбыться. Тонка, невесома грань. Маленький вздох, выдох… Шаг – и земляной холмик.
Вскинув голову, Дрон посмотрел на просторный нетронутый участок пашни, который им только предстояло освоить, окинул взглядом коллег, разбредшихся по делянкам. Сосредоточенно глядя под ноги, работяги вгрызались в почву.
Лопата чиркала и звенела. Дрон с остервенением крушил мерзлую землю, которая от сильных ударов рук кололась на мелкие части. Верхний слой почвы хорошо нагрели пушки, и ее, теплую, дышащую, соскребали в сторону в кучу, не мешкая, пока она вновь намертво не сроднилась со льдом. Но глубже была твердь, металл не справлялся.
Дрон работал мощно, ритмично, получая удовольствие от игры мускул. Стало жарко. Густые клубы пара горячего дыхания окутали с головой, воротник заиндевел.
Экономные, слаженные движения рук отвлекали от посторонних мыслей. В голове зияли мрак и пустота, словно в подземелье.
В бригаде к Дрону относились настороженно. Он на дух не переносил пустых разговоров, полутрезвых братаний, липких шуток и избегал общества коллег. Оттого казался всем и высокомерным, и диким.
Нежелание идти на контакт вызывало к нему тихую злобу, которая Дрона не особенно донимала, если не считать неудобств от мелкой пакости сослуживцев. То, бывало, его добротные рукавицы кто-то себе присвоит, а взамен подсунет рваные, негодные. Иной злопыхатель мог подпилить черенок у лопаты.
Чаевые, которые перепадали им за халтуру, направлялись в общий котел и согласно сложной схеме расчетов распределялись между «своими». На остаток сэкономленных средств устраивались посиделки, которых Дрон сторонился. А его на них и не звали.
Появление Дрона в бригаде сопровождалось напряженным молчанием, гримасами и перешептыванием. Недобрые взгляды, обращенные в свою сторону, он чувствовал и спиной, и затылком.
Платили за труд по-нищенски мало и оттого работать вместе с Дроном сулило выгоду напарнику. Выносливый, мощный, как трактор, он с лихвой перевыполнял дневную норму труда. Но даже возможность пополнить карманы не прельщала землекопов в компанию к Дрону. Мало того, что любого в пот вгонит, так еще за весь день не обмолвится словом – скука смертельная.
Чада Божьи
Работяги, все без исключения, сострадали Петьке, который, по их понятиям, был и местным – считай, своим, – и старожилом в бригаде. Он вошел в коллектив в те времена, когда за городом, на большом пустыре, только задумывали строить кладбище. Ветераны помнили Петьку умным, добрым и трезвым: большим профессионалом системообразующего завода, известного в крае.
Дрон же был пришлым, чужим. Человек без корней – перекати-поле, которого занесло в их общество по непонятному случаю. К тому же, он был суров и не пьющ.
По неписаным законам мужицкого братства, тайно встречаясь с чужой женой, Дрон поступает подло. Пользуясь тем, что алкоголик не просыхал от пьянки, заманил глупую бабу в койку. А она при подобном раскладе, по причине хронического безденежья, грубости и обиды от мужика, рада лечь под всякого кабеля, который пожалеет матрешку и потискает. Вот и снюхалась с молчуном.
Как бы ни соблазняла красотой зазноба, рассуждали умники, не всякий герой с чужой телкой станет шариться – кодекс чести не позволит. Достойный уважения человек алкоголику непременно сочувствует.
Пьяниц на Руси испокон веков жалели, считая их не извергами, которые измываются над семьей, а божьими чадами. Бедокурят алкаши, проказничают, точно неразумные дети, творят неведомое в пьяном угаре – не по воле своей, а по безволию, стечению злых обстоятельств.
Причуды Петьки пересказывались с хохотом и гиканьем. То удивлялись, как в недоразвитом состоянии он однажды на пасеку влез и переворотил улья с медом, а пчелы пьяного чудака не обидели. Или смеялись, вспоминая, как он через высокий забор в чужой двор сиганул, в будку к свирепому псу наведался. И опять уцелел – хоть бы что смельчаку, восхищались. Видно, в рубашке алкаш народился: унес ноги целыми.
Петька хоть и алкаш и лупит со всей дури Люську, считали дружки, но законный мужик бабе. Еще неизвестно, каким образом горемыка прикипел к зелью. Не жена ли повинна в том? И сынок малолетний вырастал в их семье. Петька – не пряник заморский, не хрыщ посторонний, а отец родной сыну – от данного факта не спрячешься.
И какой с алкаша спрос? Только дурь и слюни.
В коллективе пили все – и молодежь, и ветераны. Считалось, что в профессии могильщика без водки не обойтись. Не зарплата – слезы, а условия труда незавидные, да и эмоциональный фон беспробудно депрессивный. Куда ни обратишься взором – повсюду горе. Порой чудилось, что участвуют в массовом переселении народа из одного края в другой – только успевали землю боронить и наделы вспахивать. Водочка после тяжелого дня, что маманя родная: и успокоит, и душу согреет.
Зверски, по-черному пил только Петька.
Дрон понимал, что их связь с Люськой постыдная, его поступок неоднозначный и копил в себе силы прекратить отношения. Но всякий раз, увидев зардевшиеся щеки гостьи, ее порыв навстречу, широко распахнутые глаза, полные счастья, или новую кофтенку, специально для него надетую, возбужденную суету, с которой она вынимала из сумки и выставляла на стол квашеную капусту, завернутый в тряпку пирог, теплую картошку с укропом, стараясь угодить, мужество указать ей на дверь вновь покидало Дрона. Он снова – в который раз! – принимался уговаривать Люську стать законной ему женой, но она напрочь отказывалась даже слушать. Прижимаясь крепче, шептала:
– Венчаны мы с Петрушей… Муж он мне перед Богом.
Нечаянная радость взросшей в потемках любви, озарившая каждому их жизненный путь, в которую с трудом верилось, и удивляла Дрона, и печалила.
Он старался не думать о том, что будет впереди: после ночи – утром, через неделю, месяц, в грядущую весну. Знал, что однажды наступит предел. Прямая ли, кривобокая – у каждого своя дорога. А какой у него путь, Дрон и не ведал, и не загадывал.
Шли день за днем. Дрон жил, согласившись быть для всех презираемым. Крепкий таежный парень, кремень, молчун – все выдюжит.
Лесная принцесса
…Происшествие на болоте накрепко сдружило Дроню и лесника. С той поры мальчик часто гостил у Петра Ивановича – благо, что деревня, в которой жила Дронина семья, находилась в паре таежных верст от сторожки, на другом берегу реки. И лесник привязался к мальчугану, как к родному сыну, а если им долго не удавалось свидеться, сильно скучал. Ждал и Дроню, и Аннушку к себе на каникулы.
Узнав о мечте мальчика смастерить самолет, помог с деньгами. Разглядев в нем непраздный интерес к летательным аппаратам, посоветовал после окончания школы поступить в авиационный техникум.
Петр Иванович рассказал ему и о геологах, которых однажды сопровождал на Дальнее болото. Показал фотографии и вырезки из старых газет. На одной из них мальчик увидел бородатого человека по фамилии Дронов. Выходит, это отец его?
Серьезный и не особенно жадный до разговоров геолог руководил экспедицией и хорошо запомнился леснику.
Озорная смешливая Аннушка была мастерицей придумывать развлечения.
То принималась затейница с птицами разговаривать, и Дроню приглашала в компанию. Чирикала, точно синичка, смущая залетных птиц. Притворившись дятлом, наказывала ему палкой стучать, в такт своей щебетне резкий, ритмичный звукиздавать. А Дроня рад радехонек играм.
Заливались трелью, сидя на крыльце, вторя лесной песне, а так ли на самом деле пернатые поют, даже Петру Ивановичу – бывалому охотнику, невдомек было. Плел корзину лесник в сторонке, помалкивал. Слушая детский птичий концерт, в бороду посмеивался.
Однажды захотела Аннушка построить для Тимки новое жилище. Думая о том, что настанут времена, когда холостяк бельчонок обзаведется семьей, дети дружно собирали мох и веточки. Появится у зверьков потомство, рассуждали, и им найдется интересное занятие: дрессировать малышей. Увлекшись затеей, Дроня пилил и строгал дощечки для домика – старался угодить Тимке.
Часто ребята ходили на пристань посмотреть на большой пароход с мачтами, мечтая о времени, что как только повзрослеют, отправятся в далекое путешествие.
На обратном пути Аннушка непременно тянула Дроню на кладбище. Не по душе мальчику был этот маршрут, но он плелся за подружкой, не желая подавать виду, что не по душе ему эта прогулка, неприятно. И что за страсть к могилам ходить, молча возмущался. Боялся, дрожал как осиновый лист, но терпел, тренировал волю.
Бывало, лесник вместе с Дроней встречал дочку у пристани. Когда кораблик показывался из-за поворота реки, мальчик чувствовал, как мощные удары сердца сотрясают грудь. С каждой минутой волнение становилось все ощутимей, а когда Аннушка сходила на берег, Дроня внезапно робел перед ней.
Приветливая, веселая и не по годам рассудительная девочка озорно смеялась и из ее глаз на мальчика проливался теплый лучезарный поток – тихий и успокаивающий. Дроня от смущения краснел и заикался и еще глубже втягивал шею в плечи, становясь ниже ростиком. Он казался себе нескладным, недостойным внимания лесной принцессы. Неуклюжие руки – ненужные плети – все время ему мешали. Стараясь не выказывать себя, мальчик все больше хмурился, а оттого выглядел совершенным дикарем.
Справившись с чувствами, Дроня принимался рассказывать подружке обо всем, что его занимало – о реактивном самолете, о шмеле с комаром и о геологе Дронове – отце своем, которого он непременно отыщет, как только повзрослеет.
Сам того не ведая, Дроня влюбился.
Дуб
– Эй, молчун! Оглох?
Дрон не слышал, что его окликали.
На строительную площадку подвезли буфет. Наступил перекур в работе.
Толстая Манька в валенках и в белом халате поверх шубы разливала из термоса чай. Она торопилась – ждали клиенты другого объекта, и громко созывая землекопов к прилавку на раздачу, сердилась за их медлительность. По воздуху плыл аромат кипятка.
После многочасовой напряженной работы лопатами и отбойными молотками руки землекопов плохо им служили. Железные кружки, нагретые горячей водой, больно обжигали пальцы.
– Печенье в лотке! – буркнула буфетчица, протягивая Дрону чай.
Он молча кивнул и отошел с кружкой в сторону. Запрокинув голову к небу, прикрыв глаза, подставил солнцу щеку. Ловил лицом свет.
На соседнем дереве громко трещал скворец.
Привольно растущий дуб с мощными корнями, который Дрон далеко обходил стороной, внедряясь в землю, оживлял унылый пейзаж. Вдруг представил, как приятно в жару было бы укрыться в тени раскидистой кроны. Два взрослых человека едва ли могли бы обхватить ствол, взявшись за руки, прикинул.
Дуб отбирал от стройки много полезного места. Корни мешали рыть ямы. Чтобы экономно распорядиться землей, которая здесь имела хорошую цену, с каждым годом все дорожая, начальнику пришлось поломать голову.
Сначала думалось дерево спилить. Если копать ямы впритык, экономя на проходах, размышлял Керим, то на освободившуюся площадь удалось бы втиснуть десяток могил. Выгода очевидна.
По правилам, семье усопшего полагался бесплатный надел на два погребения, но люди охотно приобретали землю «впрок», для будущих поколений. Опасаясь обесценивания денег, вкладывали средства в кладбищенскую недвижимость. На сухих, обустроенных, приближенных к дороге участках, цена земли равнялась стоимости квадрата жилплощади в городе. Кризис, инфляция, скачки на биржах подогревали азарт покупателей.
В городе шептались, мол Керим втихую землей приторговывал. Сплетничали, возмущались, но серьезных доказательств предъявить не могли, и потому ни у кого не возникало желания вывести успешного менеджера на чистую воду.
Поразмыслив, Керим принял решение не мелочиться и дерево не губить. Распорядился нарезать у дуба большие добротные участки. Чувствовал в ладонях зуд – верный признак того, что не прогадает. Желающих обрести покой под сенью векового дуба найдется немало, рассуждал он. Глупо отказываться от возможности подзаработать. Проект был малозатратен и экономически выгоден.
Звездочка, зоренька
ЗВЕЗДОЧКА, ЗОРЕНЬКА
Несмотря на добротные зимние сапоги, меховую шапку и толстый шерстяной шарф, Василий Иванович продрог. Прикрыв глаза, он уже больше часа неподвижно стоял у могилы. Бледное солнце ласкало лицо, не согревая. Ледяные потоки воздуха с оттаивающей земли незаметно подбирались к его сухопарому телу, сквозь одежду.
На пригорке гомон птиц и журчание ручьев становились все явней, но здесь, в царстве холода, тепло было призрачным. Настоящую весну еще ждать и ждать, подумал старик, пытаясь двинуть задеревеневшими ногами, в попытке немного согреться. Пошатнувшись, крепче схватился за ограждение.
На небольшом столике у березы лежала его матерчатая сумка с пожитками. Он принес с собой в термосе чай, завернутый в газету пирог и толстую потрепанную тетрадь, с которой не расставался.
Старик прожил долгую терпеливую жизнь, типичную для людей своего поколения: с лишениями, заботами о хлебе насущном и неутолимыми надеждами на лучшую долю. Ничем примечательным или геройским в ней он похвастать не мог. Жизнь как жизнь, как и у многих.
Поскулить, пожалиться на судьбу он, конечно же, мог, но стыдился. Порой, в особо благостном расположении духа, считал, что Господь был к нему милосерден. Втихую самому себе осторожно признавался, что, по сравнению с иными, судьбой был обласкан. Вслух говорить о том опасался, боясь накликать беду.
В эту тетрадь старик всегда что-то записывал: свои рассуждения или умные мысли посторонних людей, которые он где-нибудь прочитал или услышал. Иногда ему удавались стихи. Когда настрой был на лирику, рождались строчки любви. Если что-то печалило, писал о родине, нечто высоко-патриотическое.
В последнее время многое в обществе старика неприятно удивляло. Душа кричала и плакала. Перо бранилось.
Отца своего Васятка не помнил. В лихие годы талантливого агронома, выпускника академии, по навету недоброго человека объявили предателем. Скоропалительно осудив, отправили в лагерь, и он сгинул.
Кроме него, старшего сына, у матери детей было, что гороха в поле – мал мала меньше. «Беда! Пропадут ребятишки!», – скулили соседи.
Василий не пропал, а выстоял. Долго профессию себе не выбирал – не модничал. О трудовом призвании в умных книжках читал, но лишь ухмылялся, не завидуя. Рассуждал о призвании с легкой иронией и оглядкой на обстоятельства. Смекнув, что офицеров советской армии государство жильем и приличным пайком наделяло, выбрал надежную профессию кадрового военного. Превратил практичную профессию в призвание.
Когда пришло время жениться, ему приглянулась смирная и покладистая портниха Тамара – девушка с кротким нравом и золотым сердцем, чуть старше него. Прикинул, что разумнее жизнь строить с серьезной, не избалованной жизнью спутницей. Трепет души и любовная страсть в расчет не брались. Если что-то порой шевелилось в груди… Так это сердце, считал. Мышца, которая толкает кровь.
За долгую жизнь он был свидетелем многих семейных драм, когда влюбившись без памяти, мужчины теряли рассудок. Часто за скороспелой свадьбой наступали трезвые будни, и семейная жизнь трещала по швам. Беда, считал офицер, когда прикипишь к пустому бесполезному человеку. Любовь окаянная, болезнь и сочувствие.
С Тамарой создали крепкую семью, с годами прижились-слюбились. Жизнь наладилась. Родились дети. Офицер стал писать стихи.
Василий Иванович раскрыл тетрадь.
«Я назову тебя звездочкой, только ты раньше вставай… Я назову тебя зоренькой, – только везде успевай…», – записал он однажды слова полюбившейся песни. Зачем влюбляться в кого попало, соглашался он с авторами красивой композиции, если, не теряя голову, можно с молодости сойтись с трудолюбивой не привередливой женщиной без прикрас. Как без крепкого тыла?
В этой пухлой тетради – целая жизнь.
Василий Иванович положил озябшую ладонь на страницу, испещренную буквами, и внезапно налетевший ветерок зашелестел страницами. Зашептал…
Вдруг старика охватила дрожь. Он глубоко вздохнул. Беззвучно заплакал, сотрясаясь худыми лопатками.
Грех жалиться, вслух сказал он кому-то и всхлипнул.
Семья – надежная крепость. У детей и образование, и добротная профессия.
С Тамарой, считай, только год не дожили до золотой свадьбы – не дотянула бедняжка до красной даты. Уходила тяжело, мучилась.
– Без смеха твоего… и голоса… Без ласки твоей… – надрывно выдавил он, обращая взор к небу. – Звездочка моя… Нету мочи…
Нельзя раскисать и роптать на судьбу, тут же боязливо подумал, – большой грех. И ноги ходят, и сердце стучит. В дни, когда чувствует себя сносно, в нем по-прежнему просыпается страсть покомандовать. Значит, еще жив, курилка.
Только к чему жизнь без любимой, вздохнул..
– Жизнь не мила, – Старик взглянул на фотографию на кресте. Тамара улыбалась ему.
Внезапно Василий Иванович услышал вдалеке натужный звук машины. Повернул голову и увидел, как в стороне от дороги, буксуя в глине, к свежим делянкам продирался катафалк, а за ним ползла лента автобусов и автомобилей. Крепкая, скованная льдом дорога, по которой они со сторожем ранним утром направлялись к могиле, превратилась в хлипкий студень.
Отвлекшись на громкий крик птиц, он обернулся к насыпи. У перевернутого бака с мусором, в котором лежали сухие ветки, истлевшие венки, камни и прочий хлам, вороны ссорились из-за еды. Черные траурные ленты, обтерханные и полинялые, валялись на снегу среди пустых бутылок, пластика, бумаги и остатков пищи.
Офицер брезгливо поморщился – терпеть не мог бесхозяйственности. Еще осенью его цепкий глаз подметил, что емкостей для хранения мусора на кладбище не хватает, а те, что имелись в наличии, быстро переполнялись отходами и освобождались нерегулярно. Птицы, бомжи, бродячие собаки и грызуны растаскивали грязь по территории.
Василий Иванович давно собирался наведаться к руководству и указать на антисанитарию и вопиющее бездействие. Рвался в бой навести порядок в подведомственном им учреждении.
Но пришла зима, и снег припудрил землю, запорошил ряды-улицы, заполнил рытвины на дорогах. Выбелил, выровнял, освежил и приукрасил пейзаж. Отвлек взор.
С приходом тепла снег просел и истончился, и перед глазами встала прошлогодняя, еще более удручающая, картина убогого ритуального быта.
Вдали громыхала техника. Сновали люди. Василий Иванович решил, что настало время встретиться с ответственными лицами. Когда речь шла о принципиальных вещах, офицер был непреклонен.
Закрыв поспешно тетрадь, сложив в сумку пожитки, старик решительным шагом направился к землекопам-строителям.
Перекур
Под курткой пекло.
Дрон чувствовал, как озорное, расточительное, по-ребячески задорное солнце растопило в груди лед. Губы дрогнули и помимо воли стали складываться в тихую, благостную, безмятежную улыбку. И сам он весь, как подсолнух, вдруг двинулся в рост. Щурясь, глотая запах талого снега, потянулся плечами и шеей, каждым своим позвонком, к высокому, ослепительно-синему небу. Стараясь не обращать внимания на косые взгляды ухмыляющихся сослуживцев, которые, находясь неподалеку, исподтишка наблюдали за ним, поплыл в тихом потоке блаженства и радости, без причины. Забавляя и одновременно раздражая мужиков, Дрон таял, но не мог сладить с собой: так хорош был весенний денек. Чтобы остудить жар, он рукой отыскал пуговицу, впустил под одёжку прохладу.
– Ты, Марфута, перестала нас пирогами баловать, – сказал Петька буфетчице, протягивая кружку для добавки чая. – Плесни-ка чуток. Вкуснее твоих не едал.
– Некогда с тестом возиться, – нехотя отозвалась Манька, не удосуживая алкоголика взглядом.
– И правда, Маня! Потеряла сыд!, – вступил в разговор долговязый Шурик, подойдя следом за шутником к лотку.
Играя косматыми бровями, он с интересом смотрел на суровую и неприступную, как скала, женщину и ухмылялся.
– Санэпидемстанция козни строит. С печеньем сподручней на выезде. Гигиенично, – буркнула буфетчица и повернулась к мужикам спиной.
– Приручила нас, черствая душа, к разносолам, а теперь что же? Врачи? Гигиена?
От горячего чая лицо Шурика разгладилось. Душа пела. Яркий солнечный денек призывал и его острить и балагурить. Работяги пытались растопить сердце женщины пылкими взглядами и неуклюжими заигрываниями, и он категорически не желал наблюдать неудовольствия буфетчицы.
– Мадам, вы ответственны за тех, кого приручили, – поддакнул Савелий – нескладный верзила в брезентовом костюме, заляпанном землей, без возраста и особых примет лица. – Антуан де сент Экзюпери. Маленький принц.
Савелия в бригаде считали академиком. В далеком, давно забытом прошлом, он корпел над диссертацией, а потом удачно защитился в Академии наук. Теперь при всяком удобном случае старался напомнить о важном моменте биографии, подчеркивая свое отличие от необразованных коллег. К месту и не к месту сыпал цитатами, важничал.
– «Белое небо крутится надо мною. Земля серая тарахтит у меня под ногами…» К нам, рудокопам, работникам приисков, нельзя относиться без должного почтения, сеньора Маня. «Я вытаскиваю, выдергиваю ноги из болота, и солнышко освещает меня маленькими лучами». Могли бы, драгоценная, проявить эмпатию, то есть душевную чуткость, – Савелий громко, театрально вздохнул.– Ты нам со своими плюшками, Марфута, заместо матери будешь… – Озираясь по сторонам, Петька откупорил бутылку и щедро налил в кружку водки. Резкий запах спиртного потянулся по воздуху. Залпом выпил.
Широко распахнув руки, под смешки и одобрительный гул дружков, пошатываясь, он шагнул к женщине-горе в намерении обняться:
– А ну дай, я тебя поцалую.
Манька энергично запротестовала и стала беззлобно отбиваться от Петькиных тисканий. От большой порции мужского внимания она зарделась и, сама того не желая, вдруг тоже широко разулыбалась.
– Душа моя, не желаете ли после работы составить компанию одинокому, недооцененному мужчине? – к Мане подошел и Василий – мрачноватый тип с прыгающим, колючим взглядом, – Как никто другой, надеюсь на взаимность. Конкуренции не потерплю, – Он показал Петьке кулак.
Сладкий весенний воздух и чай с печеньем обнаружили и в нем не раскрытый творческий потенциал.
– Опоздал, дружище! Я первый на раздаче! – возмутился академик. – Смирись, брат. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты…» Ты к лирике как относишься? В поэзии силен? – поглядывая на дружка с высоты роста, высокомерно спросил он Василия.
– Ты велик, Академик! Но моя сила – в корневом крене, – хохотнул тот в ответ и подмигнул Маньке. – Лирика – в корне! – Он живописно поскреб пятерней щеку, заросшую щетиной.
– Хватит лыбиться! Жрите скорее, кобели неугомонные! Некогда мне с вами лясы точить! – грозно прикрикнула Манька, в миг испортив всем настроение. – Это вам, бездельники, весну стеречь, а мне еще в Заречье с товаром. Таких, как вы, оголодавших, кормить. Во-он Керим-то идет, – Она показала рукой вдаль на приближающиеся фигуры бригадира со свитой. – Покажет вам начальник и лирику, и корневую силу.
– «Я ищу. Я делаю из себя человека»* (И.Бродский), – торжественно заключил Савелий, настраивая коллег на серьезный лад.
Оглашая воздух пронзительной трелью, в кустах веселился скворец.
Дрон макал печенье в стакан с кипятком и мокрым отправлял в рот – по воздуху плыл аромат жареных орехов и сливочного масла. Именно так, – опуская печенье в кружку, – они с Аннушкой пили чай в сторожке у лесника, с наслаждением глотая благоуханную сласть.
…Печенье крошилось. Дроне казалось, что, втягивая в рот горячую жидкость, он чересчур громко хлюпает. Торопливо отхлебнув, ставил чашку обратно на блюдце. Пока Аннушка не заметила его руку, изодранную в кровь болотными колючками, прятал ее под скатерть, хоронил рядом с другой.
Чай проливался на стол. Аннушка звонко смеялась над Дрониной суетой. Вставала за чайником, чтобы снова налить ему кипятка. А неловкий Дроня все больше хмурился. Держался стойко, как мог, только чтобы не расплакаться навзрыд, как девчонка, перед лесной красавицей, от смущения.
Деловой костюм Керим поменял на робу, обулся в резиновые сапоги выше колена. По скользкой дороге шел размашисто, казалось, не думая о том, что по неосторожности возможно падение в грязь. Его спутники – невысокая женщина в темном пальто, с сумкой через плечо, и кто-то еще, работягам неизвестный – еле поспевали за бригадиром.
– Людка, кажись, похоронный агент, – узнал незнакомку Шурик.
– Могилу идут выбирать.
– Наверное, кто важный умер.
Людмилу в городе знали как успешного руководителя похоронного агентства. От клиентов отбоя не было. Погребальная церемония в исполнении ее команды превращалась из заурядного события в душераздирающее зрелище. Коллектив процветал.
Шагая по рядам свежевыкопанных ям, Керим что-то оживленно говорил популярному менеджеру, указывая руками по сторонам. Они направлялись к дубу.
– Начальник-то наш юлит, – подметил Василий. – Того гляди, переломится.
– Выгоду чует, вот и старается, – лениво отозвался Шурик.
– Смотрите, к дереву прутся! – присвистнул Василий.
– На пригорке сухо и красиво. Клиенту дорогое место втюхать хочет. А что? Достойно, живописно. Лежать у дуба просителю придется по душе, – включился в разговор Савелий, оттаявший и подобревший на весеннем ветру. – «У Лукоморья дуб зеленый…», – запел.
– А по мне, все же у часовни лучше. Там асфальт, и снег регулярно трактор чистит, – возразил Петька.
– Суета в центре, как на базаре, – не согласился с ним Василий.
– Зато нескучно. Мило. Колокольный звон и прочие радости в праздник, – стоял на своем Петька.
– Это на любителя. Урбаниста, к примеру, и после смерти тишина и покой удручают. И на том свете душа просит огня, – хихикнул Савелий.
– Почем знаешь об том? В умных книжках читал? – съехидничал Шурик.
С важным выражением лица академик кивнул.
– А меня, мужики, если честно, скопление людей ввергает в депрессию, – пожаловался Семен, невысокий мужчина средних лет с тревожным взглядом.
Он стоял чуть в стороне от других, втянув голову в плечи, и все время пугливо озирался по сторонам, готовый в случае непредвиденной опасности первым дать деру.
– Превосходна уличная толпа в Генуе, – щурясь, произнес Савелий, растягивая и пружиня слова. – «Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа».
Медленно расплываясь в улыбке, академик с превосходством смотрел на недоумевающих работяг:
– Антон Павлович Чехов, коллеги, школьная программа. Каждый уважающий себя человек должен с сим чтивом ознакомиться, братцы, – прервав молчание, наконец, пояснил академик внимательной публике.
– Хороший был мужик Чехов. Нашего брата жалел, – тяжело вздохнул Шурик, косясь на прилавок, прикидывая, как бы незаметно от буфетчицы половчее стянуть из лотка печенье.
– Чего прячешься-то, пыжишься? – возмущенно воскликнула Манька. – На, жри! Бери, сколь хочешь! Али твой интерес не наблюдаю? Что ли не велю? – Она сердито толкнула по прилавку коробку. – Не в помои же нести! И ты карманы набей, – обернулась к Петьке, – сынка сладостью угостишь.
Петька подошел к буфету и запустил пятерню в ящик. Взял пару пачек и стал рассовывать печенье по карманам.
– И то правда, Марфута, благодарствую. Сынок у меня, я вам скажу, – произнес Петька, смущаясь, зажмурившись от внезапного приступа чувств. Восторженно замотал головой, не в силах совладать с порывом.
– Вот и славненько. Жрите, жрите, мужички, али мне жалко? – растрогалась от Петькиных слов буфетчица.
Пустые разговоры
В полдень солнце жарило, точно в летнюю пору. Интенсивно стал таять снег. От земли к небу протянулись нежно-молочные потоки испарины. Остро запахло прелой почвой.
– Не слыхали, кто умер-то? Поди, кто из русских? – спросил Василий.
– Как знать… Смотрите, уж обратно идут. Видать, не приглянулось мертвяку место у дуба. Дальше путь держат.
– Не по зубам местечко будет. Под дубом дорого спать, – откликнулся Савелий.
– Людке – да не по зубам? Не скажи, у нее клиентура богатая.
– Кажись, к армянам двинулись, – предположил Шурик.
– Видать, не русский клиент: южане чужих к себе не допустят, – сказал Василий.
– Ты почем знаешь? – спросил Шурик.
– Как не знать: не прижились на кладбище в ихнем краю ни Ивановы, ни Сидоровы. Сходи на экскурсию, коли не веришь, фамилии на крестах почитай. Наведайся после работы, фома неверующий! – ответил Василий.
– Че смотреть-то? Был, видел.
– И что?
– Будто в Ереван съездил!
– Красивый город, к слову сказать.
– Я тоже как-то в Ереване гостил, – поддержал разговор Семен. – Друг у меня там, в институте учились.
– При Союзе?
Семен кивнул.
– При Союзе все путешествовали. Ереван, Баку, Ташкент, Душанбе…
– Давно это было… Чудно!
– И не с нами сия история приключилась, кажись…
– Нынче в поезд не сядешь. С голодухи не сдохнуть бы!
– Красивый город Ереван сам прибыл к нам. И на билеты не надо тратиться, – засмеялся Василий. В блеске солнца его зубы сияли.
– Красивый-то красивый, но я лично и после смерти не согласен с чужаками рядом в земле лежать, – проворчал Шурик и полез в карман за сигаретами.
– Армяне не чужие нам. Православные, наши, – не согласился Семен.
– Наши, да не совсем. Живут кланом, по национальному признаку, на каждом шагу восклицая «мы – армяне!» Не дают всем о том забыть.
– Малая нация. Не напомнишь – затопчут.
– Не соглашусь здесь с тобой: семейственность – что плохого? Если армяне тебя принимают в семью, даже в качестве друга, соседа, знакомого, ты чувствуешь невероятную теплоту… очень теплый народ.
– Жить общиной – прекрасно! И защита, и воспитание, что плохого?
– А мы о себе не помним, скромнее все ж будем.
– А по мне, лучше все же лежать с армянами, чем, к примеру, с татарами, – сказал Шурик.
– Ты не русак, коли так говоришь! – возмущенно воскликнул Савелий. – Русский человек интернационалист по природе, – сказал Василий,
– Я не русский? – возмутился Шурик. – А кто же я, по-твоему? Татарин?
– Татарский аул – это туда, на восток, – махнул рукой Семен в противоположную сторону. – Мусульмане чужих к себе на дух не допустят. Отвоевали втихую кусок на кладбище и свои порядки во дворе насаждают.
– Благородно наступают, не агрессивно. Смирением и массой берут.
– Чудно! А нас, русских, будто в низину смещают, – громко вздохнув, сказал Шурик, с горечью плюнув под ноги.
– Потому что никудышные хозяева мы у себя на земле. И в миру, и на кладбище.
– А соседний, пустой, загон чьим будет? – Василий красноречиво посмотрел на собеседников, зло ухмыльнулся. – Что думаешь, брат? – обратился он к Шурику.
– Ту землицу бригадир покамест не трогает, временит. Брехали, торг умный ведет. Вроде, как посулил некто Кериму большую награду. Вот и глохнет пустырь, – отозвался Семен.
– Потянет маленько, и татары мечеть там построят, подсуетятся, – буркнул Шурик.
– А что же? Не исключено.
– Все же чудно, мужики! Мы и на кладбище вроде чужаков будем. И в жизни, и после смерти итог один. Чудно! – Шурик громко выругался.
– Ага, а нашего брата туда, – Василий показал рукой в сторонку от дуба. – И пониже, и погаже.
– Русскому Ване и после смерти не привыкать грязь месить. При жизни нет света, и на том свете темно, – неожиданно рассмеялся Петька.
Смех у него получился неестественно оживленным, вымученным.
– Интересно, сколько Кириша выклянчит за место у дуба? – прикинул Савелий.
– Уж не прогадает, не переживай. Отец родной он тебе, чтобы о том беспокоиться? – Василий злобно сверкнул глазом.
– Твое дело – грызть землю, дурная башка. Копай, крот! Без нашего изволения начальнички гладенько порешают вопрос. Пыхти и сопи, не озадачивайся! – злобно отозвался Шурик. – Лишних вопросов не задавай.
– Депутат на прошлой неделе умер, единоросс. Слыхали? – перейдя на шепот, вдруг сказал Василий. Его осенила догадка.
– Богданов.
– Точно, он! Так вот, сынок партийца нашему Кирише за усердия Ауди отписал, новую! Вот и старается начальник, из кожи лезет. Для него ищет место, уверен!
– Скажешь тоже – новую! Сто тысяч пробега! – презрительно присвистнул Шурик.
– Для Ауди это не срок. Фрицы мастаки авто клепать, – возразил Василий. – Прикинь, как плотненько ихние танки расползлись по миру. Авто-оккупация.
– Это смотря где ездить. Если по нашим колдобинам да выебинам… – сказал Савелий и сделал паузу. Подождал, пока утих мощный, оглушительный грохот здоровенных глоток в ответ на его слова. – Пардон, выбоинам… – поправился Савелий, тоже хихикая. – Тогда машине хана. Иное дело по автобану километры мотать.
– БМВ все ж получше будет. Солидно. Я бы БМВ себе взял, – сказал Семен.
– Взял бы, да не дают, – рассмеялся Шурик. – Даже китаец не по зубам будет нам.
– Выходит, чтобы жопу в приличной машине греть, всю жизнь надо без продыху вкалывать?
– И жизни не хватит, не сумлевайся. Один ремонт встанет в копеечку.
– Люди зарабатывают все ж, крутятся.
– Нашему брату о подобных приобретениях и грезить не стоит – для здоровья вредно даже думать о том, – удрученно вздохнул Василий.
– Если уж и помечтать о хорошем нельзя, то один путь, мужики, – напиться.
– Или повеситься, – зло сверкнул глазом Шурик.
– Я вот что скажу, друзья: главное в жизни – позитивно мыслить, – сказал Савелий. – Наукой доказанный факт! Потому как любая мысль следом настроение тянет. Балагурь, не грусти, думай о хорошем, – будь в шоколаде!
Стараясь примирить коллег, Савелий изобразил улыбку, похожую на оскал.
– Забыл, где находишься? Не в кулинарии работаешь. И не в магазине клубничном. Какой позитив, если холод собачий, и покойники день и ночь, – вдруг не на шутку рассердился и Василий.
– Наш начальник тоже с мертвяками работает, а смотри ж, как взлетел. Орел! У него, думаю, на душе гаже нашего будет. Ты сеятель, работник полей – считай, белый воротничок. Благородным трудом занят, боронишь землю. «Сеешь плевелы с пшеницей, хлеб людской и божий цвет», а он целый день на виду, с депрессивными людьми.
– Ты Керише в душу с лампадкой заглядывал? Почем знаешь? Может, у него райские птицы поют.
– Не с людьми бригадир работает, а с трупами.
– Состояние на прахе сколотил – умен! Учись, дурная башка!
– Трупы – те же люди, хоть и бывшие. Все мы клиенты сего заведения и лишь временно живы. "На земле умирают и плачут, и ручьи бегут нараспев" (Р.Рождественский)
– К людям завсегда подход нужен, не каждый сможет найти, – сказал Семен.
– В выигрыше окажется тот, кто сумеет обуздать эмоции. Наука! – Савелий широко улыбался, призывая землекопов подключиться к его радости. – Нельзя дать чувствам пленить себя. Начнешь гундеть – тоска зеленая… Смотри-ка, каков нынче денек: «ширь пустынная открыта зеленеющей весне…» – Он распахнул руки, желая обняться с небом.
– Коли хочешь легких заработков – шлепай на биржу акциями торговать. Деньгой разживешься, – не унимался Василий.
– Весна не за горами, мужики. Солнце шалит! Прекращайте нудеть!– Шурик подвел черту под разговор, тоже поднял руки и с удовольствием, до хруста позвонков, потянулся.
– «Сияет дух сиреневый, волнуемый листвой! Свирелевый, игреневый, день пахнет синевой», – запел Савелий. (Эльдар Охазов)
– Эка ты загнул! Свирелевый, игреневый – поди выговори! Язык сломаешь! – восторженно присвистнул Шурик.
– Красиво, образно, – похвалил Петька.
– На бирже воздухом торгуют, – не желал сходить с волнующей темы Семен. Распахнул куртку, подставил солнцу щеку и зажмурился.
– Весна греет до седьмого пота. Жарко, как в бане.
– Воздухом торговать? Не скажи! Вредная профессия – нервы, стресс, – упорствовал Василий, но без прежнего азарта к разговору. – Мрут брокеры, как мухи.
– Вредная, но денежная, – вяло откликнулся Семен.
– Америкосы биржи создали. Ротшильды, Клинтоны. Устроили мировой заговор против человечества, – набрел Шурик на новую тему.
– Вот и выбирай, дурная башка: нет денег, но живи спокойно. Рой яму, сажай и притаптывай. Или крутись, нервничай, елозь, но долго не протянешь, – подытожил Василий.
– Свобода волеизъявления, – поддакнул Савелий. – «Я ищу. Я делаю из себя человека».
– По мне, лучше быть философом и сохранять верность надгробиям. Сколько ни заработай, итог один – крест и яма. Повезет – у дуба схоронят, не повезет – на пустыре гнить будешь.
– Выходит, все в назначенный час сюда придут. Все здесь окажемся.
– А Людка-то как старается, в грязь лезет. Того гляди, в яму прыгнет, – заметил Шурик, разомлевший от солнца.
– Видно, и в правду, важный клиент подвернулся, кому-то больно угодить хочет, – откликнулся Семен.
– Людка молодец, – одобрительно сказал Василий. – Спорая, скорая. Бьюсь об заклад, в работе ей нет равных.
– Точно!
– Вроде бы скучное, тоскливое событие – похороны. Могила, гроб, венок, транспорт, поминки.
– А оформление бумаг? Изведешься! – подхватил Шурик. – Знаю лично, тестя недавно хоронил.
– Но Людка так извернется, так рассыплется.
– Молодец баба.
– Проникновенные речи, свидетели, милые сердцу детали.
– Одним словом, душевно и зрелищно. Знаю, сам присутствовал не раз.
– Я тоже на ее представлениях бывал – удовольствие…
– Ей не на кладбище работать, а в телевизоре ток-шоу вести.
– Любой рейтинг затмит. Говорит просто, а душу рвет. Слезами умываешься, будто младенец.
– Настоящий талант в землю зарыт.
– Креативно, – поддакнул Савелий.
– Я одно не пойму, – немного замявшись, робко сказал Семен, не решаясь вклиниться в восторженный поток славословий коллег с внезапно посетившим его сомнением, – Вот я думаю, мужики… Как Людка… после контакта с покойником в своем личном хозяйстве управляется? Чудно как-то…
– А что чудесного-то? – не понял Василий.
– Как она свойского, то есть персонального мужика – теплого, живого, охочего – чует? После похоронных забот? Возьмет его, к примеру, за орудие, а оно что же…
– Выстрелит?
Землекопы загрохотали, вспугнув стаю грачей. Громкий хохот здоровенных мужских глоток огласил упокоенный пустырь.
– Чудно!
– Что есть жизнь? Что есть смерть? Две ипостаси сознания, – утирая глаза от проступившей от смеха влаги, изрек Савелий. – Человека ждет воскресение, значит, он не умирает. Так в Библии сказано.
– Лишь для святых и праведных мучеников слова твои верными будут, а не для нас, дуралеев, охульников. Не по нашу душу премудрости эти.
– Выходит, мы и на том свете изгоями будем…
Внезапно радость безвинного трепа потухла. Каждый задумался, о чем-то своем.
Солнце слепило глаза. Обезумев, на дубе чирикал скворец. Спорая весна, резвый ветер без жалости топили снег, прогоняли прочь зиму, торопили время.
– Людка сама к гробу не подходит и покойников не разглядывает. Это Алку пожалеть надобно – трупы бальзамирует. Мейкап мертвякам наводит, – нашел новую тропинку в разговоре Шурик.
– Алка – врач.
– В любом деле, мужики, привычка нужна. Ко всему человек привыкает, – сказал Савелий, тяжело вздохнув, и на этот раз все с ним удрученно согласились. Надолго замолчали.
Устя
…Дронина мамка председателю колхоза не досталась. Повздыхал герой, петухом походил вокруг неприступной женщины, шпорами погремел – все напрасно. Не позарилась Устиньяна завидное положение ухажера иобещание жениться. Дала решительный отпор натиску.
Уж лучше в непосильных трудах жизнь вести, решила она, чем идти с малолетним сынишкойв чужой дом – не ровней мужу, а приживалкой. Не желала слышатьза спиной завистливый шепот соседей: мол, сбежала горемыка в богатый дом от нищеты, на хлеб дармовой позарилась. Чужое семейное гнездо разворошила и малых детей, при живом-то отце, сиротами сделала: несвободным был председатель.Тайком, воровато – в поле или на сеновале – встречатьсяс воздыхателем, как иные подруги с любовниками, не по нутру было Усте. Гордая, себя уважала.
Хотя – в ее-то незавидном положении!Бабысудачили: мол, могла бы и не блюсти себя, допустила бы безвинную вольность. Кто посмеет порченую девицу в том упрекнуть? Снисходилилюди к Устинье, жалели. В юную порунагуляла девка сынишку. Грех ли, если по большой любви? Родила сына Степку от пришлого человека – поступок для деревенского жителябезбожный и проклятый. Упустили родители дочь, порицали по дворам, недосмотрели. Выходит,плохо воспитали,– без страха в душе.Что уж теперь оборону держать?
И разве могла мать Устипредвидеть, какую беду приведут вдомпроклятыегеологи, которых она от бескормицы обслуживала да обихаживала.И мысли не былоо том, что еенабожная и рассудительная дочкапотеряет головуотлюбви.
Белокурый широкоплечий геологпо фамилии Дронов с черной бородой и темными глазами-углями словно околдовалдевку,вовлек семьюв грех.
В деревне каждый шаг на виду, не утаить шила в мешке. Строгая мать Усти долгоне верила расспросам соседей, их намекам двусмысленным. Думала, сплетничаютбабы, языки чешут. От скукимаются.
А как съехали со двора геологии, то и сама заметила неладное в поведении дочери. Затосковала Устя. Белый свет ей не мил. Местасебе от отчаяния не находила.Ничтоне радовало: ни рассвет тихий, летний, ни небо, полное звезд, ни смех подружек и забавы девичьи. Так страдала по геологу Дронову, что мать испугалась, как быхудого не случилось и не наложила бы дочь на себя руки.
Устя в поле – мать за ней следом.Огород дочь поливать надумает, и старая тут как тут: воду несет бычку, что неподалеку траву щиплет, вроде как лишний раз животинку напоить хочет.Глаз с Усти не спускала, по пятам ходила.Да, видно,раньше надо было девку блюсти, честь ее караулить.
По осени увидала, чтодочь раздобрела в боках, словно на дрожжах тесто. Приперла к стенке негодную, иУстя призналась в своей горькой тайне: мол, испорчена, и обрюхатил ее геолог Дронов. Завыла старая,точно дикий зверь, схватила вожжи ипринялась что было силы хлестать негодную изменницу.
Упала Устяна колени, согнулась в три погибели, глубоко схоронив под собой живот, рукамизащищая драгоценный плод. Ни стона, ни всхлипа, ни жалобы не услышала в тот вечер мать от дочери. Закусила девкагубу и терпела, что было мочи. Ни единой слезинки не выронила. Лишь безумно горели зрачки,а лицоисказило судорогой. И жестокие побои материей словно бы радость несли, утешение.
Под зиму родился в избе мальчонка – крепкий, белолобый, на бычка похожий.Степка Ларионов, безотцовщина.
На Устю – невысокую, ладную, скопной пшеничных волос, скрытых под белым платком, – все до одного мужики в деревне заглядывались. Не былоравных ей ни в красоте и в стати, ни в работе. В трудовом усердии – на сенокосе или в коровнике – могла здоровенного бугаязагнать в пот, до полусмерти.
Ее чуткиеруки, спокойные в рукоделии и в ласке животных,таили недюжиннуюсилу, становясь камнем, когда, прогнувшись в талии, она тягала в скирду вилами клок сена, размером с гору.
Другого мужчину, кроме геолога Дронова,Устя больше не встретила. Женское счастье мимодевки прошло.
Услышав ночьюнеровное дыхание мамки, Дроня просыпался. Устя вздыхала, что-то шептала во сне, порой всхлипывала. Было страшно.
Их ветхий домик с высоким крыльцом, резными ставнями и палисадником, сплошь скрытым сиренью, по ночам ворчал, кряхтел и постанывал. Неясный, пугающий Дроню шорох раздавался из-за печки и подпола. Скрипело в чулане. Ветер привольно гулял в сводах крыши, раскачивал и гнул ее, словно играя пересохшими позвонками, проникал на чердак. Из каждого уголкажилища доносились жалобы, щелчки и постукивания.
За печкой хрипело – это умаявшись за день,отдыхала, набиралась сил старенькая бабка.
С той поры, как волки повадились в их деревню дратьовец и телят, в рокоте пугающих звуков Дроне чудилсяхищный зверь,который поджидалснаружиза завалинкой добычу-дуреху.
Стараясь нескрипеть половицами, мальчик вставал и на цыпочках пробирался ккровати, где спалаУстя. Влезал к ней на высокую перину. И только прижавшись к материнскому боку,утопаяв тепле, покое и неге, затихал.
Мамка тонкими, девичьими руками обвивала тщедушное тело сыночка,губами касалась стриженого затылка, и ночной страх, истязавший мальчика,уходил прочь.Сон окутывал с головы до ног, и онбезмятежно засыпал.
В эти часы тишины и усталости мамкаказалась ему болезненно беззащитной. Таясь при свете дня своей горячей любви к сыну: бабки ли мать стеснялась, перед которой чувствовала вину за семейный позор или колючих взглядов посторонних людей,невольно осуждающих ее за поступк,лишь ночью могла она без стеснения проявить так недостающие сыну любовь и ласку.
Греховный по факту появления на свет, Дроня с малых лет ощущал себя отличным от других детей в деревне – изгоем.
С восходом солнцамальчику доставались от родных лишь назидания, упрекии подзатыльники. В их семье не желали излишней мягкостью воспитать в нем слюнтяя и белоручку.
Знакомство
Манька сворачивала лоток. Ветер сносил со стола бумажные салфетки и хлестал клеенкой с пролитым на нее чаем. В бледно-коричневых лужицах, растекающихся во все стороны, поднималась буря. Негодную посуду буфетчица отправляла в мешок с мусором, а чистую убирала в коробку. Сверху уложила непочатые пачки с вафлями и печеньем, сахар.
Женщина торопилась. Время перекура давно истекло, и краем глаза Маня видела, что издалека к ним направляется бригадир с делегацией. Спешила управиться с делами до их появления.
Василий Иванович подошел к собранию и среди землекопов, облаченных в строительную робу, узнал обитателя сторожки, в чье окно он рано утром стучал, с которым еще в темноте, шагал к могиле. Кивнул ему. Неожиданно для себя, Дрон вдруг обрадовался хмурому человеку.
Подобревшие от сладкого кипятка работяги с любопытством посматривали на сердитого зрителя, который внезапно появился на стройке внезапно, словно привидение. Стоя в отдалении, он молча наблюдал за бригадой, буравил каждого землекопа колючим взглядом. Прислушивался к разговорам, улавливал настроение.
Солнце, горячий чай и невинный треп сделали выражения лиц рабочих простодушно-беззлобными, похожими одно на другое. Уронит ли Манька упаковку с провизией, скажет ли что невнятное Шурик, набежит ли ветерок и станет, что было задора, гнать волны по клеенке, – по любому поводу их распирало смеяться. Хихикая и перемигиваясь, они поглядывали то на старика, то на Дрона.
– Погоди! Не складывай! – не выдержав, Василий Иванович и шагнул к буфетчице. – Ты что же, и дома так прибираешься, матрена неразумная? Руки бы тебе пообтесать!
Старик нетерпеливо выхватил из Маниных рук клеенку.
– Скатерть насухо вытирай, не плоди бактерии. Чему тебя только мать-то учила, дуреху! Бумагой суши! – повторил он и показал на стопку салфеток. – А ты чего скалишься? – вдруг прикрикнул он на академика, который с любопытством смотрел на их препирания. – Куда прикажешь бабе мусор нести? Контейнер хламом забит по горло! Горы мусора по земле! Кто убирать будет?
– А я почем знаю? – фыркнул Савелий. – Ты, дед, не по адресу обратился. Я не по этой части, – Он лениво отвернулся.
– Языком болтать твое дело – вот твоя часть!
– Савелий – поэт, – вступился за коллегу Шурик, приобняв друга.
– Поэт, как же! Пушкин! Знаю я вас, поэтов! Слыхал! – проворчал старик.
– А чем вас Пушкин не устраивает, гражданин? – оскорбился Савелий.
– Не болтайся! Чай выпил? Шагай в строй! – приказал ему Василий Иванович и вдруг увидел Петьку, который едва стоял на ногах. – Работнички! Золотая молодежь. И этот… Когда только наклюкаться успел? Чем поила его? Водки в кипяток подливала? – прикрикнул на Маньку.
– Начальник наш идет. У него и спроси, дед, про хлам и контейнеры, – миролюбиво сказал Савелий. – Я щас, мужики. В кустики отлучусь, мне по малой нужде.
Слова Савелия до глубины души возмутили пенсионера.
– Это что же, испражняться на могилах? – воскликнул он грозно и рукой схватился за грудь.
– Дед, шел бы ты своей дорогой! По-хорошему прошу, – подойдя вплотную, принялся увещевать старика Шурик. – Здесь кладбище, могилы… Лед, скользко. Ненароком споткнешься…
– Ах, ты! – повернулся Василий Иванович к ухмыляющемуся лицу, заросшему щетиной. – Грозить мне?
– Что ты, папаша! И в планах не было. Я тихий, мирный человек.
– Шурик – пацифист, – поддакнул Савелий.
– Не мешай нам, дедушка. Мы работаем, для людей стараемся. Сам-то ведь тоже не юноша. Сколько годков-то тебе? – Шурик с насмешкой смотрел на пенсионера.
– Обо мне не беспокойся, – сказал Василий Иванович, вдруг выдав голосом плаксивые ноты, – Это тебя, мил человек, не касается.
Силы внезапно оставили старика.
– Неизвестно, кого раньше из нас уложат в могилу, которую ты выкопал. Думаешь, если молодой кабель, то и бессмертный? Все Богом посчитаны.
– Не серчай, дед, – стараясь сгладить вину, добродушно ответил Савелий. – Я о том же толкую. О Боге надо думать, а не о том, где испражняться. Это мертвяку без разницы, а я все же пока живой. Отдохнул, чаю попил, самое время наведаться в кустики. Имею право отлучиться, батяня, – законный перекур! Думаешь, самому больно охота на ветру доспехи скидывать? Причиндалы студить? Весна хоть и блестит, но так за яйца схватит, зараза!
– Производственная необходимость. Биотуалетами не разжились, – захихикал Шурик. – И куда только профсоюз смотрит?
– Керим идет, – вдруг воскликнула Манька. – И еще кто-то рядом торопится, едва поспешает.
– Баба – это Людка, и с ними, кажись, отец Владимир.
– Он, точно! Вот священник нам и про Бога, и про судьбу растолкует. Речист поп, громогласен. Складно узоры плетет – не сразу выпутаешься, – сказал Василий, зевая.
– Не слова, а мед янтарный, – согласился с ним Шурик.
– Может, и говорит отец Владимир сладко, только чую я, не от сердца речи его. Все слова, как есть перевернуты, а потому до последнего лживы, – возразила Манька, приглушив голос.
– И мне не внушает наш поп доверия, – согласился с буфетчицей Шурик. – Суетлив, шустрит не по чину.
– В глаза смотрит, жалость льет, цитатами библейскими, как горохом по мостовой, сыплет, именами святых великомучеников, словно броней, прикрывается. Для нас, рабов божьих, вроде бы старается, а вроде бы ему проповеди не относятся, для себя у него другой устав имеется.
– Другой подсчет, – поддакнул Шурик.
– Соглашусь на все сто! Робкого, тщедушного человечка, для которого мудрость источать пыжится, в толпе и не заметит, если не обратишься, перед взором не засветишься.
– Высокомерием отличен.
– В заоблачных далях парит.
– А он с Господом консультируется, – прыснул Шурик в кулак. – В интернете онлайн.
– Ага, в твиттере, – засмеялся следом Семен.
– Мед льет, а свое дело знает. Бумажками под рясой хрустит.
– Эх, на священника надо было выучиться. Попам хорошо платят.
– Это точно! У нас народ жалостлив. Любая бабка последний грошик за свечку отдаст.
– Бабки попов не интересуют. Им посолидней клиентов подавай.
– Как же, дурная башка! Бабки их чрезвычайно мотивируют, – захохотал Василий, заставив и дружков рассмеяться.
– Попы нынче с бизнесменами и депутатами дружат. Кооперация.
– Ихние грехи замаливают, коих не счесть.
– Эх, на попа надо было выучиться! – повторил Семен.
– Не по зубам тебе! Велика наука поповское ремесло изучить, дурная башка! Не каждому по силе.
– Думаешь, в физтехе легче? Поди поступи на физика.
– Все же, думаю, жизнь у попов не сласть, мужики. Поди помотайся по городам и весям, по захудалым деревням, себя порастрачивай! – подключился к разговору Савелий, возвратившись из кустов. – Али не видите, как отец Владимир старается?
– Гастролирует наш поп по приходам. Чем не рок-музыкант? – зло ухмыльнулся Семен. – Любезничает, юлит.
После перебранки с землекопами Василий Иванович немного успокоился. Но нахальные речи, в которые, сам того не желая, он невольно стал посвященным, снова сильно возмутили пенсионера.
– Слова сладкие, но все, как одно, книжные, не от сердца идут. Не верю ни единому, мужики. Каюсь, – продолжал жаловаться Василий, возмущая пенсионера.
– Как одно, выученное, вымученное, – согласился Шурик.
Василий Иванович привык, что в городе сплетничали, перемывали кости Кериму – известному коммерсанту, изворотливому и практичному – и старик ничего не имел против: заслужил. Но когда все без опаски принялись зло судачить о лице духовном, молча слушать негодные речи он не желал.
– Что ты мелешь? Окстись! – грозно рыкнул на Шурика.
Единодушное осуждение, с которым набросилась на местного священника нетвердо стоящая на ногах компания людей странных, даже внешним видом вызывающих оторопь, не на шутку встревожили старика.
И хотя речь шла о конкретном человеке, к которому Василий Иванович и сам не особенно благоволил, втайне считая его хитроватым, дельцом себе на уме, он интуитивно чувствовал, что подобное дело сродни хуле Господа, и это к добру не приведет.
Замолчи! Хотел он крикнуть Шурику. Молчи, дурная башка! Не неси околесицу!
По одному слабому нельзя судить о других достойных в церквах, о многих праведниках, о тысячелетней истории. Остановись, дурная башка! Не болтай, о чем не ведаешь, мысленно взывал старик к Савелию-умнику.
Не бери грех на душу, дурень, грозил верзиле Василию. Пропадет, канет в вечность тот, кто, растлевая и себя, и других, сии злые слова извергает. Сгинет и всякий, кто молча внемлет поганым речам, бездумно впуская в душу их яд и ржавчину.
С покушением на древний, устоявшийся и никем не отмененный порядок вещей, который являл церковный институт, противостоя хаосу в мире, в головах обозленных людей, старик не мог согласиться, яростно запротестовал:
– Не тебе судить! Господь, Отец наш, вложил свои слова в уста священнику! Потому и вымучены они и выстраданы! – Голосом, не терпящим возражения, громко воскликнул он, призывая работяг утихомириться. – Мученик Господь наш, великий страдалец.
Грозный окрик пенсионера заставил землекопов замолчать на полуслове, перестать ехидничать.
– Священны слова его, а значит, в них Истина, – произнес Василий Иванович громко и грозно, торжественно чеканя слова.
Вера
К монахам, попам и прочим церковным деятелям особенного расположения пенсионер не испытывал. К религии он относился со смешанным чувством страха, недопонимания и тайной надежды на скорое прозрение.
Вера едва теплилась в нем и была по-бытовому простой и необременительной, не затрагивающей духовных глубин, удобной для восприятия.
Мальчишкой он видел, как насупившись, неотрывно смотря в угол комнаты, сосредоточенно молился его отец, немного стесняясь себя в несвойственной ему откровенности.
Томясь, сын терпеливо ждал окончания общения с Богом.
Отдавая поклоны, родитель время от времени обращался суровым взором на скучающего Васька. Лишь на мгновение отрываясь от иконы, чтобы одним лишь взглядом приструнить сына за недостающее в подобном деле усердие, снова погружался в свою молитву. Зорко следя за баловником: участвует ли, не филонит ли, отец просил у Всевышнего для семьи лучшей доли.
Веры в подобных делах для Васька было мало – лишь скука и повинность, от которых хотелось поскорее избавиться. Помаяться час-другой со свечкой, переминаясь с ноги на ногу, изображая покорное смирение, и выдержав испытание, стремглав с радостью убежать на волю: к ребятишкам, в лес, на речку.
В зрелые годы, будучи членом компартии, Василий Иванович храм и вовсе обходил стороной.
Карьера кадрового военного шла в гору, и офицер опасался, как бы кто из «доброжелателей» не настучал в партком о его мировоззрении, не совместимом с пребыванием в организации. «Доброжелателей» особенных у него не водилось, и мировоззрение, к слову сказать, на обе ноги хромало. Но, как любой человек своего поколения, он осторожничал, думал наперед и побаивался на всякий случай, даже мыслей.
Своих сына и дочь он крестил тайно – не по вере своей, а по отчаянной просьбе супружницы – темной бабы, не желающей воспитать детей «нехристями». Кремень, вояка, но дал слабину: пошел у женщины на поводу, потому как ее отчаянная просьба была для офицера страшнее угрозы потери партбилет.
Детей обращали в веру в далекой деревне, на дому у знакомого священника, соблюдая конспирацию.
Строя судьбу, Василий Иванович в потусторонние силы не верил – всегда рассчитывал лишь на себя. Но после того, как священное таинство совершилось, запомнил тихую радость в душе. От неясной, восторгом обжигающей мысли о том, что его дети, хоть и тайно, примкнули к стаду Христову, то есть ступили в жизни на праведный путь, по груди разливалось блаженство.
Компромисс с коммунистической доктриной не смущал офицера. Он отличал явление и суть. Глубинное, выстраданное, привитое насильно, впитанное с молоком матери православное чувство веками защищало его род, хранило порядок в доме, семейный уклад. Василий Иванович смутно понимал, что пока «не то время» открыто в храмы ходить. К слову сказать, его туда и не тянуло.
Выйдя на заслуженный отдых, в церковь он по-прежнему почти не заглядывал. Шептал лишь в тяжелые минуты жизни, обращаясь к кому-то присутствующему, бесплотному, им явно осязаемому, разлитому по сторонам, незримо присутствующему во всем, что его окружало: «Господи Исусе Христи, сыне Божий, помилуй нас! Прости меня, грешного!» – трепетные слова, навеянные тихой поэзией и страхом немого отчаяния, которые в детстве силком заставила его выучить бабка, отвешивая подзатыльники лодырю. Знала темная, мудрая, старая, что настанет момент, когда они ему очень пригодятся.
– Молитву поп бубнит и на прихожан из-под бровей зыркает, – не обращая внимания на грозный окрик старика, продолжал подрывную работу верзила. – Шарит глазами по сторонам, все подмечает, ничего не упустит.
– Всевидящее око, – рассмеялся Шурик.
– А как иначе? – загромыхал дед, – Священник – поручитель Господа на земле. Приставлен нас, неразумных, стеречь и за нами присматривать. Слушать нас и в тяжелый час поддерживать.
– Не слушать, а подслушивать, – буркнул Василий, – иначе говоря, подглядывать. Чуешь, дед, разницу?
– Чтобы вердикт в судный день по нашу душу вынести, – захихикал Василий.
– Потому как секретарь Господа на земле, стенографирует.
– Досье ведет на каждого раба и в небесную канцелярию кляузничает, – включился в разговор протрезвевший на весеннем ветру Петька. – Ка Гэ Бэ…
– Попов в ихней академии обучают к прихожанину иметь расположение, подход ласковый. Рассуждать с благолепием, лить мед исправно, грамотно, – сказал Семен.
– Это так. Но не у всех получается. Не каждому удается науку усвоить, мудрено.
– А все для того, чтобы хомутом привязать к себе и чтобы ты, дурная башка, до скончания века за лаской поповской в церковь шастал, – глядя в сторону, зло изрек Шурик.
– Я так думаю, мужики: любовь, благодать, блаженство, – вещи посерьезнее наркотиков будут. Пристрастишься к душевному елею, так просто не отвяжешься.
Василий Иванович увидел, как после тихих слов Шурика мужики все до одного, как по команде, повернули головы к хмурому сторожу, его знакомому, который весь перекур стоял в стороне, сохраняя невозмутимый вид, не участвуя разговоре, и многозначительно переглянулись.
– Поди откажись от ласки. Слаб человек, тщедушен.
– Прикипишь душой к елею и точно пропадешь. Попы только этого и ждут, потому как их бизнес растет. и процветает. Свое лицедейское дело знают. Шустрят, звенят копейками.
– Кабы копейками! Скажешь тоже, дурная башка! Попы, как и банкиры, нынче не мелочатся.
"Уйду лицом в ладони"
Ни окриком, ни угрозами не мог старик совладать с потоком дерзких речей, как ни старался, и внезапно силы протестовать его оставили. Хаос, царивший в головах этих темных людей, их неприкрытый цинизм до смерти испугали пенсионера. Дикари высмеивали его и многих таких же, не отдавая и ломаного гроша за их жизни, полные страданий, забирали последнюю надежду.
Что за люди? Что за дым у них в головах? Враги, враги, холодея внутри, зашептал старик, прыгая взглядом по лицам.
Со страхом смотрел он на Шурика, который при каждом повороте беседы неизменно прыскал в кулак. С тревогой взглянул на важного, иронизирующего Савелия, довольного произведенным впечатлением от ловкого словца, которое ему удавалось вставить в беседу. Академик скучал по овациям и публике. Ставя слушателей в тупик, оратор тренировал увядающий ум, не думая о том, в какие сферы вынесут его потоки богохульства.
К чему приведут потуги?
Потом старик принялся наблюдать за сторожем, который одиноко стоял в сторонке. Прикрыв глаза, Дрон молчал и, казалось, растворился в неге. Слышит ли он дружков? Думает ли? О чем? Темная лошадка, себе на уме, заключил старик про смирного человека.
Враги, враги, пронеслось в голове. Засада… Глумятся, ёрничают. Все, как один, предатели.
Внезапно Василий Иванович ощутил, как землекопов отхватила злость, которая потекла по направлению к сторожу. Слова о яде елея и любви-наркотике не на шутку возбудили коллектив. Неприятными взглядами работяги принялись недобро колоть безучастного Дрона. Старик догадался, что между ним и остальным коллективом присутствует явный конфликт. И даже сладкий аромат близкой весны и не мог примирить сослуживцев.
– Ты это… – слабо прикрикнул старик на Савелия. – Помалкивай!
Его голос утонул в крепком гоготе развеселого Шурика.
Шквал насмешек, кривые улыбки, кривляния били наотмашь. Перед натиском злых пустобрехов бывший офицер оказался беззащитен. «Господе Иисусе Христи, сыне Божий, помилуй мя! Прости меня, грешного!» – только и мог прошептать старик, – «Пожалей каждого из нас, и сирого, и убогого…».
– Эх, жизнь! Наша жизнь… Разве это жизнь! – вдруг жалобно заскулил Петька. – Нет утешения нашему брату ни на кладбище, ни в храме! Где скрыться, мужики? Куда убежать?
– «Куда уйти? Уйду лицом в ладони», – процитировал Савелий. Академик был в ударе. Солнце пьянило.
– А какой больно с батюшки спрос, – продолжал развивать черное дело Шурик. – Душу рвать за ближнего, а тем паче за врага своего, немного умельцев найдется. Лишь светлому человеку подобные чудеса по плечу. Любовь к ближнему – это и есть истинное чудо, так считаю. Но каждый ли, кто алтарь сторожит, свечу храма хранит, сам светлолик и праведен будет?
– Я так скажу, мужики… Кое-какую литературу читал, – приглушив голос, сказал верзила со знанием дела, невольно заставляя и остальных прислушаться. – Церковь – это структура, то есть организация. Прошу не путать корпоратив и мистерию.
– Среди попов много агентов в погонах, я слыхал. Служат, контролируют. Словом Божьим власть государства укрепляют.
– Я и говорю, Ка Гэ Бэ! – обрадовался Петька.
– С трудом верится, что отец Владимир из органов, – засомневался Шурик.
И тут старик не выдержал. Распрямив сухонькие плечи, он грозно двинулся на толпу. Встал близко к Шурику, касаясь грудью его замызганной спецовки. Стоял, набычась, сурово глядя в лицо, словно на противника. Ждал, когда и тот повернет голову, чтобы схватить глаз землекопа цепким взглядом.
– Ты че эт, дед? – занервничал Шурик, прячась от старика, отодвигаясь на удобное расстояние.
– Кто таков? Откуда ты есть такой, дурная башка? Какой-такой литературой балуешься? Выкладывай, как на духу! Слушать желаю!
– Источники не выдаю, отец – надежные. Не беспокойся, – Шурик отвернулся.
– Я проверю твоих осведомителей! Вытрясу! Всю подноготную узнаю! – Не дожидаясь ответа, пулеметной очередью палил Василий Иванович. – Откуда родом? Говори!
– С Кубани, – поддавшись напору, вдруг признался Шурик.
– Кто отец, мать? Кто воспитывал? Образование?
– Средняя школа, деревенская, – сказал Шурик, растерянно, озираясь на дружков, ища поддержки.
– В армии служил? Называй войска!
– Артиллерия. На Урале.
– Сестры, братья?
– Сестренка, младшая…
– А какое тебе дело, старик? Что за допрос с пристрастием?
Василий подошел к приятелю и приобнял его, ободряя присутствием.
– Как в здешних краях оказался? – Не обращая внимания на верзилу, продолжил пытать пенсионер Шурика.
– К приятелю погостить приехал.
– Сколько лет уж гостишь? Когда домой последний раз заглядывал?
– Как в армию ушел, с тех пор и не был.
– С родителями контакт держишь?
– Мать жива… Отец помер.
– Пил батя?
– Почему пил? – Вдруг обиделся Шурик. – Если молодым помер, значит, обязательно алкоголик?
– Почему же твой родитель раньше срока на тот свет убрался?
– На заводе, где он работал, случилась авария.
– Что за авария?
– Груз тяжелый с крана слетел, и придавило отца металлической дурой. Его и еще несколько человек покалечило.
– Нашли виновных? Наказали?
– Как же! Шиш! Закрыли сразу завод, аккуратненько обанкротили. Ни страховки, ни сочувствия. Лет пять отец калекой на койке валялся. Лучше бы пил – все легче. Но не мог он горькую принять, как ни старался, потому что с детства к зелью не приучен. Трудягой дед был, и сына своего, то есть отца моего, воспитывал и склонял к работе. Дома лежал отец – трезвый, с переломанным позвоночником, а в глазах ясных, не замутненных – тоска смертная… – Шурик нервно шмыгнул носом. – Жуть, мужики!
Он с силой зажмурил глаза и замотал головой, до хруста сжимая челюсти.
Наступила гробовая тишина. Через минуту издали ветер принес скорбный плач духового оркестра. Похоронная процессия доставила в город нового жителя, новопреставленного раба божьего. Чирикали скворцы.
– Почему к матери не поедешь? Трудно ей без тебя, – прервав молчание, спросил Василий Иванович.
– А жрать дома чё? Работы нет. В былые годы завод кормил город.
– Что же, и кладбищем у вас не разжились?
– Кладбище имеется, только хоронить уж некого. Разъехались люди по большим городам. А покойников теперь своими силами хоронят – не мудрена наука. Соседей привлекают к хлопотам. Деньгу на том не заработаешь.
– Зато у нас цивилизация. Ритуальные услуги, похоронные менеджеры, – сказал, вздохнув, Савелий.
– А ты чьих будешь? – повернулся к Академику пенсионер. – Больно умный, гляжу. Женат? Дети есть?
– Сынишка у меня, – ответил Савелий и неожиданно широко улыбнулся, обнажив рот с отсутствующими передними зубами.
Вопрос старика застал Академика врасплох, и внезапно он изменил привычной манере общения: проявил уязвимость, ранимость. И тут же засмущался, словно его прилюдно уличили в чем-то постыдном. Стал серьезным.
Жалящий взгляд Василия Ивановича немного потеплел.
– Крещен? Сына крестил? – спросил старик дружелюбнее.
– Я крещен, конечно же – как без веры? И сынка батюшка недавно водичкой побрызгал. Все чин чинарём, без нововведений.
– А слова гадкие про церковь мелешь – почему? Коли сына крестишь, значит, храмом живешь?
– Потому что не верю я священнику нашему. Не ве-рю! Нутром чую, что с душком товарищ, насквозь фальшивый! И не к нему я в храм хожу, дед, а к Господу. Прошу, мил человек, не путать. И не заблуждаться.
– А ты почему пьянствуешь? – повернулся дед к Петьке.
– Тебя это, батя, не касается, – Алкоголик полоснул старика хищным взглядом.
– Холодно в наших краях, вот и пристрастился, – ответил за друга Шурик.
– Климат поганый. Без водки жить нельзя, скучно, – поддакнул Петька и подмигнул дружку, усмехаясь. Они рассмеялись.
– Сынок тебя каждый день полуживого, нескучного видит. Не боишься сына в пьянство втянуть?
– Нашему Петруше ничего не страшно! Он на флоте служил, папаша. В океане под парусами ходил.
– И сына алкоголиком воспитаешь, – Не обращая внимания на приятеля, продолжил увещевать пенсионер забулдыгу.
– Не лезь, отец, в душу, не донимай. Петька мой лучший друг, я в обиду не дам достойного человека, – наливаясь кровью, ответил за дружка Шурик.
– Какой ты ему друг! Собутыльник!
– Сочувствие надо иметь к алкоголикам, папаша, – принялся выгораживать Петьку Академик. – Так Господь завещал. Окапываться, держаться друг дружку пришла пора. Потому как дрянные, поганые люди осаждают, батя, со всех сторон. Али не чуешь? Окружают, берут в кольцо. Пьет население.
– И бабы подличают, – оскалился Шурик, вскинув голову. Мужики вновь, как по команде, бросили злобные взгляды на Дрона. – Любой хрыч от беды запьет.
– А чем тебе бабы не угодили? Жена-то у тебя есть? – спросил дед Петьку.
– Есть, да не про нашу честь, – снова ответил за дружка Шурик и смачно выругался.
Слова Шурика вновь накалили атмосферу. Казалось, будто стог сена в жаркий полдень, вдруг вспыхнул воздух. Чиркнул спичкой Шурик. Запал подхватили и Семен, и Савелий. Верзила Василий тоже окинул Дрона долгим презрительным взглядом – подбросил охапку в костер.
И вот уже горит, полыхает повсюду ненависть, смыкаясь вокруг сторожа тугим душным кольцом.
Кто таков? Который раз удивился старик, оглядываясь на угрюмого человека.
Дрон ловил лицом свет, оставаясь к разговорам коллектива по-прежнему безучастным. Казалось, оглох.
Василий Иванович снова вспомнил, как в утренней предрассветной дымке сторож с ведром шел впереди него, старательно рассыпая песок под ноги, а потом они долго молча стояли у могилы жены. И Василию Ивановичу вдруг страсть как захотелось рассказать чужаку о своей неутолимой тоске, изводящей его, терзающей день и ночь, не дающей покоя.
По возрасту одних лет с Сашком будет, прикинул тогда старик, в сыновья годится. Но только не возникало прежде у пенсионера желания вместе с сыном навестить дорогую могилу, стоять в оцепенении на студеном ветру у креста, рассказать родному человеку о своей неутолимой боли. Стыдился обнажить перед сыном чувствительность, вроде бы душевный изъян, предьявить дурноту характера.
Дар Божий
– Диву даюсь: как тебя жена-то терпит? Любая, в чем мать родила, сбежит от такого красавца, хоть на край света. Не оглянется, – сказал старик Петьке, строго глядя в лицо.
– Не твое дело, дед. Не лезь, не мути душу. Не задевай мужские честь и достоинство.
– Слаб человек, тщедушен, – повторил Шурик.
– «Вот так, столетия подряд, все влюблены мы невпопад, – произнес Савелий, напевая, пытаясь изо всех сил балагурить, чтобы снизить накал разговора. – И странствуют, не совпадая, два сердца, сирых две ладьи, ямб ненасытный услаждая великой горечью любви».*
– Вижу, ты, и в правду, поэт, – повернулся старик к Савелию. – Стишками балуешься?
– Без лирики в нашем мрачном деле нельзя, батя. Любовь – это болезнь.
– Страшная зараза… – вздохнул Шурик.
– Схватит без остатка, спалит, мать ети, – согласился и Семен.
– На всякую болезнь нужная пилюля найдется у доктора, – строго ответил Василий Иванович, сверкая острыми глазами из-под косматых бровей. – Коли болен – лечись! Вкалывай, не ленись, и держи башку на сквозняке, чтобы дурь в ней не плодилась. А коли болячка заразная, как ты говоришь, то шагай прямиком в изолятор, отдохни маленько. Поправишься и страдания уйдут.
– В клетку, в тюрьму, в камеру… – Вдруг злобно прошипел Шурик, свирипея. – Что ты о любви знаешь, папаша? Не по зубам тебе тонкие материи! «Мир, труд, май!» – только и можешь горланить. Не велика наука.
– От безделья страдания, от либерализма, – упорствовал пенсионер.
– Не я, а ты бедный и сирый! Не нас, убогих мотыльков, пьяниц и алкоголиков жалеть надобно, а умных и рассудительных, дисциплинированных. Чистеньких – таких, как ты есть сам.
– Со мной порядок, мил человек, и ты пример бери. У меня голова всегда на месте.
– А зачем тебе твоя трезвая голова? Годна только мораль читать. Сдается мне, папаша, не ведал ты в жизни чувства лихого, большого. Не иначе, разум мешал. Других тебе не понять. Не посочувствовать…
– Тебе – здоровому бугаю?! Сострадать? Сочувствовать? Пахать тебе день и ночь надобно, а не на судьбу жалиться. В церковь ходи душу облегчить, коли нет мочи. Смотри-ка! Раскис, либерал! Живи в тонусе, помня про судный день.
– К священнику?! Ну уж дудки!
– К Господу нашему Иисусу Христу, а не к священнику! – загромыхал дед, багровея.
– Что за люди! – вдруг застонал Савелий, обхватив голову руками в жгут. – И любят, кажись, и Бога боятся, слова праведные Христовы с чужих уст копируют, в душевных помыслах следуя за Всевышним. А сердца ледяные, каменные. Злыдни – ни слова целебного молвить, ни взглядом приласкать. Что ты орешь, дед? На храм киваешь, а сам через слово стращаешь судом, грозишь божьей карой. Все едино тебе, без разницы: что человека в лагерь на воспитание отдать, что в лазарет, что к попу на проповедь. Душонка мелкая, черствая у тебя, дед, и холодом, как от могилы, веет. При жизни – покойник!
Савелий смачно матюгнулся.
Повисла тягучая пауза. В кустах веселился скворец.
– Я так скажу, мужики… Мир и любовью, и ненавистью дышит, – робко произнес Семен. – Только любовь пострашнее зла будет.
– Почему же? Нелогично, – откликнулся Петька, нехотя возвращаясь в реальность.
– Зло явно и в глаза бьет, а любовь глаза зАстит. Привяжешься к человеку, корнями в него прорастешь, – свою душу загубишь.
– Любовью человек расцветает, – слабо возразил ему Шурик.
– Расцветет-то он точно, не сомневайся.
– Только всякий расцвет ведет к упадку – диалектика. Все пройдет, как с белых яблок дым. Писец, одним словом, – подытожил Савелий.
– Влюбишься, словно бы простуду подхватишь. В крови опасный вирус, бродит, мечет искры, высекает огонь. Разносит лихорадку по телу.
– Градус поднимает, – хихикнул Петька и подмигнул Шурику.
– Любовь – сука. Сгубит на корню, срубит. Человеческий облик отнимет.
– Душа влюбленного желает и летать, и галлюцинировать. Одним словом, попадет дурная башка в зависимость, захиреет. Все известно. Обо всем написано. Читайте классику, малыши, – С превосходством, доставляющим ему явное удовольствие, Савелий широко улыбался, свысока посматривая на благодарно внимающих слушателей.
– А нам и в библиотеку ходить не надо. У нас свой пример имеется, – сказал Шурик и кивнул на Дрона. – Живой классик-наркоман. Стоит, стучит лопатой.
Пыхтя, стреляя острые молнии в сторону Дрона, мужики примолкли.
От злых слов Савелия старик ослаб, схватился за сердце. Краем глаза увидел, как по равнодушному и невозмутимому лицу сторожа внезапно пробежала нервная судорога. Сжав челюсти, сглотнув слюну, Дрон усилием воли подавил волнение.
Ситуация неопределенности тяготила Василия Ивановича. Все сильнее распирало его желание узнать, кто таков этот хмурый человек с замкнутым лицом, который возбуждал возле себя потоки ненависти, которая не отпускала землекопов, испепеляя. Старик был прямолинеен и не мог долго пребывать в неведении.
Он решительно шагнул к Дрону, намереваясь и его вывести на чистую воду, но тот, дернув шеей, вдруг отвернулся от коллектива. Взял лопату и отправился на загон. Включил тепловую пушку.
– Не соглашусь, мужики… Любовь не зло, а дар божий, – Увидев, что Дрон ушел далеко и не может их слышать, еле шевеля губами, вдруг произнес Петька. – Святая любовь оправдает и подлость, и даже грех.
Совсем не то, в чем признался алкоголик, желали услышать от своего дружка сослуживцы, а потому смотрели на него со смешанным чувством удивления, непонимания, и даже восторга.
Семен застыл в неестественной позе – был в замешательстве.
Взгляд Шурика лихорадочно прыгал по лицам коллег, недоумевая.
Савелий скривился в полуулыбке – полуусмешке, но и он выглядел растерянным.
Верзила Василий стоял, широко расправив плечи, высоко вздымая грудь. Раздувая ноздри, – то ли чуя хищника на опасной тропе, то ли желая возразить Петьке. Размышлял над словами дружка, жадно глотая дух погожего денька.
– Чистой любовью каждый из нас с головой охотно умоется. Перед теми, кто любит, шляпу сорвет с головы, – принялся растолковывать Петька мужикам свою мудрость, которую постиг, страдая в муках пьянства и ревности. – Скажу по секрету, мужики… В тайне я Дрона сильно уважаю.
Петька приглушил голос.
– Вот те на! – обиженно присвистнул Шурик. – Ты в своем ли уме? За что уважать-то злодея? Что он твою бабу мнет?
– Петухом скачет? – воскликнул Василий, с возмущением глядя на забулдыгу.
– На чужое рот открыл? – завопил Семен.
– По своей воле Люська с ним шарится, мужики! Любит она его, проклятого. Гонит Дрон ее от себя.
– Как же, гонит! Держи карман шире! – захохотал Шурик.
– Ты почем знаешь? – возмутился и Савелий.
– Знаю, коли говорю. Чую. А оттого и злюсь. Лучше блудили бы. Бес бы лучше им кровь разжигал. А коли любовь, мужики, – тут дело гиблое, ничего не поделаешь. Руки от бессилия развожу. Перед чувством святым и я, дурак, и любой другой человек бессилен… – Петька горько вздохнул, издавая в пространство скулящие звуки.
Летели облака. Издалека, из-за города, ветер нес робкий аромат нежной весны, надежду на скорые перемены. Свежесть хотелось жадно пить, как чистую воду, весной дышать, подставляя ветру шею и щеки. Далекой, манящей синью летело над головой небо.
– Ты святой, Петька, – прервав молчание, заключил Шурик. – Истинно говорю – не выдумываю…
Яростно гремели ручьи. Громыхала тепловая пушка. Чуть в стороне ритмично стучала о мерзлую почву лопата: Дрон остервенело вгрызался в мертвую землю.
*Б.Ахмадуллина «Дачный роман»
Достойный человек
Бригадир нервничал.
Внешне стараясь сохранять спокойствие, слабо и немного устало возражал своим спутникам, которые представляли в данный момент интересы важного клиента.
Заказчик, видимо, попался и серьезный, и несговорчивый, решил Керим. Уже битый час он водил свиту – похоронного агента и святого отца – по лучшим местам на кладбище, показывая им могилы, уже готовые к захоронению, и участки, где только намечали копать.
Подступ к новым микрорайонам затрудняла весенняя распутица. Шагать по скользкой дороге было сомнительным удовольствием. В лужах блестело солнце, но глубоко под водой таился лед. Чтобы сохранить равновесие и не упасть в грязь, все время приходилось быть в напряжении. Наклоняя корпус, взмахивая руками, балансировать на весу. На редких пятачках земли, свободных от снега, ноги тонули в липкой тягучей глине.
Месить грязь по бездорожью вместе с агентом увязалось и духовное лицо – это начальнику было в диковинку. Не помнил Керим, чтобы когда прежде святой отец с подобным азартом по кладбищу путешествовал, ноги бил и пачкался.
Похоронное мероприятие с привлечением духовных сил обычно совершалось в храме. Покойника отпевали, и к работе приступали землекопы. Нынче батюшка сам изволил осмотреть территорию и выбрать для клиента могилу. Видимо, хотел уважить достойного человека, смекнул Керим, иначе не стал бы так убиваться, наматывая километры.
Место у высокого дуба спутникам пришлось по вкусу.
Людмила принялась настырничать, упорно уговаривая бригадира побыстрее оформить приглянувшийся им надел. Начальник не соглашался, но не из вредности, а исходя из производственного цикла, просил агента объяснить дорогому клиенту, что не по правилам вести стройку, отходя от основного направления, выбиваться из ряда. Выхватывая куски пожирнее, копать, где придется. Но ждать важный человек, видимо, не желал – скоропостижно скончался.
– Разве же я против? – Снова и снова бубнил бригадир, внимательно глядя под ноги. – Я же ко всем одинаково уважительный. Для меня нет разницы: пролетарий ли помер – голь перекатная, или депутат – олигарх то есть. Я ко всякому без претензий. Из земли, так сказать, вышел, в землю родную ушел… – увещевал Керим спутников. О смерти желательно думать загодя, не дожидаясь несчастного случая или, к примеру, вполне себе прогнозируемого события. И вечно-то русский Ванька несобран, неорганизован, ныл он. К серьезной дате серьезные люди готовятся загодя – так же, как, к примеру, к свадьбе с фанфарами или к долгожданной поездке к морю, в отпуск. Разве придет на ум, к примеру, европейцу: немцу ли или французу – клянчить достойное место для погребения покойника, в пик события?
– А если все же отвлечь пару рабочих рук от строительства основной трассы? – прервал словоизлияния начальника священник.
– Да разве я против? Только где же их взять? – взмолился Керим. – У меня только эти руки и имеются. Мрут люди и ночью, и днем, не согласуя очередности. С графика сдвинешься, и утонешь в работе. Разве мне жалко земли? Вона сколько ее! – Начальник широко обвел горизонт. – Навалом землицы на Руси-матушке. Бери – не ленись. Осваивай территорию.
– Много-то много, но хорошо бы все же поиметь место у дуба, – стояло на своем духовное лицо. – Неужто не понятно, мил человек?
– Рад бы стараться, батюшка. Но в короткое время с задачей не справлюсь – в коллективе текучка. Трудятся одни немощные, хотя и башковитые, и даже поэты имеются.
– Алкоголики?
– Пьет население, – вздохнул начальник.
– Что же, ни одного трезвого?
– Только один и есть. Им и план выполняю. Однако трезвый человек иной раз хуже пьяницы будет, потому как мой трезвенник нелюдим оказался. Лично по мне, пьяница – пока на ногах держится – все же милее хмурого.
– Эк ты, философ! В корень зришь, – рассмеялся священник.
– И философствующих имею в бригаде в наличии, батюшка, – улыбнулся Керим. – Кого только нет! Бесполезный народ… Так и работаю, мать ети, ими план выполняю.
– Поосторожнее в выражениях, – оскорбился святой отец.
– Извиняюсь. Не обессудьте, батюшка: ни техники новой, ни лишнего отбойного молотка. Лопата сломается, со всех ног бегу новую клянчить.
– В администрацию?
– Тама. На всякую мелочь требуют акт составить, для отчетности негодный черенок предъявить. Все сомневаются, не жульничает ли Керим? Нет ли скрытой коррупции?
– Это дело поправимо. С Божьей помощью! Могу пособить, мил человек. Поговорю в администрации. В Управу на неделе наведаюсь, имею в плане вопрос по ремонту крыльца храма решить.
– Уж сходите, батюшка! Наведайтесь. Словечко замолвите! Туго мне, совсем невмоготу. Задушили придирками и подозрениями.
– Может, кто из твоих орлов мне крыльцо в храме починит?
– Рад бы! Только нет в бригаде ни плотников, ни каменщиков. Народ пестрый, пришлый: из бывших авиаторов, из академиков. Один математике студентов учил – хороший был человек, но спился. Несчастье… Пьют в коллективе, сквернословят. Ни навыков трудовых, ни квалификации. Только землю и годятся рыть. Инструменты таскать. Испортят крыльцо. Батюшка, не обессудьте!
– С утра отслужу литургию и отправлюсь к важным людям вопрос твой решать. Посодействую.
– Уж посодействуйте! Нету житья!
– Но и ты, Керим, больно-то не упирайся! Могилку на пригорке, у дуба, справь.
– Помилуйте, отец Владимир! Разве же я против? Только, считай, не раньше лета в те края доберемся – далековато нынче дуб будет.
– Вчера человек помер! Не может до лета ждать. У православных на третий день погребение – али не знаешь? Сам в какую веру крещен?
– Православный я, батюшка, – не сомневайтесь!
– Все ж меня сомнения гложут, что ты наш будешь, то есть православный. Несговорчивый ты больно, Керим, не по-свойски поступаешь, сдается. И нерусским именем наречен.
– Мать у меня хоть и татарка, но семья у нас православная. Отец – русский мужик, из пьющих. Матвеич по бате я.
Святой отец на секунду задумался:
– И новопреставленный, что упокоения просит, тоже православной веры был. Своих нельзя обижать, али не знаешь? Друг друга поддерживать следует, – обрадовался святой отец возможности надавить на начальника по-другому. – Промедлишь чуток, и надел приберут мусульмане. Сам знаешь, как такие вопросы в миру решаются. В подобных делах медлить нельзя.
– Как не знать, батюшка? Разве же мне жалко земли? – Снова захныкал начальник. – Только последние, хилые, силы брошу на стройку, а доберусь к дубу не раньше середины весны.
Керим с новой силой принялся разъяснять своим спутникам, что и эти его расчеты приблизить стройку к приглянувшемуся месту слишком оптимистичны. Разве можно сегодня предугадать, говорил, какими темпами народ на тот свет отправляться станет. Больших праздников в ближайшее время не значится, прикидывал вслух, а значит, серьезную партию новоселов ждать не приходится. Правда, статистику мог бы улучшить сезонный спрос на пенсионеров, алкоголиков и тяжело болящих. Ослаблен в раннюю пору организм, вздыхал, слабых и нездоровых весна, как косой, губит. На то и надежда, выходит.
– Трудимся день и ночь в поте лица, рабочих рук не хватает, – жаловался начальник.
– А что же других работников не возьмешь? Али желающих нет?
– Не больно охочи к нам люди идти – боятся в миру покойников. Только узнают миряне, где человек служит, шарахаются от него, как от прокаженного.
– Язычество все это, домыслы. Грех.
– Согласен всецело. И я осуждаю.
– Бояться покойников стыдно.
– Стыдно-то стыдно, но те, что живы, все же опасаются мертвых людей. Против подобного заблуждения не попрешь.
– Смерти нет. Есть неуклонный путь к воскресению. Али не знаешь?
– Я-то? Знаю. Мне одинаково, с кем дружить: что с живыми, что с мертвяками. С умершими даже бывает сподручнее: не пьянствуют и не скандалят. Нетребовательны и покладисты.
– Это точно, – захихикал святой отец.
– А если покойник иного вспугнет ради шутки, обратясь привидением, так это от скуки, – повеселел и начальник. – Себе в удовольствие. Покойник тоже развлечься не дурень. Но все же миролюбивее мертвяка я никого на свете не видывал.
– В наше время живых боятся, – подала голос Людмила.
– Очерствел народ., – согласился с агентом священник. – В храм не загонишь.
– Так-то так, но все ж таки неприятно, батюшка, день деньской находиться на кладбище. Уныние охватит, задушит тоска. Любой человек, полный жизни, через годик-другой на труп походить станет: мрачный, как туча, сизый мертвяк. Крепких, ясных людей не могу задержать в коллективе. Текучесть кадров, одним словом.
– Постарайся все же, Кериша. Отрежь землицу у дуба. Хороший человек умер. За сутки справишься?
– Уважьте, святой отец! Кину клич, всех алкоголиков соберу по округе, но и то не управлюсь к сроку. Снег тает, земля чмокает, к сапогам липнет. Не обессудьте, батюшка.
– Не сговорчивый ты, Кериша, и упрямый. Неправедно мыслишь.
– Смилуйтесь, отец Владимир, рад стараться! Чем же я неправеден? Разве же я против! Бога ради, поймите, святой отец! Как могу я выпрыгнуть из общего ряда? Не имею права. В администрации поступок истолкуют неправильно. А я человек подневольный. Пенсия через год. Накажут, батюшка, все же опасаюсь…
– Об администрации не беспокойся. Сказал же тебе, – морщась и все более раздражаясь, сказал священник, – чиновников города беру на себя.
– А помер-то кто? Местный? Или кто из района?
– Усопший – человек достойный и смирный, – произнес святой отец нехотя, едва шелестя губами. – На службы регулярно ходил. С благоговением в храме небесном присутствовал, глубоко в таинство вникал. Осмысленно то есть, искренне. Не как иные… захожане.
– Царствие небесное достойному человеку!
– Не гони лошадей!– рассердился священник и строго посмотрел. – Сперва новопреставленного, чин чинарем, отпеть следует, а уж потом о царствии небесном речь вести. Не плоди ересь, Керим Матвеич. Не блуди, коли не знаешь.
– Прошу прощения, святой отец! Не учен я ремеслу тонкому, в высокие материи не посвящен. Сознаю, батюшка, свою оплошность.
– А коли не понимаешь, так какого… упираешься? Следуй тому, что велит духовник. Отправь к дубу кого порукастее, пошустрее.
Керим громко запыхтел, взмахивая руками, едва сдерживая обиду и возмущение.
– Славный был прихожанин, истинно веровал, – продолжил внушать священник. – Храмом жил. Добрый был, не скупился. Много жертвовал…
– Так нельзя ли в достойное место определить хорошего человека? К благородным людям? – взмолился бригадир. – Хоть бы в аллею славы? Там круглый год нарядно и сухо. По праздникам войска караул несут. Весь город мимо ихних могил проходит. Уважение и почет.
Отец Владимир скривился.
– Сходите в администрацию, батюшка, похлопочите. Ордера лежать к героям там же, в высоких кабинетах, выдают. На пригорке, в аллее славы, аж с осени много ям пустует. Дорогих людей ждут.
– Нужно место у дуба, – резко подытожила Людмила – как отрезала. – Не модничай, Керим Матвеич, не противничай. Новопреставленный и тебя в обиду не даст, щедро отблагодарит за услугу.
– А вот и работнички, – сказал начальник, как только делегация подошла к теплой проталине, на которой грелись, как коты весной, землекопы. – Все в сборе. Знакомьтесь. Орлы.
– Храни вас, Господь! – Отец Владимир окинул взглядом кучку размякших строителей диковатого вида и осенил всех крестом.
– Судите сами, святой отец, разве справимся к сроку? И техники нет, и земля пухнет, здоровье и мотивация, так сказать, оставляют желать лучшего.
Керим Матвеевич красноречиво смотрел на своих спутников, давая понять, что особенно рассчитывать на трудовые достижения коллектива не приходится.
Тоска
Тишина и порядок царили в квартире Василия Ивановича. Миролюбиво тикали часики. Гудел и хлопал створками в подъезде лифт. Несколько раз настойчиво звонил домашний телефон, но старик не отзывался.
Потом кто-то настырный бил кулаком в дверь, но и этот стук он словно бы не слышал.
Раннее тугое утро незаметно перетекло в полдень.
Давно было пропущено время глотать таблетки, мерить давление, завтракать. Оживать нынче старик не желал.
Ранней весной днем вроде бы и яркое солнце слепит, и небо – высокое, полное лазури, манит. Рука ищет пуговицу, чтобы расстегнуть воротник, ослабить на шее шарф, вдохнуть полным горлом прохладный воздух с ароматом талого снега. Не удержишься, распахнешь куртку, чтобы выпустить жар на волю, – и вот уже к вечеру горит лоб, ознобом колет кожу, и миллионами мучительных толчков организм сотрясает лихорадка.
Так же неприметно, как человека одолевает простуда, в сердце старика с прошлого вечера проникла тоска. Густо смешавшись с сумерками, схватила за горло, не давая свободно дышать.
Никогда прежде вкуса тоски Василий Иванович не чувствовал. О душевной муке, настигающей человека в тишине и одиночестве, он конечно же, знал, но занятию, которое увлекает чудаков и мечтателей, серьезного значения не придавал. Мало ли о каких страданиях души сочиняют бездельники, поддавшись скуке, считал.
Видел, как в последние земные дни тосковала его жена. Отказавшись от воды и пищи, не желала, как прежде, ни видеть мужа, ни говорить с ним. А бывало, до того жаловалась на нестерпимые боли, тревожила ночью. Хотела поскулить на судьбу. Изводила просьбами вместе встретить рассвет, держась за руки, ожидая новый мучительный день.
А потом словно бы перестала замечать мужа. Внимательный взгляд старика, обращенный к себе, будто и не видела.
Оставляли равнодушной мужнины скромные знаки внимания: ромашки, которые он приносил с луга, или чистая рубашка, которую силком надел на нее во время утреннего туалета вместо старой, несвежей. Превозмогая боль, закрыв глаза, Тамара лежала, безучастная ко всему, все больше лицом к стене. Терпеливо ждала своего часа.
Заметив перемены в настроении, Василий Иванович не на шутку встревожился. Сам потерял сон. В непонятном возбуждении поднимался ночью с кровати, брел к окну. Невидящим взором всматривался во мрак двора. Бледное марево фонаря с улицы, сизые тени, которые, дрожа и пугая, ползли по стенам комнаты, прыгали по потолку, – все зарождало в нем мысль о грядущих переменах, о близком расставании с дорогим человеком.
Не желая выносить дурные предчувствия, брел к больной. Повод увидеть жену был ничтожным – хотел побыть рядом. Сделать ей приятное: открыть форточку, чтобы освежить в комнате воздух, накрыть одеялом. Задержаться у изголовья, помолчать, прислушиваясь к беспокойному дыханию.
Тоска рвала грудь, и чтобы унять дрожь – не прогнать, так хотя бы вспугнуть, он включал в коридоре свет, брел на кухню, нарочито громко шлепая тапками о пол, хлопал дверью. Наливая в чайник воду, стучал металлом о кран.
Он ждал, что больная услышит его. Надеялся, что откроет глаза, проснувшись от шума, и, как бывало прежде, рассердится на неуклюжего мужа. Возмущенно скажет словечко или проявит себя иным живым способом – скрипом пружин ли, шелестом ли одеяла, тихим вздохом, – подаст знак: она еще здесь. Дышит. Живет. Недовольство жены в этот мучительный час было для него сладкой отрадой: она здесь, с ним. Неопределенность судьбы старика изводила.
Наконец, в один из тяжелых дней, не выдержав испытания, он решил внести в ситуацию ясность.
– Я священника позвал, – Однажды утром сказал он жене. – Причастить тебя следует перед смертью.
Взгляд больной, взлетев с потолка, метнулся к нему, скуля и кровоточа.
Пристально глядя в потемневшие зрачки жены, старик, тоже волнуясь, принялся ее успокаивать:
– Не сегодня твой срок, не тревожься… Не сегодня умрешь. Завтра, – выдохнул он. – Готовься к завтрему, – сказал по-уверенней.
Лишь на секунду он почувствовал спазм в горле и то, как предательски дрогнул голос. Вдохнул глубоко, медленно, высоко вздымая грудь, чтобы обрести равновесие.
Спустя мгновение Василий Иванович удивился самому себе и тем страшным словам, которые соскользнули у него с языка так, будто сказал их своей голубе не он, а чужой человек, посторонний дому. Словно бы речь шла не о вечном расставании, а о чем-то до обидного бытовом, нудном, неприятном, но легко поправимом: то ли о сорванной резьбе крана на кухне, то ли о лифте, который застрял между этажами, создавая жильцам неудобства, о сбитых каблуках у старых башмаков или же о запоздалом потеплении в природе. Подобным образом нытик жалится, что лето выдается знойным, а зимой лютует стужа.
И только на мгновение у старика вспыхнул жар в глазах – запекло с горя.
Он захрипел, затряс головой – хотел, чтобы жена облегчила его душевные муки, избавила бы от страданий. Утешила бы, проявила сочувствие, подумал, пожалела бы, сказав что-то приятное уху. Ей на конечный полустанок брести, лететь за огненный горизонт, скользить в мерцающих далях, а ему каково? Как жить без нее, вынося одиночество?
Лицо Тамары от мужниных слов в миг стало бескровным, похожим на серую золу или на застиранную простыню, которую не жалко бросить в утиль или порвать на тряпки.
Не в силах переждать торжественный звон зловещей тишины, Василий Иванович беспомощно принялся озираться, прыгая взглядом по предметам, и вдруг увидел часы. Нервно, в такт его сердцу, пульсировали стрелки, наматывая круги, приближали роковую черту.
Не дождавшись от голубы своей ни слез, ни сочувствия, холодея внутри, старик принялся объясняться: подругу жизни он приободрял напутственным словом или себя отчаянно жалел в сей горький час, не известно. Сбивчиво говорил. Мол, разве беда смерть – в почтенном-то возрасте! И есть ли вообще смерть в природе, вопрошал, не требуя от жены ответа. Может, и вовсе нет старухи с косой, один только неуклонный путь к воскрешению.
Вот проводит её завтрева в дальний путь, прикидывал неторопливо, сидя подле больной на кровати. Низко склонив в тесном жгуте рук голову к полу, разглядывал на паркете блеск вечернего солнца. Примется хлопотать о могиле. Третий – день похорон, как принято у православных. На девятый справит поминки по усопшей – это, стало быть, считал, ближе к пятнице, на новой неделе…
Э-ка, жизнь! – громко удивлялся старик своим мыслям, вдруг отвлекшись от арифметики. Вскочил на ноги, вскинул голову, вскинул к потолку руки.
Что есть она – жизнь наша? Сегодня вот он человек: смотрит, дышит… Счастлив, зол ли, любит ли, мыслит? Или изнеможен болью? А уже завтра – где искать следы его? Где исход, где он весь сам будет? Лишь неспешный, робкий, тишайший шажок к роковой черте, за которой… неизвестность! Небытие, пыль, тлен, пропасть… Вот какова она есть – жизнь человека! Хрупкая, неприметная… Потому драгоценная!
Вечерело. Тикали часики. В квартире верхнего этажа кто-то настырный мучительно выводил гаммы.
Старик подошел к окну. Поправил шторку. Через мутное стекло выглянул во двор. Робкое солнце заливало медью город, отправляясь на покой. Жители возвращались домой с работы. В подъезде натужно гудел лифт.
Весна хоть и запоздалая в нынешний год, но аромат тепла уже уловим, продолжал течение мыслей старик, разглядывая на топольке у окна нежную, клейкую дымку. Еще недолго, и солнце окончательно одолеет стужу. Яростно зазвенит капель, зажурчат ручьи, как заведено в природе. Сороковой день после смерти, прикидывал Василий Иванович, вернувшись к постели больной, выпадет после Пасхи. А там и лето красное не за горами – долгожданное, мечтал вслух. Всяк живой человек тоскует по теплу, живет надеждой. И он с той поры, как душу сковала зима, ждет радостных перемен в природе, признавался жене, – терпеть нету мочи…
Не задержится и он долго без голубы своей на белом свете, горевал, потому как не мила ему жизнь без нее. Вот только управится с делами. Приберется на могиле, куда и сам вскорости отправится. Поставит памятник… Посадит березку. Квартиру отпишет дочери. С сыном вечер-другой посидит. Накажет детям, как им без родителей управляться. Вот и все заботы.
Василий Иванович задумался. Сашок взрослый, успешный мужчина, и отцовская мораль ему ни к чему. И прежде не слушал его, а нынче тем более не станет вникать в наказы отца-чудака. Посмеется и все сделает наперекор, по своему разумению. Плохо ли? Что плохого в том? Каждый сам кует свое счастье.
И что он, старый вояка, может посоветовать детям?
Бога чтить и родителей поминать – вот и вся премудрость, выходит.
После ее похорон о своих хлопотать станет. Встречай меня там…, за сияющим горизонтом, говорил жене, не глядя в лицо, – жди, как в молодые годы ждала… Помнишь, на перроне, у моря.
В комнате стояла зловещая тишина. Стрекотали часики.
Святой момент
Неожиданно дверь с шумом отворилась. В комнату, голося, впрыгнула дочь.
– Рехнулся совсем! Спятил! Что ты мелешь? – Дочь набросилась на отца с упреками.
– Что… Ты что? – растерялся старик.
– В уме ли? Мамке такое говоришь? Сердце есть у тебя?
– Не лезь! – рявкнул Василий Иванович, придя в себя. – Не мешай речь держать! Смерть стоит у порога, не до дипломатии. Дай сказать все, что на душе наболело. Завтра не успею. Конец пришел.
– Рот! Рот закрой, душегубец. Где душа твоя? – Еще громче взревела дочь и грозно двинулась на отца, распрямив квадратные плечи. Потянула руку к лицу старика в намерении зажать его рот ладонью.
– Не мельтеши, вооон! Момент святой – уважай смиренно! Дай по-людски проститься, – громыхал старик, отворачивая от дочери голову, наливаясь кровью и свирепея.
– Спятил совсем!
– Не смей! Али отца не жалко?
– Господи, что за человек! Отец ли ты мне?! – взмолилась дочь.
От этих слов Василий Иванович дернулся, как от удара током. Замотал шеей. Выпрямив спину, шагнул на рыдающую дочь, как на неприятеля:
– Что..? Такое говоришь? Отцу родному…– Старик задыхался.
Дочь, плача, принялась в отчаянии заламывать руки.
– Я служил! Ишачил! В горячих песках жарился, – вопил Василий Иванович что было мочи, сотрясая стены.
– Герой! С бабами воевать! – всхлипывала дочь, отворачивая от отца голову.
– Молчать!
– Мать лежит, а ты… Помолчал бы в углу, вояка, поскромничал бы. Поди-ка, еще военный китель надень, погреми орденами!
– Как смеешь? Кто ты такая?
– Кто я?! – еще громче запричитала дочь. – Приживалка в генеральском доме!
– Точно! – Старик энергично закивал, соглашаясь. – Кому нужна?! Злая, колючая… Ни один мужик не позарился!
Ярость окончательно поборола Василия Ивановича. Липкий, жгучий поток злобы затмил стариковский разум. Переборов скорбь, забыв о торжестве царящего момента, он во всю мощь здоровенного горла завопил, не желая слушать никого другого. Лишь безумная потребность сотрясать воздух всевластно овладела им:
– Корка сухая, жердь, жила! Рожу свою видала?
– Чего глядеть-то? На себя смотри – твоя, лошадиная. Себя-то видал? К зеркалу двинься! Рожей своей только и наградил – чем бы хорошим!
– Бога побойся!
– И Господом не стращай, не смей! Он каждого из нас видит, не указывай! Ни меня, ни тебя не забудет. За собой следи. Думаешь, больно праведный, благородный? А с тобой мать мед пила? Жила, как на фронте, на передовой, пряталась в окопе. Как пугливый зверек в комендантский час, хоронилась.
До старика стал медленно доходить смысл услышанного.
– Врешь! – снова взревел он, опомнившись.
– Великомученица! Горемыка! – Дочь упала на колени у кровати болящей. Всхлипывая и завывая, принялась целовать матери руки, дрожа, обнимать ее иссохшее тело.
– Я птица вольная, из казармы твоей улететь могу, – На секунду отвлекшись, гневно сказала дочь, смотря на старика снизу вверх, сверкая глазами.
Худое вытянутое лицо залили слезы.
– Можешь, а что-то не больно лететь спешишь, – вялым безжизненным голосом заплакал отец, вторя дочери, растерянно мигая глазами. – Пригрелась… Хлеб дармовой сладок, – безвольно брюзжал-приговаривал, внезапно потеряв силы браниться.
Без прежнего запала покусывая дочь, отбивался от несправедливых нападок, как от назойливых ос. Перебирал губами вовсе не от обиды, а скорее по привычке упорствовать, до конца стоять на своем.
– Сладок? – вскрикнула дочь. – Думаешь, так уж сладок? Лучше горькую полынь жевать и в чистом поле ночевать с волками, чем дармовым хлебом с твоего стола давиться! День и ночь терпеть твой гнев, герой-вояка. Как несчастная мать, всю жизнь тебя бояться.
Было что-то нехорошее, дикое в сцене, которая подводила итог семейной истории. Родные, небезразличные друг другу люди в приступе злобы выплескивали старые обиды. В полузабытьи признавались в том, что наболело, что каждый под большим замком держал в глубине сердца.
Беспомощно крича о том, что в горькую минуту лавиной вырвалось из темноты бессознания, захлебывались от отчаяния. Неся околесицу, каждый заранее знал, что их негодование и неправедно, и несправедливо, и родилось по причине надломленной психики, которая не справлялась с тяжелым событием. Изрыгая очередную порцию желчи, каждый ужасался диким словам и сразу же – страстно, отчаянно – еще до того, как они были сказаны вслух, принимался корить себя за гневливость, винясь сам перед собой за несдержанность.
– Убежала бы мать от тебя на край света, сгинула бы – в тайгу, в болото! Скрылась бы, будь ее воля!
– Молчи! Не болтай лишнего! Что ты знаешь! Злая… злая, негодная…
– Маялась с тобой и терпела.
– Врешь! Любила она меня… – горячо зашептал Василий Иванович внезапно осипшим голосом.
Согнув хребет, он беззвучно заплакал, сотрясаясь спиной с острыми лопатками и худыми позвонками.
– Любила – как же, выдумал! – вяло нападала дочь, не желая сдаваться.
– Еще как! И ревновала!
– Не решалась без мужика дом тянуть, вот и терпела. О нас с братом думала.
– Да! Ревновала! – рыкнул отец. – Ничего ты не знаешь! В войска голуба приезжала ко мне, в армию. Ноги песком жгла. А лишь для того, чтобы хоть глазком посмотреть, обнять офицера. Скажи ей! Ну же! Расскажи! Не знает ничего, противная! – Суровым голосом приказал Василий Иванович жене, которая, закрыв глаза, в предсмертной агонии лежала подле них на кровати, не шелохнувшись.
– Не тебя любила мать, а другого! – безжалостно палила дочь, медленно теряя азарт сражения.
– Воон! – загромыхал старик, распрямляя плечи. Грозно двинулся на дочь, добела сжимая кулаки. – Не смей болтать! Не наговаривай!
– С тобой жила, а любила другого, – стояла дочь на своем.
– Верная мне мать была! – рявкнул Василий Иванович, чувствуя, как от обидных слов нервной дрожью в живот пополз холодок.
Внезапно память явила старику образ светловолосого мужчины, который однажды в далеком прошлом перешагнул порог их дома с оказией от родственников. И хотя к ним на огонек заглядывало много гостей (разве всех упомнишь?) – их семья славилась хлебосолом, но этого симпатичного веселого человека он и сейчас, спустя годы, видел, как наяву.
После обидных слов дочери Василий Иванович вспомнил о нем сразу же – по ознобу кожи и глухим, тяжелым ударам сердца, толкающим кровь.
Вспомнил, как незнакомая, непонятная ему прежде тревога в тот вечер молнией пронзила грудь – он увидел в глазах жены вспышку.
Как росток к солнцу, Тамара потянулась навстречу крепкому белозубому красавцу. Румянец залил ей лицо, и эти ее волнение и трепет неприятно кольнули мужа.
И теперь, спустя много лет, ревность отозвалась в старике с прежней силой.
С этим мужчиной пришлось ему повстречаться еще пару раз. Да, теперь Василий Иванович это окончательно вспомнил. Однажды столкнулся с ним на перроне черноморского города, когда ехал в отпуск к семье. Они бегло кивнули друг другу, приветствуя.
И тут старика пронзила внезапная догадка. Уж не к его ли жене на свидание приезжал голубоглазый красавец, в его-то отсутствие?
Точно электрические провода, загудели нервы. Не о том ли дочь трещит, намекая об измене?
Ни о чем другом старик уже думать не мог.
А ведь и в самом деле, лихорадочно соображал он, жена у него была и хозяйственна, и миловидна… Завистники облизывались, глядя на их счастливую семейную жизнь, а его распирало от гордости.
Что же, выдохнул старик, в теории его голуба могла и неверной женой быть. Что с такого салдафона, как он, возьмешь, сокрушенно подумал: ни ласки от сухаря не дождешься, ни деликатного обхождения. Взгляд ровный, спокойный – лишь по праздникам, по жесткому расписанию. Выходит, права дочь: похоронила Тамарушка с ним свое женское счастье.
– Столб бесчувственный! Изваяние! – Тихо плакала дочь.
И теперь, как ни тяжело было отцу слышать подобные слова, в тайне он с ней соглашался. Считал себя недостойным.
Бессильные соединиться в чувстве любви в канун священного часа, который требовал смирения и благодарности, забыв о муках умирающей души, отец и дочь отчаянно бранились, и каждый в этот момент жалел только себя. Выплескивая боль, говорили о болящей так, словно ее уже не было рядом с ними, а между тем она все ещё дышала и слышала каждое слово, внимала им. Не издав звука, лежала подле ревущих и беснующихся, отчаявшихся родных, и яркий румянец полз по ее синюшным щекам, захватывая подбородок и шею.
– Кабы не характер твой, не была бы я одиночкой. И злой бы такой не стала, – скулила дочь. – Боялись мы тебя, точно волка хищного. Мать меня от страха к аборту склонила. Упиралась я, не желая невинное дитя губить, но все же боязнь прогневить тебя оказалась сильнее. Взяла грех на душу.
– Как? – задохнулся Василий Иванович. – Когда? – Он беспомощно таращился на жену и дочь, желая отчитать их за негодный поступок, который они бессовестно утаили. – Как посмели? Не доложили? Кто есть негодник? От кого ты, засранка, понесла? – заревел.
– Кабы не ты, стала бы матерью… – плакала дочь.
– Как посмели? Не спросили? – одно и то же повторял старик, сверкая глазами, полными слез, похожими на линзы увеличительного стекла.
– «Отче наш сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое», – заголосила дочь.
– «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», – подхватил отец слова молитвы, и глотая слезы, прильнув друг к другу, они принялись нараспев читать священные слова, стараясь в отчаянии перекричать друг друга.
– «Да будет воля Твоя на земле, как на небе»
– «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»… – горевала дочь.
– «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»… – вторил ей отец, стараясь выступать стройным хором.
– «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
– Не так читаешь! Не так говоришь! – внезапно оборвал пение отец, услышав расхождение в тексте. – Не твори отсебятину! Ересь плодишь!
– «Яко твое есть царство и сила и слава во веки» , – еще громче заголосила дочь.
– Аминь! Молитву выучи! – настаивал отец.
– Аминь! – выдохнула дочь.
– Как посмели? Не спросили? – снова заплакал отец.
– За…за… за…крой… – силясь, вдруг натужно прохрипела больная, шевельнувшись в постели.
С гримасой страха на лицах, отец с дочерью повернулись на сиплый звук с кровати.
– Закрыть? Что закрыть? – засуетился старик. – Холодно ей! – крикнул дочери.
– Маманя! Ноги укрыть? – Дочь проворно вскочила с пола и схватила одеяло.
– Заа-аа… Фооор..точку… – хрипела женщина.
– Форточку? – удивился Василий Иванович и посмотрел на плотно закрытое окно.
– Рот закройте! – собрав последние силы, со свистом выдохнула больная и в тот же миг вознеслась, с облегчением.
Улетела раньше времени, назначенного ей мужем, не дождавшись священника.
И в то же мгновение не чужие покойнице люди громко, не таясь, зарыдали у сухонького тела новопреставленной рабы божьей, сцепив добела руки, переплетясь телами, повиснув друг на друге в неутолимом горе, и не было в этот час на всей земле несчастнее их человека.
Внучок
После похорон и поминок по матери дочь собрала вещи и съехала от отца, оставив его в растерянности в полном одиночестве, наедине с тоской.
И теперь привычная старческая печаль, которая приплывала к Василию Ивановичу в сумерках, соединилась с болью о ней. Две неразлучницы – боль и печаль – щедро сдобрили горечь его пустого, бесполезного бытия. С нежностью, несвойственной старику, он думал о своей непутевой дочке и о внучке, которому не суждено было появиться на свет.
Пытался представить себе малыша – теплого, румяного, хватающегося за щечки, пускающего пузыри. Желанного, дорогого…
Сотрясая воздух тяжелыми вздохами, он беззвучно корил себя. Бабы, глупые бабы, плакал без слез. Выдумали врага, злодея! Разве же он против? Разве же против дитя?
Эх, кабы пустить время вспять, стонал. Высоко носил бы малыша на загривке… Уму-разуму бы учил… Приучил бы к физзарядке. Надел бы на праздник военный китель, в парк бы отправились, на парад, мечтал. Прошлись бы по нарядным улицам ранней весной.
А дал бы Бог малышку…
При мысли о девочке мечты Василия Ивановича натыкались на препятствие. С трудом представлял себе, как ни силился, чем бы он мог заинтересовать внучку. Напрочь ушло из памяти время, в котором росла его дочь, что и неудивительно: все время офицер посвящал Родине, часто отсутствовал.
Внезапно, словно от нестерпимой боли, старик принимался морщить лицо, крутил головой, отгоняя от себя прилипчивые видения: образ белокурого, веселого человека, который в том же далеком прошлом, что и росла дочка, вызвал в его голубе любовную вспышку, преследовал по сей день.
Воспоминания о девочке складывались у старика в нехитрую картинку: видел егозу с косичками, склонившуюся над тетрадкой. Пыхтела лапушка, выводя каракули. А потом, не успел он глазом моргнуть, малышка выросла, стала своенравной, злой и колючей – на отца похожей.
Отмотать бы время вспять, горевал старик, разве он позволил бы негоднице над собой надругаться?
Отчитал бы для острастки, чтобы выразить законное недовольство. Пошумел бы, для порядка, выпустил пар. К стенке язву припер бы, чтобы призналась, как на духу, от какого заезжего молодца ребеночка нагуляла. Познакомился бы с обидчиком, прояснил отношения. Если сильно любила дочь кобеля, рассуждал, то не грех дитю и без отца родиться. Любовь – чувство святое, многое оправдает. Не родится человек по похоти случая, считал старик на склоне жизни, создан по замыслу Бога.
Стерпели бы дамы гнев офицера – не сахарные. Повоевал бы чуток с бабами, да и остыл. От природы он все же не злой и детей страсть как любит. Да, согласен, деликатностью обделен и снаружи дуб дубом, а внутри, в глубине, в потемках… не зверь лютый и не камень. О многом сердце болит. И тоска окаянная душит…
О чем только не думал Василий Иванович длинными, тоскливыми вечерами, устремляясь за потоком сознания, который подобно воздушным порывам, подвластным лишь ветру, летит куда вздумается, без точного направления, остановок и преград. Гнал от себя лишь мысли о белобрысом мужчине – нестерпимо жалили сердце.
Весна жизни
С тяжелым чувством Дрон возвращался после работы домой. Он устал, от долгого напряжения рук ныли спина и плечи. Глаза, воспаленные ветром, горели.
Солнце уплыло за горизонт, и зима вновь дохнула на город ледяной пастью. Вытесняя тепло, стужа незаметно поползла под куртку.
Далеко за спиной Дрон слышал высокий, вспугивающий ворон, голос Савелия. Громко смеялся и балагурил Шурик. Петька что-то отвечал невпопад, и в ответ на его мычание кладбище оглашалось здоровьем и хохотом. Предвкушая томные часы вечерних посиделок, крепкие, жизнерадостные мужики хмелели от аромата весны, сулящей надежду. Дрон же чувствовал себя в этот час болезненно утомленным, не по годам старым.
Наступала еще одна весна жизни.
Как и любой человек, который измаялся от непогоды и тянется к солнцу, как цветок на проталине, Дрон давно, еще с первых заморозков, ожидал потепления в природе. Он дал себе слово этой весной покинуть неродной, неласковый город, в который попутным ветром его занесло жить после армии.
Служить Дрону пришлось далеко: от родной деревни на поезде несколько суток. Но была ему в том путешествии тайная радость: и необъятную страну посмотреть и, Бог даст, с родным отцом свидеться.
Отслужив честно, как полагается, солдат в поиске работы подался на местный аэродром, но предприятие, где приняли специалиста, вскорости обанкротилось. Летное поле пришло в негодность, и профессия техника-авиатора оказалась невостребованной.
В надежде скопить денег на обратный путь, Дрон решил перезимовать в здешних краях. Долго работу не выбирал: на местном кладбище остро нуждались в трезвых сотрудниках. Так и застрял он в чужом городе на долгие годы.
Слушая темными вечерами стон ветра в печной трубе, заунывное пение вьюги, прижимаясь к теплому плечу полнотелой Люськи, Дрон копил силы. Зрело решение.
Вернуться домой Дрон собирался не единожды. Всякий раз от осуществления задуманного его что-либо отвлекало.
Однажды в сторожку забрался недобрый человек и, переворошив вещи, украл все его сбережения. Или бригаде предстояло работы невпроворот: смерть внезапно, без разбора, принималась косить город. Порой, чтобы управиться с потоком клиентов, сам начальник вставал с землекопами в ряд рыть могилы. В иной год возникала нужда осваивать новый пустырь для строительства, работа сулила двойной заработок – кто откажется?
Но чаще всего планам Дрона мешало настроение. Бывало, схватит за горло смертельная тоска, скует волю. Мучила неопределенность. Не понимал, в какие края ему стоит податься, где с дипломом специалиста по летательной технике он пригодится.
В тайге у Дрона родных не осталось. В год призыва в армию умерла его бабка. Скоро следом за ней убралась и мать: на лесозаготовках бревном придавило. А через год Аннушка – дочь лесника – написала Дроне-солдату, что жарким летом яростно горела тайга, и Петр Иванович геройски погиб на пожаре.
Выходит, только Аннушка и оставалась ему в родных. Она да бельчонок Тимка, усмехался, строя смутные планы. Только жив ли Тимка-проказник? Цел ли домик, который они для зверька мастерили? И разве родня он девчонке, вздыхал. Так, Дроня – приятель…
Мамка
Пуще неутолимой тоски тягучего дня, воя ветра в печной трубе в непогоду и нескончаемой череды черных осенних ночей, Дрона изводило одно и то же, повторяющееся видение.
Во сне он стоял на высоком берегу. Отстраненно, издалека, с восторгом человека, готового взлететь, наблюдал, как в реку с бурным течением люди-щепки сбрасывали с берега бревна. Шла лесозаготовка. Он не слышал шума воды, не различал людских лиц – все его внимание приковывала женщина в красной косынке, которая легко и бесстрашно, будто паря над землей, ловко орудовала длинным багром в руке, проталкивая в направлении течения неуклюжие, неповоротливые деревья, которые создавали затор. Бревна нехотя плыли, и у зaпани их поднимали из воды, чтобы отправить на лесопилку.
Дрон неистово желал задержать последний кадр мирной жизни, в котором ничто не предвещало беды.
Вскипая кровью, медленно холодея внутри, хотел противостоять дальнейшему ходу событий, но время, безучастное к его страху, с неизменным равнодушием меняло картинку.
Лавина убийственно тяжелых бревен, похожих сверху, с точки обзора, на гору спичек, неизменно срывалась в реку с обрыва, накрывая сокрушительной мощью хрупкую, невесомую фигуру воздушной гимнастки, Дрониной матери. Казалось, вдруг рассыпался коробок.
Дрон протестовал, плакал, мычал – не мог примириться с тем, что произойдет в следующий миг и неизменно просыпался до последней секунды – до того, как расколется мир, не желая быть свидетелем страшных событий.
Очнувшись, лежал в темноте. Ждал, когда сердце, разрывающее грудь, начинало стучать глуше, ритмичнее. Медленно приходил в себя.
Постепенно на смену отчаянию приплывала щемящая грусть. Он любил свою мать кроткой нежностью родного существа. Эта любовь была истинной, безусловной, само собой разумеющейся, не поддающейся объяснению, она не требовала ни слов признания, ни доказательств. Кровь, бурлящая в его жилах, и была этой любовью, несла память о ней. С каждым годом он нуждался в ней все так же неистово, как и прежде. Как чудище, тосковал о ней, будучи взрослым. Она была закатом, печалью, дождем, тихой улыбкой ребенка, звенящей радостью сытного летнего дня, звездными небом, тишиной полей, смирением. Не имея возможности ни обратиться к матери, ни проявить заботу о ней, ни пожалеть, сильно страдал.
Чередой бежали деньки. Разношерстные мысли, которые вносили в беспокойную душу смуту и разброд, всевозможные отговорки препятствовали Дрону в сборах на родину. Сон, тепло и убогий уют таили опасность.. Не успевал он оглянуться, а на дворе листопад. До перемен ли жизни в упадок? Это в весеннюю пору витает в воздухе нечто приятное. Течет сок от земли ввысь, от корней к кроне. Зовет к горизонту.
Сладкие робкие признаки близкой весны подгоняли Дрона осуществить давно задуманное.
В этот вечер он ждал Люську, чтобы рассказать о созревшем решении. Признаться, женщина и была для него самой важной причиной оставлять свою жизнь без изменений, жить одним днем, подле. Орудуя лопатой, ждать наступления сумерек и долгожданную встречу.
Дрон шел на свидание, мучительно размышляя о том, что он скажет подруге, которую странным образом любил, не давая себе в том отчета.
В эту чудесную весеннюю пору, которая в каждом пробуждает светлые надежды, он чувствовал себя несчастнейшим из людей.
Тихий гул небес
Чтобы отвлечься от тяжелых дум, Василий Иванович днем придумывал для себя занятия, чтобы, умаявшись, крепко уснуть. По поводу и без повода часто наведывался в сарай навести порядок. Сортировал в погребе картошку, свеклу, морковь. Крепкие корнеплоды, очищенные от ростков, складывал в ящик, а гнилье – в мусорное ведро, на выброс.
А то затевал уборку на балконе. Снимал с верхних полок шкафа пыльные коробки с газетами и журналами, пожелтевшие от времени, книги по военному делу, иной драгоценный хлам. Увлекшись, принимался листать страницы альбомов и книг. рассматривал старые фотографии, вспоминал о былом. Читал, вздыхал и, скрепя сердце, отправлял макулатуру в мусорный бак.
С недавних пор старик принялся пристраивать по знакомым свою ненужную одежонку. Чувствовал, что вряд ли ему придется её носить. Знал, что после его смерти все нажитое непосильным трудом дети выбросят на помойку.
Суета по хозяйству отвлекала и дисциплинировала.
Но в последнее время старик часто, вопреки задуманному, с отрешенным видом стоял у окна. Часами глядел в забытьи в неподвижную точку едва уловимого горизонта. Впускал в себя тихий гул небес, покой и безмолвие.
Умываясь светом непостижимых глубин разверзшейся дали, тер корявым пальцем стекло, замутневшее от уличной пыли. До боли в старческих глазах вглядывался в сияющую пустоту за окном, горько сожалея о том, что не чувствует в мышцах прежних силы и ловкости, чтобы самому, без помощи посторонних, отмыть грязь на стекле и без помех созерцать внешний мир. Точка, в которой сходились воздух и твердь, манила. Именно там, в понимании старика, находилось царствие вечного, в котором не существует ни боли, ни тоски.
Звонок на входной двери охрип, и Василий Иванович очнулся. Кто-то неизвестный стоял на лестничной клетке у квартиры, но пенсионер не сразу двинулся к порогу.
Он привык: к ним в подъезд часто проникали посторонние люди. Доставляли продукты на дом, разносили рекламу и разное барахло, для него бесполезное. Иные дельцы сулили болящим скорое оздоровление: хитрым прибором обещали прогнать бессонницу, поправить зрение, вылечить и сердце, и радикулит. Порой наведывались квартирные аферистки – миловидные особы с приятными манерами и вкрадчивыми голосами.
Прежде старик открывал дверь каждому без разбора и сам без опаски выходил к посетителям на площадку. Особо словоохотливым, внушающим доверие, иногда удавалось усыпить его офицерскую бдительность и проникнуть в квартиру. Выслушав мутные предложения заключить договор на уборку, доставку лекарств или лечение в обмен на жилплощадь, бесцеремонно выпроваживал визитеров.
Но когда к его приятелю, герою Сталинградской битвы, в дом ворвались бандиты и, пока ветеран находился в беспамятстве, украли пенсию и похоронные деньги, дорогие сердцу боевые награды, к непрошеным посетителям стал испытывать недоверие.
Теперь настойчивые звонки в дверь беспокоили старика особенно неприятно. Страх был бытовым, примитивным, очень неприятным нутру человека, который согласился бы рисковать жизнью лишь ради возвышенной цели. Теперь на каждого, кто стоял за дверью, старик смотрел сквозь замочную скважину зверем. Готовясь к худшему, был начеку. С каким умыслом пришел посетитель и чего ждать от него, он не знал, а оттого тревожился. Неизвестность пугала.
Этим утром непрошеный гость настырничал.
Скрипя позвонками, Василий Иванович неохотно поднялся и, превозмогая боль, бесшумно подкрался к порогу. Заглянул в дверной глазок. На площадке он увидел Машеньку. Обрадовался и растерялся от неожиданности.
Он не сразу подал голос из-за двери. Стоял в раздумчивости, боясь движением обнаружить себя. В последний раз Маша заходила к старику после смерти жены. Сидели с ней на кухне, не зажигая света, и он, сглупу, рассказывал ей о своих чувствах к покойнице, вспоминал: о знойном лете на юге, гомоне чаек и ласковом море.
Перед Машей старик испытывал острое чувство вины. В юности у девушки с сыном расцветала романтика. Но сын, не сдержав обещание, скороспело женился: сильно влюбился в другую. Через пару лет очухался, но родился сын. По сей день тянет Сашок семейную лямку, изо всех сил стараясь выглядеть счастливым.
И Машенька в девках не засиделась. В тот же год пошла под венец. Тоже неплохо живет, рассказывала старику. Как и Сашок, счастливая…
Храм, Вера
Кладбищенский переулок вывел Дрона на пригорок. Ночь затопила упокоенный город, но у храма на площади все еще было многолюдно. В окнах приглушенно горел свет. Прихожане покидали церковный двор, растекаясь по улицам неторопливыми потоками, унося в мир печаль и умиротворение.
Осенив себя крестом, Дрон вошел в церковь по высоким, слегка расшатанным ступеням.
– Господе Иисусе Христи сыне божий, помилуй мя! Прости меня, грешного! – отозвалось в нем из глубин памяти, и обращаясь к дорогому лику, строго взирающему с иконы, он перекрестился, низко склонив голову.
Молча постоял у порога, вбирая в себя трепетный звон тишины, летящей высоко к куполу, вслушиваясь в скорбный треск лепестков мерцающих свечек.
В полумраке у алтаря стояли священник отец Владимир и женщина в темном платке, в платье до пят. Прихожанка, похожая на птицу, волнуясь, сбиваясь на плач, шептала о наболевшем. Торопливые горячие фразы летели от них к Дрону.
Ларек с церковной утварью был закрыт. Он потоптался у прилавка, не решаясь протянуть руку к открытой коробке со свечками.
В таежных краях, где родился Дрон, своего храма в деревне не было. На службу по большим праздникам жители ездили в небольшой городок по соседству. До бетонки, на расстоянии пары километров от села, где удавалось поймать попутку, в сухую пору добирались пешком Шли краем леса, полями, полянам, вдоль ручейка, сквозь посевы подсолнухов и кукурузы. Зимой лошади с вихрем несли на санях по белоснежной сверкающей глади.
Мирный ручеек, что протекал неподалёку, в распутицу становился полноводной неуправляемой рекой. Бурное течение сносило хлипкий мостик, и единственная улица, по обеим сторонам которой рядком возвышались дома, превращалась в широкую гавань. По дороге, утонувшей в воде, плыли на лодках, как по морю.
Бывало, что рейсовый автобус, на который рассчитывали поспеть прихожане, был заполнен пассажирами близлежащих деревень и проезжал мимо, без остановки. И тогда надежда попасть в город была на случайных попутчиков или же на изредка громыхающие грузовики.
Неподалеку от Дрониной избы жил поп Макар – человек немолодой и глубоко верующий. Духовного образования он не имел, но книг, доставшихся ему от деда – потомственного священника, в его сундуках хранилось немало. Мальчишкой Макарка пел в церковном хоре, а по праздникам прислуживал деду, постигая священное ремесло.
В воскресенье селяне приходили молиться к Макару, в иные другие дни общались с Господом узким семейным кругом. Иконы – святой дар – передавались от деда к отцу, от отца – к сыну, из поколения в поколение.
Славить Господа утром и днем, перед едой, на ночь, осенять себя крестом, выходя на порог, было так же привычно, как и умываться ключевой водой, топить печку, присматривать за скотиной. Священные тексты дети запоминали от старших назубок, без принуждения. Любой несмышленыш мог без запинки пересказать «Отче наш», «Богородица дево, радуйся», а каждый житель деревни при необходимости мог и покойника отпеть, и покрестить младенца, и совершить иное духовное таинство.
Советская власть дело Макара уничтожила. Дом разграбили, духовные книги сожгли, а деда, как рассадника чуждой морали, сослали в таежную топь, где он и сгинул.
Годы спустя гонения на церковь прекратились, и в деревне стали робко вестись разговоры о восстановлении духовного центра. Но планам не суждено было сбыться.
С тех пор и стоял под сенью вековых лип и дубов полуразрушенный дом-храм – в крапиве и чертополохе.
В православную веру Дроню крестила бабка, у себя на дому. Как в лучах солнца, мальчик купался в ласковых взорах старцев с древних икон, находящихся поблизости, которые в немом одобрении сопровождали великое таинство.
Читая молитву, бабка ковшом поливала воду, освященную серебряным крестом, на голову Дрони, а потом незаметно для него вытянула из-за оклада иконы ленточку с крестиком. И от прикосновения металла к груди Дроня почувствовал в душе волнение и трепет.
Верует ли он, и как глубоко, Дроня не осознавал. И можно ли считать Верой восторг, разрывающий сердце, или невольный страх перед Ликом с иконы, который строго взирал на мальчика из угла комнаты, которым, сердясь на внука, порой грозилась бабка?
Религиозное чувство мальчика было легким и привычным, вовсе не обременительным, подобным робости несмышленыша перед человеком старше себя, каким бы дурным или зловредным он в деревне ни слыл, что с детских лет испытывал в их окружении каждый ребенок.
Нравоучения, окрики, подзатыльники старших – порой незаслуженно суровые – не вызывали в младших мести, протеста или отчаянной злобы. Беззубое, безропотное, ничуть не обидное отношение к наказанию – очень нужное молодому поколению в воспитательных целях, приучало детей к смирению, так необходимому в суровом мире.
Дети с измальства понимали, что наказание – это проявление любви, обратная сторона заботы взрослых о молодых, суровая школа жизни, и не гневались. Родителей следует слушать, родители дурного не посоветуют, и это считалось незыблемым.
Первым поприветствовать взрослого по дороге в поле, на огороде, на пасеке, уступить тропинку в лесу. Пробегая мимо, замедлить шаг. Здороваясь, сорвать с головы шапку и уважительно склонить голову. Приосаниться, выказывая почтение прожитым годам и мудрости старших, считалось естественным, дарило радость.
Перед седовласыми старичками с длинными бородами и старушками в белых платках треугольником, с лицами, сплошь испещренными морщинами, Дроня испытывал немое благоговение. Он часто видел их, не теряющих красоту, несмотря на морщины и суровые признаки возраста, отдыхающими летними вечерами на лавках у палисадников. Часто на коленях у них сидели младенцы – неразрывная связь поколений. Греясь в лучах заходящего солнца, старцы тихо провожали день. Положив на колени иссохшие ладони, смотрели на мир ясными глазами. Источали мудрость, покорность, любовь. Эти старики и были Дроне Иконами, Совестью, истинной Верой.
Можно ли назвать Верой томительное ожидание Пасхи, которая радостью приближения озаряла скудное течение деревенской жизни?
Пасха сулила щедрый стол, веселье, долгожданный приход весны. Загодя в подготовку к светлому торжеству включались и мал, и велик. Каждый день ожидания – из сорока длинных дней поста, медленно подводил к важному событию.
Шаг за шагом маленький Дроня ощущал в душе усиление музыки, наступление важных перемен в жизни.
В Страстную седмицу перед Воскресением пекли пироги, красили яйца, мыли и скоблили добела дом. Отвлекаясь от хлопот лишь для того, чтобы подоить корову, накормить животных, без устали молились и готовились к празднику.
В эти дни пища была особенно скудной. Дроню жалели, и ребенку кроме картошки и луковицы перепадала и кружка молока. Себя же мать и бабка держали в черном теле. Пили чай с сухарями, исступленно молясь. В ночь перед Пасхой свет в доме не гасили – с надеждой ожидали вознесения Христа.
В долгожданный пасхальный день бабка будила внука спозаранку.
Дроня надевал свою лучшую одежонку и с нарядным мешком, сшитым по случаю праздника, вместе с другими ребятами отправлялся по дворам «славить Христа», еще в темноте. Девочки в это утро были похожи на цветки – в ярких платках, да и мальчишки смотрелись франтами.
– Христос воскресе! – Едва переступив порог, звучно пел Дроня, стараясь раньше других ребят, ни в чем не уступающих ему, прокричать заветные слова.
– Христос воскресе! – Дружно вторил детский хор.
– Воистину воскресе! – Радостно откликались хозяйки, протягивая просителям угощение.
К полудню ребятам удавалось обойти улицы. Наступало время хвастаться трофеями. И тогда в укромном месте, опорожнив мешки, все принимались изучать богатую россыпь подарков. Обнаружив в разноцветной горе угощений конфетку в сверкающей обертке, какой не было ни у кого другого, или особенно ярко раскрашенное яйцо, принимались менять сокровища. Порой за редкую конфетку удавалось выручить пару яиц или даже кусок пирога.
Некоторым счастливчикам, бывало, перепадала от подателей и мелочь – невиданная щедрость. Деньги ценились превыше всего. Их тратили на увеселения в городе: за деньги можно было отправиться в кино или купить мороженое.
В полдень в Пасху жизнь в деревне вымирала. Мал и велик отправлялись на кладбище. В домах оставались лишь немощные и младенцы.
Навестив родные могилы, деревня собиралась на большой поляне в центре кладбища. На скатерти, которые стелили прямо на траве, выгружали яйца, пироги, мясо – скоромную еду, вкус которой за время поста забывался напрочь. Начинался пир. Умершие были в этот важный день рядом с живыми, младшие – вместе со взрослыми.
В праздник позволялось громко смеяться, шуметь и проказничать. Старшие были снисходительны к детским забавам.
Вера жила в Дроне наивно, не требуя слов признания, не ища доказательств, и походила на восторг, разрывающий грудь, в минуты единения с Природой.
Порой, выйдя из непроходимой чащи на просторную поляну в траве и цветах, он бывал сражен совершенством увиденного. Безмолвный мир представал стройным, живым, логичным, источающим наивысшую Мудрость и неистощимую Любовь.
Строгие взгляды соседей – всевидящее око, коллективный труд, связанный с насущными заботами о земле – тяжелый и изнуряющий, жизненно необходимый каждому деревенскому жителю, скупость взрослых в проявлении теплых чувств не только к себе, но и к посторонним, отчего редкие одобрение или похвала были сродни бесценному дару, прогоняли мальчика в лес, на речку, в поле. Природа дарила ласку и тепло, кормила и защищала, несла красоту и отдохновение, возносила к свету.
Часами, без устали, в полном одиночестве, Дроня смотрел вслед уплывающей речке, которая струясь, переливаясь, играя, неутомимо несла мимо него покорные воды. Солнечным днем в них сверкало небо без дна, а вечером, остывая, медленно таяло солнце.
Прислушиваясь к дыханию леса, всматриваясь в далекий, манящий, призрачный горизонт, едва приоткрывающий глубину мироздания, Дроня чувствовал рядом с собой Того, Кто создал и его, и все прекрасное в мире, – и любовь, и страдание, и саму Жизнь.
Раскинув руки по сторонам, Дроня лежал на траве лицом к небу. Мечтая, высоко парил над землей вместе с облаками. Ликуя, был готов умереть от красоты и от любви ко всему сущему.
Природа и была для Дрони истинным Храмом. Она зародила в нем смутное и доверчивое, не требующее объяснений, чувство трепета и преклонения перед Существом, растворенном в Природе, стоящим за ней и в нее воплощенном.
Он осенял себя крестом, когда бушевала гроза. Издалека увидев блеск купола храма, рука тянулась ко лбу. Человек у алтаря – служитель веры, вызывал в нем безусловное, непоколебимое, глубинное доверие.
Жертва
ЖЕРТВА
Простившись с женщиной, священник подошел к Дрону, который в нерешительности стоял у порога.
Отец Владимир был невысок, худощав. Лицо с впалыми щеками, густо заросшее темной бородой, выглядело усталым. Лучились глаза – Дрон ощутил внимательный взгляд, обращенный на себя.
– Благословите, батюшка, – сказал Дрон, в покорности склонив голову.
Святой отец осенил его крестом и спросил, пристально глядя в лицо:
– Вижу, большие сомнения гложут тебя, раб божий, не дают покоя. Не можешь найти ответа? Спроси в меня.
– Кабы знать… – Дрон глубоко вздохнул, приглушая волнение. – Одолевают мучения, отец Владимир, а высказать тяжесть непросто.
– Господь посылает духовные муки, чтобы воспитать нас, гордецов. Говори без утайки, в чем сомневаешься.
– Решаю судьбу изменить. Хочу домой вернуться, где прежде жил, где мои корни.
– А далеко ли твой дом?
– Жил в Сибири. Тянет назад, мочи нет.
– И что ж держит тебя так далеко от родины? Не велит шаг решительный сделать?
– Женщина. Пропадет без меня горемыка.
– А что же с тобой не поедет любимая?
– Несвободна она, с мужем живет.
– Так ты любишь в грехе? – Сверкнув глазом, рыкнул священник, и его грозный окрик черной птицей улетел в купол храма.
Дрон вздрогнул.
– Прелюбодействуешь?
– Пьет мужик ее, руки распускает. Не ровен час, зашибет беззащитную, – принялся объясняться Дрон, оправдываясь.
Он почувствовал жар негодования – возмущались не только батюшка, но и Христос, Богородица, святой Николай и другие светлые праведные, с немым испепеляющим укором глядящие с древних икон, рядом, повсюду.
– Пропадет без меня, – повторил.
– Не решай задачу за Господа. Это с тобой баба сгинет! Ты ее в чертовской омут тянешь. Не бери чужое, не зазнавайся! Своей дорогой шагай.
– Зверь мужик-то ее, батюшка, лютый зверь! Видит Бог, не хочу судьбу ей ломать. И в мыслях не допускаю плохого, всем сердцем не желаю грешить. Не нахожу покоя… Мечтаю по-людски, по-хорошему жить. Замуж зову, только она о том и слышать не хочет. Уеду я, своей дорогой пойду, а что с ней станется?
– Не думай за Господа, – повторил священник спокойнее. – Неси ношу по силе. Бог разумнее нас с тобой, без нашего участия жизнь устроит.
– Разве же честно? Справедливо?! – воскликнул Дрон. – Не могу я оставить любу свою, бросить на растерзание пьяному зверю. Не живет она с ним, только мается! Молодая, мало доброго в жизни видела. Белый свет ей не мил. Живет, как зверушка пугливая, на шорох озирается. И сынишка малолетний страдает.
– О себе печешься, мил человек, не о ней, – помолчав, молвил священник. – Оставь, коли любишь. Пожертвуй чувством благим, нежным ради своей Любви, – хвала и почет тебе будут.
– Любовью жертвовать? Ради любви? – отчаянно воскликнул Дрон, не желая понимать и соглашаться с услышанным.
Больше всего на свете он хотел бы довериться опыту священника, отдаться безотчетному течению веры, присутствие которой ощущал в себе сызмальства, так необходимыми ему сейчас, в час выбора жизненного пути. Он с готовностью подчинился бы совету наставника, принимая единственно верное решение, но совет духовного лица вступал в противоречие с тем, что он знал и чувствовал.
– Не жалей себя! Кайся! Благодари за боль и за наказание, как за науку. Бог рассудит всех нас, коли время придет. Разумный человек лютых мук у Создателя просит, чтобы истязаниями очистить нечестивую душу от скверны. При жизни страдая, предстать перед Ним в светлом образе.
Мук ли просит человек, подумал Дрон, внутренне содрогаясь, сопротивляясь услышанному.
Разве, придя в храм, человек просит страданий?
Кто-то умоляет избавить от немощи, кто-то – наделить умом, богатством, радостью. Наставить на путь верный, истинный. Отвести беду.
И хотя он не был согласен с наставлением, внутренне протестовал, но ни мимолетным движением бровей, ни взглядом, ни вопросом не выразил сомнения. Язык не служил ему. Слишком высок был авторитет человека, стоящего у алтаря, наделенного властью Всевышнего.
Каждое слово, изрекаемое им, гулко звучащее в тишине храма, было непререкаемым, весомым, благословленным и стократно умноженным немым одобрением ликов святых отцов – скорбящих, тоскующих, с укором взирающих на Дрона с икон.
Святые праведники, духовно стоящие неизмеримо выше него, обладали безраздельной властью учить, вести за собой. По-младенчески простодушно Дрону хотелось довериться их священному опыту. Следуя неистощимой мудрости, не задумываться ни о чем. Жить, объясняя каждый свой шаг желанием и любовью Всевышнего.
– Ни в тайге, ни в пустыне от себя не спрячешься. Дальше храма не убежишь. Уезжай с миром, мил человек, не тяни время. К Богу придет люба твоя, за себя и за твою бессмертную душу помолится. Возвратятся к ней в сердце мир, в дом – любовь. Жена она мужику своему перед Господом, перед всем честным народом. А ты кто в ее жизни? Случайный попутчик, перекати-поле…
«Следуй за Мной!», – говорил Господь, проливая на Дрона теплый лучезарный поток. «Откинь сомнения! Следуй за Мной!», – слышалось отовсюду.
Мудрецы, Праведники, Божьи люди снимали с сердца камень, отводили сомнения. Взваливая его тяжелую ношу на себя, требовали принять единственно верное решение: жертвовать, просить прощения и каяться.
Другое небо
Окно в спальне плотно скрывали шторы. Утром, впуская в комнату свет, взгляд Василия Ивановича летел сквозь стекло к серой стене соседнего дома, к детской площадке со сломанными качелями, возле которой сиротливо притулилась березка, и дальше: к киоску с журналами и газетами, на автостоянку.
Подолгу он стоял у окна в оцепенении, опершись о край подоконника, пытаясь схватить глазом точку невидимого горизонта, скрытого нагромождением труб и зданий.
По обыкновению, старик рано вставал. Еще до рассвета был одет. Но сегодня Василий Иванович долго лежал в постели, не желая подавать признаков жизни.
Солнце било в стекло и, не таясь скользило по потолку и стенам, лизало паркет.
Кровать находилась у окна, и чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, которые завладели стариком с вечера, он принялся разглядывать парящие над головой облака.
Небо сияло, летело, дышало над ним, и этим утром оно его изумило. Казалось, протяни руку, и схватишь пух снежных гор, зачерпнешь лазури.
– Да-а, – Без устали повторял он, удивляясь увиденному, – тому, чего не замечал прежде.
Нынче он чувствовал себя совершенно дряхлым человеком, ни на что не годным, смотрящим смерти в лицо, а оттого его думы были печальными. Все, о чем бы ни принимался он размышлять, возвращало его во вчерашний день, к озлобленным и неприятным людям с кладбища, с которыми, сам того не желая, он вступил в мучительный диалог.
Неприбранные, золотые охапки воздушных масс ветер гнал из-за города, с тех далеких мест, где небо навеки разлучилось с землей и где старику чудилась жизнь покойная, полная величия, равнодушно скользящая над суетным миром. Оттуда, из торжества беспредельной дали, надвигалась тоска, хватала за горло.
Неприятные картины пережитого дня преследовали старика помимо воли. Что за прихоть думать о кривом Шурике, сердился он на себя, мотая головой, отгоняя видения, о ненужном ему странном Савелии с мутной ухмылкой на лице, о нелюдимом стороже? Между ним и персонажами с кладбища был не просто конфликт поколений, – стояла глухая стена, сквозь которую ни человека заметить, ни голоса подать. По природе своей эти люди были ему чужими, похожими на неприятелей. А долг его, как любого офицера – Родину защищать.
От необходимости спорить, наставлять и даже воевать с людьми слабыми, безвольными, надломленными старика мутило.
Место, из которого плыли облака, хранило непостижимую тайну, и этим утром она обрушилась на старика со всей беспощадностью.
Он шел по жизни, чеканя шаг. Внимательно глядел под ноги лишь для того, чтобы не оступиться. Поднимал голову вверх лишь в практических целях. Посмотреть, не затянут ли город тучами, ждать ли дождя.
Другой небосвод, увиденный им этим утром, случайно обнаруженный на исходе жизни, безмолвно струился над ним, покорно неся живительные потоки, которыми хотелось умыться, и быть может, прозреть.
– Да-а, да… – говорил он растерянно, теребя одеяло, протягивая скрюченную руку к окну. Как слепец, ощупывая перед собой пустоту. – Д-ааа…
Хотелось плакать. Душила обида. Старик смотрел на свои ладони – прежде крепкие, спорые, а нынче живущие с ним в разладе, пытался потянуть на себя одеяло, чтобы укрыть холодные ноги, не чувствуя их.
Он понимал, что нечто важное безвозвратно ускользнуло прочь. Да-аа-а.., всхлипывал он.
В пустой болтовне работников кладбища, так опечалившей старика, скрывалась горькая правда, и признание в том изводило его.
Он слышал голоса пустобрехов, которые насмехались над всей его жизнью, видел их злобные лица, и то малое, чем он по-настоящему дорожил, предстало в свете нового дня жалкой подделкой, обманом.
Мир огромен и пуст, кровоточило сердце. Связи порваны, молитвы забыты, души потеряны. Есть ли люди вокруг, нет ли… Друзья ли они ему? Враги?
– Да-а, да-аа… – Только и мог промычать он.
Говорили эти философы с кладбища не бог весть какие мудреные вещи – что особенно могло удивить? Разве не знал Василий Иванович, что идеалы юности преданы, люди унижены и разобщены. Рыскают по полям злые волки, рвут добычу, топчут поля, нагоняют страх.
Горше всего было осознавать, что его неприятель – не заморский гость, на которого можно с лихвой списать беды, а человек до боли родной, похожий на тебя – земляк или однополчанин, к примеру, с которым прежде приходилось мерзнуть в окопах, из одного котелка есть кашу, стоять в дозоре.
Бороться с забулдыгами, людьми жалкими, странными, опустившимися, потерявшими человеческое достоинство, которые всем своим видом являли безоговорочную капитуляцию, – одним словом, с несчастными, было нелепо, а оттого еще горше.
Сталкиваясь, противореча одна другой, мысли разбегались. В голове у офицера царили хаос и неразбериха.
И вдруг он принялся жалеть работяг, хотя обошлись они с ним не особо приветливо. Живут мужики сиротами на земле-мачехе, всхлипнул он, скитаются по белу свету, ни в одно место корнями глубоко не прорастая. Укрываются от непогоды, уворачиваются от пинков. Каждый, кто поувереннее держится на земле, понукает ими, отвешивая затрещины и оплеухи. Немудрено, что и корни отсохли, и родовая память спит…
– Ни памяти, ни веры, – хрипел старик, утирая со лба испарину.
Вспомнилось, как много лет назад он солдатом служил на границе, и до самого горизонта, куда только хватало глаз, перед ним простиралась необъятная даль пустой, выжженной земли, на которой и взгляду не за что зацепиться.
Иногда откуда-то из-за гор прилетал ветер, поднимая песок, опаляя лица солдат невыносимым жаром, и на военный гарнизон надвигалась степная трава перекати поле. Рассыпая семена по дороге, наступали на город шары с отсохшими корнями, – до тех пор, пока какое-нибудь препятствие не вставало поперек пути. Гонял ветер траву по белу свету, по полям, по дорогам, относил на сотни километров от места рождения, и нигде она не находила пристанища.
– Чума, чума, – стонал старик, лежа на боку, держа руку под сердцем, которое заходилось от воспоминаний. – Чума, зараза…
Время упущено, сокрушался он. Выросло не одно поколение людей заболевших, перекореженных, не приросших корнями к родной земле, похожих на степную траву перекати-поле, с горечью думал.
Стало трудно дышать. Точно от кровопотери, силы покидали старика, заполняя жилы страхом отчаяния. И землю отнять можно, и богатство, и даже саму жизнь, плакал он, но если лишить человека веры, памяти, то вместо любви кровь наполнят смрад и яд. И всему живому на свете наступит конец.
Спустя минуту думы старика двинулись в ином направлении. С тем же неиссякаемым жаром он принялся жалеть своего успешного, крепко стоящего на ногах сына, хотя сравнивать Сашкa с вчерашними мужиками диковатого вида можно было лишь в том состоянии душевного отчаяния, в котором Василий Иванович пребывал этим утром. И опять что-то не складывалось у пенсионера в голове, не находил он покоя.
Живет сын в собственном доме, рассуждал отец, и безгранично далека черта, которая отделяла его от работников кладбища. Но разве эта удача делает сына счастливее? Трудится Сашок день и ночь, приумножая капиталы, не имея возможности ни остановиться в забеге, ни с дистанции сойти.
Достаток ли создает в душе благодать, думал старик, не находя ответа.
– Чайку попьешь? – спросил отец Сашка, когда однажды поздно вечером тот зашел в гости навестить родителя.
Сын нервно дернул головой, вжимая голову в плечи. Что означал странный жест: отказ? Согласие?
Василий Иванович вздохнул и направился на кухню вскипятить чайник. Разлил кипяток по чашкам. По воздуху поплыл аромат земляники.
– Мать ягоды сушила? – Сашокпридвинул чашку поближе и, склонив голову, втянул в себя горячий пар.
– Она, горемычная… – Судорога исказилаВасилию Ивановичу лицо. – Больше некому.
– Видно, жарким летом урожай собирала. Щедро ягоды солнцем пекло,– отхлебнув, сын зажмурился от удовольствия. – Вкусно. Как в детстве.
– Хмурый ты что-то сегодня. Много дел?
–Работы мало не бывает.
– Отдохнуть бы тебе… – Отец с затаенной нежностьюсмотрел на сына, робко лаская теплым взглядом из-под нависающих бровей. Не решался при сыне обнаружить в себе сентиментальность: как бы, изъян.
– Подрядчики торопят, не до отдыха.
– На рыбалку съездилбы, отвлекся…
Сын промолчал.
– Машенька приходила, – сказал отец.
Сашок резковскинул голову. Но тут же поспешил спрятать глаза.
– И как Маша поживает? – спросил деланно равнодушно, зевая, отворачиваясь от отца.
– Улыбалась, – Василий Иванович украдкой наблюдал за сыном.
– А приходила зачем?
– Навестить старика.Окна помыла, чистые шторы мне повесила. Сам не могу. Рук не чую, будто чужие … А в окно мне, старику, поглазеть все ж таки охота. На нарядную улицу, вечером – в огнях. Чем не спектакль?
– Чистота –это хорошо. Гигиена… – Сын вздохнул.
–Вечерами у окна, как в партере, сижу, приход весны наблюдаю. Апрежде мрак стоял.Люди домой торопятся к ужину, дети на качелях, машины сверкают, гудят… Скорочеремуха во дворе зацветет – тоже увижу.
– Тепла еще ждать и ждать – весна не больно спешит.А для меня что Маша припасла? Приветом отделалась?
– На кой ты ей нужен?! – повысил голос отец.
– Как это? – шутливо возмутился Сашок. – К тебе приходила, амне -ни словечка?
– Ты пей чай, пей. Ишь, возбудился… К чемузнать-то? Со мной, стариком, побыла, о том – о сем толковали… Душевная женщина, светлая.
– Любит меня?
– Любила! – прикрикнул Василий Иванович. – А ты, дурная башка, проворонил девку, – сказалсердито и вдруг усмехнулся словам, которыеневольно усвоил от работяг с кладбища.– Одним словом, дурная ты башка, сын!
– Что было, то прошло, батя.Я ни о чем не жалею.
– А чего печалиться? Радуйся! Кто не велит? Смотрю на тебя во все глаза и не выходит же… радоваться! Не больно ты светишься!
– Не береди душу, батя! Сын растет у меня. Нет большей радости на свете.
Старик удрученно кивнул, соглашаясь.
– Что не так? У Маши все в порядке?
– Живет счастливо, говорила. Да чую, скрывает что-то. Смотрела странно…
– Как смотрела? – взволновался Сашок. – Что не так?
– Точнозаплакать хотела…
– Это, батя от воспоминаний, – Вздохнул сын.
– А твоя-то, твоя… – Со злостью вдруг сказал отец, – Не переломится в сострадании. Ни супа старику сварить, ни в квартире прибраться. Одни пустые разговоры. Себя любит.
– Ты это брось, батя. Зови уборщицу, я заплачу.
– Ни к чему эта суета, – Василий Иванович сердито запыхтел, уткнувшись в чашку. Кабы в супе дело…
– Как живешь-то? Денег надо? – спросил Сашок, оглядываясь по сторонам, разглядывая тесную кухню холостяка, не наделенного крепким здоровьем.– Чистенько у тебя…
– К матери бы наведался, – ответил Василий Иванович, не желая вызывать в сыне жалость. – Скучает матушка о тебе.
– С тобой не соскучишься, – Сашок засмеялся. – Ты ей покоя не дашь. День и ночь визитами донимаешь.
– А как же без общения? – воскликнул старик. – Весна надвигается,фундамент у памятника, гляди,поплывет. И ограду надобно освежить, подкрасить.
– Не ходи к матери, женихов не спугивай.
Василий Иванович вздрогнул. Сын с улыбкой смотрел на отца.
– Все шуткуешь, – проворчал Василий Иванович.
– Не мешай. Замуж мать на том свете выйдет,а ты ей помехи чинишь. – Сын зевнул. – Устал я что-то, батя. Домой пойду. Завтра дел не переделать.
– Тяжело тебе, вижу, – С грустью сказал отец и поднялся вслед за сыном. – Спешишь, всенекогда…
– Нормально мне, батя. Кто иначе живет?
– Все крутятся, – согласилсяВасилий Иванович.
– Машенька красивая, говоришь? – Сашок задержался на пороге.
– Светлая. Улыбалась…
У окна замедляя движение, облака разбегались в стороны и, уже невидимые старику, плыли дальше. Им на смену, вовлекаемые в плавное течение, приближались новые снежные шапки.
Василий Иванович жалел в данный час о том, что нет этим утром рядом с ним сына – как хотелось бы разделить с Сашком изумление от увиденного. Дурак, дурак, горячо зашептал он, сколько лет живу, по улицам хожу, голову вверх задираю. А небо-то, небо… Точно не видел такого, столь многозначительного, прежде.
И сын так же, подумал с грустью, могуч, плечист. Крепко на земле стоит, и все больше себе под ноги смотрит. Голову вверх не вскинет, не полюбуется тем, что вверху сияет. Редкий человек имеет возможность о том размышлять.
Внезапно старик вспомнил, как в редкие, свободные от офицерской службы деньки он провожал сынишку на занятия в музыкальную школу.
Затаив дыхание, слушал мелодию, поджидая Сашка в коридоре, которая рождалась от робких движений маленьких пальчиков по клавишам и летела к нему, ласкала ухо. Он помнил свою тихую, блаженную улыбку на губах, и не было в тот час счастливее человека.
Учителя сына хвалили: хорошо интонировал, ритм чувствовал, способен на экспромт. Будет стараться, говорили, в музыканты сгодится. Музыка влекла сынишку. Родителям приходилось даже следить, как бы мальчонка и остальные уроки не забыл выучить, и футбольный мяч во дворе погонял.
Сашок музыкантом не стал – подался в строители. Отец выбор сына одобрил: и крепкая профессия, и творческая. С фантазией, прикинул, и в архитектуре городских улиц без труда обнаружишь симфонию.
Внезапно старика захлестнула неудержимая жалость к сыну, на которого он порой сердился, упрекая в бесчувствии, не упуская подходящего случая покритиковать всласть, но которого всем сердцем, тайно и нежно любил.
Прорываясь из глаз горячими слезами, жгучий поток вселенской любви разрывал больное стариковское сердце.
Давно стала мокрой подушка, а влага все текла и текла по глубоким морщинам, точно по рекам, со щек на грудь. И страдал он теперь, не жалея больного сердца, не о чужих и неприятных мужиках с кладбища – сирых, злых и убогих, а о своем Сашке. Хотя и землекопам он тоже, как мог, глубоко сочувствовал.
Печалился Василий Иванович о своем белолобом сыне – не только потому, что человеку не обремененному, с пустыми карманами, легче жить, и нет на свете людей свободнее землекопов. Оттого жалел он больше других Сашка, что сын он ему, родная кровинушка.
Что есть проще? Что понятней?
Причудливо соединяясь, мысли старика являли странный хоровод, сопровождающий скольжение облаков в небе.
– Да-а, да-а… – всхлипывал и скулил он, – да-а…
И деловитый бригадир кладбища, и сын его – раб-строитель, не знающий покоя, и даже священник, который в угоду золотому тельцу лицемерил, оскверняя душу, кооперируясь с бизнесменами, – все встали этим утром перед стариком строем. Шли в затылок вместе с нищими, убогими, спотыкающимися, хилыми духом.
Солнце струилось сквозь облака, лизало пух, и от восхитительной красоты, которая разрывала грудь, старику хотелось умирать и возрождаться.
– Да-а, да-аа… – только и повторял он, не в силах оторвать взгляд от картины за окном.
От раздумий о самом себе и о конкретных людях мысли, подхваченные воздушным потоком, понесли его совсем в другом направлении, совсем далеко – к переменчивому, стремительно ускользающему горизонту. И спустя мгновение старик с упоением принялся рассуждать о счастье, добре и справедливости, так недостающих каждому.
Неотрывно всматриваясь в небесную синь, он ждал чуда прозрения. Бессильный соединить воедино чудовищно противоречащие картины, стонал и задыхался. Боль любви ко всему живому переполняла стариковское сердце, но утешение не приходило.
Плыли облака – стремительные и легковесные, манила глубина – ликующе-звенящая. Безбрежный океан небес хранил безответную тайну – невыносимую, непостижимую…
Дыхание ночи
– Ау!!! Ау, Аннушка! Выходи! – кричал Дроня, озираясь по сторонам.
Его отчаянный зов устремился к верхушкамсосен,которые высоко стояли за спиной, вспугнул присевшую на ветке сороку. Недовольно вскрикнув, птица с шумом взлетела.
Мальчик злился на Аннушку, которая, махнув ему рукой, убежала в заросли можжевельника, и уже битый час он тщетно кружилмежду деревьев в надежде отыскать подружку.
День догорал.
По тропинке, сплошь усеянной черникой, ребята шли домой с озера. Выйдя из темной чащи на пригорок, залитый солнцем, девочка позвала Дроню поиграть в прятки.
– Дежурь! Не подсматривай! – крикнула она ему, указав на толстую ель, и пока Дроня закрыв глаза стоял удерева, честно отсчитывая до десяти, стремглав скрылась из виду.
– Где ты, Аннушка?!
Мальчикне заметил, как вголос прорвались слезы. Он терпел. Как мог долго,давил в себе страх, который охватывал его с каждой минутой все сильнее.
Пробираясь сквозь ветвидубов-великанов, солнце бросаломедный отблеск на лес.Длинные тени затопили поляну.
Стараясь не поддаваться отчаянию, Дроня принялся корить себя.Всегда-тоон,как телок привязанный,идет у подружки на поводу, думал.
Озорнаясмешливая Аннушка была мастерицей придумывать развлечения.
То принималась затейница с птицами разговаривать, и Дроню приглашалапоиграть. Чирикала, точно синичка, смущая залетных птиц.Или, притворившись дятлом, наказывала ему стучать палкой, в такт своей щебетне издавать резкий, ритмичный звук. А Дроня рад радехонек, не возражал девочке.
Заливались трелью, сидя на крыльце, вторя лесной песне, а так ли на самом делептицы поют, дажеПетру Ивановичу – бывалому охотнику,невдомек было. Плел корзину лесник в сторонке, помалкивал. Слушая детскийптичий концерт,в бороду посмеивался.
Однажды захотела Аннушкапостроить для Тимки новое жилище. Думая о том,чтонастанут времена, когда холостяк бельчонок обзаведетсясемьей, дети дружно собирали по округе мох и веточки. Появится у зверьков потомство, рассуждали, и им найдется интересное занятие: дрессировать малышей. Увлекшись затеей, Дроняпилил и строгалдощечки – старался угодитьТимке.
Часто ребята ходилинапристань посмотреть набольшой пароход с мачтами, мечтая о времени, когда повзрослеют и отправятся в путешествие.
На обратном пути Аннушка непременно тянула Дроню на кладбище. Не по душе мальчику был этот маршрут, но онбезропотно плелся за подружкой, не желая подавать виду, чтоне по душе ему эта прогулка. И что застрасть к могилам ходить, молча возмущался. Боялся, дрожалкак осиновый лист, нотерпел, тренировал волю.
Вот и сейчас, подумал мальчик, притаилась стрекоза где-нибудь за кочкой и смотрит, как он точно раненый зверьмечется по поляне, не понимая, в какую сторону бежать на поиски. Рот зажала рукой, чтобы смехом себя не выдать, наблюдает за приятелем из-за дерева.
ЩекиДрони залил румянец. Он кинулся было к осинкам, закоторыми скрылась девочка, но внезапно остановился. Принялся вспоминать,в ту ли сторонуубежала подружка? Прикинул, чтои у поваленного дуба на пригорке в цветных сарафанах осинки сошлись, словно на прогулку. Приобнялись, листочками еле слышно шепчутся.Замерли, прислушиваясь к шорохам чащи…
И тут Дроня увидел, чтомежду деревьями мелькнулаяркая косынка девочки. Облегченно вздохнув, он бросился следом за видением, смеясь над собой и своим недавними страхом.
Мальчик не помнил, как долго он бежал за подружкой. Казалось, что ее звонкий голосок он слышит где-то поблизости. Увлекая Дроню за собой, девочка смеялась – то тихо, то в полный голос. И ее чистыйсмех-перелив Дроня не мог перепутать с другим колокольчиком.
Следуя за Аннушкой,мальчиквсе дальше углублялся в чащу.
Когда тропинка, по которой он мчался, вдруг исчезла, авместо теплых, солнечных и миролюбивых сосен, осин и березок перед ним вырос непроходимый частоколелок – мрачных,колючих,отродясь не видавших света, Дроняпонял, что следовал не в том направлении, заблудился.В лицопахнуло прелым запахом топи.
Страх пополз по груди.
Гоня мысль о том, что впередижгучая ночь,непроходимая тайга и неизвестность, Дроня возбужденно принялся продираться сквозьколючие, острые, спутанные веткипапоротника и можжевельника, не понимая верной дороги.
– И как ты из леса-то выбрался, бедолага? – все сильнее пугаясь и крепче прижимаясь к Дрону, тихо спросила Люська.
Они повстречались на перепутье улиц-дорог, неподалеку от храма. Слившись с сумерками, с темно-серым, будто полинявшим после захода солнца небосводом, который всего пару часов назад был ярким полным жизни, Люська шла навстречу ему из города. Дрон с трудом разглядел в темноте женскую фигуру.
Пройдя через ворота, она на секунду замедлила шаг и внезапно как бы подросла, приосанилась. Казалось, тяжелый груз, который она несла на плечах из мирской жизни, остался за спиной. Походка приобрела плавность и сдержанность.
Перемена в людях при входе на кладбище всегда удивляла Дрона. Так же неприметно, как сходит краска с венков, с лиц пришедших в миг исчезали тревога и суета. Молодой ли человек, старый ли, – все вдруг становились одинаково беззащитными перед Тишиной обнаженной Тайны. Бесстрастная реальность без прикрас, вставшая перед взором, оглушала каждого, кто переходил границу, черту. Не заметить перемен было невозможно.
– Страшно было в лесу? – спросила Люська, тревожно вглядываясь в лицо Дрону. Он чувствовал у своей груди дрожь ее горячего тела.
– Страх подкрался незаметно, окутал туманом, – ответил. – Он и таил главную опасность. Не ночь, не бурелом, поваленные деревья, гниль или топь под ногами.
– Испугавшись, человек может лишиться сил, а бессильный – сгинуть, – переводя дыхание, согласилась Люська.
– Я этого боялся! Отчаяние, словно удар в голову, затмевало рассудок. Мне хотелось сесть на землю и расплакаться. Я был беспомощен перед лицом зловещей природы, не имея возможности ей противостоять. Чтобы выжить в лесу, нужно было собрать волю в кулак.
– Ты продолжал идти?
– Я знал, что страх поглотит, если я только подумаю остановиться. И потому шел, превозмогая усталость, уже не думая ни о правильном направлении, ни о приметах, которыми пользуется охотник, который сбился с пути.
– Главное – пробираться вперед…
Дрон кивнул:
– Да! Мой мозг как-то определял верное направление. Я ждал, когда усталость мышц победит растерянность. Вот он лес, думал я, но не тот, дружелюбный, дающий покой и умиротворение, знакомый мне с детства, а дикий, беспощадный. Он надвигался на меня мраком и холодом. Кем я, – маленький перепуганный мальчишка был для Великана?
– Щепкой, тростинкой… – протянула Люська.
– Все вокруг напоминало первые дни сотворения мира. Природа обернулась ко мне суровым взором. Ступая с величайшей осторожностью, я все время смотрел себе под ноги, не видя тверди. Шел вперед, испытывая холодный, липкий, животный страх. Запутавшись в колючих ветках, споткнувшись о кочку, падал ниц. Природа была равнодушна к моим страданиям.
– Бедный мой, Дронюшка…
– Мне хотелось хоть как-то себя успокоить. «Эй, лес! – кричал я верхушкам елей, которые едва различал в темноте, – Ты велик и в твоей власти загубить мою маленькую, ничтожную жизнь, пустую и бесполезную для тебя. Но зачем тебе эта жертва? Разве кто-то посмеет усомниться в твоем величии?
– Ты разговаривал с лесом? Он услышал? – Глаза Люськи восхищенно вспыхнули в темноте.
– Это были самые простые слова, которые вырвались из моей груди вместе со слезами. Сказаны они были с горечью и надрывно, и вовсе не так красиво, как звучат сейчас, – улыбнулся Дрон и прикоснулся горячими губами к прохладной щеке любимой.
– Но это были самые искренние слова, – прошептала она.
– Да, – ответил Дрон, – и я знал цену каждому из них. Милая, милая моя, – вдруг простонал он.
– Это была молитва! – не дав продолжить ему говорить, догадалась Люська, пугаясь еще сильнее : тому ли, что пережил маленький Дроня в чаще много лет назад, или тому, в чем он хотел ей сейчас признаться.
– Наступило прозрение, – сказад Дрон. – Я отчетливо осознал несоразмерность жизни каждого существа перед лицом первозданной природы. Наверное, так и приходит к человеку вера – в минуты смертельной опасности.
– Каждый верит, что кто-то более сильный обязательно защитит.
– Я плакал и что-то в лихорадке говорил в свое оправдание, обращаясь к ветру, лесу, небесам, и вдруг почувствовал, что в тайге не один.
– Тебя услышали?
– Было Нечто, стоящее за спиной, и Оно не страшило. Растаял туман в голове, и разум ко мне вернулся. Я прозрел.
– Бог? Это был Бог? – воскликнула Люська. – Ты встретился с Богом?
– В ту страшную ночь я впервые ощутил Его Живое Присутствие. Он откликнулся на мой отчаянный вопль о помощи, на призыв отвести беду. В тот миг я поверил – безоговорочно и навсегда.
Широко раскрыв глаза, едва сдерживая восторг, женщина потянулась к Дрону, как росток к солнцу.
– НЕКТО с лаской обнимал меня за плечи. Это было легкое, осязаемое, живое тепло, в котором я желал раствориться. Я не видел Его, не знал Его обличия, но это было так же реально, как и то, что я сейчас стою рядом с тобой и держу в своей руке твою ладошку, – Дрон тихонько сжал Люськины теплые пальцы. Некто Большой незримо касался меня, защищая. Я это чувствовал.
– И ты нашел дорогу домой?
– Я успокоился. Прошел в бреду заросли и вдруг увидел перед собой пни и поваленные деревья. Это была вырубка, а значит, где-то рядом, решил, есть люди. Радость, что я не один в лесу, придала мне силы. По неприметной тропе, которую прежде не замечал, вышел на широкую дорогу.
– Ты не видел тропинку? Из-за лихорадки?
– Именно так спустя время я и пытался объяснить себе все, что со мной случилось. Думал о том, что животный страх ослепил, и он был причиной моих злоключений. И любой, окажись на моем месте, искал бы оправданий. Но память говорила мне, что дело в другом.
– В вере?
– Вера вспыхнула во мне, как спичка, – без условий, без договора, не в ответ на нравоучения, и не в обмен на привилегия. Не из-за принуждения. Это был мой опыт.
– Ты потянулся к Великому?
– Изо всех тщедушных сил маленького человечка! – воскликнул Дрон. – «Господи, где же ты есть? Помоги мне!», – озираясь по сторонам, спрашивал я небо и лес, тишину.
Я поверил, что Создатель не допустит моей погибели и откинул от себя всякую мысль о том, что умру в лесу от жажды и голода или оступлюсь в темноте о камни, а хищные звери растерзают меня.
– А как же Аннушка? – вдруг спросила Люська. – Она-то поняла, что ты заблудился?
– Аннушка перепугалась насмерть и подняла страшный шум. На мои поиски вышли охотники с ружьями. В общем, было дело… – засмеялся Дрон.
Он вспомнил свое возвращение в сторожку. У озера, в котором ребята рыбачили в свете дня, Дроне повстречались деревенские жители. Девочка, увидев мальчика, с криком бросилась навстречу и повисла у Дрони на шее, тычась в щеку зареванным лицом. И до самого дома не отпускала от себя, боясь потерять снова.
Несмотря на холод и усталость, Дроня улыбался радости подружки и ее горячим слезам, напрочь забыв о прежних обидах.
И теперь, спустя столько лет, Дрон все еще помнил жаркое дыхание девочки на своей прохладной щеке.
– Вот проказница! Ей забавы, а ведь ты и погибнуть мог, – глухо проворчала Люська. – О чем только думала твоя Аннушка?
– Смешливая она, веселая. Не из вредности спряталась от меня, без дурного умысла.
– Покричала бы тебе…
– Когда поняла, что я заблудился, места себе не находила.
Вспоминая детскую историю, Дрон улыбался, не замечая ревности в голосе Люськи.
– Любил ты Аннушку? – спросила она, нервно дернув плечом.
Дрон замялся. Люська ждала признания.
– Как определить? – неуверенно сказал он. – Любил-не любил. Тепло на душе, радостно, когда вместе. Подружка, вроде сестренки мне…
– Что же, и не целовались? Ни разу? – вскинув голову, спросила Люська, и Дрон смущенно отвел взгляд.
Захотелось рассказать, как однажды в зарослях малинника он увидел девчушку, перемазанную ягодами, и ему вдруг нестерпимо захотелось расцеловать ее нежно-сладкую мордашку. Чтобы избежать искушения, он зажмурился. Смеясь, Аннушка проскользнула мимо него и сама чмокнула мальчика, оставив на щеке аромат вкусных ягод и легкий, безобидный малиновый след.
Дрон промолчал, боясь потревожить чувства женщины.
– Вспоминаешь свою подружку? – не дождавшись ответа, осторожно спросила Люська. – Скучаешь по ней?
А Дрон снова не знал, что сказать на это. Он не видел Аннушку много лет, но когда думал о семье, о таежной деревне, леснике Петре Ивановиче, то обязательно вспоминал и девочку. Память являла теплые летние дни и ветерок, настигающий сытным запахом поспевающих трав. И так не похоже было его чувство к Аннушке с тем, что он испытывал к Люське. Поди разберись, что есть любовь.
Аннушка волновала его, но как-то иначе. Воспоминания о ней были светлыми, легкими, греющими душу. Подобно солнцу, которое ласкает лицо, Аннушка была бесплотной, сотканной из ягод, воздуха и облаков.
А Люська была земной и осязаемой. Тоска по ее живому теплу отзывалась в Дроне жаром тела, острой болью, ознобом и лихорадкой. Он страдал по ее судороге, яростным стонам и дыханию, мягким безвольным рукам, которые обнимали его за плечи. Он исступленно ждал женщину ночью, желая владеть ею без остатка.
Чувствуя трепет и затаенную нежность, с которыми Дрон говорил о девочке, в Люське зарождалась ревность. Она страдала, но не давала глупой обиде в себе прорасти. Не смела проявить боль. Кто она ему? Ни сестра, ни подруга детства, думала с горечью. Чужая жена. Грешница.
– Вот и весна, – Судорожно вздохнув, сказала. Посмотрела вдаль, в слепящую темноту. – Пришла, Дронюшка, еще одна весна нашей жизни…
И Дрон понял, что сейчас, именно сейчас, ему и следует сказать Люське о том, что его так мучает. Настал тот самый подходящий момент. И давно уже стоило завести этот важный разговор, а он, бог знает почему, вдруг принялся вспоминать, как однажды заблудился в лесу, и что испытал при этом.
– Ждет тебя Аннушка в родимых краях. Наверное, все глаза проглядела, – Неожиданно сказала Люська.
– Вряд ли, – слабо возразил Дрон. – Столько лет прошло с той поры, как я в армию отбыл. Много воды утекло.
– А рассказываешь так, будто только вчера это с тобой приключилось.
– Детство… Кто не помнит о нем? В детстве и небо выше, и солнце ярче, и трава зеленей.
– Тянет домой? – Не решаясь взглянуть на Дрона, спросила Люська. – Нисколечко?
– Бывает, зовет кто-то.
– Кто знакомый?
– Не человек и даже не могила, а будто земля шепчет. Накатит волной печаль, жилы рвет. Проснусь ночью, руками вокруг себя шарю. До боли в глазах гляжу в окно, взгляд по углам прыгает. Не сразу вспомню, кто я таков и откуда прибыл. Лежу в беспамятстве. Силюсь понять, как я в чужих краях за тысячу верст очутился? Что со мной приключилось? Хотя, если прикинуть, нынче в тайге и дома родителей нет: ни крыльца, ни завалинки – может, лишь печка. На беду, вся деревня сгорела. И березку во дворе, что когда-то с мамкой сажал, поди, съел пожар. Смотрю в потолок, в темноту, и молчу. Мычу – нету мочи…
– Надо ехать домой, Дронюшка…
Люська сказала главные слова, на которые он не решался, избавив Дрона от мучительных объяснений.
«Надо ехать домой»!
Они дались ей легко, без принуждения, и Дрон был очень благодарен за них, но радости не почувствовал.
Надо ехать домой, повторила Люська еще раз, и в порыве судороги они потянулись друг к другу. До хруста, добела сцепились руками, решаясь на разлуку и страшась грядущего расставания. На опаленных губах Дрон чувствовал жар Люськиной пульсирующей вены.
Оглушила тишина. Невыносимо жгучее, зияло небо.
Он страстно желал, чтобы Люська сказала – мол, и она поедет в тайгу. И заживут они вместе верно, тихо и преданно вдали от странного города, который когда-то приютил Дрона, так и не став родным, не страшась огласки и чужих беспощадных глаз.
Дрон горько вздохнул.
Много раз он звал Люську и хотел жить с ней привольно, не таясь, и любить открыто. Сердился, что всякий раз на его речи она неизменно качала головой, отметая от себя и мысль оставить постылого мужа.
– Не о себе пекусь, а о сыне, – говорила она, сильно возмущая Дрона.
– Не чужой мне сынок твой, коли не знаешь? – повторял Дрон, – Разве я мальчонку обижу? Меня самого лесник – посторонний человек – заместо отца воспитывал.
– Спасибо, что зовешь нас с собой. Нежишь и балуешь. И сыночек мой льнет к тебе. Только отец ему Петька. Любит он злодея и жалеет по-своему. Что же ему сиротой быть? При живом-то отце?
Дрон не спрашивал о том и сейчас. Знал Люськин привычный ответ: с мужем, алкоголиком Петькой, останется век вековать.
Сцепив руки, стояли они под черным сводом холодного неба, равнодушного к их счастью-беде. Слушали дыхание ночи, гул ветра, со стоном проносившимся над пустырем, до боли в глазах всматривались в родные лица, стараясь запомнить каждую черточку. И не было в этот час силы, способной растащить их по сторонам.
Плыла ночь, вдали сиял город. Жгла луна. Двое живых и любящих, так нужных друг другу, еще способных обрести счастье, стояли на перепутье дорог, в окружении могильных крестов. Придавленные, точно тяжелой плитой, жизненными обстоятельствами, запутанные странным лабиринтом условностей, из всех возможных исходов они выбрали путь жертвы – царственной, холодной, безжалостной.
Чем яростнее сияли звезды, тем крепче зрело решение: мучаясь и страдая, нести свой крест в одиночестве. Жить безрадостно, но честно, и предаваясь отчаянию, любить жертву в себе больше калеки-любви – вопреки желанию жить.
Они не сказали друг другу о том ни слова, не издали ни звука, но каждый понимал, что эта ночь – последняя, когда они вместе.
Покой безмятежности
Дрон издалека услышал чирканье тяжелых ботинок по льду. Некто невидимый надвигался из темноты. И внезапно как привидение, перед ними возник человек.
– Людей пугаешь? – чертыхнулся Дрон, узнав в незнакомце скандального старика, который от усталости едва стоял на ногах. – Почему домой не спешишь?
– Иду! А то не видишь? – буркнул Василий Иванович неприветливо.
– Ворота закрыты.
– Так открой! – приказал старик, останавливаяь. – Что за порядки ввели: чуть стемнеет, кладбище на засов?!
– Покойникам отдых нужен. И себя не бережешь, и жену визитами донимаешь.
– Не тебе судить! Открывай ворота!
– Подумал бы, дед, лучше о себе или о тех, кто жив. Успеешь к жене на свидание – все здесь будем, время придет.
Дрон полез в карман за ключами.
– Да разве живу я? – махнув рукой, еще сильнее склоняясь корпусом к земле, сказал Василий Иванович, внезапно потеряв силу голоса. – Хожу-брожу неприкаянный. Как есть, привидение…
От вновь внезапно нахлынувшей жалости к неугомонному старику Дрона пронзило острой болью.
– И ты, смотрю, за целый день не умаялся? Воздухом дышишь? А это кто же с тобой? – увидел Василий Иванович спутницу и шагнул к ним поближе.
Дрон почувствовал, как Люська съежилась под его плечом. Замерла, готовясь держать оборону.
– Подруга? Жена тебе? – спросил у Дрона, осматривая ее долгим, оценивающим взглядом.
Люська вскинула голову, ища в Дроне поддержку. Глубоко в глазах мелькнул страх.
– Пойдем, дед. Провожу тебя, – сказал Дрон.
– Нет, постой! – остановил его старик. – Уж не женой ли ты приходишься алкоголику, милая? – спросил он. – Это не о тебе ли мужики в перекур судачили? Мол, блудишь ты, со сторожем снюхалась?
Люська застыла в неестественной позе: то ли хотела спрятаться от колючего взгляда, то ли убежать прочь, в ночь, с глаз долой.
– Зло трендели о вас мужики. Склоняли да скалились. Вона какое дело, – задумался пенсионер, соображая.
Над кладбищем поднялась луна. Скорбь и тишину упокоенного города нарушал далекий, потусторонний звук электрички из города.
– Я так считаю, – сказал Василий Иванович, поразмыслив. – Нельзя вам по углам жаться – непорядок. Пора на белый свет выходить на подмостки. Любить нужно вольно, а жить открыто. Разом все насмешники умолкнут.
Слова пенсионера не удивили Дрона. Но в них он услышал лишь привычные нравоучения и совет следовать правилам. Он горько вздохнул.
К людям с одной мерой весов Дрон всегда относился с завистью.
И он хотел бы мир большой, не поддающийся охвату, втиснуть в заданную систему расчетов, чтобы легко отыскать верное решение. Но достанет ли на каждого всех заповедей, чтобы описать формулу жизни?
– Не думай, что я старик и из ума выжил, – будто прочитав мысли Дрона, сказал пенсионер. – Послушай меня! Поди далеко, на все четыре стороны, куда глазу глядеть хватит, – Старик вскинул руку. – Посмотри вокруг, на живых и на мертвых. Сколько людей было до нас! Каждый любил, страдал. Думал о своем. Прозревал… А сколько еще ребятишек народится после того, как уйдем? Где найти человека, кому ты один-единственный в этом мире важен? Любовь слаба и слепа, в темноте плохо видит. А потому беречь ее нужно.
Точно мягким пледом, их окутало тишиной.
– Любовь слаба, – С усилием повторил старик, блеснув в темноте глазами. – Только в ее нежности схоронилась великая сила. Жить и любить вам, молодым, коли время пришло! Взгляните на меня, старика – вот он я! Весь как есть, стою перед вами. Смотрите же! Хожу, брожу среди живого люда покойником. Мучаюсь, маюсь. Пугало ночное. Нет жизни без любви.
Старик беззвучно заплакал.
– Хлеб ем, дышу, пыхчу, ёрничаю, не в свои дела лезу, а мысль у меня лишь о том, как бы поскорее отправиться к жене на свидание. Уеду к любимой – навсегда, а не в гости, – сказал он, вытирая кулаком щеки, – и буду на своем месте.
– Дедунюшка, – прошептала Люська, – не плачь…
Острота обнаженных чувств обожгла Дрона. Проглотив ком в горле, он пребывал в растерянности, не зная, как ответить на признание. Хотелось утешить старика, но он не решался, боясь неловким словом или неумелый жестом обидеть сурового человека.
– Смерть и любовь всех примиряют… – сказал старик. – А любовь оправдает каждого.
– И грех? – Волнуясь, едва слышно спросила Люська. – Дедушка, а простит Господь грех любовный?
От слов женщины Василий Иванович рассердился не на шутку:
– Чего только не надумают глупые люди! Какие только слова Богу в уста не вложат, чтобы мудрость Всевышнего переиначить! С ног на голову истину переставить, – гневно воскликнул старик, сверкая глазами. – Не любовь, а блуд порицал Господь. Для того и страдал он, страшные муки терпел, чтобы с наших плеч снять жертвенный крест. Жить человек должен, радуясь. Любя, жить бесстрашно.
– Я спрошу у батюшки, – раздумывая над услышанным, тихо сказала Люська.
– Не всякий священник о том знает. И наш поп в городе вырос, ремеслу по книжкам обучен. А мне отец, умирая, заветные слова в ухо шепнул. Да я и сам теперь знаю. Смерть – она вона чего… Страшная, голую правду предъявит… Не хочешь, а умным станешь.
Василий Иванович махнул рукой и отправился прочь, оставив собеседников в странном оцепенении. Недолго был слышен за воротами глухой скрежет стариковских подошв по льду. И вскоре, слившись с ночью, тишина затопила кладбище.
Безмолвным зияющим одиночеством полыхало небо, полное звезд.
Василий Иванович смертельно устал, но шел в темноту, как в пропасть. Тоска, которая донимала его последние дни, препятствуя в сборах в дальнее путешествие, наконец, отпустила. Сочувствуя молодым, малознакомым людям, он до дна опустошил себя, и теперь испытывал облегчение.
Эх, ты! Дурная башка, хрипя, вздыхал старик, обращаясь к самому себе. Лед, кремень! Всю свою жизнь, боясь выглядеть постыдным слабаком, избегал в общении нежности. Сам отродясь не видывал, чтобы кто из его праотцов прилюдно ласкали жен, ребятишек – видно, как и он, не желали прослыть мягкотелыми. Словом неуклюжим, робким страшился обнаружить в себе изъян – человечину.
Возмужал, стал суров, могуч – дуб дубом – не хуже предков.
Слово… Что слово? Воздух, миг! Стон, вспышка. Звук терпкий, простой. Ласковый выдох, а человеку столько света, радости. Столько надежды!
Каждый час уходящей жизни был у Василия Ивановича на счету. В эту ночь старик как никогда страшился, что не успеет до отправления в небытие признаться дочери в главном – о том, что любит ее, колючую, всей израненной душой и дряхлым сердцем.
Непорядок, рассуждал он, с трудом передвигая ноги. Что за обиды могли их развести в стороны? Грош цена всем соплям и придиркам. Дурь и гонор.
На рассвете старик решил наведаться к дочери.
Пронзительно сиял небосвод. Нестерпимо ярко жгли звезды. Как безумные, в траве стрекотали кузнечики. С полей и садов, изможденных зноем, ветер разносил горечь полыни и аромат созревающих персиков.
Тугие ветви хлестали лицо. Не замечая боли, Василий Иванович продирался сквозь заросли виноградника навстречу призывному смеху любимой.
Тамарушка звала из глубины сада, и ее голос клокотал от нетерпения.
Старик все глубже уходил в ночь.
Под навесом из тугих лоз, охваченные восторгом полета, они скользили в мерцающей дали небесного океана, вдали от чужих глаз.
И это был их час любви.
Плыла луна. Сияли звезды. Вдали рокотало море, и ритмичный, глухой шум волн, сотрясающий землю, подгонял их древнее, как сама жизнь, желание.
Бездыханные, упоенные страстью, они стремились к долгожданной встрече, начертанной им судьбой.
Наконец, они были вместе, и, по-прежнему, молоды.
Счастье, восторг утопили желания.
Любовь, свобода и нежность, и стремительный бег к неуловимому горизонту, где перекатываясь по волнам, струясь, взлетая и падая, старик обрел покой безмятежности.
Отъезд
Сборы были недолгими, отъезд – стремительным.
Дрон так и не нашел в себе мужества встретиться со своим отцом, ради которого много лет назад, отслужив в армии, прибыл в здешние края.
Улицу и дом, где жил старший Дронов, он без труда отыскал сразу по приезду в город. В свободные дни часто подъезжал туда. Отец жил с другой семьей, он иногда даже видел родителя в ближайшем скверике: тот гулял один или за руку с маленькой девочкой. Но познакомиться родным не пришлось.
Тревожить жизнь отца ненужными воспоминаниями Дрон не решился. Ничего хорошего от свидания он не ждал. Понимал, что встреча для каждого будет мучительной, а разговор – пустым.
Лишь однажды они встретились взглядами: проходя мимо сына, Дронов-старший попросил огонька… запалить сигарету.
В день отъезда Дрон зашел в офис попрощаться с коллективом. Пожал руку Кериму, сдержанно кивнул работягам. Сбившись в кучку, зевая и хмурясь, землекопы изнывали от безделья, ожидая разнорядки начальника, молча пялясь на Дрона недобрыми взглядами.
Трезвый Петька как всегда ёрничал, скалился, но его взгляд скулил. И всем своим обликом алкоголик смахивал в этот час на зашуганную дворнягу, которую злобный хозяин пнул сапогом. Но вдруг бочком, угловато, бедолага приковылял к Дрону. Собрав остатки мужества, протянул на прощание шершавую пятерню. Под прицелом острых жалящих глаз внимающей публики они крепко обнялись.
Веселились скворцы. Не по-весеннему жаркое солнце пекло.
Дрон с хрустом двинул плечами, вскинул голову к небу, – казалось, взмахни он руками, взлетит. Медленно, вкусно, полной грудью вздохнул, наслаждаясь нечаянно обретенной свободой.
Проходя через ворота кладбища в город живых, он лишь на мгновение замедлил шаг.
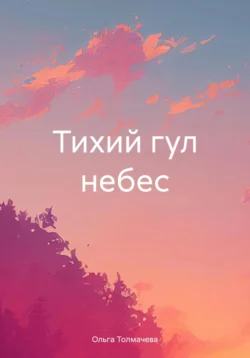
Ольга Толмачева
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 24.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Не в силах разорвать тугое кольцо жизненных обстоятельств, главный герой повести влачит безрадостное существование. В однообразно тоскливом течении дней есть у него редкие моменты истинного счастья – воспоминания о времени, когда были живы его бабка и мать, лесник Петр Иванович. Простая притягательная жизнь, чистые отношения, которые он хранит в памяти, как бесценный дар, заложили в нем незыблемые нравственные основы. Встреча при странных обстоятельствах с человеком другого, уходящего, поколения – неуживчивым, резким, не терпящим сантиментов, помогает принять важное решение.