Скажи волкам, что я дома
Скажи волкам, что я дома
Кэрол Рифка Брант
Young Adult. Легендарные книги
Джун Элбас четырнадцать лет, и она живет мечтами. Ее дом – средневековый замок, но никак не американский коттедж, ее друзья – герои старинных сказок и легенд, ее будущее – в прошлом. Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей, талантливым художником Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез отказался от громкой славы. Но совсем скоро он уйдет из ее жизни, оставив на память только портрет Джун и ее сестры. Какие загадки спрятаны на холсте, который разыскивают все музеи Нью-Йорка?
Кэрол Брант
Скажи волкам, что я дома
Carol Rifka Brunt
TELL THE WOLVES I'M HOME
Copyright © 2012 by Carol Silverman
© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Мэдди, Окли и Джулии
1
В тот день мы с моей сестрой Гретой позировали для портрета, который писал дядя Финн. Тогда он уже знал, что умирает. Это было уже после того, как мне стало понятно, что теперь я, когда вырасту, не перееду к нему и не буду жить с ним до конца своих дней. Уже после того, как я перестала верить, что СПИД – это просто какая-то нелепая ошибка. Когда дядя спросил в первый раз, мама сказала «нет». Сказала, что в этом есть что-то жуткое, макабрическое. Ей страшно от одной мысли, что мы с Гретой будем сидеть у него в квартире, в этой комнате с огромными окнами, где все пропитано ароматом лаванды и апельсинов, и он станет смотреть на нас так, словно видит в последний раз… нет, это невыносимо. Тем более, сказала она, от северной части Вестчестера до Манхэттена путь неблизкий. Она скрестила руки на груди, посмотрела прямо в пронзительно-синие глаза дяди Финна и сказала ему, что сейчас у нее просто нет времени.
– А у кого оно есть? – спросил он.
Вот тут она и сломалась.
Сейчас мне пятнадцать, но тогда было еще четырнадцать. Грете – шестнадцать. 1986 год, конец декабря. Последние полгода мы регулярно бывали у Финна. Раз в месяц, по воскресеньям. Всегда только втроем: мама, Грета и я. Папа с нами не ездил, и правильно делал. Его это никак не касалось.
Я сидела на заднем сиденье нашего микроавтобуса. Грета – на ряд впереди. Я специально устроилась так, чтобы можно было смотреть на Грету и не бояться, что она это заметит. Наблюдать за людьми – увлекательное занятие, но тут надо быть осторожной. Нельзя, чтобы люди заметили, что ты на них смотришь. Иначе на тебя будут коситься, как на какую-нибудь преступницу. Наверное, это и правильно. Наверное, это действительно преступление, когда ты пытаешься разглядеть в людях то, что они не хотят показать посторонним. В случае с Гретой мне нравилось наблюдать, как солнечный свет отражается от ее темных блестящих волос и как у нее за ушами прячутся кончики дужек очков, похожие на две потерявшиеся слезинки.
Мама слушала КАНТРИ-FM, и хотя я не очень люблю стиль кантри, иногда – при определенном настрое – все эти песни, исполняемые с чувством и от души, наводят на мысли о большой дружной семье, о пикниках во дворе за домом, о снежных горках и ребятишках на санках, о семейных обедах в День благодарения. О чем-то правильном и здоровом. Поэтому мама и слушала кантри по дороге к Финну.
Во время этих поездок в город мы почти не разговаривали друг с другом. Мне вспоминается только плавное движение микроавтобуса, сентиментальная музыка кантри, серый Гудзон и хмурый серый Нью-Джерси. Я всю дорогу смотрела на Грету – просто чтобы не думать о Финне.
В последний раз мы приезжали в нему в ноябре, в дождливое пасмурное воскресенье. Финн всегда был худощавым – как Грета, как мама, но, увы, не как я, – однако в тот наш приезд я увидела, что он похудел еще больше, хотя, казалось бы, куда еще?! Все ремни стали ему велики, и он подпоясался изумрудно-зеленым галстуком. Я смотрела на этот галстук и пыталась представить, куда его надевали в последний раз, пыталась придумать, к какому именно случаю подошла бы такая яркая, с переливчатым блеском вещь, как вдруг Финн оторвал взгляд от холста, отвел в сторону кисть и сказал:
– Уже недолго осталось.
Мы с Гретой кивнули, хотя и не поняли, что имеет в виду дядя – работу над портретом или свое состояние. Мы все знали, что он умирает. Потом, уже дома, я сказала маме, что дядя Финн был похож на сдувшийся воздушный шарик. Грета сказала, что он был похож на маленького серого мотылька, запеленатого в серую паутину. Потому что Грета красивая, и у нее все получается красивее – даже слова.
Это была предрождественская неделя, и у моста Джорджа Вашингтона мы попали в пробку. Грета обернулась ко мне. Скривила губы в улыбке и вытащила из кармана веточку омелы. Так было и в прошлое, и в позапрошлое Рождество: Грета все время таскала с собой омелу и набрасывалась с ней на людей. Носила в школу. Терроризировала нас дома. Больше всего ей нравилось тихонько подкрасться к родителям со спины, потом подпрыгнуть и помахать веткой омелы у них над головами. Папа с мамой не любят выказывать нежные чувства друг к другу у всех на глазах, и Грете нравилось их смущать, заставляя поцеловаться. Там, в микроавтобусе, Грета принялась размахивать веточкой у меня перед носом.
– Вот погоди, Джун, – сказала она. – Приедем когда к дяде Финну, я помашу над тобой и над ним этой штукой, и что ты тогда будешь делать?
Улыбаясь, она ждала, что я отвечу.
Я знала, о чем она думает. Мне придется либо обидеть Финна, либо пойти на риск подхватить СПИД, и Грете хотелось увидеть, как я буду мучиться с выбором. Сестра знала, что мы с дядей Финном – большие друзья. Знала, что он водил меня по художественным галереям и учил, как размягчать лица на карандашных рисунках, просто потерев линии пальцем. Она знала, что в этой дружбе ей места нет.
Я пожала плечами.
– Он просто чмокнет меня в щечку.
Но как только я это произнесла, мне сразу представились губы Финна. В последнее время – всегда сухие, потрескавшиеся. И иногда эти трещинки кровоточили.
Грета наклонилась ко мне, положив руки на спинку сиденья.
– Да, но откуда ты знаешь, что микробы от поцелуя не проникнут к тебе в кровь через кожу? Ты уверена, что они не проходят через поры?
Этого я не знала. И мне не хотелось умирать. Не хотелось делаться тусклой и серой. Я снова пожала плечами. Грета отвернулась и села на место. Теперь я не видела ее лица, но даже не сомневалась, что она улыбается.
Когда мы въехали в город, пошел дождь со снегом. Крупинки мокрого льда били в стекло. Я пыталась придумать, что сказать Грете, чтобы она поняла: Финн никогда не подвергнет меня опасности. Ведь Грета ничего о нем не знает. Не знает о том, как он дал мне понять, что портрет – это только предлог. Как увидел, какое у меня лицо, когда мы приехали позировать в первый раз. Как дождался, пока мама с Гретой не пройдут в гостиную, и в тот миг, когда мы остались с ним один на один в узеньком коридоре, положил руку мне на плечо, наклонился поближе и шепнул в самое ухо: «А как еще можно было устроить все эти воскресенья с тобой, Крокодил?»
Но я никогда бы не стала рассказывать об этом Грете. Когда мы уже выходили из микроавтобуса на сумрачной подземной стоянке, я быстро выпалила:
– Все равно кожа водонепроницаема.
Грета аккуратно закрыла дверцу, обошла микроавтобус и встала прямо передо мной. Пару секунд постояла, глядя на меня. На мое крупное, нескладное тело. Потом поправила лямки рюкзака на своих хрупких плечиках и покачала головой.
– Верь во что хочешь, – она развернулась и направилась к лестнице.
Но так не бывает, и Грета сама это знала. Можно сколько угодно пытаться поверить в то, во что хочется верить, но у тебя ничего не получится. Сердце и голова сами решают, во что верить, а во что не верить. Независимо от того, нравится это тебе или нет. И ничего тут не поделаешь.
Дядя Финн работал с портретом по нескольку часов подряд, и все это время мама сидела на кухне и заваривала нам чай. В роскошном русском заварочном чайнике, раскрашенном в золотой, красный и синий цвета, с маленькими танцующими медведями, выгравированными по бокам. Финн говорил, что это особенный чайник – чтобы угощать чаем самых любимых людей. И когда мы приезжали, чайник с медведями неизменно нас ждал. Из гостиной нам было слышно, как мама наводит порядок в кухонных шкафах, достает миски и банки, тарелки и чашки, а потом ставит обратно. Время от времени она заходила в гостиную и приносила нам чай, который обычно остывал нетронутым, потому что Финн занимался портретом, а нам с Гретой нельзя было даже пошевелиться. Все эти воскресенья у дяди мама старательно избегала смотреть на Финна. Понятно, ей было очень невесело от того, что ее единственный брат умирает. Но иногда мне казалось, что дело не только в этом. На портрет она тоже старалась не смотреть. Быстро входила в гостиную, ставила чайник на стол и возвращалась в кухню. Мимо мольберта она проходила отвернувшись. Иногда мне казалось, что Финн тут вообще ни при чем. Иногда у меня было чувство, что мама вообще не хочет смотреть на холст, кисти и краски.
В тот день мы позировали Финну полтора часа. Он поставил диск с музыкой. «Реквием» Моцарта. Мы с Финном оба его любили. И хотя я не верю в бога, в прошлом году я уговорила маму, чтобы она разрешила мне петь в католическом церковном хоре. Просто чтобы на Пасху я могла бы исполнить «Kyrie» Моцарта. Честно сказать, я совсем не умею петь, но все дело в том, что, если закрыть глаза, когда поешь на латыни, и встать в самом заднем ряду, чтобы прикасаться рукой к холодной каменной стене, легко можно вообразить, что ты в Средневековье. Я потому и записалась в хор. Только поэтому.
«Реквием» был нашим с Финном секретом. О нем знали только мы двое. Нам даже не нужно было смотреть друг на друга, когда он поставил диск. Мы оба все понимали. Однажды Финн водил меня на концерт, в красивую церковь на Восемьдесят четвертой улице. Он сказал, чтобы я закрыла глаза и слушала. Так я услышала «Реквием» в первый раз. И сразу влюбилась в эту музыку.
– Она подкрадывается к тебе тихо-тихо, – сказал тогда Финн. – Убаюкивает, усыпляет бдительность, представляется милой, приятной и безобидной, а потом вдруг – та-да-дам! – вздымается грозной волной. Барабанная дробь, и пронзительные крики струн, и глубокие темные голоса. А затем – так же непредсказуемо и внезапно – вновь становится тихой и нежной. Ты понимаешь? Понимаешь, Крокодил?
Это прозвище придумал мне Финн, потому что, как он говорил, я похожа на существо из какой-то другой эпохи, которое таится в засаде, наблюдает и ждет, прежде чем выносить какие-то суждения об окружающем мире. Мне это нравилось. Нравилось, когда Финн меня так называл. Мы с ним сидели в той церкви, и он пытался добиться, чтобы я действительно поняла эту музыку.
– Ты понимаешь? – спросил он снова.
Я понимала. Во всяком случае, думала, что понимаю. Или, может быть, только притворялась. Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы Финн считал меня дурой.
В тот день «Реквием» разливался в пространстве среди всех этих безумно красивых вещей в квартире у Финна. Мягкие турецкие ковры. Старый шелковый цилиндр, повернутый к стене залоснившимся боком. Большая стеклянная банка, доверху полная медиаторами всевозможных расцветок. Финн называл их «мои разносолы», потому что они хранились в банке для консервирования. Музыка разливалась по комнате, выплескивалась в коридор, плыла мимо двери в дядину спальню – как всегда, плотно закрытую, не доступную ни для кого. Мама с Гретой, кажется, не замечали, как губы Финна беззвучно выпевают слова – «voca me cum benedictus… gere curam mei fi nis…». Они даже не подозревали, что слушают заупокойное песнопение. И хорошо, что не подозревали. Если бы мама знала, что это за музыка, она бы сразу же ее выключила. Без разговоров.
Чуть погодя Финн повернул холст, чтобы мы с Гретой могли на него посмотреть. Это было событие: раньше Финн не показывал нам, как продвигается его работа. А теперь показал. В первый раз.
– Посмотрите внимательно, девочки, – сказал он. Финн никогда не разговаривал за работой, а когда наконец заговорил, голос его прозвучал слабо и хрипло. Он на секунду смутился, потом потянулся за чашкой с остывшим чаем, отпил глоток и прочистил горло. – Данни, ты тоже… иди посмотри.
Мама не отвечала, и Финн позвал ее снова:
– Поди сюда. На секундочку. Мне интересно узнать твое мнение.
– Попозже! – крикнула мама из кухни. – Я пока занята!
Финн продолжал смотреть в сторону кухни, словно надеясь, что мама все-таки передумает и придет. Когда стало ясно, что она не придет, он нахмурился и снова повернулся к холсту.
Он резко поднялся с кресла – с этого старого синего кресла, в котором всегда сидел перед мольбертом, – поморщился, пошатнулся, ухватился за подлокотник. Постоял пару секунд, потом сделал шаг в сторону, и я увидела, что дядя Финн стал абсолютно бесцветный. Только галстук, повязанный вместо ремня, выделялся зеленым пятном, и весь дядин белый халат разбрызган пятнышками краски. Нашими с Гретой цветами. Мне захотелось вырвать у Финна кисть и раскрасить его, чтобы вернуть его прежнего. Чтобы он вновь стал собой.
– Ну, слава богу, – Грета подняла руки и взъерошила себе волосы.
Я разглядывала портрет. Я заметила, что на картине Финн расположил меня чуть ближе к зрителю, слегка выдвинул мою фигуру на передний план, хотя мы сидели не так. Заметила и улыбнулась.
– Он еще не закончен… да? – спросила я.
Финн подошел и встал рядом со мной. Наклонил голову, рассматривая нас нарисованных. Сначала Грету, потом – меня. Прищурился, глядя прямо в глаза той другой, нарисованной мне. Наклонился так близко к холсту, что едва не коснулся лицом влажных красок, и у меня по руке пробежали мурашки.
– Да, не закончен. – Финн покачал головой, не отводя взгляда с картины. – Видишь? Чего-то не хватает. Возможно, на заднем плане… или, может быть, стоит еще поработать над волосами. Как ты думаешь?
Я медленно выдохнула и расслабилась, не в силах сдержать улыбку. Потом энергично кивнула:
– Мне тоже так кажется. Думаю, нам надо будет приехать еще пару раз.
Финн улыбнулся в ответ и провел бледной бесцветной рукой по бесцветному бледному лбу.
– Да. Еще пару раз, – подтвердил он.
Финн спросил, нравится ли нам портрет. Я сказала, что он прекрасен, а Грета вообще ничего не сказала. Она даже не смотрела на холст. Стояла спиной к нам, держа руки в карманах. Потом медленно обернулась. С абсолютно непроницаемым выражением лица. Грета это умеет. Умеет скрывать свои мысли и чувства. Я не успела сообразить, что сейчас будет, и вот Грета уже вытащила из кармана омелу и вскинула руку. Широким жестом она стремительно провела веткой прямо над нашими головами, словно пыталась рассечь воздух, будто держала в руке что-то более грозное, чем обычную ветку рождественских листьев и ягод. Мы с Финном переглянулись, и у меня внутри все оборвалось. Буквально за долю секунды, пока мы смотрели друг другу в глаза – сколько нужно песчинке в песочных часах или капле воды в протекающем кране, чтобы сорваться и упасть? – Финн все понял. Мой дядя Финн прочел меня, как открытую книгу. Он увидел, что я боюсь, наклонил мою голову и чуть коснулся губами волос у меня на макушке. Так легко, словно бабочка присела на цветок.
По дороге домой я спросила у Греты, можно ли заразиться СПИДом через волосы. Она пожала плечами и отвернулась. И всю дорогу смотрела в окно.
Вечером я вымыла голову, трижды намылив волосы шампунем. Потом сразу легла, закуталась в одеяло и попыталась заснуть. Честно считала овечек, травинки и звезды, но ничего не помогало. Я все время думала о Финне. Как он целовал меня в макушку. Как на долю секунды, когда он склонился ко мне, все остальное исчезло: СПИД, Грета, мама. Остались только мы с Финном, и, прежде чем я успела себя удержать, у меня промелькнула мысль: а что было бы, если бы он поцеловал меня по-настоящему, в губы? Я понимаю, как это противно и мерзко, но мне хочется рассказать правду. И если по правде, в ту ночь я лежала в постели и представляла себе поцелуи Финна. Лежала и думала обо всем, что таилось у меня в сердце, о возможном и невозможном, правильном и неправильном, выразимым словами и совершенно не выразимом. А потом, когда все эти мысли рассеялись, осталась только одна: как плохо мне будет без дяди Финна.
2
Если хочется притвориться, что ты перенесся в другое время, лучше всего в одиночку пойти в лес. Обязательно – в одиночку. Если с тобой пойдет кто-то еще, ничего не получится. Чужое присутствие все равно будет напоминать, где ты на самом деле. Лес, куда хожу я, начинается за зданиями средней и старшей школы. Он начинается сразу за школьным двором, но тянется на много миль к северу, до Махопака, и Кармела, и еще дальше – я даже не знаю названий тех мест.
Заходя в лес, я первым делом вешаю на дерево свой рюкзак. А потом просто иду. Чтобы все получилось, нужно идти и идти до тех пор, пока шум города не затихнет вдали. Пока его не сменят другие звуки: треск ветвей и журчание ручья. Я иду вдоль ручья, который выводит меня к обвалившейся каменной стене. К высоченному клену с прибитым к стволу проржавелым ведром для сбора древесного сока. Это и есть мое место. Куда я всегда прихожу. В книге «Складка времени» говорится, что время похоже на старое скомканное одеяло. Мне бы очень хотелось забраться в одну из его складок. Укрыться в ней. Спрятаться в крошечном тесном пространстве.
Обычно я переношусь в Средневековье. Как правило – в Англию. Иногда напеваю отрывки из «Реквиема», хотя знаю, что это не средневековая музыка. Я смотрю на все, что меня окружает – камни, опавшие листья, голые деревья, – так, словно могу это истолковать. Словно сейчас моя жизнь зависит от того, сумею ли я понять, о чем мне поведает лес.
Я всегда приношу с собой старое «деревенское» платье от «Gunne Sax», которое мне отдала Грета. Она носила это платье, когда ей было двенадцать. Конечно, оно мне мало и не застегивается на спине, так что приходится поддевать под него рубашку. Оно больше похоже на что-то из «Маленького домика в прериях», чем на средневековый костюм, но ничего более подходящего у меня нет. Зато есть роскошные средневековые сапоги. Всякий скажет, что подобрать правильную обувку – это самое сложное. Долгое время мне приходилось довольствоваться обыкновенными черными кедами, и я упорно старалась не смотреть на них, потому что они портили всю картину.
Сапоги – черные, замшевые, со шнуровкой из кожи – были куплены на средневековом фестивале в музее «Клойстерс», куда мы ходили с Финном. Дело было в октябре. К тому времени Финн уже четыре месяца работал над нашим портретом. А на фестиваль мы пошли в третий раз. В первый раз меня пригласил Финн, а остальные два раза я напросилась сама. Как только листья на деревьях начинали желтеть, я принималась наседать на Финна насчет фестиваля.
– Ты становишься заядлым медиевистом, – говорил он. – Что я с тобой сделал?
И был прав. Это его вина. Финн буквально «болел» средневековым искусством и пристрастил к нему и меня. Сколько себя помню, мы с ним постоянно рассматривали репродукции в его многочисленных альбомах и книгах на эту тему. К тому третьему фестивалю Финн уже начал стремительно худеть. На улице было прохладно, и Финн надел сразу два свитера, чтобы не мерзнуть. Мы пили горячий яблочный сидр – мы с ним вдвоем, только вдвоем посреди жирного духа свинины, жарившейся на вертеле, и лютневой музыки, и тихого ржания лошадей, которых готовили к выходу на потешный рыцарский турнир, и перезвона крошечных колокольчиков на лапах у соколов. Финн увидел сапоги на лотке у башмачника и купил их мне, потому что знал, что я буду от них в восторге. Он помогал мне их мерить, зашнуровывал и расшнуровывал пару за парой, как будто ему больше нечего было делать. Как будто нет на свете более увлекательного занятия. Если сапоги не подходили, Финн помогал мне их снять. Иногда он случайно касался моей лодыжки или голой коленки, и я краснела. В итоге я выбрала сапоги на два размера больше. Финну я ничего не сказала, но про себя рассудила, что пусть уж лучше они будут мне велики, и мне придется носить их с носками, даже не с одной парой носков. Я не хотела, чтобы они становились малы. Я хотела, чтобы они были у меня всегда.
Будь у меня много денег, я бы купила огромный участок леса. Обнесла бы его стеной и жила бы в этом своем лесу, словно совсем в другом времени. Может, нашла бы кого-то, кто жил бы со мной. Того, кто согласился бы пообещать никогда, ни единым словом не упоминать обо всем, что относится к настоящему. Хотя вряд ли такой человек найдется. Пока что я не встречала вообще никого, кто мог бы пообещать что-то подобное.
Существует один-единственный человек, кому я рассказывала о том, чем занимаюсь в лесу. Этот человек – Финн, но вообще-то я не хотела рассказывать даже ему. В тот день мы возвращались к нему домой из кинотеатра, где смотрели «Комнату с видом». Финн завел речь о том, что все герои картины поистине обворожительны. Они все очень плотно закрыты, и было огромное удовольствие наблюдать, как они пытаются раскрыть друг друга. «Это так романтично», – сказал тогда Финн. И еще прибавил: «Жаль, что теперь так не бывает». Мне хотелось, чтобы он увидел, что я понимаю – что я готова на все, лишь бы перенестись в прошлое, – и я рассказала ему про лес. Он рассмеялся, легонько толкнул меня плечом и сказал, что я – малахольная. А я сказала, что он – одержимый, потому что все время думает о рисовании. И мы оба расхохотались, поскольку знали, что это правда. Мы оба знали, что других таких чокнутых нет в целом свете. Теперь, когда Финна не стало, никто не знает, что после уроков я хожу в лес. А иногда мне кажется, что никто и не помнит, что этот лес вообще существует.
3
Портрет нам так и не отдали. Не было никакого торжественного вручения. Никакой сопроводительной речи.
Потому что он был незакончен. Так говорил Финн. Нам нужно было приехать к нему еще раз на последний сеанс. Потом – еще раз, на самый последний. Никто против этого не возражал. Никто, кроме Греты, которая прекратила ездить к Финну по воскресеньям. Сказала, что если Финн работает только с фоном, то мы все ему не нужны. Сказала, что ей жалко тратить воскресенья непонятно на что. У нее есть дела поинтереснее.
Это было морозным январским утром, в первый учебный день после рождественских каникул. Мы с Гретой стояли на улице, ждали школьный автобус. Мы живем на Фелпс-стрит. Это одна из последних улиц на маршруте автобуса. Она находится в южной части города, а школа – в северном предместье. Если по городу, это примерно две мили. Но если идти через лес – я иногда так хожу, – получается гораздо ближе.
Из-за того что наш дом – один из последних на всем маршруте, никогда нельзя точно сказать, когда именно подъедет автобус. Если сложить вместе все школьные годы, получится, что мы с Гретой провели не один час в ожидании автобуса, стоя на улице и глядя на ряды соседских домов и лужаек. Фелпс-стрит застроена в основном коттеджами в деревенском стиле, и только дом Миллеров на невысоком холме в самом конце тупика представляет собой особняк эпохи Тюдоров. Очевидно, что это фальшивый Тюдор, потому что в эпоху Тюдоров в Вестчестере жили только индейцы мохегане. Так что даже не знаю, кого Миллеры пытаются обмануть. Хотя, возможно, и не пытаются. Может быть, Миллеры вообще об этом не думают. Но я-то думаю. Всякий раз, когда вижу их дом. Мы сами живем в двухэтажном коттедже. Он голубой с черными ставнями. А перед домом у нас растет огромный раскидистый клен.
В то утро я прыгала на месте, чтобы согреться. Грета стояла, прислонившись к стволу клена, и сосредоточенно рассматривала свои ноги в новых замшевых ботинках. Она то и дело снимала очки, дышала на них, протирала и надевала опять.
– Грета?
– Что?
– А у тебя по воскресеньям какие дела? Ну, которые поинтереснее?
На самом деле я была не уверена, что хочу это знать.
Грета медленно повернулась ко мне и улыбнулась, не разжимая губ. Покачала головой и сделала большие глаза.
– Да вот такие. Ты себе даже представить не можешь, какие.
– Да, наверное, – ответила я.
Грета перешла на другую сторону подъездной дорожки.
Я так поняла, что она имела в виду секс. Хотя, возможно, и нет. Потому что я очень даже могу себе это представить. Не хочу, но могу.
Грета опять сняла очки и дохнула на стекла, так что они запотели.
– Слушай, – сказала я ей. – А мы снова сиротки. Начинается сиротское время.
Грета понимала, о чем я. Сиротское время – это период подачи налоговых деклараций. Каждый год – одно и то же. Праздничная суета, Рождество, Новый год, а потом наши родители «выпадают из жизни» на два зимних месяца. Мы с Гретой их почти не видим. Они уходят из дома в половине седьмого утра и возвращаются лишь к семи вечера, если не позже. Такова жизнь детей двух бухгалтеров. Сколько я себя помню, так было всегда.
Раньше в период подачи налоговых деклараций, когда родителям приходилось выезжать на работу до того, как приедет школьный автобус, они просили соседку, миссис Шегнер, присмотреть за нами из окна. (Окно гостиной Шегнеров выходит как раз на наш двор.) Девятилетняя Грета и семилетняя я стояли на улице в ожидании автобуса. Мы знали, что миссис Шегнер наблюдает за нами, но все равно было стойкое ощущение, что мы – совершенно одни. Грета обнимала меня за плечи и крепко-крепко прижимала к себе. Иногда, когда ожидание затягивалось или вдруг начинался снег, Грета пела мне песенки из «Маппетов». Или «В мыслях еду в Каролину» с альбома лучших песен Джеймса Тейлора из коллекции наших родителей. Уже тогда у ее был очень хороший голос. Когда сестра поет, она как будто становится другим человеком. Как будто где-то внутри ее прячется совершенно другая Грета. Она пела и прижимала меня к себе, пока из-за поворота не показывался школьный автобус. И тогда она говорила мне, а может, и себе самой:
– Видишь, все не так плохо.
Не знаю, помнит ли об этом Грета. Я вот помню. Даже когда она вредничает и донимает меня, я смотрю на нее и вспоминаю, как все было раньше.
Пару секунд Грета смотрела на меня, пытаясь казаться равнодушной. Как будто ей все равно. Потом сказала, уперев руки в боки:
– Да, Джун, в этом-то и проблема. Твои родители много работают, дома их почти не бывает. С этим надо смириться. – Повернулась ко мне спиной и стояла так, отвернувшись, пока на дороге не показался автобус.
Мы с мамой были у Финна еще три раза. Мы стали ездить к нему не раз в месяц, а раз в две недели. И необязательно по воскресеньям. Я бы с радостью поехала к нему одна, как это бывало раньше. Хотя бы разок. Мне хотелось поговорить с ним – долго и обстоятельно. И чтобы нам никто не мешал. Но каждый раз, когда я пыталась поднять эту тему, мама отвечала: «Может быть, в следующий раз. Ладно, Джуни?» И это был не вопрос. Это был мягкий способ показать мне, как все будет происходить. Я уже начала думать, что мама использует меня и портрет, как предлог побыть с Финном. Мне всегда казалось, что они с Финном не очень близки. И, наверное, мама начала об этом жалеть. И теперь я выступала в качестве этакого Троянского коня, в который пряталась мама, чтобы подобраться поближе к брату. Это было несправедливо. А под поверхностью, словно яма с зыбучим песком, лежало горькое понимание, что следующего раза может и не быть. Вслух об этом не говорилось, но было вполне очевидно, что мы с мамой боремся друг с дружкой за последние часы с Финном.
В то воскресенье, когда мы, как потом оказалось, были у Финна в последний раз, Грета сидела у себя в комнате за столом и красила ногти в два разных цвета. Один ноготь черный, другой – фиолетовый, потом опять черный и вновь фиолетовый. Я наблюдала за ней, сидя на краешке ее неубранной постели.
– Знаешь, Грета, – сказала я, – уже недолго осталось. В смысле, Финну недолго.
Мне нужно было убедиться, что она понимает. Мама однажды сказала, что это как магнитофонная запись. Кассета, которую не отмотаешь назад. Но пока слушаешь музыку, забываешь, что кассету нельзя будет перемотать. Ты забываешь и погружаешься в музыку, слушаешь, слушаешь, а потом запись внезапно кончается. И ничего уже не поделаешь.
– Конечно, знаю, – сказала она. – Я еще раньше тебя узнала, что дядя Финн болен.
– Тогда почему ты не ездишь с нами?
Грета убрала флакончики с черным и фиолетовым лаком на полочку для косметики. Потом взяла темно-красный лак, открыла крышку, достала кисточку и аккуратно прижала ее к краю горлышка. Подтянула колени к груди и принялась красить ногти на ногах, начав с мизинца.
– Потому что он все равно закончит этот портрет, – сказала она, даже не удостоив меня взглядом. – И потом, ты сама не хуже меня знаешь, что, если бы он мог, он и вовсе не стал бы рисовать там меня. Это был бы портрет исключительно Джуни, его обожаемой Джуни. Без никого.
– Финн не такой.
– Думай как хочешь, Джун. Мне, в общем-то, все равно. Это неважно. В любой день может раздаться телефонный звонок, и тебе сообщат, что Финн умер, и у тебя впереди будет целая жизнь, когда воскресенья надо будет чем-то заполнить. И что ты тогда будешь делать? А? Теперь это уже неважно. Одним воскресеньем больше, одним меньше. Ты разве не понимаешь?
Я не нашлась что ответить. Грета умеет вогнать меня в ступор, всегда умела. Она плотно закрыла флакончик с лаком и пошевелила пальцами на ногах, сверкая свеженакрашенными ногтями. Потом опять повернулась ко мне.
– Что? – спросила она. – Что ты так смотришь?
4
В период подачи налоговых деклараций у нас дома всегда пахнет мясным рагу. Мамина горчично-желтая мультиварка целыми днями стоит на кухонной стойке и медленно варит нам что-нибудь на обед. Неважно, что именно готовится: курица, овощи или фасоль, – любая еда в мультиварке пахнет мясным рагу.
Было четыре часа дня, и Грета ушла на репетицию. У нас в школьном театре ставили мюзикл «Юг Тихого океана», в котором Грета играла Кровавую Мэри. Большая роль второго плана, которую сестра получила, потому что хорошо поет. И еще потому, что она смуглая, черноволосая и кареглазая. Так что ей даже не нужно особенно гримироваться, чтобы быть похожей на полинезийку. Достаточно нанести на лицо темный тональный крем и погуще подвести глаза. Дома Грета сказала, что они репетируют чуть ли не каждый вечер – и «допоздна».
Все давно знают, что из всех школ в округе в нашей школе всегда ставят самые лучшие мюзиклы. Несколько раз к нам на спектакли приезжали какие-то люди из города. Люди, связанные с театром. Хореографы, режиссеры – все в таком роде. Ходили слухи, что однажды, лет десять назад, кто-то из хореографов так впечатлился выступлением одной старшеклассницы, что предложил ей роль в «Кордебалете». Эту историю вспоминают каждый год, и хотя все утверждают, что ни капельки в нее не верят, все равно видно, что на самом деле верят. Потому что им хочется верить в сказку, которая может стать явью. Хочется верить, что это может случиться и с ними тоже.
В последние дни сильно похолодало. Погода явно не располагала к прогулкам в лесу. Я была дома одна, сидела на кухне, делала уроки, и тут зазвонил телефон.
– Миссис Элбас? – спросил мужской голос. Какой-то странный, бесцветный. Размытый.
– Нет.
– А… ясно. Прошу прощения. Можно поговорить с миссис Элбас? – Голос не просто размытый и странный, но еще и с акцентом. Возможно, британским.
– Ее нет дома. Ей что-нибудь передать?
На том конце линии долго молчали, а потом:
– Джун? Это Джун?
Человек, которого я не знаю и которого слышу впервые в жизни, знал, как меня зовут. У меня было такое чувство, словно он тянет ко мне руки – прямо по телефонным проводам.
– Перезвоните позже, – сказала я и бросила трубку.
Мне сразу вспомнился фильм, в котором девушка-няня сидит с детьми, и ей постоянно звонит незнакомец и говорит, что видит ее и чтобы она лучше присматривала за детишками, и под конец девушка чуть ли не сходит с ума от страха. Примерно такие же ощущения были и у меня после того звонка. Хотя ничего страшного мне не сказали, я все равно обошла весь дом, закрыла все окна и проверила, заперты ли двери. Потом вернулась на кухню, села на пол у холодильника и открыла банку «Ю-Ху».
И тут опять зазвонил телефон. Он звонил и звонил, пока не включился автоответчик. И в динамике зазвучал все тот же голос.
– Прошу прощения, если я тебя напугал. Я звоню насчет твоего дяди. Дяди Финна, который в городе. Я позвоню позже. Вот и все. Извини.
Дядя Финн. Тот, кто звонил, знал моего дядю Финна. У меня внутри все как будто заледенело. Я резко встала, вылила в раковину остатки «Ю-Ху» и принялась мерить шагами кухню. Финна больше нет. Я просто знала, что его нет.
Я схватилась за телефон и набрала дядин номер, который помнила наизусть. Два длинных гудка, а потом мне ответили. И когда я услышала щелчок, означавший, что кто-то взял трубку, меня захлестнула безумная радость.
– Финн? – На том конце линии молчали. Я подождала пару секунд и спросила еще раз: – Финн? – Теперь в моем голосе сквозило отчаяние.
– Я… нет. Его нет. Он…
Я опять бросила трубку. Все тот же голос. Тот же самый человек, который оставил сообщение на автоответчике.
Я побежала к себе наверх. Никогда в жизни моя комната не казалась мне такой маленькой и тесной. Я оглядела свои дурацкие поддельные свечи, большую коллекцию книжек из серии «Выбери себе приключение», ярко-красное покрывало с рисунком под старинный гобелен. Город казался таким далеким, словно был в тысяче миль отсюда. Словно без Финна ему не хватало массы, чтобы остаться на месте. Словно он мог улететь.
Я забралась под кровать, крепко зажмурилась и лежала так два часа, вдыхая тяжелый запах мясного рагу. Представляла, что я – некое древнее существо, запертое в гробнице, и прислушивалась, не откроется ли задняя дверь, чтобы успеть зажать уши прежде, чем кто-нибудь соберется прослушать это дурацкое сообщение на автоответчике.
5
Возможно, Грета не соврала, когда сказала, что раньше меня узнала о болезни Финна. Когда об этом узнала я, Греты рядом не было. В тот день мама собиралась свозить меня к зубному, но вместо того, чтобы свернуть направо на Мейн-стрит, почему-то свернула налево – не сказав ни единого слова, – и я сама толком не поняла, как мы с ней оказались в кафе «Маунт Киско». Вообще-то, мне еще в самом начале следовало заподозрить, что что-то не так, потому что мы с Гретой всегда ходим к зубному вместе, а в тот раз мама взяла только меня. Может быть, она надеялась, что моя радость – меня все-таки не повели к стоматологу! – как-то сгладит дурные вести о Финне. Но тут мама ошиблась. Мне нравится ходить к зубному. Нравится вкус геля с фтором. Нравится, что на те двадцать минут, пока я сижу в кресле доктора Шиппи, мои зубы становятся для него самой важной вещью на свете.
Мы сидели в кабинке, а это значит, что у нас был музыкальный автомат. Еще прежде, чем я успела спросить, мама дала мне монетку в четверть доллара и попросила поставить песни.
– Что-нибудь хорошее, ладно? – сказала она. – Что-нибудь веселое.
Я кивнула. Я не знала, о чем мы будем говорить, и выбрала «Охотников за привидениями», «Девчонки хотят веселиться» и «99 Luftballons». Последняя песня была в двух вариантах, на английском и на немецком. Я выбрала на немецком, потому что мне так больше нравилось.
Мама заказала себе только кофе. Я взяла лимонное безе и шоколадное молоко.
«Охотники за привидениями» уже заиграли, а я все листала страницы, читала названия песен из списка и думала, правильно ли я выбрала. А потом мама вдруг дотронулась до моей руки.
– Джун…
У нее был такой вид, как будто она сейчас заплачет.
– Что?
Она что-то сказала, но очень тихо. Я не расслышала.
– Что? – переспросила я, наклонившись к ней через стол.
Она повторила, но я видела только, как движутся ее губы, словно она даже и не пыталась произнести слова так, чтобы они были услышаны.
Я покачала головой. Музыка в автомате звучала достаточно громко. Рэй Паркер-младший радостно пел о том, что он совсем не боится привидений.
Мама показала на стул рядом с собой, и я пересела на ее сторону стола. Она привлекла меня к себе и прошептала мне в самое ухо, почти касаясь его губами:
– Финн умирает, Джун.
Она могла бы сказать, что Финн болен – и даже, очень серьезно болен, – но нет. Она сказала прямо, что Финн умирает. Это совсем не в ее характере. Мама у нас не из тех, кто считает, что горькая правда лучше спасительной лжи, но в тот раз она, наверное, рассудила, что так действительно будет лучше: меньше слов, меньше объяснений. Потому что как бы она объяснила? Как такое вообще объяснишь? Она еще крепче прижала меня к себе, и мы с ней сидели так пару секунд, не глядя друг другу в глаза. У меня в голове образовался какой-то затор. Столько мыслей, столько всего, что, наверное, надо было сказать…
– Лимонное безе?
Неожиданно рядом возникла официантка с моим пирожным, и мне пришлось оторваться от мамы и кивнуть. Я смотрела на это нелепое радостно-воздушное безе, и мне не верилось, что еще пару минут назад я сама же его и заказала.
– От чего умирает? – спросила я наконец.
Мама принялась водить указательным пальцем по столу. Я следила за ее рукой и поняла, что она написала. СПИД. Потом, словно стол был грифельной доской, словно он мог запомнить написанное, она провела по нему ладонью, стирая невидимое слово.
– Ох…
Я поднялась и вернулась на свое место. Безе стояло на столе и как будто дразнилось. Я взяла вилку и раскрошила это дурацкое веселенькое пирожное. Потом пересела поближе к музыкальному автомату, прижалась ухом к динамику, закрыла глаза и попыталась представить, что ничего этого нет: ни безе, ни кафе – ничего. Заиграла «99 Luftballons». Я ждала, когда Нена произнесет «капитан Кирк», единственные слова во всей песне, которые я понимала.
6
Финна хоронили в закрытом гробу – и хорошо, что в закрытом. Иначе даже не знаю, как бы я с собой справилась. Я все время представляла себе его закрытые глаза. Тонкую, почти прозрачную кожу на веках. Я бы, наверное, не удержалась и подняла бы ему веки. Вот так подошла бы и подняла. Просто чтобы еще раз увидеть синие глаза дяди Финна.
Похороны состоялись ровно через неделю после того телефонного звонка. Дело было в четверг, и мы с сестрой не пошли в школу. Я даже не сомневалась, что это была единственная причина, почему Грета согласилась поехать на похороны. На моей памяти это был один из немногих дней, когда родители взяли себе выходной в один день в период подачи налоговых деклараций.
Мама привезла с собой наш портрет, нарисованный Финном. Хотела поставить его рядом с гробом, чтобы все увидели, каким замечательным человеком был ее брат. Ей казалось, что это будет хорошо и правильно. Но когда мы въехали на стоянку у кладбища, мама вдруг передумала.
– Он здесь, – сказала она странным голосом, в котором слышались злость, раздражение и паника.
Папа поставил машину и выглянул в окно.
– Где?
– Вон там. Ты что, не видишь? Вон сидит, сбоку.
Папа кивнул, и я тоже взглянула в ту сторону. Там была невысокая кирпичная стена, и на ней, сгорбившись, сидел человек. Высокий, очень худой. Он напомнил мне Икабода Крейна из «Легенды о сонной лощине».
– Кто это? – спросила я, указав пальцем на одинокую фигуру на стене.
Папа с мамой резко обернулись ко мне. Грета пихнула меня локтем в бок и прошипела:
– Заткнись, – своим самым злым и противным голосом.
– Сама заткнись, – отозвалась я.
– А мне-то чего затыкаться? Это не я задаю дурацкие вопросы. – Она поправила очки и демонстративно отвернулась.
– Замолчите обе, – нахмурился папа. – Маме и так тяжело.
«Мне тоже тяжело», – подумала я, но вслух ничего не сказала. Я молчала, потому что знала: мое горе – неправильное. Племянницы так не скорбят. Я не могу забирать Финна себе в своем горе. Может быть, раньше в каком-то смысле он был моим. Пока был жив. Мертвый, он принадлежал моей маме и бабушке. Именно им все соболезновали и сочувствовали, пусть даже ни мама, ни бабушка, как мне казалось, никогда не были особенно близки с Финном. Для всех, кто пришел проводить Финна в последний путь, я была просто племянницей. Я сидела в машине, смотрела в окно и понимала, что никто здесь даже не подозревает о том, что творится у меня в душе. Никто не знает, как много и часто я думаю о Финне – и, слава богу, никто не знает, какие мысли приходят мне в голову.
Мама устроила так, чтобы Финна похоронили на кладбище у нас в городке, а не в большом городе, где жили все его друзья. Никаких возражений не принималось. Мама как будто пыталась прибрать Финна к рукам. Удержать его рядом с собой. Сохранить для себя одной.
– Так что? Оставить его в багажнике? – спросил папа.
Мама кивнула, плотно сжав губы.
– Да, оставь.
Кстати, именно папа забрал портрет. Съездил в город и забрал. На следующий день после смерти Финна. Поехал уже под вечер, и никто из нас не предложил составить ему компанию. У мамы был ключ от квартиры Финна. Этот ключ, висевший на красной шелковой ленточке, лежал у нас дома несколько лет, но, насколько я знаю, никто им ни разу не пользовался. Мама всегда говорила, что это просто «на всякий случай». Просто Финну хотелось, чтобы у нас тоже был ключ.
Папа вернулся домой очень поздно. Заходя в дом, он хлопнул дверью, и даже я нечаянно подслушала их с мамой разговор.
– Он там был? – спросила она.
– Данни…
– Был?
– Разумеется, был.
Мне показалось, что мама расплакалась.
– Господи. При одной только мысли, что он… Ведь должна же быть какая-то справедливость. Какая-то справедливость…
– Не надо, Данни. Постарайся не думать об этом.
– Не хочу. Не могу. – Она замолчала, а потом спросила: – Ладно, где он? Ты ведь забрал его, да?
Наверное, папа кивнул, потому что на следующее утро портрет лежал на столе. Я встала первой, спустилась в гостиную и обнаружила там портрет, завернутый в плотный черный пакет для мусора. Как будто это была самая обыкновенная вещь. Вообще ничего особенного. Я обошла стол по кругу, потом прикоснулась к пакету. Прижалась к нему носом, надеясь почувствовать запах квартиры Финна, но не почувствовала ничего. Я открыла пакет, сунула голову внутрь и сделала глубокий вдох, но едкий химический запах пластика перебивал все, что могло отложиться на холсте. Я закрыла глаза и вдохнула еще глубже, плотно прижав пакет к шее.
– Ты что, совсем дура?!
Кто-то шлепнул меня по спине. Грета. Я вытащила голову из пакета.
– Если хочешь покончить с собой, я не буду тебе мешать. Но давай как-нибудь без портрета, ага? А то будет уже перебор. Одной истории с мертвым телом на одну картину вполне достаточно.
Мертвое тело. Финн был мертвым телом.
– Девчонки? – Мама стояла на середине лестницы, кутаясь в стеганый розовый халат, и сонно щурилась в нашу сторону. – Вы что тут делаете? Надеюсь, не балуетесь с картиной?
Мы обе покачали головами. А потом Грета улыбнулась.
– Просто одна из нас попыталась покончить с собой. Посредством мешка для мусора. Вот и все.
– Что?!
– Грета, заткнись! – рявкнула я. Но она не заткнулась. Ее вообще невозможно заткнуть.
– Прихожу, а она тут засунула голову в этот пакет.
Мама быстро спустилась, подошла ко мне и обняла так крепко, что едва не задушила. Потом чуть отстранилась, держа меня за плечи.
– Я знаю, как ты горюешь по Финну, Джуни, и я хочу, чтобы ты знала: если тебе нужно поговорить…
– Я вовсе не пыталась покончить с собой.
– Хорошо, хорошо, – сказала мама. – Не будем сейчас ни о чем говорить. Мы все здесь, с тобой. Я, папа, Грета. Мы все тебя любим. – За спиной мамы Грета выпучила глаза и изобразила повешенного, начертив пальцем в воздухе петлю вокруг шеи.
Я знала, что спорить бессмысленно, поэтому просто кивнула и села за стол.
Мама взяла пакет и унесла к себе наверх. Сказала, что нам нужно пока «отдохнуть» от портрета и что она спрячет его в надежном месте. В следующий раз я увидела эту картину только в день похорон.
Мы подошли к главному входу в зал для траурной церемонии. Родители – впереди, мы с Гретой – следом. У крыльца папа остановился и прикоснулся к маминой руке.
– Ты иди первая, – сказал он, указывая на лестницу. – Найди свою маму. Проверь, как она там.
Мама молча кивнула. В тот день она надела узкую черную юбку, темно-серую блузку, черное шерстяное пальто и маленькую черную шляпку с вуалью. Она выглядела потрясающе. Впрочем, мама всегда выглядит потрясающе. Шел легкий снег. Снежинки ложились на мамину шляпку и медленно таяли, впитываясь в черный фетр.
Бабушка стояла в вестибюле и беседовала с какими-то людьми, которых я не знала. Мама совсем не похожа на бабушку, они очень разные. Очень. И это отнюдь не случайность. Похоже, в семействе Уэйссов когда-то случился глубинный конфликт поколений. Мама с Финном посмотрели на своих родителей и решили, что никогда, ни при каких обстоятельствах не станут такими же, как их предки. Так что есть дедушка Уэйсс, бывший крупный военный чин, и есть дядя Финн, сбежавший из дома и ставший художником. Есть бабушка Уэйсс, которая всю жизнь занималась готовкой и глажкой для дедушки Уэйсса и делала всякие замысловатые прически – опять же, не для себя, а для мужа, – и есть моя мама, которая готова потратить деньги и, возможно, даже переплатить, лишь бы не гладить и не стоять у плиты, и которая носит короткую стрижку, чтобы не заморачиваться на укладку. Если эта тенденция сохранится, нам с Гретой вообще не захочется идти на работу в офис. Собственно, мне и не хочется. Если все будет по-моему, я устроюсь работать сокольничим на какой-нибудь «средневековый» фестиваль. Мне не придется думать о карьерном росте и продвижении по службе. Потому что работа сокольничего, она совершенно другая. Либо ты сокольничий, либо нет. Либо птицы к тебе возвращаются, либо сразу же улетают.
Мама вошла внутрь. Папа проводил ее взглядом и повернулся к нам с Гретой. Я заметила у него на щеке тонкую полоску не сбритой щетины. И еще я заметила, что он постоянно хмурится. Как жонглер, которому нужно предельно сосредоточиться, чтобы не уронить ни единого шарика. Похоже, смерть Финна совсем его не опечалила. Глядя на папу, можно было подумать, что дядина смерть стала для него большим облегчением.
– Если вы вдруг увидите, что тот человек вошел внутрь, сразу же дайте мне знать. Договорились?
Мы обе кивнули.
– Ради мамы и бабушки. Вам понятно?
Мы снова кивнули.
– Вы у меня молодцы. Я знаю, как вам тяжело, но вы обе отлично держитесь. – Он положил руку мне на плечо. Потом – на плечо Греты. – Все потихоньку наладится. Жизнь продолжается, верно?
И опять мы кивнули. Папа еще на миг задержался, внимательно глядя на нас, потом развернулся, поднялся по ступенькам и скрылся внутри.
Мы с Гретой остались стоять на дорожке, подернутой тоненькой корочкой льда. Иногда бывает очень заметно, что я выше Греты, хотя она старше. Я наклонилась поближе к ней и кивнула в сторону человека, сидевшего на стене.
– А он, вообще, кто? – спросила я шепотом. Я почти не сомневалась, что она ничего мне не скажет. И оказалась права. Она промолчала и только взмахнула рукой, приглашая меня пройтись по дорожке. Поближе к тому месту, где сидел человек. Я подняла глаза и увидела, что он смотрит прямо на меня. Не на Грету. Только на меня. Он подался вперед, как будто готовясь подняться. Как будто думал, что я подойду поздороваться. Я уже почти развернулась, чтобы пойти в прямо противоположную сторону, но Грета схватила меня за руку и потащила за собой. Мы подошли совсем близко к тому человеку. Когда нас разделяло не больше пяти-шести метров, Грета остановилась, подождала пару секунд и откашлялась, прочищая горло.
– Он тот, кого сюда не приглашали, – сказала она достаточно громко, так что он наверняка ее услышал.
Я посмотрела на человека, который еще полминуты назад так упорно пытался поймать мой взгляд, но он уже отвернулся. Сидел, держа руки в карманах, и смотрел совершенно в другую сторону.
– А почему? Знаешь?
– Знаю, но не скажу, – усмехнулась сестра.
Грета всегда все знает. Потому что подслушивает и шпионит. У нас в доме есть несколько мест, откуда слышен любой разговор. Я ненавижу эти места, а Грета, наоборот, обожает. Ее любимое место – ванная на первом этаже. Этой ванной мы пользуемся очень редко, и поэтому все забывают, что она вообще есть. Но даже если тебя обнаружат, всегда можно крикнуть: «Минуточку!» – и только потом открыть дверь. Но к тому времени ты уже все услышал.
Я сама не люблю подслушивать. Потому что не раз убеждалась: то, что родители пытаются скрыть от детей, детям действительно лучше не знать. Нет никакой радости в том, чтобы знать, что твои дедушка с бабушкой собираются разводиться, потому что дедушка вспылил и ударил бабушку по лицу, причем до этого они прожили вместе пятьдесят два года и за все это время даже ни разу не поругались. Нет никакой радости в том, чтобы заранее знать, что тебе подарят на Рождество или на день рождения. Потом придется изображать радостное удивление, а это будет уже нечестно. И неинтересно. Нет никакой радости в том, чтобы знать, что на родительском собрании маме сказали, что ты – очень средняя ученица по математике и по английскому и что большего от тебя и не ждут.
Грета чуть ли не бегом бросилась к входу в зал для траурных церемоний. На крыльце она остановилась и обернулась ко мне.
– Я тут подумала… – громко и четко проговорила она. – Я тут подумала и решила – ладно. Скажу. – Она провела рукой по щеке, стирая растаявшие снежинки.
Мне вдруг стало зябко, и даже слегка затошнило. Так бывает всегда, когда Грета делится со мной информацией. Мне очень хочется знать, но при этом мне страшно. Я еле заметно кивнула.
Она указала в сторону того человека и сказала:
– Это он убил дядю Финна.
Я обернулась к нему, но он уже уходил. Я увидела лишь его спину. Увидела, как он сгорбился, забираясь в маленькую синюю машину.
На панихиде я сидела в переднем ряду и честно пыталась слушать все эти хорошие, добрые слова, которые собравшимся волей-неволей пришлось говорить о Финне. В зале было душно и сумрачно. Стулья были из тех, что вынуждают тебя сидеть только прямо и никак иначе. Грета сидела не с нами. Она сказала, что сядет в последнем ряду, и когда я обернулась взглянуть на нее, то увидела такую картину: Грета сидела, низко склонив голову, зажав уши руками и крепко зажмурившись. Именно зажмурившись, а не просто закрыв глаза. Как будто пыталась отгородиться от происходящего. Притвориться, что ничего этого нет. На миг мне показалось, что Грета плачет. Но это вряд ли.
Мама произнесла несколько слов о том, как они с Финном были детьми. И каким он был замечательным братом. Все как-то размыто и очень туманно, словно мама боялась пораниться, если подробности будут слишком остры и пронзительны. После мамы выступил какой-то кузен из Пенсильвании. Потом слово взял распорядитель похорон. Я пыталась слушать и вникать, но все мои мысли были заняты исключительно тем человеком, который остался снаружи.
Мне не хотелось думать о том, как Финн заразился СПИДом. Это не мое дело. Если тот человек действительно убил Финна, значит, он был другом дяди – его бойфрендом, – но если у дяди был друг, то почему я об этом не знаю? И откуда об этом узнала Грета? Если бы Грета знала, что у дяди есть тайный бойфренд, она бы не преминула меня поддразнить. Она никогда не упускает возможности дать мне понять, что она знает что-то, чего не знаю я. Поэтому было лишь два варианта. Либо Грета узнала о дядином друге только сегодня, либо все это неправда.
Мне больше нравился второй вариант. Я решила, что надо поверить в него. Хотя это трудно: поверить во что-то, во что хочется верить. Обычно разум сам выбирает, во что верить, а во что нет. Но я все-таки заставила себя поверить, потому что при одной мысли, что Финн скрывал от меня такой важный секрет, меня буквально тошнило. В прямом смысле слова.
Панихида закончилась, все направились к выходу. Несколько человек задержались в вестибюле поговорить, а я сразу вышла на улицу и попробовала найти маленькую синюю машину. Но ее нигде не было. Ни машины, ни человека. Снег валил уже по-настоящему. Улицы и лужайки покрылись белым ковром, и мир вокруг сделался чистым и совершенным. Я застегнула молнию на куртке до самого верха и вышла на дорогу. Глянула в одну сторону, потом – в другую. Но ничего не увидела. Тот человек уже уехал.
7
Мне нравится приходить в лес после сильного снегопада, потому что все банки из-под газировки, пустые пивные бутылки и фантики от конфет исчезают, и не приходится очень сильно стараться, чтобы представить, что ты в другом времени. И еще это очень красиво: идти по снегу, по которому не ступала нога человека. Сразу кажется, что ты какой-то особенный. Пусть даже и знаешь, что это не так.
Я надела оранжевые митенки, которые Грета связала мне на кружке вязания в пятом классе. Огромные, совершенно бесформенные, с отверстиями для больших пальцев, располагавшимися в середине, а не сбоку. В тот день я не стала переодеваться в платье, но все-таки переобулась. Надела свои средневековые сапоги. На самом деле было не так уж и холодно, и я забрела дальше в лес, чем обычно: перешла ручей, протекавший у подножия холма, и поднялась на холм. Я старалась не думать о Финне и обо всех его тайнах, которые он, возможно, скрывал от меня. Я сосредоточилась на истории, которую мысленно сочиняла: что я – самая сильная во всей деревне, и, кроме меня, там некому ходить на охоту, и вот я отправилась в заснеженный лес, чтобы добыть оленя. Девчонки вообще-то не ходят охотиться, поэтому мне пришлось заколоть волосы и притвориться, что я мальчишка. Вот такая была история.
Свежий снег лег на слой старого, заиндевевшего, и каждый раз, делая шаг вперед, я немножко съезжала назад. Я совершенно выбилась из сил, когда наконец поднялась на вершину холма, и присела передохнуть. Села прямо на снег. Вокруг было так тихо. Я закрыла глаза. Вернее, они сами закрылись. На мгновение мне представилось лицо Финна. Я улыбнулась и зажмурилась еще крепче, надеясь удержать этот образ. Но он исчез. Я легла на спину и открыла глаза. Даже не знаю, сколько я пролежала на снегу, глядя на ломаные узоры, созданные сплетением голых древесных ветвей на фоне серого неба. Когда снег, придавленный моим телом, перестал поскрипывать, вокруг опять стало тихо, и, хотя я очень старалась думать только о Средних веках, в голову упорно лезли мысли о Финне. Плохо, что его кремировали. Лучше бы похоронили, потому что тогда я могла бы снять перчатки и прижать руки к земле, зная, что он где-то там. Что между нами по-прежнему есть какая-то связь – через все эти молекулы замерзшей грязи. Потом я стала думать о том человеке, которого не приглашали на похороны, и вдруг почувствовала себя ужасно глупо. Конечно, у такого удивительного человека, как Финн, должен был быть друг. А как же иначе? Наверное, это он и звонил мне в тот день. Англичанин, который знал мое имя. Который звонил из квартиры Финна. Который был там. С моим дядей Финном. У меня по щеке потекла горячая слезинка.
А потом в этой громадной, всеобъемлющей тишине раздался долгий печальный вой. Сначала мне показалось, что звук идет изнутри. Прямо из сердца. Как будто мир собрал все мои чувства и превратил их в протяжную ноту.
Я резко села. За первым воем раздался второй. Собаки, наверное. Или койоты, а может, волки. Звуки были какими-то зыбкими, ненадежными. Похожими на звучание дрожащих, надтреснутых голосов. Вот все умолкло, а потом снова раздался вой. Через пару секунд подключился еще один. И еще. Всего три или даже четыре. Я напряженно прислушивалась, пытаясь понять, далеко они звучат или близко. Но казалось, что звук был повсюду. Близко и далеко. Среди деревьев и под облаками. Вой сделался громче, и у меня перед глазами встала такая картина: огромный, лохматый, с густой свалявшейся шерстью волчище крадется среди деревьев. На какой-то миг я впала в странное оцепенение. Как будто и вправду перенеслась в Средние века, когда волки свободно бродили в лесах, и крали детей в деревнях, и могли запросто загрызть человека.
– Я не боюсь, – крикнула я в сторону холмов. А потом побежала, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Я не рассчитала прыжок и угодила одной ногой прямо в ручей. Кое-как выкарабкалась на берег, хватаясь за тонкие молодые деревца, росшие у самой воды. Через пару минут я уже выскочила на стоянку за школой. Машин почти не было. Я резко остановилась и согнулась пополам, пытаясь отдышаться.
– Черт! – воскликнула я, глядя на свою правую руку, и пнула высокую кучу грязного снега у края стоянки. Я потеряла перчатку, которую связала мне Грета.
8
– Пойдешь со мной на вечеринку?
Грета не улыбалась, когда задавала мне этот вопрос. Она вообще на меня не смотрела. Сидела, склонившись над туалетным столиком. А я как раз проходила мимо двери в ее комнату.
Я была уверена, что ослышалась. Поэтому остановилась и подождала, не прибавит ли Грета что-то еще. Наверное, вид у меня был на редкость дурацкий, когда я застыла на месте с отвисшей челюстью.
Сестра обернулась и смерила меня взглядом.
– На ве-че-рин-ку, – проговорила она по слогам. – Пойдешь?
Я вошла в комнату, где стояла все та же белая мебель, которую родители покупали, когда Грете было семь лет. Стены были покрашены все в тот же розовый цвет, а под потолком шла полоска все тех же обоев с Холли Хобби. Если судить по обстановке, то всякий, кто совершенно не знает Грету, сказал бы, что здесь живет милая, славная девочка. Я присела на кровать.
– А что за вечеринка?
– Хорошая.
– Ага.
Грета знает, что для меня не существует такого понятия, как хорошая вечеринка. Один человек, два человека – для меня это нормально. Но если вокруг много народа, я превращаюсь в голого землекопа. Это такие африканские грызуны типа кротов, у которых почти нет шерсти. Так вот, я превращаюсь в такого крота. Как будто у меня слишком тонкая кожа, а свет слишком ярок для глаз. Как будто нет для меня лучшего места на свете, чем тоннель глубоко под землей, прохладный и темный. Кто-то подходит ко мне, что-то спрашивает, а я смотрю на него совершенно пустыми глазами и лихорадочно соображаю, что бы такого сказать интересного. Но ничего интересного в голову не приходит, и в конечном итоге я просто киваю или пожимаю плечами, потому что ко мне подошел человек, что-то спросил, а теперь стоит, смотрит и ждет ответа – а для меня это слишком большое испытание. Вот так все и заканчивается, и на свете одним человеком, который считает меня полной дурой и пустым местом, становится больше.
Хуже всего – это глупая надежда. С каждой очередной вечеринкой, с каждой новой компанией я втайне надеюсь, что, может быть, это мой шанс. Что на этот раз я уж точно буду нормальной. Открою новую страницу. Начну все сначала. Но все получается как всегда. И я снова и снова ловлю себя на мысли: «Ну, вот опять…»
Поэтому я и стараюсь держаться подальше от всех, где-нибудь с самого края, и прошу лишь об одном: чтобы никто не пытался заглянуть мне в глаза. И хорошо, что обычно никто не пытается.
– Наверное, не пойду.
– Да ладно, Джун. Будет совсем не ужасно, обещаю.
Я с удивлением взглянула на сестру. Она говорила так искренне, так сердечно. Это было совсем не похоже на Грету.
– Правда. Вот тебе крест! – Она не стала креститься, но прижала обе руки к груди. Я очень старалась не улыбнуться, но губы сами расплылись в улыбке.
– А где вечеринка? – спросила я чуть погодя.
– Еще не знаю. Все устраивает Джиллиан Лэмптон. Ты же знаешь Джиллиан Лэмптон, да?
Да, я знала Джиллиан. Она тоже участвовала в школьном театре. Была осветителем на «Юге Тихого океана». Она красила волосы в черный цвет и носила стрижку каре. Мне всегда нравилось, как она выглядит, и я бы не отказалась выглядеть так же. Джиллиан училась на класс младше Греты, хотя, возможно, была старше ее.
Это большой секрет, известный очень немногим. Грета уже перешла в старшую школу, хотя ей всего шестнадцать. Никто из ее одноклассников и друзей не знает, сколько ей лет на самом деле. Вообще никто. Мы переехали в этот город, когда мне было пять, а Грете – семь. Она должна была пойти во второй класс, но ее записали в третий. По рекомендации учительницы из прошлой школы. Она сказала родителям, что Грете нечего делать во втором классе и что она замечательно справится, если пойдет сразу в третий. Папе не слишком понравилась эта идея. Но мама сказала, что это отличная мысль. «Если возможность сама идет в руки, ее надо хватать. А то уплывет и потом не вернется». Такой у нее был девиз. В основном, когда речь шла о Грете. Как будто возможности были скользкими мелкими рыбками. Самой Грете было, в общем-то, все равно. Вот так получилось, что ее перевели на класс старше. Хотя она и так-то была одной из самых младших в классе. Теперь Грета как минимум на год младше всех своих одноклассников и почти на два года – большинства из них. Но это секрет. Когда к Грете на день рождения приходят друзья, мама ставит на торт одну лишнюю свечку. Просто чтобы было. У нас даже сложилась традиция: каждый год Грета решает, какая из свечек – обманная, и, когда задувает свечи, старается, чтобы «обманка» осталась гореть. Грета боится, что если задуть эту лишнюю свечку, то желание не исполнится. Или исполнится, но с точностью до наоборот. Конечно, в школьных документах записан ее год рождения, но вообще-то о нем никто не вспоминает. Хотя иногда это очень заметно. Во всяком случае, я иногда замечаю, что Грета, по сути, еще ребенок по сравнению со всеми ее друзьями. Хотя никогда не скажу ей об этом.
– Не знаю, Грета. Наверное, мама не…
– Не беспокойся о маме. С мамой я разберусь. Тем более у них там завал с декларациями. Маме сейчас явно не до тебя. – Грета склонила голову набок и уперла руки в бока. – Так ты идешь?
– Я… А почему ты меня позвала?
Во взгляде сестры промелькнуло какое-то странное выражение. Я так и не поняла, что это было: любовь, сожаление или злость. А потом Грета сказала:
– А почему бы мне тебя и не позвать?
«Потому что ты меня ненавидишь», – подумала я про себя, но вслух этого не сказала.
Три года назад родители перестали приглашать к нам приходящую няню на время подачи налоговых деклараций. Грете сказали, что теперь она будет за старшую. Родители ей доверяли. «Вы у меня благоразумные девочки», – сказала мама. В первый год без няни Грета не отходила от меня ни на шаг. Помогала мне делать уроки, сидела рядом со мной в автобусе по дороге домой. Делала сандвичи с сыром и майонезом, и мы ели их у нее в комнате и притворялись, что мы – настоящие сироты и у нас нет никого, кроме друг друга. Иногда в доме бывало так тихо – так тихо и пусто, – что нам и вправду казалось, что мы одни в целом свете, и было очень легко в это поверить. Если бы Грета позвала меня на вечеринку тогда, я бы не раздумывала ни секунды. Хотя я всегда ненавидела вечеринки, я бы сразу ответила «да». Я бы в ней не усомнилась.
Трудно сказать, когда именно мы перестали быть лучшими подругами, когда перестали быть хоть сколько-нибудь похожими на сестер. Грета перешла в старшую школу, а я еще оставалась в средней. У Греты появились новые друзья, а у меня был Финн. Грета сделалась настоящей красавицей, а я… я была странной. Не знаю. Все это могло бы и не отразиться на наших с ней отношениях, но – отразилось. Наверное, все это вместе было как вода. Мягкая и безобидная поначалу, со временем она пробивает любую скалу. И там, где была толща камня, вдруг возникает Большой каньон.
– Пойдем вместе. Пожалуйста, Джун.
– Не знаю. Может, и пойдем, – пробормотала я. Мне очень хотелось поверить, что она говорит искренне, что здесь нет никакого подвоха. Я заглянула ей прямо в глаза, пытаясь понять, что творится у нее в душе. Но ничего не увидела, вообще ничего. А потом мне в голову пришла совершенно безумная мысль, что, может быть, это Финн. Может быть, мертвые как-то умеют проникать в душу к живым и делать так, чтобы те стали добрее и лучше. На самом деле я не верю во всю эту мистику, но все равно улыбнулась сестре. На всякий случай. На случай, если глазами Греты на меня смотрел Финн.
– Так пойдешь? – спросила она.
Я оглядела ее комнату. Повсюду валяется смятая одежда. Туалетный столик завален тюбиками помады и тенями для век. Там же, на столике, лежит сценарий «Юга Тихого океана». Смятая банка из-под «7Up» стоит на несобранном кубике Рубика. За зеркало, в правом верхнем углу, вставлены фотографии. Снимки из фотоавтомата. Грета с друзьями. Я заметила, что из-под них торчат мои ноги. Моя старая фотография, наша старая фотография. Мои грязные белые сандалии и краешек моего желтого сарафана в горошек.
Не знаю, что именно меня подтолкнуло. Может быть, то обстоятельство, что Грета все еще держит почти на виду нашу с ней старую фотографию. Или то, что она предложила мне сделать что-то с ней вместе, и это было так неожиданно и приятно. Или то, что я знала: это был мой последний год с Гретой. Ее приняли в Дартмут, не дожидаясь результатов выпускных экзаменов. Это казалось невероятным, но уже было известно, что через полгода Грета уедет из дома и будет жить в другом городе. Возможно, дело решило все вместе. Возможно, что-то одно. А может, я просто подумала, что вечеринка, наверное, еще не скоро, и у меня будет время пойти на попятный. Так зачем портить момент? Может, поэтому и кивнула.
– Ладно. Пойдем.
Грета хлопнула в ладоши и даже подпрыгнула на месте. Потом подошла ко мне и подняла мои косы наверх.
– Я помогу тебе сделать прическу, – сказала она. – У меня еще осталось немного спрея для осветления волос, а Меган говорит, что вовсе не обязательно ходить под солнцем. Если встать близко к лампе, спрей тоже должен подействовать. И макияж тебе сделаем… – Она отпустила мои косы, вернулась к столику, взяла очки, надела их и внимательно на меня посмотрела.
– Теперь все будет как раньше, да? Мы снова вместе? Я помогу тебе забыть дядю Финна. И теперь, когда Финна не стало, мы с тобой… – Грета улыбалась. Почти сияла.
Я слегка отстранилась и уставилась на нее во все глаза.
– Я не хочу забывать дядю Финна.
Вот что я сказала. Слова вырвались из самого сердца, и хотя это была чистая правда, я потом долго жалела, что не сумела промолчать. Ведь я могла бы сказать ей: да, Грета. Мы снова вместе. Мы снова лучшие подруги. Теперь все будет как раньше.
Грета быстро отвернулась, но я успела увидеть разочарование и горечь в ее глазах. Она принялась перебирать вещи у себя на столе, стоя ко мне спиной. А когда вновь повернулась ко мне, в ее взгляде не было ничего, кроме обычной снисходительной неприязни.
– Господи, Джун. Тебе обязательно быть такой дурой?
– Я…
– Уходи.
Я пошла к двери, но на пороге все-таки обернулась.
– Грета?
Она тяжко вздохнула:
– Ну, что еще?
– Я совсем не хотела…
Она раздраженно взмахнула рукой.
– Не хочу ничего слушать. Уходи.
9
Дядя Финн был не только моим родным дядей, но еще и крестным. Крестными Греты были Инграмы: Фред Инграм, менеджер службы контроля качества в «Pillsbury», и Бекка Инграм, его жена. У них есть сын Мики, который младше меня года на два. Мы с Гретой знаем Мики с того самого дня, когда он родился на свет с этим жутким, похожим на кляксу от пролитого портвейна родимым пятном на плече. Инграмы часто ездят к нам в гости. Особенно летом. На барбекю. И мистер Инграм всегда привозит с собой «свое» мясо. Когда мы ходим в городской бассейн или бесимся у нас на лужайке под поливальной установкой, Мики никогда не снимает футболку. Прячет родимое пятно. Прячет даже от нас с Гретой, хотя мы его уже видели – и не раз.
Инграмы – хорошие. Но по ним никогда не скажешь, что они крестные Греты. А Финн всегда очень серьезно относился к своим обязанностям крестного. Однажды я спросила у мамы, почему Финн не стал крестным и Греты тоже, и мама сказала, что, когда родилась Грета, Финн еще не успел остепениться. Еще не «нагулялся». Путешествовал по всему миру, нигде не задерживаясь надолго. Мне казалось, что это здорово. Но мама считала подобное поведение неподобающим.
Она сказала, что, даже если бы Грета родилась после меня, она все равно бы не позвала Финна в крестные во второй раз. Потому что он слишком ответственно к этому подошел. Она и не думала, что он примет все так близко к сердцу и проявит такой интерес, и теперь, когда я стала старше, это уже вызывает тревогу. Однажды, еще до смерти дяди, мама сказала, что мне надо учиться обходиться без Финна, а то я как-то уж слишком от него завишу.
Мне ужасно не нравилось, когда мама так говорила. Мне ужасно не нравились все ее речи, начинавшиеся словами: «Девочка твоего возраста…»
Я знаю, как Грете было обидно, что у меня – дядя Финн, а ей достались какие-то Инграмы. И ведь Финн никогда от нее не отмахивался. Не говорил, что ей с нами нельзя. Не исключал ее из нашей компании. Она сама себя исключила. Она не раз говорила: «Не хочу вам мешать. Не хочу портить тебе драгоценное время с крестным дядюшкой Финном», – этим своим раздраженным голосом. И я никогда с ней не спорила, потому что хотела, чтобы Финн был только моим.
Прошлым летом Мики попытался поцеловать Грету. Она сказала ему, что это гадко и непристойно. Потому что он ее крестный брат, и это будет почти как инцест.
– Но ты можешь поцеловаться с Джун, – сказала она.
Мики покраснел, как вареный рак, и смутился, не зная, куда девать глаза. Никто не хотел целоваться со мной, даже Мики, и Грета, конечно же, постаралась лишний раз мне об этом напомнить. Но я понимала, что она просто завидует мне из-за дяди Финна. Не то чтобы она постоянно об этом думала, но и не забывала. С Финном мне повезло, и она это знала.
10
Во вторник, на следующий день после похорон Финна, портрет наконец-то освободили от этого жуткого пластикового пакета. С утра шел снег, и было объявлено, что занятия в школе начнутся на два часа позже, но потом поднялась настоящая метель, и уроки вообще отменили. Я люблю снег. Особенно когда его много и можно ходить по сугробам и представлять, что ты гуляешь по облакам.
Когда мы были маленькими, до того, как Грета сделалась такой злюкой, мы с ней любили играть в снегу у нас на заднем дворе. Мы ложились на спину и смотрели в небо, стараясь не моргать, когда снежинки падали нам на лицо. Грета сказала, что однажды снежинка приземлилась ей прямо на зрачок, и она сумела ее разглядеть. До мельчайших деталей. Вплоть до самого крошечного кристаллика. Это длилось лишь долю секунды. Снежинка как будто впечаталась ей в зрачок. Грета сказала, что она в жизни не видела такой красоты. Даже представить себе не могла, что такое бывает. Красивее, чем ангелы в небесах. Грета тогда побежала в дом, схватилась за мамину юбку и горько расплакалась. Потому что понимала: я никогда-никогда не увижу эту снежинку. Понимала, что у нее никогда не получится показать мне эту невообразимую красоту. Мама время от времени вспоминает эту давнюю историю, чтобы напомнить нам с Гретой, какими мы были раньше и как мы дружили. Иногда я ей верю. Иногда – нет.
– Нужно вставить его в рамку, – сказала мама. Папа в тот день все же поехал на работу, а мама осталась дома. Она беспокойно топталась на кухне, прижимая к груди портрет в черном пакете. В кухне пахло яичницей и кофе. Снег за окном шел так густо, что машину, стоявшую во дворе, даже не было видно.
– Зачем ему рамка? – спросила Грета.
– Картины обычно вставляют в рамки, – сказала мама. – Давайте достанем и посмотрим.
Боятся тут нечего. Так я сказала себе. И протянула руки к пакету. Мама передала мне его и отступила на пару шагов. Я положила пакет на стол и достала картину.
И вот они мы, я и Грета, глядим с портрета на нас настоящих. У меня нарисованной та же прическа, с которой я хожу всегда: две тонкие косички по бокам, убранные назад и связанные на затылке. Грета – в очках, потому что Финн сказал ей, что хочет нарисовать нас такими, какие мы в жизни. Сказал, что портрет должен был правдивым. Финн изобразил меня так, словно я знаю какую-то очень важную тайну, но никому ничего не скажу. Такой вид больше подошел бы Грете, потому что она такая и есть, но ее Финн нарисовал по-другому: как будто она только что рассказала кому-то ужасный секрет и теперь ждет реакции. Стоит лишь посмотреть на картину, и сразу становится ясно, что дядя Финн был хорошим художником. Очень хорошим. Даже не представляю, как у него получалось извлекать на поверхность самые потаенные мысли людей и изображать их на холсте. Как вообще можно увидеть чьи-то мысли и превратить их в мазки красной, белой и желтой краски?
Мы долго рассматривали портрет, не в силах оторваться. Мама стояла между Гретой и мной, приобняв нас обеих за талии. Я смотрела как завороженная. Впитывала в себя каждый мазок, каждый оттенок краски, каждую линию на холсте. И мама тоже. И даже Грета. Я это чувствовала. Чувствовала, что им тоже хочется погрузиться в эту картину. Мама все крепче и крепче сжимала руку, лежавшую у меня на талии. А когда рука сжалась в кулак, мама склонила голову и вытерла щеку о рукав свитера.
– Все в порядке? – спросила я.
Мама быстро кивнула, не сводя глаз с портрета.
– Зарыть в землю такой талант… Вы посмотрите. Посмотрите, как он писал. У него было столько возможностей…
Мне показалось, что мама сейчас заплачет. Но она все-таки переборола себя. Резко хлопнула в ладоши и проговорила преувеличенно бодрым тоном:
– Ладно. Надо что-то решать с рамкой. Есть идеи?
Я склонила голову набок, внимательно вглядываясь в портрет.
– А только мне кажется, или… не знаю… что-то в нем изменилось, нет?
– Не знаю. – Грета взялась рукой за подбородок, изображая задумчивость. – Вид у тебя все такой же дурацкий.
– Не сейчас, Грета, – строго сказала мама.
Но портрет действительно изменился. Я видела его, когда мы в последний раз были у Финна. Краска еще не просохла. А Финн казался каким-то маленьким, просто крошечным. Таким я его никогда не видела. У него падало зрение, и он сказал, что уже не сумеет доделать портрет так, как надо. Он положил руку мне на плечо и сказал:
– Прости, Джун. Он мог бы быть лучше. Гораздо лучше.
Финн сказал, что мы продолжим работать.
Мы. Он сказал «мы». Как будто я тоже участвовала в работе.
– Ну что? Насмотрелись? – спросила мама, потянувшись к портрету.
– Одну секунду. – Я пыталась понять, что же изменилось. Пристально изучила свои глаза, потом – глаза Греты. Нет. Глаза остались такими же, как были. И тут я заметила пуговицы. Пять пуговиц у меня на футболке. Теперь, когда я их увидела, мне стало странно, что я не заметила их сразу. Тем более что они были совсем не похожи на руку Финна, а походили скорее на неумелый детский рисунок. Пять черных кружочков с белыми пятнышками внутри – как бы с бликами отраженного света. С чего бы Финн вдруг решил нарисовать эти пуговицы? Я прикоснулась кончиком пальца к самому верхнему кружочку. Слой краски на нем был чуть толще, чем на всем остальном холсте, и почему-то мне сделалось грустно.
Я взглянула на маму и Грету и решила не говорить им о пуговицах.
– Ладно, я посмотрела, – сказала я. – Можешь убирать.
В пятницу, после школы, мы поехали в багетную мастерскую. Хозяин мастерской, мистер Траски, в меру упитанный и невысокого роста, сказал, что он все понимает – раму следует выбирать так, чтобы все были довольны, – и разрешил нам задержаться на полчаса после закрытия. По просьбе мамы мистер Траски все прикладывал и прикладывал образцы рамок к портрету, но каждый раз кто-нибудь из нас качал головой и говорил: «Нет, не то». В общем, мы так ничего и не выбрали. Необрамленный портрет убрали все в тот же черный пакет и вернули в багажник.
– Завтра мы опять приедем, – сказала мама, садясь в машину. – Он говорил, у него есть еще рамки.
– А может, ты сама съездишь? Без нас? – спросила Грета.
– Нет, нет, нет. Вам обязательно нужно поехать. Это ваша обязанность. Финн написал этот портрет для вас.
– Тогда я сразу скажу, что мне понравилась обычная черная деревянная рамка.
А мне вот совсем не понравилась черная деревянная рамка. С такой рамкой у нарисованных нас получался какой-то ехидный вид.
С каждой рамкой, которую прикладывал к холсту мистер Траски, портрет как будто менялся. Маме понравилась «Валенсия»: рама из темного дерева с мелким резным узором, похожим на россыпь кофейных зерен. А мне показалось, что с этой рамкой портрет выглядит скучным.
– А мне понравилась золотая. Которая под старину.
– Почему я не удивлена? – хмыкнула Грета.
Модель, которая понравилась мне, называлась «Тосканское золото». Шикарная рама, нарядная и элегантная. Картину в таком обрамлении можно вешать в музее.
– Финну бы она понравилась, – сказала я.
– Откуда ты знаешь, что бы ему понравилось? – резко переспросила Грета. – Или ты научилась прыгать со скакалкой прямо в загробное царство?
Меня иногда поражает, как Грета все помнит. Когда мне было девять, я придумала такую теорию о путешествиях во времени: если крутить скакалку назад и прыгать очень-очень быстро, то можно перемещаться во времени в обратную сторону. Если хорошенько взбить воздух вокруг, он превратится в пузырь, который перенесет меня в прошлое. Но я давно уже в это не верила. Я понимала, что так не бывает.
У мамы был такой вид, как будто она сейчас разрыдается или, наоборот, психанет, так что я промолчала и только легонько пихнула Грету локтем.
– Завтра. Все завтра. Как говорится, утро вечера мудренее, – сказала мама.
И оказалась права. Когда мы назавтра приехали в багетную мастерскую, то взяли первую же раму, которую нам показал мистер Траски. Может быть, все получилось так быстро, потому что Грета нашла уважительную причину, чтобы не ехать с нами, и мы были с мамой вдвоем. А может, мы просто устали и хотели скорее вернуться домой. А может быть, это и вправду была самая лучшая рама: коричневая, не очень темная, но и не очень светлая, со скошенными краями. Она обрамляла холст, оставаясь почти незаметной, и портрет в ней не менялся.
– Оставьте мне вашу картину на пару дней. – Мистер Траски принялся что-то писать у себя в блокноте. – Все будет готово, ну… скажем, во вторник утром.
– Ее обязательно оставлять? – спросила я.
Мама положила руку мне на плечо.
– Солнышко, это так быстро не делается.
– Но я не хочу оставлять ее здесь. Не хочу.
– Не обижай мистера Траски. Он и так делает все, что в его силах. – Мама улыбнулась хозяину мастерской, но тот смотрел в свой блокнот.
– Давайте договоримся так. Завтра у меня выходной, но я после обеда приду в мастерскую. Специально для вас. И когда все будет готово, сам привезу вам картину. Так вас устроит?
Я молча кивнула. Мне очень не нравилось, что портрет на ночь останется в мастерской, но я понимала, что ничего лучше мне все равно не предложат.
– Скажи спасибо мистеру Траски, Джун. Он так любезен.
Я поблагодарила его, и мы ушли. Мистер Траски выполнил свое обещание и привез нам портрет уже на следующий день. Поставил его на кухонную стойку, чтобы мы посмотрели и оценили.
– Настоящее произведение искусства, – сказал папа.
– И рамка смотрится идеально. Огромное вам спасибо, – добавила мама.
– Хорошая рама – это очень важно, – сказал мистер Траски.
Мама с папой кивнули, хотя я не уверена, что они его вообще услышали.
– А тебе нравится, Джун? Ты довольна? – спросил мистер Траски.
На такие вопросы принято отвечать «да». Но если честно, мне вовсе не нравилось то, что я видела. Я видела себя и Грету, втиснутых в рамку вместе. Теперь, что бы ни произошло, мы с ней навечно останемся запертыми внутри этого прямоугольника из четырех деревянных планок.
11
– Распишитесь, пожалуйста… – Почтальон протянул мне планшет с бланком и показал строчку, где расписаться. Его кепка была надвинута низко на лоб, и козырек нависал над глазами, почти полностью их закрывая. Почтальон пробежал взглядом список фамилий. – Джун. Джун Элбас.
Это было примерно через две недели после похорон Финна. Почтальон пришел во второй половине дня, когда я была дома одна. Я кивнула и взяла у него ручку. Его рука слегка дрожала. Расписываясь на бланке, я краем глаза заметила, что почтальон пытался украдкой заглянуть в дом. Я вернула ему ручку, и он передал мне коробку.
– Спасибо, – сказала я, глядя ему в лицо.
Он тоже смотрел на меня, и на мгновение мне показалось, что он хочет что-то сказать. Потом он улыбнулся.
– Да. Хорошо. Замечательно… Джун.
Он развернулся, чтобы уйти, но на миг задержался на крыльце, стоя ко мне спиной.
Я хотела закрыть дверь, но почтальон по-прежнему стоял на крыльце. Мне показалось, что он сейчас повернется обратно ко мне. Он приподнял руку, вытянув вверх указательный палец, словно собираясь что-то сказать. Но ничего не сказал. Медленно опустил руку и ушел.
Я поднялась к себе в комнату и села на кровать, держа посылку на коленях. Вся коробка была замотана коричневым упаковочным скотчем. Как будто кто-то взял рулон широкого скотча и принялся обматывать коробку, пока клейкая лента не покрыла всю поверхность. Я попыталась найти кончик скотча, чтобы подцепить его и отклеить, но у меня ничего не вышло. Пришлось взять ножницы и разрезать. Я терялась в догадках, от кого эта посылка. День рождения у меня еще не скоро. Рождество было два месяца назад. Обратного адреса не было. Не было и почтовых наклеек. Только мой собственный адрес и имя, написанные черным маркером прямо на скотче.
Внутри обнаружились два непонятных предмета – один побольше, другой поменьше, – обернутые в несколько слоев газеты и толстой пупырчатой пленки. Первым я начала разворачивать маленький сверток. Когда я дошла до последних слоев упаковки и предмет внутри уже начал прощупываться, я все равно не могла понять, что это такое. А потом увидела проблеск ярко-синего цвета с красными и золотыми узорами и поняла, что это крышка русского заварочного чайника, любимого чайника дяди Финна. Я едва не уронила ее на пол. Кто-то так постарался, так тщательно упаковал… А я ее чуть не разбила! Я тут же схватила большой сверток и принялась его разворачивать, лихорадочно сдирая упаковку. Мне так хотелось поскорее увидеть весь чайник.
Последний раз я видела его в то воскресенье, когда мы в последний раз были у Финна. В то воскресенье, когда Грета не захотела поехать с нами. Когда мама чуть не поссорились с Финном из-за этого чайника. Финн хотел, чтобы она забрала чайник себе, а мама не соглашалась. Финн пытался всучить ей чайник, а мама отталкивала его, не желая брать.
– Прекрати, – сказала она. – Даже не думай. Мы еще увидимся, и не раз.
Финн посмотрел на меня, словно решая, можно ли сказать правду. Я отвернулась. Мне хотелось уйти в другую комнату, но у Финна была очень маленькая квартира: только гостиная и спальня, – и уходить было некуда. Разве что в крошечную кухоньку за двустворчатыми «ковбойскими» дверями, как в салунах на Диком Западе.
– Данни, возьми. Просто возьми. Для Джун. Дай мне хоть раз сделать по-своему.
– Ха! Хоть раз… Надо же такое придумать! – Мамин голос звучал пронзительно и визгливо. – Нам не нужен твой чайник, и давай не будем об этом.
Финн подошел ко мне, прижимая чайник к груди.
Мама строго взглянула на меня.
– Даже не вздумай, Джуни.
Я словно оцепенела. Мама преградила Финну дорогу и потянулась за чайником. Финн поднял чайник над головой и попробовал передать его мне.
Мне очень живо представилось, что сейчас будет. Очень живо представилось, как чайник падает на пол и разбивается вдребезги. Как свет заходящего солнца, проникающий в комнату сквозь огромные окна, отражается бликами от разноцветных осколков. Мне очень живо представилась половинка танцующего медведя, медведя без головы – только задние лапы, направленные в потолок.
– Глупая старая перечница, – сказал Финн. Он всегда называл маму «старой перечницей». С самого детства, как она однажды призналась. У них между собой были и другие шутки. Финн называл ее «старой овцой в шкуре ягненка», что вовсе не соответствовало действительности, а мама его называла «ягненком в шкуре старого барана», и это была чистая правда. Финн всегда и одевался по-стариковски: вязаные кофты на пуговицах, какие-то бесформенные старческие ботинки, клетчатые носовые платки в карманах. Но ему это шло. На нем это смотрелось нормально. Нормально и правильно.
– Глупая старая перечница.
Мама перестала тянуться за чайником. Слабо улыбнулась и вдруг вся поникла.
– Может быть, – сказала она. – Может быть, я такая и есть.
Финн опустил чайник и отнес его обратно на кухню. Дядя был такой бледный, что раскрашенный чайник у него в руках казался каким-то уж слишком ярким, просто кричащим. Мне хотелось взять чайник себе. Это же совсем ничего не значит. Если я возьму чайник, это не значит, что мы больше никогда не увидим Финна.
– Джун, – позвал Финн из кухни сиплым, надтреснутым голосом. Теперь его голос звучал только так. – Можно тебя на секундочку?
Когда я вошла в кухню, Финн обнял меня и прошептал мне на ухо:
– Это твой чайник. Я хочу, чтобы он был у тебя, хорошо?
– Хорошо.
– И обещай мне, что будешь заваривать в нем чай только для очень хороших людей. – Его голос трещал, словно раскалываясь на части. – Для самых лучших, да? – Он прижимался щекой к моей щеке, и его щека была влажной. Я кивнула, не глядя на него.
Я сказала, что обещаю. Он сжал мою руку, потом чуть отстранился и улыбнулся.
– Я хочу, чтобы у тебя в жизни все было именно так, – сказал он. – Чтобы тебя окружали только очень хорошие, самые лучшие люди.
И тут я все же не выдержала и расплакалась, потому что самым лучшим был Финн. Самым лучшим из всех, кого я знала.
Вот как все было в тот день, когда я в последний раз видела этот чайник. Я думала, что больше уже никогда его не увижу. И вот теперь мне принесли его прямо домой.
Я быстро распаковала сам чайник и поставила его на стол. Да, это он. Тот самый чайник. Собираясь закрыть его крышкой, я заметила, что внутри что-то есть. Сперва я подумала, что это всего лишь обрывок упаковочной бумаги, но лист был сложен как-то уж чересчур аккуратно. И только потом я увидела надпись: «Для Джун». Записка? Мне? Неужели от Финна?! Внутри всколыхнулась безумная радость пополам со страхом.
Я собрала всю пупырчатую пленку и завернула в нее чайник. Но записку, конечно, оставила. Потом убрала чайник обратно в коробку. Еще раз ее осмотрела. Никакого обратного адреса, ни марок, ни почтовых штемпелей. Разве на посылках не должно быть каких-то отметок? На мгновение мне в голову пришла совершенно дурацкая мысль, что, может быть, чайник прислал дух Финна. Но потом я вспомнила почтальона, и только тогда до меня дошло, что ведь он был одет не по форме. Синий пиджак, синяя бейсболка? Если бы родители узнали, что я открыла ему дверь, они бы убили меня на месте. Но было что-то еще… что-то странное… что-то знакомое в его взгляде, когда он смотрел на меня. Но почему? Где я могла его видеть? И тут меня осенило. Это же тот человек с похорон. Тот, о ком Грета сказала, что он убийца. У меня все внутри похолодело. Он приходил к нам сюда. Буквально стоял на пороге.
Я запихнула коробку в самый дальний угол шкафа и схватила записку, лежавшую на кровати. Бегом спустилась по лестнице, сорвала с вешалки куртку. Сунула записку в карман, выскочила на улицу и, хотя уже смеркалось, направилась в лес.
12
26 февраля 1987
Дорогая Джун,
меня зовут Тоби. Я был близким другом твоего дяди Финна. Знаешь, я тут подумал, что, может быть, нам стоит встретиться и поговорить? Ты, наверное, знаешь, кто я. Однажды мы с тобой разговаривали по телефону. Приношу искренние извинения, если в тот раз тебя напугал. И еще ты меня видела на похоронах. Я тот самый человек, которого туда не приглашали.
Пожалуйста, пойми меня правильно и не пугайся, но я бы не советовал рассказывать родителям об этом письме. Даже сестре лучше не говорить. Думаю, ты сама знаешь, как они к этому отнесутся. Может быть, ты – единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как я. И мне кажется, если мы с тобой встретимся, это будет полезно для нас обоих.
Вот что я предлагаю: в пятницу, 6 марта, я приеду на вашу железнодорожную станцию к 15.30. Если ты тоже придешь, мы можем поехать куда-нибудь на электричке и спокойно поговорить. Как тебе такое предложение?
Не знаю, что именно тебе обо мне говорили, но, возможно, все это неправда.
Надеюсь на скорую встречу,
Тоби.
Вот что было написано в том письме. Мне пришлось прочитать его, сидя на бордюре под фонарем на стоянке у школы, потому что в лесу было уже темно. На улице стояли какие-то ребята из театральной студии. Ждали, когда за ними приедут родители. Я села в самом дальнем углу стоянки и натянула на голову капюшон, очень надеясь, что меня никто не заметит.
Прочитав письмо, я убрала его в карман и пошла в лес – прямо туда, в темноту. В лесу было промозгло и сыро, но я этого не замечала. Я шла, шла и шла, пока не добралась до ручья. Вдоль берегов он покрылся тоненькой корочкой льда, в которую вмерзли опавшие листья. Но посередине вода не замерзла и текла быстрой извилистой струйкой, словно спасаясь от погони. Словно боясь, что мороз все же сумеет ее схватить. Я перепрыгнула через ручей, прошла еще немного вперед и присела на большой мокрый камень. Наверное, я зашла дальше, чем собиралась, потому что откуда-то из лесной чащи снова донесся все тот же печальный протяжный вой, который я слышала в прошлый раз. Хотя, может быть, это не я зашла дальше. Может быть, эти волки – или кто это был? – сами подошли ближе. Я достала из кармана письмо. Хотела прочесть его еще раз. Щурилась, напрягала глаза, но не смогла разобрать ни слова. В лесу было слишком темно. Деревья, даже без листьев, загораживали весь свет, который еще оставался.
Но это уже не имело значения. Мне не нужен был свет. Все, что было написано в том письме, накрепко отпечаталось у меня в сознании еще с первого раза. «Ты – единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как я». И что это значит, скажите на милость? Как это понимать? Человек притворяется почтальоном, заявляется прямо домой к племяннице своего умершего любовника и пишет ей – то есть мне, – что тоскует по Финну, по моему дяде Финну, так же сильно, как я. Человек, который убил дядю Финна. Мне хотелось завыть вместе с теми волками. Или просто закричать – так, чтобы горячий пронзительный вопль превратил мое дыхание в призрачный пар посреди промерзшего зимнего леса. Но я не стала ни кричать, ни выть. И просто тихо сидела на камне. Мне хотелось порвать письмо на тысячу кусочков. Бросить эти кусочки в холодный ручей и смотреть, как вода уносит их прочь. Но я не порвала письмо. Я сложила его, убрала в карман и пошла домой.
13
– Мама?
– Да?
– А что теперь будет с квартирой Финна?
Разговор произошел в тот же вечер, когда я вернулась домой из леса. Я дождалась, пока Грета уйдет к себе в комнату. Папа смотрел вечерние новости по телевизору, а мама на кухне драила мультиварку. Она была в желтых резиновых перчатках и так яростно терла мочалкой ведерко, что ее плечи тряслись. По тому, что мама делает дома по вечерам, можно определять, сколько времени прошло от начала периода подачи налоговых деклараций. Пока что она еще мыла посуду перед тем, как лечь спать. К середине марта ведерко из мультиварки будет отмокать в раковине до утра, а мама – на пару с папой – до поздней ночи сидеть на диване, обложившись папками с документацией и отчаянно борясь со сном.
Услышав мой вопрос, мама прекратила тереть ведерко и на секунду замерла, глядя в темноту за окном. Потом медленно сняла перчатки, бросила их в раковину и повернулась ко мне. Я заметила, что она слегка хмурится. Хотя было видно, что она очень старается изображать невозмутимое спокойствие.
– Давай сядем, поговорим. – Она указала в сторону гостиной. – Ты иди. Я тоже сейчас приду.
Я сунула руку в карман, где лежало письмо. Провела пальцами по сгибу сложенного листа. Посмотрела на маму и подумала, что она даже не представляет, что именно я прячу в кармане. И еще подумала, что скажу ей. Разумеется, скажу. Надо только выбрать подходящий момент.
Каждый раз, как я захожу в гостиную, мне кажется, что девочки на портрете смотрят прямо на меня. Мы повесили портрет в тот же вечер, когда мистер Траски его привез. Сначала мама хотела, чтобы он висел у меня и у Греты. Поочередно. Месяц – в ее комнате, месяц – в моей. Мама сказала, что Финн написал этот портрет для нас. Грета тут же взвилась на дыбы и заявила, что не хочет вешать портрет у себя. Потому что он ее пугает и вообще ей не нравится, как Финн ее изобразил. Она сказала, что Финн нарочно придал ей такой идиотский вид. И еще Грета сказала, что ей не нравится, как он изобразил и меня тоже.
– Почему? – спросила я. – По-моему, нормально изобразил. Мне нравится.
– Еще бы тебе не понравилось! С тобой-то он постарался. На портрете ты выглядишь в сто раз лучше, чем в жизни.
Грета была права. Я очень нравилась себе на портрете. Там у меня были умные глаза (в жизни они не такие, я точно знаю), и еще я казалась гораздо меньше. Грета, мама и Финн – они все худые и стройные. А мы с папой крупные и неуклюжие, этакие нескладные медведи. Но на картине мы с Гретой казались почти одинаковыми по комплекции.
И все-таки если сравнить меня с Гретой, то в жизни Грета гораздо красивее. И на портрете она получилась красивее. О чем я ей и сказала.
– Я не красивее, дурында. Я просто старше. Ты что, даже разницы не видишь?
Услышать такое от Греты было приятно. Просто надо знать Грету. Она говорит много обидного и плохого, но среди ее жестких, язвительных слов иной раз проглядывает что-то очень хорошее. Ее слова как жеоды. Снаружи – грубый и неприглядный известняк, и внутри чаще всего – то же самое. Но иногда там скрываются кристаллы восхитительной красоты.
– Ладно, тогда я сама приму решение, – сказала мама. – Мне кажется, это нечестно, если портрет все время будет висеть у кого-то одного. Поэтому я предлагаю повесить его над камином в гостиной. Есть возражения?
Грета застонала.
– Это еще хуже. Страшно же будет войти в гостиную. И потом, каждый, кто к нам придет, сразу его увидит.
– Боюсь, Грета, тебе придется с этим смириться. Джун, у тебя есть возражения?
– Нет. Все нормально.
– Ну, значит, решено. Сейчас скажу папе, чтобы его повесил.
С тех пор как портрет поселился в гостиной, мама часто его рассматривает. Я не раз заставала ее стоящей перед камином и глядящей на картину. Когда мы ездили к Финну, мама вообще не интересовалась портретом и вела себя так, словно он вызывает у нее чуть ли не отвращение, но теперь, когда мы забрали портрет домой, она буквально на нем зациклилась. Я заметила, что она разглядывает его точно так же, как делал Финн. Стоит слегка наклонив голову. Что-то шепчет себе под нос. То подойдет ближе, то отступит на пару шагов. Обычно это происходило по вечерам, когда все уже расходились по своим комнатам и собирались ложиться спать. И если мама замечала, что я за ней наблюдаю, она смущенно улыбалась и сразу же уходила к себе, делая вид, что ничего необычного не происходит.
Собираясь спросить о квартире Финна, я специально выбрала время, когда Греты не было рядом. Вполне вероятно, она уже знала, что будет с квартирой. Знала все жуткие и отвратительные подробности. Как всю квартиру отдраят хлоркой, пока там не останется даже воспоминания об ароматах лаванды и апельсина. Как подготовят к приезду новых хозяев. Наверняка это будут ужасные люди, которые превратят дядин дом в скучное и унылое жилище с обязательным телевизором, музыкальным центром и кучей проводов, расползшихся по всем комнатам. Финн ненавидел провода. Ненавидел засилье электроприборов в доме.
Мама пришла в гостиную, но разговор завела не сразу. Посмотрела на портрет, потом – на меня. Села рядом со мной на диван, придвинулась ближе, обняла меня за плечи. От нее пахло лимонным средством для мытья посуды.
– Джуни, – сказала она. – Я хочу, чтобы ты кое-что поняла насчет Финна. – Она на миг отвернулась, а потом опять повернулась ко мне. – Я знаю, как сильно ты его любила. И я тоже его любила. Он был моим младшим братом. Я любила его до беспамятства.
– Не любила. Люблю.
– Что?
– Не надо говорить в прошедшем времени. Мы ведь по-прежнему его любим.
Мама подняла голову.
– Да, ты права. Мы по-прежнему его любим. Но ты должна знать, что Финн не всегда принимал правильные решения. Он всегда поступал по-своему. Всегда делал, как ему хочется. И он не всегда…
– Он не всегда думал о том, что хотят от него другие? И не делал того, что они от него хотели?
– Да.
– Он не всегда думал о том, что от него хочешь ты.
– Это не самое важное. Самое важное, что нужно понять: Финн был по-настоящему свободным человеком. И очень хорошим человеком. Но иногда, может быть, слишком доверчивым.
Мама часто говорила такое о Финне. Говорила, что он так и не повзрослел. И по ее интонациям можно было догадаться, что, с ее точки зрения, это нехорошо и достойно всяческого осуждения. Но для меня это было, наверное, самое лучшее, что есть в Финне.
– И как это связано с его квартирой?
– Никак не связано. Просто у Финна был свой, совершенно другой… образ жизни. Ты понимаешь, о чем я?
– Мама, я знаю, что Финн был геем. Все это знают.
– Конечно, знаешь. Конечно. Вот на этом давай и закончим, ладно? Нам больше не нужно переживать за его квартиру. – Мама почесала мне спину и улыбнулась. Потом собралась встать с дивана, но я еще не закончила разговор.
– А если я захочу туда съездить? Я ведь могу туда съездить?
Мама покачала головой, потом отвернулась и долго смотрела на портрет. Когда она снова повернулась ко мне, ее лицо было очень серьезным.
– Послушай, Джун. Там живет один человек. Он был другом Финна… его близким другом. Его дружком. Понимаешь, о чем я? – Мама слегка скривилась, хотя было видно, что она очень старается изображать невозмутимость. – Я не хотела об этом говорить…
Дружок? Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Слово «дружок» напомнило мне детский сад. Как мы ходили на пешеходные экскурсии, и как мы с Донной Фолджер держались за ручку и смотрели по сторонам, переходя через дорогу.
– И что это значит? – спросила я.
– Мне кажется, ты знаешь, что это значит. И, может, закончим этот разговор?
Меня все еще пробивало на смех, но потом я осознала смысл сказанного, и все веселье на этом закончилось. Финн никогда не говорил мне о том, что, когда он умрет, кто-то поселится в его квартире. А ведь это важно. По-настоящему важно. Почему же он ничего мне не сказал?
Я запустила руку в карман и прикоснулась к письму. «Единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как я». Вот что там было написано. Тоби. Я знала, как его зовут, этого дружка. И знала, что он звонил мне из квартиры Финна. Но почему-то решила, что теперь, когда Финна не стало, этот Тоби найдет себе другое место, где жить.
Наверное, надо было сразу спросить у мамы, почему мне никто не рассказывал об этом дружке, об этом Тоби. Да, надо было спросить. Но я не сумела. Мне было стыдно. Мне не хотелось показывать, как сильно все это меня задевает. Столько лет я вполне искренне считала, что Финн был моим лучшим другом. Самым-самым лучшим. Но, возможно, я ошибалась.
Я кивнула, не глядя маме в глаза. Мне вдруг подумалось, что я никогда не смогу рассказать ей о том, что близкий друг Финна – его дружок – приходил к нам домой. О том, что близкий друг Финна знает, что я единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как он. О том, что близкий друг Финна написал мне письмо с просьбой о встрече.
– Ладно, давай закончим, – сказала я.
Мне самой удивительно, как я сдержалась и не расплакалась. И хуже всего было даже не то, что Финн никогда не рассказывал мне о своем близком друге, а то, что теперь я уже не смогу поговорить с ним об этом. Наверное, только в тот вечер я по-настоящему поняла, что такое невосполнимая утрата.
14
– Помнишь про вечеринку?
Грета перехватила меня в коридоре, когда я выходила из ванной. Я вытерла мокрые руки о свитер и непонимающе глянула на сестру.
– А?
Грета театрально вздохнула.
– Ты должна помнить. Я говорила тебе про вечеринку. Которую устраивает Джиллиан Лэмптон. Помнишь?
Не то чтобы я забыла про вечеринку. Просто мысленно отложила ее в долгий ящик. Или, может быть, решила, что это была злая шутка, и Грета пригласила меня лишь затем, чтобы посмотреть, как я среагирую. Как бы там ни было, я кивнула.
– Ага, хорошо. Она все откладывалась и откладывалась, но уже точно будет сегодня.
– Сегодня? Но…
– Я сказала маме, что нам нужна помощь в театре.
– Но я не участвую в спектакле.
Грета закатила глаза и сделала медленный, глубокий вдох.
– Да, я в курсе. Но ты пойдешь на вечеринку.
– А как же… – Я никогда не врала родителям про то, куда хожу. Мне просто некуда было ходить.
– Можешь позвать с собой Бинз. Если хочешь.
Мы с Бинз не дружим уже несколько лет. Ну, то есть мы с ней не ссорились. И продолжаем общаться, но уже не так тесно, как раньше. Бинз пришла к нам в третьем классе. Переехала вместе с родителями из Айдахо. У нее была стрижка, как у Дороти Хэмилл, и ранец, расшитый эмблемами 4H[1 - 4H – американская молодежная организация, созданная для того, чтобы помогать молодым людям осваивать знания и навыки, которые пригодятся им в жизни. Сокращение 4H происходит от английских слов, обозначающих целостное развитие личности: head – голова, hands – руки, heart – сердце и health – здоровье. Голова нужна для ясного мышления, руки – для активной работы, сердце – для глубокого понимания, а здоровье – нужно всегда.]. И у нее не было никого. В смысле, друзей. Но уже очень скоро мы с ней стали лучшими подругами. И несколько лет, до конца младшей школы, Бинз была моей единственной подругой. Просто я так устроена. Мне не нужно много друзей. Мне достаточно одного хорошего друга. У большинства людей все иначе. Большинство людей думают, что друзей должно быть много, и постоянно расширяют свой круг общения. Бинз, как выяснилось, принадлежит к этому большинству. Уже очень скоро у нее появилась куча друзей, и к концу пятого класса стало вполне очевидно, что, хотя я считаю ее лучшей подругой, она меня таковой не считает.
Однако мама с папой и Грета почему-то уверены, что мы с Бинз по-прежнему очень близкие подруги. Да, я могу ей позвонить или подойти к ней в школе, и она очень мило со мной поболтает, но ни мне, ни ей это не надо. Я сто раз говорила маме, что у Бинз теперь целая куча других друзей и что мы с ней давно уже не подруги, но мама никак не может этого уразуметь. Хотя, возможно, это и к лучшему. Потому что иначе мама стала бы капать мне на мозги, чтобы я завела новых друзей. А мне как-то не очень хотелось ей объяснять, кто я в глазах окружающих. Странная девочка с большим приветом. Которая носит с собой в рюкзаке потрепанный томик «Чтений по средневековой истории», ходит всегда только в юбках, обычно – со средневековыми сапогами, и которую нередко ловят на том, что она таращится на людей. Мне не хотелось говорить маме, что люди не выстраиваются в очередь, чтобы со мной подружиться.
Плюс к тому, когда у тебя есть такой друг, как Финн, то очень сложно – практически невозможно – найти в школе кого-то, кто мог бы хоть как-то сравниться с ним. Иногда я начинаю всерьез опасаться, что никогда не найду человека, хотя бы немного похожего на Финна. Никогда в жизни.
Грета открыла сумку.
– Мама ужасно обрадовалась, что мы делаем что-то вместе. Знаешь, что она сделала?
Я покачала головой.
– Дала мне десятку. – Грета улыбнулась, достала из сумки десятидолларовую банкноту и помахала ею у меня перед носом. – Сказала сводить тебя в кафе, когда мы закончим. И угостить мороженым. В общем, все очень классно устроилось. Ты же пойдешь? Не передумала?
– Да, пойду.
– Хорошо. Возьми сапоги. И оденься потеплее. Вечеринка будет в лесу.
– Грета?
– Да?
– Тот человек, на похоронах… Ты знаешь, кто это?
– Ага.
– Он был другом Финна, да? Его бойфрендом? – Я очень старалась, чтобы вопрос прозвучал без надрыва. Как будто мне все равно.
После того странного случая с чайником мне постоянно мерещилось, что я вижу Тоби. Я не помнила его лица. Помнила только общие очертания фигуры, и от этого было еще хуже. У меня развилась настоящая фобия на высоких и худощавых мужчин. Они были буквально повсюду. И любой из них мог быть Тоби. Особенно – издалека.
В последние несколько дней я выбирала удобный момент, чтобы застать Грету врасплох. Я рассудила, что если задать ей вопрос, когда она этого не ожидает, она может проговориться и сказать что-то такое, чего не хотела говорить. За годы общения с Гретой я поняла, что лучший способ ее разговорить – это прикинуться дурочкой. Если Грета подумает, что я чего-то не знаю, она тут же выложит все, что знает сама.
– Мои поздравления, Шерлок. И ста лет не прошло, как ты догадался.
– Я не об этом хотела спросить.
– А о чем ты хотела спросить?
– Он теперь живет в квартире Финна?
– Да, живет. Нет справедливости на этом свете. Убил человека – и поселился в его квартире. Кстати, в очень хорошей квартире в Верхнем Вест-Сайде.
– То есть ты думаешь, это он заразил Финна СПИДом?
– Не думаю, а знаю. Причем сделал это специально. Когда они познакомились с Финном, у того парня уже был СПИД. И он знал об этом.
– Откуда ты знаешь?
– Да просто знаю. Я слышу, что говорят.
– Значит, он и вправду как будто убийца?
– Убийца и есть. – Ее тон изменился. Похоже, ей было приятно, что я интересуюсь чем-то таким, в чем она может показать свою осведомленность. Я даже подумала, что, может быть, расскажу ей о заварочном чайнике, и о письме, и о предполагаемой встрече на станции 6 марта. Может быть, Грета меня послушает, и на нее произведет впечатление, что в кои-то веки у меня тоже есть что рассказать. И все-таки я промолчала. В письме Тоби просил никому ничего не рассказывать. И, возможно, был прав. Может быть, иногда даже убийцы бывают правы.
– Хорошо.
– Что – хорошо?
– Теперь я хоть разобралась, что к чему.
– Слушай, Джун. Пора бы уже повзрослеть. Все закончилось. Неужели тебе не понятно?
– Закончилось, да. Мне понятно.
Я все-таки позвонила Бинз. Подумала: а почему бы и нет? Как говорится, попытка – не пытка. Но Бинз сказала, что сегодня она занята. Значит, я буду одна. Совершенно одна среди шумной компании друзей Греты.
Перед самым обедом Грета догнала меня на лестнице, ткнула пальцем в плечо и сунула записку в задний карман моих джинсов. «Вечеринки не будет». Как оказалось, у многих не получается выбраться. Но Грета уже наврала родителям, так что мне все равно придется идти с ней на репетицию. Придется сидеть в актовом зале и смотреть, как сестра вновь и вновь перевоплощается в Кровавую Мэри.
Я, конечно, была только рада, что вечеринка отменилась. И дело даже не в том, что я замкнутая, стеснительная и вообще социально отсталая. Просто мне это неинтересно. Неинтересно пить пиво и водку, курить сигареты и заниматься другими вещами, которые, по мнению Греты, я не могу себе даже представить. Представить-то я могу. Просто мне как-то не хочется это представлять. Я мечтаю совсем о другом. О складках времени, о лесах, где рыщут волки, о вересковых пустошах под бледным светом луны. Я мечтаю о людях, которым не нужно заниматься сексом, чтобы понять, что они любят друг друга. О людях, которым достаточно легкого поцелуя в щеку.
Я сидела в актовом зале в последнем ряду и слушала, как красавчик-блондин Райан Кук, такой весь из себя обаятельный и привлекательный, поет о волшебных вечерах. Мистер Небович, режиссер школьного театра, постоянно прерывал Райана, заставлял заново петь тот или иной отрывок и пытался добиться, чтобы Райан выражал свои чувства не только голосом, но и лицом.
– Сделай так, чтобы мы читали твое лицо, как стихи. Даже если ты не произносишь ни слова, зрители в зале должны понимать, что именно ты сейчас чувствуешь. – Мистер Небович был совсем молодым, с шапкой черных кудрявых волос, вечно растрепанных в художественном беспорядке. Он пытался добиться от Райана, чтобы тот правильно передал настроение в самом конце песни. В том куске, где говорится, что если ты встретил настоящую любовь, держи ее крепко и не отпускай.
Райан пробовал снова и снова. Я не заметила особой разницы, но мистер Небович, похоже, остался доволен.
– Уже лучше. Гораздо лучше.
Наконец он отпустил Райана и позвал на сцену Грету.
– Давай «Веселую болтовню».
Грета кивнула и вышла на сцену без всякого грима или костюма. Просто в футболке и джинсах. Даже очки не сняла. Провела рукой по волосам, убирая их назад, и на секунду закрыла глаза. Мистер Небович, сидевший за пианино, взял первый аккорд.
– Поем целиком, – сказал он, кивнув Грете.
Она спела всю песню с начала до конца, и я не заметила ни единой ошибки. Когда Грета закончила, мистер Небович громко зааплодировал, повернулся к другим актерам, сидевшим в зале в первых рядах, и сказал:
– Вот к чему надо стремиться.
Потом опять повернулся к Грете, стоявшей на сцене, и поблагодарил за старания и отличную работу. Случись такое со мной, я бы смутилась до полуобморочного состояния, но Грета лишь изобразила преувеличенно театральный, шутовской поклон, едва не коснувшись макушкой пола. Ребята в зале весело рассмеялись. Я тоже смеялась, потому что мне было приятно видеть, как сестра балуется и дурачится. Я почти и забыла, как это бывает. Я уже не жалела, что пошла на репетицию.
Грета ушла со сцены, а я снова задумалась о Тоби. В принципе «близкий друг» может означать все, что угодно. И вовсе не обязательно что-то серьезное. Может быть, Финн никогда не рассказывал мне о Тоби, потому что тот ничего для него не значил. Никто и звать никак. Это мама назвала его дружком Финна. Сам Финн никогда бы не употребил это слово. Разве что в шутку. А всерьез – никогда. Может быть, Финн оставил квартиру Тоби, потому что тому негде жить. Может, Финн просто его пожалел.
Репетиция закончилась примерно в половине девятого. Я осталась сидеть на месте, наблюдая за тем, как Грета общается со своими друзьями: с Брайаном и другими актерами, занятыми в спектакле. Они сидели на краю сцены, болтали ногами, смеялись. Это были ребята, с которыми Грета теперь проводила время. Остроумные, бойкие, раскрепощенные. Самые популярные люди в школе. Ребята, с которыми все стремятся дружить. Для которых нет ничего невозможного. Райан Кук, Меган Донеган, Джули Контолли. Грета казалась такой счастливой. Радостной и беззаботной. Как будто и вправду перенеслась на какой-нибудь остров в Тихом океане. И еще было очень заметно, что она значительно младше всех остальных. Странно, что никто, кроме меня, этого не замечал. У Райана уже пробивались усы. Ноги у Меган и Джули были по-настоящему женскими. Красивые, стройные ноги, а не тоненькие подростковые «палочки», как у Греты. Сейчас, когда Грета сидела, свесив ноги со сцены, она напоминала маленькую девочку на качелях.
Мистер Небович пожелал всем доброй ночи и попросил Грету уделить ему пару минут. Один за другим ребята спустились со сцены, разобрали свои куртки и сумки и направились к выходу. Грета с мистером Небовичем ушли за кулисы. Я осталась на месте, рассудив, что мне нужно дождаться Грету, и лучше я подожду ее здесь.
– Эй там, в заднем ряду. Я уже выключаю свет. – Это был ассистент режиссера, Бен Деллахант. Как и я, ученик средней школы.
Я кивнула ему и сказала:
– Я жду сестру. Скоро уйду, через пару минут.
Бен был из тех мальчишек, которые наверняка станут богатыми, когда вырастут. Не потому, что он весь из себя замечательный или какой-то особенный – нет. Просто он относился к числу тех серьезных ребят, которые точно знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. У него были длинные волосы, которые он всегда собирал в хвост. По школе ходили слухи, что Бен Деллахант изобрел новый язык программирования, но достоверно никто не знал, правда это или нет. Он был не лучшим учеником в классе, но он был умный. Даже очень умный. Бен приставил руку козырьком ко лбу и прищурился, вглядываясь в сумрак на задних рядах, словно смотрел на морской горизонт. Потом прошел по центральному проходу и встал рядом со мной. Оглядел меня с головы до ног, и на ногах его взгляд задержался.
– Ага, та самая девочка в сапогах. – Бен улыбнулся и кивнул, как будто ему загадали загадку, а он сразу ее разгадал. Он уже собрался было сесть рядом со мной, но тут из-за левой кулисы на сцену вышла Грета. Подошла к самому краю и остановилась, глядя в зрительный зал.
– Так ты идешь или нет? – крикнула она мне и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу.
– Да, иду. – Быстро попрощавшись с Беном, я бросилась следом за Гретой. Всю дорогу до дома мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы не отставать от сестры. А когда мы пришли домой, Грета, не сказав мне ни слова, бегом поднялась по лестнице и скрылась у себя в комнате, хлопнув дверью.
15
С тех пор как Финна не стало, почти все выходные я проводила в лесу. Мама с папой работали – теперь уже и по субботам и воскресеньям, – Грета пропадала на репетициях, а я с утра уходила в лес. Иногда я снимала куртку, чтобы всем телом почувствовать боль от холода. Иногда было приятно представлять себя нищенкой, у которой нет теплой одежды, чтобы согреться в зимнюю стужу.
Без Финна мне было ужасно тоскливо и одиноко. Конечно, мы с ним встречались и что-то делали вместе не каждые выходные, но главное, что такая возможность была. Рано утром в любую минуту мог раздаться телефонный звонок – обычно по воскресеньям, – и это был Финн, который звонил, чтобы спросить, не хочет ли кто-нибудь прогуляться с ним туда-то или туда-то. Он всегда спрашивал про всех, но я знала, что на самом деле он имел в виду только меня.
– Ты влюблена в дядю Финна, – однажды сказала мне Грета после такого звонка.
Она наблюдала за мной, пока я говорила по телефону. И видела, как я обрадовалась, когда Финн сказал, что сегодня отличная погода и можно сходить в «Клойстерс». Когда я повесила трубку, Грета прищурилась, улыбнулась и сказала мне эти слова. Что я влюблена в Финна. Мне хотелось ее ударить. Я сжала кулаки, засунула руки поглубже в карманы и вышла из кухни. Но Грета пошла следом за мной.
– Это все знают.
Я замерла и закрыла глаза, по-прежнему стоя к Грете спиной.
– Знаешь, что говорит миссис Альфонс? – спросила она.
Миссис Альфонс была маминой приятельницей из клуба садоводов. Вообще-то мама не любила садовничать и никогда этим не занималась, но все равно состояла в клубе и исправно ходила на их ежемесячные собрания, где пила кофе и болтала с другими мамашами, которые, скорей всего, тоже не слишком-то и увлекались собственно садоводством.
Я стояла спиной к Грете, все крепче и крепче стискивая кулаки.
– Я слышала, как она спрашивала у мамы про тебя и про Финна. «Как-то странно для юной девочки проводить столько времени наедине с дядей, тебе не кажется? По-моему, это не совсем нормально. Только пойми меня правильно. Я не утверждаю, что между ними есть что-то такое. Я вовсе не это имею в виду». Вот что она сказала. Но по ее голосу было понятно, что она именно это имеет в виду. И еще понятно, что она говорила об этом не только с мамой. А бедная мама не знала, что ей ответить…
Я так внимательно слушала Грету, что даже разжала кулаки. Но теперь они сжались еще сильнее, когда я подумала про миссис Альфонс с ее дурацкой химической завивкой в мелкие кучеряшки. С чего бы миссис Альфонс так волнуют мои отношения с Финном? Ей что – больше нечем заняться?
– Я тебе говорю, чтобы ты знала, в какое положение ты ставишь маму. И что все уже в курсе.
– Кто «все»? – вырвалось у меня, хотя я и не собиралась ничего говорить.
– Ну, если ты думаешь, что миссис Альфонс ничего не сказала Кимми, то ты глубоко ошибаешься. А если ты думаешь, что Кимми не разболтает об этом в школе, то ты, опять же… ну, в общем, понятно.
Кимми Альфонс училась со мной в одном классе. Самая обыкновенная девочка, ничего выдающегося. Я вообще о ней не вспоминала, пока Грета не упомянула ее в разговоре.
– Ладно, беги встречайся со своим разлюбезным дядюшкой Финном. Желаю приятно провести время!
Я не могла допустить, чтобы за Гретой осталось последнее слово. Не могла допустить, чтобы она испортила мне все воскресенье и лишила меня моей радости.
– Да что у нас может с ним быть? Все знают, что дядя Финн гей.
Я обернулась, чтобы посмотреть на реакцию Греты. Ведь я наверняка ее уела, и мне хотелось увидеть, как поблекнет ее улыбка. Только улыбка не поблекла. Наоборот, сделалась еще шире.
Выждав пару секунд, Грета произнесла:
– Я и не говорила, что Финн тебя любит. Я сказала, что ты влюблена в него.
Ну что можно на такое ответить? Ничего. Как всегда.
В тот день мы с Финном ходили в музей «Клойстерс». Я приехала в город на электричке. Финн встретил меня на Центральном вокзале, и мы пошли. «Клойстерс» всегда был нашим любимым местом. Всегда. Обычно мы приходили туда рано утром или совсем под закрытие, когда там мало народу. В такое время в «Клойстерсе» гораздо лучше, чем в любой картинной галерее или в том кинотеатре в Гринвич-Виллидж, где крутят старые фильмы. И даже лучше, чем в кафетерии «Хорн и Хардарт», где стоят автоматы, куда можно бросить монетку, и тебе выдадут порцию горячей еды, как в сериале «Джетсоны».
«Клойстерс» был лучше всех, потому что, войдя в музей, ты переносишься в другое время. «Клойстерс» – маленький островок Средневековья посреди Манхэттена. И это не просто фигура речи. Здание музея собрано из фрагментов нескольких средневековых монастырей, вывезенных из Франции в Нью-Йорк буквально по одному кирпичику. Даже вид из окон музея как нельзя лучше подходит ко всей атмосфере, потому что Рокфеллер скупил всю землю на том берегу реки, чтобы ее не смогли застроить. Может быть, даже Рокфеллеру нужно было иногда сбежать куда-нибудь из своего времени.
Я очень старалась не думать о том, что сказала мне Грета, но такое не забывается. Так что сестре все-таки удалось испортить мне день. Я старалась не подходить слишком близко к Финну, старалась не улыбаться все время. Только это не помогло. Может быть, Грета права. Может быть, я и вправду какая-нибудь ненормальная извращенка.
В тот день мы с Финном почти не разговаривали. Просто бродили молча по каменным коридорам. Я размышляла о том, как, наверное, здорово быть монахом. Из тех, кому по уставу запрещено разговаривать. Я представляла, как мы с Финном сидим в большом каменном зале вместе с другими монахами. И все молчат, все заняты делом: сосредоточенно иллюминируют миниатюры и буквицы в манускриптах тончайшими чешуйками золотой фольги. Время от времени мы с Финном отрываемся от работы и смотрим друг на друга через весь зал, не произнося ни слова. Но все равно слышим друг друга. Я часто представляла себе такие картины про нас с Финном. Такая у нас с ним была любовь. Так я себя убеждала. В этом нет ничего ненормального и непристойного. Ведь все происходит совсем в другом времени, где я – не совсем настоящая я. Или даже совсем не я.
Но я никогда не смогу стать монахом. Это попросту невозможно. Как невозможно перенесись в прошлое или вернуть Финна. Чтобы стать монахом, надо быть мужчиной. И верить в бога. У меня никогда не получится ни того, ни другого. Добрый и милосердный бог не стал бы создавать болезнь, которая убивает таких прекрасных людей, как Финн. А если он все-таки создал такую болезнь, то мне как-то не хочется поклоняться такому богу.
В тот день в «Клойстерсе» мы с Финном сидели на каменной скамье в самом дальнем углу полутемного каменного зала, и Финн спросил, как я себе представляю, что происходит с людьми после смерти. Я тряхнула головой и сделала вид, что не расслышала. Иногда я так делала с Финном. Притворялась, что плохо слышу, – чтобы он подошел ближе. И он подходил и наклонялся ко мне близко-близко. Вот и в тот день в «Клойстерсе» Финн придвинулся ко мне по скамейке, обнял меня за плечи и повторил вопрос.
– Что происходит со всеми нами? – спросил он, глядя мне прямо в глаза.
Я пожала плечами и сказала, что ничего. Ничего с нами не происходит. Все просто кончается и погружается в черноту.
Финн серьезно кивнул.
– Да, я тоже так думаю.
Если бы я тогда знала, что он спрашивает о себе, я бы что-нибудь выдумала. Сочинила бы что-то хорошее о самой прекрасной вечности для Финна.
В ту субботу я взяла с собой в лес письмо Тоби. Ветки деревьев гнулись под тяжестью снега, который мог обвалиться в любую секунду, и от этого лес казался не то чтобы опасным, но каким-то тревожным и зыбким. Я шла вдоль ручья, покрытого тоненькой корочкой льда, и прислушивалась, не раздастся ли вдалеке волчий вой. Я сложила ладонь лодочкой, поднесла ее к уху и закрыла глаза. Слушала, слушала, но ничего не услышала. Вообще ничего.
Я перечитала письмо несколько раз подряд. Уже стало ясно, что сегодня мне не сбежать из настоящего. Даже в сапогах, которые купил мне Финн. Даже с мыслями о соколах в голове. Как будто в самом существовании Тоби на этой земле заключалась колдовская сила, державшая мои мысли в «здесь» и «сейчас».
Я была твердо уверена, что не стану с ним встречаться. Но теперь призадумалась. Может, нам все-таки стоит встретиться? Может быть, он из тех, кто понимает? Может, я тоже могу быть загадкой? Может быть, я приду на эту встречу и смогу быть такой, как мне нравится?
16
Секция D, стр. 26!
Это было написано на конверте, который соседка, миссис Джански, опустила в наш почтовый ящик утром в воскресенье. В конверте лежала газета. Вчерашний номер «Нью-Йорк таймс». Мои родители «Таймс» не читают. Они читают «Нью-Йорк пост», причем только по воскресеньям. Так что если бы не любопытная миссис Джански, которой давно пора оторвать нос на базаре, то у нас дома никто бы и не заметил этой статьи про портрет. И он бы остался висеть, где ему полагалось. Над камином в гостиной.
Конверт нашла Грета. И Грета же прочитала нам эту статью. Она позвала всех в гостиную. Я была у себя, одевалась к выходу. Неожиданно мне позвонила Бинз. Сказала, что они с подружками собираются прошвырнуться по торговому центру, и спросила, не хочу ли я пойти с ними. Я сразу подумала, что без мамы тут не обошлось. Наверняка она поговорила обо мне с мамой Бинз. Разумеется, я не хотела никуда идти. Но мама стала меня убеждать, что мне будет полезно развеяться, а если я буду все время отказываться, когда меня куда-нибудь приглашают, то меня перестанут приглашать и я останусь вообще без друзей. Поэтому я перезвонила Бинз и сказала, что пойду. Просто я знаю маму. Если бы я не пошла, она бы потом вспоминала об этом еще очень долго. И было еще кое-что, что подвигло меня на выход. По воскресеньям у нас в кинотеатре проходит ретроспективный показ фильмов, получивших «Оскара» за последние несколько лет. На этой неделе шел «Амадей», который мы дважды смотрели с Финном. Собственно, поэтому я и сказала «да».
После той репетиции в день отменившейся вечеринки Грета еще больше замкнулась в себе. Мне очень хотелось узнать, что ей сказал мистер Небович, когда они уединились у него в кабинете, но я знала, что спрашивать бесполезно. Если ей захочется рассказать, она сама заведет об этом речь, когда сочтет нужным. То есть, скорее всего, никогда. И вряд ли ее собеседницей буду я.
В то воскресное утро Грета усадила нас всех на диван, а сама встала перед портретом, повернувшись лицом к нам. Кстати, Грета оказалась права. Теперь, когда портрет висел в гостиной, действительно стало немного страшновато туда заходить. Мы перестали сидеть вечерами перед камином. Никому не хотелось находиться поблизости от портрета. Теперь мы сидели на кухне или расходились по своим комнатам. Папа обычно скрывался в маленьком кабинете, оборудованном в смежном с кухней чуланчике. А маме вообще никогда не сиделось на месте. И до портрета, и после.
Но в то утро Грета позвала нас всех в гостиную, и нам пришлось сесть прямо напротив портрета. Грета стояла, слегка наклонившись влево и уперев левую руку в бок. А в правой держала газету.
– Ладно, Грета, что там у тебя? Давай, только быстро. У меня полный завал с работой, – сказал папа.
– У меня новость. – Голос у Греты был раздраженным и злым. – Так, ерунда. Ничего особенного. Просто мы теперь… знамениты.
– Давай, Грета, начинай уже, не тяни. – Мама сидела, нетерпеливо притопывая по полу ногой.
– Хорошо. – Грета перевернула газету, так чтобы нам было видно. И мы увидели. Нас. Наш портрет. Портрет, написанный Финном. Цветной снимок на полстраницы. А потом Грета прочла нам вслух:
«Если ты не выставлял ни единой картины уже десять лет, а твое имя – Финн Уэйсс, публика просто обязана проявить жгучее любопытство, когда появляется возможность увидеть твою последнюю работу. Финн Уэйсс, недавно ушедший из жизни (по непроверенным данным, умер от СПИДа)… – На слове «СПИД» Грета запнулась, но тут же продолжила чтение: – Очевидно, увлекся портретной живописью, если судить по его последней работе. На картине, которую художник назвал «Скажи волкам, что я дома», изображены две девочки подросткового возраста, одна блондинка, другая брюнетка. Их лица настолько живые, а взгляды так проницательны и глубоки, что возникает пугающее ощущение, будто они проникают тебе прямо в душу. Словно девочкам на портрете известны все твои темные тайны.
Харриет Барр, главный редактор журнала «Искусство», сказала, что творчество Финна Уэйсса было поистине многогранным. «Уэйсс обладал поразительным даром работать с любым материалом. В этом смысле он был настоящим художником Возрождения: мастерски создавал яркие, незаурядные произведения не только акрилом и маслом, но также в камне и дереве. И даже посредством концептуальных художественных инсталляций».
Однако десять лет назад Уэйсс внезапно ушел в подполье и скрылся от мира, так что лишь ближайшие родственники и друзья знали, где он живет. Критики и собратья-художники до сих пор недоумевают, почему это произошло. Одни одобрили его добровольное отшельничество, посчитав это смелым и дерзким шагом. Другие, более циничные, заявили, что Уйэсс просто пытается показаться загадочным, и его нелюдимость – это хитрый способ взвинтить цены на собственные картины. Последнее предположение подтверждает тот факт, что последние работы художника из его личной коллекции продаются по очень высоким ценам, когда изредка появляются на аукционах».
– Ладно, Грета. Достаточно. – Мама потянулась за газетой, но Грета быстро убрала ее за спину.
– Пусть дочитает, – сказала я. – Интересно послушать.
– Да, Даниэль. Пусть читает, – поддержал меня папа, кладя руку маме на колено. – Все же нормально.
– Нет, не нормально. – Мама отодвинула ногу. Потом резко встала и вышла из комнаты. Когда она ушла, папа кивнул Грете, мол, читай дальше. Грета прочистила горло, легонько похлопала себя по груди и продолжила:
«Несмотря на разногласия о причинах странного шага Уэйсса, все единодушны в одном: этот портрет позволяет представить, как художник работал все эти «пропавшие» годы. Барр считает, что это, возможно, лучшее произведение Уэйсса.
В подобных работах ощущается тесная связь художника с предметом изображения – интеллектуальная связь и, что гораздо важнее, эмоциональная. Когда смотришь на эту картину, возникает стойкое ощущение, что можно обжечься, прикоснувшись к холсту. Что эти девочки на портрете – живые. И если ты подойдешь слишком близко, они могут и огрызнуться».
В кухне хлопнула дверь. Как я поняла, мама вышла из дома. Грета подняла глаза и потеряла место, где остановилась. Но быстро нашла, проведя пальцем по строчкам.
«На данный момент нам неизвестно, где находится этот портрет. Слайд прислали в редакцию анонимно, без всякого сопроводительного письма. Была только записка с указанием имени художника и названия картины…»
Грета уронила руку, хлопнул газетой себе по ноге.
– Мне это не нравится, – сказала она.
– Что не нравится? – спросила я.
– Все не нравится. Мы с тобой, я… в статье о человеке, который умер от СПИДа.
– О человеке?! Это же наш дядя Финн, Грета!
– Да все равно, кто он! Я не хочу, чтобы моя фотография маячила над словом СПИД. Тебе самой это нравится? – Она швырнула газету на журнальный столик. – Я вообще не хотела, чтобы он писал мой портрет. Но вы все так на меня наседали: «Твой дядя Финн то, твой дядя Финн се». Черт. Не будь он уже мертв, я сама бы его убила. Значит, он знаменитость? Известный художник и все дела? И он даже не соизволил нам об этом сказать.
– Да что ты так разволновалась? Это всего лишь статья в газете. – Папа взял в руки газету и сложил ее несколько раз. – Причем даже не передовица. Просто статья на последних страницах раздела «Искусство». Кто вообще читает этот раздел? А если и прочтет, тут же забудет.
– Это крупнейшая газета в стране!
– Там же не говорится, что СПИД у тебя, – сказала я.
– Ладно. Хорошенького понемножку. – Папа бросил газету в камин и достал зажигалку. – От этой бумажки всем одно расстройство, а значит… – Он наклонился, щелкнул зажигалкой и поджег уголок газеты, – ее больше нет с нами.
Настоящий портрет висел прямо над крошечным костерком. Нарисованные мы с Гретой наблюдали за тем, как настоящая Грета и настоящая я наблюдают за тем, как сгорает еще одна наша копия – на газетной бумаге.
Я ничего не могла сделать. А мне так хотелось прочитать статью до конца! Ведь там говорилось о Финне. Мне хотелось прочесть о нем больше. О том, каким он был хорошим художником. О том, почему забросил живопись. Я знала, что Финн – человек известный. Вернее, догадывалась. По тому, как люди смотрели на нас, когда мы ходили в художественные галереи. По тому, как люди улыбались Финну и подходили, чтобы пожать ему руку. Я все это видела, все понимала. Но для меня это было неважно. Со мной Финн не строил из себя знаменитость, и я никогда не задумывалась о том, насколько он знаменит.
Бинз с ее мамой заехали за мной на машине сразу после обеда. Я сказала Бинз, что ничего не имею против, если меня посадят спереди, с ее мамой. Мне не хотелось садиться на заднее сиденье, втиснувшись между девчонками, которых я едва знала. Когда мы приехали в торговый центр, я сказал Бинз, что встречусь с ней позже, в кафе. Соврала, что мне нужно забрать папин заказ из «Сирса». На самом деле я сразу спустилась на минус первый этаж, где был кинотеатр. И где в тот день шел «Амадей». Я люблю кинотеатры. За то же, за что люблю лес. Кинотеатр – это еще одно место, которое подобно машине времени.
Бинз лишь пожала плечами.
– Делай что хочешь, – сказала она. – Я же знаю, что ты бы вообще никуда не поехала, если бы мама тебя не заставила.
– Нет… я…
– Да все нормально. Я все понимаю. Встретимся в кафе в три часа.
«Амадей» – один из моих самых любимых фильмов. Финн его тоже любил, хотя и ворчал, что они все переврали в истории с «Реквиемом». Все давно знают, что Сальери не заказывал «Реквием» и не травил Моцарта. И все-таки, если бы Финн был жив, мы, может быть, и пошли бы с ним на «Амадея» еще раз. Просто ради музыки. И ради того, чтобы погрузиться в атмосферу другой эпохи. И еще потому, что мы оба любили фильмы с трагической концовкой.
Мама вернулась домой сразу после меня. Как раз вовремя, чтобы успеть приготовить ужин. Макароны, тефтели и чесночный хлеб. За ужином мы в основном говорили о том, кто мог передать слайд портрета в редакцию газеты. При каждом упоминании имени Тоби я настораживалась и слушала очень внимательно, жадно впитывая информацию. В конце концов все согласились, что это наверняка был Тоби. Все – это я, Грета и папа. Мама не произнесла ни слова. Она всем своим видом давала понять, что не желает говорить о статье – и о Тоби, – но, похоже, смирилась с мыслью, что у нее не получится запретить нам вести разговоры на эти темы.
– Это мог быть мистер Траски, – сказала я. – Мы же оставляли ему портрет.
– Нет, это точно не он, – ответила Грета. – С чего бы вдруг мистеру Траски ударило в голову явить миру какой-то портрет?
– Может, он просто любит искусство. Может быть, он хотел, чтобы все увидели картину Финна.
– Ну, да. Как же я не догадалась?!
Я пожала плечами, хотя понимала, что Грета, скорее всего, права. Это мог быть только Тоби. Из-за названия. Мы и не знали, что Финн назвал эту картину «Скажи волкам, что я дома». Мы даже не подозревали, что у нее вообще есть название. Если кто-то и мог знать об этом, то только Тоби.
– И вообще, что это значит? «Скажи волкам, что я дома»? – спросила Грета.
Никто не знал, что ответить. Это была еще одна тайна, которую оставил нам Финн. Еще одна вещь, о которой я уже никогда у него не спрошу.
17
На следующий день я решила после уроков зайти в библиотеку. Как оказалось, это была не самая удачная мысль. Я собиралась найти статью и тихо снять с нее копию. А потом пойти в лес и прочесть ее там. Может быть, даже два раза. А может, сто раз или больше. Но я же не знала, что в читальном зале ксерокс окажется сломан и мне придется просить кого-то из библиотекарей, чтобы сделали копию на служебном аппарате. Если бы мне хватило ума подняться на третий этаж и обратиться к библиотекарше, которая меня не знает, может быть, все бы и обошлось. Однако я сдуру спустилась на первый – в отдел детской литературы. Я до сих пор люблю детский отдел с его яркими книжками и настоящими волшебными сказками. Но в этот раз я сглупила, потому что детская библиотекарша, миссис Лестер, знает меня с пяти лет. И как только она увидала статью, ее лицо озарилось улыбкой.
– Ой, Джуни. Это же ваш с Гретой портрет. Какой хороший!
Я молча кивнула.
– Вы здесь обе такие серьезные. Такие… взрослые.
Я снова кивнула.
– И очень красивые. Красивые… э… как на картине. – Миссис Лестер хихикнула. – У нас теперь новый большой ксерокс. Можно отснять всю статью на один лист.
– Было бы здорово, да.
Наверное, вид у меня был встревоженный и напряженный, потому что миссис Лестер тут же умчалась к себе в кабинет. И вернулась с двумя листами, двумя копиями статьи.
– Ой, я только одну просила.
– Я знаю, да. Но нам тоже нужно. Повесим на стенде.
– На стенде?
– На нашей доске объявлений. Вы с Гретой теперь знаменитости. Произведение искусства. Людям будет приятно узнать, что и у нас есть свои знаменитости. Если ты понимаешь, о чем я…
– Нет. Лучше не надо. Мы… нам с ней… мы с ней обе не любим привлекать внимание.
– И все-таки я настаиваю, Джун. Не надо стесняться. «Откройтесь, не прячьте свой свет»… ну, и так далее.
Я знала, что есть единственный способ убедить миссис Лестер не вешать статью на стенд: сказать, что портрет написал моя дядя Финн, недавно умерший от СПИДа, и что это немного больная тема для всей нашей семьи. Думаю, миссис Лестер хватило бы одного слова «СПИД», но я не смогла ничего сказать. Не смогла притвориться, что мне неловко и стыдно за дядю Финна.
Я взяла свою копию, сложила лист так, чтобы снимок портрета оказался внутри, и поднялась обратно в читальный зал. Мне хотелось проверить, можно ли будет потихонечку снять статью с доски объявлений, когда ее там повесят, но, как выяснилось, нельзя. Все объявления висели за стеклянными дверцами, запиравшимися на замок.
Потом я отправилась в лес. Сложила лист со статьей несколько раз, так чтобы он поместился в кармане куртки. Я шла, шла и шла – до тех пор, пока не услышала вой волков. Остановилась, достала лист из кармана. Я думала, что в статье будет еще много всего о Финне. Но там оставался лишь один абзац:
«На автопортрете под названием «Этот старик» – последней картине из проданных Уэйссом и, вероятно, самой известной его работе, – художник изобразил себя в мешковатом пиджаке, надетом на голое тело. Он стоит над прудом с крокодилами и держит в вытянутой руке огромное человеческое сердце. На его голой груди видны плохо зажившие шрамы от резаных ран, которые складываются в слово ПУСТО. Зрителя прежде всего поражает, насколько все это искренне. Никакого позерства, никакой горькой иронии. Когда смотришь на эту картину, действительно веришь, что ты застал человека, изображенного на полотне, за миг до того, как он разожмет пальцы и уронит влажный пульсирующий комок, и возникает пронзительное ощущение, что художник отдал тебе все, что мог. В 1979 году «Этот старик» был продан на аукционе за 200 000 долларов. По утверждению сотрудников «Сотбис», цена на последнюю работу художника, «Скажи волкам, что я дома», может подняться до 700 000 долларов и выше».
Наверное, я должна была ахнуть от изумления, узнав, сколько стоит наш с Гретой портрет. Но меня это ни капельки не взволновало. Какая разница, сколько он стоит, если мы все равно никогда его не продадим? Нет, меня поразило другое. На портрете у меня не было пуговиц. На снимке в газете я была в простой черной футболке. Без всяких пуговиц.
Когда я вернулась домой, портрета там уже не было. Родители снова упаковали его в черный пластиковый пакет и отвезли в местное отделение «Бэнк оф Нью-Йорк», где его поместили в хранилище глубоко в подвале. Мне представились наши с Гретой лица, глядящие в темноту. И я подумала: хорошо, что я там не одна. Пусть даже с Гретой – все равно это лучше, чем быть в одной в такой непроницаемой темноте.
18
Родители специализируются на отчетности для предприятий общественного питания. Поэтому семейство Элбас пользуется определенными привилегиями в ресторанах по всему Вестчестеру. Нас кормят бесплатно. И для нас всегда находится свободный столик, даже когда все столы заказаны на несколько дней вперед или когда перед входом толпится очередь. Наверное, в этой связи я должна была чувствовать себя какой-то особенной. Однако на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Ведь вполне очевидно, что мы самые обыкновенные люди, а со стороны это смотрится так, будто мы – хамы, которые лезут без очереди. Даже Грета считает, что это не очень прилично. И папа тоже. У нас в семье только мама любит иной раз потешить тщеславие.
Из-за похорон дяди Финна, запарки с налоговыми декларациями и репетиций Греты мы даже не справили папин день рождения. Пока мы собирались его отметить, прошел почти месяц. Наконец мама решительно заявила, что ее не волнует, что сегодня вторник и что на работе завал. Завал, он как есть, так и будет. А мы и так слишком долго откладывали папин праздник. В общем, бросаем все и идем веселиться.
Папа выбрал японский ресторан «Гасе». Это был очень хороший выбор, потому что родители не занимаются отчетностью «Гасе» и еще потому, что это и вправду крутой ресторан – если под настроение. Хозяин «Гасе» купил в Японии древнюю сельскую усадьбу шестнадцатого века, разобрал ее, переправил в Америку, восстановил в первозданном виде и открыл ресторан. Еду здесь готовят прямо при посетителях – на жаровнях, расположенных в центре столов, – а на заднем дворе разбит маленький японский садик с ручейком, горбатыми мостиками и скамейками в тихих, почти потайных уголках.
Да, это очень хорошее место. Если ты в настроении. Но в тот вечер ни у кого из нас настроения не было.
Потому что дни рождения мы всегда отмечали с Финном. Всегда. Иногда мы приезжали к нему в Нью-Йорк, и он сам заказывал столик в каком-нибудь ресторане. Иногда Финн приезжал к нам в Вестчестер. Это был первый день рождения, который мы справляли без Финна. Мама предложила позвать Инграмов, но никто ее не поддержал. Даже Грета.
– Отлично выглядите, девчонки, – заметил папа, когда мы садились в микроавтобус. Мы с Гретой переглянулись и закатили глаза.
Я, как всегда, села сзади. Грета – на ряд впереди. Она была в полосатых джинсах с дырками на коленях. Я – в черной юбке и безразмерном огромном свитере. Я не стала надевать сапоги, которые подарил мне Финн. В тот вечер я не могла их надеть.
Всю дорогу до ресторана никто не произнес ни слова. Папа включил музыку, свою любимую кассету «Лучшие песни Саймона и Гарфункеля». Мои родители слушают только альбомы, в названии которых присутствуют «лучшие песни» и «величайшие хиты». Как будто им претит сама мысль оскорбить свое чувство прекрасного хотя бы одной композицией не из лучших. Я смотрела в окно и вспоминала обо всех днях рождения, которые мы отмечали с Финном. Папино 35-летие – в сумрачном, но стильном марроканском местечке, которое нашел Финн. Десять лет Грете – в итальянском ресторане, где на всех пиццах кусочками перца было выложено «С днем рождения, Грета!». Мое 12-летие, когда Финн снял целый банкетный зал в старом отеле, и мы все играли в викторианские салонные игры, о которых он вычитал в книжке. Финн надел фрак и цилиндр и весь вечер говорил с английским акцентом. Это было так заразительно, что под конец и мы тоже заговорили «по-викториански». Все, даже Грета. Это было сплошное «не соблаговолите ли вы…», «окажите любезность» и «ах, оставьте», и у нас находились тысячи причин, чтобы обратиться друг к другу с «экий вы, право, прохвост и невежа».
Потом еще было мамино 40-летие, когда я сидела рядом с Финном в том совершенно волшебном ресторане с живой джазовой музыкой и свечами, стоявшими на столах в квадратных подсвечниках из толстого стекла. Мне тогда было десять, Грете – двенадцать. Я наблюдала, как отблеск свечи плясал и подрагивал на маминой щеке, когда она открывала подарок от Финна. Финн всегда заворачивал подарки в такую красивую бумагу, что ее было жалко выбрасывать. В тот раз это была темно-бордовая бархатная бумага – как будто и вправду настоящий бархат. Мама открывала подарок медленно и осторожно, чтобы случайно не надорвать бумагу. Она раскрыла сверток с одной стороны и бережно вытряхнула из него книгу. Только это была не книга, а альбом для зарисовок в твердом черном переплете.
Теперь этот альбом поселился на книжной полке в комнате Греты. Внутри, на первой странице, Финн написал: «Ты знаешь, что хочешь…» – и нарисовал крошечный мамин портрет с карандашом в руках. Действительно крошечный, высотой сантиметра два, не больше. Но все равно сразу видно, что там нарисована именно мама. Это просто фантастика. Финн и вправду был гениальным художником.
Я хорошо помню тот вечер. Папа вполголоса спорил с Гретой, потому что она не хотела класть салфетку на колени. Все это время Финн что-то делал со своей салфеткой, вертел ее у себя на коленях и так и этак, а потом поднял ее из-под стола, и стало видно, что он сложил из салфетки бабочку. Финн протянул ее Грете со словами: «Смотри, у меня тут есть кое-кто, кому очень нужно присесть на коленки к какой-нибудь девочке». Грета рассмеялась, схватила бабочку и положила себе на колени, а папа улыбнулся Финну. Помню, мне тоже хотелось бабочку из салфетки. Мне очень хотелось, чтобы Финн сложил что-нибудь и для меня. Я уже собиралась его попросить, но когда обернулась к нему, он глядел на мою маму. Глядел пристально, не отрываясь. А мама как раз раскрыла альбом и смотрела на тот рисунок внутри, на свое миниатюрное изображение. Потом медленно подняла голову и посмотрела на Финна. Не улыбнулась ему, не сказала «спасибо», как это принято говорить, когда тебе что-то дарят. Нет. Она просто смотрела на Финна, напряженно и грустно. А потом сжала губы и медленно покачала головой. Закрыла альбом, вернула его в упаковочную бумагу и убрала сверток под стол. Этот момент отпечатался у меня в памяти с фотографической точностью. Бывают такие воспоминания, которые остаются с тобой навсегда. Вплоть до мельчайших подробностей. Мгновения, застывшие во времени. Не знаю, почему так бывает. Но эта картина – Финн внимательно смотрит на маму, мама печально качает головой – до сих пор стоит у меня перед глазами.
Мы приехали в «Гасе», метрдотель проводила нас к столику, и мы забрались на высокие табуреты. Столы здесь тоже высокие, круглые. За каждым может сидеть десять-двенадцать человек. В центре столов располагаются большие жаровни с решеткой для готовки. Папа заказал два бокала японского пива, себе и маме. Потом спросил у нас с Гретой, не взять ли нам детского шампанского.
– Мне уже не три года, – пробурчала Грета. – Я возьму диетическую кока-колу.
– Я, наверное, тоже, – сказала я, хотя, если честно, очень люблю детское шампанское.
Собственно, на этом разговор и иссяк. За весь вечер мы перемолвились разве что парой слов. Посмотреть на нас со стороны – никто бы и не догадался, что мы праздновали день рождения. Папа спросил у Греты, как идет подготовка к спектаклю. Она ответила, что нормально. Мама заметила, что в меню появились новые блюда. Без Финна все было не так. Он умел превращать в праздник любое мгновение, а мы этим умением не владели. Я попыталась припомнить хотя бы одну из тех викторианских игр, но на ум ничего не пришло. Может быть, мы говорили еще о чем-то. Может, слова потерялись в скворчании лука и перца, но именно так я запомнила тот вечер. Вечер в полном молчании. Я наблюдала, как японский повар в высоком белом колпаке готовит нам ужин, и размышляла о том, что со мной будет теперь, когда рядом нет Финна. Я так и останусь дурочкой на всю жизнь? Кто расскажет мне правду, кто откроет мне яркие тайны, скрытые под поверхностью серых будней? Ведь есть же люди, которые знают. Люди, которые видят то, что скрыто от глаз. Но как мне самой стать таким человеком? Как мне стать Финном?
По дороге домой я снова думала о письме Тоби. О том, что до 6 марта остается всего три дня и что я буду последней дурой, если все же пойду на встречу. Мне снова пришло в голову, что, наверное, стоит рассказать обо всем родителям. О том, что Тоби приходил к нам домой. Что хочет со мной увидеться. И что просил никому ничего не рассказывать. Еще не поздно сказать им об этом.
Родители мне доверяли, я знаю. И доверяли не зря. Я всегда была правильной девочкой, которая знает, что хорошо, а что плохо. Я всегда поступала как надо. Но сейчас был особенный случай. Я не сомневалась: Тоби может мне многое рассказать. У него есть частичка Финна – такого Финна, которого я не видела никогда. И он живет в дядиной квартире. Может быть, у меня будет шанс снова попасть в эту квартиру. Узнай об этом мама, она бы сказала, что я пытаюсь «скрести по сусекам». Подбираю последние крошки. Сказала бы, что это от жадности. Ну и пусть. Если рассказы о ком-то, кто тебе дорог, – что-то вроде цемента, которым скрепляются кирпичики воспоминаний, то, может быть, Тоби поможет мне сохранить Финна, удержать его рядом с собой чуть подольше.
19
– Вечеринка. Завтра вечером. Уже не отменится. Сто процентов.
Грета ворвалась в ванную, когда я принимала душ, и шепотом сообщила мне эту новость сквозь кораллово-розовую пластиковую занавеску.
– Что?
Грета повторила, уже медленнее, но по-прежнему вполголоса, чтобы не услышали мама с папой. Мне все равно было не слышно, поэтому я закрыла кран и высунула голову из-за занавески.
– Что?
Грета театрально вздохнула и повторила в третий раз. На этот раз я услышала.
– Родители до семи на работе. А потом мы им скажем, что мне опять нужна помощь на репетиции. Да?
Я рассеянно кивнула, думая совершенно о другом. Вечеринка должна была состояться в тот же день, на который Тоби назначил мне встречу.
– Да? – повторила Грета.
– Да… Наверное, да.
– Вечеринка – в лесу за школой.
В моем лесу. Я тихонечко улыбнулась. В кои-то веки я буду знать больше, чем Грета. Я буду единственным человеком во всей компании, который хоть что-то знает про место, где мы соберемся.
Грета стояла, уперев руки в боки, и как будто ждала, что я что-то скажу.
– Ты знаешь, где это, да?
– Э… да, знаю. За школьным двором. От кафетерия есть тропинка.
Она подождала еще пару секунд и кивнула.
Я снова включила воду и встала под душ.
Грета прижалась лицом к занавеске с той стороны, и я ткнула пальцем ей в лоб. Она тоже ткнула меня пальцем, стараясь попасть в плечо. Мы с ней рассмеялись и принялись вслепую тыкать друг друга сквозь непрозрачную пластиковую занавеску.
– Прекрати, – выдавила Грета сквозь смех, но сама не прекратила.
Я слегка отодвинула занавеску, вытянула руку и пощекотала Грету под мышкой. Мы обе громко смеялись и никак не могли остановиться.
– Девочки, что там у вас? – крикнул папа снизу.
Я тут же убрала руку.
– Все в порядке, – отозвалась Грета.
Иногда у нас с Гретой такое бывает. Буквально на две-три минуты между нами опять возникает та близость, которая была раньше.
Грета сунула голову за занавеску, старательно глядя в сторону, чтобы не смотреть на меня голую.
– Так ты завтра идешь?
– Да. Ты иди со своими, а я подойду. Встретимся прямо в лесу.
20
Я составила список причин, почему должна ненавидеть Тоби. Записала его на листочке. Чтобы как следует подготовиться. Мне не хотелось явиться на встречу в слезах и соплях. Я хотела быть жесткой и сдержанной. И суметь высказать все, что я думаю.
О чем надо помнить:
1) Это из-за него умер Финн. Может, он даже знал, что так будет.
2) Это он отправил в газету портрет, НАШ портрет. Без разрешения. Хотя портрет наш, и вообще, это не его дело.
3) Только маньяки и извращенцы пишут письма 14-летним девочкам, назначают им встречи и просят ничего не говорить родителям.
Я вновь и вновь перечитывала этот список, но, как ни старалась, не чувствовала никакой ненависти. Ведь и Финн не испытывал ненависти к Тоби. Возможно, Финн даже любил его. И Тоби, возможно, был с Финном в самом конце. Он был последним, кто разговаривал с Финном. Последним, кто видел Финна живым. И я добавила еще один пункт:
4) Тоби был последним, кто разговаривал с Финном. Он был последним, кто держал Финна за руку. Последним, кто его обнимал. Это была не я. Это был Тоби.
И вот тут список «сработал». Потому что последней должна была быть я. А не какой-то долговязый англичанин с жиденьким голосом.
21
Если встать на мосту над железнодорожными путями и заглянуть через перила, оттуда отлично просматривается вся платформа на станции. Я опоздала. И жутко замерзла. Потому что сняла свою дурацкую голубую дутую куртку и запихала ее в рюкзак. Я специально пошла долгой дорогой, мимо автозаправки и веломагазина, и дальше – через заросший сорняками пустырь у лютеранской церкви. Приближаясь к мосту, я подумала, что, может быть, Тоби тоже опоздает. Может быть, он, как и я, решил не идти сразу на станцию, а спрятаться где-нибудь и посмотреть, приду я или нет.
Я осторожно глянула вниз, стараясь не подходить слишком близко к перилам. Я не была уверена, что сумею узнать Тоби. Но узнала его сразу. Он сидел на скамейке в дальнем конце платформы. Сидел, подтянув колени к груди, и теребил пальцами шнурки на ботинках. Он был очень худой, но не как человек, больной СПИДом. Не так, как Финн ближе к концу. А просто сам по себе худощавый, от природы.
Я достаточно долго стояла там, наверху, и наблюдала за ним. Время от времени он вскидывал голову и озирался по сторонам. Как будто чувствовал мое присутствие. Как будто знал, что я где-то рядом. Каждый раз, когда он поднимал голову, я отступала подальше от перил, чтобы он меня не заметил.
Он казался намного моложе Финна. Моложе папы и мамы. Я бы дала ему около тридцати, хотя я не очень умею определять возраст взрослых. У него была тонкая шея, большой, выпирающий кадык и пушистые, мягкие с виду волосы, похожие на перышки недавно вылупившегося птенца. Тоби встал со скамейки и прошелся по платформе. Он был в кроссовках и джинсах, в толстом сером свитере и вязаном красном шарфе, но без куртки. За спиной у него висел небольшой синий рюкзак. Самый обыкновенный человек. Ничего выдающегося. Интересно, и что в нем нашел дядя Финн? Тоби остановился у края платформы, посмотрел в ту сторону, откуда должна была прийти электричка. Потом взглянул на часы у себя на руке. Электричка уже приближалась, ее было слышно.
Тоби еще раз взглянул на часы, а потом поднял голову и посмотрел прямо туда, где я стояла. Я резко отпрянула, пока он меня не заметил. Именно в это мгновение я решила, что не буду спускаться на станцию. Не буду встречаться с Тоби. Я не смогу. Да и зачем мне с ним встречаться? Что я ему скажу? Нет. Не буду спускаться. Останусь здесь, на мосту, и подожду, пока Тоби не сядет на электричку и не уедет. Думаю, он должен понять намек.
Я осторожно приблизилась к перилам и глянула вниз. Тоби стоял запрокинув голову и смотрел прямо на меня. Одной рукой он прикрывал глаза, чтобы в них не светило солнце, а вторую слегка приподнял и робко помахал мне, растопырив пальцы. Я растерялась и помахала в ответ – прежде чем сообразила, что, наверное, делать этого не надо. Вернее, даже не помахала, а просто приподняла руку над верхним краем перил и растопырила пальцы.
Потом я улыбнулась. Еле заметно, но все-таки улыбнулась. Это вышло само собой – я не хотела. Даже не знаю, как я смогла улыбнуться этому человеку, который убил моего дядю Финна, но я улыбнулась, и эта улыбка решила все. Она как будто связала меня обязательством, и у меня просто не было выбора, кроме как выполнить свое невольное обещание и спуститься по лестнице на платформу.
Тоби смотрел на меня не отрываясь. Он застыл, как изваяние, по-прежнему прикрывая глаза от солнца одной рукой, и эта поза, и взгляд, исполненный встревоженного ожидания, и солнечный свет, омывавший его лицо, придавали ему сходство с героем средневековой картины, который увидел великое чудо и боится, что оно его ослепит. Он указал на платформу и кивнул, приглашая меня спуститься. И я почти против воли кивнула в ответ и направилась к лестнице. У меня было чувство, что все происходит в замедленной съемке. Как будто лестница растянулась до бесконечности, и я буду спускаться по ней целую вечность.
Но она все же закончилась. Внизу было тепло и светло, и электричка уже подходила к платформе. Тоби шагнул мне навстречу и улыбнулся. И это была настоящая улыбка. Не такая, какая обычно бывает у взрослых: нарочито радушная и поэтому неискренняя. Он улыбался мне по-настоящему. Словно так обрадовался нашей встрече, что с трудом верит своему счастью.
– Ну, пойдем, – сказал он, как будто мы знакомы сто лет.
В этот час народу на станции было мало. У большинства еще не закончился рабочий день, а те, у кого он закончился, ехали в основном в северном направлении, возвращаясь домой из города. Мы с Тоби вошли в электричку, идущую на юг. Я старалась не думать о том, что я делаю.
В вагоне, куда мы вошли, было почти пусто. Тоби указал на четыре сиденья, располагавшиеся друг напротив друга. Два с одной стороны, два – с другой.
– Сядем здесь?
Я кивнула и села у окна. Тоби уселся напротив, на сиденье рядом с проходом, по диагонали от меня. Его длинные ноги заняли почти все пространство между сиденьями, и мне пришлось втиснуться в самый угол, чтобы наши ноги случайно не соприкоснулись.
– Спасибо, что пришла, – сказал он. Я заметила, что он пытается заглянуть мне в глаза, но мне не хотелось встречаться с ним взглядом. Я отвернулась и стала смотреть в окно на огромную доску с рекламой водки «Абсолют». Внизу кто-то написал: «Def Leppard» руляТТ», – а кто-то другой зачеркнул «руляТТ» и написал выше «сосуТТ».
– Не за что, – сказала я, по-прежнему глядя в окно.
– Ты же меня не боишься, правда? Потому что я знаю, что можно было подумать, когда я тогда позвонил. И знаю, что обо мне думают твои родные. Но мне очень хотелось с тобой пообщаться, и я все пытался придумать, как это устроить.
Электричка дернулась и поехала, медленно набирая скорость.
– Нет, не боюсь.
– Хорошо. Это хорошо. – Он отвернулся и долго смотрел на пустое сиденье через проход. Потом вновь повернулся ко мне: – Родители знают, куда ты пошла? Ты им говорила?
Сначала я ничего не ответила. А потом повернулась и посмотрела ему прямо в глаза.
– Странный какой-то вопрос, вам не кажется?
Тоби как будто встревожился. Он легонько поморщился, словно понял, что совершил ошибку. А потом рассмеялся.
– Да, ты права. Очень странный вопрос. И его можно понять превратно. Хотя я не имел в виду ничего такого. – Он закатил глаза. У него были хорошие глаза. Большие и карие, очень темные. И очень добрые. Как у лошади. – Финн всегда говорил…
Когда он произнес имя Финна, я резко выпрямилась и вся напряглась. Тоби наверняка это заметил, потому что нахмурился и взглянул на меня чуть ли не виновато.
– Впрочем, ладно. Не важно, – сказал он, неопределенно махнув рукой. Наклонил голову, пытаясь опять заглянуть мне в глаза. Пытаясь понять, доверяю я ему или нет.
– Никто не знает. Я никому ничего не сказала. – У меня в кармане лежал швейцарский армейский нож с уже раскрытым штопором. На всякий случай.
Тоби открыл свой рюкзак и достал смятый бумажный пакет из «Данкин Донатс». Внутри лежал большой витой крендель. Тоби отломил половину и протянул ее мне. Липкая глазурь уже подтаяла, и крендель выглядел не особенно аппетитно. Да и вообще, мне не хотелось брать угощение у Тоби. Но я не успела поесть после уроков и была ужасно голодная.
– Спасибо.
Я сидела и отламывала от кренделя маленькие кусочки, постепенно разворачивая завитки. Потом взглянула на Тоби и увидела, что он делает то же самое. Мы улыбнулись друг другу – немного нервно. Не зная, что сказать. Я тут же пожалела о том, что улыбнулась. Мне не хотелось, чтобы Тоби подумал, будто мы с ним друзья или что-то в этом роде.
Электричка остановилась. Двери открылись, и в вагон ворвался поток студеного воздуха. Тоби, кажется, и не заметил, что мы стоим. Наверное, время близилось к четырем. Но часов у меня не было, а спрашивать я не хотела. Не хотела ничего говорить. Я уже сказала Тоби, что не боюсь его. И действительно не боялась. Двери закрылись, и электричка поехала дальше.
– Похоже на молекулу ДНК, правда? – Тоби поднес к окну наполовину раскрученный крендель. – Ну, знаешь… двойная спираль.
Что-то подобное мог бы сказать мне Финн. Я невольно улыбнулась. В Тоби было что-то такое… очень знакомое, почти родное. И я не могла удержаться и не продолжить:
– Пончиковая ДНК, пончиковые кровяные тельца, упаковка пончиковых глазных яблок…
Тоби рассмеялся, прикрыв рот рукой, чтобы не выплюнуть уже откушенный кусок кренделя. Его губы блестели от липкой сахарной глазури.
– Пончиковая бактерия, пончиковый вирус…
Это вырвалось случайно. Он не хотел произносить слово вирус. Я отвернулась. Тоби уставился себе под ноги. Его лицо стало очень серьезным.
– Знаешь, – сказал он, – мне его очень не хватает.
Я доела свою половинку кренделя и снова уставилась в окно. Мы как раз проезжали какой-то маленький городок, и дома подступали почти вплотную к путям – так близко, что можно было заглянуть в окна и увидеть, как люди на кухне готовят обед. Я вытерла липкие пальцы о матерчатую обивку сиденья.
– Мне тоже, – сказала я, помолчав.
– Он много рассказывал о тебе, – сказал Тоби. – Говорил о тебе постоянно. Он тебя очень любил, ты ведь сама знаешь?
Я быстро отвернулась, чтобы Тоби не заметил, как я улыбаюсь и заливаюсь краской. И только потом до меня дошло, что это значит. Я не была для него секретом. Тоби знал обо мне.
– Ну, да. – Я пожала плечами, как будто мне все равно.
– Это правда.
Мы опять замолчали. Я заметила, что Тоби нервно вертит в руках проездной билет: то свернет, сложит в несколько раз, то опять развернет.
– Так вы тоже… вы тоже художник? – спросила я.
– Нет, я совсем не художник. У меня руки растут не из того места. – Тоби рассмеялся. – Финн однажды попробовал научить меня лепке, но из меня тот еще скульптор… – Он посмотрел на меня. Я, наверное, хмурилась, потому что он сразу же посерьезнел. – Не знаю. Наверное, у меня просто нет никаких художественных способностей.
– У меня тоже.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что я плохо рисую. Наверное, хуже всех в классе. – Слова вырвались сами. Я не хотела рассказывать о себе.
– А Финн считал, что способности у тебя есть. Причем выдающиеся способности. – Тоби наклонился поближе ко мне. – Финн говорил, что настоящий художник – это не тот, кто умеет красиво изобразить вазу с фруктами, а тот, у кого в голове есть идеи. А у тебя, он сказал, столько хороших идей, что их хватит на целую жизнь.
– Он так сказал?
– Да.
Я опять покраснела и отвернулась к окну. На секунду мне показалось, что Финн едет с нами. Стоит, невидимый, за плечом Тоби и подсказывает, что говорить.
Я понимала, что не должна поддаваться на эти сладкие речи. Но ничего не могла с собой поделать. Мне было приятно, что Финн говорил обо мне столько хорошего. И мне хотелось послушать еще. Слушать и слушать – до бесконечности. Я покосилась на Тоби. Может, он все выдумывает. В конце концов, он же был другом Финна. Близким другом. А я – всего лишь племянница, глупенькая девчонка. Мне вдруг стало обидно. Это неправильно! Несправедливо! Этот Тоби – по сути, никто, совершенно чужой человек – говорил обо мне с Финном. Он знает столько всего обо мне, а я не знаю о нем ничего.
– Так вы теперь будете жить в квартире Финна? – спросила я.
Вопрос прозвучал слишком резко и даже со злобой. Я услышала в собственном голосе интонации Греты, но мне было плевать.
Тоби опустил голову.
– Я…
– Ладно, можете не отвечать. На самом деле мне это неинтересно.
Мы опять замолчали.
– Знаешь, ты можешь туда приходить, когда хочешь. В любое время, – наконец сказал Тоби. – И это не просто слова. Действительно, в любое время.
Я пожала плечами. А потом у меня защипало в глазах. Мне не хотелось расплакаться перед Тоби, и я изо всех сил пыталась сдержать слезы. Это было непросто, очень непросто. Я отвернулась, но Тоби положил руку мне на плечо. Я отодвинулась от него. Сделала глубокий вдох, медленно выдохнула. Еще раз вдохнула, как можно медленнее. И еще раз, и еще. В конце концов мне удалось успокоиться.
– Все будет хорошо, – тихо сказал Тоби, а потом сделал вот что: взял свой свитер, лежавший на соседнем сиденье, и положил себе на колени. Тем самым он дал мне понять, что я могу сесть рядом с ним, если хочу. Я посмотрела на пустое сиденье долгим многозначительным взглядом, так чтобы Тоби увидел: я поняла, что он хочет сказать, но пересаживаться не буду. Я не нуждаюсь в его сочувствии.
Он тоже все понял, но не вернул свитер обратно. Так и держал его на коленях, оставляя сиденье между нами свободным. Электричка сделала остановку на очередной станции – уже пятой или шестой – и поехала снова, увозя меня все дальше и дальше от дома. Все дальше и дальше от леса. Из предместий – в холодный каменный город.
Мы доехали до конечной и вышли на Центральном вокзале.
Тоби еще раз двадцать поблагодарил меня за то, что я согласилась с ним встретиться, и сказал, что надеется на продолжение знакомства. Он открыл свой рюкзак, достал бумажный пакет и протянул его мне.
– Это от Финна. – Он наклонился совсем близко ко мне, но сразу же отступил. – И это не все. Потом будет еще.
Я, не глядя, взяла пакет, как будто мне было ни капельки не интересно.
– Если есть что-то еще, можно было бы отдать все сразу.
Тоби смутился. Заложил руки за спину и уставился себе под ноги.
– Я просто подумал, что если отдать тебе все сразу, ты больше не захочешь со мной встречаться. А мне нужно… мне очень хочется встретиться с тобой еще.
Он достал из кармана целую пригоршню денег. Не аккуратную пачку банкнот, а именно пригоршню. Как будто взял эти деньги из какой-то большой кучи и запихал их в карман.
– Вот, возьми. Вдруг тебе что-то понадобится…
Я особенно не приглядывалась, но было понятно, что денег там много. Когда мы с Гретой были еще совсем маленькими, наша соседка миссис Кепфлер иной раз давала нам каждой по доллару. Просто так. Потому что мы славные девочки, как она говорила. Но мама не разрешала нам брать эти деньги. «Деньги можно брать только у родственников», – говорила она каждый раз и заставляла нас их возвращать.
– Я не могу это взять.
– Нет, нет, нет. Это тебе, – сказал Тоби. – И ты ничего у меня не берешь. Это от Финна. Там еще много осталось. Не переживай.
Он попытался отдать мне деньги – буквально совал их мне в руки, – но я не хотела их брать.
– То, что мне нужно, за деньги не купишь. – Не знаю, понял ли он, что я имела в виду. На самом деле больше всего мне хотелось, чтобы время повернулось вспять, и Финн никогда не встретил бы Тоби, не заразился бы СПИДом и был бы сейчас жив, и мы были бы вместе – только вдвоем, он и я, как мне всегда представлялось в мечтах о будущем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/kerol-brant/skazhi-volkam-chto-ya-doma/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Сноски
1
4H – американская молодежная организация, созданная для того, чтобы помогать молодым людям осваивать знания и навыки, которые пригодятся им в жизни. Сокращение 4H происходит от английских слов, обозначающих целостное развитие личности: head – голова, hands – руки, heart – сердце и health – здоровье. Голова нужна для ясного мышления, руки – для активной работы, сердце – для глубокого понимания, а здоровье – нужно всегда.
Кэрол Рифка Брант
Young Adult. Легендарные книги
Джун Элбас четырнадцать лет, и она живет мечтами. Ее дом – средневековый замок, но никак не американский коттедж, ее друзья – герои старинных сказок и легенд, ее будущее – в прошлом. Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей, талантливым художником Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез отказался от громкой славы. Но совсем скоро он уйдет из ее жизни, оставив на память только портрет Джун и ее сестры. Какие загадки спрятаны на холсте, который разыскивают все музеи Нью-Йорка?
Кэрол Брант
Скажи волкам, что я дома
Carol Rifka Brunt
TELL THE WOLVES I'M HOME
Copyright © 2012 by Carol Silverman
© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Мэдди, Окли и Джулии
1
В тот день мы с моей сестрой Гретой позировали для портрета, который писал дядя Финн. Тогда он уже знал, что умирает. Это было уже после того, как мне стало понятно, что теперь я, когда вырасту, не перееду к нему и не буду жить с ним до конца своих дней. Уже после того, как я перестала верить, что СПИД – это просто какая-то нелепая ошибка. Когда дядя спросил в первый раз, мама сказала «нет». Сказала, что в этом есть что-то жуткое, макабрическое. Ей страшно от одной мысли, что мы с Гретой будем сидеть у него в квартире, в этой комнате с огромными окнами, где все пропитано ароматом лаванды и апельсинов, и он станет смотреть на нас так, словно видит в последний раз… нет, это невыносимо. Тем более, сказала она, от северной части Вестчестера до Манхэттена путь неблизкий. Она скрестила руки на груди, посмотрела прямо в пронзительно-синие глаза дяди Финна и сказала ему, что сейчас у нее просто нет времени.
– А у кого оно есть? – спросил он.
Вот тут она и сломалась.
Сейчас мне пятнадцать, но тогда было еще четырнадцать. Грете – шестнадцать. 1986 год, конец декабря. Последние полгода мы регулярно бывали у Финна. Раз в месяц, по воскресеньям. Всегда только втроем: мама, Грета и я. Папа с нами не ездил, и правильно делал. Его это никак не касалось.
Я сидела на заднем сиденье нашего микроавтобуса. Грета – на ряд впереди. Я специально устроилась так, чтобы можно было смотреть на Грету и не бояться, что она это заметит. Наблюдать за людьми – увлекательное занятие, но тут надо быть осторожной. Нельзя, чтобы люди заметили, что ты на них смотришь. Иначе на тебя будут коситься, как на какую-нибудь преступницу. Наверное, это и правильно. Наверное, это действительно преступление, когда ты пытаешься разглядеть в людях то, что они не хотят показать посторонним. В случае с Гретой мне нравилось наблюдать, как солнечный свет отражается от ее темных блестящих волос и как у нее за ушами прячутся кончики дужек очков, похожие на две потерявшиеся слезинки.
Мама слушала КАНТРИ-FM, и хотя я не очень люблю стиль кантри, иногда – при определенном настрое – все эти песни, исполняемые с чувством и от души, наводят на мысли о большой дружной семье, о пикниках во дворе за домом, о снежных горках и ребятишках на санках, о семейных обедах в День благодарения. О чем-то правильном и здоровом. Поэтому мама и слушала кантри по дороге к Финну.
Во время этих поездок в город мы почти не разговаривали друг с другом. Мне вспоминается только плавное движение микроавтобуса, сентиментальная музыка кантри, серый Гудзон и хмурый серый Нью-Джерси. Я всю дорогу смотрела на Грету – просто чтобы не думать о Финне.
В последний раз мы приезжали в нему в ноябре, в дождливое пасмурное воскресенье. Финн всегда был худощавым – как Грета, как мама, но, увы, не как я, – однако в тот наш приезд я увидела, что он похудел еще больше, хотя, казалось бы, куда еще?! Все ремни стали ему велики, и он подпоясался изумрудно-зеленым галстуком. Я смотрела на этот галстук и пыталась представить, куда его надевали в последний раз, пыталась придумать, к какому именно случаю подошла бы такая яркая, с переливчатым блеском вещь, как вдруг Финн оторвал взгляд от холста, отвел в сторону кисть и сказал:
– Уже недолго осталось.
Мы с Гретой кивнули, хотя и не поняли, что имеет в виду дядя – работу над портретом или свое состояние. Мы все знали, что он умирает. Потом, уже дома, я сказала маме, что дядя Финн был похож на сдувшийся воздушный шарик. Грета сказала, что он был похож на маленького серого мотылька, запеленатого в серую паутину. Потому что Грета красивая, и у нее все получается красивее – даже слова.
Это была предрождественская неделя, и у моста Джорджа Вашингтона мы попали в пробку. Грета обернулась ко мне. Скривила губы в улыбке и вытащила из кармана веточку омелы. Так было и в прошлое, и в позапрошлое Рождество: Грета все время таскала с собой омелу и набрасывалась с ней на людей. Носила в школу. Терроризировала нас дома. Больше всего ей нравилось тихонько подкрасться к родителям со спины, потом подпрыгнуть и помахать веткой омелы у них над головами. Папа с мамой не любят выказывать нежные чувства друг к другу у всех на глазах, и Грете нравилось их смущать, заставляя поцеловаться. Там, в микроавтобусе, Грета принялась размахивать веточкой у меня перед носом.
– Вот погоди, Джун, – сказала она. – Приедем когда к дяде Финну, я помашу над тобой и над ним этой штукой, и что ты тогда будешь делать?
Улыбаясь, она ждала, что я отвечу.
Я знала, о чем она думает. Мне придется либо обидеть Финна, либо пойти на риск подхватить СПИД, и Грете хотелось увидеть, как я буду мучиться с выбором. Сестра знала, что мы с дядей Финном – большие друзья. Знала, что он водил меня по художественным галереям и учил, как размягчать лица на карандашных рисунках, просто потерев линии пальцем. Она знала, что в этой дружбе ей места нет.
Я пожала плечами.
– Он просто чмокнет меня в щечку.
Но как только я это произнесла, мне сразу представились губы Финна. В последнее время – всегда сухие, потрескавшиеся. И иногда эти трещинки кровоточили.
Грета наклонилась ко мне, положив руки на спинку сиденья.
– Да, но откуда ты знаешь, что микробы от поцелуя не проникнут к тебе в кровь через кожу? Ты уверена, что они не проходят через поры?
Этого я не знала. И мне не хотелось умирать. Не хотелось делаться тусклой и серой. Я снова пожала плечами. Грета отвернулась и села на место. Теперь я не видела ее лица, но даже не сомневалась, что она улыбается.
Когда мы въехали в город, пошел дождь со снегом. Крупинки мокрого льда били в стекло. Я пыталась придумать, что сказать Грете, чтобы она поняла: Финн никогда не подвергнет меня опасности. Ведь Грета ничего о нем не знает. Не знает о том, как он дал мне понять, что портрет – это только предлог. Как увидел, какое у меня лицо, когда мы приехали позировать в первый раз. Как дождался, пока мама с Гретой не пройдут в гостиную, и в тот миг, когда мы остались с ним один на один в узеньком коридоре, положил руку мне на плечо, наклонился поближе и шепнул в самое ухо: «А как еще можно было устроить все эти воскресенья с тобой, Крокодил?»
Но я никогда бы не стала рассказывать об этом Грете. Когда мы уже выходили из микроавтобуса на сумрачной подземной стоянке, я быстро выпалила:
– Все равно кожа водонепроницаема.
Грета аккуратно закрыла дверцу, обошла микроавтобус и встала прямо передо мной. Пару секунд постояла, глядя на меня. На мое крупное, нескладное тело. Потом поправила лямки рюкзака на своих хрупких плечиках и покачала головой.
– Верь во что хочешь, – она развернулась и направилась к лестнице.
Но так не бывает, и Грета сама это знала. Можно сколько угодно пытаться поверить в то, во что хочется верить, но у тебя ничего не получится. Сердце и голова сами решают, во что верить, а во что не верить. Независимо от того, нравится это тебе или нет. И ничего тут не поделаешь.
Дядя Финн работал с портретом по нескольку часов подряд, и все это время мама сидела на кухне и заваривала нам чай. В роскошном русском заварочном чайнике, раскрашенном в золотой, красный и синий цвета, с маленькими танцующими медведями, выгравированными по бокам. Финн говорил, что это особенный чайник – чтобы угощать чаем самых любимых людей. И когда мы приезжали, чайник с медведями неизменно нас ждал. Из гостиной нам было слышно, как мама наводит порядок в кухонных шкафах, достает миски и банки, тарелки и чашки, а потом ставит обратно. Время от времени она заходила в гостиную и приносила нам чай, который обычно остывал нетронутым, потому что Финн занимался портретом, а нам с Гретой нельзя было даже пошевелиться. Все эти воскресенья у дяди мама старательно избегала смотреть на Финна. Понятно, ей было очень невесело от того, что ее единственный брат умирает. Но иногда мне казалось, что дело не только в этом. На портрет она тоже старалась не смотреть. Быстро входила в гостиную, ставила чайник на стол и возвращалась в кухню. Мимо мольберта она проходила отвернувшись. Иногда мне казалось, что Финн тут вообще ни при чем. Иногда у меня было чувство, что мама вообще не хочет смотреть на холст, кисти и краски.
В тот день мы позировали Финну полтора часа. Он поставил диск с музыкой. «Реквием» Моцарта. Мы с Финном оба его любили. И хотя я не верю в бога, в прошлом году я уговорила маму, чтобы она разрешила мне петь в католическом церковном хоре. Просто чтобы на Пасху я могла бы исполнить «Kyrie» Моцарта. Честно сказать, я совсем не умею петь, но все дело в том, что, если закрыть глаза, когда поешь на латыни, и встать в самом заднем ряду, чтобы прикасаться рукой к холодной каменной стене, легко можно вообразить, что ты в Средневековье. Я потому и записалась в хор. Только поэтому.
«Реквием» был нашим с Финном секретом. О нем знали только мы двое. Нам даже не нужно было смотреть друг на друга, когда он поставил диск. Мы оба все понимали. Однажды Финн водил меня на концерт, в красивую церковь на Восемьдесят четвертой улице. Он сказал, чтобы я закрыла глаза и слушала. Так я услышала «Реквием» в первый раз. И сразу влюбилась в эту музыку.
– Она подкрадывается к тебе тихо-тихо, – сказал тогда Финн. – Убаюкивает, усыпляет бдительность, представляется милой, приятной и безобидной, а потом вдруг – та-да-дам! – вздымается грозной волной. Барабанная дробь, и пронзительные крики струн, и глубокие темные голоса. А затем – так же непредсказуемо и внезапно – вновь становится тихой и нежной. Ты понимаешь? Понимаешь, Крокодил?
Это прозвище придумал мне Финн, потому что, как он говорил, я похожа на существо из какой-то другой эпохи, которое таится в засаде, наблюдает и ждет, прежде чем выносить какие-то суждения об окружающем мире. Мне это нравилось. Нравилось, когда Финн меня так называл. Мы с ним сидели в той церкви, и он пытался добиться, чтобы я действительно поняла эту музыку.
– Ты понимаешь? – спросил он снова.
Я понимала. Во всяком случае, думала, что понимаю. Или, может быть, только притворялась. Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы Финн считал меня дурой.
В тот день «Реквием» разливался в пространстве среди всех этих безумно красивых вещей в квартире у Финна. Мягкие турецкие ковры. Старый шелковый цилиндр, повернутый к стене залоснившимся боком. Большая стеклянная банка, доверху полная медиаторами всевозможных расцветок. Финн называл их «мои разносолы», потому что они хранились в банке для консервирования. Музыка разливалась по комнате, выплескивалась в коридор, плыла мимо двери в дядину спальню – как всегда, плотно закрытую, не доступную ни для кого. Мама с Гретой, кажется, не замечали, как губы Финна беззвучно выпевают слова – «voca me cum benedictus… gere curam mei fi nis…». Они даже не подозревали, что слушают заупокойное песнопение. И хорошо, что не подозревали. Если бы мама знала, что это за музыка, она бы сразу же ее выключила. Без разговоров.
Чуть погодя Финн повернул холст, чтобы мы с Гретой могли на него посмотреть. Это было событие: раньше Финн не показывал нам, как продвигается его работа. А теперь показал. В первый раз.
– Посмотрите внимательно, девочки, – сказал он. Финн никогда не разговаривал за работой, а когда наконец заговорил, голос его прозвучал слабо и хрипло. Он на секунду смутился, потом потянулся за чашкой с остывшим чаем, отпил глоток и прочистил горло. – Данни, ты тоже… иди посмотри.
Мама не отвечала, и Финн позвал ее снова:
– Поди сюда. На секундочку. Мне интересно узнать твое мнение.
– Попозже! – крикнула мама из кухни. – Я пока занята!
Финн продолжал смотреть в сторону кухни, словно надеясь, что мама все-таки передумает и придет. Когда стало ясно, что она не придет, он нахмурился и снова повернулся к холсту.
Он резко поднялся с кресла – с этого старого синего кресла, в котором всегда сидел перед мольбертом, – поморщился, пошатнулся, ухватился за подлокотник. Постоял пару секунд, потом сделал шаг в сторону, и я увидела, что дядя Финн стал абсолютно бесцветный. Только галстук, повязанный вместо ремня, выделялся зеленым пятном, и весь дядин белый халат разбрызган пятнышками краски. Нашими с Гретой цветами. Мне захотелось вырвать у Финна кисть и раскрасить его, чтобы вернуть его прежнего. Чтобы он вновь стал собой.
– Ну, слава богу, – Грета подняла руки и взъерошила себе волосы.
Я разглядывала портрет. Я заметила, что на картине Финн расположил меня чуть ближе к зрителю, слегка выдвинул мою фигуру на передний план, хотя мы сидели не так. Заметила и улыбнулась.
– Он еще не закончен… да? – спросила я.
Финн подошел и встал рядом со мной. Наклонил голову, рассматривая нас нарисованных. Сначала Грету, потом – меня. Прищурился, глядя прямо в глаза той другой, нарисованной мне. Наклонился так близко к холсту, что едва не коснулся лицом влажных красок, и у меня по руке пробежали мурашки.
– Да, не закончен. – Финн покачал головой, не отводя взгляда с картины. – Видишь? Чего-то не хватает. Возможно, на заднем плане… или, может быть, стоит еще поработать над волосами. Как ты думаешь?
Я медленно выдохнула и расслабилась, не в силах сдержать улыбку. Потом энергично кивнула:
– Мне тоже так кажется. Думаю, нам надо будет приехать еще пару раз.
Финн улыбнулся в ответ и провел бледной бесцветной рукой по бесцветному бледному лбу.
– Да. Еще пару раз, – подтвердил он.
Финн спросил, нравится ли нам портрет. Я сказала, что он прекрасен, а Грета вообще ничего не сказала. Она даже не смотрела на холст. Стояла спиной к нам, держа руки в карманах. Потом медленно обернулась. С абсолютно непроницаемым выражением лица. Грета это умеет. Умеет скрывать свои мысли и чувства. Я не успела сообразить, что сейчас будет, и вот Грета уже вытащила из кармана омелу и вскинула руку. Широким жестом она стремительно провела веткой прямо над нашими головами, словно пыталась рассечь воздух, будто держала в руке что-то более грозное, чем обычную ветку рождественских листьев и ягод. Мы с Финном переглянулись, и у меня внутри все оборвалось. Буквально за долю секунды, пока мы смотрели друг другу в глаза – сколько нужно песчинке в песочных часах или капле воды в протекающем кране, чтобы сорваться и упасть? – Финн все понял. Мой дядя Финн прочел меня, как открытую книгу. Он увидел, что я боюсь, наклонил мою голову и чуть коснулся губами волос у меня на макушке. Так легко, словно бабочка присела на цветок.
По дороге домой я спросила у Греты, можно ли заразиться СПИДом через волосы. Она пожала плечами и отвернулась. И всю дорогу смотрела в окно.
Вечером я вымыла голову, трижды намылив волосы шампунем. Потом сразу легла, закуталась в одеяло и попыталась заснуть. Честно считала овечек, травинки и звезды, но ничего не помогало. Я все время думала о Финне. Как он целовал меня в макушку. Как на долю секунды, когда он склонился ко мне, все остальное исчезло: СПИД, Грета, мама. Остались только мы с Финном, и, прежде чем я успела себя удержать, у меня промелькнула мысль: а что было бы, если бы он поцеловал меня по-настоящему, в губы? Я понимаю, как это противно и мерзко, но мне хочется рассказать правду. И если по правде, в ту ночь я лежала в постели и представляла себе поцелуи Финна. Лежала и думала обо всем, что таилось у меня в сердце, о возможном и невозможном, правильном и неправильном, выразимым словами и совершенно не выразимом. А потом, когда все эти мысли рассеялись, осталась только одна: как плохо мне будет без дяди Финна.
2
Если хочется притвориться, что ты перенесся в другое время, лучше всего в одиночку пойти в лес. Обязательно – в одиночку. Если с тобой пойдет кто-то еще, ничего не получится. Чужое присутствие все равно будет напоминать, где ты на самом деле. Лес, куда хожу я, начинается за зданиями средней и старшей школы. Он начинается сразу за школьным двором, но тянется на много миль к северу, до Махопака, и Кармела, и еще дальше – я даже не знаю названий тех мест.
Заходя в лес, я первым делом вешаю на дерево свой рюкзак. А потом просто иду. Чтобы все получилось, нужно идти и идти до тех пор, пока шум города не затихнет вдали. Пока его не сменят другие звуки: треск ветвей и журчание ручья. Я иду вдоль ручья, который выводит меня к обвалившейся каменной стене. К высоченному клену с прибитым к стволу проржавелым ведром для сбора древесного сока. Это и есть мое место. Куда я всегда прихожу. В книге «Складка времени» говорится, что время похоже на старое скомканное одеяло. Мне бы очень хотелось забраться в одну из его складок. Укрыться в ней. Спрятаться в крошечном тесном пространстве.
Обычно я переношусь в Средневековье. Как правило – в Англию. Иногда напеваю отрывки из «Реквиема», хотя знаю, что это не средневековая музыка. Я смотрю на все, что меня окружает – камни, опавшие листья, голые деревья, – так, словно могу это истолковать. Словно сейчас моя жизнь зависит от того, сумею ли я понять, о чем мне поведает лес.
Я всегда приношу с собой старое «деревенское» платье от «Gunne Sax», которое мне отдала Грета. Она носила это платье, когда ей было двенадцать. Конечно, оно мне мало и не застегивается на спине, так что приходится поддевать под него рубашку. Оно больше похоже на что-то из «Маленького домика в прериях», чем на средневековый костюм, но ничего более подходящего у меня нет. Зато есть роскошные средневековые сапоги. Всякий скажет, что подобрать правильную обувку – это самое сложное. Долгое время мне приходилось довольствоваться обыкновенными черными кедами, и я упорно старалась не смотреть на них, потому что они портили всю картину.
Сапоги – черные, замшевые, со шнуровкой из кожи – были куплены на средневековом фестивале в музее «Клойстерс», куда мы ходили с Финном. Дело было в октябре. К тому времени Финн уже четыре месяца работал над нашим портретом. А на фестиваль мы пошли в третий раз. В первый раз меня пригласил Финн, а остальные два раза я напросилась сама. Как только листья на деревьях начинали желтеть, я принималась наседать на Финна насчет фестиваля.
– Ты становишься заядлым медиевистом, – говорил он. – Что я с тобой сделал?
И был прав. Это его вина. Финн буквально «болел» средневековым искусством и пристрастил к нему и меня. Сколько себя помню, мы с ним постоянно рассматривали репродукции в его многочисленных альбомах и книгах на эту тему. К тому третьему фестивалю Финн уже начал стремительно худеть. На улице было прохладно, и Финн надел сразу два свитера, чтобы не мерзнуть. Мы пили горячий яблочный сидр – мы с ним вдвоем, только вдвоем посреди жирного духа свинины, жарившейся на вертеле, и лютневой музыки, и тихого ржания лошадей, которых готовили к выходу на потешный рыцарский турнир, и перезвона крошечных колокольчиков на лапах у соколов. Финн увидел сапоги на лотке у башмачника и купил их мне, потому что знал, что я буду от них в восторге. Он помогал мне их мерить, зашнуровывал и расшнуровывал пару за парой, как будто ему больше нечего было делать. Как будто нет на свете более увлекательного занятия. Если сапоги не подходили, Финн помогал мне их снять. Иногда он случайно касался моей лодыжки или голой коленки, и я краснела. В итоге я выбрала сапоги на два размера больше. Финну я ничего не сказала, но про себя рассудила, что пусть уж лучше они будут мне велики, и мне придется носить их с носками, даже не с одной парой носков. Я не хотела, чтобы они становились малы. Я хотела, чтобы они были у меня всегда.
Будь у меня много денег, я бы купила огромный участок леса. Обнесла бы его стеной и жила бы в этом своем лесу, словно совсем в другом времени. Может, нашла бы кого-то, кто жил бы со мной. Того, кто согласился бы пообещать никогда, ни единым словом не упоминать обо всем, что относится к настоящему. Хотя вряд ли такой человек найдется. Пока что я не встречала вообще никого, кто мог бы пообещать что-то подобное.
Существует один-единственный человек, кому я рассказывала о том, чем занимаюсь в лесу. Этот человек – Финн, но вообще-то я не хотела рассказывать даже ему. В тот день мы возвращались к нему домой из кинотеатра, где смотрели «Комнату с видом». Финн завел речь о том, что все герои картины поистине обворожительны. Они все очень плотно закрыты, и было огромное удовольствие наблюдать, как они пытаются раскрыть друг друга. «Это так романтично», – сказал тогда Финн. И еще прибавил: «Жаль, что теперь так не бывает». Мне хотелось, чтобы он увидел, что я понимаю – что я готова на все, лишь бы перенестись в прошлое, – и я рассказала ему про лес. Он рассмеялся, легонько толкнул меня плечом и сказал, что я – малахольная. А я сказала, что он – одержимый, потому что все время думает о рисовании. И мы оба расхохотались, поскольку знали, что это правда. Мы оба знали, что других таких чокнутых нет в целом свете. Теперь, когда Финна не стало, никто не знает, что после уроков я хожу в лес. А иногда мне кажется, что никто и не помнит, что этот лес вообще существует.
3
Портрет нам так и не отдали. Не было никакого торжественного вручения. Никакой сопроводительной речи.
Потому что он был незакончен. Так говорил Финн. Нам нужно было приехать к нему еще раз на последний сеанс. Потом – еще раз, на самый последний. Никто против этого не возражал. Никто, кроме Греты, которая прекратила ездить к Финну по воскресеньям. Сказала, что если Финн работает только с фоном, то мы все ему не нужны. Сказала, что ей жалко тратить воскресенья непонятно на что. У нее есть дела поинтереснее.
Это было морозным январским утром, в первый учебный день после рождественских каникул. Мы с Гретой стояли на улице, ждали школьный автобус. Мы живем на Фелпс-стрит. Это одна из последних улиц на маршруте автобуса. Она находится в южной части города, а школа – в северном предместье. Если по городу, это примерно две мили. Но если идти через лес – я иногда так хожу, – получается гораздо ближе.
Из-за того что наш дом – один из последних на всем маршруте, никогда нельзя точно сказать, когда именно подъедет автобус. Если сложить вместе все школьные годы, получится, что мы с Гретой провели не один час в ожидании автобуса, стоя на улице и глядя на ряды соседских домов и лужаек. Фелпс-стрит застроена в основном коттеджами в деревенском стиле, и только дом Миллеров на невысоком холме в самом конце тупика представляет собой особняк эпохи Тюдоров. Очевидно, что это фальшивый Тюдор, потому что в эпоху Тюдоров в Вестчестере жили только индейцы мохегане. Так что даже не знаю, кого Миллеры пытаются обмануть. Хотя, возможно, и не пытаются. Может быть, Миллеры вообще об этом не думают. Но я-то думаю. Всякий раз, когда вижу их дом. Мы сами живем в двухэтажном коттедже. Он голубой с черными ставнями. А перед домом у нас растет огромный раскидистый клен.
В то утро я прыгала на месте, чтобы согреться. Грета стояла, прислонившись к стволу клена, и сосредоточенно рассматривала свои ноги в новых замшевых ботинках. Она то и дело снимала очки, дышала на них, протирала и надевала опять.
– Грета?
– Что?
– А у тебя по воскресеньям какие дела? Ну, которые поинтереснее?
На самом деле я была не уверена, что хочу это знать.
Грета медленно повернулась ко мне и улыбнулась, не разжимая губ. Покачала головой и сделала большие глаза.
– Да вот такие. Ты себе даже представить не можешь, какие.
– Да, наверное, – ответила я.
Грета перешла на другую сторону подъездной дорожки.
Я так поняла, что она имела в виду секс. Хотя, возможно, и нет. Потому что я очень даже могу себе это представить. Не хочу, но могу.
Грета опять сняла очки и дохнула на стекла, так что они запотели.
– Слушай, – сказала я ей. – А мы снова сиротки. Начинается сиротское время.
Грета понимала, о чем я. Сиротское время – это период подачи налоговых деклараций. Каждый год – одно и то же. Праздничная суета, Рождество, Новый год, а потом наши родители «выпадают из жизни» на два зимних месяца. Мы с Гретой их почти не видим. Они уходят из дома в половине седьмого утра и возвращаются лишь к семи вечера, если не позже. Такова жизнь детей двух бухгалтеров. Сколько я себя помню, так было всегда.
Раньше в период подачи налоговых деклараций, когда родителям приходилось выезжать на работу до того, как приедет школьный автобус, они просили соседку, миссис Шегнер, присмотреть за нами из окна. (Окно гостиной Шегнеров выходит как раз на наш двор.) Девятилетняя Грета и семилетняя я стояли на улице в ожидании автобуса. Мы знали, что миссис Шегнер наблюдает за нами, но все равно было стойкое ощущение, что мы – совершенно одни. Грета обнимала меня за плечи и крепко-крепко прижимала к себе. Иногда, когда ожидание затягивалось или вдруг начинался снег, Грета пела мне песенки из «Маппетов». Или «В мыслях еду в Каролину» с альбома лучших песен Джеймса Тейлора из коллекции наших родителей. Уже тогда у ее был очень хороший голос. Когда сестра поет, она как будто становится другим человеком. Как будто где-то внутри ее прячется совершенно другая Грета. Она пела и прижимала меня к себе, пока из-за поворота не показывался школьный автобус. И тогда она говорила мне, а может, и себе самой:
– Видишь, все не так плохо.
Не знаю, помнит ли об этом Грета. Я вот помню. Даже когда она вредничает и донимает меня, я смотрю на нее и вспоминаю, как все было раньше.
Пару секунд Грета смотрела на меня, пытаясь казаться равнодушной. Как будто ей все равно. Потом сказала, уперев руки в боки:
– Да, Джун, в этом-то и проблема. Твои родители много работают, дома их почти не бывает. С этим надо смириться. – Повернулась ко мне спиной и стояла так, отвернувшись, пока на дороге не показался автобус.
Мы с мамой были у Финна еще три раза. Мы стали ездить к нему не раз в месяц, а раз в две недели. И необязательно по воскресеньям. Я бы с радостью поехала к нему одна, как это бывало раньше. Хотя бы разок. Мне хотелось поговорить с ним – долго и обстоятельно. И чтобы нам никто не мешал. Но каждый раз, когда я пыталась поднять эту тему, мама отвечала: «Может быть, в следующий раз. Ладно, Джуни?» И это был не вопрос. Это был мягкий способ показать мне, как все будет происходить. Я уже начала думать, что мама использует меня и портрет, как предлог побыть с Финном. Мне всегда казалось, что они с Финном не очень близки. И, наверное, мама начала об этом жалеть. И теперь я выступала в качестве этакого Троянского коня, в который пряталась мама, чтобы подобраться поближе к брату. Это было несправедливо. А под поверхностью, словно яма с зыбучим песком, лежало горькое понимание, что следующего раза может и не быть. Вслух об этом не говорилось, но было вполне очевидно, что мы с мамой боремся друг с дружкой за последние часы с Финном.
В то воскресенье, когда мы, как потом оказалось, были у Финна в последний раз, Грета сидела у себя в комнате за столом и красила ногти в два разных цвета. Один ноготь черный, другой – фиолетовый, потом опять черный и вновь фиолетовый. Я наблюдала за ней, сидя на краешке ее неубранной постели.
– Знаешь, Грета, – сказала я, – уже недолго осталось. В смысле, Финну недолго.
Мне нужно было убедиться, что она понимает. Мама однажды сказала, что это как магнитофонная запись. Кассета, которую не отмотаешь назад. Но пока слушаешь музыку, забываешь, что кассету нельзя будет перемотать. Ты забываешь и погружаешься в музыку, слушаешь, слушаешь, а потом запись внезапно кончается. И ничего уже не поделаешь.
– Конечно, знаю, – сказала она. – Я еще раньше тебя узнала, что дядя Финн болен.
– Тогда почему ты не ездишь с нами?
Грета убрала флакончики с черным и фиолетовым лаком на полочку для косметики. Потом взяла темно-красный лак, открыла крышку, достала кисточку и аккуратно прижала ее к краю горлышка. Подтянула колени к груди и принялась красить ногти на ногах, начав с мизинца.
– Потому что он все равно закончит этот портрет, – сказала она, даже не удостоив меня взглядом. – И потом, ты сама не хуже меня знаешь, что, если бы он мог, он и вовсе не стал бы рисовать там меня. Это был бы портрет исключительно Джуни, его обожаемой Джуни. Без никого.
– Финн не такой.
– Думай как хочешь, Джун. Мне, в общем-то, все равно. Это неважно. В любой день может раздаться телефонный звонок, и тебе сообщат, что Финн умер, и у тебя впереди будет целая жизнь, когда воскресенья надо будет чем-то заполнить. И что ты тогда будешь делать? А? Теперь это уже неважно. Одним воскресеньем больше, одним меньше. Ты разве не понимаешь?
Я не нашлась что ответить. Грета умеет вогнать меня в ступор, всегда умела. Она плотно закрыла флакончик с лаком и пошевелила пальцами на ногах, сверкая свеженакрашенными ногтями. Потом опять повернулась ко мне.
– Что? – спросила она. – Что ты так смотришь?
4
В период подачи налоговых деклараций у нас дома всегда пахнет мясным рагу. Мамина горчично-желтая мультиварка целыми днями стоит на кухонной стойке и медленно варит нам что-нибудь на обед. Неважно, что именно готовится: курица, овощи или фасоль, – любая еда в мультиварке пахнет мясным рагу.
Было четыре часа дня, и Грета ушла на репетицию. У нас в школьном театре ставили мюзикл «Юг Тихого океана», в котором Грета играла Кровавую Мэри. Большая роль второго плана, которую сестра получила, потому что хорошо поет. И еще потому, что она смуглая, черноволосая и кареглазая. Так что ей даже не нужно особенно гримироваться, чтобы быть похожей на полинезийку. Достаточно нанести на лицо темный тональный крем и погуще подвести глаза. Дома Грета сказала, что они репетируют чуть ли не каждый вечер – и «допоздна».
Все давно знают, что из всех школ в округе в нашей школе всегда ставят самые лучшие мюзиклы. Несколько раз к нам на спектакли приезжали какие-то люди из города. Люди, связанные с театром. Хореографы, режиссеры – все в таком роде. Ходили слухи, что однажды, лет десять назад, кто-то из хореографов так впечатлился выступлением одной старшеклассницы, что предложил ей роль в «Кордебалете». Эту историю вспоминают каждый год, и хотя все утверждают, что ни капельки в нее не верят, все равно видно, что на самом деле верят. Потому что им хочется верить в сказку, которая может стать явью. Хочется верить, что это может случиться и с ними тоже.
В последние дни сильно похолодало. Погода явно не располагала к прогулкам в лесу. Я была дома одна, сидела на кухне, делала уроки, и тут зазвонил телефон.
– Миссис Элбас? – спросил мужской голос. Какой-то странный, бесцветный. Размытый.
– Нет.
– А… ясно. Прошу прощения. Можно поговорить с миссис Элбас? – Голос не просто размытый и странный, но еще и с акцентом. Возможно, британским.
– Ее нет дома. Ей что-нибудь передать?
На том конце линии долго молчали, а потом:
– Джун? Это Джун?
Человек, которого я не знаю и которого слышу впервые в жизни, знал, как меня зовут. У меня было такое чувство, словно он тянет ко мне руки – прямо по телефонным проводам.
– Перезвоните позже, – сказала я и бросила трубку.
Мне сразу вспомнился фильм, в котором девушка-няня сидит с детьми, и ей постоянно звонит незнакомец и говорит, что видит ее и чтобы она лучше присматривала за детишками, и под конец девушка чуть ли не сходит с ума от страха. Примерно такие же ощущения были и у меня после того звонка. Хотя ничего страшного мне не сказали, я все равно обошла весь дом, закрыла все окна и проверила, заперты ли двери. Потом вернулась на кухню, села на пол у холодильника и открыла банку «Ю-Ху».
И тут опять зазвонил телефон. Он звонил и звонил, пока не включился автоответчик. И в динамике зазвучал все тот же голос.
– Прошу прощения, если я тебя напугал. Я звоню насчет твоего дяди. Дяди Финна, который в городе. Я позвоню позже. Вот и все. Извини.
Дядя Финн. Тот, кто звонил, знал моего дядю Финна. У меня внутри все как будто заледенело. Я резко встала, вылила в раковину остатки «Ю-Ху» и принялась мерить шагами кухню. Финна больше нет. Я просто знала, что его нет.
Я схватилась за телефон и набрала дядин номер, который помнила наизусть. Два длинных гудка, а потом мне ответили. И когда я услышала щелчок, означавший, что кто-то взял трубку, меня захлестнула безумная радость.
– Финн? – На том конце линии молчали. Я подождала пару секунд и спросила еще раз: – Финн? – Теперь в моем голосе сквозило отчаяние.
– Я… нет. Его нет. Он…
Я опять бросила трубку. Все тот же голос. Тот же самый человек, который оставил сообщение на автоответчике.
Я побежала к себе наверх. Никогда в жизни моя комната не казалась мне такой маленькой и тесной. Я оглядела свои дурацкие поддельные свечи, большую коллекцию книжек из серии «Выбери себе приключение», ярко-красное покрывало с рисунком под старинный гобелен. Город казался таким далеким, словно был в тысяче миль отсюда. Словно без Финна ему не хватало массы, чтобы остаться на месте. Словно он мог улететь.
Я забралась под кровать, крепко зажмурилась и лежала так два часа, вдыхая тяжелый запах мясного рагу. Представляла, что я – некое древнее существо, запертое в гробнице, и прислушивалась, не откроется ли задняя дверь, чтобы успеть зажать уши прежде, чем кто-нибудь соберется прослушать это дурацкое сообщение на автоответчике.
5
Возможно, Грета не соврала, когда сказала, что раньше меня узнала о болезни Финна. Когда об этом узнала я, Греты рядом не было. В тот день мама собиралась свозить меня к зубному, но вместо того, чтобы свернуть направо на Мейн-стрит, почему-то свернула налево – не сказав ни единого слова, – и я сама толком не поняла, как мы с ней оказались в кафе «Маунт Киско». Вообще-то, мне еще в самом начале следовало заподозрить, что что-то не так, потому что мы с Гретой всегда ходим к зубному вместе, а в тот раз мама взяла только меня. Может быть, она надеялась, что моя радость – меня все-таки не повели к стоматологу! – как-то сгладит дурные вести о Финне. Но тут мама ошиблась. Мне нравится ходить к зубному. Нравится вкус геля с фтором. Нравится, что на те двадцать минут, пока я сижу в кресле доктора Шиппи, мои зубы становятся для него самой важной вещью на свете.
Мы сидели в кабинке, а это значит, что у нас был музыкальный автомат. Еще прежде, чем я успела спросить, мама дала мне монетку в четверть доллара и попросила поставить песни.
– Что-нибудь хорошее, ладно? – сказала она. – Что-нибудь веселое.
Я кивнула. Я не знала, о чем мы будем говорить, и выбрала «Охотников за привидениями», «Девчонки хотят веселиться» и «99 Luftballons». Последняя песня была в двух вариантах, на английском и на немецком. Я выбрала на немецком, потому что мне так больше нравилось.
Мама заказала себе только кофе. Я взяла лимонное безе и шоколадное молоко.
«Охотники за привидениями» уже заиграли, а я все листала страницы, читала названия песен из списка и думала, правильно ли я выбрала. А потом мама вдруг дотронулась до моей руки.
– Джун…
У нее был такой вид, как будто она сейчас заплачет.
– Что?
Она что-то сказала, но очень тихо. Я не расслышала.
– Что? – переспросила я, наклонившись к ней через стол.
Она повторила, но я видела только, как движутся ее губы, словно она даже и не пыталась произнести слова так, чтобы они были услышаны.
Я покачала головой. Музыка в автомате звучала достаточно громко. Рэй Паркер-младший радостно пел о том, что он совсем не боится привидений.
Мама показала на стул рядом с собой, и я пересела на ее сторону стола. Она привлекла меня к себе и прошептала мне в самое ухо, почти касаясь его губами:
– Финн умирает, Джун.
Она могла бы сказать, что Финн болен – и даже, очень серьезно болен, – но нет. Она сказала прямо, что Финн умирает. Это совсем не в ее характере. Мама у нас не из тех, кто считает, что горькая правда лучше спасительной лжи, но в тот раз она, наверное, рассудила, что так действительно будет лучше: меньше слов, меньше объяснений. Потому что как бы она объяснила? Как такое вообще объяснишь? Она еще крепче прижала меня к себе, и мы с ней сидели так пару секунд, не глядя друг другу в глаза. У меня в голове образовался какой-то затор. Столько мыслей, столько всего, что, наверное, надо было сказать…
– Лимонное безе?
Неожиданно рядом возникла официантка с моим пирожным, и мне пришлось оторваться от мамы и кивнуть. Я смотрела на это нелепое радостно-воздушное безе, и мне не верилось, что еще пару минут назад я сама же его и заказала.
– От чего умирает? – спросила я наконец.
Мама принялась водить указательным пальцем по столу. Я следила за ее рукой и поняла, что она написала. СПИД. Потом, словно стол был грифельной доской, словно он мог запомнить написанное, она провела по нему ладонью, стирая невидимое слово.
– Ох…
Я поднялась и вернулась на свое место. Безе стояло на столе и как будто дразнилось. Я взяла вилку и раскрошила это дурацкое веселенькое пирожное. Потом пересела поближе к музыкальному автомату, прижалась ухом к динамику, закрыла глаза и попыталась представить, что ничего этого нет: ни безе, ни кафе – ничего. Заиграла «99 Luftballons». Я ждала, когда Нена произнесет «капитан Кирк», единственные слова во всей песне, которые я понимала.
6
Финна хоронили в закрытом гробу – и хорошо, что в закрытом. Иначе даже не знаю, как бы я с собой справилась. Я все время представляла себе его закрытые глаза. Тонкую, почти прозрачную кожу на веках. Я бы, наверное, не удержалась и подняла бы ему веки. Вот так подошла бы и подняла. Просто чтобы еще раз увидеть синие глаза дяди Финна.
Похороны состоялись ровно через неделю после того телефонного звонка. Дело было в четверг, и мы с сестрой не пошли в школу. Я даже не сомневалась, что это была единственная причина, почему Грета согласилась поехать на похороны. На моей памяти это был один из немногих дней, когда родители взяли себе выходной в один день в период подачи налоговых деклараций.
Мама привезла с собой наш портрет, нарисованный Финном. Хотела поставить его рядом с гробом, чтобы все увидели, каким замечательным человеком был ее брат. Ей казалось, что это будет хорошо и правильно. Но когда мы въехали на стоянку у кладбища, мама вдруг передумала.
– Он здесь, – сказала она странным голосом, в котором слышались злость, раздражение и паника.
Папа поставил машину и выглянул в окно.
– Где?
– Вон там. Ты что, не видишь? Вон сидит, сбоку.
Папа кивнул, и я тоже взглянула в ту сторону. Там была невысокая кирпичная стена, и на ней, сгорбившись, сидел человек. Высокий, очень худой. Он напомнил мне Икабода Крейна из «Легенды о сонной лощине».
– Кто это? – спросила я, указав пальцем на одинокую фигуру на стене.
Папа с мамой резко обернулись ко мне. Грета пихнула меня локтем в бок и прошипела:
– Заткнись, – своим самым злым и противным голосом.
– Сама заткнись, – отозвалась я.
– А мне-то чего затыкаться? Это не я задаю дурацкие вопросы. – Она поправила очки и демонстративно отвернулась.
– Замолчите обе, – нахмурился папа. – Маме и так тяжело.
«Мне тоже тяжело», – подумала я, но вслух ничего не сказала. Я молчала, потому что знала: мое горе – неправильное. Племянницы так не скорбят. Я не могу забирать Финна себе в своем горе. Может быть, раньше в каком-то смысле он был моим. Пока был жив. Мертвый, он принадлежал моей маме и бабушке. Именно им все соболезновали и сочувствовали, пусть даже ни мама, ни бабушка, как мне казалось, никогда не были особенно близки с Финном. Для всех, кто пришел проводить Финна в последний путь, я была просто племянницей. Я сидела в машине, смотрела в окно и понимала, что никто здесь даже не подозревает о том, что творится у меня в душе. Никто не знает, как много и часто я думаю о Финне – и, слава богу, никто не знает, какие мысли приходят мне в голову.
Мама устроила так, чтобы Финна похоронили на кладбище у нас в городке, а не в большом городе, где жили все его друзья. Никаких возражений не принималось. Мама как будто пыталась прибрать Финна к рукам. Удержать его рядом с собой. Сохранить для себя одной.
– Так что? Оставить его в багажнике? – спросил папа.
Мама кивнула, плотно сжав губы.
– Да, оставь.
Кстати, именно папа забрал портрет. Съездил в город и забрал. На следующий день после смерти Финна. Поехал уже под вечер, и никто из нас не предложил составить ему компанию. У мамы был ключ от квартиры Финна. Этот ключ, висевший на красной шелковой ленточке, лежал у нас дома несколько лет, но, насколько я знаю, никто им ни разу не пользовался. Мама всегда говорила, что это просто «на всякий случай». Просто Финну хотелось, чтобы у нас тоже был ключ.
Папа вернулся домой очень поздно. Заходя в дом, он хлопнул дверью, и даже я нечаянно подслушала их с мамой разговор.
– Он там был? – спросила она.
– Данни…
– Был?
– Разумеется, был.
Мне показалось, что мама расплакалась.
– Господи. При одной только мысли, что он… Ведь должна же быть какая-то справедливость. Какая-то справедливость…
– Не надо, Данни. Постарайся не думать об этом.
– Не хочу. Не могу. – Она замолчала, а потом спросила: – Ладно, где он? Ты ведь забрал его, да?
Наверное, папа кивнул, потому что на следующее утро портрет лежал на столе. Я встала первой, спустилась в гостиную и обнаружила там портрет, завернутый в плотный черный пакет для мусора. Как будто это была самая обыкновенная вещь. Вообще ничего особенного. Я обошла стол по кругу, потом прикоснулась к пакету. Прижалась к нему носом, надеясь почувствовать запах квартиры Финна, но не почувствовала ничего. Я открыла пакет, сунула голову внутрь и сделала глубокий вдох, но едкий химический запах пластика перебивал все, что могло отложиться на холсте. Я закрыла глаза и вдохнула еще глубже, плотно прижав пакет к шее.
– Ты что, совсем дура?!
Кто-то шлепнул меня по спине. Грета. Я вытащила голову из пакета.
– Если хочешь покончить с собой, я не буду тебе мешать. Но давай как-нибудь без портрета, ага? А то будет уже перебор. Одной истории с мертвым телом на одну картину вполне достаточно.
Мертвое тело. Финн был мертвым телом.
– Девчонки? – Мама стояла на середине лестницы, кутаясь в стеганый розовый халат, и сонно щурилась в нашу сторону. – Вы что тут делаете? Надеюсь, не балуетесь с картиной?
Мы обе покачали головами. А потом Грета улыбнулась.
– Просто одна из нас попыталась покончить с собой. Посредством мешка для мусора. Вот и все.
– Что?!
– Грета, заткнись! – рявкнула я. Но она не заткнулась. Ее вообще невозможно заткнуть.
– Прихожу, а она тут засунула голову в этот пакет.
Мама быстро спустилась, подошла ко мне и обняла так крепко, что едва не задушила. Потом чуть отстранилась, держа меня за плечи.
– Я знаю, как ты горюешь по Финну, Джуни, и я хочу, чтобы ты знала: если тебе нужно поговорить…
– Я вовсе не пыталась покончить с собой.
– Хорошо, хорошо, – сказала мама. – Не будем сейчас ни о чем говорить. Мы все здесь, с тобой. Я, папа, Грета. Мы все тебя любим. – За спиной мамы Грета выпучила глаза и изобразила повешенного, начертив пальцем в воздухе петлю вокруг шеи.
Я знала, что спорить бессмысленно, поэтому просто кивнула и села за стол.
Мама взяла пакет и унесла к себе наверх. Сказала, что нам нужно пока «отдохнуть» от портрета и что она спрячет его в надежном месте. В следующий раз я увидела эту картину только в день похорон.
Мы подошли к главному входу в зал для траурной церемонии. Родители – впереди, мы с Гретой – следом. У крыльца папа остановился и прикоснулся к маминой руке.
– Ты иди первая, – сказал он, указывая на лестницу. – Найди свою маму. Проверь, как она там.
Мама молча кивнула. В тот день она надела узкую черную юбку, темно-серую блузку, черное шерстяное пальто и маленькую черную шляпку с вуалью. Она выглядела потрясающе. Впрочем, мама всегда выглядит потрясающе. Шел легкий снег. Снежинки ложились на мамину шляпку и медленно таяли, впитываясь в черный фетр.
Бабушка стояла в вестибюле и беседовала с какими-то людьми, которых я не знала. Мама совсем не похожа на бабушку, они очень разные. Очень. И это отнюдь не случайность. Похоже, в семействе Уэйссов когда-то случился глубинный конфликт поколений. Мама с Финном посмотрели на своих родителей и решили, что никогда, ни при каких обстоятельствах не станут такими же, как их предки. Так что есть дедушка Уэйсс, бывший крупный военный чин, и есть дядя Финн, сбежавший из дома и ставший художником. Есть бабушка Уэйсс, которая всю жизнь занималась готовкой и глажкой для дедушки Уэйсса и делала всякие замысловатые прически – опять же, не для себя, а для мужа, – и есть моя мама, которая готова потратить деньги и, возможно, даже переплатить, лишь бы не гладить и не стоять у плиты, и которая носит короткую стрижку, чтобы не заморачиваться на укладку. Если эта тенденция сохранится, нам с Гретой вообще не захочется идти на работу в офис. Собственно, мне и не хочется. Если все будет по-моему, я устроюсь работать сокольничим на какой-нибудь «средневековый» фестиваль. Мне не придется думать о карьерном росте и продвижении по службе. Потому что работа сокольничего, она совершенно другая. Либо ты сокольничий, либо нет. Либо птицы к тебе возвращаются, либо сразу же улетают.
Мама вошла внутрь. Папа проводил ее взглядом и повернулся к нам с Гретой. Я заметила у него на щеке тонкую полоску не сбритой щетины. И еще я заметила, что он постоянно хмурится. Как жонглер, которому нужно предельно сосредоточиться, чтобы не уронить ни единого шарика. Похоже, смерть Финна совсем его не опечалила. Глядя на папу, можно было подумать, что дядина смерть стала для него большим облегчением.
– Если вы вдруг увидите, что тот человек вошел внутрь, сразу же дайте мне знать. Договорились?
Мы обе кивнули.
– Ради мамы и бабушки. Вам понятно?
Мы снова кивнули.
– Вы у меня молодцы. Я знаю, как вам тяжело, но вы обе отлично держитесь. – Он положил руку мне на плечо. Потом – на плечо Греты. – Все потихоньку наладится. Жизнь продолжается, верно?
И опять мы кивнули. Папа еще на миг задержался, внимательно глядя на нас, потом развернулся, поднялся по ступенькам и скрылся внутри.
Мы с Гретой остались стоять на дорожке, подернутой тоненькой корочкой льда. Иногда бывает очень заметно, что я выше Греты, хотя она старше. Я наклонилась поближе к ней и кивнула в сторону человека, сидевшего на стене.
– А он, вообще, кто? – спросила я шепотом. Я почти не сомневалась, что она ничего мне не скажет. И оказалась права. Она промолчала и только взмахнула рукой, приглашая меня пройтись по дорожке. Поближе к тому месту, где сидел человек. Я подняла глаза и увидела, что он смотрит прямо на меня. Не на Грету. Только на меня. Он подался вперед, как будто готовясь подняться. Как будто думал, что я подойду поздороваться. Я уже почти развернулась, чтобы пойти в прямо противоположную сторону, но Грета схватила меня за руку и потащила за собой. Мы подошли совсем близко к тому человеку. Когда нас разделяло не больше пяти-шести метров, Грета остановилась, подождала пару секунд и откашлялась, прочищая горло.
– Он тот, кого сюда не приглашали, – сказала она достаточно громко, так что он наверняка ее услышал.
Я посмотрела на человека, который еще полминуты назад так упорно пытался поймать мой взгляд, но он уже отвернулся. Сидел, держа руки в карманах, и смотрел совершенно в другую сторону.
– А почему? Знаешь?
– Знаю, но не скажу, – усмехнулась сестра.
Грета всегда все знает. Потому что подслушивает и шпионит. У нас в доме есть несколько мест, откуда слышен любой разговор. Я ненавижу эти места, а Грета, наоборот, обожает. Ее любимое место – ванная на первом этаже. Этой ванной мы пользуемся очень редко, и поэтому все забывают, что она вообще есть. Но даже если тебя обнаружат, всегда можно крикнуть: «Минуточку!» – и только потом открыть дверь. Но к тому времени ты уже все услышал.
Я сама не люблю подслушивать. Потому что не раз убеждалась: то, что родители пытаются скрыть от детей, детям действительно лучше не знать. Нет никакой радости в том, чтобы знать, что твои дедушка с бабушкой собираются разводиться, потому что дедушка вспылил и ударил бабушку по лицу, причем до этого они прожили вместе пятьдесят два года и за все это время даже ни разу не поругались. Нет никакой радости в том, чтобы заранее знать, что тебе подарят на Рождество или на день рождения. Потом придется изображать радостное удивление, а это будет уже нечестно. И неинтересно. Нет никакой радости в том, чтобы знать, что на родительском собрании маме сказали, что ты – очень средняя ученица по математике и по английскому и что большего от тебя и не ждут.
Грета чуть ли не бегом бросилась к входу в зал для траурных церемоний. На крыльце она остановилась и обернулась ко мне.
– Я тут подумала… – громко и четко проговорила она. – Я тут подумала и решила – ладно. Скажу. – Она провела рукой по щеке, стирая растаявшие снежинки.
Мне вдруг стало зябко, и даже слегка затошнило. Так бывает всегда, когда Грета делится со мной информацией. Мне очень хочется знать, но при этом мне страшно. Я еле заметно кивнула.
Она указала в сторону того человека и сказала:
– Это он убил дядю Финна.
Я обернулась к нему, но он уже уходил. Я увидела лишь его спину. Увидела, как он сгорбился, забираясь в маленькую синюю машину.
На панихиде я сидела в переднем ряду и честно пыталась слушать все эти хорошие, добрые слова, которые собравшимся волей-неволей пришлось говорить о Финне. В зале было душно и сумрачно. Стулья были из тех, что вынуждают тебя сидеть только прямо и никак иначе. Грета сидела не с нами. Она сказала, что сядет в последнем ряду, и когда я обернулась взглянуть на нее, то увидела такую картину: Грета сидела, низко склонив голову, зажав уши руками и крепко зажмурившись. Именно зажмурившись, а не просто закрыв глаза. Как будто пыталась отгородиться от происходящего. Притвориться, что ничего этого нет. На миг мне показалось, что Грета плачет. Но это вряд ли.
Мама произнесла несколько слов о том, как они с Финном были детьми. И каким он был замечательным братом. Все как-то размыто и очень туманно, словно мама боялась пораниться, если подробности будут слишком остры и пронзительны. После мамы выступил какой-то кузен из Пенсильвании. Потом слово взял распорядитель похорон. Я пыталась слушать и вникать, но все мои мысли были заняты исключительно тем человеком, который остался снаружи.
Мне не хотелось думать о том, как Финн заразился СПИДом. Это не мое дело. Если тот человек действительно убил Финна, значит, он был другом дяди – его бойфрендом, – но если у дяди был друг, то почему я об этом не знаю? И откуда об этом узнала Грета? Если бы Грета знала, что у дяди есть тайный бойфренд, она бы не преминула меня поддразнить. Она никогда не упускает возможности дать мне понять, что она знает что-то, чего не знаю я. Поэтому было лишь два варианта. Либо Грета узнала о дядином друге только сегодня, либо все это неправда.
Мне больше нравился второй вариант. Я решила, что надо поверить в него. Хотя это трудно: поверить во что-то, во что хочется верить. Обычно разум сам выбирает, во что верить, а во что нет. Но я все-таки заставила себя поверить, потому что при одной мысли, что Финн скрывал от меня такой важный секрет, меня буквально тошнило. В прямом смысле слова.
Панихида закончилась, все направились к выходу. Несколько человек задержались в вестибюле поговорить, а я сразу вышла на улицу и попробовала найти маленькую синюю машину. Но ее нигде не было. Ни машины, ни человека. Снег валил уже по-настоящему. Улицы и лужайки покрылись белым ковром, и мир вокруг сделался чистым и совершенным. Я застегнула молнию на куртке до самого верха и вышла на дорогу. Глянула в одну сторону, потом – в другую. Но ничего не увидела. Тот человек уже уехал.
7
Мне нравится приходить в лес после сильного снегопада, потому что все банки из-под газировки, пустые пивные бутылки и фантики от конфет исчезают, и не приходится очень сильно стараться, чтобы представить, что ты в другом времени. И еще это очень красиво: идти по снегу, по которому не ступала нога человека. Сразу кажется, что ты какой-то особенный. Пусть даже и знаешь, что это не так.
Я надела оранжевые митенки, которые Грета связала мне на кружке вязания в пятом классе. Огромные, совершенно бесформенные, с отверстиями для больших пальцев, располагавшимися в середине, а не сбоку. В тот день я не стала переодеваться в платье, но все-таки переобулась. Надела свои средневековые сапоги. На самом деле было не так уж и холодно, и я забрела дальше в лес, чем обычно: перешла ручей, протекавший у подножия холма, и поднялась на холм. Я старалась не думать о Финне и обо всех его тайнах, которые он, возможно, скрывал от меня. Я сосредоточилась на истории, которую мысленно сочиняла: что я – самая сильная во всей деревне, и, кроме меня, там некому ходить на охоту, и вот я отправилась в заснеженный лес, чтобы добыть оленя. Девчонки вообще-то не ходят охотиться, поэтому мне пришлось заколоть волосы и притвориться, что я мальчишка. Вот такая была история.
Свежий снег лег на слой старого, заиндевевшего, и каждый раз, делая шаг вперед, я немножко съезжала назад. Я совершенно выбилась из сил, когда наконец поднялась на вершину холма, и присела передохнуть. Села прямо на снег. Вокруг было так тихо. Я закрыла глаза. Вернее, они сами закрылись. На мгновение мне представилось лицо Финна. Я улыбнулась и зажмурилась еще крепче, надеясь удержать этот образ. Но он исчез. Я легла на спину и открыла глаза. Даже не знаю, сколько я пролежала на снегу, глядя на ломаные узоры, созданные сплетением голых древесных ветвей на фоне серого неба. Когда снег, придавленный моим телом, перестал поскрипывать, вокруг опять стало тихо, и, хотя я очень старалась думать только о Средних веках, в голову упорно лезли мысли о Финне. Плохо, что его кремировали. Лучше бы похоронили, потому что тогда я могла бы снять перчатки и прижать руки к земле, зная, что он где-то там. Что между нами по-прежнему есть какая-то связь – через все эти молекулы замерзшей грязи. Потом я стала думать о том человеке, которого не приглашали на похороны, и вдруг почувствовала себя ужасно глупо. Конечно, у такого удивительного человека, как Финн, должен был быть друг. А как же иначе? Наверное, это он и звонил мне в тот день. Англичанин, который знал мое имя. Который звонил из квартиры Финна. Который был там. С моим дядей Финном. У меня по щеке потекла горячая слезинка.
А потом в этой громадной, всеобъемлющей тишине раздался долгий печальный вой. Сначала мне показалось, что звук идет изнутри. Прямо из сердца. Как будто мир собрал все мои чувства и превратил их в протяжную ноту.
Я резко села. За первым воем раздался второй. Собаки, наверное. Или койоты, а может, волки. Звуки были какими-то зыбкими, ненадежными. Похожими на звучание дрожащих, надтреснутых голосов. Вот все умолкло, а потом снова раздался вой. Через пару секунд подключился еще один. И еще. Всего три или даже четыре. Я напряженно прислушивалась, пытаясь понять, далеко они звучат или близко. Но казалось, что звук был повсюду. Близко и далеко. Среди деревьев и под облаками. Вой сделался громче, и у меня перед глазами встала такая картина: огромный, лохматый, с густой свалявшейся шерстью волчище крадется среди деревьев. На какой-то миг я впала в странное оцепенение. Как будто и вправду перенеслась в Средние века, когда волки свободно бродили в лесах, и крали детей в деревнях, и могли запросто загрызть человека.
– Я не боюсь, – крикнула я в сторону холмов. А потом побежала, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Я не рассчитала прыжок и угодила одной ногой прямо в ручей. Кое-как выкарабкалась на берег, хватаясь за тонкие молодые деревца, росшие у самой воды. Через пару минут я уже выскочила на стоянку за школой. Машин почти не было. Я резко остановилась и согнулась пополам, пытаясь отдышаться.
– Черт! – воскликнула я, глядя на свою правую руку, и пнула высокую кучу грязного снега у края стоянки. Я потеряла перчатку, которую связала мне Грета.
8
– Пойдешь со мной на вечеринку?
Грета не улыбалась, когда задавала мне этот вопрос. Она вообще на меня не смотрела. Сидела, склонившись над туалетным столиком. А я как раз проходила мимо двери в ее комнату.
Я была уверена, что ослышалась. Поэтому остановилась и подождала, не прибавит ли Грета что-то еще. Наверное, вид у меня был на редкость дурацкий, когда я застыла на месте с отвисшей челюстью.
Сестра обернулась и смерила меня взглядом.
– На ве-че-рин-ку, – проговорила она по слогам. – Пойдешь?
Я вошла в комнату, где стояла все та же белая мебель, которую родители покупали, когда Грете было семь лет. Стены были покрашены все в тот же розовый цвет, а под потолком шла полоска все тех же обоев с Холли Хобби. Если судить по обстановке, то всякий, кто совершенно не знает Грету, сказал бы, что здесь живет милая, славная девочка. Я присела на кровать.
– А что за вечеринка?
– Хорошая.
– Ага.
Грета знает, что для меня не существует такого понятия, как хорошая вечеринка. Один человек, два человека – для меня это нормально. Но если вокруг много народа, я превращаюсь в голого землекопа. Это такие африканские грызуны типа кротов, у которых почти нет шерсти. Так вот, я превращаюсь в такого крота. Как будто у меня слишком тонкая кожа, а свет слишком ярок для глаз. Как будто нет для меня лучшего места на свете, чем тоннель глубоко под землей, прохладный и темный. Кто-то подходит ко мне, что-то спрашивает, а я смотрю на него совершенно пустыми глазами и лихорадочно соображаю, что бы такого сказать интересного. Но ничего интересного в голову не приходит, и в конечном итоге я просто киваю или пожимаю плечами, потому что ко мне подошел человек, что-то спросил, а теперь стоит, смотрит и ждет ответа – а для меня это слишком большое испытание. Вот так все и заканчивается, и на свете одним человеком, который считает меня полной дурой и пустым местом, становится больше.
Хуже всего – это глупая надежда. С каждой очередной вечеринкой, с каждой новой компанией я втайне надеюсь, что, может быть, это мой шанс. Что на этот раз я уж точно буду нормальной. Открою новую страницу. Начну все сначала. Но все получается как всегда. И я снова и снова ловлю себя на мысли: «Ну, вот опять…»
Поэтому я и стараюсь держаться подальше от всех, где-нибудь с самого края, и прошу лишь об одном: чтобы никто не пытался заглянуть мне в глаза. И хорошо, что обычно никто не пытается.
– Наверное, не пойду.
– Да ладно, Джун. Будет совсем не ужасно, обещаю.
Я с удивлением взглянула на сестру. Она говорила так искренне, так сердечно. Это было совсем не похоже на Грету.
– Правда. Вот тебе крест! – Она не стала креститься, но прижала обе руки к груди. Я очень старалась не улыбнуться, но губы сами расплылись в улыбке.
– А где вечеринка? – спросила я чуть погодя.
– Еще не знаю. Все устраивает Джиллиан Лэмптон. Ты же знаешь Джиллиан Лэмптон, да?
Да, я знала Джиллиан. Она тоже участвовала в школьном театре. Была осветителем на «Юге Тихого океана». Она красила волосы в черный цвет и носила стрижку каре. Мне всегда нравилось, как она выглядит, и я бы не отказалась выглядеть так же. Джиллиан училась на класс младше Греты, хотя, возможно, была старше ее.
Это большой секрет, известный очень немногим. Грета уже перешла в старшую школу, хотя ей всего шестнадцать. Никто из ее одноклассников и друзей не знает, сколько ей лет на самом деле. Вообще никто. Мы переехали в этот город, когда мне было пять, а Грете – семь. Она должна была пойти во второй класс, но ее записали в третий. По рекомендации учительницы из прошлой школы. Она сказала родителям, что Грете нечего делать во втором классе и что она замечательно справится, если пойдет сразу в третий. Папе не слишком понравилась эта идея. Но мама сказала, что это отличная мысль. «Если возможность сама идет в руки, ее надо хватать. А то уплывет и потом не вернется». Такой у нее был девиз. В основном, когда речь шла о Грете. Как будто возможности были скользкими мелкими рыбками. Самой Грете было, в общем-то, все равно. Вот так получилось, что ее перевели на класс старше. Хотя она и так-то была одной из самых младших в классе. Теперь Грета как минимум на год младше всех своих одноклассников и почти на два года – большинства из них. Но это секрет. Когда к Грете на день рождения приходят друзья, мама ставит на торт одну лишнюю свечку. Просто чтобы было. У нас даже сложилась традиция: каждый год Грета решает, какая из свечек – обманная, и, когда задувает свечи, старается, чтобы «обманка» осталась гореть. Грета боится, что если задуть эту лишнюю свечку, то желание не исполнится. Или исполнится, но с точностью до наоборот. Конечно, в школьных документах записан ее год рождения, но вообще-то о нем никто не вспоминает. Хотя иногда это очень заметно. Во всяком случае, я иногда замечаю, что Грета, по сути, еще ребенок по сравнению со всеми ее друзьями. Хотя никогда не скажу ей об этом.
– Не знаю, Грета. Наверное, мама не…
– Не беспокойся о маме. С мамой я разберусь. Тем более у них там завал с декларациями. Маме сейчас явно не до тебя. – Грета склонила голову набок и уперла руки в бока. – Так ты идешь?
– Я… А почему ты меня позвала?
Во взгляде сестры промелькнуло какое-то странное выражение. Я так и не поняла, что это было: любовь, сожаление или злость. А потом Грета сказала:
– А почему бы мне тебя и не позвать?
«Потому что ты меня ненавидишь», – подумала я про себя, но вслух этого не сказала.
Три года назад родители перестали приглашать к нам приходящую няню на время подачи налоговых деклараций. Грете сказали, что теперь она будет за старшую. Родители ей доверяли. «Вы у меня благоразумные девочки», – сказала мама. В первый год без няни Грета не отходила от меня ни на шаг. Помогала мне делать уроки, сидела рядом со мной в автобусе по дороге домой. Делала сандвичи с сыром и майонезом, и мы ели их у нее в комнате и притворялись, что мы – настоящие сироты и у нас нет никого, кроме друг друга. Иногда в доме бывало так тихо – так тихо и пусто, – что нам и вправду казалось, что мы одни в целом свете, и было очень легко в это поверить. Если бы Грета позвала меня на вечеринку тогда, я бы не раздумывала ни секунды. Хотя я всегда ненавидела вечеринки, я бы сразу ответила «да». Я бы в ней не усомнилась.
Трудно сказать, когда именно мы перестали быть лучшими подругами, когда перестали быть хоть сколько-нибудь похожими на сестер. Грета перешла в старшую школу, а я еще оставалась в средней. У Греты появились новые друзья, а у меня был Финн. Грета сделалась настоящей красавицей, а я… я была странной. Не знаю. Все это могло бы и не отразиться на наших с ней отношениях, но – отразилось. Наверное, все это вместе было как вода. Мягкая и безобидная поначалу, со временем она пробивает любую скалу. И там, где была толща камня, вдруг возникает Большой каньон.
– Пойдем вместе. Пожалуйста, Джун.
– Не знаю. Может, и пойдем, – пробормотала я. Мне очень хотелось поверить, что она говорит искренне, что здесь нет никакого подвоха. Я заглянула ей прямо в глаза, пытаясь понять, что творится у нее в душе. Но ничего не увидела, вообще ничего. А потом мне в голову пришла совершенно безумная мысль, что, может быть, это Финн. Может быть, мертвые как-то умеют проникать в душу к живым и делать так, чтобы те стали добрее и лучше. На самом деле я не верю во всю эту мистику, но все равно улыбнулась сестре. На всякий случай. На случай, если глазами Греты на меня смотрел Финн.
– Так пойдешь? – спросила она.
Я оглядела ее комнату. Повсюду валяется смятая одежда. Туалетный столик завален тюбиками помады и тенями для век. Там же, на столике, лежит сценарий «Юга Тихого океана». Смятая банка из-под «7Up» стоит на несобранном кубике Рубика. За зеркало, в правом верхнем углу, вставлены фотографии. Снимки из фотоавтомата. Грета с друзьями. Я заметила, что из-под них торчат мои ноги. Моя старая фотография, наша старая фотография. Мои грязные белые сандалии и краешек моего желтого сарафана в горошек.
Не знаю, что именно меня подтолкнуло. Может быть, то обстоятельство, что Грета все еще держит почти на виду нашу с ней старую фотографию. Или то, что она предложила мне сделать что-то с ней вместе, и это было так неожиданно и приятно. Или то, что я знала: это был мой последний год с Гретой. Ее приняли в Дартмут, не дожидаясь результатов выпускных экзаменов. Это казалось невероятным, но уже было известно, что через полгода Грета уедет из дома и будет жить в другом городе. Возможно, дело решило все вместе. Возможно, что-то одно. А может, я просто подумала, что вечеринка, наверное, еще не скоро, и у меня будет время пойти на попятный. Так зачем портить момент? Может, поэтому и кивнула.
– Ладно. Пойдем.
Грета хлопнула в ладоши и даже подпрыгнула на месте. Потом подошла ко мне и подняла мои косы наверх.
– Я помогу тебе сделать прическу, – сказала она. – У меня еще осталось немного спрея для осветления волос, а Меган говорит, что вовсе не обязательно ходить под солнцем. Если встать близко к лампе, спрей тоже должен подействовать. И макияж тебе сделаем… – Она отпустила мои косы, вернулась к столику, взяла очки, надела их и внимательно на меня посмотрела.
– Теперь все будет как раньше, да? Мы снова вместе? Я помогу тебе забыть дядю Финна. И теперь, когда Финна не стало, мы с тобой… – Грета улыбалась. Почти сияла.
Я слегка отстранилась и уставилась на нее во все глаза.
– Я не хочу забывать дядю Финна.
Вот что я сказала. Слова вырвались из самого сердца, и хотя это была чистая правда, я потом долго жалела, что не сумела промолчать. Ведь я могла бы сказать ей: да, Грета. Мы снова вместе. Мы снова лучшие подруги. Теперь все будет как раньше.
Грета быстро отвернулась, но я успела увидеть разочарование и горечь в ее глазах. Она принялась перебирать вещи у себя на столе, стоя ко мне спиной. А когда вновь повернулась ко мне, в ее взгляде не было ничего, кроме обычной снисходительной неприязни.
– Господи, Джун. Тебе обязательно быть такой дурой?
– Я…
– Уходи.
Я пошла к двери, но на пороге все-таки обернулась.
– Грета?
Она тяжко вздохнула:
– Ну, что еще?
– Я совсем не хотела…
Она раздраженно взмахнула рукой.
– Не хочу ничего слушать. Уходи.
9
Дядя Финн был не только моим родным дядей, но еще и крестным. Крестными Греты были Инграмы: Фред Инграм, менеджер службы контроля качества в «Pillsbury», и Бекка Инграм, его жена. У них есть сын Мики, который младше меня года на два. Мы с Гретой знаем Мики с того самого дня, когда он родился на свет с этим жутким, похожим на кляксу от пролитого портвейна родимым пятном на плече. Инграмы часто ездят к нам в гости. Особенно летом. На барбекю. И мистер Инграм всегда привозит с собой «свое» мясо. Когда мы ходим в городской бассейн или бесимся у нас на лужайке под поливальной установкой, Мики никогда не снимает футболку. Прячет родимое пятно. Прячет даже от нас с Гретой, хотя мы его уже видели – и не раз.
Инграмы – хорошие. Но по ним никогда не скажешь, что они крестные Греты. А Финн всегда очень серьезно относился к своим обязанностям крестного. Однажды я спросила у мамы, почему Финн не стал крестным и Греты тоже, и мама сказала, что, когда родилась Грета, Финн еще не успел остепениться. Еще не «нагулялся». Путешествовал по всему миру, нигде не задерживаясь надолго. Мне казалось, что это здорово. Но мама считала подобное поведение неподобающим.
Она сказала, что, даже если бы Грета родилась после меня, она все равно бы не позвала Финна в крестные во второй раз. Потому что он слишком ответственно к этому подошел. Она и не думала, что он примет все так близко к сердцу и проявит такой интерес, и теперь, когда я стала старше, это уже вызывает тревогу. Однажды, еще до смерти дяди, мама сказала, что мне надо учиться обходиться без Финна, а то я как-то уж слишком от него завишу.
Мне ужасно не нравилось, когда мама так говорила. Мне ужасно не нравились все ее речи, начинавшиеся словами: «Девочка твоего возраста…»
Я знаю, как Грете было обидно, что у меня – дядя Финн, а ей достались какие-то Инграмы. И ведь Финн никогда от нее не отмахивался. Не говорил, что ей с нами нельзя. Не исключал ее из нашей компании. Она сама себя исключила. Она не раз говорила: «Не хочу вам мешать. Не хочу портить тебе драгоценное время с крестным дядюшкой Финном», – этим своим раздраженным голосом. И я никогда с ней не спорила, потому что хотела, чтобы Финн был только моим.
Прошлым летом Мики попытался поцеловать Грету. Она сказала ему, что это гадко и непристойно. Потому что он ее крестный брат, и это будет почти как инцест.
– Но ты можешь поцеловаться с Джун, – сказала она.
Мики покраснел, как вареный рак, и смутился, не зная, куда девать глаза. Никто не хотел целоваться со мной, даже Мики, и Грета, конечно же, постаралась лишний раз мне об этом напомнить. Но я понимала, что она просто завидует мне из-за дяди Финна. Не то чтобы она постоянно об этом думала, но и не забывала. С Финном мне повезло, и она это знала.
10
Во вторник, на следующий день после похорон Финна, портрет наконец-то освободили от этого жуткого пластикового пакета. С утра шел снег, и было объявлено, что занятия в школе начнутся на два часа позже, но потом поднялась настоящая метель, и уроки вообще отменили. Я люблю снег. Особенно когда его много и можно ходить по сугробам и представлять, что ты гуляешь по облакам.
Когда мы были маленькими, до того, как Грета сделалась такой злюкой, мы с ней любили играть в снегу у нас на заднем дворе. Мы ложились на спину и смотрели в небо, стараясь не моргать, когда снежинки падали нам на лицо. Грета сказала, что однажды снежинка приземлилась ей прямо на зрачок, и она сумела ее разглядеть. До мельчайших деталей. Вплоть до самого крошечного кристаллика. Это длилось лишь долю секунды. Снежинка как будто впечаталась ей в зрачок. Грета сказала, что она в жизни не видела такой красоты. Даже представить себе не могла, что такое бывает. Красивее, чем ангелы в небесах. Грета тогда побежала в дом, схватилась за мамину юбку и горько расплакалась. Потому что понимала: я никогда-никогда не увижу эту снежинку. Понимала, что у нее никогда не получится показать мне эту невообразимую красоту. Мама время от времени вспоминает эту давнюю историю, чтобы напомнить нам с Гретой, какими мы были раньше и как мы дружили. Иногда я ей верю. Иногда – нет.
– Нужно вставить его в рамку, – сказала мама. Папа в тот день все же поехал на работу, а мама осталась дома. Она беспокойно топталась на кухне, прижимая к груди портрет в черном пакете. В кухне пахло яичницей и кофе. Снег за окном шел так густо, что машину, стоявшую во дворе, даже не было видно.
– Зачем ему рамка? – спросила Грета.
– Картины обычно вставляют в рамки, – сказала мама. – Давайте достанем и посмотрим.
Боятся тут нечего. Так я сказала себе. И протянула руки к пакету. Мама передала мне его и отступила на пару шагов. Я положила пакет на стол и достала картину.
И вот они мы, я и Грета, глядим с портрета на нас настоящих. У меня нарисованной та же прическа, с которой я хожу всегда: две тонкие косички по бокам, убранные назад и связанные на затылке. Грета – в очках, потому что Финн сказал ей, что хочет нарисовать нас такими, какие мы в жизни. Сказал, что портрет должен был правдивым. Финн изобразил меня так, словно я знаю какую-то очень важную тайну, но никому ничего не скажу. Такой вид больше подошел бы Грете, потому что она такая и есть, но ее Финн нарисовал по-другому: как будто она только что рассказала кому-то ужасный секрет и теперь ждет реакции. Стоит лишь посмотреть на картину, и сразу становится ясно, что дядя Финн был хорошим художником. Очень хорошим. Даже не представляю, как у него получалось извлекать на поверхность самые потаенные мысли людей и изображать их на холсте. Как вообще можно увидеть чьи-то мысли и превратить их в мазки красной, белой и желтой краски?
Мы долго рассматривали портрет, не в силах оторваться. Мама стояла между Гретой и мной, приобняв нас обеих за талии. Я смотрела как завороженная. Впитывала в себя каждый мазок, каждый оттенок краски, каждую линию на холсте. И мама тоже. И даже Грета. Я это чувствовала. Чувствовала, что им тоже хочется погрузиться в эту картину. Мама все крепче и крепче сжимала руку, лежавшую у меня на талии. А когда рука сжалась в кулак, мама склонила голову и вытерла щеку о рукав свитера.
– Все в порядке? – спросила я.
Мама быстро кивнула, не сводя глаз с портрета.
– Зарыть в землю такой талант… Вы посмотрите. Посмотрите, как он писал. У него было столько возможностей…
Мне показалось, что мама сейчас заплачет. Но она все-таки переборола себя. Резко хлопнула в ладоши и проговорила преувеличенно бодрым тоном:
– Ладно. Надо что-то решать с рамкой. Есть идеи?
Я склонила голову набок, внимательно вглядываясь в портрет.
– А только мне кажется, или… не знаю… что-то в нем изменилось, нет?
– Не знаю. – Грета взялась рукой за подбородок, изображая задумчивость. – Вид у тебя все такой же дурацкий.
– Не сейчас, Грета, – строго сказала мама.
Но портрет действительно изменился. Я видела его, когда мы в последний раз были у Финна. Краска еще не просохла. А Финн казался каким-то маленьким, просто крошечным. Таким я его никогда не видела. У него падало зрение, и он сказал, что уже не сумеет доделать портрет так, как надо. Он положил руку мне на плечо и сказал:
– Прости, Джун. Он мог бы быть лучше. Гораздо лучше.
Финн сказал, что мы продолжим работать.
Мы. Он сказал «мы». Как будто я тоже участвовала в работе.
– Ну что? Насмотрелись? – спросила мама, потянувшись к портрету.
– Одну секунду. – Я пыталась понять, что же изменилось. Пристально изучила свои глаза, потом – глаза Греты. Нет. Глаза остались такими же, как были. И тут я заметила пуговицы. Пять пуговиц у меня на футболке. Теперь, когда я их увидела, мне стало странно, что я не заметила их сразу. Тем более что они были совсем не похожи на руку Финна, а походили скорее на неумелый детский рисунок. Пять черных кружочков с белыми пятнышками внутри – как бы с бликами отраженного света. С чего бы Финн вдруг решил нарисовать эти пуговицы? Я прикоснулась кончиком пальца к самому верхнему кружочку. Слой краски на нем был чуть толще, чем на всем остальном холсте, и почему-то мне сделалось грустно.
Я взглянула на маму и Грету и решила не говорить им о пуговицах.
– Ладно, я посмотрела, – сказала я. – Можешь убирать.
В пятницу, после школы, мы поехали в багетную мастерскую. Хозяин мастерской, мистер Траски, в меру упитанный и невысокого роста, сказал, что он все понимает – раму следует выбирать так, чтобы все были довольны, – и разрешил нам задержаться на полчаса после закрытия. По просьбе мамы мистер Траски все прикладывал и прикладывал образцы рамок к портрету, но каждый раз кто-нибудь из нас качал головой и говорил: «Нет, не то». В общем, мы так ничего и не выбрали. Необрамленный портрет убрали все в тот же черный пакет и вернули в багажник.
– Завтра мы опять приедем, – сказала мама, садясь в машину. – Он говорил, у него есть еще рамки.
– А может, ты сама съездишь? Без нас? – спросила Грета.
– Нет, нет, нет. Вам обязательно нужно поехать. Это ваша обязанность. Финн написал этот портрет для вас.
– Тогда я сразу скажу, что мне понравилась обычная черная деревянная рамка.
А мне вот совсем не понравилась черная деревянная рамка. С такой рамкой у нарисованных нас получался какой-то ехидный вид.
С каждой рамкой, которую прикладывал к холсту мистер Траски, портрет как будто менялся. Маме понравилась «Валенсия»: рама из темного дерева с мелким резным узором, похожим на россыпь кофейных зерен. А мне показалось, что с этой рамкой портрет выглядит скучным.
– А мне понравилась золотая. Которая под старину.
– Почему я не удивлена? – хмыкнула Грета.
Модель, которая понравилась мне, называлась «Тосканское золото». Шикарная рама, нарядная и элегантная. Картину в таком обрамлении можно вешать в музее.
– Финну бы она понравилась, – сказала я.
– Откуда ты знаешь, что бы ему понравилось? – резко переспросила Грета. – Или ты научилась прыгать со скакалкой прямо в загробное царство?
Меня иногда поражает, как Грета все помнит. Когда мне было девять, я придумала такую теорию о путешествиях во времени: если крутить скакалку назад и прыгать очень-очень быстро, то можно перемещаться во времени в обратную сторону. Если хорошенько взбить воздух вокруг, он превратится в пузырь, который перенесет меня в прошлое. Но я давно уже в это не верила. Я понимала, что так не бывает.
У мамы был такой вид, как будто она сейчас разрыдается или, наоборот, психанет, так что я промолчала и только легонько пихнула Грету локтем.
– Завтра. Все завтра. Как говорится, утро вечера мудренее, – сказала мама.
И оказалась права. Когда мы назавтра приехали в багетную мастерскую, то взяли первую же раму, которую нам показал мистер Траски. Может быть, все получилось так быстро, потому что Грета нашла уважительную причину, чтобы не ехать с нами, и мы были с мамой вдвоем. А может, мы просто устали и хотели скорее вернуться домой. А может быть, это и вправду была самая лучшая рама: коричневая, не очень темная, но и не очень светлая, со скошенными краями. Она обрамляла холст, оставаясь почти незаметной, и портрет в ней не менялся.
– Оставьте мне вашу картину на пару дней. – Мистер Траски принялся что-то писать у себя в блокноте. – Все будет готово, ну… скажем, во вторник утром.
– Ее обязательно оставлять? – спросила я.
Мама положила руку мне на плечо.
– Солнышко, это так быстро не делается.
– Но я не хочу оставлять ее здесь. Не хочу.
– Не обижай мистера Траски. Он и так делает все, что в его силах. – Мама улыбнулась хозяину мастерской, но тот смотрел в свой блокнот.
– Давайте договоримся так. Завтра у меня выходной, но я после обеда приду в мастерскую. Специально для вас. И когда все будет готово, сам привезу вам картину. Так вас устроит?
Я молча кивнула. Мне очень не нравилось, что портрет на ночь останется в мастерской, но я понимала, что ничего лучше мне все равно не предложат.
– Скажи спасибо мистеру Траски, Джун. Он так любезен.
Я поблагодарила его, и мы ушли. Мистер Траски выполнил свое обещание и привез нам портрет уже на следующий день. Поставил его на кухонную стойку, чтобы мы посмотрели и оценили.
– Настоящее произведение искусства, – сказал папа.
– И рамка смотрится идеально. Огромное вам спасибо, – добавила мама.
– Хорошая рама – это очень важно, – сказал мистер Траски.
Мама с папой кивнули, хотя я не уверена, что они его вообще услышали.
– А тебе нравится, Джун? Ты довольна? – спросил мистер Траски.
На такие вопросы принято отвечать «да». Но если честно, мне вовсе не нравилось то, что я видела. Я видела себя и Грету, втиснутых в рамку вместе. Теперь, что бы ни произошло, мы с ней навечно останемся запертыми внутри этого прямоугольника из четырех деревянных планок.
11
– Распишитесь, пожалуйста… – Почтальон протянул мне планшет с бланком и показал строчку, где расписаться. Его кепка была надвинута низко на лоб, и козырек нависал над глазами, почти полностью их закрывая. Почтальон пробежал взглядом список фамилий. – Джун. Джун Элбас.
Это было примерно через две недели после похорон Финна. Почтальон пришел во второй половине дня, когда я была дома одна. Я кивнула и взяла у него ручку. Его рука слегка дрожала. Расписываясь на бланке, я краем глаза заметила, что почтальон пытался украдкой заглянуть в дом. Я вернула ему ручку, и он передал мне коробку.
– Спасибо, – сказала я, глядя ему в лицо.
Он тоже смотрел на меня, и на мгновение мне показалось, что он хочет что-то сказать. Потом он улыбнулся.
– Да. Хорошо. Замечательно… Джун.
Он развернулся, чтобы уйти, но на миг задержался на крыльце, стоя ко мне спиной.
Я хотела закрыть дверь, но почтальон по-прежнему стоял на крыльце. Мне показалось, что он сейчас повернется обратно ко мне. Он приподнял руку, вытянув вверх указательный палец, словно собираясь что-то сказать. Но ничего не сказал. Медленно опустил руку и ушел.
Я поднялась к себе в комнату и села на кровать, держа посылку на коленях. Вся коробка была замотана коричневым упаковочным скотчем. Как будто кто-то взял рулон широкого скотча и принялся обматывать коробку, пока клейкая лента не покрыла всю поверхность. Я попыталась найти кончик скотча, чтобы подцепить его и отклеить, но у меня ничего не вышло. Пришлось взять ножницы и разрезать. Я терялась в догадках, от кого эта посылка. День рождения у меня еще не скоро. Рождество было два месяца назад. Обратного адреса не было. Не было и почтовых наклеек. Только мой собственный адрес и имя, написанные черным маркером прямо на скотче.
Внутри обнаружились два непонятных предмета – один побольше, другой поменьше, – обернутые в несколько слоев газеты и толстой пупырчатой пленки. Первым я начала разворачивать маленький сверток. Когда я дошла до последних слоев упаковки и предмет внутри уже начал прощупываться, я все равно не могла понять, что это такое. А потом увидела проблеск ярко-синего цвета с красными и золотыми узорами и поняла, что это крышка русского заварочного чайника, любимого чайника дяди Финна. Я едва не уронила ее на пол. Кто-то так постарался, так тщательно упаковал… А я ее чуть не разбила! Я тут же схватила большой сверток и принялась его разворачивать, лихорадочно сдирая упаковку. Мне так хотелось поскорее увидеть весь чайник.
Последний раз я видела его в то воскресенье, когда мы в последний раз были у Финна. В то воскресенье, когда Грета не захотела поехать с нами. Когда мама чуть не поссорились с Финном из-за этого чайника. Финн хотел, чтобы она забрала чайник себе, а мама не соглашалась. Финн пытался всучить ей чайник, а мама отталкивала его, не желая брать.
– Прекрати, – сказала она. – Даже не думай. Мы еще увидимся, и не раз.
Финн посмотрел на меня, словно решая, можно ли сказать правду. Я отвернулась. Мне хотелось уйти в другую комнату, но у Финна была очень маленькая квартира: только гостиная и спальня, – и уходить было некуда. Разве что в крошечную кухоньку за двустворчатыми «ковбойскими» дверями, как в салунах на Диком Западе.
– Данни, возьми. Просто возьми. Для Джун. Дай мне хоть раз сделать по-своему.
– Ха! Хоть раз… Надо же такое придумать! – Мамин голос звучал пронзительно и визгливо. – Нам не нужен твой чайник, и давай не будем об этом.
Финн подошел ко мне, прижимая чайник к груди.
Мама строго взглянула на меня.
– Даже не вздумай, Джуни.
Я словно оцепенела. Мама преградила Финну дорогу и потянулась за чайником. Финн поднял чайник над головой и попробовал передать его мне.
Мне очень живо представилось, что сейчас будет. Очень живо представилось, как чайник падает на пол и разбивается вдребезги. Как свет заходящего солнца, проникающий в комнату сквозь огромные окна, отражается бликами от разноцветных осколков. Мне очень живо представилась половинка танцующего медведя, медведя без головы – только задние лапы, направленные в потолок.
– Глупая старая перечница, – сказал Финн. Он всегда называл маму «старой перечницей». С самого детства, как она однажды призналась. У них между собой были и другие шутки. Финн называл ее «старой овцой в шкуре ягненка», что вовсе не соответствовало действительности, а мама его называла «ягненком в шкуре старого барана», и это была чистая правда. Финн всегда и одевался по-стариковски: вязаные кофты на пуговицах, какие-то бесформенные старческие ботинки, клетчатые носовые платки в карманах. Но ему это шло. На нем это смотрелось нормально. Нормально и правильно.
– Глупая старая перечница.
Мама перестала тянуться за чайником. Слабо улыбнулась и вдруг вся поникла.
– Может быть, – сказала она. – Может быть, я такая и есть.
Финн опустил чайник и отнес его обратно на кухню. Дядя был такой бледный, что раскрашенный чайник у него в руках казался каким-то уж слишком ярким, просто кричащим. Мне хотелось взять чайник себе. Это же совсем ничего не значит. Если я возьму чайник, это не значит, что мы больше никогда не увидим Финна.
– Джун, – позвал Финн из кухни сиплым, надтреснутым голосом. Теперь его голос звучал только так. – Можно тебя на секундочку?
Когда я вошла в кухню, Финн обнял меня и прошептал мне на ухо:
– Это твой чайник. Я хочу, чтобы он был у тебя, хорошо?
– Хорошо.
– И обещай мне, что будешь заваривать в нем чай только для очень хороших людей. – Его голос трещал, словно раскалываясь на части. – Для самых лучших, да? – Он прижимался щекой к моей щеке, и его щека была влажной. Я кивнула, не глядя на него.
Я сказала, что обещаю. Он сжал мою руку, потом чуть отстранился и улыбнулся.
– Я хочу, чтобы у тебя в жизни все было именно так, – сказал он. – Чтобы тебя окружали только очень хорошие, самые лучшие люди.
И тут я все же не выдержала и расплакалась, потому что самым лучшим был Финн. Самым лучшим из всех, кого я знала.
Вот как все было в тот день, когда я в последний раз видела этот чайник. Я думала, что больше уже никогда его не увижу. И вот теперь мне принесли его прямо домой.
Я быстро распаковала сам чайник и поставила его на стол. Да, это он. Тот самый чайник. Собираясь закрыть его крышкой, я заметила, что внутри что-то есть. Сперва я подумала, что это всего лишь обрывок упаковочной бумаги, но лист был сложен как-то уж чересчур аккуратно. И только потом я увидела надпись: «Для Джун». Записка? Мне? Неужели от Финна?! Внутри всколыхнулась безумная радость пополам со страхом.
Я собрала всю пупырчатую пленку и завернула в нее чайник. Но записку, конечно, оставила. Потом убрала чайник обратно в коробку. Еще раз ее осмотрела. Никакого обратного адреса, ни марок, ни почтовых штемпелей. Разве на посылках не должно быть каких-то отметок? На мгновение мне в голову пришла совершенно дурацкая мысль, что, может быть, чайник прислал дух Финна. Но потом я вспомнила почтальона, и только тогда до меня дошло, что ведь он был одет не по форме. Синий пиджак, синяя бейсболка? Если бы родители узнали, что я открыла ему дверь, они бы убили меня на месте. Но было что-то еще… что-то странное… что-то знакомое в его взгляде, когда он смотрел на меня. Но почему? Где я могла его видеть? И тут меня осенило. Это же тот человек с похорон. Тот, о ком Грета сказала, что он убийца. У меня все внутри похолодело. Он приходил к нам сюда. Буквально стоял на пороге.
Я запихнула коробку в самый дальний угол шкафа и схватила записку, лежавшую на кровати. Бегом спустилась по лестнице, сорвала с вешалки куртку. Сунула записку в карман, выскочила на улицу и, хотя уже смеркалось, направилась в лес.
12
26 февраля 1987
Дорогая Джун,
меня зовут Тоби. Я был близким другом твоего дяди Финна. Знаешь, я тут подумал, что, может быть, нам стоит встретиться и поговорить? Ты, наверное, знаешь, кто я. Однажды мы с тобой разговаривали по телефону. Приношу искренние извинения, если в тот раз тебя напугал. И еще ты меня видела на похоронах. Я тот самый человек, которого туда не приглашали.
Пожалуйста, пойми меня правильно и не пугайся, но я бы не советовал рассказывать родителям об этом письме. Даже сестре лучше не говорить. Думаю, ты сама знаешь, как они к этому отнесутся. Может быть, ты – единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как я. И мне кажется, если мы с тобой встретимся, это будет полезно для нас обоих.
Вот что я предлагаю: в пятницу, 6 марта, я приеду на вашу железнодорожную станцию к 15.30. Если ты тоже придешь, мы можем поехать куда-нибудь на электричке и спокойно поговорить. Как тебе такое предложение?
Не знаю, что именно тебе обо мне говорили, но, возможно, все это неправда.
Надеюсь на скорую встречу,
Тоби.
Вот что было написано в том письме. Мне пришлось прочитать его, сидя на бордюре под фонарем на стоянке у школы, потому что в лесу было уже темно. На улице стояли какие-то ребята из театральной студии. Ждали, когда за ними приедут родители. Я села в самом дальнем углу стоянки и натянула на голову капюшон, очень надеясь, что меня никто не заметит.
Прочитав письмо, я убрала его в карман и пошла в лес – прямо туда, в темноту. В лесу было промозгло и сыро, но я этого не замечала. Я шла, шла и шла, пока не добралась до ручья. Вдоль берегов он покрылся тоненькой корочкой льда, в которую вмерзли опавшие листья. Но посередине вода не замерзла и текла быстрой извилистой струйкой, словно спасаясь от погони. Словно боясь, что мороз все же сумеет ее схватить. Я перепрыгнула через ручей, прошла еще немного вперед и присела на большой мокрый камень. Наверное, я зашла дальше, чем собиралась, потому что откуда-то из лесной чащи снова донесся все тот же печальный протяжный вой, который я слышала в прошлый раз. Хотя, может быть, это не я зашла дальше. Может быть, эти волки – или кто это был? – сами подошли ближе. Я достала из кармана письмо. Хотела прочесть его еще раз. Щурилась, напрягала глаза, но не смогла разобрать ни слова. В лесу было слишком темно. Деревья, даже без листьев, загораживали весь свет, который еще оставался.
Но это уже не имело значения. Мне не нужен был свет. Все, что было написано в том письме, накрепко отпечаталось у меня в сознании еще с первого раза. «Ты – единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как я». И что это значит, скажите на милость? Как это понимать? Человек притворяется почтальоном, заявляется прямо домой к племяннице своего умершего любовника и пишет ей – то есть мне, – что тоскует по Финну, по моему дяде Финну, так же сильно, как я. Человек, который убил дядю Финна. Мне хотелось завыть вместе с теми волками. Или просто закричать – так, чтобы горячий пронзительный вопль превратил мое дыхание в призрачный пар посреди промерзшего зимнего леса. Но я не стала ни кричать, ни выть. И просто тихо сидела на камне. Мне хотелось порвать письмо на тысячу кусочков. Бросить эти кусочки в холодный ручей и смотреть, как вода уносит их прочь. Но я не порвала письмо. Я сложила его, убрала в карман и пошла домой.
13
– Мама?
– Да?
– А что теперь будет с квартирой Финна?
Разговор произошел в тот же вечер, когда я вернулась домой из леса. Я дождалась, пока Грета уйдет к себе в комнату. Папа смотрел вечерние новости по телевизору, а мама на кухне драила мультиварку. Она была в желтых резиновых перчатках и так яростно терла мочалкой ведерко, что ее плечи тряслись. По тому, что мама делает дома по вечерам, можно определять, сколько времени прошло от начала периода подачи налоговых деклараций. Пока что она еще мыла посуду перед тем, как лечь спать. К середине марта ведерко из мультиварки будет отмокать в раковине до утра, а мама – на пару с папой – до поздней ночи сидеть на диване, обложившись папками с документацией и отчаянно борясь со сном.
Услышав мой вопрос, мама прекратила тереть ведерко и на секунду замерла, глядя в темноту за окном. Потом медленно сняла перчатки, бросила их в раковину и повернулась ко мне. Я заметила, что она слегка хмурится. Хотя было видно, что она очень старается изображать невозмутимое спокойствие.
– Давай сядем, поговорим. – Она указала в сторону гостиной. – Ты иди. Я тоже сейчас приду.
Я сунула руку в карман, где лежало письмо. Провела пальцами по сгибу сложенного листа. Посмотрела на маму и подумала, что она даже не представляет, что именно я прячу в кармане. И еще подумала, что скажу ей. Разумеется, скажу. Надо только выбрать подходящий момент.
Каждый раз, как я захожу в гостиную, мне кажется, что девочки на портрете смотрят прямо на меня. Мы повесили портрет в тот же вечер, когда мистер Траски его привез. Сначала мама хотела, чтобы он висел у меня и у Греты. Поочередно. Месяц – в ее комнате, месяц – в моей. Мама сказала, что Финн написал этот портрет для нас. Грета тут же взвилась на дыбы и заявила, что не хочет вешать портрет у себя. Потому что он ее пугает и вообще ей не нравится, как Финн ее изобразил. Она сказала, что Финн нарочно придал ей такой идиотский вид. И еще Грета сказала, что ей не нравится, как он изобразил и меня тоже.
– Почему? – спросила я. – По-моему, нормально изобразил. Мне нравится.
– Еще бы тебе не понравилось! С тобой-то он постарался. На портрете ты выглядишь в сто раз лучше, чем в жизни.
Грета была права. Я очень нравилась себе на портрете. Там у меня были умные глаза (в жизни они не такие, я точно знаю), и еще я казалась гораздо меньше. Грета, мама и Финн – они все худые и стройные. А мы с папой крупные и неуклюжие, этакие нескладные медведи. Но на картине мы с Гретой казались почти одинаковыми по комплекции.
И все-таки если сравнить меня с Гретой, то в жизни Грета гораздо красивее. И на портрете она получилась красивее. О чем я ей и сказала.
– Я не красивее, дурында. Я просто старше. Ты что, даже разницы не видишь?
Услышать такое от Греты было приятно. Просто надо знать Грету. Она говорит много обидного и плохого, но среди ее жестких, язвительных слов иной раз проглядывает что-то очень хорошее. Ее слова как жеоды. Снаружи – грубый и неприглядный известняк, и внутри чаще всего – то же самое. Но иногда там скрываются кристаллы восхитительной красоты.
– Ладно, тогда я сама приму решение, – сказала мама. – Мне кажется, это нечестно, если портрет все время будет висеть у кого-то одного. Поэтому я предлагаю повесить его над камином в гостиной. Есть возражения?
Грета застонала.
– Это еще хуже. Страшно же будет войти в гостиную. И потом, каждый, кто к нам придет, сразу его увидит.
– Боюсь, Грета, тебе придется с этим смириться. Джун, у тебя есть возражения?
– Нет. Все нормально.
– Ну, значит, решено. Сейчас скажу папе, чтобы его повесил.
С тех пор как портрет поселился в гостиной, мама часто его рассматривает. Я не раз заставала ее стоящей перед камином и глядящей на картину. Когда мы ездили к Финну, мама вообще не интересовалась портретом и вела себя так, словно он вызывает у нее чуть ли не отвращение, но теперь, когда мы забрали портрет домой, она буквально на нем зациклилась. Я заметила, что она разглядывает его точно так же, как делал Финн. Стоит слегка наклонив голову. Что-то шепчет себе под нос. То подойдет ближе, то отступит на пару шагов. Обычно это происходило по вечерам, когда все уже расходились по своим комнатам и собирались ложиться спать. И если мама замечала, что я за ней наблюдаю, она смущенно улыбалась и сразу же уходила к себе, делая вид, что ничего необычного не происходит.
Собираясь спросить о квартире Финна, я специально выбрала время, когда Греты не было рядом. Вполне вероятно, она уже знала, что будет с квартирой. Знала все жуткие и отвратительные подробности. Как всю квартиру отдраят хлоркой, пока там не останется даже воспоминания об ароматах лаванды и апельсина. Как подготовят к приезду новых хозяев. Наверняка это будут ужасные люди, которые превратят дядин дом в скучное и унылое жилище с обязательным телевизором, музыкальным центром и кучей проводов, расползшихся по всем комнатам. Финн ненавидел провода. Ненавидел засилье электроприборов в доме.
Мама пришла в гостиную, но разговор завела не сразу. Посмотрела на портрет, потом – на меня. Села рядом со мной на диван, придвинулась ближе, обняла меня за плечи. От нее пахло лимонным средством для мытья посуды.
– Джуни, – сказала она. – Я хочу, чтобы ты кое-что поняла насчет Финна. – Она на миг отвернулась, а потом опять повернулась ко мне. – Я знаю, как сильно ты его любила. И я тоже его любила. Он был моим младшим братом. Я любила его до беспамятства.
– Не любила. Люблю.
– Что?
– Не надо говорить в прошедшем времени. Мы ведь по-прежнему его любим.
Мама подняла голову.
– Да, ты права. Мы по-прежнему его любим. Но ты должна знать, что Финн не всегда принимал правильные решения. Он всегда поступал по-своему. Всегда делал, как ему хочется. И он не всегда…
– Он не всегда думал о том, что хотят от него другие? И не делал того, что они от него хотели?
– Да.
– Он не всегда думал о том, что от него хочешь ты.
– Это не самое важное. Самое важное, что нужно понять: Финн был по-настоящему свободным человеком. И очень хорошим человеком. Но иногда, может быть, слишком доверчивым.
Мама часто говорила такое о Финне. Говорила, что он так и не повзрослел. И по ее интонациям можно было догадаться, что, с ее точки зрения, это нехорошо и достойно всяческого осуждения. Но для меня это было, наверное, самое лучшее, что есть в Финне.
– И как это связано с его квартирой?
– Никак не связано. Просто у Финна был свой, совершенно другой… образ жизни. Ты понимаешь, о чем я?
– Мама, я знаю, что Финн был геем. Все это знают.
– Конечно, знаешь. Конечно. Вот на этом давай и закончим, ладно? Нам больше не нужно переживать за его квартиру. – Мама почесала мне спину и улыбнулась. Потом собралась встать с дивана, но я еще не закончила разговор.
– А если я захочу туда съездить? Я ведь могу туда съездить?
Мама покачала головой, потом отвернулась и долго смотрела на портрет. Когда она снова повернулась ко мне, ее лицо было очень серьезным.
– Послушай, Джун. Там живет один человек. Он был другом Финна… его близким другом. Его дружком. Понимаешь, о чем я? – Мама слегка скривилась, хотя было видно, что она очень старается изображать невозмутимость. – Я не хотела об этом говорить…
Дружок? Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Слово «дружок» напомнило мне детский сад. Как мы ходили на пешеходные экскурсии, и как мы с Донной Фолджер держались за ручку и смотрели по сторонам, переходя через дорогу.
– И что это значит? – спросила я.
– Мне кажется, ты знаешь, что это значит. И, может, закончим этот разговор?
Меня все еще пробивало на смех, но потом я осознала смысл сказанного, и все веселье на этом закончилось. Финн никогда не говорил мне о том, что, когда он умрет, кто-то поселится в его квартире. А ведь это важно. По-настоящему важно. Почему же он ничего мне не сказал?
Я запустила руку в карман и прикоснулась к письму. «Единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как я». Вот что там было написано. Тоби. Я знала, как его зовут, этого дружка. И знала, что он звонил мне из квартиры Финна. Но почему-то решила, что теперь, когда Финна не стало, этот Тоби найдет себе другое место, где жить.
Наверное, надо было сразу спросить у мамы, почему мне никто не рассказывал об этом дружке, об этом Тоби. Да, надо было спросить. Но я не сумела. Мне было стыдно. Мне не хотелось показывать, как сильно все это меня задевает. Столько лет я вполне искренне считала, что Финн был моим лучшим другом. Самым-самым лучшим. Но, возможно, я ошибалась.
Я кивнула, не глядя маме в глаза. Мне вдруг подумалось, что я никогда не смогу рассказать ей о том, что близкий друг Финна – его дружок – приходил к нам домой. О том, что близкий друг Финна знает, что я единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как он. О том, что близкий друг Финна написал мне письмо с просьбой о встрече.
– Ладно, давай закончим, – сказала я.
Мне самой удивительно, как я сдержалась и не расплакалась. И хуже всего было даже не то, что Финн никогда не рассказывал мне о своем близком друге, а то, что теперь я уже не смогу поговорить с ним об этом. Наверное, только в тот вечер я по-настоящему поняла, что такое невосполнимая утрата.
14
– Помнишь про вечеринку?
Грета перехватила меня в коридоре, когда я выходила из ванной. Я вытерла мокрые руки о свитер и непонимающе глянула на сестру.
– А?
Грета театрально вздохнула.
– Ты должна помнить. Я говорила тебе про вечеринку. Которую устраивает Джиллиан Лэмптон. Помнишь?
Не то чтобы я забыла про вечеринку. Просто мысленно отложила ее в долгий ящик. Или, может быть, решила, что это была злая шутка, и Грета пригласила меня лишь затем, чтобы посмотреть, как я среагирую. Как бы там ни было, я кивнула.
– Ага, хорошо. Она все откладывалась и откладывалась, но уже точно будет сегодня.
– Сегодня? Но…
– Я сказала маме, что нам нужна помощь в театре.
– Но я не участвую в спектакле.
Грета закатила глаза и сделала медленный, глубокий вдох.
– Да, я в курсе. Но ты пойдешь на вечеринку.
– А как же… – Я никогда не врала родителям про то, куда хожу. Мне просто некуда было ходить.
– Можешь позвать с собой Бинз. Если хочешь.
Мы с Бинз не дружим уже несколько лет. Ну, то есть мы с ней не ссорились. И продолжаем общаться, но уже не так тесно, как раньше. Бинз пришла к нам в третьем классе. Переехала вместе с родителями из Айдахо. У нее была стрижка, как у Дороти Хэмилл, и ранец, расшитый эмблемами 4H[1 - 4H – американская молодежная организация, созданная для того, чтобы помогать молодым людям осваивать знания и навыки, которые пригодятся им в жизни. Сокращение 4H происходит от английских слов, обозначающих целостное развитие личности: head – голова, hands – руки, heart – сердце и health – здоровье. Голова нужна для ясного мышления, руки – для активной работы, сердце – для глубокого понимания, а здоровье – нужно всегда.]. И у нее не было никого. В смысле, друзей. Но уже очень скоро мы с ней стали лучшими подругами. И несколько лет, до конца младшей школы, Бинз была моей единственной подругой. Просто я так устроена. Мне не нужно много друзей. Мне достаточно одного хорошего друга. У большинства людей все иначе. Большинство людей думают, что друзей должно быть много, и постоянно расширяют свой круг общения. Бинз, как выяснилось, принадлежит к этому большинству. Уже очень скоро у нее появилась куча друзей, и к концу пятого класса стало вполне очевидно, что, хотя я считаю ее лучшей подругой, она меня таковой не считает.
Однако мама с папой и Грета почему-то уверены, что мы с Бинз по-прежнему очень близкие подруги. Да, я могу ей позвонить или подойти к ней в школе, и она очень мило со мной поболтает, но ни мне, ни ей это не надо. Я сто раз говорила маме, что у Бинз теперь целая куча других друзей и что мы с ней давно уже не подруги, но мама никак не может этого уразуметь. Хотя, возможно, это и к лучшему. Потому что иначе мама стала бы капать мне на мозги, чтобы я завела новых друзей. А мне как-то не очень хотелось ей объяснять, кто я в глазах окружающих. Странная девочка с большим приветом. Которая носит с собой в рюкзаке потрепанный томик «Чтений по средневековой истории», ходит всегда только в юбках, обычно – со средневековыми сапогами, и которую нередко ловят на том, что она таращится на людей. Мне не хотелось говорить маме, что люди не выстраиваются в очередь, чтобы со мной подружиться.
Плюс к тому, когда у тебя есть такой друг, как Финн, то очень сложно – практически невозможно – найти в школе кого-то, кто мог бы хоть как-то сравниться с ним. Иногда я начинаю всерьез опасаться, что никогда не найду человека, хотя бы немного похожего на Финна. Никогда в жизни.
Грета открыла сумку.
– Мама ужасно обрадовалась, что мы делаем что-то вместе. Знаешь, что она сделала?
Я покачала головой.
– Дала мне десятку. – Грета улыбнулась, достала из сумки десятидолларовую банкноту и помахала ею у меня перед носом. – Сказала сводить тебя в кафе, когда мы закончим. И угостить мороженым. В общем, все очень классно устроилось. Ты же пойдешь? Не передумала?
– Да, пойду.
– Хорошо. Возьми сапоги. И оденься потеплее. Вечеринка будет в лесу.
– Грета?
– Да?
– Тот человек, на похоронах… Ты знаешь, кто это?
– Ага.
– Он был другом Финна, да? Его бойфрендом? – Я очень старалась, чтобы вопрос прозвучал без надрыва. Как будто мне все равно.
После того странного случая с чайником мне постоянно мерещилось, что я вижу Тоби. Я не помнила его лица. Помнила только общие очертания фигуры, и от этого было еще хуже. У меня развилась настоящая фобия на высоких и худощавых мужчин. Они были буквально повсюду. И любой из них мог быть Тоби. Особенно – издалека.
В последние несколько дней я выбирала удобный момент, чтобы застать Грету врасплох. Я рассудила, что если задать ей вопрос, когда она этого не ожидает, она может проговориться и сказать что-то такое, чего не хотела говорить. За годы общения с Гретой я поняла, что лучший способ ее разговорить – это прикинуться дурочкой. Если Грета подумает, что я чего-то не знаю, она тут же выложит все, что знает сама.
– Мои поздравления, Шерлок. И ста лет не прошло, как ты догадался.
– Я не об этом хотела спросить.
– А о чем ты хотела спросить?
– Он теперь живет в квартире Финна?
– Да, живет. Нет справедливости на этом свете. Убил человека – и поселился в его квартире. Кстати, в очень хорошей квартире в Верхнем Вест-Сайде.
– То есть ты думаешь, это он заразил Финна СПИДом?
– Не думаю, а знаю. Причем сделал это специально. Когда они познакомились с Финном, у того парня уже был СПИД. И он знал об этом.
– Откуда ты знаешь?
– Да просто знаю. Я слышу, что говорят.
– Значит, он и вправду как будто убийца?
– Убийца и есть. – Ее тон изменился. Похоже, ей было приятно, что я интересуюсь чем-то таким, в чем она может показать свою осведомленность. Я даже подумала, что, может быть, расскажу ей о заварочном чайнике, и о письме, и о предполагаемой встрече на станции 6 марта. Может быть, Грета меня послушает, и на нее произведет впечатление, что в кои-то веки у меня тоже есть что рассказать. И все-таки я промолчала. В письме Тоби просил никому ничего не рассказывать. И, возможно, был прав. Может быть, иногда даже убийцы бывают правы.
– Хорошо.
– Что – хорошо?
– Теперь я хоть разобралась, что к чему.
– Слушай, Джун. Пора бы уже повзрослеть. Все закончилось. Неужели тебе не понятно?
– Закончилось, да. Мне понятно.
Я все-таки позвонила Бинз. Подумала: а почему бы и нет? Как говорится, попытка – не пытка. Но Бинз сказала, что сегодня она занята. Значит, я буду одна. Совершенно одна среди шумной компании друзей Греты.
Перед самым обедом Грета догнала меня на лестнице, ткнула пальцем в плечо и сунула записку в задний карман моих джинсов. «Вечеринки не будет». Как оказалось, у многих не получается выбраться. Но Грета уже наврала родителям, так что мне все равно придется идти с ней на репетицию. Придется сидеть в актовом зале и смотреть, как сестра вновь и вновь перевоплощается в Кровавую Мэри.
Я, конечно, была только рада, что вечеринка отменилась. И дело даже не в том, что я замкнутая, стеснительная и вообще социально отсталая. Просто мне это неинтересно. Неинтересно пить пиво и водку, курить сигареты и заниматься другими вещами, которые, по мнению Греты, я не могу себе даже представить. Представить-то я могу. Просто мне как-то не хочется это представлять. Я мечтаю совсем о другом. О складках времени, о лесах, где рыщут волки, о вересковых пустошах под бледным светом луны. Я мечтаю о людях, которым не нужно заниматься сексом, чтобы понять, что они любят друг друга. О людях, которым достаточно легкого поцелуя в щеку.
Я сидела в актовом зале в последнем ряду и слушала, как красавчик-блондин Райан Кук, такой весь из себя обаятельный и привлекательный, поет о волшебных вечерах. Мистер Небович, режиссер школьного театра, постоянно прерывал Райана, заставлял заново петь тот или иной отрывок и пытался добиться, чтобы Райан выражал свои чувства не только голосом, но и лицом.
– Сделай так, чтобы мы читали твое лицо, как стихи. Даже если ты не произносишь ни слова, зрители в зале должны понимать, что именно ты сейчас чувствуешь. – Мистер Небович был совсем молодым, с шапкой черных кудрявых волос, вечно растрепанных в художественном беспорядке. Он пытался добиться от Райана, чтобы тот правильно передал настроение в самом конце песни. В том куске, где говорится, что если ты встретил настоящую любовь, держи ее крепко и не отпускай.
Райан пробовал снова и снова. Я не заметила особой разницы, но мистер Небович, похоже, остался доволен.
– Уже лучше. Гораздо лучше.
Наконец он отпустил Райана и позвал на сцену Грету.
– Давай «Веселую болтовню».
Грета кивнула и вышла на сцену без всякого грима или костюма. Просто в футболке и джинсах. Даже очки не сняла. Провела рукой по волосам, убирая их назад, и на секунду закрыла глаза. Мистер Небович, сидевший за пианино, взял первый аккорд.
– Поем целиком, – сказал он, кивнув Грете.
Она спела всю песню с начала до конца, и я не заметила ни единой ошибки. Когда Грета закончила, мистер Небович громко зааплодировал, повернулся к другим актерам, сидевшим в зале в первых рядах, и сказал:
– Вот к чему надо стремиться.
Потом опять повернулся к Грете, стоявшей на сцене, и поблагодарил за старания и отличную работу. Случись такое со мной, я бы смутилась до полуобморочного состояния, но Грета лишь изобразила преувеличенно театральный, шутовской поклон, едва не коснувшись макушкой пола. Ребята в зале весело рассмеялись. Я тоже смеялась, потому что мне было приятно видеть, как сестра балуется и дурачится. Я почти и забыла, как это бывает. Я уже не жалела, что пошла на репетицию.
Грета ушла со сцены, а я снова задумалась о Тоби. В принципе «близкий друг» может означать все, что угодно. И вовсе не обязательно что-то серьезное. Может быть, Финн никогда не рассказывал мне о Тоби, потому что тот ничего для него не значил. Никто и звать никак. Это мама назвала его дружком Финна. Сам Финн никогда бы не употребил это слово. Разве что в шутку. А всерьез – никогда. Может быть, Финн оставил квартиру Тоби, потому что тому негде жить. Может, Финн просто его пожалел.
Репетиция закончилась примерно в половине девятого. Я осталась сидеть на месте, наблюдая за тем, как Грета общается со своими друзьями: с Брайаном и другими актерами, занятыми в спектакле. Они сидели на краю сцены, болтали ногами, смеялись. Это были ребята, с которыми Грета теперь проводила время. Остроумные, бойкие, раскрепощенные. Самые популярные люди в школе. Ребята, с которыми все стремятся дружить. Для которых нет ничего невозможного. Райан Кук, Меган Донеган, Джули Контолли. Грета казалась такой счастливой. Радостной и беззаботной. Как будто и вправду перенеслась на какой-нибудь остров в Тихом океане. И еще было очень заметно, что она значительно младше всех остальных. Странно, что никто, кроме меня, этого не замечал. У Райана уже пробивались усы. Ноги у Меган и Джули были по-настоящему женскими. Красивые, стройные ноги, а не тоненькие подростковые «палочки», как у Греты. Сейчас, когда Грета сидела, свесив ноги со сцены, она напоминала маленькую девочку на качелях.
Мистер Небович пожелал всем доброй ночи и попросил Грету уделить ему пару минут. Один за другим ребята спустились со сцены, разобрали свои куртки и сумки и направились к выходу. Грета с мистером Небовичем ушли за кулисы. Я осталась на месте, рассудив, что мне нужно дождаться Грету, и лучше я подожду ее здесь.
– Эй там, в заднем ряду. Я уже выключаю свет. – Это был ассистент режиссера, Бен Деллахант. Как и я, ученик средней школы.
Я кивнула ему и сказала:
– Я жду сестру. Скоро уйду, через пару минут.
Бен был из тех мальчишек, которые наверняка станут богатыми, когда вырастут. Не потому, что он весь из себя замечательный или какой-то особенный – нет. Просто он относился к числу тех серьезных ребят, которые точно знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. У него были длинные волосы, которые он всегда собирал в хвост. По школе ходили слухи, что Бен Деллахант изобрел новый язык программирования, но достоверно никто не знал, правда это или нет. Он был не лучшим учеником в классе, но он был умный. Даже очень умный. Бен приставил руку козырьком ко лбу и прищурился, вглядываясь в сумрак на задних рядах, словно смотрел на морской горизонт. Потом прошел по центральному проходу и встал рядом со мной. Оглядел меня с головы до ног, и на ногах его взгляд задержался.
– Ага, та самая девочка в сапогах. – Бен улыбнулся и кивнул, как будто ему загадали загадку, а он сразу ее разгадал. Он уже собрался было сесть рядом со мной, но тут из-за левой кулисы на сцену вышла Грета. Подошла к самому краю и остановилась, глядя в зрительный зал.
– Так ты идешь или нет? – крикнула она мне и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу.
– Да, иду. – Быстро попрощавшись с Беном, я бросилась следом за Гретой. Всю дорогу до дома мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы не отставать от сестры. А когда мы пришли домой, Грета, не сказав мне ни слова, бегом поднялась по лестнице и скрылась у себя в комнате, хлопнув дверью.
15
С тех пор как Финна не стало, почти все выходные я проводила в лесу. Мама с папой работали – теперь уже и по субботам и воскресеньям, – Грета пропадала на репетициях, а я с утра уходила в лес. Иногда я снимала куртку, чтобы всем телом почувствовать боль от холода. Иногда было приятно представлять себя нищенкой, у которой нет теплой одежды, чтобы согреться в зимнюю стужу.
Без Финна мне было ужасно тоскливо и одиноко. Конечно, мы с ним встречались и что-то делали вместе не каждые выходные, но главное, что такая возможность была. Рано утром в любую минуту мог раздаться телефонный звонок – обычно по воскресеньям, – и это был Финн, который звонил, чтобы спросить, не хочет ли кто-нибудь прогуляться с ним туда-то или туда-то. Он всегда спрашивал про всех, но я знала, что на самом деле он имел в виду только меня.
– Ты влюблена в дядю Финна, – однажды сказала мне Грета после такого звонка.
Она наблюдала за мной, пока я говорила по телефону. И видела, как я обрадовалась, когда Финн сказал, что сегодня отличная погода и можно сходить в «Клойстерс». Когда я повесила трубку, Грета прищурилась, улыбнулась и сказала мне эти слова. Что я влюблена в Финна. Мне хотелось ее ударить. Я сжала кулаки, засунула руки поглубже в карманы и вышла из кухни. Но Грета пошла следом за мной.
– Это все знают.
Я замерла и закрыла глаза, по-прежнему стоя к Грете спиной.
– Знаешь, что говорит миссис Альфонс? – спросила она.
Миссис Альфонс была маминой приятельницей из клуба садоводов. Вообще-то мама не любила садовничать и никогда этим не занималась, но все равно состояла в клубе и исправно ходила на их ежемесячные собрания, где пила кофе и болтала с другими мамашами, которые, скорей всего, тоже не слишком-то и увлекались собственно садоводством.
Я стояла спиной к Грете, все крепче и крепче стискивая кулаки.
– Я слышала, как она спрашивала у мамы про тебя и про Финна. «Как-то странно для юной девочки проводить столько времени наедине с дядей, тебе не кажется? По-моему, это не совсем нормально. Только пойми меня правильно. Я не утверждаю, что между ними есть что-то такое. Я вовсе не это имею в виду». Вот что она сказала. Но по ее голосу было понятно, что она именно это имеет в виду. И еще понятно, что она говорила об этом не только с мамой. А бедная мама не знала, что ей ответить…
Я так внимательно слушала Грету, что даже разжала кулаки. Но теперь они сжались еще сильнее, когда я подумала про миссис Альфонс с ее дурацкой химической завивкой в мелкие кучеряшки. С чего бы миссис Альфонс так волнуют мои отношения с Финном? Ей что – больше нечем заняться?
– Я тебе говорю, чтобы ты знала, в какое положение ты ставишь маму. И что все уже в курсе.
– Кто «все»? – вырвалось у меня, хотя я и не собиралась ничего говорить.
– Ну, если ты думаешь, что миссис Альфонс ничего не сказала Кимми, то ты глубоко ошибаешься. А если ты думаешь, что Кимми не разболтает об этом в школе, то ты, опять же… ну, в общем, понятно.
Кимми Альфонс училась со мной в одном классе. Самая обыкновенная девочка, ничего выдающегося. Я вообще о ней не вспоминала, пока Грета не упомянула ее в разговоре.
– Ладно, беги встречайся со своим разлюбезным дядюшкой Финном. Желаю приятно провести время!
Я не могла допустить, чтобы за Гретой осталось последнее слово. Не могла допустить, чтобы она испортила мне все воскресенье и лишила меня моей радости.
– Да что у нас может с ним быть? Все знают, что дядя Финн гей.
Я обернулась, чтобы посмотреть на реакцию Греты. Ведь я наверняка ее уела, и мне хотелось увидеть, как поблекнет ее улыбка. Только улыбка не поблекла. Наоборот, сделалась еще шире.
Выждав пару секунд, Грета произнесла:
– Я и не говорила, что Финн тебя любит. Я сказала, что ты влюблена в него.
Ну что можно на такое ответить? Ничего. Как всегда.
В тот день мы с Финном ходили в музей «Клойстерс». Я приехала в город на электричке. Финн встретил меня на Центральном вокзале, и мы пошли. «Клойстерс» всегда был нашим любимым местом. Всегда. Обычно мы приходили туда рано утром или совсем под закрытие, когда там мало народу. В такое время в «Клойстерсе» гораздо лучше, чем в любой картинной галерее или в том кинотеатре в Гринвич-Виллидж, где крутят старые фильмы. И даже лучше, чем в кафетерии «Хорн и Хардарт», где стоят автоматы, куда можно бросить монетку, и тебе выдадут порцию горячей еды, как в сериале «Джетсоны».
«Клойстерс» был лучше всех, потому что, войдя в музей, ты переносишься в другое время. «Клойстерс» – маленький островок Средневековья посреди Манхэттена. И это не просто фигура речи. Здание музея собрано из фрагментов нескольких средневековых монастырей, вывезенных из Франции в Нью-Йорк буквально по одному кирпичику. Даже вид из окон музея как нельзя лучше подходит ко всей атмосфере, потому что Рокфеллер скупил всю землю на том берегу реки, чтобы ее не смогли застроить. Может быть, даже Рокфеллеру нужно было иногда сбежать куда-нибудь из своего времени.
Я очень старалась не думать о том, что сказала мне Грета, но такое не забывается. Так что сестре все-таки удалось испортить мне день. Я старалась не подходить слишком близко к Финну, старалась не улыбаться все время. Только это не помогло. Может быть, Грета права. Может быть, я и вправду какая-нибудь ненормальная извращенка.
В тот день мы с Финном почти не разговаривали. Просто бродили молча по каменным коридорам. Я размышляла о том, как, наверное, здорово быть монахом. Из тех, кому по уставу запрещено разговаривать. Я представляла, как мы с Финном сидим в большом каменном зале вместе с другими монахами. И все молчат, все заняты делом: сосредоточенно иллюминируют миниатюры и буквицы в манускриптах тончайшими чешуйками золотой фольги. Время от времени мы с Финном отрываемся от работы и смотрим друг на друга через весь зал, не произнося ни слова. Но все равно слышим друг друга. Я часто представляла себе такие картины про нас с Финном. Такая у нас с ним была любовь. Так я себя убеждала. В этом нет ничего ненормального и непристойного. Ведь все происходит совсем в другом времени, где я – не совсем настоящая я. Или даже совсем не я.
Но я никогда не смогу стать монахом. Это попросту невозможно. Как невозможно перенесись в прошлое или вернуть Финна. Чтобы стать монахом, надо быть мужчиной. И верить в бога. У меня никогда не получится ни того, ни другого. Добрый и милосердный бог не стал бы создавать болезнь, которая убивает таких прекрасных людей, как Финн. А если он все-таки создал такую болезнь, то мне как-то не хочется поклоняться такому богу.
В тот день в «Клойстерсе» мы с Финном сидели на каменной скамье в самом дальнем углу полутемного каменного зала, и Финн спросил, как я себе представляю, что происходит с людьми после смерти. Я тряхнула головой и сделала вид, что не расслышала. Иногда я так делала с Финном. Притворялась, что плохо слышу, – чтобы он подошел ближе. И он подходил и наклонялся ко мне близко-близко. Вот и в тот день в «Клойстерсе» Финн придвинулся ко мне по скамейке, обнял меня за плечи и повторил вопрос.
– Что происходит со всеми нами? – спросил он, глядя мне прямо в глаза.
Я пожала плечами и сказала, что ничего. Ничего с нами не происходит. Все просто кончается и погружается в черноту.
Финн серьезно кивнул.
– Да, я тоже так думаю.
Если бы я тогда знала, что он спрашивает о себе, я бы что-нибудь выдумала. Сочинила бы что-то хорошее о самой прекрасной вечности для Финна.
В ту субботу я взяла с собой в лес письмо Тоби. Ветки деревьев гнулись под тяжестью снега, который мог обвалиться в любую секунду, и от этого лес казался не то чтобы опасным, но каким-то тревожным и зыбким. Я шла вдоль ручья, покрытого тоненькой корочкой льда, и прислушивалась, не раздастся ли вдалеке волчий вой. Я сложила ладонь лодочкой, поднесла ее к уху и закрыла глаза. Слушала, слушала, но ничего не услышала. Вообще ничего.
Я перечитала письмо несколько раз подряд. Уже стало ясно, что сегодня мне не сбежать из настоящего. Даже в сапогах, которые купил мне Финн. Даже с мыслями о соколах в голове. Как будто в самом существовании Тоби на этой земле заключалась колдовская сила, державшая мои мысли в «здесь» и «сейчас».
Я была твердо уверена, что не стану с ним встречаться. Но теперь призадумалась. Может, нам все-таки стоит встретиться? Может быть, он из тех, кто понимает? Может, я тоже могу быть загадкой? Может быть, я приду на эту встречу и смогу быть такой, как мне нравится?
16
Секция D, стр. 26!
Это было написано на конверте, который соседка, миссис Джански, опустила в наш почтовый ящик утром в воскресенье. В конверте лежала газета. Вчерашний номер «Нью-Йорк таймс». Мои родители «Таймс» не читают. Они читают «Нью-Йорк пост», причем только по воскресеньям. Так что если бы не любопытная миссис Джански, которой давно пора оторвать нос на базаре, то у нас дома никто бы и не заметил этой статьи про портрет. И он бы остался висеть, где ему полагалось. Над камином в гостиной.
Конверт нашла Грета. И Грета же прочитала нам эту статью. Она позвала всех в гостиную. Я была у себя, одевалась к выходу. Неожиданно мне позвонила Бинз. Сказала, что они с подружками собираются прошвырнуться по торговому центру, и спросила, не хочу ли я пойти с ними. Я сразу подумала, что без мамы тут не обошлось. Наверняка она поговорила обо мне с мамой Бинз. Разумеется, я не хотела никуда идти. Но мама стала меня убеждать, что мне будет полезно развеяться, а если я буду все время отказываться, когда меня куда-нибудь приглашают, то меня перестанут приглашать и я останусь вообще без друзей. Поэтому я перезвонила Бинз и сказала, что пойду. Просто я знаю маму. Если бы я не пошла, она бы потом вспоминала об этом еще очень долго. И было еще кое-что, что подвигло меня на выход. По воскресеньям у нас в кинотеатре проходит ретроспективный показ фильмов, получивших «Оскара» за последние несколько лет. На этой неделе шел «Амадей», который мы дважды смотрели с Финном. Собственно, поэтому я и сказала «да».
После той репетиции в день отменившейся вечеринки Грета еще больше замкнулась в себе. Мне очень хотелось узнать, что ей сказал мистер Небович, когда они уединились у него в кабинете, но я знала, что спрашивать бесполезно. Если ей захочется рассказать, она сама заведет об этом речь, когда сочтет нужным. То есть, скорее всего, никогда. И вряд ли ее собеседницей буду я.
В то воскресное утро Грета усадила нас всех на диван, а сама встала перед портретом, повернувшись лицом к нам. Кстати, Грета оказалась права. Теперь, когда портрет висел в гостиной, действительно стало немного страшновато туда заходить. Мы перестали сидеть вечерами перед камином. Никому не хотелось находиться поблизости от портрета. Теперь мы сидели на кухне или расходились по своим комнатам. Папа обычно скрывался в маленьком кабинете, оборудованном в смежном с кухней чуланчике. А маме вообще никогда не сиделось на месте. И до портрета, и после.
Но в то утро Грета позвала нас всех в гостиную, и нам пришлось сесть прямо напротив портрета. Грета стояла, слегка наклонившись влево и уперев левую руку в бок. А в правой держала газету.
– Ладно, Грета, что там у тебя? Давай, только быстро. У меня полный завал с работой, – сказал папа.
– У меня новость. – Голос у Греты был раздраженным и злым. – Так, ерунда. Ничего особенного. Просто мы теперь… знамениты.
– Давай, Грета, начинай уже, не тяни. – Мама сидела, нетерпеливо притопывая по полу ногой.
– Хорошо. – Грета перевернула газету, так чтобы нам было видно. И мы увидели. Нас. Наш портрет. Портрет, написанный Финном. Цветной снимок на полстраницы. А потом Грета прочла нам вслух:
«Если ты не выставлял ни единой картины уже десять лет, а твое имя – Финн Уэйсс, публика просто обязана проявить жгучее любопытство, когда появляется возможность увидеть твою последнюю работу. Финн Уэйсс, недавно ушедший из жизни (по непроверенным данным, умер от СПИДа)… – На слове «СПИД» Грета запнулась, но тут же продолжила чтение: – Очевидно, увлекся портретной живописью, если судить по его последней работе. На картине, которую художник назвал «Скажи волкам, что я дома», изображены две девочки подросткового возраста, одна блондинка, другая брюнетка. Их лица настолько живые, а взгляды так проницательны и глубоки, что возникает пугающее ощущение, будто они проникают тебе прямо в душу. Словно девочкам на портрете известны все твои темные тайны.
Харриет Барр, главный редактор журнала «Искусство», сказала, что творчество Финна Уэйсса было поистине многогранным. «Уэйсс обладал поразительным даром работать с любым материалом. В этом смысле он был настоящим художником Возрождения: мастерски создавал яркие, незаурядные произведения не только акрилом и маслом, но также в камне и дереве. И даже посредством концептуальных художественных инсталляций».
Однако десять лет назад Уэйсс внезапно ушел в подполье и скрылся от мира, так что лишь ближайшие родственники и друзья знали, где он живет. Критики и собратья-художники до сих пор недоумевают, почему это произошло. Одни одобрили его добровольное отшельничество, посчитав это смелым и дерзким шагом. Другие, более циничные, заявили, что Уйэсс просто пытается показаться загадочным, и его нелюдимость – это хитрый способ взвинтить цены на собственные картины. Последнее предположение подтверждает тот факт, что последние работы художника из его личной коллекции продаются по очень высоким ценам, когда изредка появляются на аукционах».
– Ладно, Грета. Достаточно. – Мама потянулась за газетой, но Грета быстро убрала ее за спину.
– Пусть дочитает, – сказала я. – Интересно послушать.
– Да, Даниэль. Пусть читает, – поддержал меня папа, кладя руку маме на колено. – Все же нормально.
– Нет, не нормально. – Мама отодвинула ногу. Потом резко встала и вышла из комнаты. Когда она ушла, папа кивнул Грете, мол, читай дальше. Грета прочистила горло, легонько похлопала себя по груди и продолжила:
«Несмотря на разногласия о причинах странного шага Уэйсса, все единодушны в одном: этот портрет позволяет представить, как художник работал все эти «пропавшие» годы. Барр считает, что это, возможно, лучшее произведение Уэйсса.
В подобных работах ощущается тесная связь художника с предметом изображения – интеллектуальная связь и, что гораздо важнее, эмоциональная. Когда смотришь на эту картину, возникает стойкое ощущение, что можно обжечься, прикоснувшись к холсту. Что эти девочки на портрете – живые. И если ты подойдешь слишком близко, они могут и огрызнуться».
В кухне хлопнула дверь. Как я поняла, мама вышла из дома. Грета подняла глаза и потеряла место, где остановилась. Но быстро нашла, проведя пальцем по строчкам.
«На данный момент нам неизвестно, где находится этот портрет. Слайд прислали в редакцию анонимно, без всякого сопроводительного письма. Была только записка с указанием имени художника и названия картины…»
Грета уронила руку, хлопнул газетой себе по ноге.
– Мне это не нравится, – сказала она.
– Что не нравится? – спросила я.
– Все не нравится. Мы с тобой, я… в статье о человеке, который умер от СПИДа.
– О человеке?! Это же наш дядя Финн, Грета!
– Да все равно, кто он! Я не хочу, чтобы моя фотография маячила над словом СПИД. Тебе самой это нравится? – Она швырнула газету на журнальный столик. – Я вообще не хотела, чтобы он писал мой портрет. Но вы все так на меня наседали: «Твой дядя Финн то, твой дядя Финн се». Черт. Не будь он уже мертв, я сама бы его убила. Значит, он знаменитость? Известный художник и все дела? И он даже не соизволил нам об этом сказать.
– Да что ты так разволновалась? Это всего лишь статья в газете. – Папа взял в руки газету и сложил ее несколько раз. – Причем даже не передовица. Просто статья на последних страницах раздела «Искусство». Кто вообще читает этот раздел? А если и прочтет, тут же забудет.
– Это крупнейшая газета в стране!
– Там же не говорится, что СПИД у тебя, – сказала я.
– Ладно. Хорошенького понемножку. – Папа бросил газету в камин и достал зажигалку. – От этой бумажки всем одно расстройство, а значит… – Он наклонился, щелкнул зажигалкой и поджег уголок газеты, – ее больше нет с нами.
Настоящий портрет висел прямо над крошечным костерком. Нарисованные мы с Гретой наблюдали за тем, как настоящая Грета и настоящая я наблюдают за тем, как сгорает еще одна наша копия – на газетной бумаге.
Я ничего не могла сделать. А мне так хотелось прочитать статью до конца! Ведь там говорилось о Финне. Мне хотелось прочесть о нем больше. О том, каким он был хорошим художником. О том, почему забросил живопись. Я знала, что Финн – человек известный. Вернее, догадывалась. По тому, как люди смотрели на нас, когда мы ходили в художественные галереи. По тому, как люди улыбались Финну и подходили, чтобы пожать ему руку. Я все это видела, все понимала. Но для меня это было неважно. Со мной Финн не строил из себя знаменитость, и я никогда не задумывалась о том, насколько он знаменит.
Бинз с ее мамой заехали за мной на машине сразу после обеда. Я сказала Бинз, что ничего не имею против, если меня посадят спереди, с ее мамой. Мне не хотелось садиться на заднее сиденье, втиснувшись между девчонками, которых я едва знала. Когда мы приехали в торговый центр, я сказал Бинз, что встречусь с ней позже, в кафе. Соврала, что мне нужно забрать папин заказ из «Сирса». На самом деле я сразу спустилась на минус первый этаж, где был кинотеатр. И где в тот день шел «Амадей». Я люблю кинотеатры. За то же, за что люблю лес. Кинотеатр – это еще одно место, которое подобно машине времени.
Бинз лишь пожала плечами.
– Делай что хочешь, – сказала она. – Я же знаю, что ты бы вообще никуда не поехала, если бы мама тебя не заставила.
– Нет… я…
– Да все нормально. Я все понимаю. Встретимся в кафе в три часа.
«Амадей» – один из моих самых любимых фильмов. Финн его тоже любил, хотя и ворчал, что они все переврали в истории с «Реквиемом». Все давно знают, что Сальери не заказывал «Реквием» и не травил Моцарта. И все-таки, если бы Финн был жив, мы, может быть, и пошли бы с ним на «Амадея» еще раз. Просто ради музыки. И ради того, чтобы погрузиться в атмосферу другой эпохи. И еще потому, что мы оба любили фильмы с трагической концовкой.
Мама вернулась домой сразу после меня. Как раз вовремя, чтобы успеть приготовить ужин. Макароны, тефтели и чесночный хлеб. За ужином мы в основном говорили о том, кто мог передать слайд портрета в редакцию газеты. При каждом упоминании имени Тоби я настораживалась и слушала очень внимательно, жадно впитывая информацию. В конце концов все согласились, что это наверняка был Тоби. Все – это я, Грета и папа. Мама не произнесла ни слова. Она всем своим видом давала понять, что не желает говорить о статье – и о Тоби, – но, похоже, смирилась с мыслью, что у нее не получится запретить нам вести разговоры на эти темы.
– Это мог быть мистер Траски, – сказала я. – Мы же оставляли ему портрет.
– Нет, это точно не он, – ответила Грета. – С чего бы вдруг мистеру Траски ударило в голову явить миру какой-то портрет?
– Может, он просто любит искусство. Может быть, он хотел, чтобы все увидели картину Финна.
– Ну, да. Как же я не догадалась?!
Я пожала плечами, хотя понимала, что Грета, скорее всего, права. Это мог быть только Тоби. Из-за названия. Мы и не знали, что Финн назвал эту картину «Скажи волкам, что я дома». Мы даже не подозревали, что у нее вообще есть название. Если кто-то и мог знать об этом, то только Тоби.
– И вообще, что это значит? «Скажи волкам, что я дома»? – спросила Грета.
Никто не знал, что ответить. Это была еще одна тайна, которую оставил нам Финн. Еще одна вещь, о которой я уже никогда у него не спрошу.
17
На следующий день я решила после уроков зайти в библиотеку. Как оказалось, это была не самая удачная мысль. Я собиралась найти статью и тихо снять с нее копию. А потом пойти в лес и прочесть ее там. Может быть, даже два раза. А может, сто раз или больше. Но я же не знала, что в читальном зале ксерокс окажется сломан и мне придется просить кого-то из библиотекарей, чтобы сделали копию на служебном аппарате. Если бы мне хватило ума подняться на третий этаж и обратиться к библиотекарше, которая меня не знает, может быть, все бы и обошлось. Однако я сдуру спустилась на первый – в отдел детской литературы. Я до сих пор люблю детский отдел с его яркими книжками и настоящими волшебными сказками. Но в этот раз я сглупила, потому что детская библиотекарша, миссис Лестер, знает меня с пяти лет. И как только она увидала статью, ее лицо озарилось улыбкой.
– Ой, Джуни. Это же ваш с Гретой портрет. Какой хороший!
Я молча кивнула.
– Вы здесь обе такие серьезные. Такие… взрослые.
Я снова кивнула.
– И очень красивые. Красивые… э… как на картине. – Миссис Лестер хихикнула. – У нас теперь новый большой ксерокс. Можно отснять всю статью на один лист.
– Было бы здорово, да.
Наверное, вид у меня был встревоженный и напряженный, потому что миссис Лестер тут же умчалась к себе в кабинет. И вернулась с двумя листами, двумя копиями статьи.
– Ой, я только одну просила.
– Я знаю, да. Но нам тоже нужно. Повесим на стенде.
– На стенде?
– На нашей доске объявлений. Вы с Гретой теперь знаменитости. Произведение искусства. Людям будет приятно узнать, что и у нас есть свои знаменитости. Если ты понимаешь, о чем я…
– Нет. Лучше не надо. Мы… нам с ней… мы с ней обе не любим привлекать внимание.
– И все-таки я настаиваю, Джун. Не надо стесняться. «Откройтесь, не прячьте свой свет»… ну, и так далее.
Я знала, что есть единственный способ убедить миссис Лестер не вешать статью на стенд: сказать, что портрет написал моя дядя Финн, недавно умерший от СПИДа, и что это немного больная тема для всей нашей семьи. Думаю, миссис Лестер хватило бы одного слова «СПИД», но я не смогла ничего сказать. Не смогла притвориться, что мне неловко и стыдно за дядю Финна.
Я взяла свою копию, сложила лист так, чтобы снимок портрета оказался внутри, и поднялась обратно в читальный зал. Мне хотелось проверить, можно ли будет потихонечку снять статью с доски объявлений, когда ее там повесят, но, как выяснилось, нельзя. Все объявления висели за стеклянными дверцами, запиравшимися на замок.
Потом я отправилась в лес. Сложила лист со статьей несколько раз, так чтобы он поместился в кармане куртки. Я шла, шла и шла – до тех пор, пока не услышала вой волков. Остановилась, достала лист из кармана. Я думала, что в статье будет еще много всего о Финне. Но там оставался лишь один абзац:
«На автопортрете под названием «Этот старик» – последней картине из проданных Уэйссом и, вероятно, самой известной его работе, – художник изобразил себя в мешковатом пиджаке, надетом на голое тело. Он стоит над прудом с крокодилами и держит в вытянутой руке огромное человеческое сердце. На его голой груди видны плохо зажившие шрамы от резаных ран, которые складываются в слово ПУСТО. Зрителя прежде всего поражает, насколько все это искренне. Никакого позерства, никакой горькой иронии. Когда смотришь на эту картину, действительно веришь, что ты застал человека, изображенного на полотне, за миг до того, как он разожмет пальцы и уронит влажный пульсирующий комок, и возникает пронзительное ощущение, что художник отдал тебе все, что мог. В 1979 году «Этот старик» был продан на аукционе за 200 000 долларов. По утверждению сотрудников «Сотбис», цена на последнюю работу художника, «Скажи волкам, что я дома», может подняться до 700 000 долларов и выше».
Наверное, я должна была ахнуть от изумления, узнав, сколько стоит наш с Гретой портрет. Но меня это ни капельки не взволновало. Какая разница, сколько он стоит, если мы все равно никогда его не продадим? Нет, меня поразило другое. На портрете у меня не было пуговиц. На снимке в газете я была в простой черной футболке. Без всяких пуговиц.
Когда я вернулась домой, портрета там уже не было. Родители снова упаковали его в черный пластиковый пакет и отвезли в местное отделение «Бэнк оф Нью-Йорк», где его поместили в хранилище глубоко в подвале. Мне представились наши с Гретой лица, глядящие в темноту. И я подумала: хорошо, что я там не одна. Пусть даже с Гретой – все равно это лучше, чем быть в одной в такой непроницаемой темноте.
18
Родители специализируются на отчетности для предприятий общественного питания. Поэтому семейство Элбас пользуется определенными привилегиями в ресторанах по всему Вестчестеру. Нас кормят бесплатно. И для нас всегда находится свободный столик, даже когда все столы заказаны на несколько дней вперед или когда перед входом толпится очередь. Наверное, в этой связи я должна была чувствовать себя какой-то особенной. Однако на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Ведь вполне очевидно, что мы самые обыкновенные люди, а со стороны это смотрится так, будто мы – хамы, которые лезут без очереди. Даже Грета считает, что это не очень прилично. И папа тоже. У нас в семье только мама любит иной раз потешить тщеславие.
Из-за похорон дяди Финна, запарки с налоговыми декларациями и репетиций Греты мы даже не справили папин день рождения. Пока мы собирались его отметить, прошел почти месяц. Наконец мама решительно заявила, что ее не волнует, что сегодня вторник и что на работе завал. Завал, он как есть, так и будет. А мы и так слишком долго откладывали папин праздник. В общем, бросаем все и идем веселиться.
Папа выбрал японский ресторан «Гасе». Это был очень хороший выбор, потому что родители не занимаются отчетностью «Гасе» и еще потому, что это и вправду крутой ресторан – если под настроение. Хозяин «Гасе» купил в Японии древнюю сельскую усадьбу шестнадцатого века, разобрал ее, переправил в Америку, восстановил в первозданном виде и открыл ресторан. Еду здесь готовят прямо при посетителях – на жаровнях, расположенных в центре столов, – а на заднем дворе разбит маленький японский садик с ручейком, горбатыми мостиками и скамейками в тихих, почти потайных уголках.
Да, это очень хорошее место. Если ты в настроении. Но в тот вечер ни у кого из нас настроения не было.
Потому что дни рождения мы всегда отмечали с Финном. Всегда. Иногда мы приезжали к нему в Нью-Йорк, и он сам заказывал столик в каком-нибудь ресторане. Иногда Финн приезжал к нам в Вестчестер. Это был первый день рождения, который мы справляли без Финна. Мама предложила позвать Инграмов, но никто ее не поддержал. Даже Грета.
– Отлично выглядите, девчонки, – заметил папа, когда мы садились в микроавтобус. Мы с Гретой переглянулись и закатили глаза.
Я, как всегда, села сзади. Грета – на ряд впереди. Она была в полосатых джинсах с дырками на коленях. Я – в черной юбке и безразмерном огромном свитере. Я не стала надевать сапоги, которые подарил мне Финн. В тот вечер я не могла их надеть.
Всю дорогу до ресторана никто не произнес ни слова. Папа включил музыку, свою любимую кассету «Лучшие песни Саймона и Гарфункеля». Мои родители слушают только альбомы, в названии которых присутствуют «лучшие песни» и «величайшие хиты». Как будто им претит сама мысль оскорбить свое чувство прекрасного хотя бы одной композицией не из лучших. Я смотрела в окно и вспоминала обо всех днях рождения, которые мы отмечали с Финном. Папино 35-летие – в сумрачном, но стильном марроканском местечке, которое нашел Финн. Десять лет Грете – в итальянском ресторане, где на всех пиццах кусочками перца было выложено «С днем рождения, Грета!». Мое 12-летие, когда Финн снял целый банкетный зал в старом отеле, и мы все играли в викторианские салонные игры, о которых он вычитал в книжке. Финн надел фрак и цилиндр и весь вечер говорил с английским акцентом. Это было так заразительно, что под конец и мы тоже заговорили «по-викториански». Все, даже Грета. Это было сплошное «не соблаговолите ли вы…», «окажите любезность» и «ах, оставьте», и у нас находились тысячи причин, чтобы обратиться друг к другу с «экий вы, право, прохвост и невежа».
Потом еще было мамино 40-летие, когда я сидела рядом с Финном в том совершенно волшебном ресторане с живой джазовой музыкой и свечами, стоявшими на столах в квадратных подсвечниках из толстого стекла. Мне тогда было десять, Грете – двенадцать. Я наблюдала, как отблеск свечи плясал и подрагивал на маминой щеке, когда она открывала подарок от Финна. Финн всегда заворачивал подарки в такую красивую бумагу, что ее было жалко выбрасывать. В тот раз это была темно-бордовая бархатная бумага – как будто и вправду настоящий бархат. Мама открывала подарок медленно и осторожно, чтобы случайно не надорвать бумагу. Она раскрыла сверток с одной стороны и бережно вытряхнула из него книгу. Только это была не книга, а альбом для зарисовок в твердом черном переплете.
Теперь этот альбом поселился на книжной полке в комнате Греты. Внутри, на первой странице, Финн написал: «Ты знаешь, что хочешь…» – и нарисовал крошечный мамин портрет с карандашом в руках. Действительно крошечный, высотой сантиметра два, не больше. Но все равно сразу видно, что там нарисована именно мама. Это просто фантастика. Финн и вправду был гениальным художником.
Я хорошо помню тот вечер. Папа вполголоса спорил с Гретой, потому что она не хотела класть салфетку на колени. Все это время Финн что-то делал со своей салфеткой, вертел ее у себя на коленях и так и этак, а потом поднял ее из-под стола, и стало видно, что он сложил из салфетки бабочку. Финн протянул ее Грете со словами: «Смотри, у меня тут есть кое-кто, кому очень нужно присесть на коленки к какой-нибудь девочке». Грета рассмеялась, схватила бабочку и положила себе на колени, а папа улыбнулся Финну. Помню, мне тоже хотелось бабочку из салфетки. Мне очень хотелось, чтобы Финн сложил что-нибудь и для меня. Я уже собиралась его попросить, но когда обернулась к нему, он глядел на мою маму. Глядел пристально, не отрываясь. А мама как раз раскрыла альбом и смотрела на тот рисунок внутри, на свое миниатюрное изображение. Потом медленно подняла голову и посмотрела на Финна. Не улыбнулась ему, не сказала «спасибо», как это принято говорить, когда тебе что-то дарят. Нет. Она просто смотрела на Финна, напряженно и грустно. А потом сжала губы и медленно покачала головой. Закрыла альбом, вернула его в упаковочную бумагу и убрала сверток под стол. Этот момент отпечатался у меня в памяти с фотографической точностью. Бывают такие воспоминания, которые остаются с тобой навсегда. Вплоть до мельчайших подробностей. Мгновения, застывшие во времени. Не знаю, почему так бывает. Но эта картина – Финн внимательно смотрит на маму, мама печально качает головой – до сих пор стоит у меня перед глазами.
Мы приехали в «Гасе», метрдотель проводила нас к столику, и мы забрались на высокие табуреты. Столы здесь тоже высокие, круглые. За каждым может сидеть десять-двенадцать человек. В центре столов располагаются большие жаровни с решеткой для готовки. Папа заказал два бокала японского пива, себе и маме. Потом спросил у нас с Гретой, не взять ли нам детского шампанского.
– Мне уже не три года, – пробурчала Грета. – Я возьму диетическую кока-колу.
– Я, наверное, тоже, – сказала я, хотя, если честно, очень люблю детское шампанское.
Собственно, на этом разговор и иссяк. За весь вечер мы перемолвились разве что парой слов. Посмотреть на нас со стороны – никто бы и не догадался, что мы праздновали день рождения. Папа спросил у Греты, как идет подготовка к спектаклю. Она ответила, что нормально. Мама заметила, что в меню появились новые блюда. Без Финна все было не так. Он умел превращать в праздник любое мгновение, а мы этим умением не владели. Я попыталась припомнить хотя бы одну из тех викторианских игр, но на ум ничего не пришло. Может быть, мы говорили еще о чем-то. Может, слова потерялись в скворчании лука и перца, но именно так я запомнила тот вечер. Вечер в полном молчании. Я наблюдала, как японский повар в высоком белом колпаке готовит нам ужин, и размышляла о том, что со мной будет теперь, когда рядом нет Финна. Я так и останусь дурочкой на всю жизнь? Кто расскажет мне правду, кто откроет мне яркие тайны, скрытые под поверхностью серых будней? Ведь есть же люди, которые знают. Люди, которые видят то, что скрыто от глаз. Но как мне самой стать таким человеком? Как мне стать Финном?
По дороге домой я снова думала о письме Тоби. О том, что до 6 марта остается всего три дня и что я буду последней дурой, если все же пойду на встречу. Мне снова пришло в голову, что, наверное, стоит рассказать обо всем родителям. О том, что Тоби приходил к нам домой. Что хочет со мной увидеться. И что просил никому ничего не рассказывать. Еще не поздно сказать им об этом.
Родители мне доверяли, я знаю. И доверяли не зря. Я всегда была правильной девочкой, которая знает, что хорошо, а что плохо. Я всегда поступала как надо. Но сейчас был особенный случай. Я не сомневалась: Тоби может мне многое рассказать. У него есть частичка Финна – такого Финна, которого я не видела никогда. И он живет в дядиной квартире. Может быть, у меня будет шанс снова попасть в эту квартиру. Узнай об этом мама, она бы сказала, что я пытаюсь «скрести по сусекам». Подбираю последние крошки. Сказала бы, что это от жадности. Ну и пусть. Если рассказы о ком-то, кто тебе дорог, – что-то вроде цемента, которым скрепляются кирпичики воспоминаний, то, может быть, Тоби поможет мне сохранить Финна, удержать его рядом с собой чуть подольше.
19
– Вечеринка. Завтра вечером. Уже не отменится. Сто процентов.
Грета ворвалась в ванную, когда я принимала душ, и шепотом сообщила мне эту новость сквозь кораллово-розовую пластиковую занавеску.
– Что?
Грета повторила, уже медленнее, но по-прежнему вполголоса, чтобы не услышали мама с папой. Мне все равно было не слышно, поэтому я закрыла кран и высунула голову из-за занавески.
– Что?
Грета театрально вздохнула и повторила в третий раз. На этот раз я услышала.
– Родители до семи на работе. А потом мы им скажем, что мне опять нужна помощь на репетиции. Да?
Я рассеянно кивнула, думая совершенно о другом. Вечеринка должна была состояться в тот же день, на который Тоби назначил мне встречу.
– Да? – повторила Грета.
– Да… Наверное, да.
– Вечеринка – в лесу за школой.
В моем лесу. Я тихонечко улыбнулась. В кои-то веки я буду знать больше, чем Грета. Я буду единственным человеком во всей компании, который хоть что-то знает про место, где мы соберемся.
Грета стояла, уперев руки в боки, и как будто ждала, что я что-то скажу.
– Ты знаешь, где это, да?
– Э… да, знаю. За школьным двором. От кафетерия есть тропинка.
Она подождала еще пару секунд и кивнула.
Я снова включила воду и встала под душ.
Грета прижалась лицом к занавеске с той стороны, и я ткнула пальцем ей в лоб. Она тоже ткнула меня пальцем, стараясь попасть в плечо. Мы с ней рассмеялись и принялись вслепую тыкать друг друга сквозь непрозрачную пластиковую занавеску.
– Прекрати, – выдавила Грета сквозь смех, но сама не прекратила.
Я слегка отодвинула занавеску, вытянула руку и пощекотала Грету под мышкой. Мы обе громко смеялись и никак не могли остановиться.
– Девочки, что там у вас? – крикнул папа снизу.
Я тут же убрала руку.
– Все в порядке, – отозвалась Грета.
Иногда у нас с Гретой такое бывает. Буквально на две-три минуты между нами опять возникает та близость, которая была раньше.
Грета сунула голову за занавеску, старательно глядя в сторону, чтобы не смотреть на меня голую.
– Так ты завтра идешь?
– Да. Ты иди со своими, а я подойду. Встретимся прямо в лесу.
20
Я составила список причин, почему должна ненавидеть Тоби. Записала его на листочке. Чтобы как следует подготовиться. Мне не хотелось явиться на встречу в слезах и соплях. Я хотела быть жесткой и сдержанной. И суметь высказать все, что я думаю.
О чем надо помнить:
1) Это из-за него умер Финн. Может, он даже знал, что так будет.
2) Это он отправил в газету портрет, НАШ портрет. Без разрешения. Хотя портрет наш, и вообще, это не его дело.
3) Только маньяки и извращенцы пишут письма 14-летним девочкам, назначают им встречи и просят ничего не говорить родителям.
Я вновь и вновь перечитывала этот список, но, как ни старалась, не чувствовала никакой ненависти. Ведь и Финн не испытывал ненависти к Тоби. Возможно, Финн даже любил его. И Тоби, возможно, был с Финном в самом конце. Он был последним, кто разговаривал с Финном. Последним, кто видел Финна живым. И я добавила еще один пункт:
4) Тоби был последним, кто разговаривал с Финном. Он был последним, кто держал Финна за руку. Последним, кто его обнимал. Это была не я. Это был Тоби.
И вот тут список «сработал». Потому что последней должна была быть я. А не какой-то долговязый англичанин с жиденьким голосом.
21
Если встать на мосту над железнодорожными путями и заглянуть через перила, оттуда отлично просматривается вся платформа на станции. Я опоздала. И жутко замерзла. Потому что сняла свою дурацкую голубую дутую куртку и запихала ее в рюкзак. Я специально пошла долгой дорогой, мимо автозаправки и веломагазина, и дальше – через заросший сорняками пустырь у лютеранской церкви. Приближаясь к мосту, я подумала, что, может быть, Тоби тоже опоздает. Может быть, он, как и я, решил не идти сразу на станцию, а спрятаться где-нибудь и посмотреть, приду я или нет.
Я осторожно глянула вниз, стараясь не подходить слишком близко к перилам. Я не была уверена, что сумею узнать Тоби. Но узнала его сразу. Он сидел на скамейке в дальнем конце платформы. Сидел, подтянув колени к груди, и теребил пальцами шнурки на ботинках. Он был очень худой, но не как человек, больной СПИДом. Не так, как Финн ближе к концу. А просто сам по себе худощавый, от природы.
Я достаточно долго стояла там, наверху, и наблюдала за ним. Время от времени он вскидывал голову и озирался по сторонам. Как будто чувствовал мое присутствие. Как будто знал, что я где-то рядом. Каждый раз, когда он поднимал голову, я отступала подальше от перил, чтобы он меня не заметил.
Он казался намного моложе Финна. Моложе папы и мамы. Я бы дала ему около тридцати, хотя я не очень умею определять возраст взрослых. У него была тонкая шея, большой, выпирающий кадык и пушистые, мягкие с виду волосы, похожие на перышки недавно вылупившегося птенца. Тоби встал со скамейки и прошелся по платформе. Он был в кроссовках и джинсах, в толстом сером свитере и вязаном красном шарфе, но без куртки. За спиной у него висел небольшой синий рюкзак. Самый обыкновенный человек. Ничего выдающегося. Интересно, и что в нем нашел дядя Финн? Тоби остановился у края платформы, посмотрел в ту сторону, откуда должна была прийти электричка. Потом взглянул на часы у себя на руке. Электричка уже приближалась, ее было слышно.
Тоби еще раз взглянул на часы, а потом поднял голову и посмотрел прямо туда, где я стояла. Я резко отпрянула, пока он меня не заметил. Именно в это мгновение я решила, что не буду спускаться на станцию. Не буду встречаться с Тоби. Я не смогу. Да и зачем мне с ним встречаться? Что я ему скажу? Нет. Не буду спускаться. Останусь здесь, на мосту, и подожду, пока Тоби не сядет на электричку и не уедет. Думаю, он должен понять намек.
Я осторожно приблизилась к перилам и глянула вниз. Тоби стоял запрокинув голову и смотрел прямо на меня. Одной рукой он прикрывал глаза, чтобы в них не светило солнце, а вторую слегка приподнял и робко помахал мне, растопырив пальцы. Я растерялась и помахала в ответ – прежде чем сообразила, что, наверное, делать этого не надо. Вернее, даже не помахала, а просто приподняла руку над верхним краем перил и растопырила пальцы.
Потом я улыбнулась. Еле заметно, но все-таки улыбнулась. Это вышло само собой – я не хотела. Даже не знаю, как я смогла улыбнуться этому человеку, который убил моего дядю Финна, но я улыбнулась, и эта улыбка решила все. Она как будто связала меня обязательством, и у меня просто не было выбора, кроме как выполнить свое невольное обещание и спуститься по лестнице на платформу.
Тоби смотрел на меня не отрываясь. Он застыл, как изваяние, по-прежнему прикрывая глаза от солнца одной рукой, и эта поза, и взгляд, исполненный встревоженного ожидания, и солнечный свет, омывавший его лицо, придавали ему сходство с героем средневековой картины, который увидел великое чудо и боится, что оно его ослепит. Он указал на платформу и кивнул, приглашая меня спуститься. И я почти против воли кивнула в ответ и направилась к лестнице. У меня было чувство, что все происходит в замедленной съемке. Как будто лестница растянулась до бесконечности, и я буду спускаться по ней целую вечность.
Но она все же закончилась. Внизу было тепло и светло, и электричка уже подходила к платформе. Тоби шагнул мне навстречу и улыбнулся. И это была настоящая улыбка. Не такая, какая обычно бывает у взрослых: нарочито радушная и поэтому неискренняя. Он улыбался мне по-настоящему. Словно так обрадовался нашей встрече, что с трудом верит своему счастью.
– Ну, пойдем, – сказал он, как будто мы знакомы сто лет.
В этот час народу на станции было мало. У большинства еще не закончился рабочий день, а те, у кого он закончился, ехали в основном в северном направлении, возвращаясь домой из города. Мы с Тоби вошли в электричку, идущую на юг. Я старалась не думать о том, что я делаю.
В вагоне, куда мы вошли, было почти пусто. Тоби указал на четыре сиденья, располагавшиеся друг напротив друга. Два с одной стороны, два – с другой.
– Сядем здесь?
Я кивнула и села у окна. Тоби уселся напротив, на сиденье рядом с проходом, по диагонали от меня. Его длинные ноги заняли почти все пространство между сиденьями, и мне пришлось втиснуться в самый угол, чтобы наши ноги случайно не соприкоснулись.
– Спасибо, что пришла, – сказал он. Я заметила, что он пытается заглянуть мне в глаза, но мне не хотелось встречаться с ним взглядом. Я отвернулась и стала смотреть в окно на огромную доску с рекламой водки «Абсолют». Внизу кто-то написал: «Def Leppard» руляТТ», – а кто-то другой зачеркнул «руляТТ» и написал выше «сосуТТ».
– Не за что, – сказала я, по-прежнему глядя в окно.
– Ты же меня не боишься, правда? Потому что я знаю, что можно было подумать, когда я тогда позвонил. И знаю, что обо мне думают твои родные. Но мне очень хотелось с тобой пообщаться, и я все пытался придумать, как это устроить.
Электричка дернулась и поехала, медленно набирая скорость.
– Нет, не боюсь.
– Хорошо. Это хорошо. – Он отвернулся и долго смотрел на пустое сиденье через проход. Потом вновь повернулся ко мне: – Родители знают, куда ты пошла? Ты им говорила?
Сначала я ничего не ответила. А потом повернулась и посмотрела ему прямо в глаза.
– Странный какой-то вопрос, вам не кажется?
Тоби как будто встревожился. Он легонько поморщился, словно понял, что совершил ошибку. А потом рассмеялся.
– Да, ты права. Очень странный вопрос. И его можно понять превратно. Хотя я не имел в виду ничего такого. – Он закатил глаза. У него были хорошие глаза. Большие и карие, очень темные. И очень добрые. Как у лошади. – Финн всегда говорил…
Когда он произнес имя Финна, я резко выпрямилась и вся напряглась. Тоби наверняка это заметил, потому что нахмурился и взглянул на меня чуть ли не виновато.
– Впрочем, ладно. Не важно, – сказал он, неопределенно махнув рукой. Наклонил голову, пытаясь опять заглянуть мне в глаза. Пытаясь понять, доверяю я ему или нет.
– Никто не знает. Я никому ничего не сказала. – У меня в кармане лежал швейцарский армейский нож с уже раскрытым штопором. На всякий случай.
Тоби открыл свой рюкзак и достал смятый бумажный пакет из «Данкин Донатс». Внутри лежал большой витой крендель. Тоби отломил половину и протянул ее мне. Липкая глазурь уже подтаяла, и крендель выглядел не особенно аппетитно. Да и вообще, мне не хотелось брать угощение у Тоби. Но я не успела поесть после уроков и была ужасно голодная.
– Спасибо.
Я сидела и отламывала от кренделя маленькие кусочки, постепенно разворачивая завитки. Потом взглянула на Тоби и увидела, что он делает то же самое. Мы улыбнулись друг другу – немного нервно. Не зная, что сказать. Я тут же пожалела о том, что улыбнулась. Мне не хотелось, чтобы Тоби подумал, будто мы с ним друзья или что-то в этом роде.
Электричка остановилась. Двери открылись, и в вагон ворвался поток студеного воздуха. Тоби, кажется, и не заметил, что мы стоим. Наверное, время близилось к четырем. Но часов у меня не было, а спрашивать я не хотела. Не хотела ничего говорить. Я уже сказала Тоби, что не боюсь его. И действительно не боялась. Двери закрылись, и электричка поехала дальше.
– Похоже на молекулу ДНК, правда? – Тоби поднес к окну наполовину раскрученный крендель. – Ну, знаешь… двойная спираль.
Что-то подобное мог бы сказать мне Финн. Я невольно улыбнулась. В Тоби было что-то такое… очень знакомое, почти родное. И я не могла удержаться и не продолжить:
– Пончиковая ДНК, пончиковые кровяные тельца, упаковка пончиковых глазных яблок…
Тоби рассмеялся, прикрыв рот рукой, чтобы не выплюнуть уже откушенный кусок кренделя. Его губы блестели от липкой сахарной глазури.
– Пончиковая бактерия, пончиковый вирус…
Это вырвалось случайно. Он не хотел произносить слово вирус. Я отвернулась. Тоби уставился себе под ноги. Его лицо стало очень серьезным.
– Знаешь, – сказал он, – мне его очень не хватает.
Я доела свою половинку кренделя и снова уставилась в окно. Мы как раз проезжали какой-то маленький городок, и дома подступали почти вплотную к путям – так близко, что можно было заглянуть в окна и увидеть, как люди на кухне готовят обед. Я вытерла липкие пальцы о матерчатую обивку сиденья.
– Мне тоже, – сказала я, помолчав.
– Он много рассказывал о тебе, – сказал Тоби. – Говорил о тебе постоянно. Он тебя очень любил, ты ведь сама знаешь?
Я быстро отвернулась, чтобы Тоби не заметил, как я улыбаюсь и заливаюсь краской. И только потом до меня дошло, что это значит. Я не была для него секретом. Тоби знал обо мне.
– Ну, да. – Я пожала плечами, как будто мне все равно.
– Это правда.
Мы опять замолчали. Я заметила, что Тоби нервно вертит в руках проездной билет: то свернет, сложит в несколько раз, то опять развернет.
– Так вы тоже… вы тоже художник? – спросила я.
– Нет, я совсем не художник. У меня руки растут не из того места. – Тоби рассмеялся. – Финн однажды попробовал научить меня лепке, но из меня тот еще скульптор… – Он посмотрел на меня. Я, наверное, хмурилась, потому что он сразу же посерьезнел. – Не знаю. Наверное, у меня просто нет никаких художественных способностей.
– У меня тоже.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что я плохо рисую. Наверное, хуже всех в классе. – Слова вырвались сами. Я не хотела рассказывать о себе.
– А Финн считал, что способности у тебя есть. Причем выдающиеся способности. – Тоби наклонился поближе ко мне. – Финн говорил, что настоящий художник – это не тот, кто умеет красиво изобразить вазу с фруктами, а тот, у кого в голове есть идеи. А у тебя, он сказал, столько хороших идей, что их хватит на целую жизнь.
– Он так сказал?
– Да.
Я опять покраснела и отвернулась к окну. На секунду мне показалось, что Финн едет с нами. Стоит, невидимый, за плечом Тоби и подсказывает, что говорить.
Я понимала, что не должна поддаваться на эти сладкие речи. Но ничего не могла с собой поделать. Мне было приятно, что Финн говорил обо мне столько хорошего. И мне хотелось послушать еще. Слушать и слушать – до бесконечности. Я покосилась на Тоби. Может, он все выдумывает. В конце концов, он же был другом Финна. Близким другом. А я – всего лишь племянница, глупенькая девчонка. Мне вдруг стало обидно. Это неправильно! Несправедливо! Этот Тоби – по сути, никто, совершенно чужой человек – говорил обо мне с Финном. Он знает столько всего обо мне, а я не знаю о нем ничего.
– Так вы теперь будете жить в квартире Финна? – спросила я.
Вопрос прозвучал слишком резко и даже со злобой. Я услышала в собственном голосе интонации Греты, но мне было плевать.
Тоби опустил голову.
– Я…
– Ладно, можете не отвечать. На самом деле мне это неинтересно.
Мы опять замолчали.
– Знаешь, ты можешь туда приходить, когда хочешь. В любое время, – наконец сказал Тоби. – И это не просто слова. Действительно, в любое время.
Я пожала плечами. А потом у меня защипало в глазах. Мне не хотелось расплакаться перед Тоби, и я изо всех сил пыталась сдержать слезы. Это было непросто, очень непросто. Я отвернулась, но Тоби положил руку мне на плечо. Я отодвинулась от него. Сделала глубокий вдох, медленно выдохнула. Еще раз вдохнула, как можно медленнее. И еще раз, и еще. В конце концов мне удалось успокоиться.
– Все будет хорошо, – тихо сказал Тоби, а потом сделал вот что: взял свой свитер, лежавший на соседнем сиденье, и положил себе на колени. Тем самым он дал мне понять, что я могу сесть рядом с ним, если хочу. Я посмотрела на пустое сиденье долгим многозначительным взглядом, так чтобы Тоби увидел: я поняла, что он хочет сказать, но пересаживаться не буду. Я не нуждаюсь в его сочувствии.
Он тоже все понял, но не вернул свитер обратно. Так и держал его на коленях, оставляя сиденье между нами свободным. Электричка сделала остановку на очередной станции – уже пятой или шестой – и поехала снова, увозя меня все дальше и дальше от дома. Все дальше и дальше от леса. Из предместий – в холодный каменный город.
Мы доехали до конечной и вышли на Центральном вокзале.
Тоби еще раз двадцать поблагодарил меня за то, что я согласилась с ним встретиться, и сказал, что надеется на продолжение знакомства. Он открыл свой рюкзак, достал бумажный пакет и протянул его мне.
– Это от Финна. – Он наклонился совсем близко ко мне, но сразу же отступил. – И это не все. Потом будет еще.
Я, не глядя, взяла пакет, как будто мне было ни капельки не интересно.
– Если есть что-то еще, можно было бы отдать все сразу.
Тоби смутился. Заложил руки за спину и уставился себе под ноги.
– Я просто подумал, что если отдать тебе все сразу, ты больше не захочешь со мной встречаться. А мне нужно… мне очень хочется встретиться с тобой еще.
Он достал из кармана целую пригоршню денег. Не аккуратную пачку банкнот, а именно пригоршню. Как будто взял эти деньги из какой-то большой кучи и запихал их в карман.
– Вот, возьми. Вдруг тебе что-то понадобится…
Я особенно не приглядывалась, но было понятно, что денег там много. Когда мы с Гретой были еще совсем маленькими, наша соседка миссис Кепфлер иной раз давала нам каждой по доллару. Просто так. Потому что мы славные девочки, как она говорила. Но мама не разрешала нам брать эти деньги. «Деньги можно брать только у родственников», – говорила она каждый раз и заставляла нас их возвращать.
– Я не могу это взять.
– Нет, нет, нет. Это тебе, – сказал Тоби. – И ты ничего у меня не берешь. Это от Финна. Там еще много осталось. Не переживай.
Он попытался отдать мне деньги – буквально совал их мне в руки, – но я не хотела их брать.
– То, что мне нужно, за деньги не купишь. – Не знаю, понял ли он, что я имела в виду. На самом деле больше всего мне хотелось, чтобы время повернулось вспять, и Финн никогда не встретил бы Тоби, не заразился бы СПИДом и был бы сейчас жив, и мы были бы вместе – только вдвоем, он и я, как мне всегда представлялось в мечтах о будущем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/kerol-brant/skazhi-volkam-chto-ya-doma/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Сноски
1
4H – американская молодежная организация, созданная для того, чтобы помогать молодым людям осваивать знания и навыки, которые пригодятся им в жизни. Сокращение 4H происходит от английских слов, обозначающих целостное развитие личности: head – голова, hands – руки, heart – сердце и health – здоровье. Голова нужна для ясного мышления, руки – для активной работы, сердце – для глубокого понимания, а здоровье – нужно всегда.
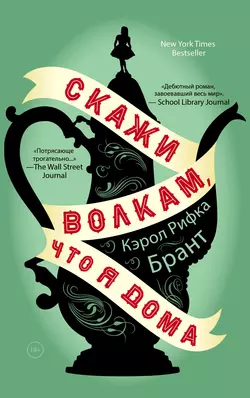
Кэрол Брант
Тип: электронная книга
Жанр: Современная зарубежная литература
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 17.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Джун Элбас четырнадцать лет, и она живет мечтами. Ее дом – средневековый замок, но никак не американский коттедж, ее друзья – герои старинных сказок и легенд, ее будущее – в прошлом. Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей, талантливым художником Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез отказался от громкой славы. Но совсем скоро он уйдет из ее жизни, оставив на память только портрет Джун и ее сестры. Какие загадки спрятаны на холсте, который разыскивают все музеи Нью-Йорка?